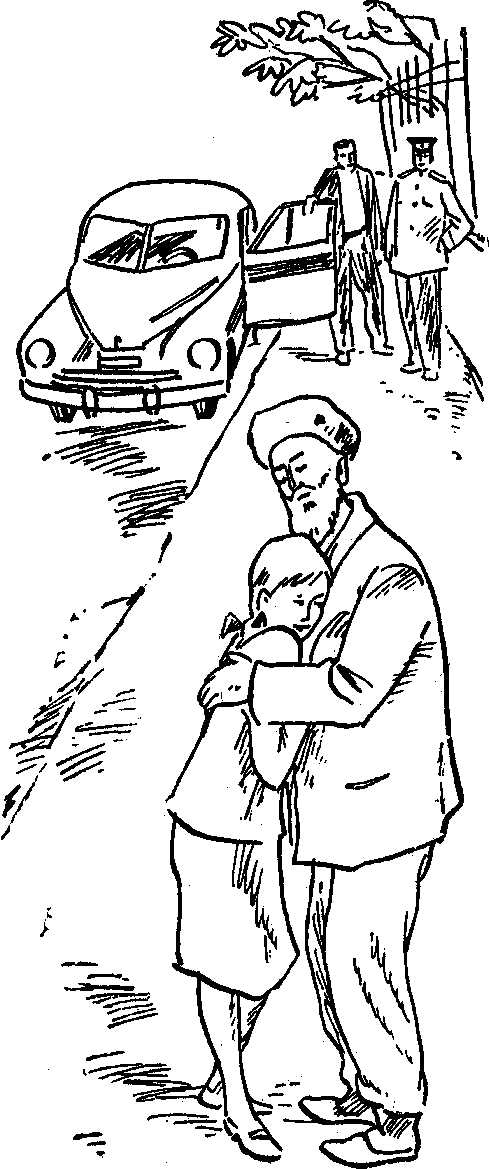Тулепберген Каипбергенов
ЛЕДЯНАЯ КАПЛЯ
Повести
ЛЕДЯНАЯ КАПЛЯ
Повесть
Перевела Д. Рашиди

1
С этим юношей — его звали Кама́лом — я познакомился в нукусской бане. Я обратил внимание на его мускулистые руки и плечи, которые он намыливал с каким-то детским старанием.
Восточная баня… О ней стоит сказать подробнее. Сюда приходят надолго, ведут беседы, пьют в предбаннике чай; а когда моешься, пар пробирает буквально до костей, и выходишь из бани будто другим человеком — помолодевшим, обновленным…
Помню, я сидел на скамье, разомлевший от жары, не в силах сразу подняться, как вдруг мне прямо на темя шлепнулась, откуда ни возьмись, тяжелая холодная капля. Неприятное ощущение! Я невольно втянул голову в плечи.
Камал глянул искоса, усмехнулся едва уловимо.
— И в жизни так вот случается, — сказал он неожиданно. — Вроде бы все хорошо, не ждешь никакой беды, и тут на голову тебе упадет не то чтобы холодная, а ледяная капля…
Я ждал, что юноша продолжит свою речь, но он умолк и глубоко задумался. Красивое лицо его помрачнело.
Выходили мы вместе. Я заметил, что парень острижен наголо, но это нисколько его не портило. Едва пробившиеся усики подчеркивали выразительную линию губ.
Заинтересованный его неожиданными словами, я задал несколько незначительных наводящих вопросов, но он, шагая рядом, отмалчивался.
Мне показалось, что он никуда не торопится, и я предложил зайти в ближайшее кафе вместе пообедать.
— Нет-нет, спасибо, — извинился он. — Я и так задержался. Ведь я призывник. Приказано явиться к двум…
Я взглянул на часы: без нескольких минут два. Неудобно получилось — заболтались, а парень опаздывает. К счастью, из-за угла показалось свободное такси… Мы ехали по новой улице, мимо строящихся многоэтажных зданий, сквозь аллею молодых деревьев.
Юноша произнес с легкой усмешкой:
— Три года незаметно пройдут, правда? Вернусь — пожалуй, и город свой не узнаю при таких-то темпах…
До военкомата доехали за несколько минут и сразу услышали звуки гармошки, дружные хлопки. Мы вышли из машины, с трудом пробились через толпу. Камал подвел меня к старушке лет восьмидесяти в накинутом на голову белоснежном платочке. Рядом с ней стояли женщина в красном полушалке и девушка.
— Моя бабушка… мама… невеста… — представил мне их Камал.
Начался митинг. Выступали военный комиссар, секретарь областного комитета комсомола. Затем комиссар объявил:
— От имени старшего поколения выступит Бибизода́ Наза́р-кызы́.
Стоявшая рядом с нами старушка в белом платочке, постукивая палкой, направилась к трибуне. Люди расступались перед ней. Я взглянул на Камала. Он сиял.
Старая женщина медленно поднялась на трибуну. Платок соскользнул с ее головы, прядка седых волос затрепетала на ветру.
— Дети мои, — произнесла она. — Я стояла вот здесь, на такой же трибуне, двадцать лет назад. Тогда я благословляла своего сына, сегодня благословляю вас, внуков моих…
Седовласая женщина говорила о фашизме, о былых кровопролитиях и женских слезах, о мирной жизни, о молодежи, которая уезжала сегодня оберегать эту жизнь.
Речь ее несколько раз прерывали аплодисментами.
Потом капитан бережно помог старой женщине спуститься по шатким деревянным ступеням трибуны. Прозвучала команда строиться.
Камал взял из рук невесты свою военную сумку, вынул прошитые нитками две тетради и, неожиданно протянув их мне, сказал:
— Ведь вы писатель, да? Возможно, вас заинтересует что-нибудь из моих записей…
Дома я раскрыл тетради Камала и начал читать.
2
«…Однажды мама, заметив мое тоскливое настроение, сказала мне: „Сынок, ты же грамотный. Заведи дневник, это облегчает душу, когда ее переполняет горе“.
Как нужен был мне человек, который не пожалел бы для меня времени и выслушал внимательно, а я в слезах, не стыдясь своей слабости, смог бы поведать о свалившейся на меня беде.
Но в семье нас было только двое: мама и я; мамина доля в общем нашем горе была не меньше моей…
Мама у меня почтальон, зовут ее Гульджа́н. Отца моего звали Джама́л. Говорят, он работал колхозным счетоводом.
Когда я пишу имя своей мамы, я готов каждую букву начертать заглавной; если же приходится писать имя отца, то даже первую, заглавную, хотелось бы заменить строчной. Жаль, что такое нельзя делать — пожалуй, законы грамматики тут излишне суровы…
Сейчас мы живем в Нукусе. Есть ли на земле город красивее? Должно быть, есть, но я этого не представляю. Ведь каждому свое, родное, кажется и самым прекрасным.
Раньше мы жили в колхозе имени Первого мая. Мама и там работала почтальоном. Первое, что я припоминаю, — себя у нее на спине, всегда рядом с черной сумкой. Устав, мама опускала меня на землю, но я ни за что не хотел идти, плакал. И бедная мама, жалея меня, снова сажала себе на спину.
Хорошо нам было вдвоем! Я особенно остро почувствовал это, когда начал учиться в школе. Беда обрушилась на меня неожиданно: мама ни о чем не рассказывала — видно, духу у нее не хватало. А теперь, едва в классе произносилась моя фамилия, я готов был сквозь землю провалиться.
…В кино я, как и все остальные мальчишки, страдал, если падал сраженным наш солдат, кричал „ура!“ и подбрасывал кепку вверх, если валились замертво враги. А сам исподтишка озирался: не сомневается ли кто-нибудь в моей искренности? Потом я долго ходил подавленный, а обложки своих тетрадок упорно надписывал с маленькой буквы. Учитель, не подозревая о моих муках, постоянно исправлял первую букву моей фамилии красным карандашом.
Мне казалось, что ребята в школе чуждаются меня. Однако в седьмом классе произошло неожиданное событие: меня выбрали старостой. Какой огромный груз свалился с моих плеч! Я ликовал, впервые мне дышалось легко.
Я решил сразу же придумать что-нибудь интересное и предложил соорудить каток, благо зима выдалась суровая. Ребятам идея понравилась, и мы ночью залили водой часть дороги возле наших домов.
Утром, когда я пришел в школу, в классе уже сидели директор и вожатый, оба чернее тучи. И ребята были в сборе. Едва я переступил порог, как директор спросил:
— Кто залил водой дорогу?
— Мы, — ответил я. — Все вместе.
— Но ты же первый придумал! — плаксиво сказал мальчишка, которого в классе прозвали Февралем. Вообще-то имя его было Умрба́й, но он вечно не успевал доделать уроки и на вопросы учителя никогда не мог ответить полностью. А февраль тоже неполный месяц.
Директор заметил сердитый взгляд, который я бросил на Февраля.
— Напрасно злишься! — прикрикнул он. — Разве Умрбай лжет?
— Нет, это правда, — сказал я.

Директор дрожащим от гнева голосом сообщил, что за такие дела вообще положено исключать из школы, но, раз уж я признал свою вину, меня прощают, только, видно, я еще не дорос до того, чтобы быть старостой класса. Позже я узнал, что на обледеневшей дороге занесло в сторону грузовую машину и она сбила арбу. А на педсовете кто-то из учителей, вспомнив моего отца, сказал, что яблочко от яблони недалеко падает…
Особенно меня задело то, что именно Февраль, а не кто-нибудь другой, первым обвинил меня. Уж кому-кому, а ему лучше бы помолчать. Ведь у нас с ним судьба почти одинаковая. Если мой отец — изменник родины, то его отец — председатель колхоза — попал в тюрьму за какие-то темные дела. И все-таки я не стал ссориться с ним, потому что, как у нас говорят, „веревку и нитка укрепляет“. То, что в школе был мальчик такой же несчастный, как и я, хоть немного утешало меня.
Но пришло время, и я оказался вовсе одиноким.
Февраль теперь мог гордо поднять голову, и, пожалуй, один лишь я знал по-настоящему, как тяжел был груз, давивший его. Я ему не завидовал, но меня самого грызла тоска.
Произошло это в самом начале сбора хлопка. На общем собрании председатель колхоза объявил всем, что отец Февраля оправдан, что он честный человек и ни в чем не виноват. Умрбаев-отец был одним из организаторов нашего колхоза, но из-за того, что он не слишком-то знал грамоту, его сумели запутать при каких-то там расчетах после сбора урожая. Он был невинно осужден и умер в тюрьме. Человек, запутавший его — председатель не стал называть имени, — занимался счетными делами.
В зале поднялся шум, некоторые требовали назвать имя подлеца, но председатель всех успокоил, сказав, что человек тот теперь у нас не работает и давно уже здесь не живет.
Собрание объявили законченным, многие окружили Февраля и его мать, обнимали их, гладили Февраля по голове. Помню, я тоже сказал ему что-то ободряющее.
Домой я добрался, когда совсем стемнело: останавливался дорогой то с одним мальчишкой, то с другим. Мама была уже дома. Она не смотрела на меня, и я даже подумал, не заболела ли она. Веки у нее припухли, и дышала она неровно, тяжело. За ужином я несколько раз спросил, что с ней, но она отвечала коротко: „Голова болит“.
Спать мы легли раньше обычного. Но среди ночи я вдруг проснулся, как от резкого толчка. Месяц, видимо, стоял в зените, тонкие волокна его лучей так и струились в окна. Смотрю, мама сидит на полу, уткнулась головой в колени и плачет, повторяя бессвязно: „Неужели и это суждено вынести?.. За что мне столько горя, несчастной?..“
Я вскочил, подбежал к ней, крепко обнял: „Что с тобой, мама?“ Она вздрогнула, поднялась с усилием и заставила меня лечь в постель, снова сославшись на головную боль.
Сама она тоже легла и, хотя в комнате было жарко, натянула одеяло на голову.
Утром, бледная, с красными веками, не глядя на меня, мама взяла свою черную сумку и ушла на работу. А я отправился в школу.
У школьного подъезда стоял Февраль. Я поздоровался с ним, но он вместо приветствия сказал с горьким упреком: „Моего папу, оказывается, твой отец запутал и засадил в тюрьму!“ Я невольно вскрикнул: „Неправда!“ Но тут же вспомнил мамины рыдания ночью, ее слова: „Неужели и это суждено вынести?“ Сердце мое сжалось, что-то словно оборвалось в груди. К счастью, Февраль больше не произнес ни слова.
Как описать мое состояние? Я ничего не слышал и не видел вокруг, не в силах был поднять голову, войти в класс, где сидели за партами ребята, мои товарищи. Мне казалось, я не смогу взглянуть в глаза ни им, ни учителям. Разве я человек? Сын подлеца, труса, предателя!
Я не смог досидеть до конца, убежал с уроков. Мама была дома. Она взглянула на меня, засуетилась, принесла обед. Тихим, дрожащим голосом произнесла:
— Ешь!
А я, нагнувшись над миской, глотал слезы.
Но не хватило сил сдерживаться — заплакал навзрыд. Мама обняла меня и тоже разрыдалась. Так мы — мать и сын — без слов оплакивали свою беду…
В тот день произошло со мной и другое несчастье. Мама дала мне денег на кино, а сама ушла. И я машинально побрел к ближайшему клубу. Я и сам не сознавал, куда иду, — просто меня тянуло подальше от дома, на улицу, к людям.
Возле клуба стояли ребята из нашего класса. При моем появлении все как по сигналу повернулись ко мне. Мне показалось, что на их лицах я читаю изумление, гнев. Значит, после всего, что произошло, я посмел так вот спокойно вместе со всеми идти в кино?..
Я круто повернулся и опрометью бросился обратно через дорогу…
Раздался пронзительный скрежет тормозов и слившийся воедино крик нескольких голосов.
Очнулся я в больнице.
* * *
Два месяца провалялся я на больничной койке. Меня сбила грузовая машина. Шофер, конечно, не был виноват. Он сумел затормозить в последнюю минуту, но я все равно крепко расшибся о камни мостовой.
Меня навещали ребята, учителя. Все были очень внимательны ко мне.
Немного оправившись, я какими-то иными глазами посмотрел на маму, когда она пришла в больницу. Будто впервые заметил, как увяло ее лицо, как углубились морщины у глаз и у губ. Она совсем поседела. Тонкими, худыми пальцами она гладила мои волосы и через силу улыбалась бледными губами.
— Сынок, ты у меня уже совсем молодцом, — сказала она ласково. Потом добавила: — А ведь мы перебрались в Нукус.
— Почему? — вскрикнул я невольно.
— Неужели ты не понимаешь? Про делишки твоего отца кто знал, кто — нет, а знавшие не поминали. Председатель колхоза щадил нас. А теперь как смотреть в глаза колхозникам? Он, видно, и тут много дурного натворил, в своей бухгалтерии. Грамотный был, вот и пользовался…
Мама была права. Мы долго молчали.
— Но разве он один был грамотный? — спросил я.
— Разная, оказывается, бывает грамотность, сынок. Одному она помогает творить добро людям, другого учит, как пользоваться людской простотой…
Снова мы долго молчали. Наконец я спросил:
— А где мы будем жить?
— Старушка одна приютила нас, да сбережет ее аллах. Зовут ее Бибизо́да. С внучкой живет. А я на работу поступила, опять на почту…
Вскоре я совсем окреп, выписался из больницы. Хозяйка наша оказалась очень славной старушкой. В первый же день она принялась утешать меня:
— Ты ни о чем не тревожься, учись, ремесло себе выбери. Не унывай. Это пусть у тех душа болит, на ком слезы да проклятия сирот.
И я слушал эту удивительную старушку, точно родную бабушку.
3
Утром мама забирает свою черную сумку и отправляется на работу. Днем, пока ее нет, обо мне заботится бабушка Бибизода. Внучка ее, Зияда́, заканчивает русскую школу. После уроков она тоже забегает ко мне. Вместе мы смотрим газеты и журналы, которые мама еще не успела разнести или вручить отсутствующим подписчикам.
Время шло, и я набирался сил. Уже неудобным казалось мне, этакому верзиле, слоняться без дела. Но в школе я отстал на целый год, пришлось бы сидеть за партой с малышами, хотя мама и уговаривала:
— Учись, сынок, учись, пока я в силах работать. Ничего, если отстал, захочешь — нагонишь.
Но какие там у нее силы! Я же вижу — едва ноги таскает, а сумка, если взглянуть, как мама несет ее, кажется, стала вдвое тяжелее.
Только где найти работу?
Однажды, когда мамы не было дома, я отправился побродить по городу. Я еще не привык к Нукусу, к его просторным улицам, обилию незнакомых людей, с которыми нельзя ни поздороваться, ни перемолвиться словом, потому что у каждого такой озабоченный вид, точно он опаздывает по важному делу. Я чувствовал себя неловко, будто мешал всем этим занятым людям.
Но вот рядом с большой афишей на стене я увидел объявление: „Требуются рабочие на строительство…“ Я записал адрес и, обрадованный, вернулся домой. Вечером хотел было поделиться новостью с мамой, но решил повременить: надо все узнать поточнее.
Назавтра я пошел по этому адресу, отыскал отдел кадров. За столом сидел дородный седоусый мужчина, опершись щекой на руку. Он равнодушно сказал мне:
— Работу? Нет, сынок, тебе еще учиться надо.
— Я должен зарабатывать.
— Вон оно что! Не годишься ты для нашей работы, слабоват.
— А может, найдется подходящее дело? — взмолился я. — Помогите, пожалуйста.
Я не представлял себе, что есть иные адреса, иные работы. В эти минуты мне казалось, что все мое будущее — в руках этого человека. И он будто понял меня, тряхнул головой, задумался.
— Ремесло какое-нибудь знаешь? — спросил он наконец.
— Нет.
— Чистить сапоги, ботинки сумеешь?
— Научусь, наверное.
— Тогда так. Я слышал, комбинату бытового обслуживания нужны расторопные ребята. Комбинат тут, под боком, я поговорю кое с кем, а ты завтра прямо с утра — ко мне. Понял?
Три дня подряд наведывался я к этому человеку, пока он наконец не помог мне устроиться чистильщиком. Но маме сказать об этом я постеснялся: очень уж унизительной показалась мне почему-то профессия чистильщика. Мама думала, что я продолжаю бездельничать, жалела меня, хотела, чтобы я поправился, а я каждое утро, едва она со своей сумкой уходила на работу, спешил к себе в будку.
Будка моя стояла на центральной улице. По соседству с ней расположилась другая — там пожилой мастер чинил обувь. Мастера звали Бегджа́ном. Это был полный, краснощекий, усатый человек, инвалид войны — без ноги. Он мне с первого дня понравился: разговорчивый, прибаутками так и сыплет. И еще мне понравилось, что он уважительно отозвался о моей работе: мол, хороший чистильщик тоже делает улицу наряднее. Кому приятно, чтобы ее топтали неряшливыми, грязными башмаками? А еще выяснилось, что в этом деле, как и в любом другом, есть свои секреты. Бегджан учил меня, как держать щетки, наносить на обувь крем ровным тонким слоем. Я прислушивался ко всем его советам, быстро разобрался в тонкостях своей работы и даже научился зазывать клиентов, выстукивая веселую дробь деревянными щетками.

Но однажды, ни с того ни с сего, Бегджан встретил меня настороженным, угрюмым взглядом:
— Послушай, Камал, сегодня в конторе я услышал твою фамилию. Ты, значит, Джамалов, что ли?
Я растерянно кивнул.
Рука его с молотком застыла в воздухе.
— Погоди, уж ты не сын ли того Джамала, который в колхозе „Первое мая“ не то счетоводом, не то бухгалтером был?
Я остолбенел. Он вдруг схватил свой костыль и с силой швырнул в меня.
— А ну катись отсюда, предательское отродье!
— Что вам плохого сделал мой отец? — простонал я, увернувшись от удара.
В эту минуту ко мне подошел клиент. Вот уж некстати! Но мне показалось, что именно любопытство к завязавшемуся скандалу привлекло сюда этого франтоватого молодого человека с усиками.
Бегджан бранился, не унимаясь. Теперь он обращался уже к клиенту:
— С его отцом мы за одним пулеметом оказались! Немцы наступают, жизнь на волоске висит, и в такой момент он бросил меня одного, а сам побежал к фрицам, представляешь, сынок? Два раза я выстрелил вслед — ушел, гад! Тогда я и ноги лишился. Да что там нога — чудом жив остался.
Я затылком чувствовал презрительный взгляд клиента. Неожиданно в голову пришла мысль, что и в самом деле мне не надо было иной работы: по крайней мере, всегда можешь смотреть на ноги людям, а не в глаза.
Когда я кончил чистить ботинки, руки у меня дрожали, щетки едва не падали из них. Клиент осмотрел свои ботинки и произнес, как бы поддерживая Бегджана:
— Даже по его работе можно определить, каков был его отец.
Я торопливо схватил щетку, набрал новый слой крема.
— Ты бы еще всю банку выложил. Государственное добро — не жалко, — ядовито вставил Бегджан.
Я ничего не ответил, заново стал чистить ботинки. Наконец клиент поднялся и, не переставая ворчать, ушел.
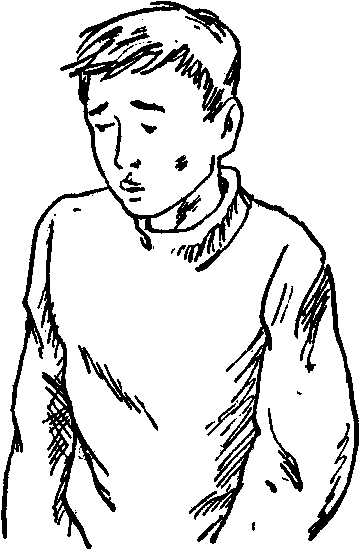
После этого я попросил директора перенести мою будку в другое место. Как нарочно, местом этим оказалась улица, где была мамина почта. В первый же день мама увидела меня Она улыбнулась и, не сказав ни слова, прошла мимо. Видно, уже давно обо всем знала.
Вечером мы поговорили откровенно. Я даже вспомнил, как Бегджан похвалил мою профессию, и мама согласно кивнула. Но тут я растерялся. Не мог же я рассказать ей про свою стычку с Бегджаном!
Мама разрешила мне работать, только потребовала, чтобы я непременно учился в вечерней школе. Вскоре я туда поступил. Днем работал, вечерами занимался…
Улица у меня многолюдная — месячный план было легко выполнять. На очередном собрании комбината меня похвалили, но я не слишком обрадовался: все опасался, как бы снова чего не случилось.
Бегджан, который с такой злобой прогнал меня, тоже всегда выполнял план, на всех собраниях его избирали в президиум. А я обычно старался приткнуться где-нибудь в уголке и не попадаться ему на глаза.
С возвращением в город людей, которые уезжали на уборку хлопка — в ней ведь обычно чуть ли не вся республика участвует, — работа закипела. В ноябре мне повезло: я выполнил план на сто двадцать процентов. Директор комбината сам зашел ко мне в будку и сказал:
— Старайся, Камал. Честный ты парень, хороший…
О как я был счастлив в тот день! Впервые меня так похвалили, а главное — значит, люди замечали, хотели замечать мои усилия.
…Работы много, передохнуть некогда. План свой я выполняю ежемесячно, однако мечтаю добиться ста пятидесяти процентов. Увидим.
…На собраниях стали часто называть мою фамилию. А когда кто-то неожиданно предложил занести ее на Доску почета, Бегджан даже приподнялся за столом президиума, поискал меня глазами, но, к счастью, ничего не сказал.
Работа у меня ладилась, и я постепенно забывал о той ужасной ссоре с Бегджаном. Работать всегда старался получше, в будку свою приходил намного раньше времени, а уходил с работы позже других.
В то же время я старался не отставать в вечерней школе. Учился экономить время. После работы бежал домой, наскоро глотал обед и все думал, как бы научиться поменьше спать.
С бабушкой Бибизода я иногда встречался во дворе, — она, как взрослому, протягивала мне руку, желала долгой жизни и счастливой судьбы.
4
Отец Зияды, Елмура́т Ахме́дов, погиб на войне. Мама ее, врач Нина Сергеевна, пошла на фронт вместе с мужем, но в 1943 году вернулась, потому что ждала ребенка. Когда Зияде было три года, Нина Сергеевна, выехавшая к больному на дальнее пастбище, погибла в автомобильной катастрофе.
Бабушка Бибизода очень любила и всегда хвалила свою внучку:
— Наша Зияда пошла в родителей. Оба трудолюбивые были, и она такая же.
И правда, Зияда, казалось, не знала отдыха: вернувшись из школы, носила воду, бежала в магазин, убирала комнаты, словом, взяла на себя все хлопоты по домашнему хозяйству и вела его отлично.
Возвращаясь поздно из школы, я обычно издали видел ее светившееся окошко — Зияда очень много читала.
Иногда Зияда забегала к нам, здоровалась со мной кивком головы, просила у мамы газету или журнал и, поговорив с ней, уходила.
Как-то жарким майским вечером, когда я готовил уроки, вошла Зияда и присела на стул.
— Камал, я не помешала? Мне нужна твоя помощь.
— Пожалуйста, — ответил я торопливо.
— Никак не могу понять задачку по алгебре, — сказала она.
Я взял у нее из рук тетрадку, принялся решать задачу на отдельном листке, но сразу же запутался. Задача оказалась в самом деле очень трудной, меня даже в жар бросило от смущения.
— Пойдем к нам, у нас прохладно, — сказала Зияда, глядя с сочувствием на мое красное лицо.
На столе в ее комнате были разбросаны в беспорядке листки бумаги. Я увидел уже знакомые цифры — это меня немного успокоило: видно, и Зияда порядком поломала голову…
Вместе мы задачу все-таки решили. Зияда обрадовалась, я — не меньше.
С того дня я стал заходить в ее комнату. И бабушка, и Зияда встречали меня приветливо. И хоть мы учились в разных школах — она в русской, а я в каракалпакской, — невольно получилось так, что мы стали помогать друг другу.
Но я никак не мог избавиться от мучительной застенчивости. На то было много причин, однако главная — постоянный стыд за отца. Я чувствовал себя виноватым перед Зиядой, порой не мог даже взглянуть ей в глаза. Я смотрел на портрет ее отца, будто по мужественному лицу этого погибшего человека можно было определить, как бы он отнесся к тому, что я вхож в его дом.
Однажды Зияда спросила:
— Почему ты так смотришь на папу, Камал?
Я растерялся, не сразу смог ответить.
— Мечтаю стать похожим на него, — выговорил я наконец, слегка оправившись от смущения.
Зияда вытащила из желтого сундука альбом, положила на стол.
— Если так, можешь познакомиться с ним поближе.
Я раскрыл альбом. Детство Ахмедова. Вот он сидит в длинном халатике среди таких же, как сам, ребятишек в бархатных тюбетейках. Почему мне так знакомо лицо одного из этих ребятишек? Где я мог видеть много лет спустя эти самые черты?
Стоя позади моего стула, Зияда поясняла:
— Это папа еще в Туртку́ле фотографировался, с ребятами из школы.
Я перевернул страницу. Вот ему повязывают пионерский галстук, а вот он на сцене клуба, возле стола президиума, — ему вручают комсомольский билет. И снова я увидел знакомые теперь уже черты… Бегджан! Он бывает в этом доме! Он — старый друг семьи!
Сердце мое сжалось. Я решил пореже заходить к Зияде. А вдруг он увидит меня в ее комнате или встретит нас вместе на улице, вдруг закричит ей: „Что ты нашла общего с этим предательским отродьем?“
Между тем у нас с мамой произошло одно счастливое событие. Руководство почтамта добилось разрешения выдать нам ссуду на постройку дома. Оставалось теперь только выбрать место. Услышав про это, бабушка Бибизода возмутилась:
— И у вас хватило бы совести отсюда уехать? Берите половину нашей земли, для чего нам так много! Стройте свой дом рядом.
И она сама отнесла заявление об этом в горсовет.
Теперь после занятий я месил глину и сам формовал кирпичи. Мама, помогая мне, говорила:
— Молодец, сынок! Но не забывай, что главное для тебя — хорошо закончить школу. Не переутомляйся, не забрасывай книги. Пусть немного больше потратим времени — дом все равно достроим.
Чтобы выехать побыстрее из дома Зияды, я соорудил во дворе навес из камыша. Я заметил, что Зияду удивила такая поспешность.
Август называют у нас месяцем студентов. Нукус заполняет приезжая молодежь. Все по конкурсу поступают в институты. Конкурс немалый — самое меньшее 3–4 претендента на одно место.
Готовлюсь к экзаменам и я. Встаю затемно, сажусь за книги. Потом чищу столько сапог, ботинок и туфель за день, что просто рябит в глазах. А вернувшись домой, несмотря ни на что, начинаю месить глину.
Как-то вечером я торопливо месил ногами глину и вдруг услышал:
— Привет, Камал!
Смотрю — за дувалом стоит мой односельчанин Февраль и улыбается. Я было испугался в первую секунду, но, увидев его знакомую широкую улыбку, как был, прямо в глине, кинулся обнимать его.
Оказывается, Февраль поступил в институт. Но в этом году все комнаты общежития заняли девушки, и сейчас Февраль с двумя товарищами бродили по улицам в поисках жилья. Я побежал к бабушке Бибизода и попросил разрешения приютить Февраля в комнате, где мы жили все это время. Старушка встретила студентов очень приветливо. Комната им понравилась, и в тот же день они приволокли к нам свои скромные чемоданчики.
Все трое оказались энергичными ребятами — сразу стали помогать мне.
Я рискнул — сам заложил фундамент будущего дома и начал возводить стены.
— Солнышко мое, да будут вечно сильны твои руки! — воскликнула мама, когда вернулась с работы.
Ведь вчетвером мы сделали столько, сколько я один и за неделю не сумел бы.
Правда, на следующее утро я увидел, что Февраль и Зияда разговаривают у ворот и смеются. Ой, как мне стало больно! Оказывается, мне вовсе не хотелось, чтобы Зияда дружелюбно разговаривала с другими.
5
С утра я каждый день в своей будке. Снова — щетки, сапоги, ботинки, туфельки.
Я внимательно смотрю на ноги прохожих и дробным перестуком щеток приглашаю тех, кто не слишком-то следит за своей обувью. Ведь если обувь запускать, кожа раньше трескается, стареет. Да и чистить такую обувь труднее. Клиент сердится, а не всегда понимает, что сам виноват.
Бывают среди клиентов и такие, которые, видно, поев плова, вытирают сальные пальцы о свои сапоги либо ичиги. Начнешь чистить, жирные места сразу проступают темными пятнами. А иной подходит, не счистив грязь и глину.
Не станешь же каждого укорять! Но на душе становится нехорошо, особенно если такой человек смотрит на тебя свысока да еще капризничает.
Как-то пара щегольских ботинок свернула с тротуара в мою сторону, и один из них, желтый, запачканный грязью, шлепнулся на ящик передо мной. Я поднял голову. Вижу, стоит пижон в шляпе, при галстуке — лицо его показалось мне знакомым — и указательный палец направлен на ботинок:
— Катастрофа!
Как я порадовался в эту минуту, что, занятый своими ботинками, он не обратил на меня никакого внимания! Ведь именно при этом человеке разыгралась та ужасная сцена с Бегджаном!
Я торопливо стал счищать грязь с его ботинок, а когда взялся за щетки, заметил легкую тень, которая легла на порог моей будки: передо мной стояла улыбающаяся Зияда!
Я так и застыл с поднятыми щетками в руках. Как она меня нашла? И зачем?
Зияда, будто не замечая моего смущения, протянула завернутые в газету туфли.
— Пожалуйста, если не трудно, поднови их. Я на обратном пути заберу.
Пижон, рассевшийся было на стуле, мигом вскочил с места и предложил Зияде сесть.
— Честь и слава женщинам! Не уступать им место — феодализм! Катастрофа! Прошу, прошу, я могу и обождать.
Несмотря на возражения, он принудил Зияду сесть, а сам пристроился на скамеечке. Волей-неволей я был вынужден взяться за туфли девушки. А язык пижона — про себя я окрестил этого типа Катастрофой — работал безостановочно:
— Навои изрек: „Творец создал стан ее по длине ее кос“. Гениальные слова! Катастрофа! Верьте мне, я окончил филологический факультет!..
Его словоизвержения, особенно намек на прекрасные косы Зияды, раздражали меня. Но и Катастрофа заметил, что Зияда не обращает на его слова никакого внимания, зато ко мне подчеркнуто доброжелательна. Тогда он попытался унизить меня.
— Жалкое занятие — чистка обуви! Эта работа не имеет будущего. При коммунизме те, у кого нет иной профессии, останутся на бобах — их заменят автоматы…
Я изо всех сил работал щетками. Хотелось одного: чтобы Зияда поскорее ушла. Но она спокойно взглянула на Катастрофу и ответила:
— Конечно, не у всех профессий есть будущее, так же как и не у всех людей. Наиболее полезны те, кто умеет работать головой и руками, а не только языком.
Я ликовал. „Умница, Зияда! Молодчина!“ — кричал я про себя, а щетки мои работали всё проворнее.
Однако Катастрофа, видно, был из числа тех типов, кому все как с гуся вода.
— Три ноль в вашу пользу! — вскричал он, будто они с Зиядой вели самый дружеский разговор, а потом сделал даже попытку проводить ее, не дочистив свой второй ботинок.
Я сердито напомнил ему об этом. Он посмотрел растерянно вслед Зияде, которая дружески простилась со мной, а в его сторону даже не взглянула, и со вздохом снова уселся на стул. Нет, положительно человек этот был наглецом невероятным: он и вздохнул-то нарочито громко, вроде бы с издевкой. Мол, ничего, на этот раз не выгорело, зато в другой все будет в порядке.
А я-то боялся, что Зияда станет презирать мою работу!
Вечером, когда студенты наши ушли гулять, а я сидел на скамейке, отдыхая после работы, подошла Зияда. Она стала передразнивать Катастрофу: как он вскочил со стула, расшаркался, как со сладкой улыбочкой раскрывал рот, говорил. Я не мог удержаться от смеха. Вот уж не догадывался, что она такая мастерица высмеивать глупое и нелепое.
— Воровать стыдно, лодырничать стыдно, — вдруг серьезно сказала Зияда. — Но ни одна профессия не может быть постыдной. А ведь ты еще и учишься…
Девушка говорила именно те слова, которые были мне важнее всего.
… Само собой получилось, что мы нередко стали вместе проводить свободное время. Сидели на скамеечке напротив возведенных до половины стен моего будущего дома, вели нескончаемые разговоры и не могли наговориться. Зияда делилась своими мечтами: „Поехать бы после школы в Ташкент или в Москву… Выучиться, а после полететь на Луну, к звездам…“ Я тоже мечтал: „Эх, если бы скинуть наконец эту страшную тяжесть, которая легла на мои плечи из-за преступлений отца. Чтобы, как и все остальные, ходить с высоко поднятой головой!“
Но, разумеется, я не мог об этом говорить Зияде и поэтому лишь молча слушал, а потом начинал рассказывать о своих товарищах, о том, как мы жили с мамой в колхозе.
Мы засиживались допоздна. Луна то выглядывала из-за облаков, то снова пряталась. Желали спокойной ночи, проходя мимо, студенты. Иногда бабушка звала Зияду в окно:
— Милая, поздно уже, иди-ка домой.
Тогда обычно раздавался голос мамы:
— Оставьте их, пусть поболтают.
Так шли дни.
Лето кончилось, наступила зима. Сидеть на скамейке стало холодно. Теперь либо я забегал к Зияде, либо она к нам. Старшие в это не вмешивались.
Между прочим, после стычки с Катастрофой я уже не старался прятать глаза от людей, а смело смотрел в лица прохожим и звонко постукивал щетками: „Заходите, у кого ботинки не в порядке, есть самый лучший крем!“
6
Незаметно подошла весна. Теплыми дождями омылись улицы, зеленая бахрома украсила кусты и деревья.
А в моей жизни одновременно произошли три важных события: я возвел с помощью Февраля и его товарищей крышу и мы перебрались из-под навеса, кое-как превращенного мной в зимнее помещение, в настоящий дом, правда не совсем еще отделанный. Все весенние экзамены в вечерней школе я сдал на „отлично“, а кроме того, меня вызвал к себе директор комбината и сообщил, что собирается серьезно подумать о моем будущем.
— Ты парень толковый, понятливый. Переведу-ка я тебя в ремонтную мастерскую, а там, глядишь, и мастером модельной обуви станешь, — сказал он.
Я слышал, что отдельные ремонтные будки объединили в мастерскую, и, конечно, обрадовался. Поблагодарил директора. Ведь мастерская — это что-то вроде завода, и я уже не буду чувствовать себя так одиноко.
— А на мастера быстро можно выучиться? — спросил я на всякий случай.
— Помогут. У тебя дело пойдет. Сначала будешь учеником. Мы тебе и учителя подобрали: Бегджана-агу.
Я похолодел.
— Бегджана-агу? Что вы, он меня учить не станет!.. Он меня недолюбливает…
— Почему? — удивился директор.
На этот вопрос я не решился ответить и молча потупился.
— Да почему ты это вообразил? — снова повторил директор. — Нет, ты ошибся! Ведь он сам попросил тебя в ученики. Так и сказал: „А мне давайте Камала“. В общем, путаешь ты что-то. Сдавай свою будку — и прямо к Бегджану.
На душе у меня стало немного полегче, но я все еще боялся верить.
— И в вечерней школе я учусь… Как быть с занятиями?
Директор нахмурился.
— Вечерами же учишься, да и то не каждый день. А знать настоящее ремесло никогда не помешает: захочешь — сапоги сошьешь, захочешь — дамские туфельки наимоднейшие…
Я еще раз поблагодарил директора и вышел. Мама была дома, но я не решился рассказать ей о своей новой работе: сомневался, возьмет ли меня Бегджан в ученики.
Утром, хоть и с опаской, а все же отправился в мастерскую. Вхожу в первую комнату… Большой стол покрыт зеленым сукном, а за столом — Катастрофа! Над его головой табличка: „Старший приемщик“. Я буквально глаза вытаращил. А Катастрофа тоже сразу меня узнал, подмигнул и спрашивает:
— Ну, как та, с косами? Видишься?
У меня даже сердце заныло. Но я решил с ним не связываться, раз уж он тут работает, и прошел дальше.
Огромная комната… Посередине — низкий длинный стол, и за ним по обе стороны сидят мастера. Я не сразу заметил Бегджана; он сам окликнул меня и указал на свободную табуретку рядом с собой.
Я осторожно присел, Бегджан, продолжая стучать молотком, взглянул на меня с улыбкой:
— Ну что, вместе начнем трудиться?
Я немножко приободрился:
— Начнем, если не прогоните.
— Про это забудь. Что сам знаю, тому и тебя научу. Только после не удерешь, когда выучишься?
— Нет.
— Не удерешь, верю. Ты не в отца пошел…
Последние слова Бегджан произнес едва слышно. Это означало, что он никому не выдал мою тайну. У меня от волнения дух перехватило, захотелось кинуться ему на шею.
В течение дня Бегджан показывал мне разные инструменты, объяснял их назначение. Весь следующий день я вбивал деревянные и металлические гвозди в старые сапоги и ботинки. Еще один день с помощью особого клея подгонял друг к другу кусочки кожи. Наконец начал накладывать несложные заплаты.
А вот чем занимался Катастрофа, я долго не мог понять. Сидел он неподалеку от другого приемщика, но к обуви и пальцем не прикасался, лишь командовал:
— А ну, покажи с той стороны, теперь с этой.
Иногда он подзывал меня, велел показать ему какой-нибудь ботинок и при этом еще обзывал олухом и размазней.
Однако хуже было другое. Тут, в мастерской, где мы виделись каждый день, он пригляделся ко мне получше и узнал меня. Все припомнил — не только ту встречу с Зиядой. Он не забыл ни одной подробности; я понимал это по отдельным, вскользь брошенным фразам. Порой он ехидно подмигивал: не забываешь ли, мол, кто ты таков? Вот возьму сейчас да и расскажу вслух, всем-всем…
Я узнал, что человек этот и в самом деле окончил институт, но не захотел работать там, куда его посылали. Некоторое время пытался стать актером, но безуспешно: видно, одной развязности оказалось мало. С той поры он и переходил с работы на работу. Короче говоря, попросту бездельничал, болтал языком с утра до вечера и через каждые два слова декламировал: „Ка-та-стро-фа!“
Однажды Зияда принесла билеты на футбол и предупредила меня накануне, что зайдет за мной на работу. Как я ждал ее! Казалось, мог бы жизнь отдать, только бы пройтись рядом с ней по центральной улице города и вместе, бок о бок, сидеть на стадионе.
Зияда пришла незадолго до конца работы. Катастрофа сразу же преградил ей дорогу и затараторил, как черный дрозд. Бедная Зияда приткнулась в уголке и растерянно оглядывалась, не зная, что делать. Во мне все кипело от злости. Наспех переодевшись, я загородил Зияду, и мы вместе вышли на улицу.
Едва мы переступили порог мастерской, Катастрофа был забыт. Ведь я и в самом деле шел рядом с Зиядой по центральной улице города!
В жизни я не брал в рот спиртного, но сейчас мог себе представить, что такое опьянение. Я ничего не понимал, ничего не видел, кроме смеющегося лица Зияды, ее искрящихся черных глаз и густой черной волны волос. А слышал я лишь ее смех да постукивание тонких каблучков об асфальт.
Несколько раз мы встретили знакомых, — я даже не сразу мог сообразить, кто со мной здоровается: то ли из школы, то ли с работы. Замечал только, что все они изумленно оглядывают нас обоих, будто трехглазого верблюда. „Оболтусы, — бранился я про себя. — Хоть бы ради приличия приняли безразличный вид“. Удавалось ли мне самому принять такой вид, не знаю. Не думаю.
На стадионе я будто вовсе и не был, даже не знаю, кто выиграл. Зато Зияда оказалась ярой болельщицей — она не могла спокойно усидеть на месте, а когда кто-то кому-то забил гол, в восторге обняла меня. Взволнованный, я невольно прижал к груди ее руку. И Зияда руку не отдернула.
После матча мы пошли домой. Встретили нашего Февраля. Он шел под руку с миловидной русской девушкой. И мне так захотелось взять под руку Зияду! Но нет, нельзя. Я осмелился сделать это лишь на минуту, назло Катастрофе. Люди и без того удивленно таращат глаза, видя нас рядом, парня и девушку, которые так свободно вместе идут по улице: ведь у нас до сих пор многие придерживаются старых обычаев. Так что они сказали бы, возьми я Зияду под руку! Когда-то люди с таким же изумлением смотрели на спички, самолет…
Назавтра, когда я пришел в мастерскую, Катастрофа начал просвещать меня:
— Ты еще молод, дитя, газет и журналов не читаешь, а потому не знаешь, что такое воспитанность. Во-первых, не положено таращить глаза на клиентов, которые заходят в мастерскую. Это вредит делу. Во-вторых, если старшие ведут с кем-нибудь беседу, не полагается вмешиваться…
Я отлично понял его намек — ведь ему казалось вчера, что он и в самом деле вел увлекательную беседу с Зиядой.
Я не выдержал — обычно я старался с ним не связываться — и возразил досадливо:
— Не такой уж я, как вам кажется, неуч. Я занимаюсь в вечерней школе. Что же касается газет и журналов, то я читаю их побольше вашего. Моя мама — почтальон.
Старший приемщик повысил голос:
— А ты не перечь, когда с тобой говорят! Тебя еще политически надо воспитывать да воспитывать!
Я понял, что он хочет перевести разговор на моего отца и этим выиграть спор. Ведь в мастерской, кроме Бегджана, только он знал мою историю.
Я круто повернулся и пошел к своему месту. Не удержался и рассказал обо всем Бегджану. Негодованию его не было границ.
— Эй, пижон! — позвал он. (В мастерской сразу стало тихо-тихо.) — Ты чего это прицепился к парню? Сам-то ты о себе подумал, кто ты таков? Цена тебе меньше, чем куску негодной горелой кожи. Одним словом… Катастрофа!
Но Катастрофа не смутился. В ответ на несколько слов Бегджана он умудрился выпалить дюжину. Наверно, они подрались бы, не вмешайся другие мастера.
И зачем я только связался с этим пижоном! Чтобы заткнуть рот Бегджану, он, конечно, при всей мастерской обозвал меня предательским выродком. Но и на этом не успокоился, пригрозил Бегджану:
— А с тобой мы в другом месте поговорим!
Не прошло и недели, как в контору и в нашу мастерскую потянулись комиссия за комиссией. Беседуют с людьми, проводят собрания, что-то проверяют. Меня тоже несколько раз вызывали. Может, это все и нужно было, но я чувствовал — не только у меня, и у других работа из рук валится. Дело совсем запуталось, когда несколько человек, недовольные директором, поддержали Катастрофу.
Попробуйте представить мое состояние. Я аккуратно ходил и в школу, и на работу, но жил, сжав сердце в кулаке.
Однажды директор вызвал меня. Я робко вошел, остановился у двери. Но директор подозвал меня поближе, поздоровался за руку, усадил на стул и неожиданно спросил:
— Ты комсомолец?
Я не совсем понял, к чему он задал этот вопрос, но сразу же начал бессвязно рассказывать об отце. Он прервал меня:
— Знаю, знаю. Но ты-то до каких пор будешь таскать эту тяжесть?
— Я бы рад сбросить, да напоминает… кое-кто.
— Верно, напоминают. Вот даже из твоей школы звонили, расспрашивали, как работаешь.
Директор вытащил из письменного стола папку и протянул мне:
— Отнеси в школу. Учись, никого и ничего не бойся, работай спокойно. Да и в комсомол пора тебе вступить.
Я шел в школу и думал: что же там такое, в папке? Наверно, что-то хорошее. С плохим так не провожают.
Директор школы открыл папку, пробежал глазами лежавшую в ней бумагу и засмеялся:
— Смотри, а тебя любят на работе! — И, убирая бумагу в ящик стола, добавил: — Тут, понимаешь, кляуза одна поступила… Да ну ее, говорить тошно.
Прошло около месяца. В городской газете появился фельетон „Кляузник“. Там было написано, что Катастрофа, выучившийся на народные деньги, вот уже несколько лет нигде толком не работает, а безделье свое маскирует болтовней, игрой в бдительность. В фельетоне говорилось о попытках Катастрофы очернить одного из лучших мастеров, заслуженного человека Бегджана, о том, сколько сил и времени отняли у людей всякого рода проверки.
И Катастрофа из мастерской исчез.
Таким образом, о моей беде узнали многие, но никто ни словом не напомнил мне об этом.
В тот день, когда вышла газета с фельетоном, Зияда у ворот дожидалась моего возвращения. Показала мне газету и засмеялась. А я не стал ей
рассказывать, с чего все началось. Как и раньше, не хотел ее огорчать, посвящая во все эти дрязги.
7
И все же о самом главном я обязан был рассказать Зияде. Много времени поджидал я подходящего момента. Мысли об этом не давали мне покоя ни дома, ни на работе. Слушаю, бывало, объяснение учителя, а сам про себя повторяю слова, какими поведаю Зияде про свое горе. Работаю, прибиваю каблучки к модным туфелькам, а сам вижу Зияду, представляю, какими станут ее глаза, когда она услышит правду обо мне… И молчать мучительно, а рассказать — еще страшнее.
Как-то вечером в выходной день я уже решился было рассказать обо всем. Я видел в окно, как Зияда, задумавшись, прошла домой. Решил: пусть отдохнет, поужинает, а когда выйдет немного посидеть на скамейке, я и скажу ей все до конца. А то сам позову…
С этим решением я вышел во двор и уселся на скамейке. Смотрел, как засветилось окошко Зияды — красноватый отблеск вспыхнул на тонком стволе молодого деревца. Долго я ждал, потом нерешительно подошел к окошку Зияды, поднял руку, чтобы постучать, но тут дверь дома открылась, и появился Умрбай. Я притворился, что просто прогуливаюсь возле дома, и, делая вид, будто не замечаю Умрбая, решил уйти на несколько минут. Лишь бы нам с ним разминуться… Но не тут-то было! На нашего Февраля вдруг нашло лирическое настроение. Вместо того чтобы пойти в кино или назначить свидание знакомой девушке, он решил в этот воскресный вечер предаться воспоминаниям. Окликнул меня, расселся на скамейке и начал вспоминать родное село.
Верьте не верьте, а я чувствовал себя так, точно мне заноза под ноготь попала. Ведь я и сам скучал по своему селу и не однажды вспоминал соседей и знакомых, но на этот раз не мог слова вымолвить. Окошко Зияды погасло, я вскочил со скамейки и бросился домой, так и не сказав ничего ошеломленному Февралю.
Прошла неделя. Однажды утром я умывался во дворе под краном. Вышла Зияда, поздоровалась и направилась к воротам. В руках у нее была корзинка — должно быть, она собралась на базар.
Я наскоро обтер лицо и руки и помчался на улицу. Зияду я догнал за углом.
— Мне тоже надо на базар, — сказал я, едва переводя дыхание.
Зияда улыбнулась. А я не сводил взгляда с ямочек на ее щеках.
— А где же твоя корзинка? — спросила она.
— Разве нам не хватит одной? — сказал я и сам удивился своей находчивости.
Зияда отдала мне корзинку. Конечно, на базаре покупки делала лишь она, а я просто нес следом за ней корзинку и рассказывал про свою мастерскую, все время стараясь навести разговор на фельетон. Наконец мне удалось это. Зияда стала хохотать и снова передразнивать Катастрофу. Так мы обошли весь базар, вернулись домой, а разговор, который я мечтал начать, все равно не состоялся. Зияда у порога дома забрала у меня корзинку и ушла.
Мама, уходя на работу, оставила мне завтрак, но я даже есть не смог. Ну что я за человек! Ничего у меня не получается, ничего толком объяснить не могу — одно остается: чинить обувь.
Эх, умел бы я складно говорить, свободно держаться!.. Взял бы я Зияду за руку, повел на берег реки, рассказал бы и про первую ссору с Бегджаном, и обо всем, что произошло в мастерской, и про то, как изболелась моя душа от поступков отца…
8
Мне было так невмоготу, что я решил написать Зияде письмо. В самом деле, что может быть лучше: сидишь себе, пишешь, никто на тебя не смотрит, ни о чем не допытывается ни словами, ни взглядом. А написал что не так — вычеркнул, и дело с концом.
Целую неделю думал я над своим письмом — и на занятиях, и на работе. Дома исписал гору бумаги, но даже начала придумать не сумел. В голове так много мыслей, слов, что просто не знаешь, с чего начать.
Раньше, когда я решил серьезно поговорить с Зиядой, у меня была только одна цель: раскрыть правду о моем отце, поделиться своим горем. Но постепенно пришло в голову, назрело столько мыслей, что я и сам не понимал: какие из них главные.
В самом деле, сказал же мне директор, что пора скинуть этот груз, написал хорошую характеристику в школу — обо мне, Камале, а вовсе не о моем отце, которого я, сказать по правде, и в лицо-то не помнил. И Бегджан, человек, пострадавший из-за моего отца, приласкал меня, согрел, обучил ремеслу, а в трудную минуту, как родной, бросился меня защищать. Да и все остальные и в мастерской, и в школе хорошо относятся ко мне.
Как-то я, вернувшись с занятий, в который уж раз уселся писать письмо Зияде, зачеркивал, вырывал листы из тетради, снова писал. Мама принесла чай, поставила передо мной миску с пшенной кашей.
— Какие трудные тебе задают уроки, сынок, — сказала она сочувственно. — Не мучай себя, отдохни немного.
Вошла бабушка Бибизода. Они уселись в сторонке и, как всегда, принялись оживленно разговаривать. Тихо, чтобы не мешать мне, бабушка рассказывала какую-то историю. Я невольно стал прислушиваться.
…Муж бабушки Бибизоды Ахмед в юности батрачил у бая. Он участвовал в восстании против волостных властей, а когда восстание подавили, бежал в Турткуль. Там, в канун революции, Ахмед стал одним из тех добровольных агитаторов, которые рассказывали своим землякам правду о жестоких притеснениях, каким их подвергают. Такие люди назывались мардикарами. Высланный в Двинск, Ахмед познакомился и подружился с русским революционером Сергеем. Потом они вместе приехали в Каракалпакию, помогали устанавливать здесь Советскую власть. Через несколько лет Сергей умер — ссылки, работа без сна подорвали здоровье.
Мама Зияды — Нина Сергеевна — была его дочерью.
В 1930 году Ахмед выехал в кишлак, где проводилась коллективизация. В местечке Угриса́й он попал в руки басмачей и был убит. А сын его, отец Зияды, погиб на фронте…
— Да, много пришлось пережить горя, — сказала Бибизода. — Внучка моя, Зияда, бедненькая, тоже мало знала материнской ласки да и отцовского слова не слышала. Дай аллах счастья, пусть хоть муж ей достанется добрый, хороший…
Они вдруг перешли на шепот. Я чуть не вскрикнул — неужто к Зияде кто-то сватается? Перед глазами возникло ее смеющееся лицо, черные глаза, ямочки на щеках…
Да, у них немало друзей, знакомых. А Бегджан-ага, точно родственник, заботится о Зияде и ее бабушке.
Чтобы не привлечь внимания, я осторожно выскользнул из комнаты, но во двор выскочил пулей. Дверь захлопнулась, прищемила удивленный мамин возглас: „Ты куда?“
Я выбежал во двор, присел было на скамеечку, но тут же сорвался с места, подошел к алевшему между ветвей окошку Зияды. Девушка читала за столом, опершись щекой на руку. Постучаться? Позвать?
Но и на этот раз я не решился потревожить ее покой.
9
Вчера я самостоятельно закончил шить пару сапог и натянул их на колодку. Когда я показал сапоги Бегджану, он долго придирчиво осматривал их, потом сказал:
— Молодец, сынок. Ты своего добьешься!
Смотреть на сапоги подходили и другие мастера, и все хвалили меня.
Домой я вернулся в хорошем настроении. Мама сразу заметила мою радость, начала расспрашивать. Я рассказал ей все.
Но усидеть дома мне было трудно. Вышел во двор — смотрю, на скамеечке сидит Зияда, улыбается и смотрит на меня. Я подошел к ней, поздоровался.

Она поднялась, будто специально ждала моего прихода, и мы медленно пошли в сторону поля. Так и шли молча, пока не оказались за городом. Долго бродили между застывшими, как отдыхающие двугорбые верблюды, песчаными холмами, продирались сквозь заросли кустарников.
Эти места похожи на дно пересохшего озера — можно даже ракушки найти. Тут растет саксаул; его искривленные сучья напоминают ноги диковинной птицы, но листья прекрасны, как павлинья корона. А листья осоки похожи на крылья бабочек: желтые, голубые, розовые, белые… Мы собирали цветы, гонялись за бабочками. Я воспользовался тем, что Зияда собирает цветы и не смотрит на меня, и заговорил… Она взглянула искоса, хотела что-то возразить, но промолчала. Я рассказывал торопливо и об отце, и о случае в мастерской. Вдруг Зияда, прижимая к груди охапку цветов, круто повернулась ко мне и сказала:
— Знаю. Все-все знаю, глупый.
У меня ноги подкосились, я сел на песок.
— Давно уже знаю, — повторила она.
Я смотрел на нее: смугло-розовое в лучах заходящего солнца лицо, тонкие брови над искрящимися черными глазами и ямочки на щеках, такие детски трогательные, такие милые. И вдруг произнес неожиданно для самого себя:
— Ты точно цветок, Зияда…
Зияда покраснела. Я взял ее за руку, и мы пошли к дому. Не помню, что я говорил по дороге. Помню, что я поцеловал Зияду. И, будто это сразу поставило между нами неожиданную преграду, Зияда притихла, задумалась. А возле дома быстро сказала:
— Ты обожди немного… войди после меня.
И убежала.
На следующий день на работе у меня все спорилось, как никогда. И вечером, в школе, я бойко и без запинок отвечал на вопросы учителя.
10
Мне казалось, что я стал сильнее и энергичнее всех на свете. Даже не представлял, что в школе или на работе я могу от кого-то отстать, не быть в числе первых. В мастерской меня стали величать „мастер Камал“, потому что сшитые мной сапоги вызывали одобрение лучших знатоков, а Бегджан-ага давно уже ставил меня в пример молодежи. В школе после экзаменов моя фотография появилась в стенгазете среди отличников учебы. Я решил осенью сдавать экзамены в институт.
Если б вы видели, как радовались мама и бабушка Бибизода! Мы с Зиядой теперь ни от кого не прятались, встречались открыто, вместе ходили куда угодно, а по улице, не боясь ничьих косых взглядов, шли, взявшись за руки.
Мы бывали вместе в кино, в театре, в парке. Все уже как будто даже привыкли к этому и перестали обращать на нас внимание.
Возвращаясь домой и желая Зияде спокойной ночи, я целовал ее.
Однажды, придя с работы, я увидел, что Зияда дожидается меня на скамейке. Лицо ее показалось мне печальным. Я бросился к ней:
— Что с тобой, Зияда?
Она подняла голову, положила руки мне на плечи и вдруг расплакалась. Я испугался. Она дрожащей рукой вытащила спрятанную на груди серую бумажку. Это была повестка из военкомата. Зияда опять повернулась ко мне, стиснула руками мои плечи, заглянула в глаза и сказала умоляюще:
— Камал, помни, я буду ждать тебя!
И, видимо боясь разрыдаться, убежала домой.
Я, немного растерянный, еще раз пробежал глазами повестку, сохранившую нежный запах духов Зияды. И вдруг неудержимая радость охватила меня. Захотелось высоко поднять повестку над головой, закричать всему миру: „Люди! Я нужен Родине, я — гражданин Советского Союза и должен охранять его! А моя Зияда будет ждать меня!..“
О повестке уже знали все. Мама поцеловала меня в лоб:
— Ну вот, сынок, и ты не хуже других.
Но глаза у нее были грустные. Пришла бабушка Бибизода, говорила что-то хорошее и доброе.
Мог ли я уснуть в ту ночь? Лишь на рассвете сомкнул глаза, и приснился мне усатый военный, огромного роста, ужасно строгий. От испуга, что не могу понять и выполнить его команды, я проснулся и до утра просидел в постели.
В мастерскую я пришел задолго до начала работы. Директор, который обычно приходил еще раньше, похлопал меня по плечу, поздравил. Оттуда я побежал в военкомат. У дверей уже стояли многие мои сверстники, разглядывали фотовитрину, над которой полыхало красное полотнище: „Передовики производства — наши призывники“.
Смотрю, чуть ли не в самой середке — моя фотография, а под ней подпись: „Камал Джамалов, передовик производства, отличник учебы“. Я невольно оглянулся, будто позади меня стоял Бегджан-ага и говорил: „Да, сам-то ты, конечно, парень неплохой, но вот фамилия у тебя никудышная“.
И тут мне пришла в голову неожиданная мысль: а что, если я больше никогда не буду называться Джамаловым, сыном Джамала? Что, если мне переменить фамилию?..
Комиссия начала работу в полдень.
Пройдя, наконец, всех врачей, я вышел из зала. Молодой лейтенант весело и громко назвал мою фамилию, поздравил меня и вручил мне новую повестку:
— Завтра подстригись, сходи в баню, а когда станешь совсем красавцем, валяй к нам, — сказал он, смеясь.
Я вернулся домой. Мама и бабушка Бибизода хлопотали, будто к свадьбе. Я вошел в пустую комнату Зияды и, вытянувшись в струнку перед портретом ее отца, отдал честь: „Рад служить Родине, товарищ капитан!“
Вечером Зияда привела нескольких подружек, познакомила меня с ними. Зашел с работы Бегджан-ага. Умрбай привел своих друзей. Зашли соседи. Двор заполнился людьми. Откуда ни возьмись, появились музыкальные инструменты — най, бубен, дутар…
Гости веселились до полуночи. Умрбай вытащил меня в круг, его девушка потянула Зияду. Начались танцы. Впервые в жизни я танцевал среди такой большой толпы людей, танцевал с девушкой, с Зиядой…
Все пожелали мне счастливого пути. Гости начали расходиться. Многие товарищи хотели проводить меня, но я попросил их не делать этого, поскольку завтра был обычный рабочий день.
Последним ко мне подошел Бегджан-ага. Он взял меня за руку, притянул к себе Зияду, отвел нас в сторону.
— Дети мои, все мы знаем, как вы относитесь друг к другу… Мой совет — идите завтра утром в загс. А свадьбу справим, когда Камал вернется со службы.
Зияла закрыла лицо руками. А я отдал честь и выпалил:
— Есть, товарищ мастер!
Мама и бабушка Бибизода издали наблюдали за этим разговором. Бегджан-ага, похоже, уже обо всем с ними договорился.
Утром, надев свое самое нарядное платье — я тоже был в лучшем своем костюме, — Зияда отправилась со мной в загс.
В нашем городе это удивительное и, должно быть, самое уютное место. Нам показалось, что именно для нас приготовлены цветы на столах, развешаны на стенах картины.
Старушки наши и Бегджан-ага уселись в мягкие кресла. Мы подошли к столу. Пожилая женщина, сдержанная, спокойная, поговорив с молодой девушкой, достала из ящика большую тетрадь, задала нам несколько вопросов, записала что-то и повернулась к Зияде.
— Вы решили оставить себе девичью фамилию или возьмете фамилию мужа?
Не дав Зияде ответить, я торопливо выпалил:
— Это я принимаю фамилию жены! Буду Ахмедовым.
Мама и бабушка Бибизода расцеловали нас, Бегджан-ага крепко, по-мужски, пожал мне руку. Мама ласково обняла Зияду.
Между прочим, я даже не удивился, что нас так быстро поженили, без предварительного заявления. По тому, как прощался с сотрудницами загса Бегджан-ага, я догадался, что он был тут задолго до меня и немало времени потратил на уговоры и объяснения…»
* * *
Так обрывались записи, оставленные Камалом. Думаю, вы почувствовали ту ледяную каплю, о которой он упомянул при первом знакомстве со мной. А я лишь немного сократил написанное им да попытался кое-где яснее выразить то, что не слишком четко сумел передать Камал.
НОЧИ БЕЗ СНА
Повесть
Перевела О. Романченко

Я убежден, что вы ничего не знаете о Гульза́р Каракалпа́ковой. Нет, она не Героиня Труда и вообще ничем не знаменита. Не назовешь ее и красавицей: румяная, светлокожая, с русыми волосами — одно из тех лиц, какие кажутся нам милыми, но редко запоминаются. Только вот взгляд у Гульзар необычный: один глаз смотрит на вас то ласково, то с любопытством, то сурово, зато другой всегда широко раскрыт, будто в удивлении…
Что еще можно сказать о Гульзар? Ей двадцать с небольшим. Медсестра. Русская…
Впрочем, лучше послушайте ее рассказ.
* * *
«…Погодите, вы хоть немного представляете себе, что такое детский дом? И не просто детский дом, а один из тех, что наскоро возникали для сотен осиротевших ребят в годы войны и сразу после войны? Возможно, вам доводилось видеть человека, который торопливо чавкает, стараясь побыстрее проглотить свой кусок, и услышать, как про такого говорят: „Давится, будто детдомовский…“ Если доводилось, то знайте: это не просто горькая или злая шутка, а слова, основанные на истине.
Разве можно было тогда в детском доме поесть спокойно, не торопясь! Сильные ребята жадно съедали свою не слишком-то сытную порцию и бросались отнимать у тех, кто послабее. Тут уж главное — не будь разиней. Что проглотил, то и твое.
Ох, как нам, ребятам, хотелось вновь попасть домой, в семью! Порой такое случалось. Приходили незнакомые папа или мама, выбирали кого-нибудь из нас и со словами: „Вот мой ребенок“ — уводили.
Лишь много позже я узнала, что это чаще всего были просто бездетные люди, которые усыновляли и воспитывали чужих детей.
А как мы тогда завидовали таким ребятам! Бывало, повстречаешь случайно на улице девочку или мальчика, которые вместе со всеми нами совсем недавно шагали парами, взявшись за руки, а теперь, глядишь, его за одну руку держит папа либо мама, в другой — мороженое, а то еще какая-нибудь удивительная игрушка. Да и у родителей разные кульки, свертки… Случалось, некоторые из этих ребят, бессовестно позабыв, что недавно были такими же, как мы все, начнут пальцем показывать:
— Погляди, мам, вон тот всегда у других хлеб выпрашивает…
И этого мало: будто стремясь разжечь у тебя зависть, начнут хвастать противным голосом: „А мне шоколадку купили“, „Смотри, какая у меня кукла…“
Однажды мать привела к нам в гости девочку Веру. Всего месяц назад Вера сидела рядом со мной за столом. По ночам мы иногда потихоньку забирались одна к другой в постель и спали вместе, накрывшись сразу двумя одеялами.
Теперь Вера была совсем другая: в пышном белом платье с оборками, с шелковым бантом в распущенных волосах, она казалась похожей на бабочку. В руках у Веры был большой резиновый заяц. Ребята окружили ее, разглядывая зайца.
Мать оставила Веру с нами:
— Поиграй немного, дочурка, повеселись.
А сама ушла в комнату воспитателей.
Мы стали по очереди надувать резинового зайца. Он будто с удивлением прислушивался к происходящему: поднимал одно ухо, потом другое, выпрямлялся, толстел прямо на глазах. Это было очень забавно.
Вдруг один из мальчиков схватил зайца и бросился бежать.
Вера хотела догнать его, но споткнулась и упала.
— Мама! — закричала она со слезами.
И сразу возле нее оказалась ее мама, будто из-под земли выросла. Она догнала убегавшего мальчика, отобрала зайца и принесла Вере. Правда, уши у зайца опустились, и он весь обвис, будто от огорчения, но мама отряхнула Верино запылившееся платьице, сняла у себя с головы белую косынку и отерла Верины слезы. Молча мы смотрели, как мама поцеловала Веру в лоб, подняла на руки и понесла. Вера оглянулась, сверкнула в улыбке белыми зубами, красивая и пышная, будто цветок на груди у матери. Она удалялась от нас и долго еще махала своим зайцем. И мама ее казалась нам в эти минуты похожей на всесильную волшебницу…
— Счастливая Верка, — вздохнула одна из девочек у меня за спиной печально и завистливо.
Я и прежде слышала слова „счастье“, „счастливый“, „счастливая“, но, кажется, лишь в этот раз поняла, что они означают.
„А у меня есть мама? Или папа?“ — такие вопросы я и раньше задавала воспитательницам. „Есть, есть, — отвечали мне. — Они за тобой непременно придут“.
С каким нетерпением я ждала с этого дня своих папу и маму. Ведь я тоже мечтала быть счастливой, как Вера. Я вглядывалась в лица всех приходивших и с замиранием сердца ожидала, что кто-нибудь наконец отыщет, узнает меня, обнимет за плечи и уведет с собой.
Я заранее допытывалась, в какой день придут в детдом родители, готовилась к этому дню, пришивала оторванные пуговицы, тщательно зашнуровывала ботинки и по нескольку раз на день умывалась, приглаживала волосы.
— Молодец, Гуля, — ласково говорила мне воспитательница Елена Семеновна, проходя мимо.
Но никто из приходивших пап и мам не узнавал меня, не обнимал за плечи. Они прогуливались среди детей, разглядывали нас, потом брали за руку мальчика или девочку. Тогда все мы произносили хором: „Поздравляем, Вова!“, „Поздравляем, Лена!..“
Правда, однажды пришла толстая-претолстая тетенька, похожая на туго набитый мешок на коротких круглых ножках. Она медленно прошла мимо всех ребят, остановилась возле меня, подняла мою голову за подбородок и внимательно посмотрела мне в лицо. Я покосилась на воспитательницу, она с улыбкой кивнула.

— Поздравляем, Гу… — начали было ребята, но женщина быстро отняла руку и, не сказав ни слова, откатилась прочь.
— Гуля, ей твои глаза не понравились, — шепнула стоявшая возле меня девочка.
А воспитательница торопливо шагнула к женщине и, сказав: „Зайдемте ко мне на минутку“, — увлекла ее за собой.
Мы подождали-подождали и начали расходиться. Проходя мимо комнаты воспитателей, я услышала громкий, с визгливыми нотами голос толстухи: „Навязать вы мне ее хотите, что ли? О чем разговор? У девчонки же глаз попорчен! Посмотрела? А я всегда, если дело делаю, смотрю получше, чтобы не ошибиться… Моя профессия — в лицо смотреть. Я косметичка. Девочка должна быть как бутон, а эта увяла, не успев расцвесть. Кто такую замуж возьмет? Так что же мне, по-вашему, без внуков оставаться? Обо мне тоже кто-то должен позаботиться, когда я состарюсь!“
А воспитательница, Елена Семеновна, лишь повторяла тихо: „Это гадко, гадко… Все, что вы говорите, гадко… Так обидеть ребенка!“
Я тоже невольно вздрогнула от прихлынувшей обиды на эту недобрую, бестактную женщину.
Хотя я и не все поняла тогда в их разговоре, но толстуха в самом деле горько обидела меня. Впервые в жизни я в ту ночь почти не сомкнула глаз, все ворочалась в жесткой своей постели и думала: „Так моя это мама или чужая? И почему ей не понравились мои глаза? Ведь я все вижу, как и остальные ребята, вместе со всеми играю, бегаю…“
На следующее утро я чуть свет снова пошла к воспитательнице и попросила ответить, есть ли у меня папа и мама. И кто такая эта тетенька?
Наверно, было в этот раз что-то необычное, слишком решительное в моем тоне. И Елена Семеновна сказала:
— Про ту женщину забудь. Она зашла случайно, тут ей делать нечего. Но насчет тебя мы точно выяснили, Гуля. Ты наша, только наша. Папы и мамы у тебя нет, зато мы все тебя очень любим…
Но я слышала в словах ее только одно: „Точно выяснили… Папы и мамы у тебя нет… мамы у тебя нет…“
Елена Семеновна никогда нас не обманывала, и я ей поверила. У меня больше не оставалось надежды, что кто-то возьмет меня за руку и мы вместе пойдем домой, к моим единственным папе и маме, к моим куклам…
Теперь, когда в детдоме поднимался шум, а девочки и ребята бежали чистить ботинки или приглаживать волосы к приходу гостей, я пряталась в самой дальней спальне, чтобы меня не могли найти.
Позже, когда я уже училась в восьмом классе, у меня вновь вспыхнула искорка надежды. К девочке, которую все считали круглой сиротой, потому что родители ее якобы погибли в годы войны, вдруг приехал папа. Отыскал ее и увез. Эта история так подействовала на меня, что я опять стала строить разные догадки, и любая из них казалась мне вполне правдоподобной. В самом деле, а вдруг и меня кто-то разыскивает, думает обо мне, тревожится, не спит ночами?
Я пошла посоветоваться с воспитательницей.
— Хорошо, — сказала Елена Семеновна. — Ты уже большая и смышленая девочка. Посмотри сама свое личное дело. Конечно, вполне возможно, что найдутся твои родственники, а пока что попробуй написать розыскное письмо.
Я обрадовалась, но оказалось, что сначала еще нужно отыскать в архиве мое личное дело.
Вот что я узнала из него.
В 1942 году, в июне, один солдат принес меня в санчасть неподалеку от небольшого селения на Северном Кавказе. Было написано, что солдат этот — высокого роста, широкоплечий, с черными усами.
По-русски он говорил плохо. Санитар, который принял меня, чтобы оказать первую помощь, коротко записал разговор с солдатом уже после его ухода.
„Как зовут девочку?“ — спросил санитар.
„Мой дочь есть Гульзар, пиши Гульзар, имя Гульзар“, — ответил солдат.
„А вы сами кто будете?“ — спросил санитар.
„Кто я? Каракалпак. Я — солдат-каракалпак“, — ответил тот.
Удивительное дело! Записано все было наспех, а перед моими глазами ясно возникала картина того, что произошло тогда в полевой санчасти. Подпись санитара была неразборчива, но мне стало казаться, что это была девушка — очень уж подробно и старательно этот усталый человек позже дополнял свою запись, видимо припоминая все рассказанное солдатом.
Сначала я внимательно прочитала графы анкеты. В графе, где спрашивается про имя, было записано: „Гульзар“. В графе о фамилии: „Каракалпакова“. Отчества принимавший вообще не поставил — должно быть, не успел спросить у солдата, как его зовут. В графе о национальности было написано: „Русская“.
Вот и все. А потом шло „примечание“, подробное, похожее на запись из дневника:
„Судя по отдельным малопонятным фразам и жестам, солдат подобрал девочку среди убитых и раненых возле опрокинувшейся машины, которая налетела на мину. Очевидно, в машине ехали эвакуированные. По словам солдата, там были исключительно женщины с детьми, старухи и старики. Удивительно, как солдат сумел выбраться с девочкой: каждого из уцелевших пассажиров этой машины, кто пытался поднять голову тут же пристреливал фашистский снайпер. Солдат услышал плач ребенка и вопреки окрику командира: „Ложись!“ — побежал к машине. Он добрался до раненых, вытащил ребенка из-под трупа матери и пополз обратно. Девочке суждено было жить: снайпер промахнулся. Но, по словам солдата, когда он отполз от машины метров на пятнадцать, в небе появились вражеские самолеты. Началась бомбежка. Солдата и девочку засыпало землей. Они бы погибли, если бы их не отрыли другие солдаты, бросившиеся на помощь. Опрокинутая машина, раненые, что остались возле нее, были буквально разорваны в клочья. Солдат заметил у девочки, которая прижималась к его груди, кровь на лице. У нее был поранен глаз. Солдат отнес девочку в блиндаж, промыл ей глаз, сделал перевязку, разорвав свою рубашку. Два дня он делил с девочкой паек, разжевывал хлеб, вливал ей в рот чай и щи. На третий день, перед атакой, командир приказал отнести ребенка в санчасть. Отдавая девочку, солдат говорил, что заберет ее к себе домой, когда будет возвращаться. Он объяснял, что ни за что бы ее не оставил, если бы не приказ…
…Солдат свою дочь сдает временно, а когда будет возвращаться, непременно заберет ее с собой“, — так заканчивалось это примечание.
И снова я пришла к нашей воспитательнице, рассказала ей о прочитанном. По лицу ее я видела, что она все это знает не хуже меня, но мне хотелось повторить заново каждую подробность, точно за этим могло появиться нечто новое, очень важное…
Когда я кончила говорить, Елена Семеновна сказала тихо:
— Девочка моя, ты, наверно, сама понимаешь, что мама твоя в тот день погибла. Никто из окружающих не мог ничего сказать о твоей семье, о твоем имени — все эти люди тоже погибли. И откуда шла машина?.. Будь жив твой отец, он бы тебя, конечно, разыскивал, но пока что никаких сведений о нем нет…
— А тот солдат? — спросила я с надеждой.
— Ну что ж, попытайся поискать его, скажи ему спасибо…
„Нет, этого было бы слишком мало“, — подумала я невольно.
После нашего разговора я написала письмо в Областное управление милиции с просьбой отыскать солдата по фамилии Каракалпаков.
Ответ пришел через три месяца. „Уважаемая Гульзар!..“ — прочитала я. Буквы у меня перед глазами расплылись, и я долго не могла ничего разобрать. Ведь впервые в жизни ко мне обратились со словом „уважаемая“.
Дальше в письме говорилось, что фамилия Каракалпаков встречается крайне редко. В милиции навели справки, обращались в архивы и смогли сообщить мне лишь то, что в прошлом веке был художник Владимир Каракалпаков. Пытались даже искать его потомков, предполагая, не из этой ли я семьи, но никого не нашли. Да ну, где уж мне быть в родстве с такой знаменитостью!
Двух человек с фамилией Каракалпаков отыскали в Средней Азии: один оказался молодым казахом, он еще и в армии не служил, не то чтоб воевать на фронте. А второй… Собственно говоря, нашелся только его след. Он погиб в первый год войны. Однако фамилия его писалась почему-то по-разному: в одних документах он был Каракалпаков, в других — Галпаков.
Больше никаких результатов не добились. В конце письма, напечатанного на машинке, я нашла приписку: „Пожалуйста, перешли нам копию своего личного дела“.
Я послала. Снова пришел ответ: „Мы думаем, что фамилия того солдата была не Каракалпаков. Судя по всему, он просто назвал свою национальность: каракалпак. Когда записывали фамилию, он мог не понять, о чем его спрашивают, а сотрудники санчасти тоже были усталыми и записали национальность вместо фамилии. Иными словами, Гульзар, ваша фамилия — это название целой национальности. Мы проверяли и ваше имя. Это самое старинное имя у каракалпакских девушек. Есть даже народная мелодия, которая так и называется „Гульзар“. А в поэме классика каракалпакской литературы Бердаха встречается героиня Гульзар. Вот все, что мы сумели выяснить. Копию вашего заявления мы направили в Каракалпакскую АССР; они сами должны прислать вам ответ“.
Елена Семеновна вместе со мной внимательно прочитала это письмо и сказала:
— Ты поняла, Гульзар, что получилось с твоей фамилией? Подумай, значит, солдат этот имя своего народа чтил выше, чем собственное…
— Какой хороший человек! — вырвалось у меня.
— Ты и раньше могла не сомневаться в этом. Но на добро надо отвечать добром, Гульзар. Пожалуй, тут даже не ошибка. Ты стала дочерью целого народа. Человек же этот достоин того, чтобы ты называла его отцом.
— Отец, — тихо произнесла я. — Папа…
И радостно стало мне при звуке этого слова, и в то же время неясное щемящее чувство сжало сердце. А воспитательница продолжала:
— Если он и хотел, где бы он сумел потом найти и тебя, и эту случайно подвернувшуюся санчасть? Возможно, он тоже по сей день вспоминает потерянную дочку свою Гульзар.
Чего я только не передумала долгими ночами после нашего разговора!
Вспоминала толстую женщину, и, хотя я давно уже поняла все, сказанное ею, злые эти слова уже не страшили и не обижали меня. Пусть считает, что такой, как я, не суждено слышать в жизни ласковых слов — это неправда! Я повторяла про себя: „Папа“ — и, зажмурившись, пыталась представить, о чем мог разговаривать с маленькой девочкой солдат, бережно и ласково кормивший ее с ложечки.
Я буду разыскивать и отыщу его, солдата-каракалпака! Разве не отец для меня человек, который назвал меня дочерью целого народа, заставил искать в библиотеке книги, чтобы с волнением прочитать хотя бы несколько слов о далекой Каракалпакии?..
В это время мы заканчивали восьмой класс. Я уже знала, что после этого можно поступить в техникум или училище, можно уйти из детдома. Кому исполнилось шестнадцать лет, тем даже паспорт выдадут.
Ребята уже давно рассуждали о том, где какие техникумы или училища и куда стоит поступать. Но я не прислушивалась к этим разговорам. Я мечтала об одном: увидеть Каракалпакию. Нет, не просто увидеть: мне представлялось, что это будет возвращение домой после долгого отсутствия. Думая о городе Нукусе, я, казалось, вспоминала его…
И вот я получила паспорт. Мне купили билет на самолет. Воспитательница тревожилась, считала, что мне нужно дать провожатого, но я наотрез отказалась. Только дала обещание аккуратно писать ей обо всем, а главное — не скрывать, если вдруг придется туговато.
Удивительная штука — человеческие мечты! Дай им только волю — куда не заведут они! Запало же мне в голову, что стоит сойти с самолета — и все поймут, кто я и почему приехала. Представлялось, будто любой встречный каракалпак воскликнет с улыбкой: „Наша дочка Гульзар приехала! Добро пожаловать, Гульзар!“
Сейчас смешно говорить, но мне казалось, что юноши и девушки — мои сверстники — забросают меня цветами, когда я буду сходить по трапу самолета.
Я еще и не сказала, что детский дом, в котором я воспитывалась, находился в Сибири. Цветов мы видели мало, а про Каракалпакию я прочитала, что она вся расцветает в апреле и мае. Поэтому Нукус представлялся мне похожим на цветущий сад.
И вот я прилетела в Нукус, сошла по трапу самолета.
А радужные мечты мои растаяли где-то там, наверху, в воздухе…
Разумеется, меня никто не встретил. Ни один человек не преподнес мне цветы. Казалось, все надежды мои рушатся, хотелось разреветься. Возможно, я и заплакала бы, но в детском доме мы привыкли не плакать: рано поняли, что слезами ничего не добьешься.
С трудом оторвав от земли свой чемодан, я отправилась на поиски гостиницы. Гостиницу я нашла быстро, но свободных мест не оказалось. Пришлось до утра просидеть у окошка администратора. Лишь наутро я получила место, умылась, наскоро съела зачерствевшую в дороге булочку, запила водой и пошла в ближайшее отделение милиции.
Дежурный милиционер, стоявший у входа, выслушал меня и сказал:
— Такими делами в нашем министерстве занимается лейтенант Ембергенов, да ведь сегодня воскресенье, его нет. Придется обождать.
Я ушла. В гостиницу пришлось возвращаться через большой парк. Удивительное дело: из отдаления Нукус представлялся мне знакомым до мелочи, а сейчас все казалось чужим, странным. Я присела на скамейку отдохнуть, а сама всматривалась в лица прохожих. Проходили девушки моих лет и парни, но я невольно искала взглядом рослого человека с черными усами, с солдатской выправкой…
Каракалпакские девушки мне сразу понравились. Понравилось, как они заплетают волосы в длинную пышную косу и перекидывают ее через плечо на грудь. Я невольно коснулась рукой своих волос: они были стянуты тугим узлом на затылке. Хорошо, что не подстриглась перед отъездом! Теперь я тоже стану заплетать косу и точно так же перекидывать ее через плечо…
На следующий день с этой новой прической я пошла в министерство искать лейтенанта Ембергенова.
Это был плотный немолодой уже человек с седыми висками. Он внимательно выслушал меня и начал рыться в железном сейфе, который стоял позади его стола.
— Проклятая война!.. То и дело дает о себе знать, — бормотал он. — Все еще продолжаются скитания, мучения, все еще людям не до сна. Эх!
Наконец лейтенант Ембергенов отыскал одну папку, раскрыл ее на столе.
— Эта папка заведена по твоему заявлению, сестренка, — сказал он. — Санчасть, которая тебя тогда приняла, находилась на Северном Кавказе. Мы точно выяснили ее расположение, послали запрос. Нам сообщили, что в июне 1942 года в воинской части, которая там действовала, было два солдата из Каракалпакии. Выяснили фамилию одного. Он живет в Чимбайском районе. Я сам ездил к нему, расспрашивал. Он ничего такого не помнит. О втором солдате пока нет сведений. Там, возле этого селения, немало наших сгинуло без вести…
Слова лейтенанта Ембергенова едва не сразили меня, как пуля. Да-да, сгинули, поумирали от тяжких ран миллионы, миллионы…
Наверно, у меня даже лицо изменилось, потому что лейтенант поднялся со своего места, заговорил торопливо:
— Ничего, ведь все это еще не окончательно. Мы во все республики разошлем запросы, будем искать бойцов этой части и выясним, кто из них встречал солдата-каракалпака. А пока поищем в своей республике.
Хоть я и предвидела, что дело это не может так вот легко и сразу решиться, мне стало не по себе. Он, должно быть, почувствовал мое беспокойство и спросил:
— Ты вообще-то… учиться сюда приехала?
— Нет, я хотела только найти папу.
— Папу? — переспросил он, но тут же смутился, добавил виновато: — Придется немного обождать, сестренка. Мы пока тебе что-нибудь с работой придумаем.
Но я боялась отвлечь его от главного — поисков да и вообще стеснялась затруднять другими делами и потому ответила:
— Не беспокойтесь. Пожалуйста, постарайтесь найти этого человека, а работу я и сама поищу.
— Ну хорошо, — засмеялся он. — Только в случае чего приходи, не стесняйся.
Я попрощалась и ушла.
На улице я внимательно разглядывала каждую вывеску, читала объявления на стенах. Большой город, много высоких красивых домов, и почти всюду работают люди, везде они нужны. Набравшись смелости, я вошла в дверь возле кинотеатра. Это оказался кабинет администратора филармонии.
— Насчет работы? — сразу оживился толстяк-администратор. — Балерина? Певица? Что? А? Ничему не училась? И вообще, значит, без актерских данных? Погоди. Нам нужна уборщица…
Не дослушав, я выскочила на улицу. Остановилась и задумалась. Задавая свои вопросы, он вовсе не дожидался моего ответа. Просто сам спрашивал и сам отвечал вслух. Самому себе отвечал. А вдруг я самая искусная балерина, самая лучшая певица? Нет, он все понял, все разглядел своими цепкими круглыми глазками. И я тоже хороша! Чего меня понесло сюда?
Заглянула в какую-то контору. Там за столом сидела модница, напудренная, с подведенными глазами.
— К директору нельзя, — сказала она, ужасно гордая тем, что имеет право запрещать. — Вы по какому делу? Ах, насчет работы? Свободных вакансий у нас нет.
Я отправилась дальше. В другой конторе мне сказали, что было место курьера, но, к сожалению, лишь вчера приняли одну женщину.
Упрямства у меня хватает, но я устала и вообще перестала верить, что сумею сама что-либо найти. Поборов чувство неловкости, я на следующий день снова пошла к лейтенанту Ембергенову. Он оказался еще и вежливым человеком. Даже виду не подал, что помнит, как я накануне отказалась от его помощи. Сразу заговорил так, будто специально меня ожидал.
— Да, — сказал он, — жизнь — штука серьезная. На первых порах она мало кого балует. Надо быть посмелее, тогда и себе и другим дорогу проложишь.
Я невольно подумала, что лейтенант сказал вслух о том, чему сам служит: разве не прокладывает он дорогу другим людям, чтобы им было не так трудно и не так одиноко в жизни? И еще я подумала, что жизнь и в самом деле, прежде чем обогреть человека, порой возводит на его пути всяческие преграды, ставит подножки, манит недоступными вершинами…
Лейтенант задумался на мгновение, потом спросил, мечтала ли я когда-нибудь о своей будущей профессии.
Я сразу вспомнила слова Елены Семеновны: „У тебя, Гульзар, душа медика, ты всегда стараешься облегчить чужие страдания…“
И, вспомнив это, я сказала лейтенанту, что вообще собираюсь поступить, скорее всего, в медицинский техникум.
— Ну, если так, Гульзар, то мы тебя устроим пока санитаркой в больницу, хочешь? Там ты сумеешь помочь многим людям, со многими познакомишься. Попутно сможешь учиться. Только уговор: пореже рассказывай свою историю. Мало ли, может найтись и такой человек, который назовется этим солдатом либо выдумает, будто знал его. Только запутает нас. Будь осторожна. Если по случайности и столкнешься с тем солдатом, он, узнав твою фамилию, сам заинтересуется твоей судьбой. Как ты думаешь?
Лейтенант как бы дал мне понять, что я именно в больнице могу столкнуться с бывшим солдатом. В самом деле, когда я, сидя в сквере, смотрела в лица прохожим, я не представляла, что тот, кого я ищу, может оказаться уже далеко не молодым и даже больным человеком. Сколько ему пришлось вынести, если судьба его пощадила!
И я ответила без колебаний:
— Да, я буду санитаркой.
Ембергенов улыбнулся, довольный. Он снял трубку, позвонил в больницу. Предупредил, что мне нужно дать место в общежитии.
С того дня началась для меня кипучая, полная забот жизнь. Я отдавала работе все силы. Если среди больных оказывались инвалиды войны, я была к ним особенно внимательна.
Нелегкое это дело — ухаживать за больным человеком. Особенно трудно приходится, когда болеют инвалиды. Все старые раны и болезни напоминают о себе. А уж для нас, едва переступишь порог больницы, беготни хватает. И все же я нередко задерживалась возле инвалидов войны даже после работы. Перестилала постели, помогала подняться, пройтись по палате, а если требовалось, то и сама кормила.
Дежурным врачам нравилось, как я работаю. Нередко я слышала: „Молодец, Гульзар!“
Чтобы помочь больным по-настоящему, нужно прислушиваться не только к их словам и просьбам, но понимать и самое молчание, выражение глаз. Читать по лицам я, пожалуй, научилась раньше всего. Догадывалась, если человеку больно, плохо, но он стесняется лишний раз напомнить об этом. Хуже для меня было другое: ведь я не знала каракалпакского языка.
В магазине я нашла словарь, купила школьные учебники и в свободное время начала изучать язык, тем более что время для поступления в техникум было неподходящее: учебный год уже начался.
Чаще всего меня называла „молодчиной“ старый врач Айшагу́ль.
Однажды мы одновременно с ней оказались на ночном дежурстве. Когда я помыла полы и убрала в палатах, она позвала меня в свой кабинет. Помню, она еще в день первого знакомства удивилась, услышав мою фамилию и имя. Кажется, даже переспросила. Сейчас она тоже стала расспрашивать, откуда я приехала в Нукус. Хоть лейтенант Ембергенов и просил меня быть посдержаннее, доктору Айшагуль я рассказала обо всем.
— А ты и в самом деле уже стала совсем наша, — сказала задумчиво доктор Айшагуль. — Ты замечаешь, как тебя любят больные? Трудиться для народа — это не только строить электростанции или рыть каналы. Бывают мелкие, казалось бы, дела, значение которых очень велико. А еще у нас, каракалпаков, есть пословица: „Если хочешь отблагодарить достойного сына своего народа, служи его народу; если хочешь отблагодарить народ, служи его достойному сыну“. Ты молодчина, что поняла это и ради благородного человека приехала на его родину, самоотверженно трудишься среди его народа…
Я действительно работала, не зная отдыха. Работа поглощала все мои силы и мысли, однако стоило мне вспомнить, что поиски, которые вел лейтенант Ембергенов, еще не увенчались успехом, на душе становилось тяжко.
После слов доктора Айшагуль я приободрилась, вроде бы и работать стало легче. В самом деле, я же не просто отбываю рабочий день, чтобы заработать на жизнь, — я помогаю людям, не считаясь со временем, люблю и жалею этих людей. И я в душе поблагодарила лейтенанта Ембергенова за свою работу.
В начале сентября доктор Айшагуль помогла мне поступить в техникум. Но работу в больнице я не оставила. По-прежнему я не знала, что такое усталость. В короткие свободные минуты читала книги, готовилась к занятиям. Правда, письма Елене Семеновне писала редко, но она аккуратно отвечала и не обижалась на меня.
Мне казалось, что так даже лучше — и работать, и учиться. Занятия в техникуме помогали мне лучше понять работу больницы, врачей. В то же время у меня с каждым днем становилось больше друзей. Я не забывала предупреждение лейтенанта Ембергенова, но самые близкие мои друзья знали всю правду. Как ни сочувствовали мне наши студенты, помочь никто из них не мог.
Потеряв терпение, я как-то зашла к лейтенанту Ембергенову, хотя он обещал сам меня вызвать, если будут новости.
— Сестренка дорогая, нелегкое это дело, — сказал он, по обыкновению сдержанно. — Очень уж запутанный оказался узел. Но мне кажется, мы скоро сумеем его развязать. Я советовался с опытными людьми. Понимаешь, каракалпак, имеющий единственного ребенка, нет, вернее, потерявший его, всегда и всюду вспоминает имя этого ребенка — так уж у нас принято. Возможно, у того солдата, когда он уходил в армию, оставалась единственная дочь — Гульзар. Тоскуя по ней, он и назвал тебя ее именем. Могло быть и другое: у солдата оставалась в родном краю любимая девушка — Гульзар. Видишь, какого терпения требует это дело. Теперь мы ищем тех, у кого есть дочери с твоим именем, потом… Ну, да, в общем, что тут говорить, сама понимаешь. Одно тебе скажу: если человек этот жив, мы его непременно отыщем.
Слова „если жив“ снова болезненно отозвались в моем сердце. В самом деле, почему я так упорно отгоняю мысль о том, что он мог погибнуть, мой спаситель? Да просто потому, что это было бы слишком страшно!
Что я буду делать, если в самом деле погиб тот, кто сталкивался там, на фронте, со смертью каждый день, каждый час?..
Елена Семеновна меня щадила — мы с ней не говорили об этом. А мне мой спаситель представлялся таким сильным, таким отважным, что думалось, сама смерть отступила бы перед ним…
Но ведь лейтенант Ембергенов мог оказаться прав. Я зажмурилась — душа горела от нестерпимой боли.
Что делать? Что делать? Наверно, легче потерять жизнь, чем надежду, которая привела меня в Каракалпакию.
Тут мне вспомнились слова доктора Айшагуль: „Служи его народу, Гульзар!“
Мысль, что я все равно не теряю время понапрасну, что я служу родному народу моего названого отца, помогла мне собраться с силами. Лейтенант Ембергенов, кажется, даже не понял тогда, как глубоко меня взволновала случайно оброненная им фраза.
Шли месяцы, а поиски все не давали результатов.
За это время я научилась почти свободно разговаривать по-каракалпакски и в больнице совсем уже освоилась.
На втором году моей работы к нам положили старую женщину — тетю Хажа́р. Она болела долго, тяжело и была очень слаба. И я принимала ее — была тогда дежурной. Постелила ей постель, помогла улечься поудобнее. Сама не знаю отчего, но старушка эта сразу показалась мне необычайно близкой.
Я стала особенно внимательно ухаживать за ней — сама ее переодевала, постоянно поправляла постель, чтобы не было складок на простыне. Она даже есть не могла самостоятельно — либо сестре, либо санитарке приходилось ее кормить. Мне казалось, что тетя Хажар ест гораздо лучше, когда именно я кормлю ее. Осторожно, по ложечке, я вливала ей в рот чай. От слабости старушка не могла произнести ни слова, но когда она глядела на меня, глаза у нее становились добрые-добрые, а иногда она дрожащей, исхудалой рукой ласково гладила мои волосы. Наверно, хотела поблагодарить.
Но однажды старушка почувствовала себя лучше и смогла заговорить. Спросила мое имя. Я ответила.
— Как же так, дочка? — удивилась она. — Ведь ты русская.
Я улыбнулась и пожала плечами. Улыбнулась и старушка. Лицо ее расцвело, морщинки так и засияли тонкими лучиками от доброй улыбки.
— И чего я спрашиваю? — сказала она самой себе. — Назвали же наши соседи своих детей Юрой и Тамарой. А я все мечтала, что у меня будет дочь и я назову ее Гульзар, потому я и удивилась.
— Ваш муж жив? — спросила я торопливо.
— Нет, милая…
Она отвечала с трудом, неохотно, но мне не терпелось узнать все до конца.
— Ваш муж был на войне? — спросила я.
— Какой же настоящий мужчина не был на войне?
— И вы говорите, он мечтал о дочери, которую хотел назвать Гульзар?
Я спросила об этом и запнулась. Я хотела узнать все до конца, но за своей болью не ощущала боли, какую причиняю своей собеседнице.
— А в армии ваш муж где был? Как он выглядел? Он был рослый, широкоплечий?
— Да, дочка… — На этот раз она опять слабо улыбнулась. — Мне он казался самым рослым и самым широкоплечим. Он был красивый, с черными усами…
Я едва не вскрикнула: „Значит, вы моя мама! У вас есть дочь, которую зовут Гульзар!“ Но, сдержавшись, задала новый вопрос:
— А что муж писал вам с фронта?
— О, много писал. Только обычно добавлял, что в письмах всего не расскажешь, так много пришлось повидать всякого…
В дверях показалась доктор Айшагуль, окликнула меня.
— Зачем ты мучаешь больную вопросами? — накинулась она на меня в коридоре. — Ты ведь знаешь, как она слаба. Сейчас же перестань ее беспокоить!
Я молча кивнула.
Все чувства мои были взбудоражены. В тот день я допоздна не уходила домой после дежурства, пропустила занятия в техникуме. До полуночи сидела я у постели задремавшей старушки. Она спала тревожно, иногда со слабым стоном просыпалась от боли. Лекарства и уколы плохо ей помогали. К утру она опять почти не могла разговаривать. Но на меня не сердилась; выпростала худую руку из-под одеяла и погладила мои волосы.
На следующий день я стала расспрашивать доктора Айшагуль о ее болезни.
— Плохо, — ответила доктор. — Очень плохо. Она слишком поздно обратилась к врачам…
Но я не могла поверить, что нет надежды на выздоровление. Мне казалось, хороший уход и правильное лечение способны спасти человека от любой болезни. Часами, окончив работу, я просиживала у постели тети Хажар, держала ее морщинистую руку и, вглядываясь в ее лицо, пыталась убедить себя, что она поправляется, что ей лучше. Нередко у ее постели меня заставало утро.
С напряжением ожидала я минуты, когда тетя Хажар снова сможет заговорить. Ведь она так и не ответила на самый главный вопрос, который я, правда, и не успела задать: не упоминал ли муж ее хоть в одном письме, хоть одной строчкой про маленькую девочку, подобранную возле разбитой машины?..
Лейтенанту Ембергенову я рассказала об этом разговоре; мне показалось, что он очень заинтересовался. А я мечтала услышать из уст самой тети Хажар ласковое: „Доченька…“ Закрывая глаза, я слышала его, это слово, — порой оно звучало тихо-тихо, будто слабый шелест, а иногда настойчиво, умоляюще: „Помоги мне, доченька…“
Тетю Хажар навещал сын — Марат. Он учился в Педагогическом институте. Когда врачи сказали ему, что матери хуже, он стал приходить каждый день.
Стройный, смуглый, с курчавыми волосами, Марат напоминал Пушкина в лицейские годы. Был Марат сдержан, неразговорчив. Заставая меня у постели матери, он присаживался чуть поодаль и выжидал, когда я уйду. Ни словом, ни жестом он не дал понять, что мое присутствие его тяготит, но это было ясно без слов. Если я, уходя, оборачивалась, то видела, как сразу меняется его лицо: будто человек сбросил маску враждебной сдержанности и теперь лучится сыновней любовью и преданностью…

Начался новый учебный год. Я перешла жить в студенческое общежитие из маленькой неудобной комнатки при больнице. Вместе со мной теперь жили две девушки — Перигу́ль и Айзода́.
Айзода была на год старше нас. Она даже похвасталась однажды, что в первом классе сидела два года. Ее баловали в семье, ей показалось неинтересно ходить в школу, вот она и поступила вторично, на следующий год.
Высокая, чернобровая, с круглым нежным лицом и маленькой родинкой над верхней губой, Айзода была очень красива. Я только удивлялась, что она беспрерывно меняет прическу. То волосы у нее зачесаны высоко вверх и цилиндром увенчивают голову, то она распускает их по плечам и становится похожей на русалку или закручивает на лбу что-то вроде челки, остальные волосы заплетая в косу.
Интересно было посмотреть, как Айзода сидит у зеркала. Взглянет на себя и долго не может оторвать глаз. Перед зеркалом она смеется, хмурится, сердито двигает бровями, делает обиженное лицо, чуть ли не плачет. Вначале я очень удивлялась, но Перигуль объяснила мне, что Айзода хочет знать заранее, как она будет выглядеть, если при встрече с парнем засмеется, рассердится или вдруг заплачет.
Как интересно! Однажды, оставшись одна в комнате, я тоже попробовала смеяться перед зеркалом, но мне это быстро надоело. Да и девушке, смотревшей на меня из зеркала, далеко было до Айзоды!
А до чего мне хотелось стать похожей на нее! Хотелось так же вот носить платья, открытые, изящные, красивые, так же заразительно хохотать, чтобы даже прохожие на улице оборачивались с улыбкой.
Перигуль была совсем иная: спокойная, доброжелательная. И если сама я мечтала стать похожей на Айзоду, то других людей хотелось видеть такими, как Перигуль, мягкими и сердечными.
К обеим подругам иногда приезжали родители. Перигуль привозили обычно гостинцы, всякую домашнюю снедь. Айзоде — платья, туфли, оставляли и присылали деньги. Она казалась нам несметно богатой и очень любила покупать украшения и безделушки, часто вовсе не нужные, которые ей самой тут же надоедали.
В свободное время я тоже пробовала менять прическу, но на улицу всегда выходила с косой, перекинутой через плечо.
Иногда случалось, что я слышала у себя за спиной шаги какого-нибудь парня. Шаги то ускорялись, то замедлялись в такт моим. Но стоило парню поравняться со мной, взглянуть мне в лицо, и он останавливался, чтобы дать мне пройти, либо, извинившись, торопливо обгонял меня.
Я понимала, что этому причиной, но часто сама упорно смотрела встречным прямо в лицо, точно пыталась поймать в чужом взгляде жалость, сострадание, неприязненное удивление. Ведь я была не такая, как другие девушки, — у меня с детства глаз так и остался поврежденным. И если встречные слишком уж внимательно и сочувственно меня разглядывали, я начинала вызывающе смеяться. Что еще оставалось делать, как не посмеяться над людской невоспитанностью. Этим я хоть немножко утешала себя.
Однажды я возвращалась домой с работы через Центральный парк. Услышала позади смущенный голос: „Девушка, одну минутку!..“ Я остановилась, обернулась. Прямо передо мной стоял широколицый курносый парень. Мы в упор разглядывали друг друга; что-то испуганно-беспомощное неожиданно мелькнуло в его широко открытых глазах, черные брови тревожно дрогнули. „Простите“, — произнес он растерянно и круто повернул обратно.
И тут справа от меня появилась Перигуль.
— Наконец-то я тебя догнала, — сказала она, по обыкновению мягко. — Он что, обознался, бестолковый?
— Наверно, — ответила я тихо.
Мы пошли рядом, заговорили о предстоящих экзаменах.
На следующий день, вернувшись с работы, я увидела на своей тумбочке очки. Обычные черные очки, которые защищают глаза от яркого солнечного света. Такие же очки лежали и на тумбочке Перигуль. Вскоре пришла она сама.
— Ты уже видела, Гульзар? — спросила она оживленно. — Примеряла? Идут?
Я прекрасно понимала, почему она принесла мне черные очки. Ведь она слышала, как парень вчера в парке растерянно произнес: „Простите“, хотя, возможно, за минуту до того выдумывал повод, как бы со мной заговорить. Она сказала: „Обознался, бестолковый“, а сама все-все прекрасно поняла. Чтобы не обидеть Перигуль, я надела очки.
— Ой, подружка моя милая, как тебе в них хорошо! Если ты начнешь носить очки, я тоже надену. Какая ты стала красивая! — говорила Перигуль.
— Вот потому-то я и не стану их носить, — сказала я тихо. — Дорогая, не нужно. Пожалуйста. Я не хочу обманывать людей, казаться не такой, какая я есть…
Перигуль до того смутилась, что у нее даже лоб покрылся испариной.
— Прости меня, Гульзар, — сказала она умоляюще. — Просто мне больно замечать твою печаль. И я хочу, чтобы люди видели тебя такой же милой, какая ты в самом деле…
Она спрятала очки в ящик тумбочки, и больше мы никогда не заговаривали об этом.
А вот Айзода меньше всего замечает огорчения и беды других. Даже если кто-то начнет ей рассказывать о своих горестях, вид у нее сразу становится скучающий. Целые дни она занята собой. Порой начинает рассуждать вслух: „Ну до чего отсталые у нас тут парни! Никакой культуры. Стоит слегка подмазаться, стараются задеть пообиднее, стилягой обзывают…“
Случалось, она и в самом деле переставала подкрашиваться, но какой же она становилась некрасивой!
Однажды Айзода увидела, как мы с Маратом вместе выходим из больницы, — мы с ним как-то незаметно сдружились, и уже не было случая, чтобы он не поговорил со мной, приходя навестить мать.
Вернувшись в общежитие, я заметила, что Айзода специально поджидает меня.
— Советую тебе быть осмотрительнее, — сказала она вполголоса и добавила, будто про себя: — Погонится ворона за соколом — последние перышки растеряет…
Я почувствовала в ее словах скрытый обидный смысл, но могла ли я тогда догадаться, что Айзода попросту ревнует меня к Марату? Зато я впервые в этот день задумалась о нашей с ним дружбе. Я уже не могла себе представить, что когда-нибудь Марат перестанет меня разыскивать или поджидать во дворе больницы. Нам всегда было о чем поговорить, мало того, случалось, я с нетерпением ожидала возможности посоветоваться с ним. И конечно, всякий раз мы говорили о его маме, которой все не становилось лучше. В такие минуты он смотрел на меня с надеждой, а мне было так горько, будто именно я в ответе за бессилие медицины перед страшной болезнью.
Снова я шла к докторам и снова слышала знакомый ответ: „Это рак. Она слишком поздно обратилась за помощью…“ Но все равно я не могла освободиться от ощущения вины; казалось, половина моего сердца умирает вместе с больной женщиной. По-прежнему я нередко, даже в свободные от работы дни, приходила навестить ее.
Иногда я думала: „А что, если расспросить Марата о его отце?“ Но в тот день, когда я окончательно решилась заговорить с ним об этом, в больницу неожиданно пришел лейтенант Ембергенов. Накинув на милицейскую форму белый халат, он несколько минут сидел у кровати тетушки Хажар, пытался с ней заговорить. Заметил меня у двери, сказал: „Гульзар, возможно, конец клубка начнет разматываться именно здесь…“
Я ему ничего не подсказывала, только несколько слов передала из нашего разговора с тетей Хажар. Значит, нечто более значительное спустя столько времени привело его сюда? Это усилило мою нежность к больной женщине.
С нетерпением ожидала я того дня, когда лейтенант Ембергенов скажет: „Гульзар, вот жена того, кого ты ищешь“. Я представляла, как тетя Хажар протянет ко мне руки и шепнет: „Доченька!“ И, уже ощущая себя ее дочерью, я ухаживала за ней с удвоенной нежностью.
Между тем ей все меньше требовались мои заботы. Она почти перестала есть. Теперь я каждый день приносила в больницу гранаты, выдавливала из них сок и давала ей пить; она делала с усилием два-три глотка, кивала благодарно и в изнеможении закрывала глаза. Я осторожно расчесывала ей волосы, массировала ноги. Она следила за мной потеплевшим взглядом. Иногда она протягивала желтоватые ладони, и я давала ей свою руку. Она прижимала ее к щеке, к губам…
Для меня это была материнская ласка, которой я не помнила в своей жизни. Я уже не могла представить, что кто-то иной вместо меня станет ухаживать за тетей Хажар, сумеет угадывать ее желания и что другую девушку она будет благодарить так же, как меня.
Однажды на небольшой площади между Педагогическим институтом и нашей больницей собралось много народу: это был митинг в честь запуска спутника Земли — такого удивительного, такого огромного чуда. Люди поднимались на воздвигнутую наскоро трибуну, звучали взволнованные речи. Каждому выступавшему все оглушительно хлопали, радуясь не так словам его, как самому событию.
Я выбежала из больницы и сразу оказалась в гуще народа. Неподалеку я заметила Марата — должно быть, он подходил к воротам больницы и задержался в толпе.
Аплодируя вместе со всеми, я искоса наблюдала за Маратом и заметила, что он лишь поднимает руки для хлопка, но даже не соединяет ладони. Странное впечатление: будто человек неожиданно забыл привычное движение и с трудом пытается припомнить, глядя на других…
Что это с ним?
Когда митинг окончился, я догнала его, с тревогой тронула за руку.
— Марат, что случилось? Почему ты не радовался вместе со всеми?
Еще не закончив свой вопрос, я поняла, что его не нужно было задавать. Марат остановился, пораженный.
— Я? Не радовался? — выговорил он с трудом. — Видишь ли, Гульзар, то, что я пережил сейчас тут, на площади, это больше, чем радость. Такие вот события дают человеку силы жить, когда у него…
— Что? — вскричала я.
— Вчера я беседовал с докторами, — произнес он с трудом. — Говорят, надежды никакой. Совсем нет надежды. Ни одного шанса.
Помню, я смогла лишь выдавить из себя: „Нет, нет!“ В глазах у меня потемнело, я едва не упала. Марат поддержал меня, спросил испуганно:
— Что с тобой, Гульзар?
Я, однако, овладела собой и ответила возможно спокойнее:
— Погоди, мы сейчас вместе всё выясним. Не может быть!
И побежала к больнице, ничего вокруг не замечая, наталкиваясь на людей, спотыкаясь о камни. Марат бежал вместе со мной.
В палате были врачи, поэтому нам пришлось задержаться в коридоре. Неожиданно я услышала голос тети Хажар. Она говорила очень тихо, но горячо…
— Слышишь, Марат? Она поправляется! Она окрепла, разговаривает, — шепнула я.
Марат не ответил — прислушивался к словам матери.
— Доктор, дочка моя милая, прошу тебя, выполни мою просьбу, — доносилось до нас. — Мне глаза уже ни к чему, а она такая молоденькая, такая славная. Проверь, милая, я слышала, теперь любые операции делают. Муж мой всегда говорил: „Если можешь, постарайся человеку принести радость“. Сам погиб, спасая чужого ребенка… А мне так хотелось бы знать, что она счастлива, эта девушка, у которой сердце, видать, полно горя. Она должна расцвести… Расцветет…
Я едва удерживалась от слез. Марат стоял, опустив голову, лишь изредка поглядывал на меня внимательно и печально.

Дверь палаты отворилась. На пороге показалась доктор Айшагуль, кивком головы пригласила нас. Вместе с Маратом мы подошли к больной и присели на табуретки у ее кровати. Ощупью, не открывая глаз, она взяла наши руки в свои, стиснула тихонько и долго лежала молча. Потом ласково начала гладить мою косу.
— Милые дети, — наконец с трудом заговорила она. — Молодежь нынче умнее нас, стариков… Не мне учить вас. Одно скажу: расцветайте вместе…
Еще в коридоре, когда я слышала разговор тети Хажар с врачами, мне вспомнились слова толстухи, приходившей в детдом. И сейчас хотелось спросить: „Мама, значит, я не увядший цветок, нет?“ Но вместо этого я со слезами припала к худой морщинистой руке.
Эти слова тети Хажар были последними. К утру она скончалась.
Вместе с Маратом мы хоронили ее. Мы еще больше сблизились за эти дни. Я приходила навещать его и неизменно чувствовала, с каким нетерпением он меня поджидает. Ведь со мной он мог часами говорить о своей маме — я любила ее, казалось мне, не меньше, чем он.
— Когда мы потеряли отца, она отдавала мне последние крохи, — говорил он. — Наверно, оттого она и заболела, что никогда не думала о себе…
Я снова вспомнила толстую, не по возрасту нарядную косметичку, искавшую в детдоме красивого ребенка. Должно быть, та прежде всего заботилась лишь о себе, и если даже она смогла найти красивого ребенка, сумеет ли она дать ему доброту, тепло, счастье? А вот тетя Хажар, даже умирая, мечтала помочь совсем чужой для нее девушке. Чужой? Нет, нет! Всю жизнь я буду вспоминать ее как родную…
Я старалась утешить Марата:
— Если плачет мужчина, что остается делать тем, кто рядом с ним? Будь сильным, Марат. Слезы — удел женщин и детей.
Говорила и чувствовала, как у меня самой по щекам бегут слезы.
Но Марат поднимался, торопливо утирал глаза и шел разжигать примус, чтобы напоить меня чаем.
— Почаще приходи, Гульзар, — говорил он обычно на прощание. — Я никогда не представлял, какая страшная вещь — одиночество.
И я приходила всё чаще и чаще. Если не заставала Марата, брала ключ, оставленный под ковриком на пороге дома, и убирала комнату, мыла посуду. И казалось мне, будто это комната моего брата; я мечтала, чтобы Марат и в самом деле оказался сыном того солдата-каракалпака.
Горе тяжко подействовало на нас обоих, заставило забыть о многом. Но слова тети Хажар о гибели ее мужа!.. Те слова, что мы слышали из коридора. Он погиб, спасая ребенка!.. Человек, спасший меня, остался жив, иначе и я погибла бы с ним вместе. Но…
И я начала осторожно заговаривать с Маратом о его отце, о последних весточках с фронта…
— Отец писал, что настоящий мужчина всегда должен высоко нести голову, — однажды сказал Марат. — Между прочим, знаешь, один лейтенант из милиции недавно выяснял все подробности о моем отце. Я так и не понял толком, чего он хотел. Может, не успели награду вручить, такое ведь случалось. Он даже брал все письма, проверял, где отец служил. Но вчера письма вернул, извинился: „Оказывается, это не тот, кого мы ищем…“
От волнения у меня ноги подкосились. Я едва не выронила тарелку, которую вытирала, и присела на стул. Неужели снова рухнули все мои надежды?..
На следующее утро я бросилась разыскивать лейтенанта Ембергенова.
При виде меня он развел руками:
— Сестренка, прости, что я поторопился с обещанием размотать этот трудный клубок. Представь себе, Муратов, муж этой умершей женщины, совершил такой же подвиг, как и тот, кого ты ищешь. В белорусской деревне в горящем доме он услышал плач ребенка, бросился на помощь. Ребенка спас, но сам умер от ожогов…
Так вот что имела в виду тетя Хажар, когда говорила о своем муже! Благородный человек с большим, самоотверженным сердцем. Только не тот, кого я ищу.
В этот вечер я впервые не смогла пойти к Марату. Оборвалась какая-то незримая ниточка, развеялась мечта о брате, которому необходима моя поддержка, помощь. Как я теперь приду к нему? Кто я для него?
С тяжелым чувством, от которого не могла освободиться, я присела к столу, раскрыла учебники. Перигуль ушла мыть посуду — мы недавно поужинали. Она ни о чем не расспрашивала, только порой поглядывала на меня внимательно.
Вдруг дверь отворилась, и вошел Марат. Поздоровался. Вежливо присел на стул у двери.
Я заметила румянец волнения на его смуглых щеках. Айзода, по обыкновению сидевшая у зеркала, вскочила, глаза ее сияли. В эту минуту она показалась мне особенно красивой. Марат поднял на нее взгляд, но тут же отвернулся и покраснел еще сильнее.
Пока я лихорадочно размышляла, что мне лучше сделать: выйти либо, наоборот, притвориться, будто я ничего не замечаю, Марат поднял голову и сказал:
— Гульзар, я за тобой.
— Зачем? — спросила я растерянно.
— Принес билеты. Сегодня новый спектакль.
На душе у меня стало легко и ясно, будто и не было никакой тяжести, будто никакие неразрешимые вопросы меня не мучили. Я лишь переспросила, еще не оправившись от своей растерянности:
— Билеты? Мне?
Марат ужасно сконфузился, даже не смог ответить. Я не знала, что и подумать. Особенно смущал меня острый взгляд Айзоды, полный любопытства и злорадства. Она будто надеялась, что я не сумею выпутаться из неловкого положения.
В комнату вошла Перигуль. Кажется, она слышала конец нашего разговора. Ловко расставила в шкафчике помытые тарелки и произнесла спокойно:
— Марат, ты уж прости за тесноту. Придется тебе обождать на улице. Гульзар сейчас переоденется и выйдет.
Честное слово, она будто мысли мои читала!
— Ну не дурень? — буркнула Айзода, едва дверь за Маратом захлопнулась.
— Почему? — резко спросила Перигуль.
— Да ты что, сама не поняла, что ли? — обрушилась на нее Айзода. — Ведь это же я ему сегодня сказала, что в театре новый спектакль, вот он и приволок билет. Наверно, не ожидал застать тут Гульзар. Ну и растерялся — все еще мнит себя ее должником. Вот дурачье эти парни!
Я была в полном недоумении. Так что мне делать? Идти или нет?
Но Перигуль усмехнулась, достала из шкафа самое красивое мое платье, обтерла тряпочкой лаковые туфли.
— Скорее одевайся, опоздаете, — бросила она мне.
— Ах, Перигуль, ну какая же ты!.. — С этими словами я стала поспешно переодеваться.
К театру мы пришли даже немного рановато. Не успели войти в вестибюль, как нас нагнала Айзода. Красивая, нарядная, она с сияющей улыбкой подошла к Марату, будто меня тут вообще не было. Я разозлилась и нарочно прислонилась к Марату плечом. В глазах Айзоды мелькнула растерянность.
— Марат, ведь я тебе ясно утром объяснила, — заговорила она укоризненно. — Мне необходимо попасть на этот спектакль. Я на тебя рассчитывала, а теперь осталась без билета.
Что-то беспомощное появилось и во взгляде Марата.
— Погоди минуточку, — сказал он и побежал к кассе.
Айзода, очевидно желая, чтобы все вокруг невольно нас сравнивали, стала рядом со мной, достала из сумочки белый веер и начала небрежно обмахиваться. В эти минуты она напоминала героиню какой-нибудь пьесы, тем более что на улице вовсе не было жарко.
— Не пытайся лезть в чужое счастье, Гульзар, — сказала она самоуверенно. — Женщина не должна, как дрянной халат, прикрывать плечи каждого встречного. И вообще не я ли тебе говорила: не вороне гнаться за соколом. Мы с Маратом давно любим друг друга.
Я пристально посмотрела ей в глаза. Глаза эти, слегка подведенные карандашом, ненавидели меня, смеялись надо мной. Маленький розовый рот презрительно сжался. Айзода надменно качнула высокой короной прически, будто кивком этим хотела подтвердить безошибочность своих слов.
А вдруг Марат и в самом деле принес билет ей, но постеснялся сказать и отдал мне? „Хорошо, соколиха, ступай сама в театр со своим соколом!“ — подумала я, круто повернулась и стремительно зашагала обратно к общежитию.
Вскоре я услышала, что за мной кто-то бежит. Я не оглядывалась. Бежавший обогнал меня и преградил дорогу. Это был Марат.
— Гульзар, почему ты ушла? — спросил он, задыхаясь.
Я молчала.
— Пойдем, Гульзар, — сказал он с необычной нежностью. — В кассе билетов уже нет, и Айзода ушла. Я попросил ее уйти, — подчеркнул он сухо.
Только тут я оглянулась и увидела, как Айзода, небрежно покачиваясь на своих тонких каблучках, обмахиваясь веером, уходит в другую сторону. Она посмотрела на нас, и мне показалось, что Айзода снисходительно усмехнулась. Ах, да не все ли равно, если не она, а я нужна Марату!
После спектакля Марат проводил меня до общежития. Он был задумчив, мало говорил. Только один раз остановился, проследил за полетом падающей звезды.
Мы шли через парк; над нашими головами пугливо и обиженно шуршали сухие листья, будто боролись с осенним ветром, который пытался расшвырять их все до единого. Порой оторвавшийся лист трепеща опускался на землю, ложился у наших ног, и мы бережно его обходили, чтобы не наступить. Прислушиваясь к непрерывному тихому шелесту, Марат сказал:
— Гульзар, тебе не кажется этот шорох листьев какой-то печальной музыкой?
Я не ответила: вслушиваясь в безумолчное шуршание, я в самом деле ловила в нем мелодию, грустную до слез.
У дверей общежития Марат задержал мою руку в своей, спросил:
— Гульзар, ты помнишь последние слова мамы?
— Помню, — шепнула я.
Немного помолчав, он сказал:
— Я где-то читал, что у любимого человека нет недостатков.
И поторопился проститься со мной.
А я долго еще сидела в темноте на кровати, охватив руками колени, и пыталась понять, что же он хотел сказать этими словами? Может быть, просто утешал, чтобы я не считала себя хуже других? Или намекал, что найдется человек, для которого я окажусь лучше всех?
Ночь я провела без сна. Ворочалась в постели и снова припоминала слова Марата, самую интонацию, с какой они были произнесены. Я решила наутро непременно отыскать Марата и прямо, без утайки спросить у него, что же он хотел сказать.
На счастье, мне даже не пришлось искать его: утром я увидела, что он идет мимо наших окон в институт. Он взглянул на окно, у которого я стояла. Мы поздоровались, я попросила его задержаться и сбежала со ступенек ему навстречу.
Не помню ни единого слова из того, что я говорила. Помню только — он слушал очень внимательно, и глаза его улыбались.
— Какая ты искренняя и чистая девушка, Гульзар! — сказал он вместо ответа. — Я вчера не успел добавить — в той же книге мне понравились и другие слова: „Красота внешняя хороша, чтобы любоваться ею, а душевная красота дорога, чтобы жизнь прожить“.
Я не могла взглянуть ему в глаза. Он тоже казался смущенным и сразу ушел. Войдя в комнату, я торопливо задернула занавеску и прильнула к окну. Марат несколько раз оглянулся, и мне казалось, что взгляды наши встречаются. Один раз он особенно пытливо посмотрел на меня. Но это лишь казалось — ведь я была скрыта задернутой наглухо занавеской.
С Айзодой мы почти не разговаривали. Она попыталась было принять со мной небрежный, высокомерный тон, но я отвечала так сдержанно и холодно, что она удивилась и вдруг стала заговаривать непривычно заискивающе.
…Все эти события заставили меня забыть на время о моих поисках, о которых я не могла, не смела забывать.
Я позвонила лейтенанту Ембергенову, зашла к нему. Как выяснилось, он за это время сам ездил в некоторые районы, беседовал с бывшими фронтовиками. Казалось, он верил в успех поисков больше, чем до сих пор. Приободрилась и я. Неудачи первых месяцев точно раззадоривали Ембергенова.
Однажды он позвонил в больницу, позвал меня. Коротко попросил зайти к нему. Я тут же прибежала.
Лейтенант торжественно, как при первом знакомстве, поднялся мне навстречу, предложил сесть. Я догадывалась, что на этот раз он хочет сообщить что-то особенно значительное, и очень волновалась, даже дух перехватило.
Не говоря ни слова, Ембергенов положил передо мной письмо, адресованное на его имя.
Я начала торопливо читать. Смысл прочитанного плохо укладывался у меня в голове, и я чуть ли не каждую строчку перечитывала заново.
Не знаю, сколько раз прочитала я это письмо, но, наверно, теперь я могла бы повторить его почти дословно:
„…С тем солдатом-каракалпаком, которого вы разыскиваете, я лежал во фронтовом госпитале. Его зовут Косназар. Фамилия — Досназаров. Помню, он был ранен в руку. Ему сделали операцию, отрезали кисть руки. Он очень переживал, что не сможет больше писать, не сможет работать по-настоящему.
По-русски он говорил плохо и однажды попросил меня: „Друг, напиши мне письмо домой, другим я не сумею все рассказать по-русски. А твой язык ближе, ведь мы и узбеки хорошо понимаем друг друга. Писать можешь на русском языке, жена зайдет к соседям — они ей прочитают“.
Вначале он достал из-под подушки три или четыре мятых конверта и протянул мне: „Прочти“. Это были письма из дому. Писала жена его — Гульбазар. Какая это была дружная, любящая семья! В каждом письме говорилось о единственной их дочери — Гульзар. Жена подробно описывала, как маленькая Гульзар смеется, когда она начала сидеть, сама первый раз впервые поднялась на ножки. Но в одном из писем сообщалось о внезапной смерти Гульзар. Едва я взял в руки этот конверт, Косназар отвернулся, губы у него задрожали. Но он овладел собой — это был сильный, волевой человек. Когда я прочитал все письма, он повторил: „Теперь, друг, напиши получше, утешь ее, бедную мою жену…“ И я стал писать под его диктовку.
Я и сам был сильно ранен, но законы армейской дружбы нерушимы. Он диктовал по-каракалпакски, я мысленно переводил на узбекский, потом на русский.
Конечно, сейчас мне трудно припомнить все подробности, но самое главное могу сообщить. Косназар рассказывал жене своей, как он спас от смерти русскую девочку. Увидел опрокинувшуюся машину, и вдруг оттуда послышался плач ребенка. Косназар бросился к машине. Ему показалось, что это плачет его дочка, милая Гульзар. Косназар рассказывал, как ползком, под пулями фашистского снайпера пробирался к своим, как его и девочку засыпало землей, но солдаты помогли им выбраться. Косназару казалось, что он еще никогда в жизни не видел такого терпеливого ребенка: девочку ранило, у нее был поврежден глаз, но она будто понимала, как нелегко ее спасти, и почти не плакала, несмотря на боль. Несколько дней Косназар держал ее возле себя, сам кормил, но началось наступление, и девочку пришлось оставить в ближайшей санчасти.
Косназар предупредил, что непременно заберет ее, и теперь тревожился, не затеряются ли следы девочки. Нет, об этом он не писал жене, а несколько раз спрашивал у меня. Я ему ответил, что документы девочки должны сохраниться — главное, она спасена. И Косназар мечтал вслух, как после войны увезет ее к себе домой…
Вот и все, что сохранилось в моей памяти, товарищ Ембергенов. Я выписался, а Досназаров еще оставался в госпитале. Про дальнейшее ничего не знаю. Когда мы познакомились, Досназарову было около сорока лет. Он рослый, с черными усами, могучий, как Геркулес. Жаль, если такой человек погиб. Но мне кажется, он жив. Такие не поддаются даже смерти. Желаю успехов в ваших дальнейших поисках.
С приветом и уважением капитан Абдуллаев.
Ташкент“.
Я читала письмо, и перед моими глазами вновь возникала страшная картина: опрокинувшаяся машина с людьми, выстрелы фашистского снайпера по тем, кто уцелел. Я видела себя, маленькую, у груди мертвой матери и себя же — на плече рослого, храброго смуглого солдата, который ради меня бросился навстречу смертельной опасности. Удивительное чувство, порыв, какой может быть вызван лишь огромной любовью. К живому. К страдающему существу.
В этот порыв солдат вложил и свою тоску по любимой дочери.
— Видишь, Гульзар, о тебе весь Узбекистан тревожится, — сказал лейтенант Ембергенов. — Теперь мы найдем твоего спасителя. Капитан нам крепко помог.
— Жив ли он? — вырвалось у меня.
— Надеюсь, жив. Видишь, про него пишут, что такие смерти не поддаются.
Но в голосе лейтенанта я не ощутила уверенности.
В последние дни я не видела Марата — как-то не было поводов для встречи. Но тут не выдержала и побежала к нему. Он жарил на сковородке картошку. Я быстро, взахлеб рассказала ему про сегодняшнее письмо и про свои поиски. От неожиданности он даже вилку выронил из рук.
— Так вот почему искали моего отца, — произнес он медленно. — А знаешь, я рад, что этот солдат-каракалпак оказался другим человеком.
— Почему же?
— Так ведь ты стала бы моей названой сестрой, мы не могли бы пожениться!
Это вырвалось у него неожиданно. Он покраснел до ушей и отвернулся. Я чмокнула его в щеку и убежала. Не успела я завернуть за угол дома, как увидела Айзоду.
— Откуда это ты? — спросила она насмешливо и, не дождавшись ответа, добавила: — Бегай не бегай, а твой Марат будет ходить за мной как пришитый.
В эту минуту меня нагнал Марат. Айзода подняла брови как бы в изумлении и бросила насмешливо:
— Куда спешишь, изменник?
— В чем дело, Айзода? — не на шутку рассердился Марат. — Почему ты все время пытаешься делать вид, будто у нас с тобой какие-то особые отношения?
— А по-твоему, они вполне обыкновенные? — возразила она игриво.
Я не хотела присутствовать при таком объяснении и убежала.
К счастью, дома я застала Перигуль и все рассказала ей.
— Ну, погоди, гусиный веер! — сердито пригрозила Перигуль в сторону двери, а меня утешила: — Не огорчайся, пусть только вернется, уж я с ней потолкую.
Но Айзода не пришла ни через час, ни через два, и мне пришлось уйти в больницу на дежурство.
Утром, подходя к двери, я услышала спор в комнате. По-видимому, вчера Айзода вернулась поздно.
— Оставь ее в покое, — услышала я голос Перигуль. — Она чудесная девушка, тебе далеко до нее. Может быть, она нашла свое счастье в любви к Марату.
— Счастье? Да понимает ли она вообще, что такое любовь? Просто нахалка, и все. Я же видела, она сама к нему бегает.
Тут я не выдержала и распахнула дверь.
— Для тебя, Айзода, любовь, наверно, что-то вроде сладкого нектара. Ты, как оса, перелетаешь с цветка на цветок, чтобы урвать свое…
Слова мои прозвучали очень зло. Айзода так и взвилась:
— Ах, я оса? Ну так берегись моего жала, уж я тебя не пожалею! Будешь знать!
Пожалуй, я и в самом деле была слишком резка, но не признаваться же ей в этом, чтобы дать новый повод для злорадства. И я молча улеглась в постель — отдохнуть после тяжелой ночной смены.
Наверно, Перигуль была права: встречи с Маратом помогали мне забывать все тяжелое, что было в моей жизни. Да что я говорю — встречи! Я могла и не видеть его, достаточно было просто о нем подумать, припомнить случайно сказанную фразу, взгляд, и на душе у меня становилось так хорошо, будто произошло что-то необычайно радостное…
Оно и происходило, это радостное. Теперь Марат и я встречались каждый день. Если я работала, Марат приходил в больницу, даже помогал мне иногда мыть полы. Успокаивал меня тем, что это скорее мужская, чем женская работа: все моряки на флоте этим занимаются. Только там говорят не „мыть полы“, а „драить“, и уж тут за истинным моряком не угнаться ни одной женщине.
Я убедилась, что мне и в самом деле не угнаться за Маратом, когда он брал швабру, выплескивал на пол ведро воды и с шутками, забавляясь, до блеска „надраивал“ пол в коридорах больницы.
Закончив работу, мы засиживались допоздна и шепотом разговаривали, если в палатах был тихо и больные спокойно спали. Случалось, доктор Айшагуль отпускала нас, и мы бродили по берегу реки…
Марат не всегда мог пригласить меня в кино или театр: у него вечно не хватало денег — дотянуть до стипендии. Нередко я сама покупала билеты и приглашала его. Мне и в голову не приходило, что это может его огорчать.
Но вот начался новый учебный год, и Марат однажды сказал мне:
— Гульзар, я решил пойти работать на трассу Бухара — Урал.
— А с институтом как же? — спросила я испуганно.
— Буду учиться заочно.
Что я могла возразить? У меня сердце оборвалось. Не могла же я предложить, чтобы он продолжал учиться, потому что у меня есть небольшие сбережения и постоянный заработок. А вдруг не забота о деньгах была главным в этом решении — может быть, он просто решил расстаться со мной?
Я знаю, близкие люди должны верить один другому, все это я сумела бы прекрасно объяснить и посоветовать другой девушке, но сама… Да что говорить: даже многозначительные усмешки Айзоды, ее колкие реплики изо дня в день делали свое дело. И в ответ на слова Марата я лишь пожала плечами:
— Твое дело…
Мне показалось, что мой ответ его обрадовал.
На следующее утро по пути на работу я повстречала его в синем комбинезоне, с вещевым мешком за плечами.
— Как хорошо, что мы встретились! — сказал он. — А ведь я шел к тебе прощаться. Тороплюсь. На трассе очень нужны люди, я узнавал.
„Когда же ты все это успел? — хотелось мне закричать. — И почему, от кого ты так торопишься уехать?“
Мало того, он даже знал, в котором часу уходит на трассу грузовик, и еще с вечера договорился с шофером!
Народу уже было полно. Не успел Марат прыгнуть в кузов, как машина тронулась. Марат долго махал мне рукой, пока машина не скрылась из виду, а я, окаменев, стояла на дороге. Мы даже не простились как следует, ничего не сказали друг другу. Как страшно, что именно в такие вот важные минуты человек не находит нужных слов! Вот он уехал; мне кажется, я не успела сказать что-то необыкновенно важное, самое главное, а задержись Марат еще на несколько минут, и я стояла бы перед ним с тем же тягостным чувством невозместимой утраты… Разве это выскажешь словами?
Придя в себя, я почувствовала, что щеки мои мокры от слез. Я забыла, куда шла, зачем шла, и опрометью бросилась обратно в общежитие. Уткнулась лицом в подушку и дала волю слезам. Я не заметила, как уснула, наплакавшись, а когда открыла глаза, поняла, что уже опоздала на работу.
Я торопливо умылась и пошла в больницу. Пришла и увидела Перигуль. Она за меня мыла пол — задержалась после своего дежурства. Такой она была удивительный человек!
— Может, ты нездорова? Полежала бы, — сказала она.
— Нет, нет, лучше уж ты иди да отдохни, — ответила я.
Но она не ушла — заметила мои заплаканные глаза. Ей даже не пришлось расспрашивать: я сама все рассказала. И до конца моей смены мы пробыли вместе. Перигуль что-то говорила мне, старалась меня отвлечь, и я больше не плакала.
Да, я не плакала, но все равно не могла поверить, что Марат уехал. Казалось, он просто решил меня испытать, проверить мои чувства и потому притворился, будто уезжает. А сам вернулся домой и ожидает меня.
И я торопливо бежала на знакомую улицу, протягивала руку к двери… Она была заперта. А приподнять коврик, взять ключ и войти в опустевшую комнату у меня недоставало сил.
Однажды я решилась и спросила о Марате у соседей.
— Да ведь парень жениться собрался, — охотно объяснили мне женщины. — Вот и уехал на заработки.
Они ответили почти так же, как говорил сам Марат. Но я не могла связать два эти события. Решил жениться и… уехал. Как же так? И почему из-за женитьбы должна прерваться его учеба? Разве денег ожидает от него та, которая его любит, которую он избрал?
Мне думалось, что отъезд Марата — наша с ним тайна. Наша, и ничья больше. Каково же мне было услышать, что Айзода в курсе всех событий.
— Марат дорожит обычаями предков и понимает, что родители не отдадут меня замуж без большого калыма, — однажды объяснила она с важностью. — Придется ему, бедняге, погнуть спину.
— Ради чего? Чтобы купить такую вот расфуфыренную индюшку? — После этих слов я захохотала заливисто и вызывающе, как хохочет сама Айзода.
В первые секунды она смотрела на меня с изумлением, потом не выдержала и вышла из комнаты. Сказать по правде, после этого она не рисковала меня задевать.
Перигуль шепнула мне:
— Не тревожься, Айзода сама лишь сегодня узнала от соседей, куда девался Марат.
Как-то вечером к нам в общежитие зашла доктор Айшагуль. Мы все вскочили. Оказывается, она тоже узнала про отъезд Марата; да и как не узнать, если еще недавно он чуть ли не каждый день бывал у меня на работе. Там, занятая множеством дел, доктор Айшагуль не находила времени для разговоров, а сейчас усадила меня рядом с собой и начала подробно обо всем расспрашивать.
— Ну что ж, — сказала она уверенно, выслушав мой рассказ о последней беседе с Маратом, — раз он предупредил тебя о своем отъезде, значит, непременно вернется…
Сказала она и другую, очень важную для меня вещь:
— Мы решили, что тебе необходимо сделать операцию. Не бойся, она не будет тяжелой. Следы войны мы хотим смыть даже с лица наших людей, — добавила она с улыбкой. — Подумай над этим, милая, — повторила доктор Айшагуль, обняв меня за плечи, когда я провожала ее до дверей. — Операция не очень приятная штука, но я уже договорилась с глазником. Ты же у нас
сильная и решительная, правда?
После ее ухода я глубоко задумалась. Подсела к зеркалу. „Красота внешняя хороша, чтобы полюбоваться ею, а душевная красота дорога, чтобы жизнь прожить“. Я несколько раз про себя повторила эти слова Марата.
На следующий день я согласилась на операцию. Молча вошла в кабинет доктора Айшагуль и остановилась на пороге. Она сразу поняла, сняла телефонную трубку. Все мои товарищи-студенты в эти дни уезжали на сбор хлопка. Уехала Перигуль. Айзода принесла справку о слабости здоровья, и ее оставили. А я легла в больницу.
Не буду рассказывать подробно о самой операции. Доктор Айшагуль несколько раз навещала меня. Самыми трудными были первые дни — подготовительные. Операция же прошла удачно. Радости моей не было границ. Одно меня мучило: хотелось взглянуть на себя в зеркало. Однако в первые дни мне почти не разрешали двигаться.
Но прошло еще несколько дней, и радость моя как бы потускнела. Пусть никто теперь не увидит моего поврежденного глаза, но может ли зарубцеваться рана в душе? Раньше у меня была одна беда и забота: найти Досназарова. Теперь стало две беды, две потери: Досназаров и Марат.
А главное — я чувствовала себя бесконечно виноватой перед Досназаровым. Узнала фамилию — и успокоилась. Теперь-то и должны были начаться настоящие поиски, в которых даже я сама могу участвовать.
Зимой началась подготовка к выборам в местные Советы. Придя проверить, правильно ли записаны обо мне все данные, я увидела доктора Айшагуль. Она заведовала агитпунктом. И вдруг мне пришло в голову проверить, нет ли в списках фамилии Досназаров. Оказалось, есть. Мне разрешили выписать — их было четверо.
Раньше меня хотели было освободить от работы агитатора — хватало дел и в больнице, да и после операции следовало немного отдохнуть. Но я убедила всех, что отлично найду время и силы для общественной работы. Разумеется, прежде всего я обошла семьи Досназаровых на нашем избирательном участке. Но того, кто был мне нужен, я не нашла.
Между прочим, у каракалпаков имена родных рифмуются, как стихи. Если имя отца оканчивается на „ат“, то так же оканчивается имя сына. Если отец был Досназаров, то сын — Косназар или еще как-нибудь похоже. Главное, чтобы окончания совпадали. А имя дочери рифмуется с именем матери. Это затрудняло мою задачу. Среди многочисленных родственников Досназаровых оказалось несколько Косназаров.
Для меня было приятным сюрпризом, что Перигуль, работавшая на другом участке, тоже достала несколько адресов Досназаровых. Она не только сама их выписывала, но привлекла на помощь агитаторов-студентов с соседних участков.
С этим списком я пришла к лейтенанту Ембергенову. Я уже стала замечать, что в последнее время каждый мой приход портит ему настроение, поэтому звонила и заходила очень редко.
Лейтенант притянул к себе список, бегло пробежал его глазами и устало покачал головой. Видно, я шла вслед за ним, по пути, который не привел его к успеху.
В больнице доктор Айшагуль, замечавшая мое подавленное настроение, при каждой встрече пыталась меня утешить:
— Нет, Марат не казался мне ветреным парнем. Наверно, письма где-нибудь плутают или просто он еще не нашел времени написать.
А однажды она сказала:
— Не падай духом, я сама постараюсь отыскать его адрес и напишу ему.
Меня глубоко тронули ее слова, слезы навернулись на глаза. Но сразу острое тоскливое чувство поднялось из самой глубины души. Да что же это такое? Я вроде бы сама отхожу в сторонку от своего счастья, а всех остальных прошу поддержать меня, слезами и жалобами — пусть даже молчаливыми — взываю к чужой помощи…
Сколько людей оторвала я от дел, чтобы они помогли мне разыскивать солдата-каракалпака, а сама просто наблюдала за их поисками, даже не всегда внимательно. И вот уже мне нужна помощь в розысках Марата. Хорошо, доктор Айшагуль отыщет его. А дальше? Начнет спрашивать, любит ли он меня? Вообще что она может сказать ему? Уместны ли в таких вещах упреки, чужое вмешательство?
Нет, Марата я должна найти сама. Сама должна узнать, почему от него нет писем. Перигуль одобрила мое решение. Она даже предложила работать вместо меня в больнице, пока я не вернусь.
Я навела все справки о трассе газопровода Бухара — Урал и сидела в общежитии, обдумывая, с чего начать розыски, когда в дверь громко постучали. Вошел милиционер.
— Вы товарищ Каракалпакова? Меня прислал лейтенант Ембергенов. Он ожидает вас.
Мы вышли вместе. Милиционер оказался и шофером. Через несколько минут машина доставила нас к лейтенанту Ембергенову.
Он вежливо поднялся мне навстречу. Во всем его поведении на этот раз ощущалась спокойная уверенность, какой я не замечала в последнее время. Но он казался опечаленным. Несколько раз он поднимал на меня глаза, перебирая на столе бумаги, но как будто не решался заговорить.
— Гульзар, — произнес он наконец, — Досназаров нашелся, но…
— Он жив? — вырвалось у меня.
Лейтенант Ембергенов неторопливо продолжал, однако чувствовалось, что каждое слово дается ему с трудом.
— Время — жестокая вещь. Это лишь в молодости кажется, что дорогие для нас люди всегда останутся сильными… Мы сделали что могли, Гульзар.
— Товарищ лейтенант, не мучайте меня, скажите, в чем дело!..
— Досназаров жив, — с печальной торжественностью произнес лейтенант Ембергенов. — Но это тяжело больной человек. В прошлом году он потерял жену и остался совсем одиноким. Мы нашли его в Доме для престарелых.
— Господи, да лишь бы он был жив! Когда я смогу его видеть?
— В любое время, Гульзар. Я побывал там. Он помнит каждую мелочь. Я спросил, сумеет ли он тебя узнать… Он вспомнил, что при взрыве тебе повредило глаз…
Тут лейтенант, пожалуй, впервые за много времени взглянул мне в лицо и недоуменно умолк. Я улыбнулась, он тоже засмеялся.
— Молодец, Гульзар! Ты у нас тут совсем расцвела. Погоди, а на спине у тебя шрам есть? Он говорил, что тебя полоснуло осколком.
Вместо ответа я утвердительно кивнула.
— Поздравляю! — сказал лейтенант и впервые в этот день крепко пожал мне руку. — Гульзар, будем вполне откровенны. Этот человек очень одинок и очень хочет видеть тебя. Когда я сказал, что ты зовешь его отцом, он прослезился. Обдумай все хорошенько. Постарайся не причинить ему лишнего горя.
После этих слов Ембергенова мне еще больше захотелось назвать Досназарова „папой“. Мне не терпелось его увидеть. Я просила сказать мне адрес Дома для престарелых, но Ембергенов позвонил по телефону и приказал приготовить машину.
Мы спустились вниз. „Победа“ с красной полосой и надписью „милиция“ уже поджидала нас. Я так спешила, что даже не попросила остановить машину у общежития, хотя знала, что Перигуль будет обеспокоена долгим моим отсутствием.
По пути Ембергенов рассказывал мне о Досназарове так, будто всю жизнь был с ним знаком. Видимо, это работа научила его так быстро улавливать в судьбе другого человека самое главное.
Досназаров вырос в бедной семье, в далеком ауле. В детстве он никогда не держал в руках книги, а когда подрос, окончил ликбез, вот и все. Из-за своей малограмотности он всю жизнь оставался рядовым колхозником; лишь в канун войны за хорошую работу его выбрали звеньевым. Когда он ушел воевать, звено приняла его жена — Гульбазар. Свою единственную дочку — Гульзар она брала с собой в поле, усаживала ее неподалеку, а сама работала. Но однажды ночью, во время полива хлопка, прорвало перемычку, вода хлынула потоком. Пока люди звали подмогу, пока перекрывали воду, бедная мать забыла о больной дочери, которую укутала в одеяло и уложила спать под навесом на собранном хлопке. Все залило водой. Девочка захлебнулась.
Звеньевая Гульбазар полночи провела в холодной воде. Узнав о гибели дочери, она вовсе занемогла. Вернувшийся после войны муж пытался поставить ее на ноги, возил к врачам в Нукус, в Ташкент, но все оказалось безрезультатным.
Жена умерла, маленькое хозяйство начало разрушаться. Друзья и соседи делали все, чтобы Косназар меньше ощущал свое одиночество. Его приглашали на праздники, звали чуть ли не каждый вечер в гости. Но он был из тех людей, которые больше всего боятся стать кому-то в тягость. Работать же без руки было трудновато. И в один прекрасный день, никого не предупредив, он собрался и уехал в Дом для престарелых.
„Для одинокого человека самое страшное время суток — это ночь, — повторил лейтенант Ембергенов слова Досназарова. — Вся жизнь разворачивается перед глазами. Каждый шаг вспоминается, и главное — времени вдоволь, чтобы пожалеть о каждой своей ошибке… И все же я не мог верить, что я одинок. Наверно, это у меня было предчувствием…“
Мое сердце сжалось, когда лейтенант передал эти слова Досназарова. А я разве когда-нибудь могла поверить в свое одиночество? Я твердо решила сразу же, едва мы встретимся, назвать Досназарова „папой“. Больше я ни о чем не могла думать, ничего не могла себе представить — лишь ту минуту, когда произнесу такое дорогое, такое заветное слово — „папа“.
Машина замедлила ход, и я поняла, что мы приехали. Потянулась чугунная ограда, показались ворота, а от ворот навстречу нам двинулся широким шагом рослый человек в черной барашковой шапке, с седой бородой. Должно быть, немало напряженных часов провел он тут в ожидании.
Я приглядывалась к нему. Да, именно таким я и представляла его еще в детском доме, по записям, которые нашла в своем личном деле, и позже — по письму капитана Абдуллаева. Могучего сложения, плечистый, с гордой осанкой. Усы и борода совсем белые. Но спина не согнулась — видно, не только смерти, но и старости не хотел поддаться этот человек.
Ембергенов, наблюдавший за мной, тихо произнес:
— Вот это и есть тот солдат-каракалпак, которого мы с тобой разыскивали.
Машина, скрипнув тормозами, остановилась. Я торопливо распахнула дверцу. Вышла. Досназаров раскрыл широкие объятия.
Как он, должно быть, истосковался здесь без семьи! Он схватил меня за плечи, губы у него дрожали, и я могла разобрать одно лишь слово, которое он повторял бессвязно: „Она… она…“
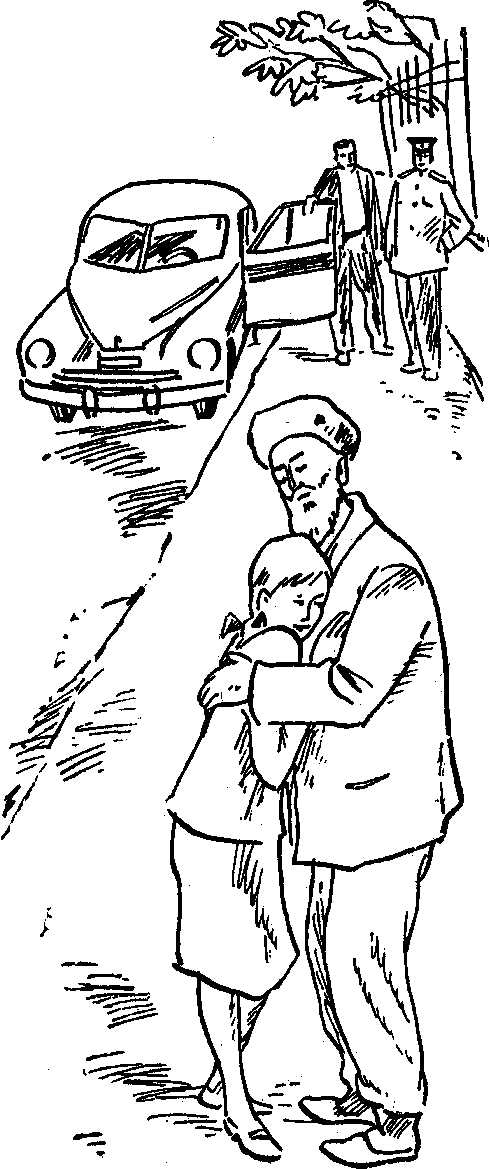
Словно желая удостовериться, что я и есть та самая спасенная им девочка, он то отпускал меня и пристально вглядывался в мое лицо, то снова прижимал к себе. Трудно передать, что пережила я, ощущая заново порыв глубокого чувства, которое некогда ради моего спасения толкнуло этого человека на смертельную опасность.
— Папа, я приехала за тобой, — твердо сказала я.
Ембергенов и шофер стояли в сторонке. Случайно оглянувшись на них, я увидела, что оба они глубоко тронуты.
Вокруг нас собрались люди. Они поздравляли поочередно то меня, то моего отца. Наконец, все вместе мы пошли к директору. Переговоры вел лейтенант Ембергенов, и через некоторое время я получила разрешение увезти отца к себе домой.
Поздно вечером мы вернулись в Нукус. По пути лейтенант расспрашивал меня, как я мыслю устроить свою жизнь в дальнейшем.
— Мы будем жить вместе с отцом, — сказала я. — Из общежития придется уйти, поищем комнату.
Отец не мог говорить. Если он пытался произнести слово, у него дрожал подбородок и слезы катились из глаз. Дрожащей рукой он гладил мое плечо.
— Мы похлопочем о квартире для вас, — сказал Ембергенов. — Напишем письмо в горисполком, а пока что вы можете жить у меня; мы сумеем освободить одну комнатку.
— Спасибо, сынок, тысячу раз благодарю, желаю тебе долгой жизни, — растроганно сказал отец.
Он прожил нелегкую жизнь, но, как я уже говорила, отец был не из тех людей, которые способны стать в тягость другим.
Он оказался мастером на все руки: даже готовить умел не хуже любого повара.
Если я чувствовала себя счастливой, то отец мой был счастлив вдвойне. Вместе мы никогда не скучали. Он мне рассказывал о своем ауле, обо всех родных и знакомых, вспоминал множество увлекательных историй. Или, бывало, я читала ему книжки. Ему самому не довелось прочитать ни одной книги — так уж сложилась жизнь. Поэтому он слушал с радостью и удивлением, как ребенок слушает занятную сказку, а мне такую же радость доставляло читать для него.
Однажды отец коротко рассказал, как пытался отыскать меня после войны. Выписавшись из госпиталя, он стал искать ту санчасть, куда сдал меня. Но войска стремительно катились на запад, а вместе с ними ушла и санчасть. Он попытался найти знакомых солдат, но все тщетно — мог ли кто-нибудь помнить о судьбах подобранных на дорогах войны детей? Больше всего отец упрекал себя за то, что не догадался записать номер санчасти, куда сдал меня.
Рассказывая об этом, он расстраивался, и я постоянно старалась отвлечь его.
От радости, что у меня есть отец, я в первые дни почти не вспоминала Марата.
Но вот я снова начала терять сон, а читая книгу, иногда невольно останавливалась, не закончив фразу: из букв само собой складывалось имя Марат, и я смотрела на него как завороженная.
Я и не догадывалась, что отец все это время пытливо наблюдает за мной. Потом он начал расспрашивать Перигуль. Она не была болтливой и посоветовала мне, чтобы я сама поделилась с отцом, рассказала ему всю правду. Так я и сделала.
— Скажи откровенно, дочка, — спросил он. — Этот парень не был женат?
— Нет, — ответила я уверенно.
— Тогда не печалься. У нас вошло в обычай, что парень старается не ударить лицом в грязь и перед женитьбой приводит в порядок свое хозяйство. Обождем денька два-три. Если к тому времени никаких вестей не будет, я сам постараюсь найти его и поговорю по-мужски.
После этого разговора он не стал ждать и двух дней. Рано утром оделся потеплее и уехал на трассу Бухара — Урал.
Через неделю он вернулся вместе с Маратом. Все, что говорил Марат, было правдой, а два письма, посланные им с трассы, так и не дошли до меня. Не Айзода была ли тут виной? Последнее время при встречах она упорно избегала моего взгляда.
Но какое это имело значение, если все мы были счастливы?..»
* * *
На этом заканчивается рассказ Гульзар Каракалпаковой.
Нынешним летом я случайно повстречал всю их семью воскресным днем в парке. Немного постояли, поговорили. Гульзар с семьей получила новую квартиру в наших нукусских Черемушках — большом новом районе города. Марат закончил институт, работает учителем в школе.
Гульзар не слишком изменилась, только тонкие лучики первых морщинок появились у глаз. Может быть, эти тонкие бороздки — след минувших тревог и печалей, ночей без сна?..
Да, забыл сказать, что теперь семья у Гульзар значительно увеличилась: растут двое близнецов — сын и дочка.
Беседовал я только с Гульзар и Маратом. Дедушке Косназару внучата не дали поговорить. Ухватили за полу пиджака и потащили к каруселям.
Он оглянулся с виноватой и счастливой улыбкой, но уже в следующую минуту забыл обо мне.
— Посмотрите, даже шагать стараются все в ногу, — смеясь, сказала Гульзар. — На каруселях непременно будут просить, чтобы их с дедушкой посадили на одну лошадку…
А я подумал: радуйся и радуй других, Гульзар Каракалпакова, русская девушка, чья судьба так удивительно и тесно переплелась с судьбой моего народа! И пусть ничье детство не омрачат беды, подобные тем, какие довелось испытать тебе…

Оглавление
ЛЕДЯНАЯ КАПЛЯ
Повесть
Перевела Д. Рашиди
НОЧИ БЕЗ СНА
Повесть
Перевела О. Романченко





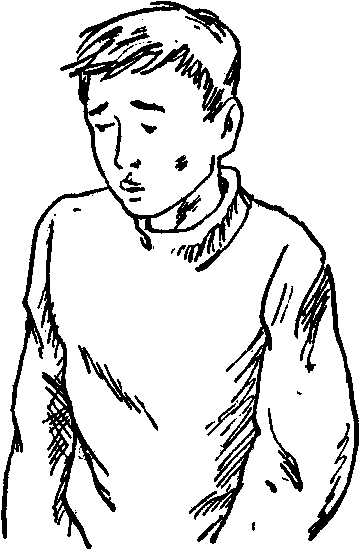

 Я убежден, что вы ничего не знаете о Гульза́р Каракалпа́ковой. Нет, она не Героиня Труда и вообще ничем не знаменита. Не назовешь ее и красавицей: румяная, светлокожая, с русыми волосами — одно из тех лиц, какие кажутся нам милыми, но редко запоминаются. Только вот взгляд у Гульзар необычный: один глаз смотрит на вас то ласково, то с любопытством, то сурово, зато другой всегда широко раскрыт, будто в удивлении…
Что еще можно сказать о Гульзар? Ей двадцать с небольшим. Медсестра. Русская…
Впрочем, лучше послушайте ее рассказ.
Я убежден, что вы ничего не знаете о Гульза́р Каракалпа́ковой. Нет, она не Героиня Труда и вообще ничем не знаменита. Не назовешь ее и красавицей: румяная, светлокожая, с русыми волосами — одно из тех лиц, какие кажутся нам милыми, но редко запоминаются. Только вот взгляд у Гульзар необычный: один глаз смотрит на вас то ласково, то с любопытством, то сурово, зато другой всегда широко раскрыт, будто в удивлении…
Что еще можно сказать о Гульзар? Ей двадцать с небольшим. Медсестра. Русская…
Впрочем, лучше послушайте ее рассказ.