
Жаров Михаил Иванович
Жизнь, театр, кино
Книга М. Жарова - содержательный, эмоционально насыщенный рассказ о делах и днях беспокойной актерской жизни. Однако содержание воспоминаний более широкое. Его книга - книга о жизни, но, разумеется, главное в ней -искусство, театр, кино. Книга захватывает широкий круг вопросов: дореволюционная театральная жизнь, как она представлялась подростку и юноше.
О авторе
Имя Михаила Жарова - одно из самых популярных артистических имен в нашей стране.
Вот как сам автор определяет характер своей книги:
"Я - артист, а не писатель, и литературное творчество мне, как говорится, противопоказано. Почему же все-таки меня потянуло писать? Нет, меня не подбило на этот труд соображение, что мемуары сегодня пишут все - сами о себе и друг о друге. Скорее напротив - это меня напугало. Но однажды я понял, что моя жизнь, как и жизнь каждого человека, прошагавшего с первых лет бурного XX века до середины 60-х годов, принадлежит не только мне. Поэтому я не мог не сесть за эту книгу.
Я хочу рассказать о времени, каким его я видел.
На моих глазах прошла жизнь не одного поколения. Я помню Россию начала века, Москву ночных извозчиков, мне суждено было пережить и перечувствовать горячее время революционных бурь, о которых будут слагать легенды наши далекие потомки, силой обстоятельств я частенько оказывался в центре интереснейших исторических событий, помню Шаляпина и Маяковского, Вишневского и Эйзенштейна, Таирова и Мейерхольда и многих других примечательных людей, достойных того, чтобы вспомнить их имена. Я был участником создания и развития советского кино".
Эта книга не прощаний, а встреч: с писателями,
художниками, артистами, спектаклями, фильмами. Широким массам читателей - зрителей театра и кино - эта книга расскажет о любимом артисте.
Воспоминания. Михаил Жаров и его книга
(А. Зись)

|
|
Михаил Иванович Жаров
|
Книгу воспоминаний выдающегося советского актера, народного артиста СССР М. И. Жарова читатель ждет давно. Фрагменты и отдельные главы этой книги уже появлялись ранее в печати, главным образом на страницах журнала "Театр". И читатель, знакомый с этими публикациями, с интересом ждет от автора целостного рассказа о его жизни и его творчестве.
М. И. Жаров прошел большую, яркую, насыщенную жизнь в искусстве. Властное, неодолимое тяготение к театру он ощутил еще ребенком, и первые робкие опыты его актерской работы относятся к дореволюционному времени. Артист принадлежит к тому поколению художественной интеллигенции, которая стояла у истоков советского искусства. М. И. Жарову посчастливилось находиться в самой гуще созидания новой художественной культуры, и его творчество стало одной из интереснейших страниц в истории советского театра и советского кино. Его мягкое, человечное, глубоко реалистическое искусство получило подлинно всенародное признание. М. И. Жаров - один из наиболее популярных и любимых советских актеров.
М. И. Жаров служит двум музам. Около пяти десятилетий он поражает зрителя неисчерпаемым диапазоном своих творческих возможностей на сцене и на экране. Актер комедийный и характерный по преимуществу, Жаров еще со времен знаменитого спектакля Камерного театра "Оптимистическая трагедия" не раз убедительно доказывал, что ему отнюдь не чужды роли героические и даже трагедийные. И, быть может, одна из причин редкостного успеха, который выпал на долю артиста, состоит в том, что он никогда не замыкался в рамках определенного актерского амплуа, не ограничивал палитры красок своего искусства. Напротив, актер всегда шел в творчестве от жизни образа, искал и находил в себе творческие силы для воплощения роли в искусстве театра и кино, безотносительно к тому, какая это была роль - гротесково-комедийная или сугубо драматическая. И в каждой из своих работ он всегда был разным и неповторимым. Таких работ - многие десятки. Сколько сочных, выразительных, изумительно точно вылепленных образов создано актером за долгие годы. Ему есть о чем рассказать читателю, и читатель с благодарностью прочтет его книгу.
Книга "Жизнь. Театр. Кино" - не только и даже не столько книга об актерских работах и об искусстве ее автора. Да, перефразируя известные слова Маяковского: "Я поэт. Этим и интересен", - Жаров может сказать о себе: "Я актер. Этим и интересен". И потому книга его - содержательный, эмоционально насыщенный рассказ о делах и днях беспокойной актерской жизни. Однако содержание воспоминаний более широкое. Автор книги многое видел, судьба сталкивала его с интересными людьми - художниками и учеными, политическими деятелями, рабочими, колхозниками; он вступил в сознательную жизнь в переломную эпоху, на его глазах рвалась "связь времен" - старый, дооктябрьский мир уступал место миру новому. М. Жаров был не только свидетелем, но и участником исторических свершений своего народа. Автор воспоминаний отличается живым, пытливым, наблюдательным умом. И поэтому даже тогда, когда он говорит о людях и событиях, о которых уже не раз рассказывали другие, то сообщает о них много нового, показывает их с необычной стороны, делится своими собственными впечатлениями, раздумьями. В силу этого его воспоминания -не только живое свидетельство очевидца, но и громадный аналитический труд, глубокий и поучительный. При этом привлекательнейшая особенность книги выражается в том, что она лишена каких бы то ни было следов навязчивого желания поучать. В живой и увлекательной форме автор естественно и свободно беседует со своим читателем, доверяет его уму, обращается к его читательскому такту и вкусу, рассказывает ему о днях минувших, побуждает думать о дне сегодняшнем. Его книга - книга о жизни, но, разумеется, главное в ней -искусство, театр, кино.
В мемуарной литературе о театре и кинематографе книга М. И. Жарова займет достойное место. И это определяется прежде всего тем, что она носит мемуарный характер, главным образом по форме, а по существу своему она представляет серьезный труд по истории становления советского театрального искусства и советского кинематографа, раскрывает интересные страницы идейно-художественной борьбы, дает яркие портреты ряда выдающихся деятелей советского искусства, знакомит с судьбами артистического поколения, к которому принадлежит автор.
Достоинство воспоминаний М. И. Жарова состоит в том, что развитие советского театра и советского кино выступает в них не изолированно от развития советского общества, а, напротив, жизнь театра, становление советского кино, их искания, их взлеты и падения, формирование актеров советской школы рассматриваются на широком фоне общественной жизни, в органичной связи с формированием советского общества. При этом автор не допускает ни малейшего упрощенчества и устанавливает связь между развитием советского искусства и нашей действительностью тонко, тактично, убедительно. Поэтому название его книги "Жизнь. Театр. Кино" носит не просто символический характер и представляет собой не эффектную находку, а вполне соответствует ее содержанию.
Естественно, что автор воспоминаний рассказывает очень многое о самом себе, о своих детских и юношеских мечтаниях, о первых шагах своей жизни на сцене, о своей актерской юности и зрелости. Но в разговоре о времени и о себе ему посчастливилось найти идеальную меру: он говорит о времени больше, чем о себе, а там, где он рассказывает о себе, он, по существу, тоже говорит о времени.
В последние годы мемуарная литература обогатилась многими интересными книгами. Однако иногда бывает и так: авторы воспоминаний, находясь во власти сладостных иллюзий, рассказывая о себе как о центральном стержне событий, ведут повествование о времени под углом зрения формулы: "Я и эпоха". Автор настоящей книги ни разу не попадает в плен подобной манеры изложения, он следует более плодотворному и благородному принципу: ставить в центр своего повествования события, вести рассказ о делах и днях советского театра и советского кино, о выдающихся деятелях и скромных тружениках этих искусств, а о самом себе как о свидетеле и участнике явлений нашего искусства говорить лишь, в той мере, в какой это необходимо для освещения самих этих явлений. В воспоминаниях автор не выпячивает самого себя, нигде не подчеркивает особо своей роли; он пишет о себе даже скупо, и как раз эта скупость, быть может, даже вопреки желанию автора, позволяет читателю чувствовать, насколько интересна и содержательна была его жизнь в театре и в кино. Книга написана в благородной манере: ни ненужной ложной скромности, ни искусственного подчеркивания места и роли автора в искусстве. Привлекательность книги определяется несомненной искренностью автора и правдивостью повествования.
Здесь следует оговориться. Мемуарный жанр по самой природе своей таков, что он неизбежно несет на себе печать известной субъективности. Автор воспоминаний рассказывает часто о событиях не в таком виде, в каком они развертывались во всех своих связях и отношениях, а представляет их читателю такими, какими они казались именно ему, такими, как они отложились в его памяти. Другие участники событий запоминают иные грани и часто поэтому встречают чужие воспоминания скептическим восклицанием: "Нет, это не так было; насколько я помню, все было иначе". А если автор воспоминаний к тому же сообщает некоторые сведения, оказывающиеся совершенно неожиданными для других, то можно еще порой в ответ встретить даже замечание, соответствующее логике известного чеховского персонажа: этого не может быть потому, что этого не может быть! Но почему не может быть? Потому, что авторам таких замечаний это неизвестно...
Горький однажды заметил, что подлинную историю жизни пишет художник. И когда художник выступает в качестве мемуариста, он прямо и непосредственно пишет историю своего времени. Но мемуарист - не просто историк. От него не требуется всестороннего освещения явлений и событий, о которых идет речь в воспоминаниях, в таком виде и объеме, как это требуется от автора исторического исследования. И пусть мемуарист затрагивает в своих воспоминаниях не события в целом, а лишь отдельные их грани и даже частности, но это должны быть такие значительные, содержательные грани и такие интересные частности, которые помогают объективному пониманию исторического процесса в целом. И если воспоминания отличаются к тому же свежестью и яркостью изложения, представлены человеком, сама личность которого является несомненным предметом интересов читателя, они приобретают особое очарование. Книга воспоминаний М. И. Жарова именно таковой и является.
Книга захватывает широкий круг вопросов: дореволюционная театральная жизнь, как она представлялась подростку и юноше, но осмысленная зрелым человеком, и явления жизни, волновавшие в ту пору русское общество -опера Зимина, Шаляпин, актеры Борисов, Певцов, Собинов, "Летучая мышь" и многое другое, с одной стороны, и убийство Распутина, атмосфера февраля 1917 года, предоктябрьские уличные бои в Москве и т. д. - с другой; художественная жизнь Москвы в первые годы Советской власти, столкновения между старыми академическими театрами и молодыми "левыми", "театральный Октябрь", Комиссаржевский, Мейерхольд, Таиров, популярный в свое время Бакинский рабочий театр, молодые театральные студии, Маяковский, Вс. Вишневский и в то же время - атмосфера Октябрьской революции, поездки на фронт в годы гражданской войны, Тухачевский, Луначарский, Малиновская и т. д. Затрагивая и осмысливая важные и острые проблемы и страницы театральной жизни, такие, например, как Станиславский и Мейерхольд, биомеханика Мейерхольда, Таиров и Камерный театр, Жаров смог объективно и трезво рассказать о каждом из этих крупных деятелей советского театра и о проблемах, которые их занимали и волновали театральный мир. Работа в Театре Мейерхольда и даже в Камерном театре - это театральная молодость Жарова, и естественно, что он говорит о крупных мастерах, возглавлявших эти театры, с особой теплотой. Но ни апологетики, ни модернизации во взглядах на искусство Мейерхольда и Таирова нет в его книге; автор помогает осмыслить то действительное место, которое занимали эти люди в нашем искусстве; в его книге они выступают не как исторические монументы, а как живые люди, как страстные и одержимые художники со всеми их достоинствами, со всеми недостатками. При всей субъективности в манере изложения автор строго объективен в своем анализе и в своих выводах.
Несомненный интерес и ценность представляет второй раздел книги, посвященный советскому кинематографу. Мемуарная литература об искусстве кино гораздо беднее, чем о театре, и можно не сомневаться в том, что страницы книги, посвященные кино, привлекут особое внимание читателя. В книге Жаров рассказывает о своих актерских работах в кино, но попутно он знакомит читателя с важными и существенными явлениями, характеризующими становление советского киноискусства. Свежо, непосредственно и содержательно набросаны штрихи, дающие живое представление о таких мастерах кино, как С. Эйзенштейн и Г. Козинцев, В. Петров, бр. Васильевы, о писателях и драматургах (А. Н. Толстой и Вс. Вишневский) и о многих других выдающихся деятелях
w />« w
советской культуры. С теплотой пишет автор о своих товарищах по профессии - актерах кино.
Особого внимания заслуживают рассуждения М. И. Жарова о специфике актерского искусства в кинематографе. В этом отношении представляются особенно важными два положения, которым в воспоминаниях отведено немало страниц. Первое -выявление своеобразия актерского искусства в кино по сравнению с искусством актера в театре. В связи с этим автор, ни в малой степени не становясь на путь противопоставления театра и кино, высказывает много интересных мыслей, дающих читателю более ясное представление о сложности актерской профессии, о роли кинематографа в формировании актера театрального, с одной стороны, и о роли театра в становлении актера кино, с другой. И второе - автор решительно ополчается против простого использования типажных данных актера в кино, и его раздумья о кинематографе типажном и актерском, хотя и относящиеся к двадцатым и тридцатым годам, представляются весьма современными, важными для понимания природы кинематографа наших дней. Они как бы перекликаются с исканиями крупнейших современных кинорежиссеров, стремящихся выразить идею, мысль, глубинное содержание фильма через подлинное актерское творчество.
Пафос этих страниц - в утверждении содружества двух искусств. Жаров органически не приемлет "модных" рассуждений: кому принадлежит будущее - театру или кино? Он глубоко убежден в том, что два этих вида искусства не конкурируют друг с другом, не мешают друг другу, а, напротив, в едином строю творят советскую художественную культуру. Ему глубоко чужды представления о каких бы то ни было преимуществах театра или кино друг перед другом. Он уверен в равной значимости этих искусств, в их взаимной незаменяемости, и, по его мнению, театр без кино или кино без театра в одинаковой мере ведут к обеднению духовной жизни современного человека. Страстно внушая свои убеждения читателю, автор книги добивается этого не скучными, отвлеченными рассуждениями, а живым, впечатляющим рассказом о творческом своеобразии как сценического, так и кинематографического искусства. Вполне понятно, что в рассказе о советском кинематографе наиболее насыщенными страницами являются те, которые посвящены фильмам, в создании которых автор непосредственно участвовал. Вместе с тем книга содержит массу интересных сведений и об истории создания многих фильмов, к которым сам автор прямого отношения не имел.
Однако не будем пересказывать содержание воспоминаний. Перед читателем - книга, и не будем лишать его удовольствия - пусть он сам составит первичное и самостоятельное впечатление о ней.
Конечно, не все равноценно в книге, не обо всем рассказано в должной мере. В рассказе М. И. Жарова одни явления искусства выдвинуты вперед, другие находятся в тени. Отдельные мысли автора могут вызвать споры. Но так оно и должно быть. Жаров сказал то, что всего больше его волновало, и сказал об этом по-своему. Пусть другие расскажут о другом и расскажут иначе. Одно бесспорно: книга М. И. Жарова - не просто воспоминания. Эта творческая книга об искусстве вызывает любовь и уважение к советским художникам, к их мучительному и радостному труду, пробуждает в читателе творческое волнение, жажду общения с театром и кино, она будет прочитана с подлинным эстетическим наслаждением.
А. Зись
Часть первая. Театр
Литературная редакция части первой "Театр" Ал.
Гершковича
Я хочу рассказать о времени, каким его видел. На моих глазах прошла жизнь не одного поколения. Я помню Россию начала века, Москву ночных извозчиков. Мне суждено было пережить и перечувствовать горячее время революционных бурь, о которых будут слагать легенды наши далекие потомки. Силой обстоятельств я частенько оказывался в центре интереснейших исторических событий, помню Шаляпина и Маяковского, Вишневского и Эйзенштейна, Таирова и Мейерхольда, и многих других замечательных людей, достойных того, чтобы вспомнить их имена. Да и сам я стоял, как говорится, у колыбели революционного советского театра и кино.
Словом, есть что вспомнить, о чем рассказать не в назидание, а для полноты картины о путях-дорогах нашего родного искусства.
Здесь сразу встает вопрос, который волнует меня уже давно. Ему, собственно, и посвящается эта книга. Художник и жизнь! Вечная, как само искусство, проблема взаимоотношений художника с действительностью. Что берет художник из жизни и что он отдает ей. Как жизнь, личная и общественная, оплодотворяет творчество, питает фантазию и мышление актера, подсказывает то или иное решение образа; как жизнь актера определяет подчас не только внешние черты очередного сценического героя, но и своеобразие всего творчества. Я хочу это выяснить не в теоретических рассуждениях, а в непосредственном рассказе о своей жизни, о встречах с временем и людьми, о том, как был собран мой жизненный багаж, из которого я черпал материал для творчества.
В сознании многих людей представление о том или ином актере сливается воедино с образом персонажа, созданного им на сцене или, особенно, на киноэкране. И как иногда ни обидно, что тебя путают с тем или другим отрицательным типом, все же творческое удовлетворение от такой путаницы ты получаешь огромное. С ним может сравниться разве что чувство, с которым каменщик взирает на дом, сложенный его руками, или судостроитель - на построенный им корабль.
С кем же "путают" меня? И почему?
Прошлым летом на даче, где я живу с семьей, произошел пожар: моя младшая дочь Лиза топила в подвале печь и забыла там свечу. Она догорела и подожгла хворост. Приехали пожарники. Меня, взмокшего и охрипшего от самостоятельной борьбы с огнем, вернее - с дымом, в первую минуту раздражала веселость, с которой они побежали в подвал тушить огонь. Я не мог понять их веселья, уж очень это было некстати. Но вскоре причина хорошего настроения выяснилась: начальник команды, когда опасность была
ликвидирована, вылез из подвала и, не скрывая улыбки, разочарованно сказал: "Что ж это, Михаил Иванович, подвал-то у вас пустой? А мы-то думали, у вас там бочки с вином"...
А вообще мне повезло. Встречая на улице незнакомых людей, я вижу, как теплеют их глаза, как разглаживаются морщинки у рта и как вдруг собираются веселые складки у глаз. Для меня это высшая награда - приносить людям радость! Разве ради этого не стоит жить, работать?!
Так вот сейчас, вспоминая свою жизнь с детства и до сегодняшнего дня, я хочу найти для себя самого и для других ответ на то, как жизнь вплетается в искусство, а искусство отражает жизнь.
Малиновый цвет
Воспоминания детства возникают по каким-то неведомым каналам ассоциаций. Например, меня долгое время беспокоил малиновый цвет, я не мог понять, что у меня связано с ним. Малиновый цвет моментально вызывал ассоциацию переулка, в котором я родился, - Б. Спасский, у Каретного ряда. Стал вспоминать, что же это означает.
Я жил в Б. Спасском до пятилетнего возраста, а затем переехал на Самотеку. Ясно помню, как однажды, взяв двугривенный со стола матери, перешел на другую сторону переулка в магазин колониальных товаров и купил на двадцать копеек конфет (давали пару на копейку). Я сел на ступеньку этого магазина и стал угощать ребят, пока не вышел хозяин, отнял конфеты и сказал, чтобы зашла моя мама.
Другой раз, гуляя по двору, я увидел в подворотне какого-то дядю, который показался мне весьма приветливым.
"Мальчик, - сказал он, - хочешь конфетку?" Я доверчиво ответил "хочу". Когда я приблизился, "дядя" сказал: "Видишь, там на веревочке висит рубашечка, дай мне ее, я тебе дам конфетку".
Я потопал к веревочке, стянул рубашку и стал тащить ее по земле, подметая грязный двор, пока соседка из окна не закричала: "Миша, Миша, ты что делаешь?". Тогда
добродушный дядя, который просил передать ему рубашку, почему-то побежал и исчез.
При чем тут, скажете вы, малиновый цвет. И тем не менее именно малиновый цвет вызывал всякий раз, где бы я его ни увидел, образы детства, дома.
Странная вещь, - когда я однажды просматривал огромное количество военных мундиров для съемки картины "Петр I" и случайно напал на малиновый мундир, он вызвал ту же ассоциацию. Я снова мысленно перенесся в Б. Спасский переулок и увидел дом, в котором мы жили. Наш двор был проходным: через него, скосив угол, можно было пройти к церкви, в ограде которой было небольшое кладбище. Вокруг церкви были разбросаны домики. В одном из них - это мы, ребятишки, точно знали - жила артистка. Мы часто кричали, увидя знакомую карету: "Артистка, артистка!" - и бежали следом. Из кареты появлялась красивая и строгая барыня в шляпе.
Но откуда малиновый цвет?
Напротив наших окон, через узкий переулок, по которому редко проезжали извозчики и где почти не было пешеходов, стоял трехэтажный дом. На втором его этаже жила симпатичная барыня, часто приглашавшая меня к себе. Она звала меня "маленький лорд Фаунтлерой", вероятно, потому, что моя мать, Анна Семеновна, одевала меня в простые, но чистенькие костюмчики с белыми крахмальными воротничками. Она была мастерицей в известном магазине белья Алынванга на Кузнецком мосту и гладила мужские сорочки.
Я не знал, что такое "лорд Фаунтлерой", но мне это нравилось. Барыня угощала меня конфетами и читала разные книжки. Я всегда огорчался только одним обстоятельством: наши чудесные беседы прекращались в тот самый момент, когда в дверях появлялся молодой офицер в малиновых рейтузах. "Фаунтлерой" моментально бывал забыт, и симпатичная барыня говорила: "Ну, Миша, теперь иди
погуляй! .
Так вот, оказывается, почему меня беспокоил малиновый цвет! Когда я вспомнил, что меня с ним связывало, мне стало легко, будто я отделался от какой-то давившей меня тяжести.
Казалось бы, это пустяк, и не стоило о нем говорить. Но здесь, наверное, интересно другое - конкретные образы прошлого возникают в моей памяти путем ассоциаций, а ведь говорят, что это характерно вообще для художников.

|
|
Семья печатника. Мой отец, И. Н. Жаров, в те годы, когда был на
военной службе
|
Как-то я спросил Константина Георгиевича Паустовского, произведения которого я бесконечно люблю, - особенно "Далекие годы", где через детали часто выявляются огромная сущность и смысл происходивших событий, - как он может помнить давным-давно минувшее до мельчайших подробностей, буквально до мелочей. Он ответил мне в свойственной ему застенчивой манере: "Когда сажусь писать, очень мало помню. Потом мелькнет какая-то деталь, возникнет ассоциация, - и вся цепь вытаскивается по звену".
Ассоциации имеют огромное значение в творчестве художника, они, как солнечные "зайчики", освещают темные углы в чуланчиках памяти и извлекают оттуда, казалось бы, давным-давно забытое.
Оттолкнувшись от детского впечатления, я вспомнил, как однажды позвонили из редакции с просьбой рассказать самый смешной случай из моей жизни. Мне это предложение показалось если не оригинальным, то во всяком случае интересным. И я начал вспоминать. Что же смешного было у меня? Вот например. Случай...
Снежная баба
Мне было лет пять, а может быть, шесть. Я вышел гулять во двор.
Выпало много снегу, ребята шумно и весело играли в снежки, а я стоял, как кукла, с растопыренными руками - на мне была новая романовская шубка - и глазел на ребят. Самый веселый и любимый мной мальчишка Лешка Косоротик, - когда он смеялся, он кривил рот, - вдруг подбежал ко мне и громко, как будто нашел недокуренную папироску, "чинарик", весело заорал: "Ребята, идея! Давайте из Миши делать снежную бабу!".

|
|
Семья печатника. В начале 10-х годов отец работал в типографии. На этом снимке запечатлена вся наша большая
|
семья
И ребята так же радостно, словно Лешка дал им затянуться найденным чинариком , громко заорали: Давайте! .
Лешка взял меня под мышки и торжественно посадил в сугроб, а потом все дружно и весело стали лепить из меня бабу, обкладывая кругом снегом. Снег залез уже мне за воротник и холодными струйками тек по спине, набился в валенки, рукавицы, но я боялся развалить бабу и не шевелился. Потом ребята стали все прыгать и петь:
Миша Жаров - карапуз,
Мы тебе наклеем ус!
А я стоял гордый и счастливый, что ребятам очень весело оттого, что они из меня сделали снежную бабу да еще хотят наклеить ус.
Лешка изловчился и надел мне на голову большой ком снега, но ком давил мне на затылок и почему-то все время сползал. Тогда кто-то крикнул: "Надо надеть на него ведро". Все очень обрадовались и закричали: "Ура!". Но ведра надеть не успели, вышла соседка и все испортила. Она всплеснула руками и закричала: "Батюшки мои, да что же вы делаете с ним? Разбойники!".

|
|
Семья печатника. Здесь я снят со своей младшей сестрой Лидой
|
Ребята захохотали и убежали. Им было очень весело. Мне не очень. К тому же на память о снежной бабе я получил воспаление легких...
Но это, кажется, не самое смешное, что со мною случилось.
Было и посмешнее - цилиндр. Однажды, гуляя по двору один, я вдруг очень соскучился по маме и пошел к ней на работу, в мастерскую.
Я знал, что мне надо было идти из ворот "вон туда", а потом повернуть на бульвар, и опять "вон туда", а потом... А потом я увидел, что у большой парадной двери лежали два золотых льва, сел на спину одного из них верхом и стал играть в цирк. Лев был смирный, я лег к нему на спину и уснул.

Меня разбудили какие-то люди, которые показывали на меня городовому и говорили, что этот мальчик, наверное, заблудился.
Городовой спросил:
- Сколько тебе лет?
- Четыре-пять!
- А где твоя мать?
- Там!
- А как ты сюда пришел?
- Ногами!
- А где живешь?
- Там... Только я хочу есть, - сказал и заплакал.
Все замолчали. Они большие, а не знали, что я хочу баранку.
Тогда один господин в очень высокой шляпе сказал:
- Это Миша! Я его знаю. Пойдем!
Но все закричали:
- Не отдавайте, а спросите у Миши, знает ли он его.
- Миша, ты знаешь дядю? - спросил городовой.
Я сказал:
- Да, я знаю дядю! - дал ему руку, и мы пошли.
Дома мама, она была почему-то вся в слезах, схватила меня и долго целовала и шлепала:
- Горе мое, где же ты был? - И опять целовала и опять шлепала.
Но все очень радостно улыбались:

|
|
В 14 лет я уже получил рабочий паспорт: расчетную книжку, выданную конторой типографии Р. Бахмана
|
Господин в шляпе зашел к нам. Мама мне сказала, что это очень важный человек. Он - наш сосед. Хозяин книжного склада. Так как отец был печатником, он заговорил с моим провожатым о книгах. Его большая шляпа, похожая на голенище сапога, стояла на сундуке в кухне.
Я взял сапожную щетку и почистил ваксой шляпу господина. Мне очень хотелось сделать ему приятное.

|
|
Вместе с профессией печатника отец передал мне и свое
|
рабочее место. На снимке: отец у 'американки' Господин увидал, ахнул и сказал:
- Что же ты сделал с моим цилиндром?!
- Я его почистил ваксой, чтобы он блестел, - ответил я гордо.
Все ужасно хохотали и долго не могли успокоиться, а господин даже вытирал глаза платком и, похлопывая меня по щеке, говорил:
- Ох, уморил, ей-богу, уморил, да он у вас комик.
Мне очень понравилось, что он сказал про меня не "ком", а "комик", наверное, потому, что я был маленький. Я тоже стал хохотать. Но мама вечером, когда ложились спать, мне почему-то сказала, что я поставил ее в неловкое положение. А почему? Я не знаю. По-моему, было смешное положение.
Достаю с полки альбом немецкого художника Цилле, которого очень люблю как великолепного жанриста, подлинного поэта улицы, и перелистываю его рисунки, запечатлевшие жизнь городской детворы. Один из этих рисунков называется "На дворе". Там изображены бродячие музыканты: шарманщик и девочки-акробатки, а вокруг них стоят и сидят, прислонившись к стене, забравшись на крышу, бедняцкая детвора и их матери. Мужчин там не видно.
Я хорошо знаю эту картину. Она мне знакома до боли по тем первым детским впечатлениям, которые врезались в память на всю жизнь.
Глядя на картинки Цилле, я почему-то всегда вспоминал дом и двор, где жил, сначала в Б. Спасском, затем на Самотеке, во 2-м Волконском переулке, где прошли мои отрочество и юность. Я помню тот немой восторг, который вызывали в нас бродячие музыканты, ходившие по московским дворам. Репертуар шарманки был известен всем, разнообразие придавал лишь антураж. Чаще других к нам приходил шарманщик с попугаем. Они были ужасно похожи друг на друга, их было легко запомнить - оба худые, какие-то линялые, и оба все время моргали, как будто им хотелось спать. Пока шарманка играла разные напевы, попугай хмуро сидел, опустив голову. Но как только раздавался мотив "Маруся отравилась, в больницу ее повезли...", попка начинал быстро-быстро вытаскивать клювом билетики с предсказаниями, а потом опять грустно сникал.
Иногда вместо попугая у шарманщика была беленькая мышка, вытягивавшая бумажку - "судьбу", иногда его сопровождал музыкальный ансамбль, а то мальчик с девочкой - акробаты. Последние носили с собой маленький, истрепанный, весь в дырах коврик, расстилали его на земле и под вальс "На сопках Маньчжурии" или "Дунайские волны" начинали выполнять акробатические номера. Глядя на них, мы переживали минуты восторга.
И люди кидали в шапку шарманщика свои копейки, глубоко веря, что эта маленькая беленькая мышка держит их судьбу в своих зубах. А женщина с бубном хриплым усталым голосом пела:
Как с чайкой охотник, шутя и играя,
Он юное сердце навеки разбил...
Навеки погублена жизнь молодая,
Нет счастья, нет веры и нет больше сил!..
Но самым большим подарком для ребят был озорной Петрушка в красной рубахе и с отбитым носом. Этому носу очень доставалось - по нему били палкой, издававшей щелчок: "чик-чик". Я жалел Петрушку, он был моим первым и самым любимым актером. Когда во дворе появлялась ширма кукольника, я брал сестру Лиду за руку, и мы как зачарованные ходили за Петрушкой из двора во двор, смотря по десятку раз одно и то же представление.
Мой отец, Иван Николаевич Жаров, был типографом, печатал на "американке". Воспитанник "сиротского дома", он прошел тяжелую и суровую школу жизни. Будучи учеником в маленькой типографии, выполнял все: был нянькой хозяйских детей, в хозяйских опорках бегал по Москве, разнося заказы, получал затрещины от мастеров, если задерживался, покупая водку в "казенке". Он пережил все, вплоть до солдатской муштры. Сирота, не знавший материнской ласки, он полюбил мою мать нежно и, как говорил, с "уважением". Детей было много, но осталось в живых только четверо. На сочувственные замечания соседок: "Жить-то, мол, трудновато, ишь сколько наплодили", - неизменно весело отвечал: "Все наше, все с нами!".
Он был удивительно энергичным, с необузданной фантазией. Его всегда окружали друзья, и в доме было шумно. После работы он никогда не ложился отдыхать, а начинал что-то делать. Его интересовало все. Больше всего он любил малярничать. Он покупал простую табуретку, стол или стул и раскрашивал их масляной краской в разные цвета, отчего жизнь в подвале делалась радостнее.
"Посмотри, Анюта, как стало весело, а ты говоришь, зря пачкал!" - приговаривал он, когда мать ненароком
прикасалась к невысохшему табурету.
Однажды в воскресенье он, пробуя зеленую краску на густоту, махнул кистью по кирпичной высокой стене, отгораживавшей наш двор от полицейского участка, и вывел огромными буквами: "Ж-а-р-о-в". Эта надпись "Жаров"
сохранялась много лет - забор никто не трогал, не красил и не ремонтировал.
Уже будучи юношей, я, проходя мимо, всегда заглядывал в "наш двор" и видел эту поблекшую, но четкую, как строка в афише, надпись: "Жаров", зеленой краской по кирпичной стене. Закрыв глаза, я представлял себе, что вот так когда-нибудь будет выглядеть афиша с моей фамилией.
Отец мой любил работать и любил и умел хорошо отдыхать. Для него было большим наслаждением выехать вместе со своей семьей в Сокольники или на Воробьевы горы. Никакая, даже самая пылкая, фантазия не поможет вообразить, что там, где сегодня проходят великолепные дороги и мосты, высится громада Московского университета, раскинулся пионерский чудо-дворец, проходит станция метро, сравнительно не так давно все было покрыто лесом, садами и садиками, среди которых торчали дачки-малютки. Туда трудовая Москва приезжала с корзиночками и закусками отдохнуть и повеселиться.
После утомительной, но такой забавной прогулки в лесу или в парке, поглядев балаганы петрушечников, клоунов, всевозможные паноптикумы, где показывали бородатую женщину, живую голову в банке, женщину-вампира с туловищем медузы и щупальцами паука и прочие страхи, мы, возбужденные и довольные, садились за вожделенный самовар, который подавали за установленную плату тамошние жители.
Мы дружно пили чай с собственным сахаром или с "хозяйским", отец угощал нас колбасой, вынимал маленькую бутылочку водки, "сотку", и торжественно ее выпивал - в кругу семьи это ему разрешалось. Мы с восторгом пили чай и бросали бродячим собакам куски колбасы. Они жадно чавкали, а охмелевший отец подзадаривал: Дай-ка мне кусок
"собачьей радости". Хотелось скорее попасть домой, потому что вечером надо было все рассказать и показать ребятам, которые не ездили на Воробьевы горы или в Сокольники, потому что их отцы не доносили до дому получку. Мы это знали, - мы видели, как матери этих ребят бегали по вечерам к распивочным лавкам - "казенкам" - встречать таких плохих отцов.
В театр мои родители не ходили - было дорого. Но зато, по словам отца, они с матерью, будучи молодыми, охотно посещали на Антроповых прудах массовые зрелища, вроде тех, которые показывал "маг и чародей" М. В. Лентовский. Особенной же любовью родителей пользовался цирк, где неизменный восторг вызывали клоуны Бим-Бом и Владимир Дуров. Их шутки и остроты повторялись дома взрослыми и разжигали в нас, детях, интерес к таинственному манежу. И вот однажды нас взяли в цирк. Радости не было предела! Сколько нового вошло в мой мир! Придя домой, я весь вечер летал со стульев, изображая гимнастов, бедной сестренке разбил нос, пытаясь поднять ее и перевести "на сальто".
Но, к сожалению, даже и эти скромные воскресные развлечения были не по карману отцу, и в цирк нас водили очень редко. Как на недосягаемую мечту смотрел я на красочные афиши, развешанные по Москве:
Автор многих каламбуров,
Здесь стоит Владимир Дуров С дрессированным бычком По прозванью "Казачком".
Или:
Всемирно известный народный шут-сатирик Вл. Дуров
и его единственная в мире группа дрессированных лисиц.
Мирная пирушка, или подавление инстинкта.
Кабаре "Лисий хвост".
Конферансье "Чушка-финтифлюшка".
Московский цирк на Цветном бульваре тогда назывался "Цирк Саламонского". Вот в этом цирке Саламонского и играли
Бим-Бомы. Это были настоящие Бим-Бомы, создатели оригинальной музыкальной клоунады, очень интересного и любимого москвичами жанра, а не те, которые потом только назывались Бим-Бомы, а на самом деле были их подражателями. И на этих Бим-Бомов, и на дуровскую железную дорогу с дрессированными мышами я впоследствии зачастил с моим товарищем. Мы всяческими средствами пытались попасть в цирк.
В определенные дни мы шли к круглому зданию на Цветном бульваре и жалобно просили у проходящих:
- Дяденька, проведи-и!
- Как?
- Скажи, "мой сын"!
- А пустят?
- Пустят!
- Ну,пойдем!
Иногда это удавалось.
Цирк очень много значил в моей жизни. Я до сих пор люблю цирк. Он манит своей необычной непосредственностью. Меня пленяет сумбур клоунады, острот, не испорченных безвкусицей и в то же время наивных до предела.
В цирке у вас не возникает ощущения неправдоподобности, даже в том случае, если клоун, падая, снимает свою шляпу, а когда встает, то вместо шляпы оказывается букет цветов. В чем же здесь дело? Меня и тогда, и теперь покоряет безграничная вера циркового актера в то, что он делает на манеже, вера его в условность жанра и безусловность жизненной правды.
Мне рассказывал С. М. Эйзенштейн про одного французского клоуна, популярнейшего и любимого в Париже. Он ничего не делал, а зрители покатывались со смеху.
- Я пошел, чтобы понять трюк, в который мало верил, -говорил Сергей Михайлович, - а увидел чудо! Сдерживаясь и злясь на себя, я хохотал до колик.
- Что же он делал? - спросил я.
- Не могу рассказать, - буквально ничего. Но его строгое лицо, то, как он сосредоточенно смотрел на любой пустяк, - на носок туфли, на летящую муху или на сидящего в амфитеатре зрителя, - выражали такую мировую скорбь, не соответствующую объекту, который он разглядывал, что зрители волей-неволей начинали хохотать.
Но вот однажды на Самотеке, у Екатерининского парка, на крыше двухэтажного дома (он и сейчас цел), я увидел потрясающее зрелище. Там была возведена огромная конструкция, в центре которой красовался рог изобилия, а из него сыпалось несметное количество всяких драгоценностей -бриллиантов, сверкающих камней. Трюк живописца был точно рассчитан: украшения рассыпались по вывеске влево и
вправо, все блестело и слепило под лучами солнца, создавая феерическую картину. Тысячи маленьких и больших "зайчиков" от этой вывески бегали по улице и по площади, привлекая прохожих. Эта картина, как мираж, запала в мою душу навсегда. Слева от рога изобилия простиралась желтая пустыня, бедуины на лошадях гнались за какой-то женщиной, которая прижимала к груди ребенка. Вдалеке, на горизонте, шел поезд с дымящей трубой, высились пирамиды, замерли сфинксы и караваны верблюдов раскачивали горбами. Справа ослепительно сверкало солнечное сияние, громоздились айсберги, на льдинах сидели белые медведи, тюлени, шли эскимосы.
И над всем этим удивительным зрелищем сияла таинственная надпись: "Синематограф Эдисон, или Чудо XX века".
Создателем этой уникальной вывески был художник-живописец Стенберг, отец известных советских художников.
Ошеломленный, обалделый от этой фантастической красоты, как от удара, я стоял у рекламы грядущего большого искусства.
Все пошло насмарку: шарманка и клоуны, Петрушка и мышиная дорога. Я стал ходить только в синематограф.
Примостившись на краю длинной скамейки первого ряда, чтобы нам никто не заслонял экран, мы с сестрой просиживали по пять - шесть часов кряду, просматривая одну и ту же программу. Сеансы тогда шли подряд, без конца. Зрители входили, когда угодно, и уходили, когда надоест. Нам же никогда не надоедало. Мы приходили домой только к вечернему чаю, пожертвовав обедом.
До чего же все было интересно! После видовых картин перед нами возникали причудливые феерии, балеты-серпантины, в которых цветы танцевали с гномами. Было несказанно интересно, и мы смотрели, открыв рты, боясь дышать.
Позднее в синематографе "Эдисон" стали показывать "большие" картины-боевики. Помню "Камо грядеши"
Сенкевича, "Яму" Куприна. Толстенный роман проскакивал на экране за полчаса. Я смотрел все досконально, мне нужно было точно запомнить, что там делают артисты.
Но самым интересным, самым заманчивым для меня было появление на экране тогдашнего моего любимца Глупышкина, причинявшего массу неприятностей городовым, торговцам и важным господам.
А мальчик Бобби - веселый проказник, такой милый и тихий на вид, подсыпающий в суп своим родителям и гостям слабительный порошок, разве он мог не вызвать наш бурный восторг, разве мы могли не хохотать над тем, как у дверей уборной собиралась очередь.
И вот вечером, напялив отцовский картуз и большие, не по ноге галоши, я изображал перед матерью и сестрами похождения Глупышкина, Дурашкина, Бобби, проделывая все виденные на экране трюки, не жалея для "искусства" ни себя, ни своего импровизированного костюма.
Это называлось у нас с Лидой "сводить маму в Эдисон".
Кроме цирка и синематографа, должен сказать, что в детстве для меня большую роль играла книга. Отец работал в типографии Р. В. Бахмана. У моего отца был закадычный друг Иван Карасев, которого за высокий рост и особенно за длинный нос отец звал Слоном. Он был моим крестным и работал печатником в литографии И. Кнебеля, отца крупнейшего советского режиссера и педагога М. Кнебель.
Вот этот Ваня-Слон и был моим
"просветителем". Кнебель давал рабочим для их детей книжный брак. Каждое воскресенье мне торжественно вручалась тоненькая книжка. Одну из них я даже помню наизусть и сейчас. Называлась она "Бабушка Забавушка и собачка Бум".
У бабушки Забавушки собачка Бум жила.
Однажды Буму бабушка пирожных испекла.
- На, Бум, бери тарелочку,
Пойдем с тобой в буфет...
Глядят, а мышки съели все,
Пирожных больше нет.
Лишь впоследствии я узнал, что стихотворение принадлежит детской писательнице Раисе Кудашевой, автору известной песенки "В лесу родилась елочка".
Наверное, с тех самых пор я пристрастился к городскому фольклору, к частушкам, припевкам, куплетам, прибауткам, которые сами по себе, может быть, мало что значат, но в сочетании с бытом и нравами людей очень точно передают колорит места и времени. Вспомните хотя бы "Цыпленок жареный...". Это же целая эпоха! Сколько жизненных ситуаций связано с этой песней, рожденной, вероятно, каким-нибудь анархистом времен гражданской войны!
Книжка про собачку Бум долгое время была со мной повсюду. Она "была вся разорвана, но я ее подклеивал и подклеивал. Она была мне очень дорога. Особенно за рисунки, изображавшие эту самую собачку Бум.
В конце концов я решил сыграть собачку Бум.
Это была моя первая роль. На дворе, между одним сараем и другим, был закуток, где росли лопухи и репей и куда редко кто заглядывал. Здесь было тихо и очень уютно. Мы очистили этот угол от мусора. Принесли стулья, позвали из дому матерей, сестер (дело было днем, и отцы находились на работе). Составили стулья и стали играть "Собачку Бум" в лицах. Маленькая, очень картавенькая Бабушка Забавушка (ее играла моя сестра Лида) и большой, толстый шепелявый Бум (его играл я) были, наверное, очень смешны, и нам дружно аплодировали. Это был первый спектакль, в котором я участвовал как актер, автор сценария и режиссер. Вероятно, тогда же я получил первые самые искренние аплодисменты...
Смутно, но помню революцию 1905 года. Мы с матерью дома одни. Отец ушел на японскую. Чтобы как-то свести концы с концами, мать сдавала "углы". Как-то я увидел у двоюродного брата револьвер. Потом помню оркестровую раковину в Екатерининском парке, которая на моих глазах рухнула под напором сотен рук и превратилась в баррикаду на углу нашего 2-го Волконского переулка.
А однажды мы дома остались совсем одни. Мать ушла на какой-то митинг в сад "Аквариум" и долго не возвращалась. На улице стреляли. Она пришла утром, бледная, взволнованная и наказала нам, детям: "Никому не говорите, куда я ходила, а то скажут, что я революционерка". И долго и подробно рассказывала, как их митинг разогнали и как она: с другими женщинами, перебравшись через забор, ночевала в классах какого-то училища.
Я рос длинным, худым, долговязым. Лет давали мне всегда больше, чем было на самом деле.
Когда отец пришел с японской войны, моим детским увлечениям настал конец. Как-то вечером отец, вернувшись из типографии, сказал: "Ну, Михаил Иванович, побаловался и хватит! Пора, брат, учиться, станешь ученым, - будешь отцу помогать".
И вот я - в городском училище.
Акула
Он появился на нашем дворе совершенно неожиданно.
Хозяин дома приклеил на воротах розовый листик объявления, что во дворе, во флигиле, сдается квартира.
Воз, доверху набитый вещами, зацепился за перекладину ворот; сломалась ножка венского стула, она крякнула и, скатившись, упала прямо в лужу.
Я стоял у калитки, когда воз проехал, поднял ножку и стал размахивать ею, как саблей.
Он налетел на меня неожиданно сзади - ударил по башке кулаком, заорал: "Отдай, дурак! Она не твоя" - и вырвал ножку.
Дружить с ним мы не могли. Вообще он был противный, а когда улыбался, то широко открывал рот и был похож на карася. Но мы прозвали его Акулой: "карась" не передал бы нашего к нему отношения. Глаза у него были маленькие, как пуговицы, и всегда злые.
Очень было обидно, что его звали тоже Михаилом. Когда он появился в нашем третьем классе, я сразу почувствовал, что мне будет очень плохо, что это мой враг.
Все детство меня кто-нибудь преследовал. Всегда появлялся какой-то мальчишка хитрее меня и не давал мне проходу.
Учитель вызвал его:
- Вишневский?
- Да!
- Как зовут?
- Мишель! - ответил он, как будто был царем.
Засмеялись все. А он посмотрел зло только на одного меня и прошипел:
- Чего смеешься, дурак!
Было очень обидно, что он считает меня дураком!
Перед нашим училищем был Екатерининский парк, по которому тогда протекала речка Синичка. Во время большой перемены мы бегали туда играть, а если не было сторожа, то прыгали через Синичку. Она была узкая, мутная и мыльная. Бани, которых на Самотеке было целых три, спускали в нее воду. Я прыгал ловко и не раздумывая. Разбег - раз, и я на том берегу!
Когда, увязавшись за нами, пришел Вишневский к речке, я почувствовал, что меня тошнит от его вида. В штанах со складочкой, - ребята говорили что он на них спит, - с блестящей бляхой на поясе он, ядовито улыбаясь, стоял на берегу, грызя здоровое яблоко, такое же красное, как он сам.
- А ты не можешь прыгать, как Жаров, - подначивали его ребята.
- Хы! Как этот длинный дурак?!
- Миша! Покажи Мишелю "кузьку".
- Хорошо, я покажу "кузьку" этому яблочному обжоре! -Готовиться к прыжку я не стал, решил "взять" с места, рывком. Но в это время мы услыхали из окон училища звонок, я заторопился, как-то неловко разбежался, прыгнул, нога сорвалась, и я влетел, как миленький, под размытый берег Синички.
Больше всех хохотал Мишель. Он прыгал по траве, кувыркался, держался за живот, и все это нарочно, будто ничего смешнее он в жизни не видел.
- Ну, и дурак, вот это действительно дурак! - орал он при этом.
...Для урока русского языка я и мой друг Володя выучили заданное нам стихотворение Александра Сергеевича Пушкина:
Буря мглою небо кроет.
Вихри снежные крутя...
Но на уроке Зинаида Андреевна, наша учительница, вызвала Володю. Он прочитал медленно, ровным голосом, с выражением и, получив "хорошо", сел.
А когда Зинаида Андреевна спросила: "Мальчики, кто
скажет, чье это стихотворение?", я и Вишневский подняли руки одновременно. Я посмотрел на него испепеляющим взглядом, потому что это был мой урок, а не его. Стихи Пушкина, выходило, я выучил зря, и мне хотелось хоть сказать, кто их написал.
- Позвольте мне ответить, - попросил я.
- Ну, говори.
Я встал и торжественно сказал:
- Лермонтов!
Все зашикали, а Вишневский, скосив к носу глаза, громко сказал:
- Я всегда говорил, что он дурак!
Ну почему я сказал "Лермонтов"? И почему мне не везло при Вишневском? Объясните!
* * *
Зимой я учился, а летом работал, помогал отцу кормить большую семью.
Одно лето я работал упаковщиком за двадцать копеек в день на фабрике искусственного чая Куралина. Наши дома были рядом. До сих пор перед моими глазами стоит фигура застегнутого в сюртук длинного и гнусавого барина в тугом высоком крахмальном воротничке, с булавкой в галстуке. Барин, крутя в левой руке толстую золотую цепочку с ключами, подходил мягкими, неслышными шагами к оробевшему парнишке и, тыча в загривок перстнем, приговаривал: "А почему наши пальчики медленно работают, почему?", делая столько тырчков, сколько было слов в этой длинной фразе.
Куралин был ханжой и любил выступать в роли благодетеля. Каждую субботу его приказчик выносил мешочек медяков и выдавал по три копейки нищим, выстраивавшимся длинной очередью у решетчатых ворот фабрики, чтобы они молились "о здравии раба божьего имярек". Так, за медные полушки, Куралин получал отпущение грехов своих.
Когда я стал актером, мне очень хотелось изобразить этого хозяина, вся фабрика которого держалась исключительно на труде мальчишек. В темных и грязных цехах фабрики они по десять часов кряду гнули спины, наживая хозяину капитал, а себе чахотку. Дешевую бурду Куралина, именуемую "цветочным чаем", пила вся бедняцкая Россия. Образ Храпова из "Вассы Железновой", которого я играл в Малом театре, был в какой-то степени навеян воспоминаниями о Куралине.
На другое лето я, десятилетний мальчуган, уже работал на Большой Дмитровке, в книжном магазине Анзимирова, издателя популярной газеты "Копейка". Там, сидя верхом на лестнице, обтирая пыль с больших и маленьких томиков, я часто зачитывался, позабыв, что меня ждут заказные бандероли с книгами, которые я должен отправлять во все концы России.
Прочитанные книги и образы, которые я познавал через них, становились в моем воображении чем-то вполне реальным. И я рассказывал, а вернее - показывал прочитанное моим неизменным зрителям - маме и сестрам (к тому времени у меня появились еще две сестры - Шура и Нина).
Книги будоражили мою фантазию в те годы даже больше, чем сама жизнь, казавшаяся мне, мальчишке, слишком обыденной и скучной, хотя по улице и ходили пестро одетые люди, которых называли "футуристами". Книги приводили в движение накопленную энергию. Мне хотелось жить и действовать так, как действовали герои в потрясших меня эпизодах.
Собрав ребят, я устраивал во дворе театр в той самой щели между сараями, где однажды сыграл собачку Бум.
Там мы, ребята, возбужденные и увлеченные, играли, а наши бесконечно благодарные зрители - мамы и сестры -смотрели и тут же громко, вслух обсуждали нашу игру. Контакт со зрителями был идеальный: мы были для них самыми любимыми артистами на свете.
Большим успехом пользовались наши спектакли "Женитьба" и "Шемякин суд", особенно то место, где бедняк, доведенный приговором до отчаяния, "войдя в роль", вместо двери пошел в окно (все рисовалось на бумаге углем, и перепутать было нетрудно). Публика кричала от восторга: "Вот до чего бояре бедного Мишу довели, аж в окно полез!". Миша - это был я.
Несмотря на овации зрителей, сидевших и "в партере" на табуретках, принесенных из дому, и на "галерке", то есть на заборе, меня этот шумный успех уже не радовал. Мне хотелось настоящего театра. Мне хотелось, чтобы я не просто "играл", а чтобы мне сначала много-много говорили о том, что я должен играть, чтобы были настоящие декорации, взаправдашние костюмы. С настоящим театром я познакомился позже, когда, проучившись один год в одиннадцатой классической гимназии (больше у отца не хватило пороху), я перешел в высшее городское училище на Миусской площади, которое отца больше устраивало.
За год учебы в городском училище я познакомился с Жоржем и Володей Стенберг, сыновьями известного художника, или, как его тогда называли, "живописца вывесок", Августа Стенберга, того самого, кому принадлежала знаменитая реклама "Синематографа Эдисон". Они жили в конце нашего переулка, на углу Божедомки, в двухэтажном домике, на котором красовалась витиеватая вывеска-ребус (чего-чего там только не было!): "Принимаю заказы на вывески. Живописец Стенберг".
Отец Жоржа и Володи Стенберг, моих друзей, и дед нынешнего Стенберга - молодого отпрыска этой замечательной династии театральных художников, который сейчас с успехом работает в Малом театре, - был фигурой необычайно колоритной, более того, я сказал бы, романтической. Он был похож на тех людей богемы, с которыми я познакомился позже. Худой, с длинной бородкой и длинными усами, всегда веселый, он ходил в бархатной куртке, брюках-гольфах, на нем были узконосые ботинки и распашонка - неряшливая блуза с широким бантом, на затылке торчала широкополая шляпа. Мы смеялись над его чудачествами и звали не иначе как Дон Кихотом.
Из времени обучения в гимназии вспоминаются бал в женской гимназии Калейдовича и мое первое приглашение к танцам.
"Золотое сердечко Венеры"
Рядом с нашей гимназией была женская гимназия-пансион, куда нас изредка приглашали на школьный бал.
Мне очень нравилась одна девочка, и хотя весь класс был в нее тоже влюблен, мне она нравилась особенно.
И действительно, она была прекрасна. У нее была сестра, совершенно не похожая на нее, как будто бог, когда готовил материал для них, с кем-то заговорился, и все самое красивое отдал Розе, а ее сестре достались лишь остатки. Конечно, сестре было очень обидно, мы это понимали и сочувствовали ей, но любили все Розу.
В то время мы проходили астрономию, и, конечно, за красоту Роза была прозвана Венерой.
Я очень любил звездное небо. Да и сейчас могу без устали смотреть вверх и, когда нахожу Венеру, всегда вспоминаю Розу.
Однажды вечером мы с отцом проходили мимо пансиона, где жила она. Сжав свое маленькое сердце, я смотрел на небо, не отрывая глаз от Венеры, пока не налетел на тумбу.
- Ты что, заснул? - спросил меня отец.
- Папа, скажи, пожалуйста, тебе нравится... Венера?
Мое лицо полыхало, голос дрожал, я, сделав над собой усилие, произнес: "Венера". "Он, наверное, догадался про кого я говорю, и мне попадет, что я занимаюсь глупостями", -быстро промелькнуло в голове. Но отец безразлично ткнул в небо пальцем и спросил:
- Это какая, та или рядом?
- Папа! Ну как ты не можешь отличить, конечно, эта, самая блестящая и самая красивая!
- А!.. Ничего. Звезда, как звезда. Все одинаковые. Не задирай нос, а то опять шлепнешься.
"Одинаковые? А почему же у меня так стучит сердце! Нет! Ты не знаешь, что такое лю... И это хорошо, это моя первая от тебя тайна". Я был, как видите, отчаянным и "любил играть с огнем".
По четвергам в нашем Екатерининском парке играла военная музыка. Гуляющих всегда было много, на скамейках сидели взрослые, а молодежь и мы, ребята, гуляли по дорожке вокруг площади с оркестром. Люди крутились, как два колеса, одно в одну сторону, а другое, внутреннее, - навстречу. Все, встречаясь, разглядывали друг друга, шутили, бросали записочки, влюблялись. Было очень весело.
Я с Володей тоже гулял по дорожке, но крутиться нам было скучно, и мы вместе с другими ребятами перебегали из одного круга в другой.
И вдруг я увидел Венеру. В малиновом платье, с таким же бантом в косе, без берета, зажав в руке белый кружевной платочек, она вместе с сестрой что-то искала в траве.
Я остановился, как вкопанный, и, покраснев, как рак, ткнул локтем Володю.
- Венера! - прошептал я.
- Где?
- Вон, что-то ищет! Пойдем, поможем!
- Нет, я не пойду, навязываться! Иди сам! - И Володька вдруг подтолкнул меня сильно в спину.
Отступать было поздно, меня уже увидела сестра Розы.
- Здравствуйте, пожалуйста, помогите нам, Роза потеряла мамин брелок. Очень неприятно! Вот здесь! Уже темно, и ничего не видно.
Я опустился на колени и стал старательно ползать, разбирая руками скошенную траву.
Но от запаха свежего сена, от ножек Венеры в маленьких туфельках, семенивших около меня, от вальса "Дунайские волны", который старательно выдувала большая начищенная труба: "Тру-та-та! Тру-та-та! Тру-та-та!", стараясь заглушить маленькую, которая не сдавалась и визгливо пищала: "Ти-ти-ти! Ти-ти-ти! Ти-ти-ти-и!", - от всего этого мое сердце усиленно забилось, а глаза ничего, кроме блестящих туфелек, не видели.
Я ползал взад и вперед по траве в своих новых серых штанах, пока не порезал руку о что-то острое.
Вскрикнув "ой", я сунул палец в рот и в это время увидел в траве "золотое сердечко" - брелок на оборванной цепочке.
Это и было то самое "сердечко" Венеры, которое она потеряла, а я, поранив себя, его нашел.
- Вот, - смущенно сказал я, - возьмите!
- Нашли! Спасибо! Огромное вам спасибо! Вы вернули мне мое дорогое "сердечко"! - И она стала так мило и так трогательно прыгать, будто живая кукла в окне магазина "Эйнем", что мне захотелось сладенького. Опа, вертясь, подбежала ко мне:
- Почему же вы сидите на траве? Встаньте, я хочу вас поцеловать. Вы разрешите?
Нет, вставать в эту минуту я не хотел, я готов был провалиться сквозь землю - на дорожке, расставив ноги и нахально засунув руки в карманы, стоял мой враг Акула.
Он сделал косые глаза, широко улыбаясь, стал нарочно шипеть и крякать:
- Этот кавалер ради вас зазеленил свои праздничные штаны, ему дома за это от матери влетит. Она его лупит веревкой. Тоже ползает, старается! Венера, Венера! Дурак ты набитый.
Вы помните, как резко щелкает счетчик, когда шофер такси выключает его? Точно так же что-то щелкнуло и во мне.
Я не перебивал его, а молча пил чашу обиды до дна. Потом встал, сжал кулаки, наклонив голову, медленно двинулся к нему. Наши глаза встретились. Ударить его мне не удалось. Акула вдруг весь съежился, засопел, попятился назад и быстро, как вьюн, нырнул в толпу гуляющих, но неудачно. Я увидел, как какой-то студент, сказав: "Куда несешься, дурак", - дал ему затрещину.
Мальчишество кончилось, я становился юношей.
* * *
К этому же периоду относятся и мои первые посещения настоящего, "серьезного" театра.
Популярный в то время в Москве театр Корша устраивал воскресные утренники для учащихся. Умелый антрепренер сделал простой рекламный трюк, который принес ему славу "просветителя". Утренники посещались плохо, и он стал выдавать по заявкам несколько бесплатных контрамарок городскому училищу для бедных детей. Я взялся за роль организатора этих походов и приносил в класс по шесть -восемь билетов на воскресенье. Претендентов на пропуска было явно больше, и мы устраивали жеребьевку. Мне не везло - не вытаскивалась счастливая записка с коротким словом: "Билет". Когда это повторилось трижды и я, готовый взреветь от обиды, молчал, ребята сами догадались, что получается несправедливо. Кто-то из них сказал: "Что же это, Миша достает билеты, а сам в театр не попадает. Дадим ему вне конкурса".
Я готов был обнять того, кто это сказал. Первый поход в серьезный, "взрослый" театр стал для меня, таким образом, событием вдвойне.
У Корша я видел "Недоросля" Фонвизина. Наибольшее впечатление на меня произвели всамделишные декорации и игра актера, исполнявшего роль Цифиркина. Мне почему-то захотелось сыграть именно эту роль. Затем я видел "Ревизора" с известными в то время артистами А. И. Чариным, Б. С. Борисовым и В. А. Кригером. За "Ревизором" последовали шекспировская "Двенадцатая ночь" и мелодрама Деннери и Кормона "Две сиротки".
Театр стал все больше входить в мою жизнь.
Хуже было то, что в жизни оставалось все меньше места для театра. Тут благотворительность Корша уже не помогала, скорее напротив, - она мешала понять, что такое жизнь. Чем взрослей становился я, тем труднее было урвать время и деньги для театра. А ребенком мне казалось, что должно быть наоборот.
Дела отца хотя и поправились, после того как он стал агентом по типографским заказам, но не настолько, чтобы платить за мое обучение в гимназии. Когда я окончил высшее городское училище, отец устроил меня учеником наборщика в типолитографню Бахмана.
"Пятьдесят копеек в день на харчах отца" - вот условия, записанные в моей расчетной книжке, утвержденной "Московским столичным по фабричным делам присутствием".
На всю жизнь запомнил я специфический запах типографии: смесь краски, свинца и свежей бумаги. Обедать мы ходили в Сергиевский народный дом, где отец заказывал для себя и для меня "щи с малым мясом", а иногда, после получки, "щи с мясом большим".
Как ни трудна была жизнь, но все свободное время я посвящал самообразованию. Ходил на воскресные лекции в епархиальный дом в Лиховом переулке, затем стал слушателем народного университета Шанявского.
Меня интересовало буквально все. Мне хотелось все знать, все видеть. Если бы меня спросили в тот период, кем я хочу стать, я не мог бы остановиться ни на одной из известных мне профессий. И тем не менее когда на одном студенческом вечере мы разыграли в лицах популярную песенку:
Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать,
Как девицы шли гулять, шли гулять! Да!..
Шли они лесочком, да все лесочком, да все лесочком,
И повстречались со стрелочном, да со стрелочком молодым...
и мне поручили роль этого самого "стрелочка", - сердце мое опять забилось в тоске.
В театре Зимина
Все началось с моего случайного участия в массовке оперы Кюи "Капитанская дочка" по Пушкину. Тут я и получил тот третий удар (после Петрушки и "Эдисона"), который решил мою дальнейшую судьбу.
 Ф. И. Шаляпин. На концерте в Большом театре вышел могучий красивый человек и запел: 'Эх, дубинушка, ухнем!' Шарж И.
Малютина
Ф. И. Шаляпин. На концерте в Большом театре вышел могучий красивый человек и запел: 'Эх, дубинушка, ухнем!' Шарж И.
Малютина
Для эпизода, когда пугачевцы нападают на крепость, требовалось много статистов.
Декорация на сцене изображала крепость. На заднем плане -частокол. В крепости - солдаты, а из-за частокола нападают пугачевцы.

|
|
Ф. И. Шаляпин. В фильме по опере 'Псковитянка', где Ф. И. Шаляпин играл роль Ивана Грозного, довелось сниматься и мне
|
Всех, кто впервые попадал статистом в оперу Кюи, сначала обязательно одевали в калмыков или башкир - участников пугачевского бунта. Почему? Об этом я узнал немного позже. Старожилы, главным образом студенты, были в театре своими людьми. Они надевали чистенькие мундирчики, играя екатерининских солдат, напяливали белые перчатки, и были таковы. А новичкам поручали "ответственную" роль, с которой, как нам говорили, "не всякий справится".
Ну, ответственная, так ответственная, пожалуйста!
И вот надели на меня какой-то халат, нахлобучили на лоб какую-то шапку из волчьего меха и спустили на этаж вниз, в гримерную. Там прилепили ватные скулы, приклеили подбородок, на подбородок - жиденькую бороденочку, потом усы, потом подтянули кверху глаза - сделали косыми, и намазали "загарным" кремом. И я в общем стал похож на инородца. Спустили еще на этаж, вручили плетку и саблю и повели пред грозные очи властелина оперы - помощника режиссера Н. И. Кудрина.
Он поставил перед нами задачу:
- Вы все сидите за этим вот заборчиком. Потом заиграет музыка. Здесь опера, и все делается под музыку. Я вам махну, а вы вылезайте из-за частокола, - дальше увидите что к чему.
Начался акт.

|
|
Ф. И. Шаляпин. Партию Тонио в исполнении Ф. И. Шаляпина в опере 'Паяцы' я слушал на премьере в 'Эрмитаже'
|
Я волнуюсь: смотрю, не отрываясь, на помрежа. "Ага, махнул! Надо лезть!" И я полез. Но едва я успел высунуть голову из-за частокола, как меня кто-то треснул со стороны сцены палкой по башке - хлоп!.. Я свалился... Помреж верно сказал, что дальше думать не надо. Я свалился без сознания, и меня на руках унесли за кулисы.
Вот этот третий удар и решил мою судьбу окончательно: "Да, я буду артистом!".
Опера Зимина, очевидно, сыграла для меня главную, решающую роль в выборе и определении профессии. Я попал туда, где все было пропитано искусством. Там был большой, творчески интересный коллектив актеров, художников, музыкантов, настоящая сцена, настоящий зал, с настоящей "важной" публикой; одним словом, я попал в настоящий театр! Мечта моя сбылась!
Я должен был даром участвовать в массовых сценах, а за это пользовался правом на контрамарку, мог вращаться за кулисами, а самое главное - присутствовать на репетициях и видеть все, что делается на сцене, к которой так стремился.

|
|
Это два рисунка Шаляпина: на одном он изобразил себя в роли Еремки, на другом в роли Бориса Годунова
|
Артистический вход в театр Зимина я вспоминаю, как что-то необычайно романтическое. Свернув с Большой Дмитровки в Кузнецкий переулок, вы оказывались перед домом, на фасаде которого разместилась большая вывеска. Обратите внимание, я говорю уже о второй вывеске, которая "врезалась мне в память". И та, и другая были подлинными произведениями искусства. Эта была сделана по эскизу И. Я. Билибина. На ней были нарисованы театральные костюмы и написано: "Костюмерная С. И. Зимина". Богатая костюмерная театра давала костюмы напрокат, что приносило определенный доход хозяину, покрывая частично убытки по театру.

|
|
Это два рисунка Шаляпина: на одном он изобразил себя в роли Еремки, на другом в роли Бориса Годунова
|
Вы входили во двор, заставленный декорациями интереснейших художников: Афанасия Маторина, доверенного Зимина или даже его родственника, Ивана Малютина, талантливого самородка, Федора Федоровского, в будущем главного художника Большого театра, Ивана Федотова, необычайно интересного мастера, с которым впоследствии я близко подружился, Ивана Билибина и других.
Запах свернутых холстов, которые лежали под навесом во дворе, причудливые дощатые станки и необычные детали
интерьера сразу вводили вас в атмосферу сцены. Мною овладевало двойственное чувство. С одной стороны, я благоговел перед сказочным царством театральной
машинерии, в моем воображении возникали картины одна фантастичнее другой, я чувствовал себя "Алисой в стране чудес". Но с другой стороны, особенно в пасмурный день, беспорядочное нагромождение театральных декораций, их грубо-аляповатая фактура без света рампы разрушали театральную иллюзию и вызывали оскорбительную жалость и желание скорее проскочить через двор.
 Я смотрел знаменитый спектакль 'Потоп' не менее двенадцати раз, потому что в нем играли роль Фрезера поочередно два выдающихся актера: Михаил Чехов и Евгений Вахтангов
Я смотрел знаменитый спектакль 'Потоп' не менее двенадцати раз, потому что в нем играли роль Фрезера поочередно два выдающихся актера: Михаил Чехов и Евгений Вахтангов
Я быстро входил в дверь, над которой висела маленькая "дежурная" лампочка, открывал одну дверь, другую, проходил один тамбур, другой чуть побольше, снова нажимал на дверь... Вся эта сложная система дверей, которая у непосвященного могла вызвать удивление, была нужна для того, чтобы разгоряченный артист не попадал зимой сразу на холод и не простужался. (Неплохо было бы и сейчас предусмотреть это при строительстве новых театров.)
Наконец вы попадали в маленькую прихожую - раздевалку, где сидели двое: швейцар и дядя Герасим - наш театральный курьер. Одноглазый дядя Герасим всегда сидел у широкого окна с книгой, в которой приходившие на спектакль артисты должны были расписаться. Швейцар же помогал раздеваться господам артистам.
Длина прихожей была всего шесть - восемь шагов, и незаметно проскочить через нее за кулисы под перекрестными взглядами дяди Герасима и швейцара было просто невозможно.

|
|
Опера Зимина. Ф. И. Шаляпин мастерски рисовал шаржи. Вот один из них. Здесь изображен С. И. Зимин в 1916 году
|
Но главной достопримечательностью этой прихожей была маленькая, узкая и очень низкая дверь, через которую входили на сцену все актеры. Через эту дверь входил Шаляпин, через нее входили Собинов, Баттистини, через нее входил Смирнов, через нее входили известные певицы-гастролерши Кузнецова-Бенуа, знаменитое колоратурное сопрано Люцци, моя любимица Н. Кошиц. (С. И. Зимин щедро угощал публику, приглашая знаменитостей, борясь за качество спектаклей с конкурировавшей с ним императорской сценой.)
Эта дверь была поистине исторической. Я лично благоговел перед ней. Мне страшно нравилось, что, проходя на сцену через эту маленькую, как в боярских хоромах, низкую дверь, актеры сгибались, будто кланялись подмосткам, будто преклонялись перед сценой, на которой им предстояло работать.

|
|
Опера Зимина. С. И. Зимин в поисках новых теноров. Шарж
художника Мака
|
Пройдя эту дверь, вы немедленно поворачивали налево и попадали на маленькую площадку перед лестницей, которая всегда была загромождена бутафорией. Здесь лежали копья, сабли, каски - все, что надевали на себя хористы, артисты мимического ансамбля и статисты перед выходом на массовку. Бутафория для статистов была сделана грубее, чем реквизит, которым пользовались профессиональные артисты, игравшие " роли ".
И вот мы начинали подниматься по лестнице на четвертый этаж. Проходили мимо уборных хористов на первых двух этажах, затем попадали на третий этаж, тут одевались артисты балета, и, наконец, оказывались на четвертом, в большом полутемном зале, вдоль пустых стен которого находились стеллажи, где, как предполагалось, должны были гримироваться статисты. Но там никто не гримировался, стеллажи были отполированы до блеска, на них статисты просиживали свои штаны до дыр, ведя высокие разговоры об искусстве.
 Опера Зимина. Мне была поручена вся реклама гастролей Ф. И. Шаляпина у Зимина, и я видел его на всех репетициях и слушал во всех партиях. Сцена из забытой теперь оперы А. Канкаровича 'Сын земли' в постановке Ф. Ф. Комиссаржевского
Опера Зимина. Мне была поручена вся реклама гастролей Ф. И. Шаляпина у Зимина, и я видел его на всех репетициях и слушал во всех партиях. Сцена из забытой теперь оперы А. Канкаровича 'Сын земли' в постановке Ф. Ф. Комиссаржевского
Там всегда было невероятно тесно, набивалось в этот зал по сто и более человек. Тот, кто не мог войти, стоял на лестнице. Когда подавалась команда: "Статисты, на выход!", наша ватага устремлялась вниз. В двух комнатах рядом находились "избранные" - старосты-десятники и статисты "премьеры", к которым так же трудно было попасть, как и в уборные солистов. Эти комнаты удивительно были похожи на "матрешек" - одна меньше другой, и чем меньше была комната, тем важнее персона из статистов пребывала там.

|
|
Артист оперы С. И. Зимина - В. Л. Книппер был прекрасным
драматическим артистом
|
Какая наступала тишина, когда вдруг открывалась заветная дверь и выходил оттуда в роскошном костюме, усеянном блестками и стекляшками, король, которому предстояло под занавес появиться на сцене верхом. Попасть к этим "высшим статистам" было пределом мечтаний. Для этого нужно было проявить незаурядный талант, какой был у нашего старосты Гелинера - белобрысого, долговязого, весьма неприятно улыбавшегося человека с белесыми ресницами и бровями альбиноса. Он и другие ему под стать могли легко превращаться в королей и королевских слуг и мастерски падали ниц перед каким-нибудь коронованным Сигизмундом в блестящем исполнении статиста Курникова.
Большой зал, где статистам приклеивали бороды, был моим излюбленным местом. Здесь собирались любители театра, особые ребята, с особым кругом интересов.

|
|
Артист оперы С. И. Зимина - П. Цесевич был прекрасным
драматическим артистом
|
То ли потому, что мы находились в атмосфере искусства, то ли потому, что нам ни гроша не платили за наш труд, - все было построено на бескорыстном увлечении театром. В наших бесконечных разговорах и шумных спорах там, на "верхатуре", не было чего-либо неприличного, скабрезного, никакого смакования закулисных сплетен. Мы их знали, но говорить об этом нам казалось оскорбительным. Мы горячо спорили об артистах, о голосах, кто лучше и кто хуже поет и играет; кто лучше или хуже из режиссеров ставит спектакль, какая опера больше нравится и почему; кому следует аплодировать до боли в ладошах, а кого встретить демонстративным молчанием. Здесь собирались настоящие, неподкупные судьи и критики, здесь говорили об искусстве заинтересованно, по большому счету.

|
|
Артист оперы С. И. Зимина - В. Дамаев был прекрасным
драматическим артистом
|
Так, долгое время нашей общей любимицей была великолепная певица Нина Павловна Кошиц, которая, к сожалению, быстро сошла с горизонта русской оперы. Наделенная замечательным талантом, необыкновенно красивая, она пела Татьяну и Лизу с какой-то особой лиричностью и изяществом. У нее был проникновенный голос, и, несмотря на свою комплекцию, она держалась на сцене легко, свободно, даже я сказал бы, элегантно, и ее лицо передавало тончайшие оттенки чувств. Она была лучшей исполнительницей Рахили в опере "Жидовка".
Мы все были в нее влюблены. Сменялись знаменитости на сцене, появлялись новые увлечения, но Кошиц при всех обстоятельствах оставалась нашей общей любимицей, пока она сама не влюбилась в Рахманинова. Он давал два или три авторских концерта в опере Зимина. Она выступала в этих концертах, пела его романсы, и затем, когда Рахманинов уехал за границу, Кошиц уехала с ним, пропав с тех пор из поля нашего зрения.

|
|
Артисты оперы С. И. Зимина - С. Юдин был прекрасным
драматическим артистом
|
Были три Кармен, которых я помню, и все были по-своему великолепны: Васенкова, Тихонова и Мухтарова. "Три Кармен" вызывали много разговоров в нашей среде, потому что каждая из них была особой по темпераменту, по манере исполнения, по рисунку образа.
Меня всегда огорчало, что я был не очень музыкален, и поэтому я прибегал к любой возможности, чтобы развивать свой слух.
Мне казалось, что если тебе в детстве не наступил слон на ухо и если ты целыми днями торчишь в театре на репетициях и на спектаклях и волей-неволей слушаешь музыку с утра до вечера, то в конце концов сможешь стать музыкально образованным человеком.
Заинтересованно следя за тем, что происходило в оперном театре, я, мальчишка, задумался над интереснейшим, как мне тогда казалось, наблюдением. Раньше я считал, что оперный певец как артист ничего 'Особенного собой не представляет, он должен петь по нотам, - и все дело. А так как ноты одной партии всегда одинаковы, то и оперные певцы похожи один на другого, как близнецы. Один поет громче, другой не так громко - вот и вся разница. В опере Зимина я понял - сначала по трем исполнительницам Кармен, затем по Шаляпину и другим великолепным актерам, - что значит артист-певец и что может сделать подлинный артист на оперной сцене. Обладая равными по силе голосами, одни становились истинными артистами, а другие оставались просто певцами, и не более. Поставленный голос, оказывается, был только половиной дела.
Всю эту критику, иногда безжалостно колючую, иногда влюблено покровительственную, но всегда подробную, темпераментную и - как нам казалось - бескорыстную, наводили на актеров зиминского театра мы, обитатели "четвертого этажа". И если ниже, в уборных профессионалов, хористов и кордебалета, господствующей темой разговора чаще было другое, - там говорили о жалованье, о семье, о ресторане, - если там на гримировальных столах случалось видеть шашки и шахматы, из-за которых актеры иногда опаздывали на сцену, то наверху всегда царил восторг перед искусством.
Здесь еще не были развеяны иллюзии, здесь еще верили, наивно, по-детски, в "таинства" творчества!
Я как-то сразу, органично вошел в среду статистов и приобрел там многих товарищей. Не потому, что я давал кому-то пятаки или гривенники за то, чтобы меня не одевали, как это случилось в "Капитанской дочке", башкирцем, а назначили в массовку солдатом, чтобы я сам бил палкой других статистов, по преимуществу новичков. Такая практика, нечего греха таить, была у некоторых наших старост. Нет, пятаков я давать не мог, так как их у меня просто не было. Но я с такой охотой делал все, что мне поручалось, и с такой преданностью, с такой любовью и таким вниманием относился к любой работе в театре, что нашим десятникам и старостам стало стыдно назначать меня на самые неблагодарные роли в толпе, когда это можно было делать с теми новичками, которые только пришли в театр и еще не проявили своего отношения к делу, не "завоевали авторитет".
Примерно к этому же времени относится мое первое участие в киносъемках.
Первая роль в кино
Однажды к нам на "верхатуру" явился какой-то молодой и весьма развязный человек и громко спросил:
- Кто желает участвовать в съемках фильмы?
Тогда, в 1915 году, кинокартина так и называлась "фильма".
Молодой человек, который оказался помрежем, сказал, что надо приехать на станцию Кунцево к шести утра и на берегу Москвы-реки принять участие в съемках, в которых будет занят и Федор Иванович Шаляпин.
Утром в Кунцеве собралось человек двести, главным образом учащаяся молодежь и студенты. Вышел развязный помреж и, приставив ладони рупором ко рту, объявил:
- Мужики из войска Тучи - налево, опричники Грозного -направо!
Я опоздал, когда распределяли роли, и в растерянности, в страхе, что никуда не попаду, толкался на месте. Но вот помреж снова приставил ладони к губам и пригласил:
- Господа студенты, все, кто умеет ездить верхом, прошу зайти к гримерам и наклеить бороду. Нужны конные опричники для свиты Грозного.
Наклеить бороду и сидеть на лошади, сопровождая Федора Ивановича, - это уже нечто такое, о чем мечталось по ночам, это уже что-то особенно заветное и близкое, что мерещилось при чтении любимого "Князя Серебряного"! Наклеенная борода! Это значит, что я уже не я, а может быть, даже сам Малюта Скуратов.
Искус был слишком велик!
И вот я, городской мальчик, который не только верхом, но и на извозчиках-то ездил, разве только прицепившись сзади к пролетке, смело вышел вперед и направился к гримерам наклеивать бороду. Мне казалось тогда, что борода меня так изменила, что и узнать невозможно. Я помню, что чуть ли не физически ощутил тяжесть лет своего героя. А тут еще огромные сапоги и медные шпоры.
...Через тридцать лет, готовясь к съемкам "Ивана Грозного", мы с С. М. Эйзенштейном и Н. К. Черкасовым, просматривая разные материалы, обнаружили и "Псковитянку". Мои товарищи восторженно, пожалуй, даже слишком восторженно, встретили мое появление на экране в группе опричников. Увы! - я был узнан. Должен признаться, что это был только перепуганный юнец, которого приклеили к бороде.
Но тогда, в тот памятный августовский день...
С какого-то бочонка я вскочил на коня, отчаянно вцепился в поводья, чувствуя, что это мой последний шанс принять участие в съемках. От волнения ноги мои непрерывно дрожали, и, не сознавая последствий, я ударил шпорами в конские бока. Лошадь понеслась, я схватился руками за гриву, пригнулся к шее лошади, чтобы не упасть в дикой скачке, и поймал себя на том, что шепчу ей: "Тпру-у..." - первое, что я знал из правил обращения с лошадью. Чувствуя, что всадник ею не управляет, умный конь, проскакав, вдруг остановился, постоял, чего-то ожидая, и потом, повернув назад, тихим шагом вернулся к месту съемки. Восторженный помреж воскликнул:
- Браво, молодец! Господа, не робейте! Всем так скакать!
Так я впервые познакомился с киносъемками и понял всю житейскую мудрость пословицы: "Смелость города берет".
Потом меня поставили рядом с царским шатром, из которого вскоре вышел царь Иван Васильевич Грозный.
Солнце пекло невыносимо. Грозный - Шаляпин прищурился, приставил руку к глазам и, как мне тогда казалось, грозно оглядел разбросанные по склону крутого берега отряды актеров и статистов, изображавших псковскую вольницу. Их привел Михаиле Туча на бой с Грозным, который:
Выводил измену из Новгорода,
Выводил измену из Пскова...
Грим органически дополнял лепку Шаляпиным суровой фигуры Грозного, который был монументален в блестящей кольчуге, в кованом шлеме и широкой епанче. Шаляпин смотрел из-под руки на берег, как бы оценивая обстановку боя, потом взглянул налево, где стояли мы, его конная опричнина, покачал головой и что-то сказал режиссеру Иванову-Гаю, заглядывавшему то и дело в развернутый перед ним сценарий.
Мне почему-то казалось, что разговор шел про меня. И вообще мне чудилось, что все смотрят только на меня. Так велико было смущение. Совсем рядом, в трех - четырех шагах от меня, стоял сам Шаляпин. Могучий гений в облике грозного царя стоял рядом со мной, мальчишкой, под которым неизвестно почему плясала лошадь. Я так растерялся от сознания, что неожиданно "вхожу в историю", что окончательно потерял власть над своим конем. Шаляпин стоял рядом между моим конем и всадником, лошадь которого вела себя прилично и даже благовоспитанно. Мой же конь совсем обнаглел, перебирал ногами, фыркал и мотал головой, разбрасывая пену.
Федор Иванович некоторое время опасливо косился в мою сторону и наконец произнес:
- Молодой человек, попридержите-ка лошадку. А то она или меня, или вас наверняка пришибет. Как вы полагаете?
Ответить я не успел. Кто-то тихо-тихо отвел мою лошадь назад. Я оказался среди других конных "рядовым" опричником. Но это не помешало мне сняться еще в нескольких эпизодах позднее, когда картины "проезда царя" снимали на Ходынском поле, в старых "хоромных" павильонах торгово-промышленной выставки.
Фильм под названием "Царь Иван Васильевич Грозный" снимали летом 1915 года. Мой эпизод относился к концу августа - началу сентября, а уже 16 октября того же года в "электротеатре" "Форум" собрались друзья и враги синематографа, чтобы просмотреть премьеру и решить, испортило ли Шаляпина кино или великий русский актер сделал "немого" красноречивым. Как видите, темпы тогда были бешеные!
На том общественном просмотре, в то далекое время рождения русской кинематографии "синематографическая" инсценировка "Псковитянки" с Шаляпиным - Грозным - как писала в своем отчете "Рампа и жизнь" - "превратила врагов в друзей, а друзей в обожателей. Старый предрассудок, что для синематографа достаточно таращить глаза, хвататься за голову и трагически оскаливать зубы, рассеялся, как ночи мрак при ярких лучах восходящего солнца... На экране ярко отразились и хищная злоба ехидны, готовой растерзать "ненавистных крамольников", и царственная мощь покорителя Казани и псковской вольницы, и великая скорбь отца, невольного убийцы любимой дочери, "плода юношеской любви".
Конечно, трудно согласиться с восторженным автором этой заметки в "Рампе и жизни", который объявил день 16 октября 1915 года "началом новой эры в немом царстве победоносного кино - в этот день венчали на киноцарство Ф. И. Шаляпина". Рецензент явно преувеличивал и успех Шаляпина в этом фильме, и всю постановку режиссера Иванова-Гая, которого сомнительно хвалили за "пышность" и "хорошее выполнение шаляпинского замысла". Ведь известно, что и сам Шаляпин не был удовлетворен ни
фильмом в целом, ни своей игрой в нем.
Однако отдельные драматические сцены фильма, особенно сцена над трупом Ольги и последний уход Грозного, Шаляпин действительно исполнил с огромной силой своего трагического темперамента и новаторским для тогдашнего кинематографа психологическим драматизмом.
Помню, я был в восторге от этой "фильмы". Может быть, на то у меня были свои причины...
Всю осень и начало зимы 1915 года прошли у меня под знаком увлечения Шаляпиным. Едва закончились съемки "Псковитянки", как стало известно, что Федор Иванович будет выступать с гастролями на сцене зиминского театра.
Позже, после Февральской революции, когда, будучи помощником режиссера-администратора, я перебирал архивы Зимина, то познакомился с письмом Шаляпина к Зимину по поводу предстоящих гастролей. Этот интереснейший исторический и человеческий документ, характеризующий обстановку перед началом знаменитых московских гастролей великого русского певца, я решаюсь привести здесь полностью:
"С. И. Зимину
9 (22) августа 1915
Кисловодскк, санаторий Ганешина
Глубокоуважаемый Сергей Иванович!
Я в свою очередь также рад пропеть что-нибудь на старом пепелище, которое так славно поддерживаете Вы Вашей мощной рукой. Приятно мне это тем более, что я почаще повидаю Вас, а то мы все же очень редко видимся. Приятно мне, и я заранее спокоен, ибо знаю, что такой могучий любитель прекрасного и безграничного искусства, как Вы, всегда пойдете навстречу всему, что логично и необходимо для осуществления прекрасного.
На случай хочу Вам написать приблизительно те оперы, в которых я так или иначе хотел бы петь, а именно: "Юдифь", "Борис Годунов", может быть, "Вражья сила", "Дон Карлос", "Фауст", может быть, "Мефистофель" Бойто, "Русалка", "Псковитянка", может быть, "Жизнь за царя" и т. д. Одним словом, я готов был бы сыграть, кажется, все роли моего репертуара, если бы это было возможно.
Итак, то, что я здесь написал, мне кажется, все шло у Вас в театре, и для всего этого имеются и труппа, и декорации, и костюмы, и, словом, - все.
Вот только одно меня очень беспокоит - это свет!
Мне помнится, в прошлый раз, когда я бывал у Вас в театре, - мне показалось темновато на сцене, а я, уж простите мне, -всю жизнь и всегда, во всех смыслах стою за свет! Может быть, если возможно, Вы сумеете устранить это мало-мало неприятное обстоятельство! Я знаю милого Сергея Ивановича и, конечно, в его желании, чтобы наши спектакли были живее и лучше, чем в Большом театре, - нисколько не сомневаюсь.
Итак, мне остается только пожать Вам Вашу руку и крикнуть: до скорого свидания, милый Сергей Иванович.
Всегда Ваш Ф. Шаляпин"
Что творилось в театре перед гастролями Шаляпина, не поддается описанию. Ночью выстраивались очереди у кассы. Но мало было счастливцев, сумевших достать билет по номиналу, хотя и кассовые цены были в два - три раза выше, чем на обычные спектакли. Подавляющее большинство билетов закупалось перекупщиками, которые сбывали их по двойной и тройной цене. Это были горячие и большие дни для всех, кто имел доступ к кассе. После таких гастролей я уже не удивлялся, что наш одноглазый дядя Герасим - театральный курьер, который давал артистам расписываться в журнале прихода, и многие кассиры и билетеры театра Зимина имели в Марьиной роще свои собственные дома, небольшие, но добротные.
Ф. И. Шаляпин
Для меня лично начало гастролей Ф. И. Шаляпина ознаменовалось, прямо скажем, курьезным происшествием. 30 ноября шел "Фауст". Зрительный зал был переполнен. На сцене все места были заняты артистами, хором и кордебалетом. Я с группой товарищей взобрался на правую портальную лестницу и, пристроившись на пятой или шестой ступеньке, впился глазами в Федора Ивановича. Сначала все шло спокойно. Вот Мефистофель - Шаляпин пропел свою знаменитую арию "На земле весь род людской...". Вот раздался звонкий удар тарелок, который ввел в оркестровку Федор Иванович. Вот отшумели овации, - пел он в этот раз великолепно, был в ударе. Аплодировали все: и зрительный зал, и сцена - за кулисами было много народа. Я кричу вместе со всеми: "бис!". После этой сцены хор, вооруженный шпагами с крестообразной рукоятью, наступал на Мефистофеля: "Изыди, сатана!".
"Вот крест святой! Он нас спасет от зла!" - пел хор.
 Блестящим исполнителем роли Мельника был В. Люминарский (несправедливо забытый). Он же режиссер чеховской 'Канители', с которой я выступил на экзамене в студию Ф.
Комиссаржевского
Блестящим исполнителем роли Мельника был В. Люминарский (несправедливо забытый). Он же режиссер чеховской 'Канители', с которой я выступил на экзамене в студию Ф.
Комиссаржевского
Мефистофель - Шаляпин корчился в муках, пытаясь увернуться от крестного знамени. Момент был незабываемый! Устремив глаза в мою сторону, то пригибаясь, то вытягиваясь во весь свой могучий рост, великий артист передавал мимикой все оттенки своей ненависти к кресту, которым его осеняли. Все замерли. Наконец Мефистофель, пятясь, скрылся за кулисы. Снова раздался гром аплодисментов, зрительный зал неистовствовал. Я снова ору от восторга, сам не помня себя... И вдруг чья-то энергичная рука решительно стаскивает меня за ногу с лестницы. Разъяренный помреж Кудрин, весь красный от гнева, кричит, чтобы я убирался на все четыре стороны.
- Ты что же, черт кудлатый, Федор Иванович играет, а ты ему рожи строишь?!
- Боже мой, что вы говорите! Какие рожи? Когда!

|
|
Властителем дум в то время был знаменитый композитор С.
Рахманинов. Шарж работы худ. Д. Моора
|
Оказывается, сопереживая игру Шаляпина, я непроизвольно повторял его мимику, которую нечуткий Кудрин принял за передразнивание. Как могли даже подумать, что я решусь на такой дерзкий поступок! Мне было горько до слез. Тем более, что в тот вечер, собираясь слушать своего кумира, я даже карточку приготовил, чтобы Федор Иванович оставил свой автограф. Я дождался Шаляпина, когда он шел из-за кулис в артистическую, и у нас произошло "объяснение", в результате которого на фотографии Еремки из "Вражьей силы" появился автограф: "Мише Жарову, который, я верю, не строил мне рож! Ф. Шаляпин".

|
|
Нина Кошиц, оперная актриса первой величины, в начальные годы моей артистической карьеры
|
Очень обидно, что эту карточку у меня потом кто-то взял и не вернул.
Позже, во время вторых гастролей, я старался не пропустить ни одной репетиции Шаляпина. Они были для меня откровением, я искал в них разгадку таланта. С утра я
забивался в директорскую ложу и ждал шаляпинских репетиций. На моих глазах разыгрывались интереснейшие сцены, которые были доступны немногим. На репетициях облик Шаляпина как человека и артиста вырисовывался еще рельефнее и живее. Мне казалось, что каждый шаг, каждое движение, каждое слово Шаляпина не похожи на то, что делают актеры рядом и около него. Я, которого всякая грубость обижала, легко прощал ему все резкости, о которых так много - больше чем следует - тогда говорили. Мне на них было наплевать! Помню его скандал с С. П. Юдиным, известным в Москве тех времен тенором - прекрасным певцом и актером, перешедшим к Зимину из Большого театра.
 На утреннике у Зимина в 'Капитанской дочке', одетый в костюм пугачевца, я впервые очутился на сцене театра. Высунув голову из-за частокола, я получил увесистый удар ружьем
На утреннике у Зимина в 'Капитанской дочке', одетый в костюм пугачевца, я впервые очутился на сцене театра. Высунув голову из-за частокола, я получил увесистый удар ружьем
Среднего роста, изящный, нервный, подвижный,
самолюбивый, как всякий баловень судьбы, Юдин
приготовился к репетиции и стоял на сцене в костюме, поверх которого опоясался ремнем со шпагой. Шаляпин опаздывал. Десять минут, пятнадцать минут - Шаляпина нет. Все нервничают, злятся, говорят, что это хамство, что так вести себя нельзя. Проходит полчаса, и Юдин объявляет, что уходит с репетиции...
В эту минуту знаменитая маленькая дверь открывается, и Федор Иванович, согнувшись, как был с улицы, в поддевке с красным шарфом вокруг шеи, засунутым за борт пиджака, в шапке пирожком и в ботах, вваливается на сцену и еще в дверях гудит:
- Извините, голубчики, опоздал... опоздал... Давайте начинать...
И говорит именно "голубчики", а не "господа".

|
|
В изображении художника Ивана Малютина Борис Годунов был
типичным монголом
|
В зале и на сцене воцаряется зловещая тишина. Все смотрят на Е. Е. Плотникова - главного дирижера. Прекрасный музыкант, он был и умен, и красив, этот Евгений Евгеньевич. Казалось, он сошел с обложки журнала "Нива" или "Искусство". Были на обложках такие рекламные объявления, вроде "Носите бандаж для усов", и сбоку всегда изображался этакий брюнет с красивой прической и вильгельмовскими усами. Единственное, что сбивало с Евгения Евгеньевича эту журнальную красивость, - оспины. Он был рябой. Но удивительно, что эти рябинки и делали лицо Плотникова необыкновенно обаятельным, хотя он редко улыбался. Все знали его вспыльчивость и придирчивость. Поэтому так и ждали его слова в инциденте с Шаляпиным. Но Плотников молчал. Он сидел за пультом и решал, вероятно, что ссорится с Шаляпиным ему вовсе не к чему.

|
|
А так выглядел Ф. И. Шаляпин в роли Годунова
|
Плотников, как ни в чем не бывало, постучал палочкой, оркестр приготовился и начал пролог.
Юдин запел в полный голос или почти в полный. Появился Мефистофель - Шаляпин и запел вполголоса. Тогда Юдин быстро перестроился и тоже начал мурлыкать. Шаляпин его останавливает и говорит:
- Молодой человек, пойте громче, я вас не слышу.
Юдин ему отвечает:
- И я вас не слышу.
- Хорошо! - сказал Шаляпин.

|
|
Эскизы И. Малютина, которые он сделал для Бориса Годунова в постановке Ф. Комиссаржевского. Патриарх. Марина Мнишек
|
И тот, и другой усиливают голос, но уже видно, что злятся. Атмосфера репетиции накаляется. Потом Шаляпин, стоя на сцене в шубе и шапке, говорит Юдину:
- Голубчик, перейдите-ка лучше сюда.
- Меня зовут Сергей Петрович! И стоять я буду здесь, а вы стойте, где хотите! И вообще...
Затаив дыхание, ни жив, ни мертв, сижу я в ложе, спрятавшись за занавеску. Мне видна вся сцена.
Юдин, красный, как рак, выхватывает шпагу из ножен и со словами: "И вообще я нигде стоять не буду, потому что не желаю с вами петь", - пускает шпагу из одного конца сцены в другой, прямо под ноги Шаляпину. Шаляпин поднимает огромную ножищу, обутую в фетровый бот, и грациозно наступает на шпагу.
Юдин еще что-то кричит и убегает за кулисы.
 Валентин Серов, автор эскиза грима и костюма Олоферна, на первом спектакле оперы 'Юдифь' сам гримировал руки Шаляпина, чтобы сделать их 'мощными и властными'. Проходя в марше, я видел Шаляпина - Олоферна стоящим у входа в шатер
Валентин Серов, автор эскиза грима и костюма Олоферна, на первом спектакле оперы 'Юдифь' сам гримировал руки Шаляпина, чтобы сделать их 'мощными и властными'. Проходя в марше, я видел Шаляпина - Олоферна стоящим у входа в шатер
Пауза. Все остановились.
Шаляпин говорит, обращаясь к Плотникову:
- Евгений Евгеньевич, есть еще артист какой-нибудь?
Тот отвечает:
- Я думаю, что вернется Сергей Петрович.
- Не надо, чтобы он возвращался. Вызовите другого артиста.
Сделали перерыв. Приехал Немов-Немчинский в военной форме, он был призван в армию, но изредка пел и провел все гастроли с Шаляпиным, исполняя партию Фауста. Юдин больше уже никогда не встречался с Шаляпиным. А жаль, что так получилось!
Я продолжал наблюдать за репетицией. Больше всего меня удивило, что ссора с Юдиным, казалось, абсолютно не взволновала Шаляпина. В этот день он вообще был в особом ударе. А может быть, так с ним бывало всегда, когда он злился?
Слушать его рокочущий голос, звучащий даже вполсилы, было наслаждением.
Вот он дошел до музыкальной фразы: "Сатана там правит ба-а-л", и остановился. Подойдя к авансцене, Шаляпин заговорил с Плотниковым, настойчиво убеждая его:
Евгений Евгеньевич, дорогой, вы тут паузы не держите. А композитор пишет не только ноты, звуки, он еще пишет и паузы. Это тоже музыка, это нужно знать, мой милый, - и Шаляпин напевает это место, как он его понимает.
И красавец, гроза всех солистов, Плотников, положив палочку на пюпитр, сложив руки на груди, внимательно, как школьник, слушал, что ему говорит Шаляпин. И он не качал головой: "нет", и не выражал скепсиса. Его лицо было непроницаемым.
- А потом, голубчик, пожалуйста, - обратился Шаляпин к ударнику в оркестре, - после слова "ба-а-л" ударьте в тарелки: "дзинь" - как будто золото рассыпалось!
И сам, взяв тарелки, показал ударнику, как это сделать.
Шаляпин повторил арию, тарелки сработали, и это было великолепно, это было потрясающе, и все присутствовавшие поняли, как был прав Шаляпин, и не могли не простить ему излишние резкости.
Вот так из темноты своей ложи я наблюдал за репетициями Ф. И. Шаляпина. А потом, наскоро пообедав, снова бежал в театр, где видел Шаляпина уже на сцене, перед зрителем, в полной красе и мощи его огромного таланта и редчайшего сценического темперамента.
Особенно я дорожил спектаклем "Борис Годунов", в котором сам, уже признанный статист, в костюме стражника сдерживал толпу хористов в знаменитой сцене у Спасских ворот. Я стоял спиной к зрительному залу, перед самым помостом, на который вступал царь Борис - Шаляпин, когда пел знаменитую арию "Скорбит душа, какой-то страх невольный...".
Когда он запел, все замерли, на сцене и в зале воцарилась мертвая тишина, а Шаляпин вдохновенно, с закрытыми глазами, сделал несколько шагов в мою сторону и остановился надо мной. Я смотрел на него снизу вверх, пока он пел: "О, праведник, о, мой отец державный...".
И тут я в первый и последний раз в жизни увидел горло великого артиста в процессе пения, увидел его гортань и маленький язычок, который трепетал там, внутри, как пойманная птичка. Шаляпин делал еле заметные движения губами и мускулами лица, как бы расставляя резонаторы, и эти движения и клокотанье язычка придавали голосу обворожительный тембр. Я как бы видел звук, льющийся из его гортани, потому что видел механизм, его создающий. Голос Шаляпина был объемным, казалось, можно было его потрогать, и слово будто ввинчивалось. И как бы ни пел Шаляпин - в полную силу, шепотом или речитативом, - он вас покорял своей выразительностью на всю жизнь.
В перерывах между большими спектаклями, в которых Федор Иванович пел ведущие партии, он давал себе отдых и выступал в сборных спектаклях, исполняя более легкие роли. Но и в них он отдавался сцене целиком. Был спектакль, когда шли "Моцарт и Сальери" и сцена в корчме из "Бориса Годунова", в которой Шаляпин играл Варлаама. Что это был за Варлаам - невозможно передать! Я три раза видел его в этой сцене, и все три раза был наверху блаженства. Сцена в корчме разыгрывалась в закрытом павильоне. Спектакль начинался в семь часов, но уже к шести все дырки в декорациях были забронированы актерской братией. Никто не желал пропускать шаляпинского Варлаама.
...Недавно мне пришлось видеть и слышать по телевидению сцену в корчме в исполнении артистов одного из периферийных театров, театра очень почтенного, пользующегося большой любовью советских зрителей. Я смотрел и думал, как в общем и целом вырос наш оперный артист, понимающий, что в опере нужно не только петь, но и играть. И действительно, сцена в корчме была сделана по-новому, вопреки существовавшим традициям. И все же какое-то щемящее чувство неудовлетворенности я испытывал, глядя на игру актеров. Боязнь выйти из образа, какая-то внутренняя робость, отсутствие артистизма лишали их образы масштабности и размаха пушкинской лиры и музыки Мусоргского. Возможно, в этом моем ощущении сыграло роль то обстоятельство, что я как зритель был на всю жизнь "испорчен" для восприятия другого Варлаама, кроме шаляпинского.
Не знаю, плохо это или хорошо. Во всяком случае, соприкосновение с подлинным искусством всегда прекрасно, даже если вы не можете после этого смотреть ничего другого. Я старался пересилить себя, глядя в телевизор на старательную игру современного Варлаама, барахтавшегося в плену "малых правд". Но у меня в тот вечер было испорчено настроение, потому что я все время вспоминал Федора Ивановича и жалел, что его школа, его традиция не учтены молодым советским актером...
Что же поражало в Шаляпине, когда он с таким блеском и виртуозностью исполнял партию Варлаама? В нем виделся прежде всего художник огромного масштаба, бескрайнего дарования, неуемной фантазии и темперамента.
Каждый раз вы ждали от Шаляпина не только эстетического наслаждения, но и раскрытия психологического, внутреннего состояния оперного героя, с новой, неожиданной для вас стороны. Идти в оперу и получить, кроме музыкальных впечатлений, то, что может дать только драма, - уже великая вещь!
Шаляпин - Варлаам был колоритнейшей фигурой. Он был очень высок ростом, толст, очень толст, у него была голова дулей, которая суживалась к темени, - череп напоминал дыню. Это был обжора, бражник, весельчак, забулдыга, трутень. Он хватал в жизни все, что плохо лежало. Вы видели сразу по его хитрому прищуру, на что он зарится и к чему безразличен. Когда Шаляпин доходил до места: "Как во городе было, во Казани", когда в одной руке он зажимал штоф, а в другой что-то вроде соленого огурца, точно не помню, то это была не вставная ария, которую композитор написал оперному артисту. О, нет! Обычно артист, играющий Варлаама, проговаривает и походя проигрывает положенный текст до этой арии, зная, что основное в этой маленькой эпизодической роли - "Как во городе было, во Казани". Такие актеры не знают, что Варлааму делать до этой арии и после нее.
Когда же вы слушали Шаляпина, вам было ясно, почему он с таким подъемом поет эту песню. Его, плотоядного и жизнелюбивого монаха-растригу, усталого и голодного с дороги, многообещающая корчмарка угостила вином. Оно его возбудило, и вся его плоть, до сих пор дремавшая от голода и стужи, вдруг задрожала, воскресла, и он запел обуреваемый пробудившимися страстями...
Рассказать, как пел Федор Иванович, невозможно. Знаю только, что пел он необыкновенно. Начинал тихим рокочущим голосом: "Как во городе было, во Казани", как будто хотел открыть нам тайну, которая произошла в городе Казани. И когда доходил он до "бочки с порохом", которая "закружилася", он так комично и легко вертелся на одной ноге, а после слов "и в окопы покатилася, да и трахнула", с такой силой ударял ногой по воображаемой бочке, что, казалось, и впрямь видишь, как она, грохоча, "закружилася и покатилася". Тут раздавалась буря аплодисментов, и последнее "трахнула" уже тонуло в прибое рукоплесканий.
Видел я Шаляпина и в роли Олоферна из оперы "Юдифь" царственно возлежавшим на ложе с чашей в руке.
И мы понимаем А. Я. Головина, который не мог пропустить эту живописную позу артиста и создал картину на эту тему, дающую точное представление об Олоферне Шаляпина, -жестоком тиране, страшном человеке, застывшем, как мраморное изваяние. Одним скупым движением кисти руки Шаляпин мог передать весь его характер.
А на следующий день, вернее - через день, так как гастрольные спектакли шли три раза в неделю, Шаляпин уже был русским до мозга костей, разухабистым, яростным и отчаявшимся Еремкой во "Вражьей силе". Кто помнит эту оперу, тот знает, что Еремка поет вместе с хором "Широкая масленица, ты с чем пришла...". И кончается эта сцена наивысшим форте хора, которое Еремка должен покрыть своим голосом.
Что же делал Шаляпин? Когда наступало форте, он поворачивался спиной к публике и лицом к хору и, не выходя из образа, дирижировал кулаками, как бы делая знак хору: "А ну-ка, поддай! Пусть знают наших!". И хор действительно давал жару, да такого, что своды театра, казалось, вот-вот лопнут. В тот момент, когда хор доходил до кульминации, Шаляпин вдруг поворачивался лицом к зрителям, хор сразу переходил на пиано, а Федор Иванович брал высочайшее форте.
Невозможно передать, что делалось в этот момент в театре! Шаляпин показывал здесь не столько силу своего голоса, нет, он был здесь виртуозом техники пения, умнейшим и талантливейшим мастером. С легкостью гения он преодолевал главную трудность оперного исполнения - пресловутое форте хора и оркестра, которое обычно заглушает певца. И более того, силой своего дарования, актерской интуицией Шаляпин доказывал на практике, что форте в искусстве вообще и в оперном в частности - не крик, не надрыв, а самая высокая степень эмоционального выражения.
Мы часто говорим: "колоссальный успех", "потрясающий", "необыкновенный". Но какие бы слова мы ни подобрали, они не передадут и сотой части того настоящего успеха, который выпадал почти каждый раз на долю Шаляпина. Двадцать раз актер выходил в гриме на аплодисменты зала. Что это, колоссально? Да, но еще не все. Затем раз десять выходил в костюме, уже после того как успел снять грим и парик. Зал продолжал греметь овацией. Затем Шаляпин выходил в халате и раскланивался семь - восемь раз. Потом снова уходил в свою уборную.
- Спа-си-бо! Спа-си-бо! Ша-ля-пин! - продолжал скандировать зал. И он - властелин чувств человеческих -показывался уже в вечернем костюме, в котором он ехал ужинать в ресторан, ибо он обязательно после каждого спектакля уезжал в ресторан ужинать. Казалось бы, все, но публика не унималась, требуя снова и снова выхода своего любимца на сцену. Между выходами аплодировали по очереди, группами - то здесь, то там, а когда появлялся артист, по залу проносился вихрь. Так еще пять - семь раз. Наконец Шаляпин появлялся на сцене в своей знаменитой поддевке, с закрученным вокруг шеи красным шарфом, в ботищах и перчатках. Он шел к рампе, низко кланялся и говорил:
- Благодарю, братцы! Благодарю!
Все входы в театр были заняты пикетчиками. Студенты-добровольцы сдерживали толпу, а когда подавали шаляпинскую карету, то распрягали лошадей и везли ее сами. Часто Шаляпина выпускали черным ходом.
Вот это и есть подлинный успех, который сопутствует не модной знаменитости, не звезде экрана, а подлинному таланту, умноженному трудом, отданному народу. Такой талант приносит славу!
Довелось мне быть и на одном из последних выступлений Ф. И. Шаляпина уже в советское время. Это был грандиозный концерт в Большом театре, после окончания какой-то конференции или съезда, на котором присутствовали Ленин и делегаты съезда Советов.
Я сидел в пятом или шестом ряду партера, так как был одним из технических организаторов этого концерта.
Шаляпин пел Бориса Годунова с огромным подъемом, проникновенно, с особым настроением. Ради правды, нужно сказать, что из двадцати - тридцати спектаклей, в которых я слышал Федора Ивановича, я могу вспомнить максимум десять, когда чувствовалось, что он был в ударе и сам получал огромное художественное наслаждение от своего щедрого таланта. Это были минуты необыкновенного вдохновения, когда актер раскрывал свое дарование полностью, не щадя сил, не сдерживая темперамента. Вообще же Шаляпин старался не очень расходовать себя и пел не в полный голос. Он берег себя, не в пример такому актеру, как драматический тенор В. П. Дамаев, которому сулили мировую славу, но который не достиг ее, ибо не щадил себя, был неумен, расточителен и вскоре "пропел" свой голос.
На концерте, о котором я рассказываю, Шаляпин полностью отдавал себя зрителям. Несмотря на то, что это был официальный, правительственный концерт, по особым приглашениям, зрительный зал был переполнен. Не было свободного места и за кулисами. На колосниках Большого театра, по которым ходят рабочие, чтобы опускать или поднимать декорации, на этих мостках, невидимых зрителям, сидели и даже лежали люди, слушая певца сверху и видя лишь его темя. И вот, когда Федор Иванович пел знаменитое ариозо "И мальчики кровавые в глазах", кто-то с колосников уронил программку.
Большого формата, из меловой бумаги, она как-то лениво и тяжело падала, медленно опускаясь через всю высоту сцены Большого театра. Зрительный зал замер. Все знали характер Шаляпина. Этот человек был непримиримым в творчестве, и не дай бог, чтобы злосчастная программка опустилась у него перед носом во время исполнения монолога Бориса. Шаляпину ничего не стоило прервать пение и уйти со сцены.
Секунды, пока программка, медленно качаясь в воздухе, снижалась, зрительный зал сидел, не шелохнувшись. А когда она упала сзади распростертого на полу Бориса, зал облегченно вздохнул. Шаляпин ничего не заметил! Казалось, прошла целая вечность, а не полминуты...
И еще одно, последнее воспоминание, связанное с Ф. И. Шаляпиным. Оно особенно врезалось в мою память, ибо касалось частной жизни Шаляпина. Я расскажу о редчайшем случае, свидетелем которого я оказался не из праздного любопытства к "приключениям великих личностей". Нет, это меня совершенно не интересует. Мне запомнилась эта история тем, как в ней отразился Шаляпин-художник.
У нас была чудесная юношеская компания: мой друг Ваня Юров, Лидочка - дочка помрежа, Саша - артистка зиминского кордебалета и я. Саша была чудесным товарищем и обворожительной девушкой. Обаятельна она была необыкновенно, пухленькая, с симпатичными ямочками на щеках, голубыми веселыми близорукими глазками и смешно вздернутым носиком. Она была остроумна и не робкого десятка.
Федор Иванович имел обыкновение разговаривать с ней за кулисами, дожидаясь своего выхода. Однажды он ее спросил:
- Сашенька, что вы делаете сегодня вечером?
- А что бы вы хотели, чтобы я делала? - кокетливо улыбнулась она.
- Не хотите ли поехать с нами?
- Куда же вы собираетесь ехать?
- Ужинать в ресторан Оливье. Там будет много народа, я вас приглашаю в нашу компанию.
Саша с минуту поколебалась:
- Нет, я не могу, потому что сговорилась со своим другом идти гулять, и без него не пойду.
- А кто ваш друг?
- Миша. Вы его не знаете.
- Пожалуйста, пусть едет и Миша.
После долгих препирательств Саша уговорила меня туда пойти. Я в ресторан пошел, но был там недолго, потому что не хотел огорчать мать поздним приходом домой. Если я говорил, что приду тогда-то, то мог опоздать не более чем на пятнадцать - двадцать минут, иначе мать волновалась и не могла заснуть.
Саша посоветовала:
- Скажешь, что был длинный спектакль и ты меня провожал домой. Подумай, такой случай!..
В общем она меня уговорила, и я пошел.
В ресторане были и Зимин, и Маторин, и еще много оперных, а из драматических актеров я узнал только Качалова и Москвина.
Сидели в банкетном зале ресторана "Эрмитаж" (что был на Трубной площади). Я очень стеснялся и пристроился где-то на уголке длинного стола. И вот из общего зала, где играл струнный квартет, раздалось пение. Какой-то эстрадный певец исполнял романс "Глядя на луч пурпурного заката...".
Шаляпин сказал:
- Господа, прошу одну минуточку, - и стал слушать своего коллегу по искусству.
Все притихли. Я немного опьянел, мне дали бокал вина, а я никогда не пил. Вдруг вижу, как Шаляпин встает, направляется в общий зал. Он подходит к оркестру и говорит:
- Маэстро, одну минуточку, проаккомпанируйте мне этот романс.
И запел. Боже мой, что это было!
И тут я увидел Шаляпина беспощадного, непримиримого к любой фальши в искусстве, не терпящего халтуры. Он физически не мог себе позволить пройти мимо несовершенного в искусстве. Вот почему, когда запел певец-ремесленник, без души, Шаляпин не мог не исполнить этот романс - он не мог не вернуть музыке ее суть, ее содержание, ее красоту.
И это было прекрасно.
Значительно позднее я снимался в картине Протазанова "Белый орел", исполняя роль адъютанта губернатора, которого играл В. И. Качалов. Однажды в перерыве я начал рассказывать ему об этом памятном для меня вечере. Василий Иванович как-то сразу потеплел взглядом и, перебив меня, закончил мой рассказ словами: "И спел он "Глядя на луч пурпурного заката...". Этот эпизод, видимо, так прочно запечатлелся и в его памяти, что Качалов тут же, вспоминая Шаляпина, подражая его тембру голоса, по-шаляпински артистично, незабываемо спел целиком этот романс, удивительно передавая все нюансы шаляпинской манеры пения.
Возвращаясь к тому концерту, на котором присутствовал В. И. Ленин, добавлю, что, несмотря на то, что Шаляпин спел целиком оперу "Борис Годунов", он после перерыва вышел во фраке, какой-то особенно красивый и могучий, и по собственному желанию выступил еще и в концерте. Он исполнил "Дубинушку".
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет,
- пел Шаляпин. И ему подпевал зрительный зал, ему подпевали делегаты съезда. Они пели сосредоточенно и громко. Пели и те, кто никогда не пел. Пели все! Я посмотрел на Ленина, и мне казалось, что он тоже пел.
Мои пути-дороженьки
Прошли шаляпинские гастроли, отгремели восторженные аплодисменты. В театре Зимина снова началась будничная работа. Но что-то изменилось во мне. Я исподволь чувствовал, что во мне рождается какое-то новое, неведомое еще отношение к работе, к своему месту в жизни, к людям. До этого я точно не знал, чего хочу. Одно время я, собираясь стать художником и даже не плохо рисуя, ходил на воскресные курсы в Строгановское училище, пока не понял, что мои товарищи рисуют лучше и мне за ними не угнаться, а плестись в хвосте не хотелось. Потом я мечтал стать археологом и по раскопкам восстанавливать страницы истории.
Затем, когда в мою жизнь ворвался театр, я с головой ушел в него. Но, даже придя в оперу Зимина статистом, я никогда не думал, что это мое призвание и я навсегда останусь на сцене. Я радовался просто тому, что буду существовать при театре, что смогу бесплатно ходить на спектакли, вращаться в актерской среде, изредка появляться на сцене, и все. О будущем я не задумывался. Но опера Зимина постепенно становилась для меня так же необходима, как и родной дом. Я стремился из дома в театр так же естественно, как из театра домой. Однако даже там, в театре, мне казалось, что я буду скорее театральным художником, чем артистом.
Но после Шаляпина... О! После Шаляпина я увидел театр и свое место в нем по-другому. Теперь уже никакие обиды, временные неудачи не могли меня оторвать от сцены и от внутренней цели в жизни, которую я еще вслух не сформулировал, но которая, несомненно, вырисовывалась перед моим внутренним взором и манила к себе.
Чтобы быть всегда в. театре, рядом с артистами, в курсе всех дел я участником их, я сразу же согласился на предложение режиссера А. В. Ивановского занять освободившееся место его помощника, то есть помощника режиссера-администратора, с окладом пятьдесят рублей в месяц. В мои обязанности входило составлять проект репертуара, давать объявления о нем в газеты, выпускать афиши.
В театре Зимина была драконовская дисциплина. Часто мне приходилось испытывать и на себе несправедливость хозяина, видеть суровость и самодурство Зимина по отношению к "мелким сошкам". И хотя меня все это очень оскорбляло, я терпел, ибо отныне знал, к чему мне надо было стремиться.
Однажды выяснилось накануне спектакля, что артист Дамаев заболел и петь не сможет. Мне дали распоряжение известить все газеты, чтобы заменили фамилию Дамаева на его дублера. Распоряжение передал камердинер Зимина, некий Маслов, интереснейшая в своем роде личность. Ему было лет сорок пять, и он славился своим носом, какого ни у кого на свете больше не было. Собственно, у него был не один нос, а целых три - один такой, как полагается, а по бокам еще два носа, этакий трехслойный нос. Маслов внешне был ужасно некрасив, а глаза у него были добрейшие. Как интересно сочетает природа: синий ужасный нос страшного людоеда и добрую душу. Маслов был правой рукой Зимина. Сергей Иванович был толст до безобразия, к тому же у него были очень маленькие руки, руки-коротышки. Без Маслова он обходиться никак не мог.
Это обстоятельство, делало Маслова очень близким человеком Сергею Ивановичу. Всегда, если нужно было что-то шепнуть Зимину, о чем-то попросить, обращались к Маслову, который точно знал, когда это можно сделать наилучшим образом. В театре Маслова боялись и подлизывались к нему больше, чем к Зимину. Лакей Зимина имел два больших дома в Марьиной роще, хотя был холостяком.
Так вот этот самый Маслов сказал мне вечером после спектакля:
- Завтра будет петь Кипаренко-Даманский. Сергей Иванович приказал, чтобы ты сообщил об изменении в газеты.
Было уже очень поздно, но тем не менее я успел исправить объявления во всех газетах, кроме "Московского листка". Назавтра все газеты вышли с указанием, что будет петь Кипаренко-Даманский, а в "Московском листке" по-прежнему стояла фамилия Дамаева.
В театре меня разыскал Маслов и сообщил, чтобы я зашел к Сергею Ивановичу.
Прихожу к хозяину.
- Здравствуйте, Сергей Иванович, - сказал я и низко поклонился.
- Здравствуй, - ответил он и подал мне один палец. Его один палец был равен всей моей руке. Я пожал этот палец-сосиску.
- У тебя в газетах все правильно?
- Все, за исключением...
- Исключением чего?
- "Московского листка". Было уже поздно, - отвечаю я.
- Так вот, ступай в кассу, и скажи кассиру, чтобы тебе за этот месяц жалованье не платили.
Я склонил голову и вышел. Слезы градом катились по лицу. За что? Я так ждал эти пятьдесят рублей! Хотелось побежать, сказать, что это несправедливо, но я прикусил язык. Пошел к кассиру и передал ему приказание хозяина. Ни он, никто другой не удивился. Такие штрафы за малейший проступок были в порядке вещей.
Мне было очень горько. Не только морально, но и физически. Это был мой заработок, я жил в семье, где каждая копейка была на счету. Мать охала: "Наверное, вел себя плохо".
Я был самолюбив и хотел было уйти из театра, выразив этим, как мне тогда казалось, протест против несправедливости Зимина. Но я остался. Теперь уже меня привязывало к театру не временное увлечение и не желание поразвлечься, а гораздо более серьезные причины. И никакие обиды, наносимые хозяином, не могли уже сбить меня с избранного пути.
Как я ни был привязан к опере Зимина, но театральная Москва на этом для меня не кончалась. Нет, она только начиналась со здания на Большой Дмитровке. Оттуда мои театральные дорожки разбегались кривыми лучиками по родным и тесным тогда московским улицам и переулкам.
Москва военных лет, Москва предреволюционная жила бурной театрально-концертной жизнью. В эту жизнь врывались поэзия и живопись футуристов - "бурных гениев" модернистской эпохи. Они ломали все привычные представления об искусстве классическом, и в их вызывающем, грубом и резком протесте против старых идолов было нечто привлекательное, особенно для нас, молодежи. Мы все видели в первый раз. Это было увлекательно, это было необыкновенно интересно, и я носился по Москве, как угорелый.
У меня был чудесный товарищ Ваня Юров, о котором я уже говорил, и еще три приятеля, три брата Калининых - Вася, Костя и Федя. Они были сыновьями спившегося и разорившегося купца, бывшего владельца доходного дома у Тишинского рынка, который так и назывался калининской крепостью. Многие частные дома в Москве, густо населенные бедняками, назывались с горькой иронией крепостями того или иного домовладельца. После смерти отца каждый из братьев Калининых остался гол, как сокол.
Вася Калинин был старше меня, красивый, суховатый юноша с правильными чертами лица и безукоризненной московской речью. Вместе с ним мы не раз стояли в очереди за билетами в Художественный театр по двое суток кряду. Я должен был обеспечить местами не только себя, но и отца, маму и трех сестер. Помню, мама с девочками пошла на "Синюю птицу", а я отправился на "Вишневый сад".
Билет был близкий, в середине седьмого ряда. Начался спектакль. Я не могу передать то мальчишеское впечатление, которое у меня было от этого спектакля. Он меня потряс. Все, что творилось на сцене, я воспринимал, как чудную живую жизнь. В антрактах я не выходил и, когда шел занавес, испытывал необыкновенное счастье от того, что никто не аплодирует и все тихо расходятся. Я закрывал глаза и так сидел в своем кресле до начала следующего акта. Когда опять подымался занавес, я открывал глаза, и таким образом действие спектакля для меня не прерывалось ни на минуту.
В последней сцене, когда все герои пьесы покидали "вишневый сад" и одинокий Фирс оставался в заколоченном доме, публика обычно аплодировала под плавно опускавшийся занавес. Это вызывало во мне раздражение. Аплодисменты в такой момент звучали в моих ушах святотатством. "Как это можно?! Старый, верный Фирс остался один в заколоченном доме, - думал мальчишка в седьмом ряду, - как же это получилось так? Отчего? Почему? Что это значит?" А вместо размышлений об этом зрительный зал разражался аплодисментами и артисты выходили на поклон. Это меня сбивало и даже злило.
Уходя из Художественного театра, я долго находился под впечатлением увиденного, рассказывал с восторгом о своих любимцах. Больше всех мне нравился И. М. Москвин. Лука, Епиходов, Голутвин, Фома Опискин, которого я видел на первом спектакле, и особенно царь Федор стали моими любимыми ролями. Мне почему-то было очень легко показывать Москвина в этих образах, разумеется, в домашних условиях. Но главное впечатление оставалось от спектакля в целом.
Если в Художественном театре меня поражал весь спектакль, кусок самой жизни, вынесенной на сцену, то в других театрах, особенно в Московском драматическом, куда я также зачастил, меня привлекали в первую очередь отдельные актеры.
И. Н. Певцов в "Павле I" казался мне недосягаемым! Я не мог показать Певцова. Нет. Я очень старался, но скопировать дома Певцова в этой роли никак не мог. Он был неподражаем, бесподобен. Я видел его в этой роли пять - шесть раз. Я пытался разыграть дома Тота в пьесе "Тот, кто получает пощечины". Это оказалось еще труднее. Я и не думал тогда, что спустя всего несколько лет буду участвовать в кинокартине, которую поставят по этому спектаклю. Певцов играл своего Тота. Это был очень хороший фильм, мне дали в нем роль циркового барейтора. Помню, как Певцов, увидев меня в этой маленькой роли, сказал:
- Т-твоя фа-фа-милия Жаров? - И на мой утвердительный кивок, обратился к режиссеру фильма. - Д-давайте возьмем его еще на эпизод.
И мне, с легкой руки моего кумира Певцова, дали еще одну маленькую роль. Я играл какого-то привратника, который открывает ворота, снимает шапку и кланяется, когда въезжает Тот в карете.
В том же Драматическом играл Б. С. Борисов, всеобщий любимец москвичей, сочный, необыкновенный комик. Его фигура, лицо, нос, глаза, голос были такими, что, когда вы на него смотрели, вам сразу становилось легко на душе, хотелось смеяться и вообще радоваться жизни. Описать его нельзя. Его надо было видеть! Люди старшего поколения прекрасно помнят его как великолепного исполнителя жанровых песенок, особенно песен Беранже. Интересен в этом театре был и актер Л. В. Развозжаев, исполнявший острохарактерные роли. Он был организатором и чуть ли не директором студии, которую пытались открыть при Драматическом театре и куда я вскоре держал экзамен.
В это время открылся еще один интересный театр в Москве, который сразу произвел фурор. Это был театр миниатюр "Летучая мышь" под руководством одного из учеников К. С. Станиславского и артиста Художественного театра Н. Ф. Балиева. Этот театр родился из знаменитых мхатовских капустников, куда я, разумеется, не мог попасть, но о которых говорила вся Москва. И вот этот Никита Балиев, необыкновенно жизнерадостный, остроумный человек, от которого даже сам К. С. Станиславский, как говорили, был в восторге, открыл свой театр.
В первый раз я попал на спектакль "Летучей мыши" в середине программы, в тот самый момент, когда исполнялся номер "Музыкальная шкатулка". На сцене были три деревянные игрушки: отец - купец, мать - купчиха и их дочка - модница. Все три артиста кружились в польке, напевая в диалоге:
- Что танцуешь, Катенька?
- Польку, польку, папенька.
- Где училась, Катенька?
- В пансионе, маменька, и т. д.
Эта полька, вскоре стала знаменитой, ее запели все. "- Что танцуешь, Катенька? - Польку, польку, папенька" можно было услышать и в доме, и на улице.
Первая же балиевская миниатюра меня заразила своей веселостью и талантливостью исполнения. Я буквально стал бредить этим театром, пристрастие к которому как-то странно сочеталось во мне с любовью к МХТ и, главное не мешало этому. Я зачастил в "Летучую мышь". Раньше всех в день продажи билетов становился в очередь и покупал всегда одно и то же место - в середине четвертого ряда. Меня скоро здесь признали.
Я вел себя в этом театре с какой-то детской
непосредственностью. Сейчас я утратил это достоинство -заразительно хохотать. А тогда мне так нравилось все смешное в жизни и на сцене, я умел так здорово смеяться, что те, кто находился рядом со мной, глядя на меня, тоже хохотали. И Балиев, который делал свои конферансы-экспромты
великолепно, в одной из программ построил на мне целый номер. Я хохотал, а он начинал рассказывать залу, что это не "подсадка", что данному юноше не платят денег и даже не дают бесплатный билет, что это добровольная помощь актеру со стороны зрителя, в общем он сымпровизировал большой монолог, над которым все хохотали и которому аплодировали. Все смотрели на меня, все смеялись, а я краснел, махал руками, тоже хохотал и восхищался находчивостью и импровизационной свободой Балиева.
Несколькими годами позже, когда я уже выступал на сцене, мы с И. В. Ильинским пытались на летний сезон поступить в "Летучую мышь". Нас принял Н. С. Орешков, главный администратор.
Ильинского как актера он уже знал, а я ему был неизвестен.
- Ну, а вы, молодой человек? - обратился он ко мне. - Что вы можете? Кто вы на сцене?
Я ответил:
- Простак.
Он почему-то переспросил:
- Рубашечник, значит?
Я не знал, что такое "рубашечник", но смело кивнул:
- Да, рубашечник.
И Орешков сказал:
- Очень хорошо, нам такие не нужны.
Экзамены
В общем к осени 1916 года я "созрел" для решения "учиться на актера". В один прекрасный день мы с Васей Калининым отправились по московским театральным училищам и сразу записались в три разных списка.
Народищу всюду было - нельзя передать, что-то невозможное. Дня два или три
мы дожидались своей очереди.
Первый экзамен шел в Малом театре. Передо мной выступал Вася Калинин. Он был очень спокоен и даже холоден. Я удивлялся его выдержке, казалось, у него не было никаких нервов. Его узкие тонкие губы четко и ясно выговаривали слова, дикция у него была образцово-показательная для Малого театра. И В. Н. Пашенная, которая председательствовала в приемной комиссии, не дожидаясь результатов голосования, сказала:
- Он нам, кажется, подходит.
Подошел мой черед. Накануне я провел бессонную ночь, волнуясь до потери сознания. Когда назвали мою фамилию, я вышел на сцену и, не чувствуя ног под собой, не сделав даже самой короткой паузы, затараторил:
Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильич Грозный под матушкой Москвой...
А потом:
Вороне где-то бог послал кусочек сыра...
Стихотворение А. К. Толстого "Михаиле, князь Репнин" комиссия еще как-то прослушала. Но когда дело дошло до "сыра", он, очевидно, оказался тем самым "кусочком", которым комиссия уже объелась.
Кто-то из комиссии деликатно заметил:
- Я думаю, довольно? Довольно!
Пашенная, видя мои страдания, предложила сыграть этюд:'
- Вот вы на коленях собираете букет цветов для любимой девушки. Играет музыка. Попробуйте это показать.
Я, ничего не соображая, стал "собирать" букет цветов, рвал стебельки, складывая их в ладонь и чувствовал, как моя спина деревенеет, будто я несу шестипудовый мешок.
Пашенная посмотрела на меня и сказала:
- Успокойтесь. Может быть, хотите еще что-нибудь показать?
- Нет! Все! Спасибо!
Я ушел со сцены пошатываясь. Я понял, что меня не примут. И угадал. Меня не приняли. Когда вывесили список счастливцев, там был Вася Калинин и не было Жарова.
Я пытался получить объяснение тому, что произошло со мной на экзамене у одного молодого артиста - Бориса Бриллиантова (он был моим соседом, жил в Божедомском переулке). Бриллиантов мне сказал:
- У тебя есть возбудимость - это хорошо, у тебя есть простота - это тоже хорошо, но у тебя каша, каша во рту - это плохо. У нас в Малом театре нужно говорить чисто. Вот твой товарищ читал великолепно...
Я опечалился, но не очень! Передо мной еще были другие театры. Я пошел в Художественный, на этот раз один, без Васи, который остался в Малом. Мне дали номер шестьсот семьдесят третий или четвертый - точно не помню... И вот я сижу за кулисами Художественного театра, в фойе, рядом с кабинетом великого Станиславского. Сердце шумит. Вокруг говорят шепотом.
- Жаров, Михаил Иванович!
"Иванович" - никто еще меня так не называл... И вот я в маленькой уютной уборной - в той самой, где сейчас я гримируюсь, когда играю обменный с Художественным театром спектакль и где я себя так хорошо и удобно чувствую. Увы, тогда, сорок с лишним лет назад, я чувствовал себя иначе...
И я начал:
Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильич Грозный под матушкой Москвой...
- Хорошо, а что у вас есть еще? - слышу приветливый голос.
- "Вороне где-то бог послал кусочек сыра".
- Пожалуйста, читайте!
Я чувствовал, что на этот раз я читаю совсем не так, как в школе Малого театра. Там, глядя в зрительный зал на комиссию за длинным столом, я видел каменные лица, на которых не отражались никакие чувства.
...Сейчас я думаю про это так. При всем том, что экзаменаторам приходится десятки раз выслушивать "Без отдыха пирует...", и проглатывать "кусочки сыра", которые "послал вороне бог", при всем том, что на экзамен приходят люди шепелявые, присвистывающие, люди с кашей во рту, которым, может быть, надо заниматься фокусами, жонглировать, учиться на циркачей, но отнюдь не на драматических актеров, при всем том, дорогие учителя и экзаменаторы, раз уж вы взялись за это дело, будьте любезны придать своим лицам ну хотя бы элементарно приличное, заинтересованное выражение, когда читает юнец!..
В Московском Художественном театре было совсем другое. Я помню, как передо мной сидел мой любимый, молодой, но уже известный артист И. Н. Берсенев, как в центре комиссии сидела всеми уважаемая О. Л. Книппер, где-то сбоку совсем молодая С. В. Гиацинтова и еще двое актеров, имен которых я уже не помню. И не потому, что я как-то по-особенному читал, а потому, что вся обстановка была иная, доброжелательная, располагающая, я чувствовал себя гораздо увереннее.
Я читал "Без отдыха пирует..." и видел дружелюбные лица, улыбки и подбадривающие кивки.
А потом Ольга Леонардовна спросила:
- Вы студент?
Я ответил:
- Нет, не студент.
Она сказала:
- А вы похожи на студента. Ваша "лиса" похожа на голодного студента! - Все засмеялись, и стало вдруг весело, свободно, как дома.
- Что вы еще нам покажете? - спросила она.
Через два дня я зашел в театр, чтобы узнать, кто допущен ко второму туру, который должны были смотреть К. С. Станиславский, В. И. Качалов, Вл. И. Немирович-Данченко, И. М. Москвин - вся головка МХТ, которую мы так боялись, потому что очень любили. И - о, счастье! - и я вижу среди тринадцати допущенных ко второму, решающему туру свою фамилию под восьмым или девятым номером. Я постоял ошеломленный и счастливый. Ушел, потом вернулся опять. Нет, это не сон - в списке четко было написано: "Жаров, Михаил Иванович, рождения 1900 года". Да, это я завтра буду стоять перед Станиславским, перед моим дорогим Москвиным!
Что же произошло дальше? Дальше разыгрались поистине драматические события, о которых я и сейчас не могу вспоминать без содрогания.
Я слишком рьяно старался попасть в студию МХТ. Мой первый успех на вступительных экзаменах, с одной стороны, окрылил меня, но с другой, - вселил непреодолимый страх, что на следующем, заключительном туре я могу сорваться и удариться с поднебесья о булыжники мостовой. С этим чувством робости я никак не мог совладать.
В то утро я встал рано. Еле дождался, когда натяну свои самые лучшие узкие штиблеты с лаковыми носками - обувал я их по самым торжественным случаям.
Боясь опоздать на последний, решающий экзамен, я не шел, а бежал от Самотеки до Камергерского. И вот когда я был уже у цели и стремглав поднимался по театральной лестнице, то споткнулся и так неудачно зацепился за ступеньку, что носок у ботинка лопнул, оторвался и серая парусиновая подкладка вылезла наружу. Я предстал растерянным и жалким перед грозным ареопагом всеобщих любимцев - тут был и Станиславский, и Качалов, и, главное, Москвин, которого я дома так похоже копировал, что даже мама прозвала меня "Иван Михайлович". И вот я стою на блестящем паркетном полу и читаю, а мысли про ботинок, про серую парусину, которая предательски вылезает из оторванного носка, так и терзает мою душу: "Как стыдно! Рваный ботинок, все смотрят именно на носок... Надо скорее дочитать...".
Станиславский остановил меня и спросил:
- А кто слушал этого молодого человека?
Ольга Леонардовна Книппер и молодой актер с чудесными глазами, Иван Николаевич Берсенев стали что-то объяснять Константину Сергеевичу.
- А, ну тогда пусть он уйдет, - заявил Станиславский. -Успокоится и снова...
Вторую половину фразы я уже не услышал. Я бежал вниз по лестнице, а в голове стучало обидное: "пусть он уйдет...".
Пережив эту трагедию, я больше никогда не решался искать путей в Художественный театр. Слишком велико было мое потрясение.
Итак, в МХТ я тоже не попал. Я пришел домой, посидел, погоревал и сказал своему другу:
- Вася, ты, конечно, не пойдешь со мной. Тебе уже не нужно устраиваться - ведь ты артист Малого, но, может быть, ты проводишь меня к Развозжаеву в Каретный ряд?
- Нет, я тебя провожать не буду. Вот Федя тоже хочет поступить в студию. Ступайте вместе.
И мы пошли снова пытать счастье с младшим Калининым, Федором.
В Каретном ряду не было очередей и весь список желающих поступить в школу Драматического театра не составлял более двадцати - двадцати пяти человек. Нас собрал ведущий актер театра Развозжаев, которого я знал и любил по сцене, и сказал:
- Прочтите кто что хочет.
Мы прочли. Он сказал:
- Ну вот что, слушать вас мы больше не будем. Давайте так: я буду показывать на вас пальцем, и каждый встанет и ответит, какого года рождения, как зовут, имя, отчество, фамилию и москвич или немосквич.
Он так и поступил: тыкал поочередно пальцем в каждого из нас, мы, как оловянные солдатики, вскакивали с места и называли свою фамилию, имя, отчество, какого года рождения и москвич или немосквич. Было очень глупо и смешно.
Развозжаев только резюмировал:
- Не шепелявый. Хорошо, садись. А вот этот шепелявый. Все равно садись, выправим!
Потом он всех вслух пересчитал - получилось двадцать пять человек. Развозжаев торжественно объявил:
- Двадцать пять человек принято в школу-студию Драматического театра. Поздравляю!
- Двадцать четыре, а не двадцать пять, - сказал кто-то робко.
- Почему двадцать четыре? - удивился Развозжаев,
- Двадцать пятый - это вы! - ответили ему.
- А!.. А!.. - уныло сказал он и добавил: - Завтра начинаются занятия. Принести по пятнадцати рублей.
Ха-ха-ха! Вы думаете, я там был? Нет, я там не был. Мне кажется, там никого больше не было. Внести пятнадцать рублей, чтобы учиться? Таких чудаков нет!
Вот так обстояло дело с моим первым желанием осуществить учебу в театральной школе.
После всех этих мытарств и срывов я снова вернулся к Зимину, где чувствовал себя на месте, "у дел", и хотя это была опера, а я мечтал о драме, все-таки я был близок к сцене и мог предаваться мечтам о будущем.
Закат зиминского театра
С. И. Зимин был типичным меценатом. Общественное значение его деятельности заключалось главным образом в том, что он рьяно старался конкурировать с императорской сценой. Такие тщеславные усилия частного предпринимателя, вкладывавшего свои деньги в развитие русского музыкального театра, объективно имели двойственный характер. Ему, как меценату, было приятно, что он, фабрикант, имеет тесную связь с большими деятелями искусства, что он им платит деньги и они во многом зависят от его благорасположения. Это ему явно нравилось, это льстило его самолюбию. Я даже сказал бы, что это было главное в его меценатской миссии, которая существенно отличалась от сознательной общественной деятельности К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, целиком и полностью посвятивших себя созданию подлинно народного театра.
...Большое дело, которое они начали, называлось "Художественным общедоступным театром". Общедоступным, то есть народным, доступным всем слоям общества. Эта просветительская задача была для них первостепенной и имела значение главной творческой силы. Только затем уже шла вторая задача, касающаяся исключительно нас, профессионалов, - создать новый тип актера и режиссера...
У Зимина ничего этого не было. Он даже и не старался, чтобы его театр был доступен народу, - он рассчитывал на элиту. Цены на билеты были очень высокие, и попасть в его театр мог далеко не каждый. И тем не менее его прогрессивная общественная деятельность, несомненно, была весьма значительной и полезной.
В чем она все-таки выражалась? В том, что он старался привлечь в свой театр и показать москвичам лучших артистов своего времени. Он приглашал великолепных певцов, дирижеров, художников. Декорации в театре Зимина отличались щедростью и тонким вкусом, ибо они должны были дополнять восприятие музыки, оркестр звучал превосходно, а артист-вокалист был царем на его оперной сцене. Вероятно, поэтому Зимин никакого внимания и значения не придавал режиссуре. Режиссура у него была самая примитивная.
Не хочется произносить обидные слова, но, откровенно говоря, режиссуры у Зимина просто не было. Зиминские постановщики ставили спектакли как бог на душу положит. Судите сами. Сидит в первом ряду партера полный или средней упитанности режиссер, очень непроворный, с этакой ленцой и нескрываемым безразличием на лице. Сидит, слушает и во время паузы говорит артисту на сцене:
- Если это не помешает вашему вокалу, не могли бы вы взойти на этот станок и спеть свою арию, находясь там.
Певец посмотрит на какую-то лесенку, поставленную для репетиций на сцену, и отвечает:
- Нет, я не могу взойти на этот станок.
Тогда режиссер говорит:
- Не можете, ну и хорошо, продолжайте как было...
И погружается снова в полусонное состояние.
Я не часто бывал на этих репетициях - они были безумно скучными, по этот случай мне запомнился. Он произошел с Игнацием Дыгасом, великолепнейшим певцом, исполнявшим партию Елеазара в опере "Жидовка". Он был поляк и впоследствии, когда уехал в Польшу, стал директором Варшавского оперного театра. Подобно этому Дыгасу, и другие певцы парировали, ничтоже сумняшеся, подсказки оперных режиссеров.
Можно себе представить что такие режиссеры, конечно, никакого творческого авторитета в театре не имели. Артисты располагались на сцене там, где им было удобно петь и следить за палочкой дирижера, откуда, как им казалось, они эффектнее выглядели. Об актерской игре не могло быть и речи. Мизансцены строились элементарно: переход справа налево и слева направо.
Некоторое разнообразие и оживление в режиссерскую практику зиминского театра вносили импровизированные концерты-спектакли. Я даже вспоминаю один большой
концерт- гала , который устроил Зимин во время воины в пользу своего лазарета. В те годы среди богатых людей, фабрикантов и прочих капиталистов, возник благотворительно-патриотический порыв; они создавали
военные госпитали, которые сами финансировали. Зимин тоже открыл свой госпиталь, но даже из этой благотворительной затеи он сумел извлечь для себя прямую выгоду. Дело в том, что шла война и многие из артистов призывного возраста попали в армию. Опере грозило закрытие. Что же делает наш меценат?
Он хлопочет перед соответствующими военными
начальниками, чтобы мобилизованных артистов отпускали петь по вечерам в театр. Всех этих артистов, взятых на военную службу, сосредоточили в одной части, которая, кажется, называлась "телеграфным батальоном". Артисты-воины служили в нем под своей настоящей фамилией, а вечерами пели в театре под псевдонимом, а чаще под двойной фамилией, состоявшей из собственной и придуманной. Скажем, артист Даманский назывался Кипаренко-Даманский, Немов - Немчинский-Немов, Шувалов делался вечерами Шувановым и т. п. Брат О. Л. Книппер (он был певцом) стал Книппер-Нардов.
И вот однажды Сергей Иванович задумал устроить в пользу своего госпиталя большой концерт в духе кабаре.
В нем были заняты оперные артисты, взявшие на себя основную нагрузку в программе. Режиссеры должны были придумать каждому из выступавших интересный и оригинальный номер по принципу: каждый показывается в необычной для себя роли. Это удалось выполнить далеко не всем. Я запомнил, пожалуй, только Юдина, который выступил действительно остроумно. Он был лирическим тенором, а на концерте в женском костюме и гриме пел "В Фуле жил да был король" - арию Маргариты с прялкой из оперы "Фауст". Юдин имел большой успех, его заставили бисировать. Он действительно сделал свой номер интересно, внес в него творческую выдумку.
Остальное помню плохо. Потому что - скажу по секрету - я очень волновался, ибо сам принимал участие в водевиле "Слабая струна" - веселой сценке, где все роли исполняли не драматические, а оперные артисты. В нем было много остроумных куплетов, и певцы беспокоились, что не смогут донести непривычный текст; голоса у них были поставлены для оперного пения, а не для исполнения куплетов, которое требует умения передать голосом юмор и особую акцентировку.
Мне поручили бессловесную роль лакея.
М. И. Шувалов, любимец труппы, веселый, жизнерадостный артист, прекраснейший человек (скажу попутно, что он уже в советское время долгие годы преподавал в консерватории и умер сравнительно недавно) подозвал меня и сказал:
- Жаров, ты будешь играть центральную роль. Лакея! Это роль центральная, потому что ты будешь входить в центральную дверь. Но говорить тебе не придется. Я спою: "Человек, кто-нибудь!", и ты войдешь; я пропою: "Дай сюда тарелку", ты подашь и уйдешь. Понятно? Важно только войти точно по музыке.
Я приготовился. Помреж держал меня за руку из боязни, что я войду раньше времени, и разговаривал с кем-то. Я, мокрый от волнения, слышу как Шувалов на сцене поет: "Человек, кто-нибудь!", а помреж отвернулся и не выпускает меня. Шувалов продолжает петь без меня: "Дай сюда тарелку!" Тогда помреж спокойно оборачивается. Я говорю: "Он уже просит тарелку. Наша роль кончилась".
Помреж как ни в чем не бывало:
- Нет, не кончилась. Тебе еще придется вынести тарелку!
В общем я вынес тарелку, но моя роль серьезно пострадала.
Сцена закончилась, а я все продолжал переживать свой позор. Однако один очень интересный номер в этом памятном концерте я все же запомнил. Его исполняли блестящие комедийные артисты того времени.
На фанере была нарисована в лубочном стиле и в натуральную величину четверка марширующих солдат. Там, где должны быть лица, оставили круглые дыры, в которые, стоя за фанерным щитом, вставляли свои головы: Виктор Хенкин (брат Владимира Хенкина), Балиев, Борисов и замечательный комик Яков Южный, очень смешной и страшно худой человек, от своей худобы казавшийся длиннющим, как жердь. Вставив свои физиономии в лубочных солдатиков, они под оркестр весело, залихватски пели частушки на очень модный тогда мотив "Соловей, соловей, пташечка". Это имело очень большой успех. Каждый из них исполнял один - два куплета. Текст был злободневный и очень остроумный.
Гвоздем этого вечера оказался тем не менее знаменитый петербургский театр "Кривое зеркало". Он привез спектакль Эренберга под названием "Вампука". Это была пародия на оперу, хлестко и остроумно высмеивавшая оперные штампы, пошлости и недомыслие.
Московские театралы слышали об этом спектакле, но то, что они увидели, превзошло все ожидания. "Вампука" била не в бровь, а в глаз оперным шаблонам. Особый успех она имела оттого, что шла на оперной сцене Зимина, где и вчера, и завтра будут всерьез разыгрываться те самые "оперные страсти", над которыми сегодня так весело, до слез, смеялись завсегдатаи партера. Собственно говоря, это была пародия не только на оперу, но и на ее покровителей, пародия, бьющая в цель!
Это было смешно и остроумно! Долго в Москве распевали:
Мы в Аф...
Мы в Аф...
Мы в Африке живем!
И вам...
И вам...
Вампуку мы найдем!
И еще одни гастроли вспоминаются в беспокойные зимние дни 1916 года в зиминском театре.
К нам приехал из Петрограда Л. В. Собинов. Я не буду рассказывать о том наслаждении, которое доставлял Собинов своей игрой и прекрасным голосом. Это был подлинный праздник для любителей оперного искусства. Но расскажу о Собинове-человеке, каким я его запомнил. В моем юношеском представлении Собинов был воплощением благородства. Если в Шаляпине был всегда какой-то бунтарский дух, то от Собинова исходили огромное обаяние и доброжелательство. Этот художник с мировым именем был необыкновенно внимателен к людям, что не часто встречается в жизни.
Двадцать гастрольных спектаклей Собинова в Москве совпали с очень тревожными для царской России днями. На фронтах было неспокойно, немцы наступали, обыватели говорили, что при дворе царя кишмя кишат "христопродавцы", немецкие шпионы. Сухомлинов был обвинен в измене, полковник Мясоедов как предатель был повешен. По Москве бродили зловещие слухи, которые меня, мальчишку, не очень интересовали, но я жил в семье, и отец каждый день, читая "Русское слово" и "Раннее утро" (там было много картинок), пространно объяснял матери и детям, что в царской семье неспокойно, что царица-немка пустит Россию по миру, что Распутин - сибирский мужик, полумонах, полуразбойник, который вертит царицей, как ему вздумается, а та в свою очередь вертит царем, и все у нас идет из рук вон плохо.
Л. В. Собинов шефствовал над крупнейшим военным госпиталем, располагавшимся в Мраморном дворце. Каждый раз после спектакля он шел в кабинет С. И. Зимина, где раздавался звонок из Петрограда с рапортом о положении дел в первой столице. Я толкался тут же, потому что должен был перед уходом домой получить распоряжения на завтра.
Деловой кабинет С. И. Зимина состоял из аванзала и рабочей комнаты. Здесь было выставлено множество уникальнейших вещей, рисунков знаменитых художников, карикатур знаменитых артистов, стихотворные посвящения знаменитых поэтов, всевозможные фотографии, картины, произведения керамики. Я очень любил рассматривать все это богатство и среди немногих, кому доступен был этот домашний музей, чувствовал себя счастливейшим экскурсантом.
Однажды после очередного разговора по телефону с Петроградом Собинов побледнел и сказал в трубку:
- Что вы говорите? Повторите еще раз.
По тому, как он это сказал, и по его испуганным глазам мы поняли, что произошло что-то сверхъестественное.
В кабинете было человек восемь - десять самых близких Зимину друзей. Наступила мертвая тишина, все напряженно смотрели на Собинова. Он повесил трубку и сказал:
- Господа, только что Юсупов убил Распутина.
Я пулей понесся домой, разбудил отца и мать и сказал им, что граф Юсупов убил Распутина. Отец закрыл мне ладонью рот и прошипел:
- Замолчи, чертенок, чтобы я этого больше не слышал!
- Папа, Собинову только что сообщили об этом по телефону из Петербурга!
- Иди спать!
Утром вышли газеты с чрезвычайным сообщением. Мой авторитет в семье сразу возрос.
Народный милиционер № 10
Был канун февраля. Я забыл театр на это время, не показывался на службе, ибо подлинным театром стала для меня сама жизнь - так насыщена она была небудничными делами.
Как только раздались первые лозунги: "Долой
самодержавие!", "Да здравствует революция!", как только начались митинги на Скобелевской площади и у памятника Пушкину, я потерял остатки покоя.
Носясь с митинга на митинг, я добрался до городской Думы, которая в эти дни походила на боевой штаб. Все двери были распахнуты настежь, повсюду сновали какие-то люди, на площади расположился составив ружья в козлы, полк солдат, перешедших на сторону народа.
Я облазил все этажи и коридоры, осмотрел знаменитый зал, где происходили заседания городских выборщиков, и попал на четвертый этаж, в какие-то маленькие комнатки. На одной из них было мелом написано: "Народная милиция". Там я
встретил ребят моего возраста или чуть постарше, лет шестнадцати - восемнадцати, от силы девятнадцати -двадцати. По виду это были студенты и гимназисты старших классов. Все говорили друг другу "ты", хотя встречались впервые. Кто-то принес чай, черный хлеб, мы поели и смотрели из окон на площадь. По ней двигались грузовики, облепленные людьми, подходили строем отряды солдат.
Часов в шесть - семь вечера нас стали разбивать на десятки, я очутился в первой десятке и получил билет, на котором было написано: "Народная милиция. Билет № 10. М. И. Жаров". Этот замечательный билет до сих пор у меня перед глазами: маленькая карточка из меловой бумаги размером примерно десять на шесть сантиметров, в левом углу футуристический рисунок - эмблема свободы в лучах.
После того как я получил этот билет и стал правофланговым в первой десятке московской милиции, нам объявили, что теперь мы находимся на военном положении и без разрешения никуда уходить не можем.
Я попросил разрешения позвонить домой, потому что там с утра не знают, где я.
До сих пор я помню номер своего телефона: 4 - 20 - 34. (Отец, чьи типографские дела шли в гору, поставил его накануне и очень этим гордился.) Я взял трубку и сказал:
- Мама, не волнуйся.
- Михаил, горе ты мое, где ты?
- Мама, я в Думе.
- В какой Думе, чего ты мою душу терзаешь? Беги сейчас же домой.
- Мама, я - народная милиция № 10. Я не могу бежать домой.
В это время вошел какой-то человек и сказал:
- Не говорите лишнего. Телефонная станция находится в руках юнкеров, они подслушивают и записывают телефоны.
Я бросил трубку.
Через полчаса раздалась команда:
- Первая и вторая десятки - строиться!
Потом нам сказали:
- Вот ваш комиссар. Вам дадут винтовки, вы пойдете в Головин переулок и займете полицейский участок.
Построившись, мы смело пошли через Театральную площадь, которая была заполнена солдатами, по Неглинной в сторону Трубной площади.
Шли мы безалаберно, путая ногу. Зимние сумерки быстро сгущались. Прохожие на тротуарах смотрели на нас испуганно: первые штатские с винтовками, да к тому же мальчишки. Впереди шагал молодой студент - наш комиссар. У него за пояс был лихо засунут наган, к моей зависти. От этой необычной для нас оснащенности оружием и от испуганных взглядов незнакомых людей мы сами начали себя побаиваться.
Но вот и Головин переулок. Полицейский участок закрыт. Мы постучали в дверь. Жильцы со второго этажа сказали:
- Дверь заперта, идите с черного хода.
- А "фараоны" там есть? Не будут стрелять?
- Не бойтесь, не будут...
Наш комиссар приказал:
- Ружья на изготовку! Я буду стучать.
Он вынул наган и левой рукой стал стучать. Ждать пришлось долго; потом дверь отворили, в проеме показался городовой в розовой рубашке в мелкий горошек, и в жилете. Он был похож на трактирщика, только на нем были сапоги и брюки городового. Это был первый живой городовой, которого я увидел не в форме.
- Руки вверх! - крикнул наш командир.
Городовой поднял руки и мрачно сказал:
- Я тут один, сторожу оружие. Куда его деть, не знаю.
Мы вошли в помещение участка. В козлах действительно стояли винтовки, и вокруг, в других комнатах, ни души. Мы облегченно вздохнули и стали ждать дальнейших распоряжений. Студент взял телефонную трубку и доложил куда-то, что задание выполнено, полицейский участок занят народно-революционной милицией.
Вошел городовой и спросил:
- Самовар что ли поставить?
- Ставь!
- А хлеб у вас есть?
- Есть немного.
- Сахара у меня нема, а самовар поставлю. - Необыкновенно мирно настроенный "фараон" пошел в кухню.
Кто-то из ребят сказал:
- Нам спать нельзя, он нас ночью придушит.
Первая победа, так быстро и неожиданно досталась нам, что мы не верили в ее реальность. Все было слишком прозаично, даже этот городовой, так непохожий на грозу московских улиц, свирепых "фараонов", кричавших: "Осади назад!". Он ходил толстомордый, красный, в русской рубашке и молчал, исподлобья глядя на нас и прислуживая, как в трактире.
Стало темнеть. Принесли керосиновую лампу, сразу стало скучно и неуютно. Я сказал:
- Товарищ командир, отпустите домой, я живу рядом. Оставляю в залог винтовку, мама уже измучилась.
Меня ужасно волновало то, что я бросил трубку, не докончив разговора с матерью.
Студент подумал и сказал:
- Иди, но возвращайся обратно.
Но этому не суждено было случиться. Наутро мать не пустила меня делать революцию: "Сиди дома, без тебя
обойдутся".
Отсидев два дня под "домашним арестом", я вырвался в театр. За несколько февральских дней 1917 года в театре Зимина, как и во всей стране, произошли существенные изменения, похожие на генеральную репетицию к близившемуся революционному перевороту. Сергей Иванович, как умный и дальновидный хозяин, поняв, что не может дольше держать бразды правления в своих руках, мирно согласился на передачу своего театра в ведение Московского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Были назначены новые руководители.
Заведующим труппой и моим непосредственным начальником стал В. В. Тихонович, интеллигент, всю жизнь посвятивший идее общедоступного крестьянского театра. У него даже были какие-то брошюры по этому вопросу, которые он дарил всем подряд, в том числе и мне, но, к сожалению, в голодное время их вместе с другими моими документами моя мать продала скупщику макулатуры. В. В. Тихонович, несомненно, очень любил театр. Это был худой, туберкулезный человек, у него были небольшие, всегда казавшиеся злыми глаза, но это только казалось, ибо он был добрейшей души человек и к людям относился великолепно.
В эти дни я впервые понял разницу между хозяином, который, здороваясь, дает тебе палец, похожий на сосиску, а через минуту той же рукой подписывает распоряжение о вычете твоего месячного жалованья за малейший проступок, хозяином, который считает, что раз он тебе платит, то может содрать с тебя три шкуры, и начальником строгим, но справедливым, уважающим человеческое достоинство. Со мной - помощником режиссера-администратора - В. В. Тихонович разговаривал так, как следует разговаривать со своим товарищем, выполняющим такой же по значению общественный долг, как и он сам. Он передал мне всю документацию театра, соглашения с актерами, которые работали (ведущие артисты, такие, как Дамаев или Юдин, без которых театр не мог обойтись, работали на другой основе) на договорных условиях, а не на круглогодовом жалованье. Все это хранилось в тайне, и ни один актер не знал условий найма другого.
К сожалению, весь художественный архив театра Зимина был оставлен бывшему хозяину, никто у него не реквизировал ни единой картины. А между тем за годы существования театра там собралась ценнейшая коллекция картин, эскизов декораций, альбомов, газетных и журнальных вырезок, в которых запечатлелась вся история частной оперы, Я говорил уже о том, что роскошный кабинет Сергея Ивановича представлял собой настоящий театральный музей.
Первое путешествие по России
Пришло лето. Я никогда не уезжал от своих родителей на каникулы. Все мои поездки сводились к "путешествию" на станцию Сходня, к брату матери. Дядя Сережа был обер-кондуктором Николаевской железной дороги. Он был красивым, статным, носил замечательный мундир, а зимой круглую шапку из каракуля с торчащей белой кисточкой, прикрепленной к кокарде. Меня и сестру Лиду летом, а иногда и зимой отправляли к нему на несколько дней отдыхать. Вот и все мои поездки. И вдруг в театре мне сделали необычное предложение.
В зиминском оркестре был виолончелист С. И. Ступин, молодой человек, обуреваемый жаждой деятельности. В беспокойное лето 1917 года он сколотил концертную бригаду, куда вошли знаменитая Тамара Гамсахурдия - талантливая прима-балерина оперы Зимина, пианист Ендовицкий, колоратурное сопрано Ефимцева, чудесная, многообещающая певица, и молодой бас прекрасного тембра Ждановский. Все они были первоклассными солистами, и жаль, что впоследствии судьба разбросала их в разные стороны.
Они собрались на товарищеских началах для большой гастрольной поездки и предложили мне поехать с ними администратором для организации концертов. Мне показалось лестным это доверие, предложение было заманчивым, но вместе с тем страшноватым. Я решил посоветоваться с домашними. После того как отец и мать впервые услышали от меня об убийстве Распутина, мой авторитет в семье необычайно возрос. Они уже не ругались, что я целыми днями пропадал в городе, уходил из дому чуть свет, возвращался затемно с кучей разных новостей. Я был, так сказать, семейным информатором, которого все слушали с большим вниманием.
Отец мой всегда мечтал о том, чтобы я стал типографом. Ему очень хотелось, чтобы, как и он, я работал в типографии и когда-нибудь "пробился в люди". Он часто говаривал: "У тебя, Миша, есть смекалка. Ты можешь быть директором типографии".
Но жизнь разрушила, как карточный домик, все тщеславные родительские планы.
Пяти лет я сломал себе руку, через год - второй перелом, а лет в двенадцать в третий раз я расшиб себе грудь. У меня открылся детский туберкулез, который потом прошел, но этого было достаточно, чтобы навсегда расстаться с мыслью о типографии - свинцовая пыль стала моим врагом. Отец примирился с этим, но мечту о моей административной карьере не бросил. И когда я сообщил дома о предстоящей гастрольной поездке, отец подумал и сказал:
- Уж очень беспокойно все кругом! Неразбериха! - И, сделав паузу, добавил: - Хотя не знаю, как мать, а я рискнул бы. Чем черт не шутит, - может быть, станешь директором театра когда-нибудь или главным администратором. Если повезет, конечно. Я отпустил бы его, а, мать?
Мать поплакала, поплакала и сказала:
- Как сам хочет.
Я сказал, что хочу, и поехал.
Двухмесячная поездка во время летнего отпуска была очень интересной. Все было для меня ново, необычно. В свои семнадцать лет я впервые вырвался на волю, в незнакомый, неведомый и такой любопытный мир. Я не понимал тогда ни масштабов событий, ни всей глубины того, что происходило в России. Меня интересовала лишь внешняя сторона. Собирался где-нибудь в Москве митинг, - я бежал туда. Потом кто-то кричал: "Бей его!" - и я стремглав мчался в другой конец города, где кого-то собирались бить... Газеты извещали: "Царь отрекся", "Нет царя, - есть Гучков!". Кто такой Гучков? Это который в Думе сидел? Ага! Он ругал царя? Ругал! Значит, хорошо. Да, все воспринималось мной именно таким примитивным образом.
И вот, покинув Москву, я попал в Россию, которая бежала с фронта. Россия бродила, она не хотела воевать. Те, кто был на фронте, не хотели воевать, а те, которые находились в тылу и командовали, заставляли продолжать войну. Вся Россия, казалось, встала на колеса. Гнали эшелоны на фронт, бежали эшелоны с фронта. И нужно было быть безумцем, чтобы в такой момент, в этом водовороте истории, вдруг выдумать концертную поездку, да еще выслать "передовым" мальчишку туда, где все замерло - телеграф бездействовал, почта едва плелась, поезда двигались медленно с безнадежно нарушенным расписанием, попасть в вагон было почти невозможно, ездили на крышах.
Я очертя голову ринулся в эту самую авантюру. Эта поездка и в самом деле была не чем иным, как авантюрой, и кончилась как таковая, хотя я в то время воспринимал ее очень серьезно, преисполненный чувством ответственности.
Первый город, в котором я остановился, была Сызрань. Впервые в жизни я попал в гостиницу. Один в комнате, чужой, незнакомой. Значит, я действительно самостоятельный человек.
Свобода кружит голову и рождает много мыслей. И на ночь я баррикадирую дверь, придвинув к ней стол и навалив на него стулья. От кого? Зачем? А затем, что у меня на шее в мешочке висят деньги, которые мне доверили на устройство концертов. Теперь я отвечаю сам за себя, и не только за себя.
Так, обуреваемый страхами, которые возникли во мне под впечатлением прочитанных выпусков "Парижских тайн", "Палача города Берлина", Ника Картера, Ната Пинкертона, всяких королей сыщиков, я в полной мере почувствовал ответственность за порученное дело.
Я носился по волжским городам, устраивая, как мог, концерты. Группа плелась где-то сзади, мы теряли друг друга, я от отчаяния рвал на себе волосы и неожиданно, вопреки элементарной логике, узнавал, что концерты, которые я организовывал, действительно состоятся.
Так я добрался до Царицына, сложенного из маленьких деревянных домиков. Было такое впечатление, будто теснотесно друг к другу стоят спичечные коробки, а на них только опущены крыши, чтобы хоть немного придать сходство с жильем. Эти спичечные коробки вызывали во мне какой-то страх. Мне казалось: попади туда одна настоящая спичка, чиркни случайно, и весь город вспыхнет пламенем и сгорит в один миг.
В Царицыне меня ждал полный крах: деньги все вышли, связь с труппой была окончательно потеряна, поезда не ходили, никого знакомых в городе у меня не было.
Был лишь единственный адрес - отца Тамары Гамсахурдия, который держал цирковую антрепризу то ли в Саратове, то ли в Самаре - эти два города я всегда путал, по-моему, все-таки в Саратове. Это был аварийный адрес, который мне дал Ступин, предупредив, что лучше им не пользоваться: старик не был в восторге от карьеры своей дочери. Но делать было нечего, и я без гроша в кармане отправился в Саратов.
На вокзале я познакомился с одним веселым прапорщиком, дававшим "драпа" с фронта, и он довез меня, подкармливая, до места назначения.
Гамсахурдия-отец принял меня, прямо скажем, подозрительно. В рекомендательном письме дочери говорилось, что "податель сего - администратор московской труппы оперных артистов... который может дать гарантийную расписку...", а перед ним предстал худенький, тощий веснушчатый мальчишка, робко переминавшийся с ноги на ногу у порога. Он спросил:
- Кто вы такой и что вы от меня хотите?
- Я, Жаров, - ответил я, - тот, который вам может дать гарантийную расписку.
- Гарантийную расписку! Хе! Администратор! Расписку! Ну и ну! Да за вас пятака медного никто не даст!
На мое смущенное молчание он смилостивился и сказал:
- Ну, хорошо. Садитесь, Жаров, поговорим.
Угостив меня чаем, он сказал:
- Вот что, дорогой мой, нужно было бы, конечно, высечь вас всех за эту вашу оригинальную поездку. Но дело сделано... Вот что... Куда вы сейчас направляетесь?
- В Уфу.
- Хорошо. Я вам дам деньги, в первый и последний раз. Но имейте в виду, - я даю их не вам, а своей дочери, а вы, молодой человек, раз и навсегда забудьте мой адрес.
Я так и сделал - никогда в жизни больше не вспоминал его адрес, но до Уфы я все-таки добрался и концерт в Уфе организовал.
Тут-то я увидел впервые в своей жизни театр провинции. Уезжая, я заключил с администратором местного
драматического театра, где должен был состояться концерт, соглашение на продажу билетов и ведение концерта. Он меня повел в зал. Театр был переполнен разнообразной, очевидно, случайной публикой. Много военных. Шел водевиль "Жених долгового отделения". Играли лихо, просто - "по жизни". Артисты, мне казалось, испытывали огромное наслаждение -они не задумывались над тем, что делали, и когда старый актер, забыв, очевидно, текст, остановился, другой, помоложе, с ходу произнес его реплику и тут же сам на нее ответил.
Я уехал из Уфы с грустью. В дороге я познакомился с профессиональным администратором другой столичной гастрольной труппы, денег у него было на организацию концертов уйма, да и своих хоть отбавляй. Он мне открыл "секрет": ему отдали на откуп продажу открыток артистов, которых он вез. Их было всего двое, но каких! Наталья Лисенко и Иван Мозжухин. Открытки брали нарасхват в битком набитых гастрольных залах. Вот это была жизнь! Расставшись с этим ловким удачником, я тихо всплакнул, наверное, был не очень сыт, и поехал дальше.
Вот такой была эта длительная, полная необыкновенных приключений поездка семнадцатилетнего театрального несмышленыша, который беспокойным летом 1917 года, организуя концерты московских солистов, докатился до самого Иркутска.
Как ни трудна и нелепа была эта поездка, она дала мне многое: научила самостоятельности, закалила невзгодами, я получил первый немалый жизненный опыт. Главное же - у меня будто открылись глаза на большую Россию, я увидел десятки городов, пригляделся к сотням людей, таких непохожих друг на друга и вместе с тем связанных одной судьбой, одними заботами и радостями. Мой кругозор расширился невообразимо, и в моем сознании, в моей душе как-то само собой, помимо воли, отложились яркие, колоритные жизненные впечатления. Я сталкивался с разнообразнейшими людьми - и плохими, и хорошими, -которые в дальнейшем, всплывая в памяти, питали творческую фантазию актера. И если впоследствии мою работу над образом Пикалова в "Любови Яровой" рассматривали как большую удачу, то это не в последнюю очередь было результатом моих встреч и наблюдений за время первого путешествия по России.
Я вернулся в Москву точно к началу сезона. Это был исторический театральный сезон 1917/18 года. Рубеж двух эпох, стык нового и старого мира.
Первая студия
Самым любимым театральным домом был для меня, как я уже рассказывал, Художественный театр. Но еще более близкой была его Первая студия, которая помещалась тогда на Скобелевской площади, ныне площади Моссовета, в "ампирном" доме, на втором этаже. Студией МХТ руководил в то время близкий друг Станиславского, энтузиаст системы, человек и художник, как про него говорили, "высоких моральных стремлений", Л. А. Сулержицкий.
Интимная атмосфера студии, в которой царили гуманность, тончайшая правда человеческих переживаний, искренность, душевное здоровье и моральная чистота творчества, питала мое трепетное восприятие театрального искусства. Да, именно трепетное - другого слова я не могу найти.
Вы входили в дом, где все было обставлено очень скромно, шли мимо белых, под мрамор отделанных колонн, сливавшихся с такими же белыми, ничем не украшенными стенами, и попадали в небольшой зрительный зал.
Сцены в нашем понимании никакой, собственно, не было: зал был разгорожен на две части занавесом от потолка до пола. Потом шли стулья, поднимаясь незаметно, под малым углом, и эта откровенная, наивная простота сразу подкупала зрителя и делала его близким, как бы домашним другом театра. Занимая места, все почему-то говорили шепотом.
Что же там шло?
Первое, что я там увидел, был "Сверчок на печи".
Тогда я, естественно, еще не понимал всей программы, всех устремлений Сулержицкого. Я видел только жизнь человека, индивидуума, и не более. "Соответствует это жизни или нет, -думал я. - Похоже это на то, что я вижу вокруг, или не похоже?" С этих позиций я как зачарованный смотрел на спектакли Первой студии.
Я приходил в театр, радостный, одухотворенный, садился в кресло, и рядом со мной сидели такие же радостные люди; все мы, не отрываясь, смотрели на сцену.
Медленно гас свет, и вдруг, как в сказке, как во сне, как в хорошем фильме, из полутьмы наплывом с правой стороны сцены возникали очертания камина и фигурка одинокого человека, который рассказывал трогательную историю. Закипая, начинал петь чайник. И разворачивалась подлинная жизнь людей, о которых написал Диккенс. Люди на сцене и люди в зале жили одними заботами и страданиями. Это было замечательно. Люди на сцене так проникновенно открывали свои души, так доверительно рассказывали, о чем они думают, так беспредельно и наивно любили друг друга, что, казалось, совсем не замечали, как из темноты зрительного зала им внемлют сотни взволнованных душ.
И злодей в этом спектакле был таким отъявленным мерзавцем и так бесстыдно, не боясь, что его могут уличить свидетели из зала, вершил свои гнусные дела, и жизнь так сложно переплетала добро и зло, была так безобразна в своей разноликости, что на все это нужно было не только смотреть, но об этом нельзя было не думать, после того как уходишь из театра, не делать для себя какие-то выводы. И я скорее
снова бежал в кассу и покупал еще билет, и смотрел новый спектакль, и заражался новыми мыслями...
"Вот, - думал я, - что надо делать, чтобы не было плохих людей: надо всем ходить в театр и смотреть, смотреть без конца. Сразу будет видна вся гадость, которая мешает людям жить".
Так рассуждал шестнадцатилетний веснушчатый долговязый философ-самоучка и шел в театр на новый спектакль, смотрел пьесу Шекспира, которая называлась "Двенадцатая ночь", и наблюдал совсем другую жизнь, тщеславие, величие и падение других людей. И какой-то маленький, щуплый артист Н. Ф. Колин повергал его в неописуемый восторг. Играя Мальволио, он так убедительно показывал веру этого нелепого человечка в то, что он писаный красавец, что в него влюблена сама герцогиня, что становилось смешно и грустно. Колин делал это прекрасно, с огромной верой и полным перевоплощением. И потрясенные зрители бежали снова в очередь и покупали билет на "Ведьму" пли на "Чеховские рассказы"...
И снова видели Колина, он играл в "Ведьме" дьячка. Это было так смешно, что я хохотал до упаду, в буквальном смысле сползая со стула.
Вот этот восторг, вот это наслаждение давала нам Первая студия, и мы жили, воспитывались, росли под этим чудеснейшим влиянием. Конечно, сейчас мы понимаем, что истины, которые преподносил нам в то время даже этот передовой московский театр, имели достаточно отвлеченный характер, были ограничены идеалами нравственного самоусовершенствования.
Естественно, что эта "этическая программа" театра дала трещину в первые же годы революции, когда столкнулась с требованиями открытой классовой борьбы. И вполне понятно, что в жестоких битвах революции, в обстановке голода и разрухи Ленина раздражала в "Сверчке на печи" "мещанская сентиментальность Диккенса". Это почувствовали и сами актеры, пытавшиеся в 1922 году в связи с пятисотым спектаклем заменить тихую-тихую нежную песенку сверчка "громким, - как писал тогда один критик, - гимном, утверждающим крепкую, мужественную любовь...".
Из этого "гимна", правда, ничего не получилось. "Сверчок на печи" отпел свое еще до революции, и его стрекотание звучало смешно и жалко в годину классовых битв, когда резко обнаружились раздирающие страну противоречия.
Но в то время, когда "Сверчок на печи" смотрел я, в годы идейного разброда, декадентских шатаний и развлекательного канкана, Первая студия сумела этим и другими спектаклями оградиться от реакционного мистицизма, обывательщины и шовинизма. Пристальное внимание к внутреннему миру простого человека, принципы "внутренней актерской техники", провозглашенные Станиславским, были отдушиной в те годы.
Первую студию МХТ я обожал еще, вероятно, и от того, что она называлась студией. В этом было что-то молодое. Я был мальчишкой, юнцом, и меня тянуло туда, где ничто не напоминало официального театра, со сценой, порталом, ложами, ярусами, роскошью золотых орнаментов и бархатных кресел. В студии было, как я уже говорил, так же скромно и просто, как дома, сцена продолжала зал. Здесь молодость театра лицом к лицу встречалась с молодостью зрителя. Жизнь и искусство существовали друг для друга, любя и понимая друг друга. Здесь артисты не играли, ибо игру сразу видишь и обман моментально распознается, а жили настоящими чувствами в атмосфере талантливо воссозданной действительности.
Я смотрел знаменитый спектакль "Потоп" не менее двенадцати раз, потому что в нем играли роль Фрезера поочередно два выдающихся актера - Евгений Вахтангов и Михаил Чехов. Я видел их в этом спектакле и до революции, и после, когда, продолжая работать в бывшей опере Зимина, по поручению Тихоновича, организовал гастрольный спектакль Студии МХТ в помещении нашего театра. И что интересно -всякий раз я получал огромное наслаждение от этого спектакля, как будто видел его впервые. Что пленяло меня в нем?
Ни один спектакль я не смотрел столько раз, кроме "На дне", из-за Москвина и Дикого, игравшего Алешку (роль, о которой я мечтал всю жизнь, но так и не получил ее). Только в "Потопе" мне казалось, что и актеры играют спектакль впервые, и зрители всегда смотрят его в первый раз.
Дело здесь в особом чувстве первородства создаваемого образа. Какое бы величайшее мастерство ни было у артиста и как бы отлично он ни играл тот или иной образ технически, все равно ему необычайна трудно, а подчас и невозможно вызвать в себе это свежее, первичное отношение к образу, которое сопутствовало ему на премьере. В Первой студии такое первичное отношение к роли было не исключением, а правилом, причем достигали его все исполнители.
Чехов и Вахтангов играли так, что нельзя было сказать, кто из них лучше. Сейчас в театрах идут такие же бесконечные, как и бесплодные разговоры о дублерах. Спорят, нередко обижая друг друга, о том, как вводить в спектакль второго исполнителя, кто должен играть премьеру и так далее. Исполнение роли Фрезера Чеховым и Вахтанговым является ответом на все эти совершенно неделовые и нетворческие дебаты. Что значит: "я назначен на роль"? Что значит: "я первый или второй исполнитель"? Что означают доводы администрации, что спектакль нельзя снимать и он должен идти во что бы то ни стало, при любой, даже "пожарной" замене исполнителей? Да, конечно, в театре должно быть профессиональное и деловое отношение к искусству, к обязанностям и обязательствам, взятым перед публикой, чаще всего приходящей смотреть определенных актеров. Именно профессиональное, - тогда и будут соблюдены все интересы зрителя, ради которого мы работаем, страдая при неудачах и радуясь при успехе.
Нельзя затыкать дыры "наспех втиснутыми" в спектакль слабыми артистами, которых только по какой-то дьявольской дипломатии когда-то назначили на ответственную роль. Я хотел сказать "бездарными" артистами, но, может быть, это слишком резко, потому что, если актер бездарен, он вообще не должен быть актером.
Хотя Вахтангов и Чехов в роли Фрезера говорили одни и те же слова, попадая по ходу действия в одинаковые обстоятельства, предложенные автором, - они играли двух совершенно различных людей. Они воплощали два самостоятельных образа, две вариации на одну тему. Если вы посмотрите фотографии актеров в этой роли, то не узнаете, кто основной, кто дублер. Вы увидите, что они не копировали друг друга и что смотрят они на вас даже с фотографии по-разному. И это не потому, что Вахтангов совершенно не похож на Чехова, и не потому, что они не старались играть некоего третьего, который объединял бы их обоих.
Когда мы в театре смотрим дублеров, то видим, что часто менее способный актер делает все то, что и его предшественник, но в ухудшенной, рыночной копии. Что может быть неудачнее и оскорбительнее для искусства, чем иметь профессию, которая официально называется "копиист"?
...Я отдыхал однажды в подмосковном санатории с Борисом Щукиным. Поздно вечером, перед сном, мы обычно долгодолго беседовали об актерах, режиссерах театра и кино, о взаимосвязи и взаимообогащении этих двух видов одного искусства. Мы говорили о режиссерах-диктаторах, которые, "лепя" или "выстраивая" образ, как любят они выражаться, из податливого актера могли при усиленной работе "вылепить" оригинальную и даже убедительную фигуру. Но если актер не пропускает через себя режиссерские подсказы, то получается чаще всего формальное подчинение замыслу режиссера, и сам артист не раскрывается полностью, более того - его творческие возможности атрофируются.
- Вахтангов, - говорил мне Щукин, - шел в своих замыслах только через актера. Это одухотворяло обоих художников, это вызывало к жизни такие неожиданные ходы, краски и повороты, которые вряд ли под силу, когда творит один за всех.
Однажды разговор возник после просмотра фильма "Возвращение Максима". Щукин много и взволнованно говорил о том впечатлении, которое на него произвела моя роль Дымбы.
- Какое органическое слияние слова, движения, игры с вещами, тончайшие детали и психологические переходы -ничего лишнего! Все так отобрано, что кажется нечего ни добавить, ни убавить! Ваша сцена игры на бильярде, темпераментная, буйная и в то же время спокойно-властная, демонстрирует профессиональное хамство этого завсегдатая, "короля" санкт-петербургского бильярда. Эта сцена раскрывает целую эпоху. Ваша последующая игра у стола, где вы, подвыпивши, шумно откровенничаете!.. Это!.. - Он умильно поднял голову и плечи кверху и развел руками. У него это была, вероятно, высшая оценка.
Я ему сказал, что если это все удалось, то только потому, что работалось легко, весело, в полном единении с Козинцевым, который как режиссер дает полную волю актеру искать, предлагать, фантазировать, импровизировать, но и вовремя умеет остановить, для того чтобы помочь отобрать самое нужное, самое выразительное, самое типическое для картины, куска и образа в целом.
Щукин опустил голову и, как мне показалось, проникновенно сказал:
- Так работать - это наслаждение, это мне напоминает опять Вахтангова. Хорошо! - закончил он задумчиво.
Эти чудесные вечера, которых у нас, к сожалению, было немного и об одном из которых я еще расскажу позже, заставляли либо пересматривать уже устоявшееся, либо утверждаться в том, в чем раньше ты колебался.
Я был сторонником актерской свободы, влюбленности в работу вместе с другом - режиссером, и меня радовало, что я находил таких авторитетных союзников...
Заметьте, что я никак не могу приступить к конкретному рассказу о том, как играли Чехов и Вахтангов, ибо все время делаю петли, перебивая себя, предаваясь ассоциациям. Эти "петли" возникают естественно, ведь от игры подлинных артистов получаешь обильную пищу для мыслей и чувств.
Я, к сожалению, не могу восстановить рисунка их ролей - с тех пор прошло столько времени! Поэтому я прошу верить, что это было действительно замечательно, что даже такой придирчивый человек, такой Фома-неверующий, который, пока сам не увидит и не пощупает, не скажет: "да", как К. С. Станиславский, признавался, что "Потоп" он смотрел множество раз, неизменно приходя в восторг от того, как исполнялась одна и та же роль двумя столь непохожими актерами. В спектакле все играли великолепно: и Хмара, и Сушкевич - весь ансамбль был замечательным. Но эти два исполнителя не только великолепно играли, но и принципиально решили проблему дублерства.
Чехов был неповторимым виртуозом в создании человеческих характеров. В роли Мальволио, в которой до того блистал Колин, Чехов, создал образ почти гротескный, пользуясь, однако, настолько мягкими, до наивности простыми средствами, что вы были совершенно убеждены в том, что где-то совсем недавно действительно видели такого человека. Необыкновенная внутренняя вера заставляла верить и зрителя, что только так и может взирать на мир человек, подобный Мальволио Чехова. Он делал разнообразнейшие эксцентрические трюки, какие может позволить себе лишь знающий секреты мастерства и: полностью владеющий
перевоплощением актер. Они служили нужным, органичным, действенным дополнением психологического рисунка роли. Каждый его комедийный трюк был выполнен мастерски не только с точки зрения актерской техники, но - в чем и состоял весь секрет! - с точки зрения внутренней необходимости его в данном контексте, именно для данного образа. Отбор был точен, это был не трюк, взятый "напрокат", а трюк, рожденный органическим единством внутренней и внешней жизни актера в роли.
В последнем акте "Двенадцатой ночи" Мальволио - Чехов объяснялся в любви герцогине. Мальволио заставал ее у маленького аналоя, рядом стояла низкая скамеечка, на которую во время молитвы герцогиня, опускаясь на колени, клала библию. Чехов - Мальволио преклонял колени перед возлюбленной, и скамеечка оказывалась между его ногами. Он говорил пылкие слова, доводившие его до любовного экстаза. Мальволио - Чехов пытался встать, но колени в судороге сжимали скамейку, и он не мог подняться. Он делал всяческие попытки освободиться от проклятой скамейки, но у него ничего не получалось.
Зрители сначала посмеивались, затем хохотали, потом покатывались со смеху, но все старания Мальволио освободиться от скамейки ни к чему не приводили. Тогда Чехов - Мальволио в отчаянии брал библию и вышибал ею застрявшую между колен скамейку. Громом аплодисментов отвечал зал на этот чеховский "трюк". Все, что я пишу, лишь маловыразительный пересказ того, как играл Чехов на сцене. Его надо было видеть собственными глазами!
В предшествующей объяснению сцене Мальволио - Чехов находил письмо, подброшенное Марией, служанкой (ее играла Гиацинтова). В этом письме, как известно, Мальволио просят якобы от имени герцогини, чтобы он оделся кавалером и пришел на любовное свидание. Все прячутся, наблюдая, как он будет себя вести, читая полученное письме. Служанка прячется за куст, сэр Тоби (Болеславский) - за спинку скамейки, а садовник (Ключарев) - за главный занавес, который был собран в складки у левого портала.
Посредине сцены стоит Чехов - Мальволио, читающий письмо. Во время чтения три проказника, обменявшись между собой знаками, смеются и бросают реплики, на которые Мальволио - Чехов по-своему реагирует. Он быстро оборачивается на голоса, но никого не замечает. Так он делает несколько раз: обернется - никого нет, - продолжает читать. Второй раз: "ку-ку", - он оборачивается, опять никого, и, наконец, в третий раз: "ку-ку"...
Мальволио - Чехов увидел, как шелохнулся занавес. Тогда он на цыпочках подходит к занавесу, резко открывает его и, глядя в упор на садовника, спрашивает: "Кто тут?". Садовник нагло смотрит на него и, не моргнув глазом, отвечает: "Никого нет". Тогда Чехов - Мальволио, машинально повторив: "Ах, никого нет? Ну, ладно", - отпускает занавес и, успокоенный, возвращается на свое место, продолжая чтение любовного письма.
Попробуйте сыграть эту сцену и попробуйте убедить зрителя, что вы, актер, ничего не видели, когда каждому ясно, что вы видели все. А Чехов играл так, что вы не сомневались.
Чехов был виртуозом актерской техники, которую он совмещал с глубочайшей верой и наивностью ребенка. Это был талант плюс непрестанный труд, непрестанная учеба, раздумья и самоанализ, теория, бесконечное число раз поверяемая опытом, практикой.
Иное дело, когда Чехов играл в кино. Это был уже не тот властелин сцены, свободно паривший на крыльях техники и творческой фантазии. Его, вероятно, смущала незнакомая, не освоенная им техника при съемках. Неожиданные вскрики режиссеров и операторов, частые остановки нарушали привычную для него творческую атмосферу. Он конфузился и прикрывал свою природную застенчивость подчеркнутой бравадой, переходившей подчас в наигранную небрежность. Он сам мучился этим. Видел, что перед кинообъективом его игра выглядит либо неестественно преувеличенно, либо робко и серо. Переживал он это почти физически. Во всяком случае так было, когда он снимался в "Человеке из ресторана". После очередных мучительных съемок он мне говорил:
- Я люблю уставать после театра. Там усталость удовлетворения, счастливая усталость! А сейчас я просто изможден, у меня мышечная усталость. Воображение даже не участвовало в работе, а тело все болит. Почему это так? Наверное, я актер не для кино, нет! - заканчивал он грустно.
Легкий жанр
Но Первая студия была еще не всей театральной Москвой. Я в восторге носился и по другим театрам.
Вспоминаю, как я бегал в музыкальный театр, называвшийся тогда Никитинским, который помещался в нынешнем здании Театра имени Маяковского. Там крепко засела тогда оперетта, и актеры были все как на подбор. Потопчина, Монахов, Днепров, Кошевский - первоклассный, великолепный состав!
И странная история! Даже этот театр оперетты в то время мало посещала публика, как, впрочем, и остальные московские театры, за исключением, пожалуй, Художественного. Во всяком случае на тех спектаклях, на которые я попадал, зрителей было немного.
Нас, мальчишек-статистов, рассаживали в зале, в ложах, и мы выполняли обязанности клакеров, аплодирующих каждому выходу опереточной звезды. Мы не жалели ладош, когда Потопчина или другая примадонна высоко поднимала ногу в бурном каскаде и, повернувшись спиной, вскидывала юбками.
Первый ряд кресел занимали обычно завсегдатаи оперетты, пожилые или даже старые люди, с важными физиономиями и с биноклями в пухлых руках, которые они бесцеремонно направляли на ножки актрис. Они держались в театре, как хозяева. У меня создавалось впечатление, что все на сцене делалось специально для них. И хор, и кордебалет одевался и выкидывал "коленца" только для первого ряда. Шла ли оперетта "Добродетельная грешница", шла ли "Веселая вдова", или "Король веселится", - главным кульминационным моментом в них был дивертисмент, когда танцевали что-то вроде канкана, и даже не "что-то вроде", а просто канкан, независимо от того, происходило ли действие пьесы в Австро-Венгрии, Франции или еще где-нибудь.
Даже занавес театра был рассчитан на вкус тех, кто сидел в ложах с биноклем или в ближних креслах. Кстати, о театральных занавесах: во всех театрах, за исключением Художественного, их было обычно два.
Вначале висел занавес рекламный. Попав в зрительный зал, первое, что мы видели на сцене, была реклама: вин, духов, зубного врача и всяких патентованных средств. Не думаю, чтобы это помогало постановщикам вводить зрителя в идею пьесы или спектакля, который тот предполагал увидеть сегодня в данном театре. Да и вряд ли такую задачу вообще ставил перед собой режиссер. Этот рекламный занавес (за рекламу театр получал большие деньги) как бы вбирал в себя все, что было неряшливого и безвкусного в профессиональном коммерческом театре. Настоящих же художников и настоящих зрителей, искавших в театрах большое искусство, он попросту отпугивал.
За первым коммерческим занавесом существовал второй, которым режиссер распоряжался уже по своему усмотрению. В оперетте Потопчиной, как часто называли театр на Никитской, и этот занавес был своего рода коммерцией. Не помню, кому принадлежала эта идея "живого занавеса", да это и не имело значения, ведь раз найденный удачный режиссерский или актерский трюк передавался в ту пору из театра в театр и, обрастая, как снежный ком, катился все дальше и дальше по расейским подмосткам. Вот об одном таком трюке с занавесом в оперетте я и расскажу. Уж больно он типичен для того театрального времени.
Нельзя сказать, что трюк с занавесом был высокохудожественным явлением, но выглядел он эффектно. Из оркестра раздавались звуки увертюры, и второй занавес начинал медленно подниматься. Он поднимался вверх примерно на полметра от пола и останавливался, а вдоль всего занавеса, как бахрома на гардине, рассыпались женские ножки в чудных чулках и модных туфельках. Иногда эти ножки были обуты в один цвет, чаще, как в калейдоскопе, мелькали разными цветами. Владелиц этих ножек не было видно, они находились по ту сторону занавеса. И вот под вальс или марш, под веселую польку или "жгучий канкан" ножки в такт очень игриво выделывали разные "кренделя". Потом занавес медленно полз вверх еще на полметра, опять останавливался, и так до тех пор, пока полуобнаженные актрисы не представали перед нами во всей своей красе. Этот трюк всем нравился, особенно зрителям первых рядов. Можете себе представить, что делалось с людьми не первой молодости, которые сидели с биноклями и вожделенно дожидались своей минуты. Я видел их красные и потные шеи, холеные руки в манжетах, которые быстро водили биноклем слева направо, сверху вниз, словно наблюдая какую-то комету.
Тем не менее оперетта Потопчиной была, пожалуй, одной из лучших оперетт Москвы и России того времени. В ней были опереточные актеры с большой буквы, искавшие в своем жанре новые возможности, уходившие от штампов, присущих в особой мере этому развлекательному виду искусства, и создавшие великолепные комедийные образы. В "Цыганском бароне" блистал Вавич, чудесный артист, обладавший прекрасным голосом. Я видел "Король веселится", это была коронная роль Монахова; видел много раз Потопчину, Днепрова, этого незабываемого простака, с блеском исполнявшего впервые в России роль Бонн из "Сильвы" И. Кальмана. Так как я каждую хорошую роль примерял на себя, то меня очень долго волновала мечта сыграть в оперетте Бонн, но не вышло. Как короток век молодого актера, и сколько ролей остается по ту сторону мечты!
Вообще должен признаться: несмотря на то, что опера Зимина была моим домом, мне все-таки больше нравилась оперетта. Теперь я объясняю это тем, что в операх, которых я в то время прослушал великое множество и даже знал многие места из партитур наизусть, меня всегда беспокоило одно обстоятельство. "В опере есть не только музыка, но и слова, которые я хочу понимать, - рассуждал я. - Почему же всегда досадуешь, что слова, положенные на музыку, не доходят до тебя? Зачем тогда они?"
Когда я слушал пение и не понимал слов, мне становилось скучно - я хотел понимать смысл оперного действия.
У Шаляпина, когда он пел, каждое слово было вычеканено. Оно было объемно и ярко. У Собинова - тоже. Значит, большие артисты понимали, что только голоса и звука для оперы мало.
В оперетте же артисты очень много говорили, вся основа сюжета передавалась в разговорном диалоге. Музыкальные номера тоже исполнялись актерами оперетты с акцентом на слово, благодаря чему легко было ухватить не только их смысл, но и характер воплощаемого актером образа.
В оперетте я видел Монахова, создававшего высокохудожественные образы с истинным мастерством драматического актера. Кто помнит выступления Монахова в оперетте, тот согласится со мной, что это был большой актер. (Позже Монахов бросил оперетту и принял участие вместе с
Горьким и Юрьевым в создании Большого драматического театра в Ленинграде.)
Кроме оперетты, бывал я в других театрах Москвы военного и предреволюционного времени. Каждый свободный вечер я стремился посмотреть что-нибудь новое. Однажды на Большой Дмитровке, где сейчас помещается цыганский театр "Ромэн", открылся театр миниатюр, в котором прогремела веселая комедия под названием "Вова приспособился". Это было продолжением другого спектакля, который шел в том же театре и назывался "Иванов Павел". В нем ученик распевал куплеты:
Кто не знает букву ять,
Букву ять, букву ять,
Где и как ее писать,
Где писать, да...
Этот бессмысленный по существу куплет, по странному стечению обстоятельств, стал очень модным в Москве тех лет и распевался на каждом углу.
В обоих спектаклях театра - "Вова приспособился" и "Иванов Павел" - главные роли играл замечательный артист И. Р. Пельтцер, отец Т. И. Пельтцер, которая сейчас процветает в Театре сатиры и снимается в кино. Таня пошла в отца и сама стала великолепной комедийной актрисой. Итак, И. Р. Пельтцер играл приспособленца Вову. Это было московской сенсацией. Попасть на этот спектакль было очень трудно, хотя он был коротким и его играли два - три сеанса в вечер. Это было злободневное смешное представление эстраднодраматического смешанного жанра. В нем высмеивали тех лиц, которые уклонялись от воинской повинности и под всякими предлогами норовили пристроиться в тылу. Играли этот спектакль первоклассно, Иван Романович стал всеобщим любимцем. Я помню его еще по театру Корша: там он играл всегда эпизодические, характерные роли, но в этих вторых ролях он был больше, чем первый герой, и к нему, как к признанному премьеру, тянулись не только зрители, но и актеры.
Пожалуй, именно Иван Романович помог мне впервые понять, что в театре нет маленьких ролей и почти любой эпизодический образ можно сыграть так, чтоб он запомнился как заглавный герой. Это было хорошей школой для меня, и я на всю жизнь сохранил какую-то особую, почти отцовскую любовь к ролям малым, но отнюдь не маленьким.
Забегая вперед, скажу, что с Пельтцером я снимался в картине "Медведь", где он играл слугу, а я помещика Смирнова. И вот эта короткая встреча с Иваном Романовичем в одной сцене, когда он - слуга - выгоняет Смирнова из чужого дома, а тот не уходит и приказывает принести ему завтрак, прошла на киносъемках необыкновенно легко и свободно в смысле актерского самочувствия, что, к сожалению, не так часто бывает не только в кино, но и в театре. Играя с Иваном Романовичем, вы могли быть совершенно спокойны, могли пробовать, искать варианты, зная, что он как партнер вас не подведет, не будет выжидать, где, воспользовавшись вашей неуверенностью, подставить вам ножку и показать себя. Нет, наоборот, он вам поможет своим безошибочным актерским чутьем, создаст такую творческую атмосферу, что вы будете словно купаться в своей роли, получая истинное наслаждение от общения с чутким, правдивым актером, обладающим к тому же отменным вкусом...
...Вот так, побродив в Москве по разным театрам, я опять возвращался в свой Художественный театр, в его Первую студию, к своим любимым артистам, и убеждался еще и еще раз, что для меня нет лучшего театра на свете.
Г ляжу революцию
Между февралем и октябрем 1917 года жизнь подхватила и увлекла меня своим отнюдь не театральным потоком.
Я, как уже говорил, работал в бывшем театре Зимина, перешедшем теперь в ведение Моссовета, в должности помощника режиссера-администратора.
У меня было удостоверение-мандат, позволявшее мне входить во все помещения Моссовета и, стало быть, вращаться в самой гуще московских событий, быть в курсе всех новостей. Обо мне можно было сказать: "наш пострел везде поспел!" -столько я бегал по бурлившему городу, желая всюду поспеть, все увидеть.
24 - 25 октября по Москве разнеслись слухи, что в Петрограде началось вооруженное восстание большевиков. В этот день я носился между театром и Моссоветом.
За обедом в моссоветовской столовой, которая находилась в левом крыле второго этажа, кто-то положил мне на колени записку: "Дорогой товарищ, фракция большевиков приглашает тебя явиться сегодня в таком-то часу в здание Моссовета, в Белый зал".
Я прочел эту записку и также незаметно передал дальше. Выйдя из-за стола, я пошел заглянуть в Белый зал, мимо которого проходил каждый день. Дверь была закрыта. Я осторожно приоткрыл ее и увидел необычную картину, заставившую забиться мое сердце. Под каждым окном, выходящим на Тверскую, стоял пулемет "максим" в боевой готовности, на полу лежали и сидели солдаты. У стен в козлах стояли винтовки. "Вот она, революция, - подумал я, - сегодня непременно что-то будет".
Вечером, после очередного спектакля перед почти пустым залом, я отправился опять к Моссовету и еще издали услышал выстрелы. Встретившийся мне режиссер Вишневский, прищуря свой единственный глаз, сказал:
- Куда это вы идете? (Я был со своим товарищем - Ваней Юровым.) Разве вам не ясен зловещий смысл слухов о восстании большевиков. Будет резня!
- А вы не бойтесь, мы вас проводим, - ответили мы.
- Без вас дойду, прохвосты!
За что-то обругав нас, он пошел, постукивая палкой, в которую, как рассказывали бутафоры, был вмонтирован стилет. По иронии судьбы, Вишневский был вскоре убит у Никитских ворот пулей белогвардейца, а опасался "красных"!
Началась перестрелка с юнкерами полковника Рябцева, которые окружили Кремль, блокируя находившихся там красногвардейцев. Мы подошли к площади, где высился памятник Скобелеву, - дальше не пускали. У подъезда Моссовета и в подъезде гостиницы "Дрезден", где помещался Московский комитет партии большевиков, стояли штатские вперемежку с военными. Я мог пройти везде с моим удостоверением, но не хотел оставлять друга, и с группой солдат мы отправились вниз, к Охотному ряду.
Вдруг перестрелка усилилась. От Охотного ряда к Моссовету хлынула толпа. Впереди нее, по середине мостовой, шел студент, еще почти мальчик, с ружьем под мышкой, и, как свечу, держал перед собой окровавленный палец. Он смотрел на него, не отрываясь, был бледен, и губы его, как мне показалось, шептали: "Мама, мама!". Это был первый раненый, которого я увидел в тот день.
Ночь прошла в стрельбе, а рано утром, часов в девять, я побежал в театр - там все было невозмутимо спокойно. Я не мог оставаться в театре и побежал к Моссовету. На углу Камергерского переулка и Тверской стояла застава - солдаты с пулеметами. Дула "максимов" смотрели в сторону Газетного переулка. Я подошел к группе вооруженных людей. Какой-то дворник и я обратились к командиру с красной лентой на рукаве и с красной кокардой на серой шапке с просьбой пропустить нас к Моссовету. Пропустив дворника, командир взглянул на меня, худощавого парнишку с детским лицом, и, усмехнувшись, сказал, возвращая именной пропуск:
- Юнкера еще кругом стреляют. Иди-ка, Жаров, лучше домой. Небось, мать волнуется. И вообще не стой на углу!
Но не так-то легко было от меня избавиться! Меня все бесконечно волновало, и я, прижавшись к стене, остался стоять.
Вдруг тишину дробно прорезал стук колес. В Газетном переулке появилась тачанка, направлявшаяся к перекрестку Тверской. На ней что-то лежало, накрытое шинелями, а сверху, спиной друг к другу сидели двое военных. На козлах помещался офицер в папахе с поднятым воротником шинели и руками в карманах. Тачанка двигалась по направлению к Камергерскому переулку, где стояла наша застава. Когда она приблизилась, на перекресток мостовой вышел красный командир и поднял левую руку:
- Стой, кто такие?
Солдат, подошедший вместе с ним, взял винтовку наперевес.
Вместо ответа раздался выстрел. Стрелял возница. Наш командир упал. Человек в офицерской папахе прыгнул с тачанки и, как кузнечик на булавку, напоролся на штык красногвардейца. Беляк инстинктивно выдернул его, схватился руками за живот и побежал в нашу сторону. С обеих сторон улицы застреляли. Я юркнул в первые попавшиеся ворота. Стрельба так же быстро прекратилась, как внезапно началась. Мимо меня, шагах в трех - четырех, пробежал раненый с распоротым животом. Я видел, как он упал напротив ворот.
Когда мы выглянули из ворот, на месте боя лежало уже четыре трупа. Из серого дома в Камергерском переулке, где находился Белостоцкий госпиталь, а ныне - студия МХТ, бежали санитары с носилками.
Меня трясло, как в лихорадке. Первый раз в жизни я видел убитых, и не на войне, а в мирной, как мне казалось, обстановке родного города, рядом с любимым моим театром. Я видел смерть.
Три дня я пролежал дома в горячке, меня никуда не пускали. На четвертый я все-таки убежал от матери и снова видел улицы, где шли бои.
Через несколько дней было подписано перемирие, для того чтобы похоронить убитых. Первыми хоронили красных. За бесконечной вереницей гробов, которые несли к Красной площади, шла настоящая демонстрация.
Покуда буду жив, не забуду этой картины, она так и стоит перед глазами. Массовые похороны жертв революции. В этом было что-то величественное, полное большого исторического смысла. Я прошел к Большому театру, пересек сквер и остановился в толпе у здания бывшего театра Незлобина, ныне Центрального детского. От Лубянской площади к Охотному ряду спускалась процессия с гробами погибших в боях на Таганке, в Сокольниках, на Мясницкой.
Я помню свое тогдашнее ощущение: мне хотелось плакать, а когда я, одернув себя: "Стыдно! Ты же взрослый мужчина!", провел рукой по щеке, она стала мокрой от слез. Я слился с толпой, и от этого моя сердечная боль стала острее.
Вдруг, неизвестно откуда, звонко прогремел выстрел. Сухой и резкий, как удар бича в цирке. Все повалились на землю, пряча головы. Прошла секунда, другая, полные мертвой тишины, и сразу застреляла вся площадь. Было такое впечатление, что стреляли все и куда попало. Я скатился на землю и полз вместе со всеми. Я полз к двери конторы нотариуса, но она оказалась на засове. Кто-то ударил палкой, осколки стекла брызнули в разные стороны. Мы полезли в пролом. Пробравшись на второй этаж к окну, я увидел, что вся площадь и весь сквер перед Большим театром усеяны телами. Люди, как муравьи, расползались в разные стороны. Прошла, как мне показалось, вечность. Перестрелка прекратилась, и я понял, что и вечность недолга. Все встали, и шествие двинулось дальше. Выстрел был провокацией. Я шагал за процессией, мимо Думы, мимо Иверских ворот...
...Иверские ворота! Это же целая история. Сколько связано с ними мальчишеских воспоминаний старого москвича.
Там, где теперь проход к ГУМу, между Историческим музеем и Музеем Ленина, стояли раньше тяжелые башни с двумя арками с правой и с левой стороны. Чуть-чуть дальше, слева находится маленькое двухэтажное здание, на стене которого -мемориальная доска в память того, что здесь останавливался Радищев. Вот здесь от стены до стены и помещались Иверские ворота с часовней, в которой находилась знаменитая икона Иверской божьей матери. Там всегда толпился народ, горели сотни свечей, было жарко и душно. Прохожие - покупатели и дельцы, купцы и торговцы помельче - все считали необходимым зайти к Иверской, поставить свечку за здравие или за упокой, а больше всего на счастье. Не успевали сгореть одни свечи, как на их место верующие ставили новые. Гимназистки бегали к Иверской перед экзаменами. А сколько всяких надежд и чаяний, скорби и печали несли сюда люди!
Среди "торговых точек", которых на Красной площади было множество, это было самое доходное торговое предприятие. От Иверских ворот до самой Лубянки тянулись лотки мелких торговцев. Иверскую икону, считавшуюся чудотворной, вывозили в богатые дома за двадцать пять или пятьдесят рублей за выезд, чтобы освятить ею новую квартиру, благословить молодых или отслужить молебен о рабе божьем, болящем, имярек... Она была тяжелая, эта икона, ее вставляли в массивную раму с медными скобами и на палках несли не менее восьми человек. Под эту иверскую икону падали ничком, на костылях и без костылей убогие, юродивые и калеки, а те, кому удавалось удариться о нее головой и поставить на лбу шишку, считали, что они прикоснулись к "благодати божьей".
...И вот, пройдя эти знаменитые Иверскпе ворота, я пробился к Кремлевской стене у Спасской башни. Меня никто не задержал, и я оказался в первом ряду, на краю вырытой братской могилы. В огромную могилу спускали гробы, кто-то из московских руководителей большевиков произносил речь.
Похороны жертв революции в моем сознании превратились в какой-то символический акт. Будто подвели черту моим семнадцати годам и открыли новую страницу жизни -восемнадцатую. Я чувствовал, что становлюсь другим, что взрослею...
Жизнь продолжается
А жизнь в Москве, по крайней мере внешне, катилась еще по старым рельсам. Прошло два - три дня, и по городу запестрели афиши, возвещавшие выступление Вертинского в Славянском базаре.
Я конечно, не мог пропустить этого зрелища и должен был увидеть московского Пьеро, песни которого знал и любил. С ним соперничал, тогда Морфесси, который пел в театре Струйского (там сейчас помещается филиал Малого театра). Я не был поклонником Морфесси, а Вертинского любил слушать, так же как и чудесную певицу Изу Кремер. Это была полная молодая женщина, очень красивая. Мне она очень нравилась. Я был постоянным посетителем ее концертов.
Накануне вывешивались большие красивые плакаты: "Семь гастролей. Интимные песенки Изы Кремер". А на другой день поперек этой афиши, с верхнего угла на нижний, - плакат: "Билеты на все концерты проданы". Даже технически за один день невозможно было продать билеты на все концерты. Что же это был за трюк? Довольно простой и ловкий. В кассе обычно продавали билеты действительно всего один день. На следующий, когда очередь увеличивалась, вывешивали объявление, что все продано. Начинался ажиотаж. Все билеты оказывались у барышников, которые брали в два раза больше. Тем не менее я правдой и неправдой попадал на эти концерты.
Как все, в том числе и художественный вкус, определяется знанием жизни, опытом! Мне тогда казалось, что лучшей песенкой из всех является песенка о бедном негритенке, которую с такой теплотой и даже нежностью исполняла Иза Кремер. Я и сейчас ее помню наизусть.
Негритенок был симпатичен, очень мил,
Прибыл к нам из Занзибара.
Он посыльным стал,
В магазин цветов попал,
Где была хозяйкой Клара...
Эта песня ходила тогда по Москве в качестве очередного "шлягера". Тогда я не знал, что такое "шлягер", да, по-моему, это слово и не было в чести, - мне просто нравилась сама песенка.
/-Ч u V u
От этой наивной, сентиментальной песенки до выражения в нашем сегодняшнем советском искусстве подлинно интернациональных чувств к африканским народам, борющимся за свою свободу, - дистанция поистине огромного размера.
Иза Кремер была большим мастером лирической песни. Она отнюдь не была вульгарной, одевалась со вкусом, хотя и экстравагантно: на ней была юбка колоколом, на первом концерте она выходила в черном платье с муарово-белыми полосами, на следующем - в белом с черной лентой. У нее были бачки, как у испанки, и высокая, взбитая кверху прическа.
Но концерт Вертинского в Славянском базаре, о котором я начал говорить, отодвинул куда-то далеко-далеко впечатления от концертов Изы Кремер.
Концерт Вертинского был, кажется, первым открытым представлением в Москве после бурных событий Октября. В дни траура устройство концертов и зрелищ было запрещено.
...В небольшом зале сидели и стояли почти сплошь одни дамы. Мне бросилось в глаза, что все они были в черном и на рукаве носили креповые повязки - знак личного траура. У многих в руках были цветы. И когда вышел Вертинский, цветы полетели на сцену.
Маэстро впервые надел не свой обычный костюм Пьеро, а черную визитку, на правый рукав которой тоже повязал траурный креповый бант. Вертинский был очень бледен, крахмальная сорочка как бы сливалась с белизной его лица. Он сказал:
- Я спою вам песенку, посвященную мальчикам.
И впервые спел:
Я не знаю зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть беспощадной рукой...
Новая песня Вертинского, сочиненная и исполненная им на смерть юнкеров, вызвала в зале рыданья и слезы.
Вертинский стоял неподвижно и пел с закрытыми глазами.
Вторая песня была знакома:
Ваши пальцы пахнут ладаном,
А в ресницах спит печаль...
Когда он запел третью песню, я заметил, что происходит нечто странное. Вертинский, как-то неловко пятясь, но продолжая тем не менее петь, скрылся за занавесом, а вместо него на авансцену вышел рабочий-красногвардеец и, подняв руку, тихо и, как мне показалось, застенчиво объявил:
- Граждане, будьте спокойны! Концерт продолжаться не будет. Приготовьте ваши документы.
Как в известном фильме, но это было в действительности. Так закончился последний концерт Вертинского в Москве.
Все это очень напоминало прощанье с прошлым, безвозвратно канувшим в Лету, с прошлым России ладана, эполет и декадентских рыданий.
Когда я в 50-х годах снимался с Вертинским - этим чудесным артистом, неповторимым исполнителем интимных песен - в картине "Анна на шее", то напомнил ему этот случай, и он сказал: "Да, пожалуй, это был мой последний концерт". После него он пробрался на юг России, и оттуда начались его скитания по Европе и Америке, пока на закате своей жизни он не возвратился на родину...
...Через несколько дней я вернулся в театр и приступил к исполнению своих, как теперь, после пережитого на улицах Москвы, мне казалось, скучных обязанностей.
Мое отсутствие никого не удивило. Театр не работал. Там в дни боев стояли солдаты. В. В. Тихонович только собирался возобновлять репетиции.
В театры постепенно тоже врывался свежий ветер с улицы. Комиссаром академических театров, в том числе Большого и бывшей оперы Зимина, была назначена Е. К. Малиновская. Она начала с того, что собрала служащих театра и сказала:
- Давайте познакомимся, кто из вас что делает?
Взглянув на нас, молодежь, она спросила, чем мы занимались в эти дни. Я ответил:
- Смотрел революцию.
Малиновская сказала:
- А вам не кажется, что надо не смотреть, а помогать? Ребята вы молодые, займитесь делом. Кругом фронт. Надо помогать народу. Твой отец кто? - спросила она меня.
- Печатник.
- Значит, рабочий?
- Да.
- Вот и помогай, помогай во всяком случае мне, по долгу службы.
Я заявил, что больше всего хочу учиться, что моя давнишняя мечта стать историком-филологом. Произошла смешная ошибка: я думал сказать "археологом", ибо меня всегда интересовали раскопки, а, растерявшись, сказал "филологом".
Малиновская сказала:
- Учись! Тебе это теперь вполне доступно!
И после собрания она дала мне письмо к ректору Московского университета, в котором просила принять меня как сына рабочего на учебу. Я действительно был немедленно зачислен на историко-филологический факультет. Исправлять ошибку я постеснялся и остался на филологическом. В те времена дела решались быстро, без волокиты. Другой вопрос, что мне в дальнейшем оказалось не по силам совмещать две такие огромные нагрузки, как занятия в университете и напряженную работу в театре-студии, которую вскоре организовал Ф. Ф. Комиссаржевский. Театр пересилил, и я бросил учебу в университете...
Через несколько дней состоялось общее собрание труппы с новым комиссаром. Речь Малиновской, после того как она отрекомендовала себя, была выслушана при гробовом молчании. Впервые в истории России в театральном фойе звучали новые слова: "партия... народ... Ленин... классы... пролетариат... искусство... товарищи...". Она говорила, что большевики будут всячески поддерживать настоящее искусство, что у артистов нет никаких оснований волноваться: все они остаются на своих местах, труппы сохраняются в полном составе, будут продолжаться спектакли и репетиции, будет укреплена режиссура. Поэтому Ф. Ф. Комиссаржевский назначается главным режиссером театра.
Она говорила очень просто и вместе с тем волнующе. У нее было умное, энергичное лицо, как бы высеченное из куска мрамора, серые глаза. Когда впоследствии в Камерном театре мы ставили "Оптимистическую трагедию" Вс. Вишневского, я не раз ловил себя на мысли, что воспринимаю комиссара в пьесе через облик Елены Константиновны в жизни.
Часть артистов труппы была враждебно настроена к "театральному комиссару", и когда Малиновская кончила, послышались выкрики:
- Зачем вы пришли?
- Зачем узурпировали власть?
- Мы не допустим, чтобы большевики управляли искусством!
Я не хочу называть фамилии почтенных артистов, но один из лучших теноров того времени поднялся во весь свой средний рост и истерически закричал на Малиновскую. Он долго бил себя в грудь и наконец упал в обморок.
Малиновская, бледная, с плотно сжатыми губами, стояла, как каменная, в центре бушевавшей бури
и спокойно посоветовала:
- Бедный! Дайте ему воды. - А потом добавила: - Чудный тенор, а такой слабенький!
Это подействовало, как холодный душ после тропической жары.
Собрание вел дирижер Ю. М. Славинский, впоследствии ставший первым председателем ЦК Союза рабис. Помню, что тогда он горячился и я не понимал, поддерживает он Малиновскую или нет. Труппа раскололась на два лагеря.
Но удивительно другое: никто не ушел из театра. Наоборот, все - и те, кто был за новое, и те, кто цеплялся за старые порядки, начали живо и, я сказал бы, более энергично, чем прежде, работать под руководством Ф. Ф. Комиссаржевского над новыми спектаклями.
Е. К. Малиновской как управляющей московскими государственными театрами было нелегко, но она была полна энергии и решительности. Она и сама, говоря об этой поре, вспоминала:
"Я очень устала и издергалась от непрерывных атак и от бесконечных комиссий и обследований, которые отрывали и меня и других работников театра от работы и тормозили ее.
В таком настроении шла я однажды к А. В. Луначарскому, и во дворе Кремля встретила В. И. Ленина. Он спросил, почему я такая бледная.
- Вероятно от того, что очень обижают, - в шутку ответила я.
- Что? Обижают? Так краснеть надо, если обижают! - сказал Владимир Ильич".
"Хотя это и была шутка, - продолжает Малиновская, -брошенная мимоходом, нельзя не удивляться меткости слов, определяющих стиль революционера, который не имеет права сдаваться перед трудностями, а должен бороться и преодолевать их".
На революционном перевале
Сейчас, полвека спустя, когда оглядываешься на первый год жизни советского театра, видишь пестрый калейдоскоп событий. Каждое из них, взятое в. отдельности, кажется частицей хаоса, но, собранные вместе, они дают грандиозную картину свершавшегося театрального переворота.
Это рубеж двух эпох в жизни страны, в жизни театра, в моей жизни... Время борьбы и становления. Старое ломалось, отступало, сопротивляясь, уходило.
Я перелистываю старые газеты тех времен и, вспоминая, читаю:
"...В январе 1918 года в Петрограде на общем собрании солистов Мариинского театра выступил Луначарский". "В зал явился комиссар т. Луначарский, - писал "Театральный курьер", - в сопровождении двух секретарей и двух комиссаров над государственными театрами в Петрограде и Москве. Оба комиссара - дамы".
"...В Кронштадте, перед красными моряками дал благотворительный концерт Ф. И. Шаляпин, произнеся в финале большую речь о просвещении".
"...Во всех театрах вводятся художественно-репертуарные советы. На собрании балетной труппы Большого театра впервые в истории звание заслуженной артистки республики присвоено Е. В. Гельцер. Большинством голосов труппа отклоняет ходатайство о присвоении звания С. В. Федоровой".
"Сотрудник РОСТА посетил лагерь заложников буржуазии Бутырского района... В особняке - 10 - 12 комнат, 7 комнат отведено под спальни заложников, которых в лагере 20 человек... Был на днях устроен вечер, посвященный памяти Чехова. Доклад и отрывки недурно исполняли сами заложники; по распорядку дня занимаются групповой трудовой работой".
...На призыв театрального отдела обновить эстрадный репертуар поэтесса Марина Цветаева откликнулась стихотворением "Сережа":
Ты не мог смирить тоску свою,
Победив наш смех, что жаля ранит.
Догорев, как свечи у рояля,
Всех светлей проснулся ты в раю,
И сказал Христос, отец любви:
"По тебе внизу тоскует мама,
В ней душа грустней пустого храма,
Грустен мир. К себе ее зови..."
Но вот первые ласточки осознанного понимания событий.
Впервые в театральном журнале появилась фотография рабочего сцены: "Плотник Моисеев Ф. Р., прослуживший в Малом театре сорок лет".
А это что такое?.. По распоряжению членов совета изъят номер бюллетеня "Известия совета Русского театрального общества" за проскочившее в печать непочтительное выражение: "пьяный сапог Александра III".
"...Русское актерство вступило в новую фазу - образован Всероссийский профессиональный союз актеров, но голоса скептиков, правда, немногочисленных, говорят: "К чему?" Представители сытого актерства говорят: "Мы-де, жрецы
искусства, и нам негоже думать о какой-то борьбе труда с капиталом".
Критик Э. Бескин отвечает на это суровой статьей: "У таких оппозиционеров обязательно в кармане контракт, коим "капитал" уже обеспечивает их "труд". И потому сей жрец и против какой бы то ни было организации труда".
"...Для борьбы с профсоюзом актеров создан союз антрепренеров во главе с В. И. Никулиным, секретарем Я. Южным и товарищами председателя М. М. Шлуглейтом и Н. Ф. Балиевым".
"...Помните в "Вишневом саде" Раневская говорит
Трофимову: "В двадцать шесть лет у вас нет любовницы! Эх, вы, недотепа!". Нет любовницы и у современного театра. Он -сухой натуралист, скучный... Нет у него огня, нет темперамента, нет порывов молодости..."
"...Таирова приглашают в Киев руководить студией
"Любители нового искусства", в Малый театр на постановку, в Харьков..."
"...В Москву постепенно возвращаются труппы, отправленные с концертами и спектаклями на фронт. Всего режиссером Самариным-Вольским было организовано по поручению агитационного отдела Красной Армии тридцать шесть трупп общей численностью до 500 человек. Первый опыт передвижных спектаклей подал мысль организовать постоянные труппы для обслуживания красноармейских частей, находящихся на фронте..."
"...Шаляпин в Мариинском театре будет в двух качествах -актера и режиссера. Оклад ему положен "минимальный" -двести пятьдесят тысяч рублей в год. "Не вредно". Кроме того, за каждый спектакль в Большом театре он получит по семь тысяч рублей. Гарантия - десять спектаклей". ("Ничего, жить можно! Даже при теперешней дороговизне!" - не без сарказма комментирует корреспондент заметку.)
А вот статья: "28 октября в Малом театре - юбилейный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения Прова Садовского".
С большим трудом, но все-таки мне удалось "прорваться" на него. Затаив дыхание, я слушаю, как М. Н. Ермолова с огромным вдохновением, воистину прекрасно читает стихи известного московского "богемиста" Б. Алмазова "Хвала тебе, художник!", посвященные Прову Садовскому. Тут же я слышал своими собственными ушами, как Станиславский, Немирович и Москвин приветствовали "Дом Островского" от имени "Дома Чехова", торжественно подчеркнув "неумирающую славу традиций, связующих два наших дома! ...
...Таким было это театральное море, взбаламученное, кипевшее, спорившее, боровшееся за существование, такими были люди театра, жившие, как на вулкане, - лишь бы прожить, люди, вышедшие из эпохи безвременья. Театр, который прежде порой "бросал милостыню народу", говоря высокие фразы, но в общем и целом оставался театром, широким массам недоступным, вдруг оказался перед лицом пролетарской революции, свергнувшей частный капитал.
Многие деятели театра растерялись, некоторые в ужасе от стрельбы, убийств (все равно каких, все равно, с чьей стороны) бежали на Украину, за рубеж, прочие бились в исступлении, не понимая, что происходит в мире, иные шагали за жизнью, не отдавая себе отчета в том, куда и, главное, зачем они идут, были и такие, которые начинали исподволь мешать, становиться поперек бурного весеннего потока.
И лишь совсем небольшой отряд художников, крепких не числом, а силой убеждения, прозрели будущие контуры нового, истинно народного искусства. Эти люди сразу взялись за строительство нового.
"...При Наркомпросе организован ТЕО - Театральный отдел. На первом совещании, созванном им, было заслушано три доклада: о Малом театре - Южина, о Большом театре -Малиновской и о задачах ТЕО - Каменевой. Первые два доклада не вызвали возражений и дискуссий. С тем большей страстью разгорелись споры по третьему докладу".
Боже мой, какой согласованный хор протеста, нареканий и жалоб вызвал доклад ТЕО, остро критиковавший руководство московскими театрами и предлагавший свой план театрального строительства!" - восклицал "Курьер".
В тот студеный январский день первого послеоктябрьского года выявились два противоположных лагеря: "аки" - Южин, Немирович-Данченко, Станиславский, державшиеся за старое, и "левые", стремившиеся, как тогда писалось, ввысь, будто готический собор, - Менерхольд, Вяч. Иванов, Вас. Сахновский, Таиров...
Итоги первой советской театральной дискуссии подвел А. В. Луначарский:
- Частный театр обречен на гибель. Продержатся недолго лишь крупные киты, малые - лопнут немедленно. Государство будет финансировать лучшие театры, худшие - закрывать. Необходимо создать стройную систему руководства: всем
театральным исканиям - широкая свобода. Главная опасность -синдикализм: не дать раздергать театры по профсоюзам. Опасность с другой стороны - бюрократизм, администрирование. Бороться на два фронта: за театр для масс и театр из масс. Гениев на всю театральную Россию не хватит. Народ требует репродукций в миллионах экземпляров. Нужны не только выдающиеся театры, нужны средние театры для провинции и деревни.
На логичную речь Луначарского ответил, собравшись с силами, Южин от имени гуманистов - "аков":
- Не может быть театра буржуазного или пролетарского; есть один общечеловеческий театр.
Луначарский терпеливо объяснил, как учитель пытливым, но ошибающимся ученикам:
- Конечно, театр должен быть общечеловеческим. Но пока нет самой общности, пока человечество только борется за нее, как за идеал, до тех пор и театр в своем поступательном движении, отражая борьбу классов, служит господствующему классу...
Я чувствую зуд в ладонях. Мне хочется рукоплескать этому незнакомому человеку с профессорской бородкой и в пенсне, но я сдерживаюсь, может быть, я чего-то не понимаю? Одно дело - словесный диспут, другое - практика театра. Этот "профессор" еще ничего не поставил, а работу его "оппонентов" я знаю, видел и восхищен. Нет, в этом надо разобраться самому. Никому не хочу верить на слово! Тем более таким непонятным словам: общечеловеческое,
потенциальное, классы...
Новые веяния в старом театре
Ф. Ф. Комиссаржевский становился ведущей фигурой в нашем театре. Для меня и моих сверстников он был живым олицетворением революции в оперной режиссуре.
Мой "герой" был человеком среднего роста, худым, редко улыбавшимся, он ходил немного боком, все время глядя в землю. Был лыс, с узеньким бордюрчиком волос по краям черепа и с тремя - четырьмя жесткими волосками, которые торчали в верхней части лба. Они его очень выручали: когда ему надо было ответить что-то не очень приятное или когда он задумывался во время работы, то принимался закручивать эти три волоска. Потом он проводил рукой по лицу, задерживался на кончике длинного носа, нажимая на него несколько раз, как на кнопку.

| ЯИЧНАЯ КАРТОЧКА |

|
|
Первое мое советское удостоверение было подписано Е. П.
Пешковой и Ф. Комиссаржевским
|
В русском театре начала века Комиссаржевский был не последней фигурой. Сын известного оперного артиста, брат В. Ф. Комиссаржевской, он работал режиссером в ее театре в Петербурге. Потом переехал в Москву и организовал там театральную студию имени В. Ф. Комиссаржевской, которую вел вместе с В. Сахновским. Вскоре он с ним разошелся во взглядах на задачи и методы работы и покинул студию в знак протеста. У него была "странная" привычка доказывать свою правоту - не выживать других, а уходить самому, демонстративно отказываясь от спора, как бы заявляя: "Пусть вам будет хуже!". Нельзя сказать, что это был наилучший способ отстаивания своей правоты.
Федор Федорович очень увлекался оперой и поставил ряд музыкальных спектаклей в Мариинском оперном театре в Петрограде, в Большом театре в Москве. Последним его пристанищем была бывшая частная опера Зимина.
ПРОГРАММЫ ЗАНЯТ1Й
и
ПРАВИЛА ДЛЯ 3АНИМАЮЩИ)ССЯ «ъ
ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУД1И
|
#УД,-ПРОСВБТИТ. СОЮЗА РАБОЧН^Ъ ОРГАНИЗАЦИЙ,
|

|
| но(ке л,34 (б. HHfV ,,)WV"), |
о I/ V/
В этой маленькой книжице указаны задачи студии - программа
занятий
В опере, как мне представляется, он действительно был первым русским режиссером-новатором. Опера интересовала его прежде всего как форма музыкальной драмы. Он так ее и расценивал. Он поражал детальной разработкой постановочной партитуры, знанием всех компонентов в оркестре. "Всякая настоящая опера есть произведение музыкально-драматическое, есть музыкальная драма, и элемент сценического действия в ней неотделим от музыки и зависит от нее", - писал он в "Театральных прелюдиях". Я запоем читал эту его книгу, а позже стал изучать его же "Творчество актера".
Сидя на репетициях в затемненном зрительном зале, я наблюдал за режиссерами, за всем, что делалось на сцене по их указаниям. Иногда я видел, как на пустом месте вдруг возникал прекрасный спектакль, а иногда, наоборот, из прекрасной основы ничего не выходило. Тогда бывало очень скучно. Но вот я стал замечать, что репетиции Федора Федоровича меня захватывают, увлекают новизной метода, смелостью и страстностью, с которыми он вел работу. Я познакомился с режиссером, не выпускавшим из рук клавира. (Потом, когда ко мне перешли его режиссерские экземпляры "Лоэнгрина" и "Сказок Гофмана", я увидел, какой огромный, творчески изобретательный труд проделывал он дома: все движения действующих лиц и массы, общая композиция отдельных сцен вычерчивались и оговаривались текстом, построение мизансцен изображалось графически, и к этим схемам был приложен специальный "проект монтировки".)

|
|
Итак, я, М. Жаров, - студент Театрального института ХПСРО.
1918 год
|
Каждый спектакль Комиссаржевского отличался от предыдущего, это всегда был эксперимент. Вот он ставит "Клару Милич" по сюжету Тургенева. Декорации - с уклоном в подчеркнутый натурализм. Опера идет в бытовом павильоне, на стенах висят семейные фотографии в рамках, а на окнах стоят фикусы, течет обычная жизнь, только люди, вместо того чтобы говорить, поют.
Комиссаржевский пробовал и это, ища путей для оперного спектакля. Испробовав - отвергал. Он понял, что натуральность декораций, взятых оперой напрокат из драмы, ничего не дает без переноса на сцену "куска жизни", а в опере пели, играл оркестр, и такая декорация не соответствовала общему тону.
И он поставил "Лоэнгрина" Вагнера. Это была романтическая поэма об утерянной мечте. Хотя спектакль не имел успеха, мне он очень нравился, потому что артисты в нем не только хорошо пели, но и по-настоящему играли. Я был изумлен и искренне огорчен, когда после премьеры "Лоэнгрина" Ф. Ф. Комиссаржевский безжалостно заявил:
- Ставить Вагнера так, как поставил я и как ставят все, нельзя. Тогда Вагнера лучше слушать, а не смотреть... Мой метод, - продолжал взволнованный художник, - может быть, да и вероятно, далеко еще не совершенный, но я как режиссер ищу корни творчества... Мы делаем спектакли по принципу, "как хочет моя левая нога", как "бог на душу положит", стремясь прежде всего выразить свое "я". Нате, мол, любуйтесь, как "я" могу "растрактовать" любое произведение. При этом мы забываем простую истину: театр раскрывает жизнь через индивидуальное восприятие того автора, чье произведение он ставит, в рамках того стиля, в котором эта опера написана. Поэтому и характер декораций, костюмов и освещения должен необходимо совпадать с характером музыки и настроением, вызываемым ею...
Я чувствовал, что в этом было что-то мудрое, хотя мне было и жаль, как мне казалось, хорошего спектакля.
 Это класс Ф. Комиссаржевского. Он сидит с книгой, рядом В. Бебутов, В. Зайчиков. Справа - я и И. Лобанов; девушка с косой
- М. Бабанова, молодой человек в галстуке с бабочкой - А.
Румнев
Это класс Ф. Комиссаржевского. Он сидит с книгой, рядом В. Бебутов, В. Зайчиков. Справа - я и И. Лобанов; девушка с косой
- М. Бабанова, молодой человек в галстуке с бабочкой - А.
Румнев
И начались новые веяния в бывшей опере Зимина. В театре появились новые художники, искусство оперы стало дерзать. Одним из первых таких спектаклей, помнится, была постановка "Бориса Годунова" с участием Григория Пирогова в заглавной роли. По мысли Федора Федоровича и художника спектакля Ивана Малютина, чудесного и яркого колориста, этот спектакль должен был объявить войну традиционной оперной красоте, вернее - красивости, которая, как говорил Комиссаржевский, звучала фальшиво от начала до конца.
Комиссаржевский и Малютин считали, что Шаляпин, гениально показывая трагедию одинокого царя, идеализировал Бориса Годунова. Годунов, говорили они, не был чужд корыстной цели и судорожно рвался к власти. Пушкин точно охарактеризовал всю трагедию двумя словами: "Народ безмолвствует". Эту концепцию режиссура проводила в большом и малом.
Было известно, что Борис Годунов монгольского происхождения, а раз так, то делать ему этакую традиционную курчавую "шаляпинскую" бороду не к чему. С легкой руки Шаляпина грим Годунова был эталоном для всех "Борисов". Комиссаржевский поломал его, сделал Годунова с раскосыми
глазами, с узкими усиками, без бороды, а все оформление спектакля со смещенными плоскостями выдержал в русском стиле, использовав и лубочные иконописные мотивы. Чтобы художественный облик спектакля был целостным во всех своих частях, режиссура отменила все парчовые одеяния, богатый запас которых был гордостью оперного гардероба. Борис Годунов и бояре надели костюмы, сшитые из бязи по технически великолепно выполненным эскизам и
раскрашенные анилиновой и бронзовой красками с
характерной орнаментовкой для каждого персонажа.
На генеральную репетицию собрался полный зал; слух о "новаторской" постановке прошел по всей театральной Москве. Комиссаржевский в фокусе внимания, у него много поклонников-друзей, но много и недругов, молчаливых до поры до времени, может быть, даже завистников.

|
|
Опера О. Николаи 'Виндзорские проказницы' была поставлена Ф. Ф. Комиссаржевским с подлинным режиссерским блеском
|
Генеральная репетиция назначена на одиннадцать часов. Пять минут двенадцатого из оркестра все еще несется знакомая "какофония": настраивают инструменты. Задержка злит аккуратного Комиссаржевского, вместе с художником Малютиным сидящего за режиссерским пультом. Он звонит в колокольчик и говорит помрежу Кудрину:
- Давайте начинать.
Кудрин в некотором замешательстве:
- Федор Федорович, не могу понять, готов или не готов Григорий Степанович. В уборную он не пускает, просит подождать три - четыре минуты.
- Ну хорошо!
Прошли четыре минуты, как просил Пирогов. Комиссаржевский смотрит на часы:
- Начинайте!
Оркестр начинает. Отзвучала увертюра. Спектакль пошел.
Вот открылась вторая картина. Стоит расписанный Кремль. Завалившаяся набок колокольня Ивана Великого разрисована серой краской. Впереди хор в бязевых костюмах. Предстоит знаменитая сцена коронования царя, его выход из Успенского собора.
И тут, как ни в чем не бывало, на сцену выходит Пирогов в "шаляпинском" гриме, в парче и шапке Мономаха из собственного гастрольного гардероба. Снизу доверху актер сверкает бриллиантами.
Едва он запел "Скорбит душа...", как на весь зрительный зал раздался срывающийся голос Федора Федоровича:
- Скорбит душа не у вас, а у меня! Почему вы в этой мишуре?
Все смолкло. В оркестре смятение.
Федор Федорович, бледный от ярости, кричит:
- Прошу сейчас же переодеться!
Пирогов делает шаг к рампе и низким, поставленным голосом произносит:
- Извините, но я не могу петь в вашем балаганном костюме.
- Извиняю! Но в таком случае вы можете оставить сцену! Вы свободны!
И нимало не смущаясь, что зал полон публики, Комиссаржевский, не в силах сдержать гнев, бьет ногой по режиссерскому столику с такой силой, что тот отлетает к барьеру оркестровой "ямы".
Репетиция отменяется. Потом между певцом и режиссером произошел долгий разговор, свидетелем которого я уже не был. В результате Пирогов все же пел в спектакле. Пел в костюме Малютина. И "Борис Годунов" пользовался успехом.
Комиссаржевский был замечателен не только энциклопедическим образованием, что придавало ему необходимую для режиссера уверенность в себе и своих возможностях. Не менее подкупало в нем то, что он постоянно стремился узнать и сделать как можно больше. Каждый спектакль являлся для него новой увлекательнейшей математической задачей. Опера "Клара Милич" была поставлена в принципах Художественного театра, хотя он очень много спорил со Станиславским в своей книге "Творчество актера и теория Станиславского" (1915 год). Эту книгу он, однако, посвятил "Константину Сергеевичу Станиславскому в знак уважения и любви". Комиссаржевский любил Станиславского за непримиримость в искусстве, какую исповедовал и сам. Он решал новые задачи, все более сложные, приближающиеся к заветной и только ему известной цели оперной режиссуры. Я помню, как после лубочноиконописного опыта с "Борисом Годуновым" он увлекся совсем иной режиссерской задачей в постановке "Севильского цирюльника", которого под его руководством оформлял И. С. Федотов.
"Севильский цирюльник" был спектаклем таким же искрящимся, таким же ритмическим и бодрящим, как музыка Россини. Он шел в бурном темпе, и это, казалось, было главным в замысле режиссера. Декорации, составляемые из ширм, легко менялись, только намекая на место действия. Объемные ширмы из прозрачного, как слюда, материала были раскрашены кубиками в чудесно подобранную гамму цветов. Внутри светились лампочки, которые то зажигались, то гасли, то "подмигивали" в зависимости от темпа действия. Это был веселый маскарадный спектакль.
Но едва отзвучали премьерные спектакли "Севильского цирюльника", как Федор Федорович зажегся новой идеей -драматизировать оперу Чайковского. Его "Евгений Онегин", с точки зрения оперной режиссуры, стал одним из интереснейших спектаклей.
Комиссаржевский создал спектакль-драму со всеми вытекающими отсюда последствиями - и по линии камерности мизансцен, и по оформлению, и по актерской игре. Дом Лариных по своим масштабам был, наверное, лишь чуть-чуть театральнее тех усадеб, которые во множестве были разбросаны по земле русской. Режиссер не стремился к помпезным массовкам. Ведь у Лариных собиралось обычно небольшое общество окрестных дворян. Но зато те, кто выходил на сцену, не были безлики. Они не носили стандартных костюмов, к которым так привыкли актеры вспомогательного состава.
Я влюбился в Комиссаржевского, когда он ставил "Евгения Онегина". Особенно меня поразила его работа с хором и "фигурантами", тем более что я сам участвовал в сцене бала. На хорах, под аркой, Комиссаржевский поместил военный оркестр, перед которым, по режиссерскому замыслу, должен был стоять дирижер. Оркестр, разумеется, не настоящий: статисты, дующие в беззвучные трубы, и дирижер, машущий палочкой. Эта роль выпала мне, причем Федор Федорович меня спросил, смогу ли я махать в такт настоящему оркестру, которым дирижировал Коган. Я не задумываясь ответил: "Смогу!" (Я отвечал всегда быстро и всегда положительно: "могу", "да", считая, что сказать "нет" никогда не поздно.)
Я стоял спиной к зрительному залу и, не помня себя от радости, "дирижировал" своим оркестром. Наверное, я был такого высокого мнения о своих дирижерских талантах, что на репетиции Коган несколько раз обращался ко мне:
- Слушайте, Жаров, не надо так старательно махать руками, а то я невольно смотрю на вас, и это мне мешает! Голубчик, как-нибудь поскромнее там это делайте.
Федор Федорович всегда был чем-то занят, и я был уверен, что разговора моего с дирижером он не слыхал. Каково же было мое изумление, когда в перерыве, подойдя ко мне, он сказал: "Давайте не будем мешать Когану. Значит так:
взмахнув два - три раза палочкой, вы замечаете знакомых среди гостей, поворачиваетесь, здороваетесь; если это барышни, - можете улыбнуться, пококетничать, а палочку свою забудьте - оркестр "заведен" и играет уже без вас. Вы только изредка помахивайте. Все это без суеты и не шаржируя! Понятно?"
Я быстро ответил "да" и начал купаться в роли, импровизируя подвыпившего капельмейстера. Я был за это вознагражден коротким "хорошо" Федора Федоровича, и это стала моя самая любимая мимическая роль.
Вспоминаю один из прогонов. Хор вызывался на сцену в костюмах. Художник разработал костюмы для каждого хориста в отдельности. Это уже были образы, живые люди, типы, каждый со своими характерными чертами, походкой, со своими усами и со своей бородкой, со своим париком пли без оного.
Началась репетиция без оркестрантов, их вызывали позже. В оркестре сидели только дирижер и пианист, а Комиссаржевский с клавиром ходил по сцене. Он подходил к отдельным артистам, что-то им говорил, затем шел к хору, к одной группе хористов, к другой, к вспомогательному составу и все говорил, говорил, что-то показывая руками. Так продолжалось часа два. Сделали перерыв. Появились музыканты, и режиссер, наконец, произнес:
- Начали!
И когда заиграл оркестр и началась сцена в доме Лариных, все вдруг, словно по мановению волшебной палочки, задвигалось, засверкало, переливаясь красками, нюансами отношений друг к другу, каждый человек на сцене знал, куда идет, зачем подходит к другому, с кем и о чем разговаривает.
Эта была замечательная, подлинно творческая работа всего коллектива. На оперной сцене жили, а не просто пели.
Вот таким был Федор Федорович Комиссаржевский.
Все, что делал Комиссаржевский, было настолько интересно и необычно, что я на репетициях смотрел только на него. Я не спускал с него глаз, даже когда он ходил по коридору. Поравнявшись, он иногда вопрошал:
- Что вы?
Я говорил:
- Нет, нет, Федор Федорович, я ничего...
- Вы так смотрите, будто хотите о чем-то спросить.
Так было несколько раз. Наконец он сказал:
- Жаров, не надо так смотреть, а то я буду всегда останавливаться. Мне всегда кажется, что вы хотите что-то спросить.
И вот однажды, набравшись духу, я сказал:
- Федор Федорович, я действительно хочу вас спросить.
- Слава богу! Наконец-то... Спрашивайте!
- Федор Федорович! - Я не знал, как начать разговор. - Я прочитал ваши книжки...
- Так! Дальше!
- Очень интересно!
- Хорошо! Дальше!
- Я очень хотел бы учиться у вас... в студии...
Я имел в виду его студию, которая называлась именем Веры Федоровны Комиссаржевской и располагалась в Настасьинском переулке.
- Учиться? Ну что же. А вы что-нибудь видели в нашей студии?
- Да, я видел почти все спектакли. Они мне очень нравятся. Последний спектакль - особенно... "Гимн рождеству" по
Диккенсу. Очень интересна режиссерская трактовка. Замечательно играют актеры, - сумничал я.
- Значит, понравился этот спектакль?
Он посмотрел на меня своими карими глазами и, мне показалось, ехидно улыбнулся.
- Да, очень. Нет! Нет! Я ни о чем не хочу вас просить. Я просто хочу знать, как сделать, чтобы попасть в вашу студию.
Федор Федорович покрутил три волоска на лбу, провел рукой по глазам и начал теребить и мучить сложенными большим и указательным пальцами правой руки свой длинный нос: он раздумывал.
- Ну что ж, через несколько дней я с вами поговорю об этом. - Комиссаржевский не принимал скоропалительных решений.
Действительно, спустя два дня он сам, увидев меня в партере, подошел и сказал:
- Вот что. Разберитесь в этой папке. Вечером будет репетиция, найдете меня, и мы побеседуем.
Вечером, после репетиции, мы встретились в бывшем кабинете Зимина, и Федор Федорович мне сказал:
- Сядьте, расскажите, что вы, собственно, делаете в театре.
Я ему рассказал о своей работе статиста и помощника режиссера-администратора, рассказал и о том, как летом ездил с гастрольной труппой передовым.
- Так. Значит, у вас уже солидный административный опыт. Разбирая папку, вы, наверное, уже поняли, что мы будем организовывать новую студию. Та студия, в которую вы хотите попасть, в Настасьинском переулке, будет работать без меня. Там остается Сахновский. Если хотите, ступайте, пожалуйста, к Василию Григорьевичу. Но я там уже больше не преподаю.
Я быстро вставил:
- Нет, я хочу быть там, где вы.
- Тогда полбеды. Вы просмотрели документы?
- Да, но я не все понял.
- Ну вот что. Художественно-просветительный союз рабочих организаций создает театральную студию. Это, я надеюсь, вы поняли?
- Да! Я даже понял, что она будет называться театр-студия ХПСРО и что она сейчас в процессе создания.
- Так вот, никакого штата еще нет, мне нужен помощник или секретарь. Короче, вы можете быть секретарем?
Я промолчал. Комиссаржевский заметил это:
- Понимаю. Очевидно, быть секретарем вам что-то мешает. Исполняйте пока его обязанности... Просмотрите еще раз внимательно все документы уже с прицелом на будущее, а завтра мы снова встретимся. Вот здесь список преподавателей, с ними нужно связаться и познакомиться... Вот проект программы нашей студии. Вы его прочли?
- Да!
- Заинтересовались?
- Да!
- Заладил: да, да. Вы не стесняйтесь! Если что-нибудь вам как будущему ученику студии кажется не так, хочется чего-то другого в учебе, - говорите... Ум хорошо, а два хуже, - вдруг сострил он, весело рассмеявшись.
Таким образом, я определился в студию ХПСРО на правах секретаря, делопроизводителя и даже курьера, еще до того как она начала номинально функционировать. Однако меня это не спасло от вступительных экзаменов, которые вскоре были объявлены. В то время не признавали знакомств и протекций, слово "блат" еще не вошло в оборот, и судили о человеке только по его способностям.
Экзамен в студию ХПРСО запомнился мне на всю жизнь. Снова подтвердилось, что на экзамены я не везуч. Готовясь к ним, я решил отказаться от своего старого "репертуара": "Без отдыха пирует..." и "Вороне где-то бог...", который дважды уже подводил меня. Я выбрал для чтения рассказ Чехова "Канитель". Но поработать у меня не было времени. Я был занят с утра до вечера: днем писал на экзаменах протокол, вечером работал с Федором Федоровичем. Экзамены длились уже несколько дней. Отбирать было трудно, хотя было из чего. Наплыв оказался необыкновенно большой. Наконец наступил и мой день.
Я сижу один в темном большом, знакомом мне зрительном зале театра Зимина (экзамены происходили в нижнем фойе) и в который раз зубрю то про себя, то вслух текст "Канители": "За упокой Марка, Левонтия, Арины... ну и Кузьму с Анной... болящую Федосью...".
"- Тю! Это меня-то за упокой? Ошалел, что ли?
- Тьфу! Ты, кочерыжка, меня запутала! Не померла еще, так и говори, что не померла!"
"Нет, не выходит, не получается ссора", - думаю я про себя.
- Ничего у тебя не выйдет! - вдруг слышу я голос и, не разобравшись чей, поворачиваюсь в запале:
- Почему вы так думаете?
- А потому, что "зерна" у тебя нет! - басит, передразнивая меня, подошедший сзади актер зиминского театра Л., чудесный певец, великолепный исполнитель роли мельника в комической опере "Мельник, колдун, обманщик и сват". -Небось, и не знаешь, что это такое "зерно", с чем его едят?
- Нет, знаю! Сердцевина всякого произведения!
- Ишь ты! А какая же у тебя тут сердцевина? - спросил он грубо, как бы ругаясь.
- Тут... не знаю...
- Тогда слушай меня! Я еще пока артист... И, говорят, не плохой... - крикнул он кому-то в темноту зала с горечью в голосе. - Слушай! Они надоели друг другу... Не понимают друг друга... Ругаются... Отсюда - злятся и, злясь, тянут свою канитель, никому ненужную... и им тоже... Значит... надо ругаться... Вот тебе и сердцевина!.. Выругайся! Про себя, конечно, но покрепче, и сразу же говори вслух текст. Вот, слушай, - он вдруг выругался, да так, что мне сразу стало ясно: уж чем-чем, а "зерном" я обеспечен. - Понял? - спросил он довольный.
- Понял.
- Тогда дай целковый! - торжественно закончил он, протянув руку. - Ни пуха, ни пера! Скажи: "ступай к черту", и дай мне целковый! - как-то уже необыкновенно нежно попросил он и ушел, оставив после себя терпкий запах вина...
Перед комиссией я, помня о "зерне", старался делать все, как советовал артист Л. И вдруг - мать честная! - слышу в зале воцаряется сначала мертвая тишина, а потом все взрываются гомерическим хохотом. В чем дело? Оказывается, я все делал наоборот: про себя читал Чехова, а вслух ругался.
Когда смех утих, председатель комиссии сказал:
- Ну что ж, у него, кажется, есть талант.
Итак, в студию я был принят и зачислен единогласно на первый курс... балетного отделения в класс М. М. Мордкина и А. Ф. Шаломытовой. "Надо тебя обломать", - сказал, улыбаясь, председатель комиссии А. П. Зонов. Параллельно, поскольку это была студия синтетического актера, меня записали и на драматическое отделение к Комиссаржевскому и А. П. Нелидову. С этого момента началась моя сознательная жизнь в искусстве.
В студии ХПСРО
Итак, я студент студии Художественно-просветительного союза рабочих организаций. Писать об этом радостно, потому что для меня это - решающий отрезок моей жизни. И трудно, потому что все взрывается в памяти и рассыпается на мелкие осколки, собрать которые в целую картину мне вряд ли удастся.
Ф. Ф. Комиссаржевский при поддержке Малиновской, которая была им покорена, нет, влюблена - не побоюсь этого слова, - именно влюблена в него как в художника, чьи мысли, стремления и искренность могли увлечь и зажечь любого человека, приступил к занятиям.
 Ширмы, кубы и черный бархат давали возможность режиссеру Ф. Комиссаржевскому (он же и художник) создавать иллюзии волшебных появлений и исчезновений артистов в спектакле
'Буря'. С жезлом - К. Эггерт
Ширмы, кубы и черный бархат давали возможность режиссеру Ф. Комиссаржевскому (он же и художник) создавать иллюзии волшебных появлений и исчезновений артистов в спектакле
'Буря'. С жезлом - К. Эггерт
Как плод многих размышлений и усилий мы выпускаем программу, которую я несу в типографию:
"...Театр-студия будет местом исканий в области новых подходов к истолкованию музыкально-сценических произведений, лабораторией для создания внутреннего ансамбля исполнителей... для введения всех исполнителей в стиль исполняемого... в понимание различных манер исполнения... различных по духу и стилю произведений...
Настоящее театральное искусство, основанное на "действии", выражаемом прежде всего и главным образом в движении актера, пользуется всеми прочими родами искусства (литературным словом, музыкой, живописью, архитектурой) лишь как средствами, усиливающими впечатление, производимое на зрителей искусством актера, и помогающими "действовать" актеру. Современные же театры, наперекор смыслу театрального искусства, идут на поводу то у литературы, то у музыки, то у живописи.
 Эскизы А. Лентулова для 'Сказок Гофмана' являлись самостоятельным произведением живописного искусства, но не
были удобны для актеров
Эскизы А. Лентулова для 'Сказок Гофмана' являлись самостоятельным произведением живописного искусства, но не
были удобны для актеров
Театр-студия ХПСРО, признавая все роды искусства и отводя каждому из них подобающее место в общественной жизни, считает, что театр должен быть синтезом всех искусств, объединяемых на сцене творцом сценического представления -актером. Все искусства должны иметь место в театре, но им принадлежит хотя и значительная, но служебная роль. Театрстудия не является ни обычным "драматическим", ни "оперным", ни "балетным" театром, ни "выставкой живописных полотен", но пользуется всеми искусствами для вящего торжества театральности.
Театр-студия идет по пути к созданию театра - синтеза всех искусств, в центре которого стоял бы актер, действующий на зрителя-слушателя всеми выразительными средствами.
Каждый актер театра-студии призван быть одновременно и художником движения, и художником слова, и художником пения..."
Так говорилось в нашей программе, которую, мне кажется, нелишне было бы привести целиком. В заключение мы заявляли:
"Следуя по вышеуказанному пути, студийный театр, пока еще у него нет своего современного репертуара для желанного синтетического театра, ищет материал для своих исканий в пьесах прежнего репертуара, пригодных для указанных выше целей.
Им поставлены и в его мастерской находятся в работе: "Похищение из гарема", представление с пением Моцарта, "Паяцы", музыкальная драма Леонкавалло, "Буря" Шекспира, "Сказки Гофмана" Оффенбаха, "Дочь рынка", оперетта Лекока, "Перикола", оперетта Оффенбаха, "Любовь в полях" Глюка и другие произведения.
Желая возможно шире ознакомить пролетариат с новым направлением в искусстве театра... управление театральной студии Х.-П. союза рабочих организаций предоставляет пролетарским организациям возможность получать билеты в студийный театр на льготных условиях..."
В студии с самого начала образовалось три отделения: оперное, которым руководил профессор пения Бернарди, позже уехавший на свою родину в Италию; балетное, первое время возглавляемое М. М. Мордкиным, знаменитым балетмейстером, с которым я подружился во время его работы над балетом "Азияде", и основное - драматическое отделение, имевшее три класса. Руководили ими Ф. Ф. Комиссаржевский, В. М. Бебутов, А. П. Зонов, А. П. Нелидов.
Комиссаржевский оказался необыкновенным организатором-педагогом. Он обладал особым даром воспитывать кадры. Это было его второй стихией, он не мог жить без того, чтобы не передавать молодежи свои обширные познания, свое мастерство требовательного, всегда неудовлетворенного и вечно ищущего художника-экспериментатора.
Учебный план студии ХПСРО был великолепно разработан по дисциплинам. Я не помню, чтобы позже, да и сейчас в театральных школах был такой первоклассный преподавательский состав. Студия действительно ставила перед собой задачу выпустить высококвалифицированных специалистов по всем трем отделениям.
Комиссаржевский в период работы в студии синтетического актера был одержим идеями театра импровизации. Книга К. Миклашевского "A commedia dell'arte" была на отделениях первого курса настольной. Даже Н. О. Массалитинов, один из ведущих артистов Художественного театра, преподававший нам два предмета, казалось бы, столь отдаленных друг от друга, как речь и грим, также строил свои уроки на изучении комедии дель арте. Он считал, что истоками речи на театре должна быть речь народная. Для русского театра в основу был положен московский говор, чистейшим образцом которого была речь монашек-просвирен Чудова монастыря, что в Кремле.
Преподавали у нас и Н. Ф. Костромской, один из ведущих актеров Малого театра, и А. П. Петровский, великолепный артист театра Корша, режиссер и виртуозный исполнитель эпизодических ролей. Маленького роста, пухлый, уже немолодой, он умел удивительно перевоплощаться на сцене, становясь неузнаваемым, из маленького и толстого вдруг делался высоким, длинным, худым и даже молодым.
 Сказки Гофмана . Это был чисто оперный спектакль, но едва ли не главное место в нем занимал художник А. Лентулов. Плавные движения певцов В. Барсовой и Н. Озерова не вписывались в условную (хотя и оригинальную) декорацию
Сказки Гофмана . Это был чисто оперный спектакль, но едва ли не главное место в нем занимал художник А. Лентулов. Плавные движения певцов В. Барсовой и Н. Озерова не вписывались в условную (хотя и оригинальную) декорацию
Среди преподавателей был поэт Петр Потемкин, автор сборника изящных стихов "Цветущая герань", посвященного "жене Жене" - актрисе Художественного театра Е. Хованской.
Этот любивший студию, на редкость жизнерадостный человек, непременный участник всех вечеринок, неутомимый хлопотун, был неиссякаемым автором шуток и экспромтов. На вечере у художника И. С. Федотова после премьеры "Свадьбы Фигаро" он на всех присутствовавших сочинял экспромты. Когда очередь дошла до меня, он произнес:
Семнадцатый! - Семнадцать лет,
И ты не знал ударов.
Расти, учись Покуда. Нет,
Не хулиган мой Жаров.
Прочтя, он очень забавно стал крутить рукой, приговаривая при этом, как фокусник: "Уникальный случай: свободное кручение руки направо и налево".
Слово преподавал нам бывший князь С. М. Волконский. Седой, высокий, очень худой человек, он и потрепанную шинель носил, как фрак. Влюбленный в слово, он уверял, что о человеке можно судить по одному тому, как он разговаривает, что опытный следователь или психиатр по "музыке речи" способен узнать, с каким человеческим характером ему предстоит иметь дело. Он тут же приводил убедительный пример с нищим-попрошайкой.
- Если человек в настоящей беде просит помощи, то всегда речь его строится на низких тонах, он говорит низким грудным голосом, сам того не подозревая. Профессиональный же попрошайка, желая разжалобить, считает, что для этого существует интонация плаксивая, на тонких высоких нотах: "Ми-лые-е, по-мо-ги-те, род-нень-кие, не-счаст-но-му" и т. д.
Он учил нас, что актер должен уходить со сцены после чтения стихов или прозы, не назойливо раскланиваясь, а тихо, медленно, незаметно, как бы оставляя зрителя наедине с только что услышанным.
Он говорил о застенчивости, о том, как ее избежать, и рассказывал случай, когда одна благовоспитанная девица из высокопоставленных кругов никак не могла преодолеть своего смущения перед предстоящим любительским концертом. Краснея, теряя голос, она вынуждена была покидать на репетициях подмостки. Ей необходимо было перешагнуть рубеж страха.

|
|
Артистки В. Барсова и М. Шервинская прекрасно пели и были очаровательными 'проказницами из Виндзора'
|
- Я, - говорил князь, - посоветовал ей рискнуть сделать что-нибудь сверхъестественное, о чем нельзя даже подумать, - это ее выведет из шока застенчивости. Ну, скажем, ударить городового. Это было очень строго наказуемое преступление. Она поняла меня буквально и, собравшись с духом ударила представителя власти, правда по-дамски, перчаткой по щеке, но все-таки ударила. Скандал замяли. Но совет оказался правильным. Она ощутила нужное для сцены самообладание.
- Конечно, - добавил князь, улыбаясь, - драться во всех подобных случаях я не предлагаю, но этот пример - яркая характеристика того, что робость, замкнутость можно
преодолеть усилием воли...
Ритмику, которая тогда была в моде, преподавала Н. Александрова, учившаяся в Швейцарии, в институте Эмиля Жак-Далькроза и ставшая вместе со своей ассистенткой Ниной Чаяновой горячей пропагандисткой его системы. Это не было абстрактное, схоластическое требование того, чтобы человек был пластичным, ритмичным и т. д. Нет, занятия связывались с жизнью, с профессией, с повышением мастерства, развитием всего человеческого организма.
 Каждый раз после своего выхода я из-за кулис изучал игру А.
Закушняка в роли шута Тринкуло (на сцене - Дмитриев,
Закушняк, Де-Бур)
Каждый раз после своего выхода я из-за кулис изучал игру А.
Закушняка в роли шута Тринкуло (на сцене - Дмитриев,
Закушняк, Де-Бур)
На этих уроках нам говорили о значении дыхания и умении владеть дыхательным аппаратом, диафрагмой:
- Вбирая воздух, не задерживайте его, а быстро выбрасывайте мышцами живота, и вы почувствуете, как ваши мышцы становятся эластичными, диафрагма делается упругой и голос начинает приобретать необходимое звучание и глубину. И нужно это делать всегда, не только на уроках, но и дома, особенно при ходьбе попробуйте всегда думать о диафрагме.
Однажды зимой в гололед я переходил улицу, ни на что не обращая внимания, и твердил про себя: "диафрагма,
диафрагма", набирал воздух, радуясь, что мышцы эластично раздвигаются, и вдруг - бац!.. трах! тарарах! Что такое?
Мне в живот уперлась оглобля низких саней, а возчик, махая кнутом, испуганно орал: "Ты что, тоскливый, обалдел, под оглоблю лезешь?". Я же спокойно "запер" воздух в животе, и от меня, как от надутой камеры, отскочила оглобля. Так я реально оценил пользу занятий: если бы не "система
дыхания", - лежать бы мне в больнице.
Общие лекции у нас были тоже интереснейшие. Психологию читал профессор Б. Грифцов, драматургию - В. Волькенштейн, преподавали также историю театра, теорию (технику) актерской игры и др.
Я был в классе Комиссаржевского. Часто его заменял Зонов -ленинградский режиссер, работавший в свое время в театре В. Ф. Комиссаржевской. С хриплым голосом, всегда почему-то недобритый, очень некрасивый, но с удивительно смешным лицом Кола Брюньона, он следил, чтобы ученик был подтянут и в форме. Хриплых не любил!
На занятиях по актерскому мастерству мы учились импровизации на вольные темы. Мы сами писали сценарии по типу сценариев комедни дель арте, образцы которых нам давали для изучения специально перепечатанными на машинке. Мы сочиняли собственные сюжеты на всевозможные современные темы и на уроках их показывали.
Я помню один такой показ, имевший для нас принципиальное значение и, как мне кажется, не потерявший интереса и сегодня. В нашем классе учились Василий Зайчиков, Муся Бабанова и Иван Штраух. Как-то Зонов дал нам тему, старую, как сотворение мира. "Вернулся отец из города, - наметил он экспозицию, - и привез подарки: младшей - красивое платье, старшей - бисер и шитье. Старшая в злости режет платье младшей, та плачет. Входит отец и ругает старшую дочь. Вот схема, по ней надо сымпровизировать", - дал он задание.
 Шут - вводная фигура в интермедии к спектаклю 'Виндзорские проказницы' - был моей первой ролью в Театре-студии ХПСРО.
1918 год
Шут - вводная фигура в интермедии к спектаклю 'Виндзорские проказницы' - был моей первой ролью в Театре-студии ХПСРО.
1918 год
Обговорив между собой действие, И. Штраух (отец), М. Бабанова (младшая сестра), О. Нечаева (старшая) начали показ. Вся сцена разворачивалась довольно интересно, были хорошие находки в деталях, все довольно искренне и убедительно играли. Но вот наступает кульминация, и Иван, трясясь от гнева, набрасывается на старшую дочь, машет ремнем и начинает ругать ее... площадной бранью.
Этот случай стал предметом обсуждения на художественнопедагогическом совете. Комиссаржевский доказывал, что человек, не владеющий собой, - не актер, и темперамент его, как бы он ни был силен, и возбудимость его, как бы ни была велика, ничего общего не имеют с искусством художника. Такой актер, не отвечающий за себя, может действительно задушить Дездемону.
- Мне с таким актером делать нечего, - закончил он свою речь.
Весь преподавательский состав единогласно высказался в этом же духе, но Зонов выпросил для себя право как учитель Ивана Штрауха оставить его в студии и работать с ним хотя бы до конца года.
- Это гений! Увидите! - заявил он.
Позже Зонов взял его в Свободный театр, где Иван Штраух без особого успеха играл в "Служанке Памелле", снимался он и в кино, очень много, но не всегда удачно. Человек он был мрачный, оживлялся в редкие минуты, когда составлял какие-то, одному ему понятные смеси из спирта, эссенции, ягод и чего-то еще другого. Умер Иван Штраух где-то в больнице от нервного потрясения. Актер из него не получился, гений - тем более. Комиссаржевский оказался прав.
Студия была организована первоклассно. На 180 студентов у нас было много аудиторий и площадок. В первом этаже, где при Зоне было кабаре "Ко всем чертям!", был прекрасно оборудованный зал для балетного отделения. В остальных классах были передвижные сцены с кулисами, с занавесом, с закулисным пространством и небольшой партер, где сидели за столом ученики, проходя сначала теоретическую часть "работы над ролью".
На занятиях комедией дель арте Комиссаржевский говорил, что сегодня артист страны, где свершилась народная революция, должен сам стать народным, как некогда исполнители итальянского театра масок, игравшие на площади перед толпой. Им ничто не помогало - ни декорации, ни музыка, ни заранее написанный текст. "Голый человек на голой земле!" - было любимым выражением Федора Федоровича. Пластикой, движениями, мимикой актер должен изобразить все страсти, овладевающие человеком. Поэтому актер должен уметь петь, танцевать, играть, прыгать, быть акробатом, делать фокусы - он должен быть синтетическим артистом. Этому нас учили на первом курсе. Важным предметом являлась пантомима на основе чувствования. Это
были очень интересные и полезные занятия. Они давали нам многое.
К сожалению, Комиссаржевский не довел до конца свои опыты. Он так и не сумел выпустить учебник актерского мастерства, который писал. В двух книгах "Театральные прелюдии" и "Творчество актера и теория Станиславского" он, ведя полемику на два фронта, приступил к изложению своего художнического кредо. Но несмотря на споры Комиссаржевского со Станиславским, с одной стороны, и с Мейерхольдом, - с другой, у всех троих было много общего в требованиях к актеру.

|
|
В труппе Театра-студии ХПСРО в 1919 - 1920 годах было много
|
интересных людей: Ф. Комиссаржевский сидит рядом с Е. Малиновской (в черной шляпе), в углу вверху слева - А. Закушняк (без грима), в том же ряду в гриме (лысый парик) И. Ильинский; в углу справа - В. Бебутов, К. Эггерт, Е. Пешкова, поэт П. Потемкин, А. Румнев (в гриме с челкой); слева в гриме шута с поднятой рукой я, а надо мною Ел. Акопиян. В центре - В.
Барсова, В. Книппер и др
В студии Комиссаржевского я впервые встретился с Вс. Э. Мейерхольдом.
Было известно, что между Мейерхольдом и Комиссаржевским существовала неприязнь и даже вражда, зародившаяся давно, когда они вместе работали в театре у Веры Федоровны. Но Комиссаржевский ставил искусство выше личных отношений. Когда открылась студия ХПСРО, он счел своим долгом пригласить Всеволода Эмильевича в свою мастерскую педагогом. Как мне известно, Комиссаржевский ни разу не встречался в тот период с Мейерхольдом и даже избегал его. Но он понимал, что Мейерхольд должен преподавать в ХПСРО, ибо эта студия также искала новых путей в искусстве, как и сам Мейерхольд. Федор Федорович хотел, чтобы студийцы знали о театральных течениях и методах непосредственно из первоисточников. Так было легче разобраться в правде театра и выбрать свой путь и свой метод. Как же можно было обойтись без Мейерхольда?
Комиссаржевский, кроме занятий со своим классом, читал для всей студии обязательные общие лекции об актерском мастерстве. И вот этот самый ответственный курс обучения он решил расширить и пригласить для чтения нескольких лекций Мейерхольда.
Однажды Комиссаржевский вызвал меня к себе и сказал:
- Слушайте, Жаров, в Москве часто бывает Мейерхольд... Он, кажется, петроградский уполномоченный Театрального отдела Наркомпроса и по его делам сюда приезжает. Вы найдите его и пригласите... Письмо пусть подпишет Бебутов... Приглашаем, мол, читать лекции. Тема - "Искусство актера". Если будет отказываться или ставить особые условия, - выслушайте и потом скажите мне.
Я отправился в Наркомпрос. Народу в маленьких комнатушках битком. Многие - к Мейерхольду. Я сказал секретарю, что послан театральной школой ХПСРО и прошу приема. Секретарь доложил, - и уже следующим посетителем оказался я.
И вот передо мной худой человек, с всклокоченными седеющими волосами, с длинным, как у Петрушки, носом и, как мне показалось, удивительно добрыми серыми, пронизывающими насквозь глазами. Я невольно вспомнил портрет Мейерхольда, сделанный художником Борисом Григорьевым. Репродукция этого портрета висела у меня дома на стене. Да, это была та же голова... Да, это был Мейерхольд!
Он сидел за столом, но не в центре, где обычно сидят начальники, а сбоку, на простом стуле, закинув ногу за ногу. Перед ним лежала стопка чистой бумаги, в руках он вертел простой карандаш.
Указав на стул, Мейерхольд без паузы спросил:
- Студент Ха..пе..сро?
- Да.
- Как фамилия?
- Жаров.
- Жа-ров! Это хорошо. Ну? Что у вас там делается, кто у вас преподает?
Помня о предупреждении Комиссаржевского, я назвал всех преподавателей, кроме него самого, и вручил Мейерхольду письмо-приглашение.
- Бебутов? А художественный руководитель у вас ведь Федор Федорович?
Я молчу.
- ХПСРО - это синтетический театр, так что ли?
- Да, это синтетический театр.
- Так, выходит, это тебя Комиссаржевский послал?
Я нехотя:
- Да, меня послал Комиссаржевский, Федор Федорович, но он...
- Что он? Просил не говорить об этом?
- Да!.. - вдруг смело, как бы осуждая такой поступок, ответил я.
Мейерхольд лишь секунду подумал, глаза его смешно блеснули, и он сказал:
- Ну хорошо, я буду вам читать. Но не регулярно, а наездами... Но только прошу, раз уж на то пошло, не говори Комиссаржевскому, что я спрашивал про него.
Поблагодарив его сердечно, я пулей вылетел из кабинета.
Начались веселые и захватывающе интересные дни. Мейерхольд во время своих приездов из Петрограда в Москву появлялся у нас и читал, а вернее - импровизировал свои лекции увлекательно.
После первой же лекции Мейерхольда Комиссаржевский, придя на следующее утро в студию, как бы между прочим спросил меня:
- Ну как?
Я видел, как ревниво сверкнули при этом его колючие карие глаза. На мой наивно непонимающий взгляд он сердито покашлял и, почесывая длинный нос, уточнил:
- Мейерхольд был вчера?
- Был.
Пауза.
- Что он читал?
- Про технику актера... Про эмоции... чувствования, которые лживы на сцене так же, как лжива смерть, переживаемая актерами.
- Так он это и сказал?
- Да.
- Как его принимали?
- Да... как вам сказать? - мямлил я.
- Тьфу ты!.. Что это из вас слова не вытянешь, - сказал он, явно злясь. - Ну, хорошо его слушали?
- А... Очень... Увлек всех!
- Ну, вот так и говори, что... увлек... а то бу-бу, да бу-бу!.. -сказал он, назвав меня впервые на "ты" и пошел, покачав головой.
- Федор Федорович, - остановил его я. - Пожалуйста, не сердитесь на меня, - это я проверял на вас урок Мейерхольда: могу ли я воздействовать на партнера своей сосредоточенностью; разозлится он или нет?..
Комиссаржевский посмотрел на меня круглыми глазами, как на законченного идиота, и непонятно буркнув что-то вроде: "проверяйте в дальнейшем свои уроки на ком-нибудь другом!", ушел.
Как проходили лекции, он меня больше не спрашивал, но просил, чтобы после каждого урока Всеволода Эмильевича я клал ему на стол краткий конспект лекции. "Кстати, это и вам будет полезно", - заметил он при этом. Вскоре мне случайно удалось услышать, как он спрашивал у Бебутова:
- Валерий Михалыч! А что, Жаров, не проверял на вас свои уроки?
- Уроки? А-а... Проверял... Ну, конечно, проверял!..
И они оба весело захохотали, а мне стало почему-то обидно, что я не был понят!
Мейерхольд в этом отношении вел себя проще. Он был более демократичен. Но и Мейерхольд, и Комиссаржевский старались завоевать аудиторию. Тут уж они старались наперегонки, а мы от этого только выигрывали. Оба блистали остроумием, приводили уйму интереснейших примеров, лекции их были очень популярными. Зал обычно был переполнен, приходили даже гости.
Урок Вс. Э. Мейерхольда
Как мне не было обидно, но я должен был признать, что Мейерхольд все-таки "забивал" моего шефа темпераментом, яркостью и убедительностью своих лекций. Комиссаржевский был академичнее, суше.
Мейерхольд с взъерошенными волосами - этакий "доктор Дапертутто" - сидел на маленькой учебной сцене с "завинченными" ногами (он их очень ловко "завинчивал" одну за другую) и упоительно рассказывал, сам заражаясь своим вдохновением. Он говорил:
- Синтетический актер! Понимаю... Все верно, что вам говорит Комиссаржевский!.. Артист, действительно, должен стремиться быть синтетическим артистом. Очень хорошо, пусть будет... Кашу маслом не испортишь!.. Но!.. Надо быть прежде всего мастером одного дела. Вы, драматические артисты, должны в своей области быть предельно выразительными, необыкновенно элегантными и гибкими. Так ведь?.. Так! А для этого я вам рекомендую следующее: достаньте дома... ящик. Да. да, обыкновенный фанерный большой ящик... И набросайте туда обрезки железа, шелковые лоскутки, спички, папиросную бумагу, перья, пух, раковинки, гвозди, кирпичи, стекло - все, что называется "сухим мусором"... И каждое утро попробуйте разбирать этот ящик. Сначала медленно, осторожно, а потом с каждым днем ускоряя темп, не разорвав и не испортив ни одной вещи, не поранив себе руку и не продырявив осколком стекла лоскут или папиросную бумагу. Отделите острое от мягкого, жесткое от тонкого и хрупкого... Уже одно это приучит ваши руки к разным прикосновениям, они будут гибкими, эластичными, и на сцене вы будете владеть ими великолепно. Они заставят предмет играть у вас в руках и будут передавать ваши, как вы любите говорить, "душевные волнения". Вы должны свою технику, внешнюю и внутреннюю - особенно внешнюю, - постоянно тренировать...
Завел ли кто-нибудь дома у себя такой ящик, я не знаю, но в студии мы соорудили его и набросали туда разного "барахла"; наш "ящик Пандоры" пользовался успехом.
- А что значит грим? - говорил Мейерхольд на следующей лекции. - Вот вы гримируетесь на уроках Петровского и думаете, что все сделано. Нет, ничего вы не сделали. Вы просто взяли и налепили на свое лицо бороду, усы или надели парик. Но это не значит, что вы стали похожи на кого-то другого. Совсем не значит. Вы остались тем же Петровым, Ивановым, Сидоровым, только в парике, при усах и бороде. А вот я знал одного артиста...
- У нас в театре, - продолжал он, - был артист такой, знаете ли, маленький, щупленький, а играл героев, Гамлета... играл. Приклеит, бывало, себе бороденочку, усики и воображает, будто первый красавец. И такова была сила его воображения,
- Мейерхольд избегал употреблять термин "перевоплощения",
- так высоко и гордо нес он свою голову, так ступал величаво, так говорил трепетно, что мы, зная, какой он на самом деле шпингалет, недоумевая, поражались: а ведь он, господа, и вправду красавец, как мы раньше не замечали этого?!
Что же, вы думаете, это такое? Это была внутренняя сила, талант, помноженные на мастерство, технику, на уменье владеть своим телом, знать его в любых ракурсах, знать его механику.
Вас интересует, кто был этот неказистый актер? - И тут Мейерхольд, вдохновенный рассказчик, называл любую фамилию. - Митрофан Трофимович Иванов-Козельский, если хотите знать, вот кто это был! - Торжественно тут же импровизировал он, чтобы пример был более убедительным. -Знаменитый артист, как вам известно...
Вот такая манера Мейерхольда рассказывать интереснейшие вещи заставляла аудиторию трепетать. Его лекции сопровождались то громовыми аплодисментами, то замогильной тишиной, потому что этот удивительный человек жил тем, что говорил, и говорил только то, чем жил.
Так в нашу молодость вошел Мейерхольд, и пыл наших сердец мы отдали ему. И я сменил свои прежние театральные привязанности, переменил "символ веры". Позже, когда мысль становится зрелой, когда кровь не вскипает по первому поводу, когда в поисках нового сталкиваешься со зрителем, с жизнью, познаешь мудрость народа, - видишь противоречия, наивность, ошибки в том, что делал, чем увлекался. Но тогда главным был энтузиазм, с которым мы, часто петляя, входили в естественное русло театрального творчества. Без этого пыла и крайностей нельзя было делать новое искусство.
Урок Ф. Ф. Комиссаржевского
Ф. Ф. Комиссаржевский тоже очень интересно вел занятия. Он тренировал фантазию актера и его внутреннюю технику по так называемой "цепочке действия". В чем она заключалась?
Комиссаржевский предлагал сочинить сценарий для импровизации и тут же его исполнить. Задача состояла в том, чтобы путем последовательных поступков-действий (первое время импровизировать нужно было без слов) раскрыть в сюжетной последовательности идейную сущность предложенного отрывка и изображаемого лица.
Тщательное изучение поведения человека в жизни и мотивировка его поступков - почему поступают именно так, по какой логической "цепочке действия" возникают те или иные процессы человеческого поведения; создание сценариев и целых сцен, в дальнейшем с монологами и диалогами - все это необыкновенно упражняло и развивало мышление и фантазию. А исполнение этих сцен в порядке импровизации тренировало психофизический аппарат будущих актеров.
Фантазия вообще была главным требованием Комиссаржевского к актеру. На своих занятиях он пытался всеми средствами возбудить в учениках фантазию для творческого видения образа, в противовес имитации жизни и житейским воспоминаниям, которые, по его словам, ставил во главу угла "душевный натурализм" К. С. Станиславского.
Перед первой же лекцией Федор Федорович обратился ко мне с просьбой:
- Обойдите книжные магазины и склады и обеспечьте всех студентов моей книгой "Творчество актера".
Две книги Комиссаржевского "Театральные прелюдии" и "Творчество актера" стали нашими первыми учебниками актерского мастерства.
Занятия Комиссаржевского превращались в его диспуты со школой МХТ, с принципом школы переживания "испытанных в жизни чувств".
- Чувственное содержание моих "чистых" воспоминаний, -говорил Федор Федорович, - всегда более или менее скудно...
Театр не может строить все свои спектакли только на тех избранных эмоциях, к которым способны играющие в нем актеры. Если я буду играть, как говорит К. С. Станиславский, повторяя свои "пережитые чувства", то... эти чувствования будут владеть мною, а не я ими, и я непременно, если искренне "заживу", должен буду забыть свою роль, могу свалиться в партер, могу, играя Отелло, так рассердиться на Яго, что действительно убью его, а полюбив по-настоящему своим житейским чувствованием свою сценическую возлюбленную, дав этому чувствованию полную волю, забуду, что я в театре, и стану изъясняться перед ней так, как подсказывает мне мое чувствование, а не роль, написанная автором... (что это не одно и то же, я позже убеждался не раз.)
Мы слушали и не находили слов, чтобы ему возразить: мы были с ним солидарны. Но вот кто-то из нас, скорее для "затравки" мастера, чем из внутреннего сомнения, спросил:
- А как же тогда играть мне, скажем, страх, если не вспомнить испытанное в жизни? Хвататься за голову, и все?
- Страх страху - рознь. Я по этому поводу уже писал примерно следующее. Предположим - вы путешественник. Убегаете по африканской пустыне от льва, который настигает вас. Это страх одного порядка. А вот вы - бедный торговец, продающий цветы на том углу улицы, где это полицией не позволено. Тогда вы убегаете от городового под влиянием чувствования страха другого порядка. Наконец вы - вы сами. Когда никого не было в столовой, вы стащили конфету, вы слышите приближающиеся шаги и убегаете. Здесь эмоция страха будет опять нового порядка. Следовательно, никакое якобы начинающееся перед зрителем действие не начинается в момент игры, а является продолжением того действия, которого зритель не видел, но которое актер должен вообразить. Для этого воображения материалом служат данные пьесы и фантазия актера.
- Простите, Федор Федорович, но это же выходит то же переживание. Значит, вопрос заключается в том, что переживать, а не в том, переживать пли нет?
- Не совсем так. Переживание и воображение - разные понятия. Актеру-творцу нужна для игры не копия привычного ему материального мира; ему нужно на сцене то, что соответствует его фантазии: или такие объекты, с которыми сливаются созданные им внешние образы, или такие, которые может преображать и развивать фантазия актера. Актер, играя на сцене с помощью фантазии, может и не видеть точно, детально обстановку сцены, он видит в ней то, что нужно видеть в ней его фантазии. Фантазия всегда или сама создает свои объекты, или приспособляет уже имеющиеся к своим целям.
- Значит, фантазия актера, видя пустую сцену с тремя стульями, может превратить ее и в дремучий лес и в вершину гор?
- Да, а разве репетиции в выгородке не подтверждают это?
- Значит, декорации нужны только для зрителя, а разве у него отсутствует фантазия?
- Ему и не нужна декорация натуралистическая - я в этом глубоко убежден, но это вопрос особый, и мы поговорим отдельно...
- "Воспоминание", "чистые эмоции", - продолжал
растолковывать наш учитель, - становятся лишь составной частью фантазии актера. Так играют - играют творчески, руководимые творческой фантазией, - и все наиболее крупные и даровитые актеры Художественного театра, потому что иначе искренне переживать на сцене нельзя. Так играет и сам Константин Сергеевич Станиславский, так же он и
режиссирует.
И тут Комиссаржевский рассказал нам (показывать, как это виртуозно делал Мейерхольд, он не мог, но рассказчиком был великолепным) про то, как Станиславский долго не мог найти образ Крутицкого в спектакле "На всякого мудреца довольно простоты". Эта роль, которую Станиславский в конечном счете отлил в идеальную форму, у него долго не получалась.
И вот однажды, проходя мимо Вдовьего дома,
Станиславский, переполненный мыслями об образе, вдруг обратил внимание на этот дом, на колонны, на русский ампир, и на вдов, старух, гулявших в саду, и военных стариков - их гостей. И, оттолкнувшись от реального, дав волю воображению, Станиславский нашел искомый образ.
Этот рассказ Комиссаржевского произвел тогда на нас неизгладимое впечатление.
Заключал свои споры со Станиславским Федор Федорович всегда примерно такими словами:
- Система Станиславского прежде всего обращает внимание актера, на его собственную психику. Станиславский первым в России попытался создать теорию актерской игры, основанную на данных психологии. И он первым же указал актерам на необходимость искреннего переживания и сформулировал методы, с помощью которых, по его мнению, актер должен вызывать эти переживания.
- Эти методы, - продолжал Комиссаржевский, - мне лично кажутся, как я уже отмечал, неверными... Они ведут актера не к творчеству, а к подражанию самому себе в жизни, к имитации на сцене испытанных в жизни психологических состояний. Эти методы Станиславского, на мой взгляд, переходные в его серьезных опытах. Но ряд основных положений его теории глубоко верен, и они открывают совершенно новые горизонты перед старым театром...
Так, как равный с равным, с художнической честностью и прямотой, уважая своего оппонента, спорил Комиссаржевский со Станиславским.
Иногда на наши "провокационные" вопросы Комиссаржевский отвечал просто:
- Прочтите соответствующее место из моей книги "Театральные прелюдии", - и указывал нужную страницу.
Ф. Ф. Комиссаржевский направлял свои стрелы не только против МХТ, но и против Мейерхольда. Выступая против "условного театра" Мейерхольда, Комиссаржевский утверждал:
- Не может быть актеров-творцов и в так называемом "условном театре", проповедуемом Мейерхольдом. - Он считал, что этому театру нужны только автоматы, которые единственно и наилучшим образом могут быть выразителями идей этого театра...
По мнению Комиссаржевского, в театре "душевного натурализма", равно как и в театре "единой условной техники", драматург и актер в результате оказываются придушенными "методами" постановки, выработанными раз и навсегда, как шаблон. Они убивают, по словам Федора Федоровича, единственную животворную силу театра -творческую фантазию актера.
Многое из того, что тогда утверждал Федор Федорович, не выдержало проверки временем, но многое и подтвердилось. Он был не очень-то близок к истине, рассматривая программы своих оппонентов. Кто может согласиться с тем, что цель Станиславского "душевный натурализм", а весь Мейерхольд укладывается в принципы единой условной техники ?! Однако в некоторых вопросах Комиссаржевский оказался прав. Скажем, когда выступал против обеих крайностей в актерском искусстве. Актер, живя в образе, должен оставаться хозяином его, быть прежде всего художником, проводящим грань между искусством и жизнью.
По этой причине ни один чеховский Иванов не застрелил или не опалил себя из пистолета, который никогда не заряжается настоящими пулями, и ни один театральный Отелло не задушил театральную Дездемону. Поэтому, наконец, ни одна исполнительница роли Вассы Железновой не умерла на спектакле от инфаркта, хотя В. Н. Пашенная в сцене смерти Вассы уверяла меня, что умирает, и часто шептала мне страшные слова не по тексту пьесы: "Умираю, умираю", когда я, ее партнер, закрывал салфеткой лицо "умершей". Это было так искренне, а потому и так страшно, что я, испуганный, однажды взвалил ее на плечо и унес за кулисы, хотя она до конца акта вместе со мной должна была оставаться на сцене. И когда, закончив пьесу, я взволнованно спросил: "Как вы чувствуете себя?", она ответила, сразу "делаясь" больной:
- Спасибо, дорогой, вы мой спаситель, без вас бы умерла. -И вздохнув, добавила, тыча пальцем в сердце: - Уже устало!
Так, фантазируя, Вера Николаевна как бы извинялась за то, что напугала меня.
Полконя за царство
Но вот приходил Мейерхольд и мгновенно переключал нас в новую сферу чувствований.
- Станиславский борется против рутины, штампа, провинциализма, - сказал он нам однажды, будучи в особом ударе, - и это есть его величайший вклад в искусство театра. Но рутина все равно захлестывает наше искусство, не говоря уже о том, что вся провинциальная сцена, находясь под впечатлением успехов Художественного театра, но не имея ни его актерских ресурсов, ни его материальных возможностей, ни условий репетировать так долго и тщательно, как в МХТ, вся эта рутина ежедневно и в массовом количестве штампует уродцев, выбрасывает на подмостки гномов и карликов в виде готовых артистов. Поэтому мы должны бороться, бороться и бороться против штампов, косности и рутины. За царство нового искусства, за высокую технику актера!..
Все более распаляясь и заражая нас своим протестом против театральной рутины, Мейерхольд воскликнул:
- Студенты, вы молоды! Будьте новаторами! Боритесь с халтурой! Будьте застрельщиками нового искусства! Организуйтесь в "Общество по раскрепощению учащихся от театральной косности".
Возбуждение достигло апогея. У всех разгорелись глаза. Каждый уже чувствовал себя строителем нового, революционного театра.
Тут же срочно и единодушно мы выбрали рабочее студенческое бюро, куда вошли X. Херсонский, Вас. Зайчиков, Муся Бабанова, Н. Мологин, я и еще несколько человек. Через короткий срок мы выработали обращение к театральной молодежи, чем и завоевали популярность.
Разгорелись горячие споры, диспуты о путях и судьбах разных театров в новых, революционных условиях. Организовали огромный диспут-митинг в здании ресторана "Ампир". "Притащили" туда Станиславского и Мейерхольда, Таирова и Немировича-Данченко. Выступал на этом митинге, не имея никакого успеха, и Керженцев, кричал Мгебров, горячились актеры и захлебывались молодой страстью студенты.
Однажды мы устроили у себя в студии вечер типа "капустника" с прицелом на "разговор по существу" о театральной косности.
Время было холодное и голодное. Студенты стипендий не получали. Днем все где-то работали, а вечером, с пяти часов, начинались занятия в студии, требующие большого внимания и напряжения душевных и физических сил. Домой уходили обычно за полночь. Пешком. Ели в столовых Нарпита. С великим трудом нам удалось организовать свой буфет, для которого нам отпускали продукты из каких-то особых фондов. Мы выпустили даже специальные "буфетные" карточки. Это поднимало наш дух, хотя и не удовлетворяло полностью молодой аппетит: студенты по вечерам добавочно получали всего по два куска хлеба с икрой (селедочной) или повидлом и чай с сахарином. "Рецидивистов", которым удавалось получить паек дважды, коллективно ругали, но "буфеток" не отбирали. Сочувствовали.
Для вечера, посвященного "борьбе за царство нового искусства", я выпросил в горпродотделе дополнительно половину конской туши. На том месте, где теперь находится Зал имени Чайковского, помещалась столовая - "живопырка". А в ней главным поваром работал друг студентов "Вася-Блин", так за глаза звали ребята симпатичного и доброго Василия Лукича. Он частенько ходил к нам в театр, а мы еще чаще к нему в "столовку". Разговор свой он начинал с нами примерно так: "Ну что, дорогие мои "левачки"? Погреться пришли? В театре мерзнете, народ не ходит... Так не долго и ноги протянуть... А жаль!.. Люблю я вас... Горячие вы... Я тоже смолоду был чудаком...".
Вот этот "Вася-Блин" и взялся разделать добытые мною полконя. Из прелестного куска конины сизо-бурого цвета он сделал чудесные рубленые котлеты "по-жаровски", а когда он еще подсыпал на гарнир горошку, то горячий ужин получился на славу!
В центре интересной и разнообразной программы было театральное обозрение "Ударим по рухляди". В нем жестоко, но хлестко и остроумно "прошлись" по многим московским театрам, и уж, конечно, по Художественному театру, Малому, Камерному.
На том памятном вечере у нас в гостях было очень много деятелей театра, писателей, поэтов. Помню, пришли Маяковский, Василий Каменский. По ходу вечера они писали сценки-экспромты, которые мы, импровизируя, тут же разыгрывали.
Каменский, организатор и энтузиаст своей "Мастерской поэта", разволновавшись на нашем вечере, поднялся на сцену и прокричал:
- Я завидую, что вас много, что вы горячие и задорные! Что вы рветесь вперед! Торжественно заявляю: пусть и в нашу мастерскую идут все, кто хочет работать и творить стихи! Идите, робкие, к нам на выучку, смело! Мы из вас будем творить мастеров!
Потом он начал читать куски из своего "Степана Разина". Вечер рисковал превратиться в творческий отчет Каменского. Заодно "рванул" он и Хлебникова. Но продекламировав на высочайшей ноте:
Я бы на живодерню На одной веревке Всех господ привела.
Да потом по горлу Провела, провела!
А белье мое всполосну, всполосну,
А потом господ Полосну, полосну...
и крикнув: "и-их!", Каменский вдруг сорвался, охрип и умолк...
Вечер прошел с большим подъемом. Котлеты "по-жаровски", помнится, имели успех. Все остались довольны. Я тоже.
Выхожу на сцену
Студия ХПСРО не случайно именовалась театром-студией. Пока из нас не вышли актеры, была набрана труппа из профессионалов, которая давала платные спектакли в бывшем театре Зона. Мы в них тоже участвовали.
Мне хотелось как можно скорее "влезть" в искусство, побыстрее сделаться актером. И так как я целиком был сторонником "синтетического театра", то усиленно посещал занятия балетного отделения. Полтора года, которые я там провел, были для меня полезны во многих отношениях. Я вдохновенно работал у станка. Справа от меня стоял не кто иной, как будущий большой артист балета Асаф Мессерер, тогда просто Асаф, а слева - Саша Румнев, который, начав свою карьеру балетмейстером и артистом в Камерном театре, дублировал Церетелли в "Покрывале Пьеретты", а затем занял ведущее положение в театре, став интересным и своеобразным исполнителем лирических ролей. Сейчас он сделал большое дело, создав при ВГИК театр мимов. Среди этих будущих больших артистов балета я старательно делал все то, что полагается балетному мальчику.
Не могу не похвастать, что однажды я даже выступал как профессиональный танцор с известной тогда балериной Бонн в концерте. Мы исполняли комическую польку. Я танцевал мальчика-негра, а Бонн - белую девочку. В "Известиях" появилась даже рецензия - первая в моей жизни, где было написано, что "молодой начинающий балетный артист Жаров проявил недюжинные мимические способности и обнаружил легкость, хотя танцевал несколько неуверенно".
В театре Ф. Ф. Комиссаржевский продолжал то, чему учил нас в студии. Он пытался воплотить свою теорию в практику. Первым его спектаклем была опера Моцарта "Похищение из сераля , в которой оперные партии пели певцы, в том числе В. В. Барсова - молоденькая, изящная актриса с соловьиным голосом. Главную мимическую роль паши играл Игорь Ильинский. Играл он, прямо скажем, лихо.
Принцип "синтетическою театра" пока что выражался в том, что драматические артисты играли, балетные - танцевали, оперные - пели. Потом меня заняли в спектакле-балете "Лекарь поневоле" Мольера, где я танцевал кавалера.
Случилось это так: заболел Румнев, и меня за час - два перед спектаклем ввели в танцевальную пантомиму. Никогда не забуду, как я волновался, сидя на стуле перед выходом (стоять я не мог, у меня тряслись ноги). Когда подошел ко мне Федор Федорович и взял за руку, она была холодна, как лед. Он даже испугался и сказал, что волноваться можно, "но не до такой же степени".
В опере "Виндзорские проказницы", поставленной Ф. Ф. Комиссаржевским с подлинным режиссерским блеском, я участвовал во вставных интермедиях, играя одного из шутов. Нас было четверо, по два шута с каждой стороны. Мы же были и слуги просцениума. Я был в паре с Ильинским. В антрактах мы разыгрывали пантомимические сценки. Зритель мог или оставаться в зале и смотреть проделки "английских клоунов" или, если это его не интересовало, прогуливаться по холодным коридорам театра. Обычно из зрительного зала никто не уходил.
Чем же мы заполняли эти мимические антракты? Приемы комедии дель арте нам давались довольно легко. Мы либо пародировали эпизоды спектакля, которые уже прошли, либо старались мимически разыграть сюжетные ходы дальнейшего действия. Иногда мы играли пародии-сценки "из зрительного зала", обыгрывая поведение зрителя. "Мерзли" или "ужинали", как некоторые зрители, вынимая из кармана своих пальто еду и тут же ее уплетая. Делали все весело, задиристо.
Мое первое выступление в "синтетическом театре" было, следовательно, танцевальным и пантомимическим. Пригодились балетное образование и уроки импровизации.
Эксперименты Комиссаржевского отличались многообразием. Он продолжал свои режиссерские поиски в разных направлениях. Каждому спектаклю он всегда находил свое особое решение. "Буря" Шекспира была поставлена на фоне серого и черного бархата. Четыре площадки располагались на разных уровнях сцены. Это позволяло производить различные иллюзионные трюки.
Скажем, открывался занавес, и вдруг на большом кубе появлялся неизвестно откуда артист Эггерт, игравший Просперо, который по мановению волшебной палочки мог обращать людей в зверей, а зверей - в людей. Это делалось так: актер заранее располагался на площадке из черного бархата, на фоне черных сукон, под черным плащом, который сбрасывал в нужную минуту, когда Просперо взмахивал жезлом. В "Буре" я тоже играл какое-то чудище.
"Свадьба Фигаро" была решена в ином режиссерском ключе. Ф. Ф. Комиссаржевский не задавался целью восстановить старые, идущие еще от Мольера традиции спектаклей-балетов. Он поставил народный спектакль, где основными героями были лукавые слуги - Фигаро и Сюзанна, а также "фигуранты", специально введенные режиссером. Получилось необычайно острое, веселое карнавальное зрелище, спектакль-шутка.
Политический памфлет, написанный Бомарше, прозвучал зубастым и озорным фельетоном. Фельетонные краски пронизывали весь спектакль, особенно остро вел Закушняк роль Фигаро; как он читал свой монолог: "О, женщина, женщина! Создание слабое и коварное!.."
Интересная вещь: Ф. Ф. Комиссаржевский, а вернее - его сопостановщик В. М. Бебутов вначале настраивались на стилизацию Бомарше под Мольера, но вдруг после нескольких репетиций Федор Федорович резко изменил постановочный план и создал спектакль, в основной своей тональности звучавший как политическая сатира. Резко подчеркнутые движения графа, его "петушиная" походка очень хорошо совпадали с текстом роли и вызывали бурную реакцию зрителей.
Запомнились "Сказки Гофмана". Это был чисто оперный спектакль, но едва ли не главное место в нем занимал художник А. В. Лентулов - "наш сезанист", как мы тогда его называли. Он оформил спектакль в духе живописи "кубистов". Реальный по форме, рояль на сцене ломался причудливо раскрашенными плоскостями. Костюмы тоже были разрисованы линиями, которые подчеркивали не красоту человека, а, наоборот, ломали и деформировали человеческую фигуру. Береты какой-то странной формы придавали голове причудливые угловатые линии, грим подчеркивал
нереальность лица. Надо сказать, что к "Сказкам Гофмана" такое ирреальное оформление спектакля необыкновенно подходило, хотя никто особенно не думал о том, кто какой костюм наденет и как будут висеть детали декорации.
На репетициях этого спектакля я вновь увидел
бескомпромиссное отношение Комиссаржевского к театру. Он не изменил себе с годами. Подобно конфликту с Г. Пироговым при постановке "Бориса Годунова", о котором я уже рассказывал, Комиссаржевский был так же тверд и с А. В. Лентуловым, заслуженным и уважаемым художником, когда тот позволил себе отклониться от режиссерского замысла.
Утром шла монтировочная репетиция, а вечером должна была состояться первая прогонная в костюмах и гриме. На монтировочную репетицию пришел Комиссаржевский.
Повесили декорации. Федор Федорович пригляделся и сказал заведующему сценой:
- Перевесьте декорации так: первую портальную арку
повесьте глубже; третью на место второй. Вот так. -Посмотрел, как сделали, а потом добавил: - А вторую вообще выбросьте! - Все это было сделано в полном противоречии с эскизом Лентулова. На сцене сразу стало как-то уютнее, пропала холодная плоскостность. Арка с кривым окном придала всему действию сказочный характер.
Вечером на прогон пришел Лентулов, опередив
Комиссаржевского, и посмотрел на сцену:
- Кто это сделал?
- Федор Федорович.
- Как Федор Федорович?
- Так Федор Федорович. Он велел перевесить.
- А я как утвердил?
- По вашему эскизу!
- Вот и давайте по моему эскизу!
Дело рабочих сцены - маленькое, они в равной степени подчиняются и режиссеру, и художнику. Раз главный художник говорит, они перевешивают все так, как было до требований Комиссаржевского.
Начинается прогон. Комиссаржевский занимает место у режиссерского столика. Открывается занавес. Декорации висят так, как их нарисовал и повесил Лентулов, а не так, как их перевесил утром Комиссаржевский. Подняв голову,
Комиссаржевский молчит, потом резко ударяет ногой по стоящему перед ним столику - это, очевидно, у него был излюбленный штамп гнева. Столик летит по проходу. На весь театр раздается голос Федора Федоровича. Происходит дикая сцена спора, кто хозяин декорации, кто отвечает за спектакль.
Наконец, устав, Федор Федорович опускается в кресло и зловещим шепотом произносит:
- Аристарх, уйди отсюда!
Лентулов долго смотрит на него удивленными глазами, потом, покачав головой, со словами: "Звать будешь, еще наплачешься без меня, ирод!" - не торопясь, взяв свою палку, с которой он не расставался, покидает театр. Всех посторонних просят уйти из зала, опять перевешивают декорации, и репетиция начинается сначала...
Ф. Ф. Комиссаржевский был упрям в поисках той формы спектакля, которая представлялась ему в каждом данном случае единственной.
Больше всех из актеров театра мне нравился Александр Закушняк. Он увлекал стремительностью, подвижностью, манерой вести диалог. В "Буре" он блистательно играл Тринкуло. Я тоже играл в этом спектакле какого-то бессловесного духа и, кончив свою сцену, обычно пристраивался за кулисами смотреть великолепно разыгрываемый эпизод, в котором шут Тринкуло, попав на остров, встречает туземца Калибана (роль последнего исполнял хороший актер Ю. Де-Бур). Так как это повторялось из спектакля в спектакль, Александр Яковлевич Закушняк задерживался около меня и, улыбаясь, спрашивал:
- Ну, как я сегодня?
На мой восхищенный ответ он говорил:
- Наверное, хочешь сыграть?
- Мечтаю.
И вот однажды он принес мне свою фотографию в роли Тринкуло с надписью: "Дорогой Миша, когда подрастешь и сыграешь Тринкуло, вспомни любящего тебя Александра Закушняка".
Надпись Закушняка оказалась пророческой. Несколько лет спустя я действительно сыграл Тринкуло. Эта роль вообще была для меня счастливой: в ней я держал экзамен в театр Мейерхольда, в киномастерскую Льва Кулешова, и она никогда меня не подводила. И каждый раз я тепло вспоминал замечательного русского артиста А. Я. Закушняка, заронившего в мою душу любовь к слову на сцене.
Позже я ходил на знаменитые вечера устных рассказов Закушняка. Как чтец он производил очень сильное впечатление, и я до сих пор не знаю равного ему по точности выражения авторской мысли, художественному воплощению образов и силе воздействия на слушателей. Желающих послушать Закушняка собиралось множество, хотя казалось, что особенного - ведь рассказы можно и самому прочитать дома, расположившись со всеми удобствами. Тем не менее он всегда собирал полный зал.
Образы, которые живописал Закушняк своим выразительным словом и оригинальной трактовкой, создавали необычайно зримые картины, как будто присутствуешь на сеансе художника.
В Бетховенском зале Большого театра я слушал, как Закушняк читал "Дом Телье" Мопассана. Худенький, лет под пятьдесят пять брюнет, похожий, между прочим, на Комиссаржевского, с такими же карими глазами и узкими губами, Закушняк обладал великолепной техникой речи и скупым, но очень выразительным жестом.
...В руках у артиста - маленький, изящно переплетенный томик Мопассана. Время от времени чтец туда заглядывает, перелистывает страницы... Так он читает минут сорок - сорок пять, потом делает паузу, нежно кладет на стол томик в красивом переплете и тихо, незаметно уходит, как бы исчезая.
Занавеса не было, а небольшой круглый стол, на котором лежала книжка, был совсем рядом - стоило только протянуть руку и можно было взять книгу чтеца. Это было заманчиво. Что это за редкое издание? Какие тут отметки и знаки артиста, помогающие ему так "волшебно" читать? Какова "кухня" актера?!
Многие слушатели подходили из любопытства к столу, брали в руки книжку, которую Закушняк специально "забывал", положив раскрытым текстом вниз. Каково же было изумление любопытствующих, когда они видели переплетенные листы чистой бумаги. Закушняк читал по памяти, а раскрытая книжка была лишь наивным трюком актерского тщеславия...
Но вернемся к театру-студии ХПСРО. Как мы теперь знаем, идея Комиссаржевского о синтетическом актере практически не осуществилась. Были отдельные, очень интересные оперные спектакли - "Похищение из сераля", "Сказки Гофмана", "Гензель и Гретель", "Паяцы", в которые обычно включались драматические и пантомимические сцены, исполняемые специальными актерами. Были драматические спектакли по Шекспиру, Бомарше или Мольеру с вставными балетными или музыкальными номерами. Оперные артисты пели арии, драматические - играли, а балетные и ученики драматической школы выступали мимистами, иногда играли малюсенькие роли.
Идея синтетического театра, как она была задумана в обширном и интересном плане, сама по себе великолепна. Она вполне современна и сейчас. Но нужно длительное и терпеливое выращивание кадров, а мы - студенческая молодежь - еще не были готовы. Актеров для такого театра не существовало.
В газете "Театральный курьер" в 1918 году мы читали, как критик весьма доброжелательно описывал свои впечатления от наших спектаклей, но делал такие выводы:
"Задавшись целью образовать в студии "совершенных артистов", в равной мере обладающих умением петь, танцевать, говорить и действовать, Комиссаржевский не хочет ждать результатов студийной выучки. Забегая вперед, он делает в театре-студии опыты соединения всех этих видов сценического искусства на молодых (и немолодых) артистах, не прошедших "универсального" актерского образования. Таким образом, его режиссерский замысел - всегда интересный, по крайней мере любопытный, - в значительной степени носит всегда отвлеченный характер..."
В наши дни любой театр можно назвать синтетическим: и Театр имени Вахтангова, и даже Малый театр, если не предъявлять к ним максималистские требования. Теперь стало модным делать не только свое непосредственное дело, но еще залезать в соседнюю область искусства, подчас весьма отдаленную. Но все это, конечно, не то, о чем думал и чего так одержимо добивался Ф. Ф. Комиссаржевский.
Театр Комиссаржевского был антиподом Художественного театра. И хотя публика любит, когда что-то чему-то противостоит, но наш зрительный зал обычно заполнялся наполовину или, если вам так угодно, наполовину пустовал. Возможно, здесь сыграло роль то обстоятельство, что в театре было холодно и нужно было сидеть в шубах, а приходить из холодного дома в нетопленный зал мало кому хотелось. Тулупов же в нашем гардеробе не выдавали, валенок тоже, потому и зритель приходил лишь самый отчаянный.
Комиссаржевского все эти "мелочи жизни" будто не касались. Театр получал субсидию, Малиновская всячески ему помогала: в самое сложное и трудное время доставала все, что могла, - и бархат, и декорации, и всевозможные материалы, краски из фондов, не идущих на оборону. В тот период молодая республика была окружена врагами.
К сожалению, и театр, и студия просуществовали недолго. С грехом пополам к лету 1919 года студия сделала свой первый выпуск, а театр закончил свой сезон.
В это время в Англии открылся очередной эдинбургский фестиваль. Туда, на театральную выставку, был командирован Ф. Ф. Комиссаржевский. Забрав учебные материалы, фотографии постановок и макеты, которые московские театры ему подготовили, он поехал представителем советского театра на первую международную театральную конференцию. С ним поехала его жена, наша актриса - Е. А. Акопиян, сестра моего друга Вани Акопияна, работавшего у нас в студии аккомпаниатором, позже он стал военным летчиком.
Прошел месяц, другой, уже пора было бы вернуться, а Комиссаржевский все не приезжал. Мы вдруг впервые почувствовали, что остались без руководителя. Все стало расползаться по швам. Было горько до слез. А тут еще поползли зловещие слухи, что Комиссаржевский не вернется. Пришла в театр Малиновская и, желая успокоить, сказала:
- Комиссаржевский вернется. Он просто изучает английский театр. Руководство театром временно возлагается на Де-Бура,
а студией будет управлять выборная коллегия из педагогического состава. Все должно идти по-прежнему.
Легко сказать - по-прежнему! Всех лихорадило. Речь шла не только о судьбе студии, но и о престиже советского артиста.
Наконец мы не выдержали и отправились на прием к Малиновской тройкой: Ильинский, с которым у нас в ту пору была крепкая дружба, Ваня Акопиян и я.
В Управлении театрами, на Дмитровке, где раньше помещалась контора императорских театров, мы застали Елену Константиновну необычайно возбужденной. Мы впервые увидели ее в кабинетной обстановке. Через открытую дверь мы услышали ее твердый и возмущенный голос:
- Нет, развлекательством тут делу не поможешь. Да, я понимаю... Но... Нет! Я с 1902 года член партии, но из-за моды в кожаной куртке не ходила, красного платочка не носила... шутом его величества пролетариата не была и не буду. Я считаю, что мы обязаны поднимать пролетариев к культуре, а не угождать порой еще весьма примитивным вкусам.
Мы переглянулись и вопросительно уставились на секретаря.
- Отстаивает права "аков" на серьезное творчество, -сказала она тихо.
Когда телефонный разговор кончился, мы зашли в кабинет.
- Елена Константиновна, мы хотим привезти Комиссаржевского.
- Да? - вскинула Малиновская свои серые глаза. - Весьма интересно, как вы думаете это сделать?
- А вот так: вы отправите нас в Лондон, выдадите пропуска, и мы привезем его. Потому что он не имеет права бросать театр, бросать студию.
- Мы без вас подумаем над этим. А вам сейчас нужно учиться. Почему вы пропускаете занятия?
- Мы озабочены судьбой театра и, если вы нас не отпустите, мы поедем сами.
- То есть как?
Мы посмотрели друг на друга, потом, помолчав, доверительно сказали:
- Хорошо, вам мы откроемся. Доедем до Петрограда, а оттуда махнем на север.
Мы были очень наивны в ту пору, непосредственны в своих порывах, к тому же в нас клокотал благородный гнев.
Малиновская помолчала, потом шлепнула рукой по столу, хотела, очевидно, закричать, но, поняв наше состояние, строго заметила:
- Вот что! Идите-ка домой живо, да смотрите, никому не рассказывайте, что за чушь вы здесь городили. Понятно? Если, разумеется, не хотите, чтобы я сообщила о вас в Чрезвычайную комиссию. И тогда уж вы никуда не поедете -это наверняка.
Так бесславно кончилась попытка "трех мушкетеров" вернуть Комиссаржевского в советский театр.
Печальный конец Комиссаржевского был, мне кажется, не совсем случаен. Безусловно одаренный режиссер, великолепно чувствовавший время, принявший Октябрьскую революцию необычайно восторженно, ибо она предоставляла ему как режиссеру безграничную возможность экспериментировать в театре, которому он посвятил свою жизнь, Комиссаржевский всегда метался как человек и художник.
Увлеченный борьбой и с системой Станиславского, и с "левым условным" театром, желая на практике доказать жизненность и правоту собственных идей в искусстве, Комиссаржевский заметался, столкнувшись с первыми трудностями, разочаровавшись в первых неудачах. Он растерялся, потерял веру в себя. Он поехал за границу отдохнуть, подумать. Но и там не нашел себя, ибо театр синтетического актера, с идеей которого он носился, был по природе своей чужд буржуазному искусству Запада и гораздо ближе стоял к русской реалистической школе, чем думал он сам. Ему нужно было бы проявить большую выдержку, терпение и упорство, и он наверняка нашел бы свой путь в русле многоводного советского театра 20-х годов,
А Комиссаржевский поспешил, нарушил извечный закон, гласящий, что художник может творить лишь в национальной стихии, сам выбил почву из-под ног и... погиб для себя самого и для тех, кто, поверив ему, беззаветно отправился с ним в поиски...
Так закончилась эпопея Комиссаржевского, этого энтузиаста театра, который, будучи к тому же тяжело больным, умер на чужбине и был скоро забыт.
Во фронтовом театре
Мы все необычайно повзрослели за этот год. Я чувствовал, что тоже вышел из детских пеленок актерской студии. И когда однажды в театре появилась группа людей, одетых во все кожаное, хотя они и не были военными, я заинтересовался ими. От них веяло романтикой революции и в то же время этаким "шиком" бывших гусар, каким-то "неглиже с отвагой". Они пришли к нам в театр, и один из них, самый невзрачный на вид, сказал:
- Я Владимир Тодди! Главный режиссер Художественного театра классической комедии Красной Армии! Наш театр передвижной! Мы приехали за пополнением. Мы едем на Восточный фронт! Нам нужны молодые левые артисты! Две единицы!
Он выпалил эту тираду, как пулеметную очередь, делая ударение на последнем слове каждой фразы.
Такими "молодыми левыми единицами" оказались в первую очередь я и Ильинский. Он, кажется, первый сказал:
- Поедем?
Я ответил:
- Поедем.
Придя домой, я сообщил родителям, что хочу отправиться во фронтовой театр.

|
|
Фронтовой театр на привале (Сибирь); длинный, в сапогах - это
я. 1920 - 1921 годы
|
И вот я заключаю свой первый профессиональный договор. Во Всероссийском театральном обществе, которое тогда помещалось на Б. Никитской улице, я торжественно подписываю трудовое соглашение и в ту же минуту становлюсь артистом "Первого фронтового передвижного художественного театра классической комедии", то бишь вольнонаемным служащим Политуправления Красной Армии. Получив аванс и оставив его матери, я не без волнения готовился начать новую страницу своей самостоятельной жизни.
На следующий день мы должны были собраться на товарной станции, где стоял состав. Эшелон имел весьма солидный вид, с пятью вагонами, среди которых был даже вагон-ресторан, там в дальнейшем проходили репетиции. В международном вагоне каждый актер имел свое место, режиссер - даже кабинет, в следующем вагоне помещались обслуживающий персонал и мастерские, а два прицепных вагона были загружены декорациями.
Нам было сказано, что мы должны явиться к пятнадцати часам. В шестнадцать ноль-ноль поезд должен был отойти.
Друг мой не явился, и я отправился в дорогу один, с незнакомыми мне людьми. Но я был уже не мальчик, к тому же в Передвижном театре оказались очень милые и доброжелательные люди. Основу театра составляла семья Танских - глава семьи "дядя Костя", симпатичный и умный старик, комик, брат знаменитого актера В. Табенского, его жена, тоже актриса на амплуа "комической старухи"; Муся, их дочь, очень талантливая травести, она играла Скапена весело, задорно, по-мальчишески. Кроме них, были: молодой актер Серафим Азанчевский с голосом такого же тембра, как у Качалова, позже он стал актером МХТ, куда его пригласил сам Константин Сергеевич, затем он перешел в Ленинградский театр имени Пушкина; Петр Студицкий - способный молодой актер с большим драматическим дарованием, и еще несколько чудесных актеров.

|
|
К. Эггерт любил экспериментировать. В театре Рогожско-Симоновского района он поставил 'Золотого петушка'
|
Владимир Тодди был одновременно и режиссером, и художником. Он рисовал примитивные декорации в духе народного балагана.
В старом репертуаре было всего две пьесы. Играли "Немую жену" Анатоля Франса и "Проделки Скапена" Мольера. Как только поезд тронулся, немедленно начались репетиции. Меня ввели в "Проделки Скапена" на роль Леандра. Одновременно репетировали "Лес", в котором я получил роль Петра. Параллельно составляли концертные программы, необходимые для каждого фронтового театра.
Мы останавливались в городах и поселках, где располагались воинские части, давали спектакли в агитпунктах и на вокзалах, направляясь в сторону Сибири. Наконец добрались до Уфы.

|
|
При театре Рогожско-Симоновского района К. Эггерт организовал Студию рабочей молодежи, где я вел одну из групп
|
Город незадолго до этого броском нашей 5-й армии был освобожден от Колчака. Двигаясь вдоль линии Сибирской железной дороги, части 5-й армии преследовали колчаковцев.
Стояла суровая зима. В Уфе было неблагополучно. В больших перевалочных амбарах, построенных в царское время фирмой Высоцкого и Перлова для перевозки знаменитого китайского чая, размещались тифозные больные. Отступавший Колчак, оставляя тифозных на своем пути, сознательно и методично заражал тифом преследовавшую его Красную Армию. Над городом развевался черный флаг. В Уфе был объявлен карантин, и все, кто мог, объезжали ее стороной.
Наш состав стоял на запасном пути станции. Город был расположен на горе. Туда вела крутая лестница, ступенек двести пятьдесят. Я бывало лихо брал их штурмом, не переводя дыхания.
Мы играли в агитпункте, через который пропускали эшелоны, идущие на восток. "Лес" нам так и не удалось поставить - времени на репетиции не осталось. Мы играли почти ежедневно, иногда по два - три раза в день, чередуя концертную программу с "Проделками Скапена".
Гражданская война, и "Проделки Скапена" Мольера! Казалось бы, какое это имеет отношение к агитации и пропаганде? Что общего между горячими корявыми речами солдатских агитаторов о войне, революции и Родине, которой угрожает Колчак, и французом Мольером?

|
|
Я - гонец в экспериментальном спектакле 'Эдип' Софокла;
режиссер Б. Фердинандов
|
Но солдаты революции, заходившие в агитпункт обогреться и съесть миску каши перед погрузкой в новый эшелон и отправлением дальше в лютую стужу, под пулеметный обстрел, сидели и слушали нас чрезвычайно живо, непосредственно, весело. Дружным хохотом встречали они каждую проделку Скапена, дурачившего господ. И сколько "соленых" шуток, подсказов, как вести себя с хозяином, пришлось выслушать нашей милой и терпеливой Мусеньке, которая играла Скапена и голосок которой часто тонул в реве солдатского хохота!
Спектакли чередовались с концертными программами, в которых я читал Маяковского: "Разворачивайтесь в марше..." и "По морям, играя, носится с миноносцем миноносица". Хотя моим слушателям, так же как и мне, было не совсем понятно, почему "льнет, как будто к меду осочка, к миноносцу миноносочка", но так как я читал громко и восторженно, то и солдаты слушали тихо, как завороженные.

|
|
Утрированно сатирический грим и костюм, как ни странно, помогали мне играть Анучкина ('Женитьба' Н. В. Гоголя)
|
И какое это чудесное чувство, когда после спектакля или концерта мы, артисты, покидая агитпункт, проходили через густую и плотно сбитую солдатскую массу. Горящие глаза и дружные похлопывания по спине и плечам были лучшей наградой.
Тиф свирепствовал, не унимаясь. Нас всячески оберегали, пропускали через дезинфекционные души в санитарных вагонах, делали обтирания, но тиф нас все-таки настиг.
Первым заболел мой товарищ, старательный актер и замечательный человек Толя Мирский. Бывший кадровый офицер, он одним из первых перешел на сторону рабочекрестьянской армии, был несколько раз ранен. Он великолепно играл на гитаре и совершенно изумительно пел романсы. Надо было обладать особой душой, чтобы так петь. Пение Анатолия не только "хватало за сердце", но и заставляло еще и ощущать, "видеть" слушаемое - это огромное искусство. Если бы он пел на эстраде, то наверняка имел бы успех.
И вот мой друг захворал. Я еще не знал, что с ним, и ночью, когда ему стало плохо, отправился в аптеку купить лекарств. Поднявшись одним духом по лестнице на гору, я увидел карантинный город, "тифозный фронт". В ночном мраке по городу брели солдаты - длинные, худущие скелеты с блестящими воспаленными глазами. Мало что соображая, с высокой температурой, они пели в бреду охрипшими голосами, провожая взглядом санитарные телеги, на которых штабелями лежали трупы.

|
|
Роль аббата Оноре д'Апремона в 'Жакерии' П. Мериме была
|
построена в соответствии с замыслом К. Эггерта на внешних эффектах: в 'Жакерии' я играл руками
Анатолия я отвез в офицерский госпиталь, а через несколько дней сам вдруг заметил, что по моему телу ползет огромная раскормленная вошь... Одна, вторая, третья... Я понял, что обречен. Врачи почему-то подозревали воспаление легких, что для меня, перенесшего детский туберкулез, было еще опаснее тифа. Я молил бога об одном, чтобы у меня был тиф, а не воспаление легких. Потом оказалось, что у меня и то, и другое, ибо тиф почти всегда сопровождается воспалением легких.
В госпитале я оказался на койке рядом с Толей. У него уже миновал кризис, у меня он только начинался. Тиф трепал меня жестоко. Я пролежал девять дней без памяти. На десятый день наступил наконец кризис, и я стал выздоравливать.
Нужно отдать справедливость нашим товарищам, особенно актрисам, они навещали нас часто, не опасаясь заразиться. Всеми правдами и неправдами они пробивались к нам в госпиталь. И вот в один не очень прекрасный день они нам сообщили:
- Мы едем дальше на фронт, а вы, когда поправитесь, нас догоняйте. Договоренность в штабе фронта есть, вас отправят следом. На станциях будем оставлять вам письма...
 Когда-то А. Закушняк предсказал мне, что я буду играть Тринкуло в спектакле 'Буря'. И вот сбылось! Театр Рогожско-Симоновского района. 1921 год
Когда-то А. Закушняк предсказал мне, что я буду играть Тринкуло в спектакле 'Буря'. И вот сбылось! Театр Рогожско-Симоновского района. 1921 год
Была ужасная метель, когда мы вышли из госпиталя. Поддерживая друг друга побрели по Уфе. Вспомнилась песня "Два гренадера из русского плена брели...". Мы были очень похожи на этих двух гренадеров. Закутавшись в шинели, обнявшись, мы доковыляли до штаба. Нас должен был принять кто-то из начальства. Мы сидели в приемной, разомлев от тепла. Вдруг все присутствующие встали. По коридору упругой походкой спортсмена шел на редкость красивый человек в ловко пригнанной военной форме. Это был М. Н. Тухачевский -командарм 5-й. Оглядев всех, он остановился взглядом на нас:
- Бог мой, откуда такие красавцы?
Мы подтянулись и, как умели, приняли положение "смирно".
Мирский как бывший офицер отрапортовал.
- Куда же вы сейчас собрались? - спросил Тухачевский.
- Мы хотим догнать наш театр.
- Какой там театр! Да вы на ногах не держитесь. Смотрите, на кого вы похожи!
Обратившись к коменданту, спросил:
- Накормили их?
- Нет, еще не накормили, товарищ командарм.
- Почему?
- Нельзя их сразу кормить. Желудки тонки. Могут лопнуть! -отчеканил тот.
- Отправьте в оздоровительную команду. Пусть с ложечки едят.
Мы стали уверять, что уже совсем здоровы.
- Это только видимость у нас такая невзрачная, а внутри мы вполне... - Не окончив свою тираду, я поперхнулся и закашлялся.
Тухачевский грустно взглянул на нас и сказал:
- Энтузиасты, значит! Хорошо! Ну и худущие же! Оденьте их, чтобы похожи были на артистов. Пусть отдохнут, а потом видно будет.
На нашу повторную просьбу разрешить догнать театр, Тухачевский распорядился:
- Хорошо. Устройте их в санитарный поезд, идущий на восток. Да прикажите, чтобы о них позаботились.
На фронт, где продолжал свирепствовать тиф, шли специальные составы с врачами, сестрами и няньками, переболевшими уже этой болезнью. Обратно поезда возвращались, переполненные больными, и снова порожняком спешили на фронт.

|
|
Первым спектаклем, сыгранным на площади 1 Мая 1921 года, был 'Жорж Данден' Мольера. Сцена из спектакля, поставленного К. Эггертом с актерами театра Рогожско-Симоновского района
|
До отъезда состава, куда нас зачислили на довольствие, оставалось еще дней восемь - десять. Состав проходил дезинфекцию. За это время нам сшили два кожаных костюма. После иронической реплики Тухачевского: "Ох, и красив же!" -я решил подумать о своем виде и выбрал для куртки, галифе и сапог желтую кожу. Анатолий, был скромнее - ему сшили черный кожаный костюм. Франтоватые на вид и оттого еще более худые, мы явились в санитарный эшелон.
Так как во всем составе больных оказалось только нас двое, то в уходе мы не испытывали недостатка. В эшелоне работали четыре кадровые медицинские сестры, прошедшие войну 1914 года, и четыре "красные" медсестры-добровольцы.
Слух о том, что два артиста едут на фронт, сразу стал в эшелоне сенсацией номер один. Толя еще как-то держался, я же был ужасающе худ, на мне все болталось, веснушек на лице появилось втрое больше, в общем лучше не вспоминать. За нами ухаживали наперегонки, и особенно старались "красные" сестры, мои ровесницы. Они только что окончили краткие курсы, и им не терпелось проявить свое рвение.
Сестры эти - мирные девушки, ходившие вперевалочку, как уточки - решили не ударить лицом в грязь и закатили нам такую грандиозную яичницу с колбасой, что, наевшись до отвала в первый же день, мы не смогли даже вымолвить "спасибо". Прободения кишек, правда, у нас не было, но ноги вдруг стали пудовыми. На другой день нас положили в люльки тяжелобольных. "Красные" сестры были от нас отстранены, и как они ни доказывали, что хотели нам сделать лучше, главврач Василий Васильевич был неумолим. Он приставил к нам кадровых сестер. Вот эти милые и симпатичные Аня, Нина и Сонечка нас, собственно говоря, и выходили. Поправлялись мы так же медленно, как и медленно двигались на восток.
Закончилась эта поездка в Челябинске, где нам предстояло расстаться с полюбившими нас друзьями и ехать в Екатеринбург, ныне Свердловск, где, по слухам, находился наш театр. Мы очень сдружились в пути. Впервые я понял, что такое коллектив, дружба, товарищество, был обласкан чудесными людьми, узнал заботу и ласку женских рук, не рук матери, по которой тосковал, в которых так нуждался; нет, я узнал, что такое чуткие женские руки сестер, которые могут выходить человека и вдохнуть в него радость и силы.
По приезде в Челябинск главврач женился на медсестре Сонечке. Свадьба была отпразднована шумно, по-фронтовому, всем персоналом "передвижки" тут же, в столовой поезда, но радость новобрачных оборвал трагический случай: другая сестра, Аня, попала под проходивший поезд. Анна была замечательной души человек, сердечная, умная, но какая-то неудачница в личной жизни. На столике около койки осталась ее фотография - она была снята в форме медсестры на фоне госпиталя в Мраморном дворце в Петрограде. На фотографии была надпись: "Дарю тому, кого люблю", но карточка так и не попала в руки любимого, а осталась у нее на столе, как свидетель трагедии...
Был 10 часов вечера 31 декабря, кануна Нового года, когда мы с Мирским добрались до Екатеринбурга. Как нам не хотелось проводить в одиночестве этот новогодний вечер в незнакомом городе! Но дело шло к тому. И вот, усталые, утомленные поисками, мы зашли наконец, без всякой надежды на лучшее, к вокзальному диспетчеру узнать, где может быть фронтовой театр.
В накуренной комнате было много людей, но никто не ответил нам. Тогда я снова спросил нарочито громко:
- Где стоит состав фронтового театра?
Не подымая головы от газеты, которую он читал, человек в меховой ушанке мрачно спросил:
- А вы кто будете?
- Мы - актеры.
- Как ваши фамилии?
Почувствовав что-то неладное, я назвал.
- Так вы думаете, что вы актеры?
- Да!
- Нет! Сукины дети вы, а не актеры! Позор!.. Ай, ай, ай! Какой позор!.. Своего мастера... дорогого... режиссера своего, уважаемого Владимира Аркадьевича... не узнали... Хамство... А мы то...
Дальше мы ему "трепаться" не дали, мы, как тайфун, налетели на Володьку Тодди и Савелия Вересеньева. Мы мяли и тузили их, пока не задохнулись сами. В вагоне мы попали в новые объятия. Оказывается, какое-то чутье им подсказало, что мы будем вместе, обязательно вместе встречать Новый год: два прибора для нас стояли среди празднично
сервированного стола, на белоснежной скатерти.
Таким образом, мы встретили Новый год в своем коллективе. Это был наилучший подарок, который приготовили нам судьба и дед Мороз 1920 года...
Мы поехали дальше.
Однажды, уже под Омском, в наш поезд пришел Тухачевский поинтересоваться, как живут фронтовые артисты. Он узнал меня и Толю Мирского, обнял нас, как старых друзей, и шутил на тему о том, какими "красавцами" мы выглядели в Уфе. К этому времени мы уже поправились, и я даже казался потолстевшим. Тухачевский пожелал нам успеха и спросил, чем можно помочь театру.
Тодди не растерялся и попросил костюмы и материалы для декораций.
- Костюмы и материалы вам, конечно, нужны, - ответил командарм, - но они нужны всем. Правда, полагаю, то, что нужно вам, не нужно остальным.
И он тут же отдал распоряжение допустить Тодди к складам, в которых находились реквизированные вещи дворянских семей, бежавших от красных. Нам отдавали главным образом костюмы, сшитые из бархата и парчи, разные мундиры, фраки, то, что не нужно было населению. Мы приехали в Омск и начали свои спектакли. В Омске я некоторое время руководил кружком самодеятельности, где познакомился с очень милой девушкой Диной. Мы много и весело говорили с ней о театре. Но иногда сквозь веселье и смех пробивалась тоска. Вся семья Дины - родители и сестра - были в Минске, где-то далекодалеко от возможной встречи. Мы подружились, полюбили друг друга. Образовалась семья. Вскоре у нас родился сын Евгений. Он пошел по стопам отца, выбрал себе артистическую карьеру и ныне работает в Ленинграде, в Театре комедии, у Н. П. Акимова.
Наш состав поставили в Омске на ветку, проходившую по площади города. Однажды рядом появился другой поезд. Он принадлежал Особому отделу Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Через короткое время мы увидели обитателей этого эшелона -арестованными оказались члены "правительства" Колчака, не было только самого "черного адмирала". Каждое утро в один и тот же час мы наблюдали, как колчаковские министры в окружении усиленной охраны выходили на прогулку. Готовился суд.
Мы уже собрались уезжать обратно в Москву, когда двое из нашей "команды" - реквизитор Саша и сапожник Сеня, хорошие ребята лет по семнадцать - восемнадцать, подружившиеся за эти дни с ребятами из Ч К, пришли к нам и сказали:
- Извините нас, товарищи артисты, мы вас очень любим, но сейчас мы хотим вместе с новыми товарищами воевать против контры. Это важнее. Привет Москве!
Они выбрали правильный путь, эти честные ребята. Провожая нас, они держались геройски, но под конец смахнули слезу...
В Москву мы приехали "бывалыми" людьми. Поездка была трудная, но я всегда вспоминаю о ней, как о большом, интересном и очень важном этапе в своей жизни.
В Москве, у Рогожской затавы
В Москве Тодди реорганизовал свой театр в "Театр классической комедии" и предложил мне работать у него в качестве режиссера. Но прежде всего я отправился в театр ХПРСО - его я считал своей "альма матер". Хотелось встретиться с друзьями, узнать новости, рассказать о себе.
К сожалению, театр Комиссаржевского распался. Вместо него существовал трудовой театральный коллектив, руководителем которого был К. В. Эггерт. После "Вильгельма Телля" он поставил "Колокол" Верхарна в манере многоголосной декламации с интересным оформлением. В огромном полотнище, растрафареченном бронзой, куполом закрывавшем сцену, были прорезаны дырки, куда просовывалась голова актера. Артисты-чтецы были расставлены по голосам на специальных станках разной высоты, и в прорезях купола виднелись только их головы. Создавалось сильное впечатление, будто перезваниваются, переговариваются колокола.
Эггерт был режиссер своеобразный, очень острый. Не менее интересен он был и как актер; сейчас таких не встретишь. Это был представитель вымирающего типа актера, с яркой, словно высеченной из гранита внешностью, сильной и властной, с хорошо поставленным голосом, в общем стопроцентный герой для классического репертуара.
Константин Владимирович меня очень трогательно встретил, и как фронтовик я немедленно был зачислен в штат Театра имени Сафонова на Таганской площади в качестве актера на амплуа "простака".
Все друзья меня встретили горячо - поцелуи, объятия, но "землячество" ХПРСО все-таки распалось, разошлось по театрам, кто - куда.
Началась моя бурная творческая жизнь.
Спектакли ставились и в главном помещении театра, и на летней сцене, которая называлась "Сад Пермякова", что у Рогожской заставы. Районный Совет относился к нам очень заботливо и даже, я сказал бы, нежно. Это, между прочим, было тогда повсеместным явлением и отражало исключительно доброе отношение к театру нового, рабочего зри теля. Театр любили, и зал всегда был полон. Энтузиазм зрителей заражал и нас, актеров.
Я жил с родителями по-прежнему на Самотеке. С фронта я приехал в сапогах, в шинели, которая была подбита овчиной, в сибирской шапке-ушанке. Вот в таком солдатском одеянии я ежедневно четыре раза - утром в театр на репетицию, затем на обед домой, вечером на спектакль, а после спектакля снова домой - отмерял пешком расстояние от Самотеки до Таганки. Транспорт в Москве был разбит, к трамваю подцепиться было трудно, да и ходил он по Садовому кольцу, как улитка.
Я вспоминаю эти "прогулки" не как мучение. Наоборот, я ходил с огромным удовольствием. Я думал над ролью, учил текст и совершенно не замечал, как проходило время в пути. Мы с энтузиазмом строили новый театр и были глубоко убеждены, что на Таганке, в гуще рабочего зрителя, зарождается подлинный народный театр.
"...В наше время актерской беспринципности и неуважения к искусству работа этого районного театра представляет собой освежающий оазис.
Работают здесь не за страх, а за совесть: отдавая себя всецело району, актеры абсолютно не халтурят, - невероятно, но факт!..
Если бы в центральных театрах не было так безнадежно и безжизненно, можно было бы сказать: "хоть центру - в пору...", - писала о нас газета "Коммунистический труд" в августе 1920 года.
В наших залах не было "бархатного шика", и зритель приходил к нам после работы отдохнуть часто всей семьей. Сцена и зал жили как один коллектив. Ощущение единства с аудиторией придавало нам не только духовные, но и физические силы.
Играл я в ту пору почти каждый день.
В "Буре" Шекспира - исполнилось предсказание Закушняка -я сыграл роль Тринкуло, которая стала моей любимой; в "Каменном госте" Пушкина - Лепорелло; играл в комедиях Мольера.
Наши спектакли объединялись тогда понятием "спектакли левого театра". Мы считали: театр должен быть театром, никакого натурализма, никакого бытового копирования жизни, в театре жизнь должна быть сконцентрированной, надо давать квинтэссенцию жизни. А раз это так, то жизнь через театр возвращается зрителю в театрализованном виде.
Мы стремились к тому, чтобы публика сразу почувствовала, что находится в театре. Мы уходили от быта и натурализма к примитивной театральной условности. Если по ходу пьесы нужен был сад, то пусть это будет откровенно условный театральный сад; если мольеровский дом, то пусть он будет раскрашен разноцветными красками и в нем заживут условно люди, которые сядут у условного окна и войдут в условную дверь. Таким был наш "левый театр".
Все эти убеждения я разделял, но подчиняться им не умел. Другие артисты очень скоро научились условной игре. Я им даже завидовал: как здорово у них получалось! А сам не мог переломить себя и играл так, как чувствовал, то есть "по-всамделишному". Потом я заметил, что моя "незаконная" игра больше доходила до публики, зрители встречали меня теплее, чем других, игравших "по всем правилам".
Вот я играю Лепорелло в "Каменном госте" Пушкина. Борис Эрдман, тогда уже известный художник, сделал, по согласовании с режиссером, декорации в модной манере сдвинутых плоскостей, разрисованных черной и серой красками. Он же дал нам соответствующий грим и костюм. На мне костюм из бумазеи с какими-то воланами. Одна часть костюма серебряная с черными разводами, а другая, наоборот, черная с серебристыми отметинами. Талия костюма находилась на месте, но зато фалды были короче одна другой, так что слева я казался короче, справа - длинней. Лицо у меня разделено пополам: налево затушевано черной краской, а направо - белилами. Что это означает, понять не мог. Но мазался с увлечением: "Новаторство!".
"Критического начала" во мне тогда еще не было. Мне казалось, что так надо, что я играю в замечательном театре, с замечательными художником и режиссером, и я очень старался "быть условным". Но начинался спектакль, и я двигался и говорил просто и обыкновенно. Когда я уговаривал Дон Жуана бросить его затею с командором, то каждая фраза у меня звучала убедительно, от сердца, то есть как я в данный момент ощущал себя в образе сметливого слуги ловеласа. А "мой господин" декламировал напыщенно, и жест у него был деланный, построенный рационально. Если он говорил нет , то руку вытягивал перед собой ладонью внутрь, потом отводил направо, поворачивая ладонь назад, и так каждый раз. И голос у него звучал, поднимаясь вверх: "Н-е-т!".
В результате публика принимала меня лучше, чем его, смеялась, аплодировала на мои безыскусственные реплики.
В поисках новых форм театральной выразительности (хотя, как известно, ничто не ново под луной) мы увлеклись гротеском. Это особенно свойственно молодым. К пониманию творческого богатства сценического перевоплощения, отражающего внутренний мир образа через сложный внешний рисунок, приходят с годами. Молодые актеры, режиссеры, да и художники часто идут, как им кажется, верным, а на самом деле облегченным путем - путем внешнего шаржирования.
Идя от внутреннего к внешнему, актер делает образ органичным, убедительным. Но не у каждого хватит таланта и умения углубить образ, найти его внутреннюю жизнь, начав с внешнего изображения. В этом случае развитие образа дальше внешнего рисунка не идет.
Так вот, этой левацкой болезнью молодости были заражены и мы, когда ставили "Женитьбу" Гоголя. Эггерт решил, что эта пьеса - символическое изображение отжившего общества со всем его антиреволюционным мещанским укладом. Поэтому персонажи трактовались им кукольно-условно. Движения и жесты были отработаны прежде всего броскими внешними приемами.
У меня абсолютно ничего не получалось. В своей роли Анучкина я, кроме каких-то нелепых движений, ничего "почуднее" придумать не мог. Вконец измученный на одной из репетиций, я решил отказаться от роли.
- Ну, не могу, не понимаю! - заявил я Эггерту. - Не знаю, что это за фигура. Кто он такой?
- Как кто? Шаркун! Завсегдатай балов. Пустой шаркун по паркету! - сказал Эггерт.
Шаркун! Мне не хватало для моего внутреннего понимания образа вот именно этого яркого, динамичного определения: "шаркун". Когда это слово было произнесено, передо мной сразу возникли картины бала, фигуры, сценки. Анучкин стал танцевально-изящным армейским кавалером. Правая нога, казалось, сама отбивала ритм, пока Анучкин спрашивал: "Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить?". И ловко делала "блям!", как бы заканчивая сложное па. Эггерт дал мне музыкальное сопровождение. Получилась, как говорили знатоки, одна из интересных трактовок Анучкина и... одна из самых любимых моих ролей тех лет. Ибо все мы, нечего греха таить, тщеславны и любим аплодисменты, а у меня их в этой маленькой роли хватало.
Хотя я играл с большим удовольствием и считался одним из ведущих актеров, по крайней мере главным "простаком", я все же чувствовал, что отдаляюсь от театра, что в нем все больше становится не по себе. Актеры там были молодые, интересные. Среди них, например, был Юра Милютин, который в то время много играл. Мы с ним очень подружились. Я попросил его написать мне музыку для стихотворения Маяковского "По морям, играя, носится...". Он быстро выполнил просьбу, и я долго потом читал с эстрады это стихотворение под аккомпанемент музыки Юрия Милютина.
Помню я его и в роли Моцарта из "Маленьких трагедий" Пушкина. Милютин исполнял эту роль очень проникновенно: то, что он сам играл на инструменте, придавало спектаклю особый "шарм". Позднее Милютин изменил своей профессии актера и приобрел другую - композитора, в которой, как известно, немало преуспел.
Позже с нами стал работать Борис Фердинандов. Он проповедовал теорию "метро-ритма; считал, что в жизни, а следовательно, и на сцене, все подчинено ритму. Стремясь воплотить на практике собственную теорию актерской игры, он вскоре организовал театр, который назвал Опытногероическим.
Первыми его работами были "Гроза" и "Царь Эдип". В роли Эдипа выступил Эггерт. Это был формальный, но любопытный спектакль по оформлению и постановке; и то, и другое делал Фердинандов.
Хорошо помню в "Грозе" роль Дикого. Фердинандов ловко построил речевую партитуру этого образа, - нельзя не отдать ему должное, он был очень музыкальным человеком.
Вот слова Дикого по Островскому, как их разбил "метроритмом" режиссер, заставив произносить актера (счет на 3/4):
"Раз -
тебе сказал (и, - про себя)
Два -
тебе сказал (и)
Не смей мне навстречу попадаться (раз, два).
Тебе все неймётся (раз) мало
тебе места (раз) куда
ни пойти тут
ты и есть (раз, два).
Тьфу ты, проклятый.
................ (пауза на
3/
4)
Что ты, как столб-то стоишь (раз, два)? Тебе говорят? - аль нет?".
Счет в скобках надо было произносить про себя.
Такая манера сценической речи - то ли пение, то ли речитатив, то ли рифмовка - была заманчива, чем-то привлекала, но жаль только, что к драматической речи Островского, построенной на разговорной народной мелодике, она никакого отношения не имела.
Я мог говорить со сцены так, как учил Фердинандов, но меня это совершенно не грело. И я говорил по-своему, в тех естественных, разговорных интонациях русской речи, которые подсказывал Островский и которые запали в мое сознание с детства.
Играя в "Грозе" Кудряша и Тихона и стараясь внутренне оправдать "метро-ритм", я, естественно, выпадал из всего
состава исполнителей. И встал перед выбором: либо
подчиниться режиссеру, который настойчиво добивался своего, либо уйти.
В это время произошло много театральных событий, задевавших меня и прямо, и косвенно.
Кроме театра на Таганке, я работал еще в одном театре, который давал дневные представления. Тогда начинали входить в моду сокращенные слова, которые захлестнули и театральную лексику. Наименования Первый симфонический ансамбль и Первый духовой ансамбль соответственно сокращались, причем так и говорили: "Я сегодня иду слушать Персимфанс или Пердуханс". Новый театр, в котором я начал работать, полностью назывался Государственный первый детский театр, или сокращенно - Госпердетт. Основала его Г. М. Паскар, приехавшая из Ростова к А. В. Луначарскому с разработанной программой театра. Анатолий Васильевич поверил в нее и дал театральное помещение в Мамоновском переулке, где сейчас находится Театр юного зрителя. Паскар привлекла к работе хороших художников, в том числе моего друга по студии Комиссаржевского И. С. Федотова, собрала крепкий актерский коллектив из разных театров Москвы. Деньги платили хорошие, и можно было работать по совместительству, выступая в Госпердетте на дневных спектаклях. Время было тяжелое, и ничего зазорного не было в том, что артисты старались заработать на жизнь.
Конечно, это мальчишество, - но успех и любовь, с которыми принимала меня публика вскружили мне голову и я считал себя лучшим "простаком" не только в Рогожско-Симоновском районе, но чуть ли не во всей Москве. Это зазнайство, которое подогревал своим любовным ко мне отношением Эггерт, или, как мы его называли за глаза, "барон", особенно подвело меня в роли Дринкуотера в спектакле "Обращение капитана Брасбаунда" Б. Шоу. Шоу в ремарке дал следующую характеристику моему герою: "Сколько ему лет - определить нельзя. Ему можно дать от 18 до 40, ибо под грязью и под синяками определить его возраст невозможно". Принимали меня в этой роли зрители необычайно горячо, я даже сказал бы, слишком. В этой связи не могу не привести один эпизод.
Нашими постоянными зрителями были рабочие завода "Серп и молот" и близлежащих заводов. В спектакле, о котором идет
речь, есть одна сцена, где грязного и безалаберного матроса-бродягу Дринкуотера встречает героиня пьесы и хочет привести его в "христианский" вид. Леди велит его немедленно искупать, остричь и... словом, сделать из него джентльмена. Матрос яростно отбивается, но его скручивают, и через некоторое время он появляется на сцене совершенно преображенным: в чистой полосатой пижаме, вымытый,
прилизанный на прямой пробор и с ночным
колпаком в руке. Эта сцена всегда вызывала гомерический хохот.
На одном из спектаклей какой-то молодой парень в первом ряду так хохотал, что никак не мог остановиться, когда мой герой, отмытый и постриженный по приказу леди, возвращался в комнату на цыпочках, изменив от непривычки к чистоте даже походку. Зализанный и причесанный на прямой пробор, он шел, как балерина, даже не шел, а нес себя, боясь расплескать. Парень схватился за живот, скатился со стула и, сев на пол, продолжал хохотать. Он заразил хохотом сначала весь зрительный зал, а затем и артистов на сцене. Играть дальше оказалось невозможным, дали занавес. Лишь несколько успокоившись, мы возобновили действие, пропустив злополучную сцену.
Таков был наш зритель, непосредственный, во многом наивный, способный своей наивностью увести актера на ложный путь дешевого успеха. В таких случаях Эггерт мне говорил: "Вы сегодня разменяли себя на серебряную мелочь, а жаль, так хорошо начали!..".
Как-то Эггерт мне сообщил, что, по совету А. В. Луначарского, в план включен "Ревизор" и Хлестакова буду играть я. Радости не было границ, я заверил Эггерта, что с сего дня, как бы меня ни принимала публика, я "трючить и фортелить" - хотел даже сказать "совсем не буду", - но вовремя спохватился и сказал: "Буду меньше!".
Но радость моя улетучилась в один прекрасный день. Мы, увлеченные своей работой и своими поисками "нового театра", проглядели, что у нас под боком, в Художественном театре, с необыкновенным успехом поставлен именно "Ревизор" с актером Михаилом Чеховым в роли Хлестакова, которого, как говорила Москва, он великолепно играл. Для того чтобы сейчас понять, что это было за явление, достаточно вспомнить, что в "Известиях" успеху актера был даже посвящен целый подвал под шапкой "Чехов - Хлестаков".
Заныло у меня сердце. Я решил во что бы то ни стало пойти посмотреть.
Достать билет было невозможно. Я надеялся упросить администратора, но из этого ничего не получилось. Спектакль уже начался. На мое счастье, барышники, стоявшие у входа, просчитались и начали сбывать оставшиеся билеты по своей цене. Я и еще один незнакомый мне человек схватили два билета и ринулись в театр. Первой картины "У городничего", где сообщается о приезде ревизора, я не увидел. Зато я сразу попал на самое интересное, именно на то, ради чего шел.
Открылся занавес. Обычные для Художественного театра декорации... Хотя в душе я оставался все таким же горячим поклонником этого театра, как и в детстве, но я старался считать себя уже опытным артистом-новатором, и натуралистическая декорация была для меня "пройденным этапом"!
...В грязной каморке лежит Осип - Грибунин, которого я уже "знаю-перезнаю", и ведет свой монолог. Я все жду, когда появится этот знаменитый Хлестаков, о котором пишут целые страницы в столичной газете.
Открывается дверь в номере под лестницей и устало входит какой-то маленький человек, совсем не похожий на Хлестакова, каким я его себе представлял. Чересчур уж маленький, в черном глухом костюме, с тросточкой в руке. Он останавливается и медленно начинает оглядывать номер. Делает он это как-то замедленно, будто в полусне, и вообще похож скорее на тень, чем на живого человека. Нет, это не Хлестаков! Тогда кто же?
Я уже привык, что в пьесы классиков режиссеры-новаторы вводят новых персонажей, не предусмотренных автором. И я стал гадать, какую же вводную фигуру режиссер мхатовского спектакля сюда вставил. Пока я терялся в догадках, глядя на странного человека, в голове мелькнула мысль: "А ведь здорово играет, этот черненький с палочкой. Если вводный персонаж так играет, как же будет играть Чехов-Хлестаков? -думал я. - И что же он, этот незнакомец, будет делать дальше, ведь сейчас появится Хлестаков".
В общем пока я все это раздумывал, вдруг слышу, как "черненький", не глядя на Осипа, говорит: "...А, опять валялся на кровати?".
Позвольте, но ведь это же реплика Хлестакова!
Потом фраза: "Посмотри, там в картузе табаку нет?".
Словом, через две минуты я понял, что передо мной на сцене Хлестаков, Чехов - Хлестаков, которого я внутренне собирался не принимать, как бы он гениально ни играл, не принимать, да и все! В порыве ревности к успеху собрата по искусству я, направляясь в театр, твердил себе одно: вот сейчас пойду посмотрю, но принимать его не буду, возьму его в штыки, какие бы художества он там ни вытворял! Но вышло все наоборот: через две секунды после того, как Чехов появился на сцене, он меня покорил, взял в кулак и больше не выпускал весь вечер. Видеть Чехова в этой роли было такое эстетическое наслаждение, что я не мог без стыда вспоминать о своем тщеславном удовлетворении, которое получил от скатившегося со стула зрителя, хохотавшего до колик в животе над моей игрой.
Сознание этого потрясло меня. Одновременно я испытал как бы внутренне очищение. И почувствовал, как мне стало легко, когда я разделался с ложным самомнением и предвзятостью.
С этого дня я стал строже и критичнее относиться к себе в театре.
Глядя на гоголевского Хлестакова в интерпретации М. Чехова, я вновь вспомнил слова своего учителя Ф. Ф. Комиссаржевского: "Так называемые классические
произведения театральной литературы, будучи живым и, становятся мертвыми, музейной стариной, если художник театра только "реставрирует" их, а не проникает в глубины их духовных содержаний и не освещает эти содержания по-своему, своим индивидуальным чувствованием и пониманием... Тогда произведение оживает, потому что современный нам талант проникся им, переложив его на свои близкие нам чувства. И старинная пьеса стала не мертвым упражнением, а живым языком души... Художник театра, проникая во внутреннее содержание сценического произведения, восприняв миросозерцание автора через свое "я" (свое миропонимание) раскрывает "я" этого автора".
Трудно передать, что делал Чехов в этом спектакле. Я не помню, как играл городничего Москвин, нет, не помню, хотя говорили, что великолепно, я помню только, что он, произнося свой знаменитый монолог, подходил, одетый в красную рубаху, к рампе и, опираясь ногой о суфлерскую будку, гневно вопрошал: "Чему смеетесь? - Над собою смеетесь!.. Эх вы...", и махал кулаком в зрительный зал. Но во всех деталях я по сей день помню только Хлестакова - Чехова, этакого маленького, похожего на восклицательный знак шпингалета.
Чтобы иметь хоть некоторое представление о том, как он жил на сцене, расскажу лишь один штрих. Мне повезло - то, что я увидел, не было предусмотрено ни режиссером, ни самим актером, - это было простой случайностью. Во время объяснения в любви, когда Чехов - Хлестаков стоял на коленях перед Марией Антоновной, у него лопнула штрипка. Узкие брюки натянулись, штрипка лопнула и штанина полезла вверх. Все замерли: что будет дальше? Ведь Хлестакову еще долго быть на сцене, актер не может сделать вид, что ничего не произошло.
Что же делает Чехов? Чехов долго смотрит на оторванную штрипку, потом кокетливо взглядывает на дочку городничего, потом опять на штрипку. Затем он изящно отрывает ее, элегантной, но какой-то смешной походкой, с одной задранной штаниной, подходит к окну, где стоит горшок герани, и на стебельке цветка завязывает бантик. Я, весь красный от восторга, бью в ладоши и кричу своему соседу почему-то на "ты":
- Нет! Ты понимаешь? Ведь это же гениально!
- Понимаю! - отвечает он, тоже ударяя в ладоши.
В эту минуту я постиг для себя, что так играть актер может только тогда, когда целиком, всем своим существом преображается, живет в образе, когда никакая случайность, никакой поворот не вышибет его из найденного самочувствия. Артиста, который наполнен содержанием своей роли, когда он внутренне перевоплотился в нее, ничто сбить не может, наоборот, случайность укрепляет его в атмосфере, дает ему возможность чудесных и неожиданных находок в роли. Это высшее мастерство перевоплощения.
Таким был Чехов.
Кстати, на почве признания за Чеховым "великолепного актера-мастера" я познакомился в этот вечер с моим соседом, который оказался Сашей Хохловым. (Читатель, несомненно, знает его как народного артиста РСФСР, много лет проработавшего в Центральном театре Советской Армии.) Позже мы стали друзьями.
Я пришел к Эггерту и рассказал ему все, что видел. Он ответил, не раздумывая:
- Не морочьте себе голову! Чехов! Чехов! Ну, верно, хорошо играет, а мы раскроем новое... Я так поставлю Хлестакова, что от Чехова пух будет лететь, - заключил Константин Владимирович.
Нет, как я ни хотел тогда сыграть Хлестакова, как ни мечтал об этом, считая, что это мое счастье, я вместе с тем знал, что пух будет лететь не от Чехова, а от меня, если я попытаюсь взяться за Хлестакова, после того как его сыграл Чехов. И отказался от роли.
Пух долго летел от всех, кто пытался "переиграть" Чехова.
Эггерт на меня очень рассердился. У него были свои счеты с МХТ, где, как рассказывали, с ним произошло комическое недоразумение. Просматривая гримы толпы в "Царе Федоре Иоанновиче", Станиславский обратился к нему:
- Молодой человек, а зачем вы шаржируете?
- Простите!.. Я вас не понимаю!
- Наклеили нос, каких в жизни не бывает... Снимите его! -предложил Константин Сергеевич.
Эггерт носа не снял, но из театра ушел. Нос был собственный...
Ежедневные спектакли, далекие, по четыре раза в день, переходы, сын Евгений, который родился и требовал внимания к себе... Я уставал, но вместе с усталостью появились и новые заботы. Молодому отцу надо было думать о добавочной работе. Наступил нэп. Возникли частная торговля, нэпманы и многочисленные кабаре-кабаки.
”Не рыдай!”
Нэп я вспоминаю, как сон. Практически он не имел лично для меня никакого значения, потому что все эти частные лавки, которые были тогда открыты и в которых люди впервые опять увидели сыры, колбасы, масло, одежду, какие-то шерстяные вещи, не производили на меня ни малейшего впечатления, были для меня просто нереальны.
Мое отношение к этому было примерно такое. Я сказал себе: "Ты бываешь в музее, видишь разные экспонаты, скифский клад например, который тебе недоступен и не может быть твоим, как бы ты этого ни хотел. Ведь так?" - "Так!" - отвечал я сам себе. - "Ну, раз так, вот и считай, что частная лавка для тебя - это музей! Верно?" - "Верно!" - снова ответил я. Покончив на этом со всеми сомнениями, а заодно и со слюной, которая обильно выделялась, я чувствовал себя после этого великолепно. Жил, не завидуя. "Морально легко", - как говорили в то время.
Тем не менее, даже не завидуя, я должен был иметь деньги, хоть немного побольше, чем платили в театре.
И тут на помощь пришел "Не рыдай!".
Во время нэпа почти во всех крупных городах и уж, конечно, в Москве расплодились кабаре с "художественной" программой. Одним из самых популярных московских заведений этого типа было кабаре-трактир "Не рыдай!", который содержал с кем-то на паях А. Д. Кошевский, известный опереточный комик, любимец московской публики.
"Не рыдай!" помещался в двухэтажном флигиле в Каретном ряду, близ сада "Эрмитаж". Попасть туда было невозможно, посещать его могли только люди состоятельные, каковыми тогда были нэпманы. На его подмостках выступали все самые модные артисты текущего московского сезона. Кошевский создал небольшую труппу по типу "театра миниатюр", где актеры делали все - играли, пели, танцевали. Программу обычно готовили объединенную на одну какую-нибудь тему с хлестким названием.
Чтобы не быть заподозренным в недостойном для артиста "торгашеском деле", Кошевский придумал остроумный ход - он создал в своем трактире специальный "актерский стол", уголок, изолированный от "нэначей", где могли сидеть только актеры и есть свое недорогое дежурное блюдо. Не имеющим отношения к театру посетителям, даже "денежным тузам", сидеть за этим столиком было запрещено. Это создало кабаку репутацию актерского ночного клуба. Съезд начинался к десяти часам вечера.
За актерским столом в гостях у "Не рыдай!" всегда был кто-нибудь из "знаменитостей". А так как за столом было всего пятнадцать - двадцать мест, то на него существовала актерская очередь. Театральные "звезды" были дополнительной приманкой для мещан с толстыми карманами. Выгоду, таким образом, Кошевский имел двойную.
Николай Эрдман написал нам с Михаилом Гаркави остроумный, сатирический скетч-диалог, который назывался "Москвичи в Чекаго". Вот с этим дуэтом, который имел бешеный успех, мы и начали выступать вечерами у Кошевского. Особенная ценность наших куплетов заключалась в их свежести, злободневности. Каждый вечер мы выступали с новыми куплетами на тему дня.
Сцена "Не рыдай!" была оформлена под чайник. Передний портал был вырезан по силуэту огромного пузатого чайника, а свободное пространство его закрывалось раздвижным занавесом очень оригинальной расцветки в стиле лубка, под стать оформленному в том же духе зрительному залу, в котором стояли столики. В чайнике и была сцена.
Мы выступали в середине программы, то есть нам отводили лучшее время - мы были "любимцами публики".
Куплеты были на театральные и общеполитические темы, иногда изящные и остроумные, иногда просто злые и ядовитые, высмеивавшие нэпманов, но всегда очень хлесткие. Смешно было, когда они с бурным восторгом приветствовали строки, обращенные против них же самих.
Самым "любимым" для посетителей трактира было исполнение на бис куплетов:
Пока еще не спеты Ни мной, ни им куплеты,
Мы просим и мужчин,
И дам
Помочь немного в этом Нам.
Мы просим Вслед за нами Пристукивать Руками,
Когда дойдем мы до конца...
Тут, взяв в руки вилки и ножи, торжествующие нэпманы звонко выстукивали по тарелкам:
Ламца-дрица,
А-ца-ца!
Однажды в "Не рыдай!" пришли "конкурирующие" с нашей группой сатирики Николай Форегер с Владимиром Массом; мы мгновенно сочиняем экспромт, выходи?! на сцену и поем:
Я Николай Форегер,
Известный я культтрегер,
Могу поставить вам канкан,
Могу устроить и шантан,
Могу нагнать вам скуку,
Обворовать "вампуку"
От начала до конца.
Ламца-дрица, а-ца-ца!
Дело в том, что Форегер в только что на Арбате открытом своем художественном кабаре поставил пародию на оперу "Царская невеста", неудачно копируя "вампуку", но так как там были веселые и остроумные номера, то попасть на московскую "вампуку" тоже было очень трудно.
Как только мы ушли со сцены, заработав бурные рукоплескания, на подмостки поднимается Масс и поет ответные куплеты, "уничтожающие" нас. Ему также кричат: "Бис! Давай еще!".
Тогда, продолжая турнир, мы опять выходим и опять поем:
Жаров и Гаркави,
Мы равнодушны к славе.
И так нас знает целый мир,
Не только "Не рыдай!" - трактир.
У нас куплетов масса.
Не то, что вот у Масса,
Мы экспромтим без конца,
Ламца-дрица, а-ца-ца!
Тут уж поднимается настоящий рев. Эстрадное искусство наше было озорное. Атмосфера накаляется. Страсти бушуют... Но пора идти домой...
Я был молод. Мне все это нравилось, но работа без сна (из "Не рыдая! "приходил поздно ночью, а утром надо снова бежать и до самого вечера быть в театре) подорвала силы. Правда, с деньгами стало лучше, но зато появился нездоровый кашель. Стали лечить.
Мы очень сдружились с Эрдманом. Мечтали сделать что-нибудь большое, настоящее. Хотя понимали, что куплеты тоже были нужны, так как позволяли откликаться на все события жизни Москвы в тот же день, но что это не могло быть главным для нас, - мы понимали.
Москва в этот период жила буйной театральной жизнью. Наряду с большими известными театрами и с крупными мастерами, которые их возглавляли, жили короткую жизнь и лопались, как мыльные пузыри, всевозможные мелкие театральные коллективы и студии всевозможных направлений, руководимые иногда просто талантливыми дилетантами. Помню какую-то студию при клубе завода б. Дукс, где режиссер Вертляев ставил с молодежью "Король забавляется" как танцевальную пантомиму с минимальным количеством текста, в современных костюмах. Творческая неуемность привела меня и туда. Работу в этой студии я совмещал с театром. Но недолго. Борис Ливанов, Владимир Кеслер-Котельников и я - три приятеля, "три кедра ливанских", как звали нас за рост и стойкий характер, - высказав свое недоумение по поводу трактовки и метода работы, гордо покинули Вертляева.
Рассказывая о "Не рыдай!", о студии Вертляева, я несколько опередил события. Вернусь снова к 1920 году...
Победно завершалась гражданская война. Молодой республике приходилось туго. Но она сумела разорвать кольцо фронтов, разбить интервентов.
В 1920 году на театральном фронте был объявлен "Театральный Октябрь". Мейерхольд шел на приступ старого театра. Вокруг Мейерхольда сгруппировалось все "левое" искусство.
На площадях появляется С. Т. Коненков со своей знаменитой доской "Свободы" на Кремлевской стене и барельефом "Труда" на углу Арбатской площади, сбоку от памятника Гоголю.
Стихийно возникают бунтарские школы и школки, профсоюзные театры, театр Института научного труда, НТО, Производственный театр, Опытно-героический и всевозможные другие. Какие-то ансамбли ставят символические спектакли, вроде "Борьбы труда и капитала". Все это делается на "левых" декорациях, с футуристическими стихами, с массовыми механизированными танцами и движениями: пляшут какие-то гайки, болты, винты. И все это тянется к Мейерхольду, как к главе "Театрального Октября", который он объявил по стране.
Непрерывно идут диспуты. Все страстно увлечены новым искусством. Что будет дальше, - неизвестно, да и не столь важно. Важно сейчас разгромить "старое". Те, кого громят, защищаются; те, кто громит, декларируют. С декларациями выступают все. Казалось, заявлениями и манифестами хотят вылечить все недуги искусства. Ими расплачиваются, ими добывают себе хлеб. Художественная декларация - разменная монета эпохи. Мейерхольд провозглашает, что главное -биомеханическая тренировка актера. Станиславский утверждает, что владеть своим телом - это очень хорошо и даже мило, но главное в образе - его внутренняя жизнь. И в этом актер прежде всего должен себя тренировать. В ответ снова Мейерхольд заявлял: "Все это верно, но...".
Сторонники "Театрального Октября" выступали с заявлениями против академических театров, топчущихся на месте. Академические театры объясняли, что они не те, за кого их принимают. В общем, как говорится в одном романе, "если больной вылечивался, он заявлял о том, что обязан своей жизнью врачу, а если умирал, врач заявлял, что не он -причина его смерти. Аптекарь тоже делал заявление. Только сам покойник уже ничего не заявлял. И то слава богу!".
Особенно ясно помню диспут на Кузнецком мосту, в "Стойле пегаса". В афишах объявлялось, что в нем примут участие Станиславский, Мейерхольд, Таиров, Немирович-Данченко, Керженцев, тогдашний руководитель Главполитпросвета Феликс Кон и много-много других.
Дискуссия напоминала спор глухонемых. Все выступали рьяно, горячо, размахивали руками, но по существу не отвечали друг другу, а говорили каждый о своем, никто никого не слушал. Разобраться в том, кто был прав и кто нет, было очень трудно, пожалуй, даже невозможно, потому что путь к истине был закрыт полемическими преградами.
Что же делали битком набитые аудитории во время этих диспутов? Там не сидели и даже не стояли, а были втиснуты, вдавлены друг в друга, и поэтому даже аплодировать не могли, руки поднять нельзя было. Вокруг стояли ор и свист. Пытаясь перекрыть море шума, говорил Мейерхольд, сочувственно орали его ученики, поклонники. Их было больше, на их стороне, как они считали, была революция. Выступали представители школы Художественного театра. Их было меньше, они были напуганы, в зале поднимался свист.
Откровенно скажу, что у меня было такое ощущение, будто никакого единого "левого фронта" не было. Внутри него существовали совершенно различные группы и группочки со своими программами и программками.
Помню такой случай. Эггерт к тому времени покинул Опытно-героический театр. Он перешел в Малый театр, где ставил пьесы А. В. Луначарского, в которых участвовала Н. А. Розенель (позднее он перешел в кино, где поставил "Медвежью свадьбу", имевшую большой успех). Таким образом, Эггерт "выпал из игры", не принимал участия в дискуссиях и просто работал.
На его место выдвинулся и возглавил труппу Опытногероического театра на Таганке Борис Фердинандов. Я уже писал, что программа его "левого" театра основывалась на признании того, что все в жизни подчиняется чередованию ритмов. Смена ритмов определяет жизнь: человек живет, растет, стареет, умирает. На этом он и строил свой театр. Эта его полутеория не носила законченного характера. Собственно, все в ней было не закончено. Важно было найти, что отвергнуть, а строптельный материал был не существен. Ясно было, что театр должен быть для народа, а какой и как его строить, - было неясно.
Фердинандов был, мне кажется, талантливым человеком, особенно ярко проявлялся его талант художника. Среднего роста, сухой, худощавый, бывший кадровый офицер, он ходил в сапогах, в коротком тулупе, со стеком. Я помню, как на одном из диспутов он выступал против Мейерхольда: акцентируя свои гневные слова, он подстегивал себя плеткой по голенищам сапог. Улыбался он редко.
Случилось так, что в здании бывшей студии ХПСРО объединили два театра: театр имени Мейерхольда и театр Фердинандова. Три дня в неделю должен был играть театр под руководством Мейерхольда и три дня - Опытно-героический театр под руководством Фердинандова и поэта-имажиниста Вадима Шершеневича. Последний был автором и
постановщиком пьесы "Дама в черных перчатках" и заведовал литературной частью. (В это время Мейерхольд ставил "Смерть Тарелкина", и я уже ушел от Фердинандова к нему.)
Сцену и третий этаж занимал Мейерхольд; на четвертом этаже помещались Фердинандов со своей школой и Лев Кулешов со своей мастерской киноактера, учеником которой я также был. Студентами этой "вольной" мастерской были Барнет, Хохлова, Фогель, Комаров, Пудовкин - кулешовцы, которые затем так дружно и триумфально вошли в советский кинематограф. Совершенно ясно, что такое противоестественное объединение было неразумно и могло окончиться скандалом, так как все заявляли протесты и требовали помещение только себе.
И вот поползли слухи, что Мейерхольд задумал "выгнать" театр Фердинандова, с тем чтобы играть не три дня в неделю, а все шесть. Мой товарищ из фердинандовцев подходит ко мне и говорит:
- Нечестно поступает ваш Мейерхольд. Мы понимаем, что он действительно ведущий режиссер левого фронта. Но ведь и мы тоже левый театр, мы тоже ищем, тоже экспериментируем. Надо нам вместе искать выход из положения. А он хочет выгнать нас исподтишка.
Я ему не поверил.
И вдруг на одной из репетиций мы узнаем, что действительно есть приказ соответствующей организации, согласно которому все помещение передается Мейерхольду, а вопрос о фердинандовском театре остается открытым. Скандал!
Наверху, на четвертом этаже, слышится шум, там идет бурное собрание. Наконец к нам спускается артист М. Г. Мухин и официально заявляет:
- Всеволод Эмильевич! Труппа режиссера Фердинандова просит Бас подняться к нам на собрание.
- Я репетирую! А что вы хотите от меня?
- Мы хотим вас видеть на собрании и задать несколько вопросов.
- Я занят и не могу.
Тогда Мухин, помолчав, довольно мрачно сказал:
- Если вы не можете подняться к нам, то мы спустимся к вам, и тогда уж, извините, придется прервать вашу репетицию.
И ушел.
Стало тихо. Мейерхольд походил по сцене, заложив руки за спину, потом резко повернулся к Павлу Урбановичу, который был у нас начальником биомеханической группы:
- Собирай всех ребят и пойдем в репетиционный зал. За мной!
Мы вошли в зал. Это была длинная комната, разделенная по длине узким столом на две части. За фанерным столом могло сразу поместиться человек пятьдесят. За ним мы обычно и проводили наши застольные репетиции.
Мейерхольд встал за этим столом, лицом к входной двери, а по бокам, как усы, растянулись мы в синих прозодеждах. Это была внушительная группа.
- Идут, - сказал кто-то.
Слышим, на лестнице шум и крики:
- Позор, позор Мейерхольду!
- Идем к нему!
Раздался треск театральных трещоток и свистулек.
Фердинандовцы ворвались. Впереди - разъяренный Борис Фердинандов со стеком в руке. Заметавшись по коридору в поисках мастера, он открыл указанную ему дверь и как вкопанный остановился. В дверях образовалась пробка. Фердинандовцы налезали друг на друга, желая заглянуть в комнату.
Взволнованный и бледный Фердинандов начал в полной тишине кипящим от гнева голосом:
- Мейерхольд! Мы вам заявляем, что вы не только гениальный режиссер, но и не менее гениальный... - Тут он почему-то так громко и высоко взвизгнул, что конца фразы мы не услыхали.
Фердинандов же, уверенный, что он произнес то слово, каким пришел пристыдить Мейерхольда, быстро повернувшись к своим, сделал губами "ф-ф-ю-ить!" и махнул рукой, подавая сигнал к обструкции. Раздались жалкие, робкие отдельные свистки. Фердинандов, свистнув еще раз, посмотрел на Мейерхольда.
И тут Мейерхольд совершенно неожиданно протянул ему руку и, спокойно улыбаясь, ласково сказал:
- Здравствуйте, садитесь!
Фердинандов растерянно огляделся - садиться было не на что.
Опять кто-то робко крикнул, одиноко протрещала трещотка.
Фердинандов быстро повернулся и ушел.
Обструкция была сорвана. Мейерхольд еще раз показал себя знатоком человеческой психики и великим мастером мизансценирования. Встреча была поставлена и разыграна им великолепно. Он заставил партнера действовать в
предложенных ему обстоятельствах!
Это я рассказал для того, чтобы показать, что между "левыми" тоже не было единодушия.
Помню один диспут в Колонном зале на тему о том, каким должен быть современный театр. На этот диспут шли не только студенты театральных студий, но и так называемые вхутемасовцы, и учащиеся различных художественных
училищ. Мы отправились на этот диспут большой группой во главе с художником Ильей Шлепяновым. Нацепив красную рубашку на палку и неся ее перед собой, как знамя, мейерхольдовцы - человек сорок - шли по середине Тверской к Колонному залу и организованно вступили под его своды, хором протестуя против академического застоя в почтенных театрах.
Сейчас я вижу, что все это было шумно, пожалуй, весело, даже скандально и ни к чему. Но мы, зеленая и неорганизованная, ищущая нового молодежь, совершая эти вылазки, были горячо уверены, что они-то и являются неотразимыми аргументами нашей правоты.
Мы думали так: у нас в стране новая власть, новая жизнь, и новыми хозяевами являются рабочие в союзе с крестьянами, в руках которых и находится управление этой властью. Красноармейцы защищают на всех фронтах от капиталистов и белогвардейцев эту новую власть, Маяковский об этом пишет в РОСТА! А мы, артисты, должны об этом говорить и должны это показывать в театре. Театр должен стать новым и боевым! Так? А раз это так, то мы правы!
Мы знали, что, для того чтобы наступило новое, нужно, естественно, выступать против всего старого. Я ощущал в себе, что каждый спектакль, каким бы он ни был жизненным по внутренней линии, каким бы он ни был интересным по своим формальным решениям, не может быть созвучен эпохе в этот решающий для жизни революции момент без нововведений политического характера. Всем, например, очень нравилось, когда в спектаклях Мейерхольда в антрактах между действиями ежедневно сообщались официальные сводки с фронтов гражданской войны. Красная Армия к тому времени перешла в решительное наступление, освобождала Крым, занимая город за городом, и каждый спектакль Мейерхольда выливался в настоящую политическую демонстрацию.
Все это радовало, все это грело, все это обещало многое, и прежде всего то, что наконец-то будет найден тот театр и та форма спектакля, за которые мы все боролись.
К тому времени родилось и боевое искусство "Синей блузы". Я тоже в ней выступал. Вот беспокойный характер, молодежь! У нас было впереди так много времени, а мы торопились, как на пожар, хотели поспевать везде и участвовать одновременно во всех начинаниях. Жили жадно, работали еще жаднее. Вместе с Марком Местечкиным, нынешним главным режиссером цирка, мы стали "синеблузниками" в бригаде № 3, где с огромным энтузиазмом пели:
Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки Великой спайки Одной трудящейся семьи.
Но это длилось недолго.
Я все искал и ждал, когда наконец смогу окунуться в настоящее творчество. Я покидал тот или иной театральный коллектив, когда понимал, что творчески больше он мне ничего не дает. Но сколько же можно метаться из стороны в сторону? Надо же в конце концов играть, делать то, к чему я призван. А к чему я призван? И я, как уже говорил, решил испытать счастье у В. Э. Мейерхольда.
Неистовый экспериментатор
И вот я вторично (после студии ХПСРО) встретился с Мейерхольдом. Это было после успешной постановки "Великодушного рогоносца", когда он работал уже в Высших режиссерских мастерских (ГВЫРМ) на Новинском бульваре, в двухэтажном домике, где и жил. Принял он меня очень приветливо, долго и подробно расспрашивал, что я делал после ХПСРО, похвалил за поездку на фронт.
Я с любопытством разглядывал Мейерхольда. Мне показалось, что передо мной сидит не тот трепетный и одновременно воинствующий художник, каким я его помнил в школе, а успокоенный, все знающий заведующий художественной частью, в мягкой фланелевой рубахе и зеленых вельветовых брюках. И только седые редкие волосы, непокорно стоявшие дыбом, да озорные глаза говорили мне: "Не сомневайся - жив Курилка!".
Помолчав немного, он сказал:
- Значит, шагаешь самостоятельно?
- Да!
- Хочешь ко мне?
- Очень. Пришел просить вас об этом.
- Ну что ж! - задумчиво сказал он и, взглянув на меня как-то по-новому, произнес: - Это хорошо! Ты будешь мне нужен. Я начинаю репетировать сразу две пьесы... - Потом вдруг решительно добавил: - Вот что, приходи завтра. Я тебя познакомлю с моим режиссерским штабом и, кстати, немного, больше для проформы, проэкзаменуем тебя.
Прочитав монолог Тринкуло из "Бури", я был принят в мастерские вместе с Зинаидой Райх, державшей экзамен в тот же день.
На первой репетиции я сразу получил две роли - Гектора в "Доме, где разбиваются сердца" Б. Шоу и Брандахлыстовой в "Смерти Тарелкина". И ту, и другую пьесу Мейерхольд ставил совместно с молодым Сергеем Эйзенштейном, который одновременно выступал и как оформитель спектакля.
Эйзенштейн придумал невероятное решение для пьесы Шоу - на сцене должны были находиться клетки с хищными зверями. Вели переговоры с дирекцией зоопарка, но время было голодное, даже львы и тигры сидели на пайке, от недоедания они свирепели и ежедневно перевозить их было рискованно. В конце концов пришлось отказаться от этой затеи, и репетиции "Дома" отложили до лучших времен. Переключились на вторую пьесу - "Смерть Тарелкина", которую Мейерхольд вместе с Эйзенштейном задумали сделать программным спектаклем.
С этого момента и до отъезда в 1926 году в Баку я очень внимательно присматривался к Мейерхольду. Мне хотелось постичь этого самобытного художника - ниспровергателя и строителя, человека неуемной фантазии, знатока театральной техники, вечно ищущего новатора, в совершенстве владеющего секретами мастерства. Мне как актеру было поучительно понять, какие элементы характера помогают или мешают ему творить, где и в чем выражаются стыки между художником и человеком. Но работая и бывая с ним почти ежедневно, я так и не смог, как говорится, раскусить его до конца.
У него были серые, со стальным отливом глаза. Если Мейерхольд улыбался, если Мейерхольд был в хорошем настроении и в данный момент относился к вам хорошо, глаза его становились почти голубыми. Мягкие, они излучали нежность, великолепные морщинки вокруг них придавали лучезарность взгляду. Но если Мейерхольду сегодня не нравился собеседник, если он был недоволен им или, более того, разгневан на него, глаза эти мгновенно превращались в колючие льдинки, в осколки холодного стекла.
Понять причину его гнева или радости было трудно. Он был противоречив, этот мастер. Будучи человеком эмоциональным, вспыльчивым, увлекающимся все новыми и новыми идеями, он мог зажечься какой-нибудь частностью, отойти от заранее намеченной цели и построить новую теорию, подчас противоречившую той, которую проповедовал вчера.
Я помню, как он принимал спектакль "Рычи, Китай!" С. Третьякова у режиссера В, Федорова. По ходу просмотра он вносил свои поправки. Остановившись на нашем эпизоде (я и Е. Тяпкина играли туристов-англичан), Мейерхольд, пробурчав что-то, вроде: "это не динамично", вышел на сцену и
мгновенно построил великолепный эпизод. Но оказалось, что по сюжету это должно быть не совсем так. Федоров прочитал ему текст.
- Жаль, а здорово получалось! - сказал Мейерхольд и тут же, казалось бы, незначительными штрихами, перестроил мизансцену, придав ей противоположный смысл.
- Ну что, так удобнее стало? - спросил он в перерыве у меня. И не дав мне собраться с ответом, сам себя подзадорил: -Здорово, честное слово, здорово!
- Да, конечно, но вот конец... Мне кажется, Всеволод Эмильевич, он несколько размазан... Нет точки! - робко заметил я мастеру, ибо еще не находил в роли своего самочувствия.
- Нет точки?.. И тебя это волнует?
- Да.
- А ты помнишь Серова? Помнишь, как он при всей четкости рисунка и ясности трактовки, будучи мастером композиции, в своих портретах допускал недоделанность, этакую небрежность? Вспомни портрет Коровина. Кисть правой руки сделана намеком - одним мазком. Что это - небрежность или шик-модерн? Нет, это то серовское, неповторимое, что в его произведениях не проглядишь. Серов не распыляет внимание зрителя, а сосредоточивает его на одном существенном участке картины, который и раскрывает весь внутренний смысл произведения. Согласен?
- Согласен! - ответил я ошеломленно, хотя так и не вспомнил в тот момент портрета Коровина.
- Тогда пойдем работать! - улыбнулся он. - Нас ждут!
Я не помню репетиции, которая носила бы "келейный", закрытый характер. Мейерхольду нужны были зрители, на которых он тут же проверял реакцию. Знаки поощрения его вдохновляли. Когда его охватывало творческое вдохновение, он преображался на глазах. Перед нами творил красивый человек - красивый внешне и необыкновенно благородный внутренне. Казалось, нет конца и края его жизненным наблюдениям, которые он остроумно, едко и точно "транспонировал" для сцены.
Но каким становился он раздраженным и даже грубым в те несчастные для нас минуты, когда не знал, что делать! Если репетиция не удавалась, он, холодный, угрюмый и замкнутый, быстро покидал зал.
Высшее наслаждение получали мы, когда он начинал переделывать кусок акта, мизансцену или целую роль, как было с боем - Бабановой в пьесе "Рычи, Китай!". Тогда на глазах всей труппы происходило чудо. Очень часто в незначительном, казалось бы совсем не интересном эпизоде он видел острую сцену, полную глубокого смысла. Броскими, короткими, но выразительными штрихами он так разжигал фантазию актера, давал такой ясный образ, что притихший зал разражался восторженными аплодисментами.
Он любил труд и добивался, чтобы окружающие трудились без принуждения, легко. Он находил радость в труде и приучал к этому всех. Кислая гримаса или недовольный тон актера могли его "погасить" мгновенно. Однажды в "Д. Е." у актеров долго не выходила сцена "На развалинах Европы". Все устали, нервничали, и вот на одно из режиссерских замечаний мастера Зинаида Райх вдруг раздраженно ответила:
- Нечего придираться! У меня и не может получиться... Ты показываешь мизансцены, как сапожник!
- Как кто? - переспросил режиссер дрогнувшим голосом.
- Как сапожник! - резко повторила актриса.
Воцарилась зловещая тишина.
Мейерхольд как-то сразу обмяк. Потом тяжело сел, потом запрокинул голову и с остановившимся взглядом детски ясных глаз вдруг тихо-тихо засвистел. Затем он встал, сказал упавшим голосом: "Репетиция окончена", и ушел... Стало вдруг очень грустно. Увлеченность и энтузиазм исчезли бесследно...
Мейерхольд отдавал себя театру без остатка. Я помню, как параллельно с работой в своем театре РСФСР-I он вел режиссерскую работу в Театре имени Евг. Вахтангова. У нас он ставил "Ревизора", а там - "Бориса Годунова". Два таких спектакля одновременно! Мейерхольд явно уставал.
Однажды он пришел на нашу репетицию, опоздав на час или полтора. Все скучали и даже перестали ворчать. Только Райх откровенно злилась - она не хотела, чтобы Всеволод Эмильевич отдавал свои силы другому театру.
Мейерхольд вошел в зал вместе с Борисом Захавой, совмещавшим тогда работу режиссера и актера в Театре имени Евг. Вахтангова с актерской работой в нашем театре. Он был первым исполнителем роли Восмибратова в "Лесе".
Вид у мастера был усталый, но он бодро сказал:
- Знаю! Все знаю! Я опоздал и заставил вас долго ждать. - И, взглянув на Райх, добавил: - Злитесь? Да? Но думаю, что вы меня простите, если скажу, что сегодня я не зря поработал, что наконец-то нашел в "Борисе Годунове" решение труднейшей картины боярской думы... Представьте -маленькая площадка, и на ней надо расположить массу разных людей. Как сделать, чтобы все они жили, двигались, перемещались?
Он сел за стол и, как бы продолжая разговор с вахтанговцами, возбужденно говорил, что-то чертя
карандашом в воздухе:
- Меня всегда интересовала эта проблема - актер и
пространство. А тут вдруг подвернулся такой случай. На маленькой сцене надо усадить большое количество бояр, причем эти бояре должны находиться в сложных
взаимоотношениях друг с другом: худородные должны сидеть на своем месте, высокородные - на своем. Путаница здесь недопустима. И вместе с тем все они должны двигаться, быть активными в своей деятельности. Соблюдение старшинства создавало особую сложность. Но ведь чем сложнее
мизансцена, тем интереснее творить, не правда ли?
И, улыбнувшись своей покоряющей улыбкой, как-то по-детски начал хвастать:
- И, знаете, хлестко получилось! Захава... а? Ведь правда, великолепно? В запале спора, переругиваясь, бояре перешагивают через скамьи, друг через друга, сбиваясь в этакий клубок, но по старшинству. На этом я построил всю сцену. - И как бы ища поддержки, указывал на Захаву, повторяя: - Вот он всю дорогу меня хвалил! Ведь хвалил?
Захава, этот медлительный человек, причмокнул губами и, подняв кверху палец, произнес:
- Да, сегодня у нас действительно был праздник... Большой праздник! Театральный!..
Что же подстегнуло фантазию мастера?
Он всегда искал повода, чтобы перед репетициями разогреться, размять свою фантазию, мускулы, как это делают перед исполнением номера гимнасты. А тут как раз случилось, что рабочие сцены не так расставили скамьи. Мейерхольда это страшно разозлило. Он выскочил на сцену и начал передвигать скамейки сам. Это, очевидно, вызвало в нем приток энергии. Перепрыгивая через скамейки, он вдруг ощутил внутренний ритм деятельного и разозленного человека, поймал запал его страстей и творчески загорелся. Ключ был найден - действие одного персонажа вызывало контрдействие другого, и все сплеталось в единый клубок. Помог случай, в результате которого Мейерхольд интереснейшим образом решил сцену, никак не дававшуюся ему в тиши кабинета. Да, удивительны пути искусства!
Я сейчас вспоминаю показы Мейерхольда и ужасно жалею, что порой легкомысленно, с наскока, как к привычному, относился ко всему, что происходило на репетициях. А ведь поучительно было присутствовать на них. Пожалуй, поучительнее, чем видеть готовый спектакль.
На репетициях бывало два Мейерхольда.
Один Мейерхольд - мастер, творец, который трудится, чтобы создать спектакль - новое слово в мировом театральном искусстве. Он весь - в творческом горении, и если по ходу дела ему аплодируют, то это только подогревает его фантазию, пришпоривает его мысль.
Второй Мейерхольд был официальный, образцовопоказательный, этакий научно-популярный... Для нас, актеров, такие часы - а их было немало - казались мукой. А Мейерхольд их любил, как ни странно.
К нам на репетиции довольно часто приходили гости и даже целые делегации... Их прием обставлялся по всем правилам. Приходили представители Главполитпросвета, Наркомпроса, Наркоминдела, являлись к дежурному в режиссерский штаб, говорили, что такая-то иностранная делегация, или наши корреспонденты, или театральные деятели хотят присутствовать на репетициях Мейерхольда. Им отвечали, что мастер работает, увлечен, не хотелось бы прерывать его, и приглашали тихо войти в зал.
Мейерхольд вначале не обращал на вошедших никакого внимания. Но обязательно начинал свои показы. Это было великолепно, но это уже был другой Мейерхольд. Мейерхольд-актер. Он выходил на сцену и демонстрировал, как нужно играть. Действительно ли так нужно было играть данный кусок и требовался ли в данном случае режиссерский показ, - не в том суть. Все, что он делал на сцене, было увлекательно, талантливо и эксцентрично, вызывало бурю аплодисментов, улыбки. Он резко, угловато двигался, пользовался необычайно острой формой, но самое головоломное внешнее решение всегда полностью внутренне оправдывал. Гости вынимали карандаши, доставали блокноты, что-то быстро-быстро записывали, переглядывались, кивали головами.
Не все актеры, которым он показывал, извлекали для себя пользу из таких "показов". Иные, наоборот, чувствовали себя очень неловко, потому что сейчас же копировать Мейерхольда было глупо, да и почти невозможно, а внутреннюю суть они не улавливали. Но я помню, как однажды он показал Эрасту Гарину первый выход Хлестакова. Взяв у него трость и цилиндр, он продемонстрировал серию блестящих и выразительных миниатюр, в которых каждая поза сама по себе была произведением искусства. Для Гарина репетиция стала ценнейшей - он многое взял для своего Хлестакова, которого играл потом виртуозно.
Поразительно, что Мейерхольд при всей своей несдержанности на самом деле отличался завидным самообладанием. Я помню репетиции "Учителя Бубуса", на которые Ильинский приходил почему-то всегда сумрачный. Наконец на одном из последних прогонов он заявил, что не может больше репетировать, "потому что Мейерхольд отвлечен другими актерами и актрисами" (из женщин были заняты Райх и Бабанова),
в то время как он, Ильинский, играет главную роль. Мейерхольд прервал репетицию, созвал актеров, попросил разобраться в конфликте, суть которого заключалась, по его словам, в том, что скоро премьера, а артист, играющий главную роль, срывает работу. Ильинский отвечал резко, на это получал ответные реплики участников собрания. Назревал скандал. На следующий день было срочно созвано партийное бюро; как сочувствующий я был на него приглашен. Все это происходило накануне премьеры.
Наум Лойтер, директор театра, заявил:
- Дорогой Всеволод Эмильевич, я не знаю, что делать. Нужно вам с ним помириться. Посчитайтесь с его характером.
Как же повел себя в этой ситуации Мейерхольд?
На заседании партбюро я вдруг вижу, как Мейерхольд делает мне какие-то знаки. Я не понимаю. Тогда он пишет и через стол передает записку. В первое мгновенье я подумал, что он просит меня высказаться. Читаю записку: "В Англии носят либо подтяжки, либо ремень, а ремень и подтяжки носить не следует". Я недоуменно посмотрел на него, а он, продолжая показывать рукой на ремень и подтяжки под моим расстегнутым пиджаком, шептал: "Да, да, да, - не носите!".
В самый напряженный момент Всеволод Эмильевич мог выкинуть неожиданную шутку, которая выглядела как чудачество. На самом же деле все было сложнее. Он применял этот прием, когда хотел отвлечься, успокоиться, разрядить свой внутренний запал и резко переключиться на другую скорость. В этом он был весь...
Помню Мейерхольда и на дискуссии в Государственной академии художественных наук по поводу постановки "Леса", когда ученые-специалисты горячо выступали против мейерхольдовского своеволия по отношению к классике, и хотя деликатно, в академическом тоне, но весьма недвусмысленно поучали его, как нужно обращаться с классикой, как правильно понимать Островского. Булановский "зеленый парик" спрягали и склоняли, сделав его синонимом отсутствия здравого смысла.
Из зала, который был заполнен до отказа, раздавались протестующие выкрики. Председатель нервничал, атмосфера накалялась. Но вот Мейерхольду предоставили заключительное слово. Он был встречен горячими
аплодисментами и начал говорить с большим темпераментом. Подойдя к кульминационному моменту доказательств своей правоты, он, перегнувшись через кафедру, бросил в зал сакраментальную фразу:
- Поймите! Иначе ставить Островского сегодня нельзя. Я не могу! - И резко повернувшись к основному докладчику, который и задал тон всей критике, неожиданно громко спросил его: - Уж кто-кто, а мы-то с вами это, конечно, понимаем? Не правда ли?
Тот не ожидал западни и, поддавшись темпераменту мастера, покорно закивал головой, механически повторяя: Правда! Правда!
Взрыв хохота и аплодисменты окончательно смутили ученого мужа. Он встал, поднял, улыбаясь, руки вверх, потом, сложив их на груди крестом, сказал: "Сдаюсь!" и низко поклонился Мейерхольду. На этом дискуссия мирно закончилась. Все оценили эту элегантную шутку. Мейерхольд вышел победителем, хотя вначале у него не было ни одного шанса на победу.
Мастер и подмастерья
Что бы там ни говорили - он сам и про него, - а Мейерхольд знал цену актеру, всегда держал его в центре своего внимания. Другой вопрос, что он ценил в актере на разных этапах своего пути, каким ему представлялся идеальный актер мейерхольдовского театра.
Однажды на уроке биомеханики он сказал:
- Актер должен быть красив, ловок и изящен! Не будет для меня большего удовольствия, чем услышать такой разговор на улице: "Кто эти красивые люди?" - "А, это актеры театра Мейерхольда!"

|
|
Таким я увидел В. Э. Мейерхольда, когда пришел к нему в театр
|
Но какие бы он ни выдвигал сенсационные программы и лозунги, как бы ни разрабатывал, ни уточнял амплуа, - в своих теоретических выкладках (вспомним хотя бы его нашумевшую брошюру "Амплуа"), на практике, он ценил и любил настоящих, эмоциональных, умных, техничных, одним словом, очень хороших артистов. Тогда и сам он работал великолепно. Актеры зажигали его, он - актеров. И это почти всегда рождало успех. Почти... но не всегда.
Помню случай с Д. Н. Орловым. Он был назначен в "Лесе" на роль Петра. Пока шли репетиции за столом, самым лучшим исполнителем был, конечно, Орлов, актер-самородок, с прирожденным талантом чтеца, обладавший даром народной речи. Любой текст в его исполнении оживал. Он создавал видимые, "объемные" художественные образы. Орлов был одарен всем необходимым для характерного актера, и лишь один "недостаток", к которому Мейерхольд в тот период относился весьма болезненно, был ему присущ. Мейерхольд считал, что Орлов не владеет секретами биомеханики, что он плохо движется, его тело не выразительно.
На читках Орлов говорил необыкновенно сочно и ярко, как-то особенно "по-островски". Он читал Петра с удалью. На слух легко представлялся русский парень, купеческий сын, который лишь при отце робок и застенчив, зато каким могутным, сильным, ловким и даже властным становится он без него. Как нежно и трогательно читал Орлов сцены с Аксюшей!
Но у Мейерхольда имелась своя задумка, свое решение образа спектакля, для него раскрытие характера героя через слово было лишь половиной дела. Он считал, что Островский, исторически связанный путами старого театра, был принужден писать свои пьесы в традиционных актах, с длинными монологами, скучными, лишенными динамики диалогами. На самом же деле он, Островский, мечтал о другом, действенном, динамичном искусстве. Да и современный зритель уже не может слушать Островского, если не вскрыть его текст откровенно сценическими, активно воздействующими на зрителя приемами современного театра. Всякую стилизацию Мейерхольд категорически отвергал, отрицал как музейную архаику всякий быт, непременно сопутствующий постановкам пьес Островского.
 'Лес' А. Н. Островского. Зинаида Райх и Иван Коваль-Самборский в сцене свидания, которую великолепно поставил Вс.
Мейерхольд
'Лес' А. Н. Островского. Зинаида Райх и Иван Коваль-Самборский в сцене свидания, которую великолепно поставил Вс.
Мейерхольд
- Чтобы придать динамику действию, - говорил нам Мейерхольд, выразительно, как фокусник жестикулируя, -чтобы включать пьесу "Лес" в ритм нашей сегодняшней жизни, ее нужно разбить на отдельные части, назовем их эпизодами. Таким образом, мы получим тридцать три эпизода-аттракциона, развивающих идею и тему автора. Динамично? -вопрошал он и отвечал сам: за всех: - Динамично! Каждый такой маленький эпизод ставим как самостоятельный сценарий, как самостоятельный маленький аттракцион, сюжетно связанный со всей пьесой. Обостряем идею? Обостряем! Дальше, на совершенно пустую сцену из левой дальней кулисы, с высоты, мы спускаем по спирали деревянный помост на тросах. Понятно? На нем будут происходить все эпизоды, связанные с дорогой. В центре сцены останется очень выгодное пространство, ограниченное дорогой - спиралью. Это пространство мы трансформируем, подготовляем для новых эпизодов игровыми деталями: голубятня, стол, качели, гигантские шаги и так далее. Удобно? Удобно!
После такой убедительной экспликации весь спектакль, его художественный образ ярко вставали перед нашими глазами.
Одним из главных мейерхольдовских аттракционов в "Лесе" стал эпизод объяснения Петра с Аксюшей, известный под названием "сцены на гигантских шагах". Эти "шаги" давали, как говорил Всеволод Эмильевич, "динамический взлет", который помогал вскрыть все подспудное в лирической сцене, где бойкая и красивая Аксюша и влюбленный, но робеющий перед ней Петр ведут не столько высказываемый, сколько внутренний разговор друг с другом.
Мейерхольд доказывал, что внутренний огонь Петра и Аксюши, этих двух страстных натур, не позволил бы им в жизни сидеть и вяло выбрасывать какие-то оплевки и обрывки слов полуватными губами.
 '... Твоя кокетливая Брандахлыстова нас всегда пугает, ее жеманство не имеет границ!..' - сказал шутливо Мейерхольд на
спектакле 'Смерть Тарелкина'
'... Твоя кокетливая Брандахлыстова нас всегда пугает, ее жеманство не имеет границ!..' - сказал шутливо Мейерхольд на
спектакле 'Смерть Тарелкина'
- Вы понимаете, - рассуждал он, - что это совершенно не к лицу ни современному зрителю слушать, ни современному актеру играть. Сегодняшний актер должен раскрыть буйную молодость этих горячих натур, зажатую тисками быта, обрядов, религии. Молодость, которая неудержимо стремится, рвется навстречу друг другу, вопреки нудному и вялому течению старой жизни. Мы с вами работать будем только так! -закончил он, сладко затягиваясь папироской, которую никогда не стеснялся "подстрелить" у первого попавшегося собеседника. "Свои папиросы" он не держал, гордо говоря, что не курит.
- Если и курю, то только, когда работаю!
Работал же он много и всегда.
Все шло хорошо, пока Орлов репетировал без "шагов". Но стоило ему только выйти на сцену и увидеть их, как он хватался за голову:
- Дорогой Всеволод, я тебя очень прошу (они были на ты), если тебе нужны качели, сделай обыкновенные, нормальные качели, знаешь, этакие на дощечке: раз - вверх, раз - вниз! Право, это тоже будет эффектно! Я сяду и буду качаться: раз-раз... Ну, прошу тебя, пойми - я не могу прыгать под потолок, у меня сердце заходится.
- Ну что ты, Митенька! Ведь это же очень легко! - сказал Мейерхольд и взбежал на сцену.
 Н. Охлопков играл Качалу, а я - Брандахлыстову. Мы импровизируем ('Смерть Тарелкина' А. Сухово-Кобылина в Театре имени Вс. Мейерхольда)
Н. Охлопков играл Качалу, а я - Брандахлыстову. Мы импровизируем ('Смерть Тарелкина' А. Сухово-Кобылина в Театре имени Вс. Мейерхольда)
Вероятно, желая показать, как это легко, он бодро влез в лямку и... стоя на месте, проговорил текст, лишь приседая на тех словах, где надо прыгать:
- Нет, нет, Митенька, нет, ты не можешь себе представить,
что это будет за чудо, когда ты бросишь: "В Саратов..." - и прыгнешь! "В.Самару..." - и взнесешься ввысь... Ты не представляешь эффекта этого сочетания: твоего умения
говорить со взлетами под потолок, - убеждал он Орлова, быстро вылезая из лямки.
- Я все понимаю, дорогой Всеволод, но ты не думаешь, что, крикнув: "В Самару... в Саратов...", и прыгнув, я могу не вернуться оттуда?.. Я могу умереть там, под твоим потолком... - умолял Орлов.
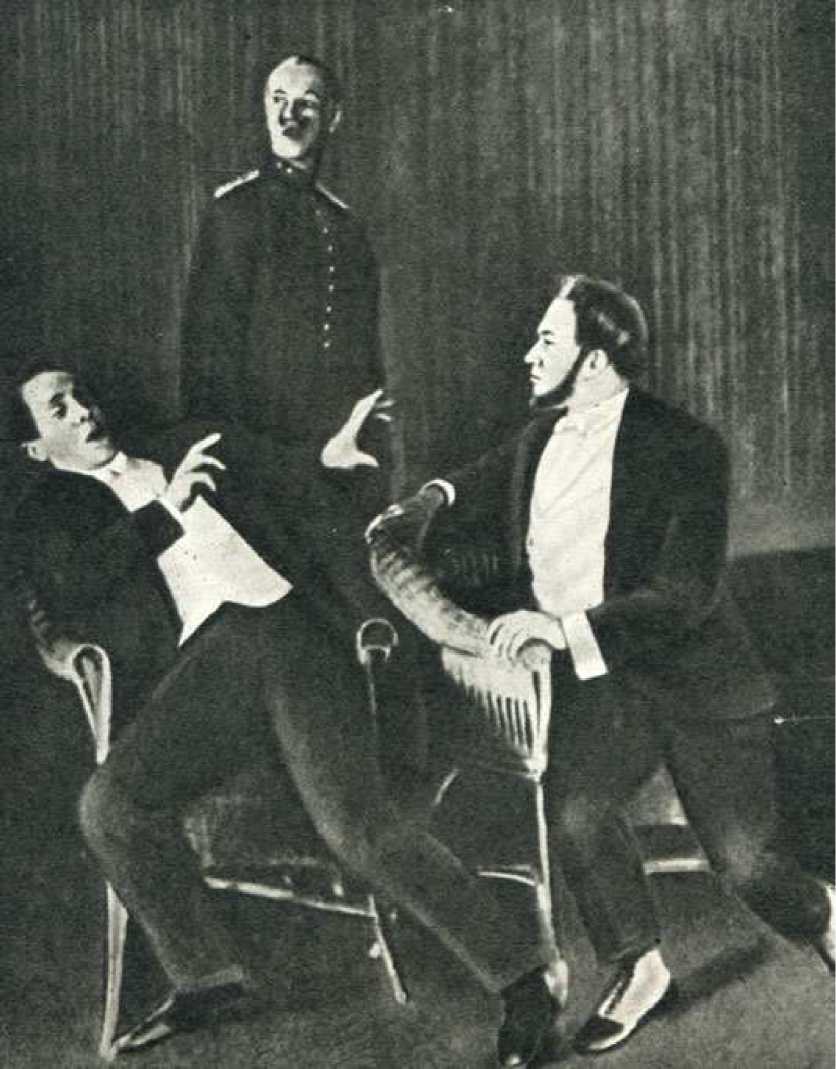
|
|
Тогда мы были вместе: Н. Охлопков (генерал), Б. Захава (коммерции советник) и я, Жаров (секретарь) Спектакль 'Учитель Бубус' А. Файко в Театре имени Вс. Мейерхольда
|
Но нет, Мейерхольд был неумолим! Он не изменил мизансцены, он не сделал качели вместо гигантских шагов. У него был свой замысел, и он пожертвовал Орловым ради режиссерской находки. Мейерхольду нужен был "летающий" Петр!
Орлов отказался от роли и ушел в Театр революции.
- Ну-ка, Ванечка, попрыгай на "шагах", - говорил Мейерхольд дублеру, и тот, вдев ногу в лямку и разбежавшись, лихо взлетает вверх.
Дублер не боялся гигантских шагов - это верно, но и взлет его, и сама лихость были какие-то наигранные, вымученные. К тому же щупленький, с мелкими чертами лица, он явно не монтировался в паре с Аксюшей - Райх, затмевавшей его одним своим видом.
Мейерхольд был огорчен.
 'Даешь Европу!' М. Подгаецкого в Театре имени Вс. Мейерхольда. Роль конферансье давала мне возможность импровизировать текст на каждом спектакле
'Даешь Европу!' М. Подгаецкого в Театре имени Вс. Мейерхольда. Роль конферансье давала мне возможность импровизировать текст на каждом спектакле
- Ну, кто же сыграет Петра? - бросил он в зрительный зал.
Мы, наблюдавшие за репетицией из зала, помочь ему ничем не могли. И хотя многие из нас наверняка чувствовали себя "рожденными для роли Петра, сказать об этом при всех не решались: ведь надо было сразу брать "быка за рога".
"А... это... Нет, это рискованно", - если не все, то так думал я.
- Ну, кто же, кто? - твердил мастер.
"Черт возьми! - продолжал думать я. - Может быть, рискнуть, ведь во фронтовом театре я же получил эту роль?"
Пока я так рассуждал, на сцену вышел помощник режиссера и сказал:
- Всеволод Эмильевич, здесь уже три дня добивается с вами встречи один актер. Он хочет с вами поговорить.
- О чем еще говорить? Видите - я занят, - раздраженно отмахнулся режиссер. - Хотя, постойте... Актер, говоришь?
- Актер.
- А какой он из себя?
- Блондин, с голубыми глазами.
- Блондин, говоришь?
- Да, довольно молодой. На солдата похож.
- На солдата? - заерзал Мейерхольд. - А ну-ка тащите его сюда! - решительно приказал он.

|
|
Это была моя последняя роль в Театре имени Вс. Мейерхольда -Агафангел в спектакле 'Мандат' Н. Эрдмана
|
И вот из-за кулис на сцену вышел ладный, среднего роста и средних лет мужчина в хорошо пригнанных сапогах и галифе. Потертый дубленый полушубок был подтянут ремешком, выгодно подчеркивая талию, на плечах лежал башлык, на голове заломлена кубанка. Он был действительно блондин с голубыми глазами. Смело подойдя к рампе и прикрыв от света глаза ладонью, стал искать Мейерхольда. Найдя, он вытянулся, ловко щелкнул каблуками и по-военному произнес:
- Здравия желаем!
Глаза Мейерхольда заблестели, он почему-то встал и, довольно бойко крикнув: "Вольно!", снова сел. Потом уже спросил:
- Как вас зовут?
- Иван Иванович Каваль-Самборский.
- Почему Коваль и почему Самборский?
Коваль толково объяснил, почему он Самборский.
- Что же вы хотите?
- Я хочу работать у вас артистом.
- А что вы можете?
- Все. Я - казак! Был юнгой, объехал вокруг света!
- Петь можете?
- Могу.
- Играть на чем-нибудь?
- И играть могу.
- А вот на гигантских шагах можете? - вдруг вызывающе спросил Мейерхольд. - Здесь ведь высоко!
Новенький, не сводя глаз с мастера, скромно сказал:
- Разрешите попробовать?
- Попробуйте!
Мейерхольд, слабо крякнув, завинтил небывалым винтом ноги и хитро, как бы говоря: "А вот сейчас мы его...", предложил:
- Зиночка, поди сядь на гигантские шаги, покатай его!

|
|
Бамбуковый задник в 'Учителе Бубусе' давал режиссеру возможность для построения четких и выразительных мизансцен
(сцена со слугами)
|
Зиночка села. Коваль-Самборский зачем-то подергал лямку, не спеша влез в нее, взглянул зачем-то на Райх, потом на колосники, потом разбежался, и... Райх сразу взлетела под потолок. После трех - четырех взлетов, уже из-под колосников, раздались ее дикие вопли:
- Всеволод, прекрати! Этот сумасшедший меня убьет!
Коваль-Самборский, так же спокойно, как начал, прекратил свой бег.
Райх, сбалансировав, медленно опустилась на сцену.
- А ты знаешь, Зиночка, здорово получается! Красиво! Молодо! Задорно! Особенно, когда за кулисами будут играть вальс! Вы сможете имитировать игру на гармошке? -оживленно обратился Мейерхольд к Ковалю.
И тут Коваль бросил свой последний козырь. До сих пор серьезный и сосредоточенный, он вдруг улыбнулся, познакомив всех со своей обаятельной улыбкой, и застенчиво ответил:
- Зачем имитировать? Я сам... гармонист...
Все! Туз был бит козырной шестеркой.

-
Ведь Блюнчли любовник, а я простак? - Посмотри на себя в зеркало! И я посмотрел... - Ну, и что?.. (Из разговора с режиссером В. Федоровым в Бакинском рабочем театре)
Через полчаса И. И. Коваль-Самборский уже держал в руках красное удостоверение. Не веря глазам, он читал такие дорогие для сердца слова: "артист театра имени
Мейерхольда".
- С завтрашнего дня репетируем только "качели"! - заявил довольный мастер.
Мейерхольд был влюблен в эту сцену и стремился сделать ее камертоном всего спектакля, показывая, как зарождается великое вечное - первая молодая любовь Аксюши и Петра, любовь радостная и бурная.
Все получалось хорошо, в меру было шумно и задорно, но в сцене не хватало лирики, мечты. Искали музыку, которая дала бы внутренний ритм сценической жизни. И вот на одной из репетиций получил свое второе рождение знаменитый "Собачий вальс".
Помог опять случай. В театре было трио отменных гармонистов - Макаров, Попков, Кузнецов. На репетиции обычно играл Макаров. Однажды Мейерхольд ему сказал:
- Макаров, сыграй какой-нибудь старый вальс.
Но вальсы Макарова не подходили. Мейерхольд ходил по зрительному залу, насвистывая и напевая сам. Все тоже усиленно мурлыкали... Вдруг Макаров, исчерпав свой концертный репертуар, тихо заиграл "Собачий вальс". Наступила тишина. Все повернули головы к сцене, затаенно слушая, и одновременно, в какую-то секунду, всем стало ясно, что вот именно этот - да!.. да! - только этот вальс, такой наивный и трогательный, должен звучать здесь, в любовной сцене. Наивность его мелодии подчеркивала какую-то особую, почти детскую непосредственность всего образного строя спектакля, его оформления и даже костюмов и грима, к которым Мейерхольд вернулся в "Лесе".
Боже, ведь как просто, и никто не мог вспомнить! И Мейерхольд воскликнул:
- Браво, Макаров! Ну, конечно, только он! Где же ты раньше был, милый?
"Собачий вальс" прочно вошел в спектакль.
Он стал в тот период так же знаменит, как становится знаменитой всякая популярная песенка, которая, едва родившись, делается любимой - ее поют и когда весело, и когда грустно, поют всегда!
Огромным тиражом была выпущена пластинка: "Собачий вальс" из спектакля "Лес" театра Мейерхольда". И словно забыли, что этот вальс был давным-давно уже написан, назывался "Две собачки", был модным, и под него танцевали наши деды.
Так окончательно сложилась знаменитая "сцена на гигантских шагах" и счастливо взошел на театральные подмостки, а позже и на экраны кино И. И. Коваль-Самборский.
Это был чудесный человек и великолепный товарищ, с которым мы вскоре стали большими друзьями.
Я в тот период уже начал сниматься в студии "Межрабпом-Русь". После удачного эпизода в "Аэлите" режиссер Я. А. Протазанов предложил мне отсняться в фильме "Его призыв" в роли молодого рабочего. На студию я привел с собой Ивана Самборского и, познакомив с Яковом Александровичем, рекомендовал занять в каком-нибудь эпизоде. Думали мы с Иваном об эпизоде, а случилось так, что вскоре заболел Н. Баталов и центральную роль в "Его призыве", картине, посвященной В. И. Ленину, сыграл Иван Самборский. Так, с моей легкой руки начав сниматься, он прочно вошел в кино. В театре же Мейерхольд к нему быстро остыл, стал называть его, неизвестно почему, "актером в сапогах". Тот почувствовал перемену отношения к себе мастера, ушел в кино совсем, где и приобрел популярность. "Месс-Менд", "Девушка с коробкой", "Человек из ресторана", "Земля в плену" и другие картины с его участием имели большой успех.
Как же все-таки определить отношение Всеволода Эмильевича к актерам?
Через его театр прошло огромное количество великолепных актеров, в том числе и Степан Кузнецов, но, посидев на репетициях, некоторые, так и не дождавшись ролей, исчезали. Был, например, приглашен в театр Павел Орленев. Мейерхольд хотел с ним ставить не то "Гамлета", не то "Царя Федора", не помню точно. И Орленев даже несколько дней важно называл себя "артистом театра Мейерхольда". Он приходил ежедневно в театр, садился в ложу и начинал свои бесконечные увлекательные рассказы из актерской жизни.
Шепотом, искоса поглядывая на сцену, где репетировал Мейерхольд, он говорил:
- Я уже, наверно, староват для Всеволода, хотя... О-о, этот Всеволод! Он любому старому актеру "воткнет" такой шприц, что сразу станешь молодым. Молодец! Упрямый и требует от актера многого... Ну, да вы молодые! Он и многое дает... Набирайтесь!
Однажды на репетиции "Леса" он вспомнил, как впервые узнал о появлении этой пьесы Островского.
- Дело было в Гомеле или Виннице, - начал он свой рассказ, - я был еще совсем молод, и после очередного спектакля меня пригласил местный купец - почитатель моего таланта - к себе на вечер. Ужин затянулся, и только далеко за полночь я отправился к себе домой. Жил я на окраине города.
Иду, дышу ароматами... Ночь чудная, летняя. Все кругом спит, луна светит, и я, блажененький, немного выпивший, иду, рассуждая о луне, о прекрасных украинских ночах, о судьбе артиста, который бродяжничает по этой земле белых мазанок. И вдруг слышу грубый хохот. Какой-то человек смеется дико и громко. Я сначала подумал, что мне это показалось... Нет... Опять смех. Огляделся - вижу из открытого окна мазанки высовывается человек, растрепанный, волосатый, дико хохочет и прячется обратно. "Сумасшедший", - подумал я и, тихо подкравшись, стал наблюдать. Человек через паузы продолжал высовываться в окно, - высунется, отхохочется и скроется опять. Я подошел еще ближе. И тут-то увидел... Ну кого бы вы думали? Да, да... его... Самого Андреева-Бурлака. Знаменитого артиста! Я смело подхожу:
- Василий Николаевич, что случилось?
- Ах голубчик мой, не могу тебе рассказать, что это за красотища. Читаю я сейчас "Лес" Островского. Смешно... Ужасно смешно... Но хохотать, понимаешь, в доме нельзя - все спят, вот я и высовываюсь в окно, отхохочусь и снова читаю, -закончил свой очередной рассказ Орленев под наш искренний смех...
...Когда я в Малом театре репетировал городничего и по сцене мне нужно было чихнуть, но тихо, так, чтобы не разбудить спящего в соседней комнате Хлестакова, я вспомнил этот рассказ Орленева и, взяв понюшку табаку, пошел чихать в открытое окно. Это было неожиданностью, и все весело засмеялись. Больше всех хохотала Вера Николаевна Пашенная, и я решил эту "находку" закрепить. Помню, как один из режиссеров театра, смотря на меня, долго качал головой, а после репетиции тихо сказал:
- Не делай, не советую, скажут не в традиции Малого.
- Но ведь они смеялись!
- Тем более! - И, подняв многозначительно палец, добавил: -Привыкай!..
Вот так П. Н. Орленев, просидев несколько дней в театре, дальше ложи никуда не ушел и, рассказав нам еще несколько веселых и поучительных историй, исчез с мейерхольдовского горизонта. Хотя, казалось бы, почему такому замечательному мастеру, как Мейерхольд, и такому великолепному артисту, как Орленев, не встретиться на сцене, почему? А почему бы Мейерхольду не дать Орленеву блеснуть последней вспышкой таланта, которая бывает такой яркой? Но этого не случилось. Нет, он о нем забыл и легко отпустил из театра. А жаль, очень жаль!
Не прижился также в театре эксцентрический комик Матов. Знаменитый комик-куплетист Алеша Матов пользовался на тогдашней эстраде огромным успехом, особенно когда он пел смешную песенку с рефреном:
А журавль все не идет.
Хвост вытащит, нос уйдет,
Нос вытащит, хвост уйдет...
И вот так без конца:
Хвост вытащит, нос уйдет,
Нос вытащит, хвост уйдет...
Сначала публика не понимала, что это значит: "Нос
вытащит, хвост уйдет, хвост вытащит, нос уйдет". Недоумевали. В зале воцарялась зловещая тишина. Но через две - три минуты весь зал начинал хохотать дико, и остановиться уже было невозможно.
Мейерхольд, как всегда вдруг, влюбился в него. Это был вообще период его влюбленности. Он был весь какой-то легкий, молодой, весь он был наполнен необычной нежностью к очаровательной Райх, дарил щедрость своей души всем, и Матову тоже, таскал его за собой, готовил его для Аркашки, для Расплюева, говорил, что тот переиграет вообще весь комедийный репертуар.
И бедный Матов поверил. Мейерхольду нельзя было не верить. Ему все верили. Если он хотел человека околдовать своим обаянием, то делал это без всякого труда: оттаивал свои холодные непроницаемые глаза-льдинки и расплывался в улыбке. Вот так он околдовал и Матова. Тот бросил Ленинград, театр, где имел успех, переехал в Москву, хотя его жена, тоже актриса, предупреждала его: "Не делай этого, не бросай все сразу - я знаю Мейерхольда давно".
В общем он год был в театре Мейерхольда, но тот для него так ничего и не поставил. Испытав глубокую обиду, он наконец ушел от мастера.
В общем я не берусь утверждать, что Мейерхольд тяготел к воспитанию театрального ансамбля, что он сплачивал вокруг себя художников-единомышленников, что это было его единственной мечтой. Я этого не сказал бы. Но, несомненно, Всеволод Эмильевич много и упорно работал с отдельными актерами, необходимыми ему в очередном "опусе", как он сам нередко называл свои постановки.
Так было с Бабановой, Райх, Тяпкиной, Гариным, Орловым, Ильинским, Свердлиным, Охлопковым, Мартинсоном, Боголюбовым, Вельским, Старковским, Темериным и другими. На одних он задерживался дольше, к другим быстро остывал, и тогда они уходили - делать им в театре было уже нечего.
Играю Брандахлыстову
В Театре Мейерхольда был так называемый режиссерский штаб, - я уже упоминал о нем. Руководил штабом Всеволод Эмильевич.
В ту пору мы все его звали не иначе, как "мастер". Штаб был очень авторитетным органом, направлявшим всю жизнь театра. Это был своеобразный мозговой центр, лаборатория мейерхольдовского опыта. Мастер приучал своих учеников к записи репетиций и бесед, и хотя он сам, к сожалению, не систематизировал в отдельной книге своих мыслей, но по дневникам его учеников можно было выпустить великолепный теоретический труд. Наряду с книгами Станиславского, Немировича-Данченко, Комиссаржевского такая книга' принесла бы большую пользу современным деятелям театра.
Вел записи и штаб. Немногие театры в то время, да и сейчас, так горячо занимались театральными исследованиями разного рода. Я помню, например, как решено было изучать реакцию зрительного зала. В течение длительного времени члены режиссерского штаба совместно с ассистентами сидели в зале с экземпляром пьесы и скрупулезно записывали реакцию зрителей на все реплики во время спектаклей.
У Мейерхольда была всегда тяга к разработке научных основ театрального творчества. Все свои эксперименты он всегда старался обосновать теоретически, научно. В ГВЫРМ он раскрывал своим ученикам приемы постановочного плана, учил, как составлять монтажные, звуковые и световые партитуры пьесы, словом, как "класть" кирпич за кирпичом будущий спектакль.
Сам он, пожалуй, этой последовательности в практике придерживался не во всех спектаклях. Разве только "Великодушный рогоносец", отчасти "Смерть Тарелкина", затем "Лес" были выдержаны в духе его научного метода, который он сам от начала до конца проводил на репетициях, не доверяя никому. В остальных же случаях Всеволод Эмильевич, как правило, поручал постановку одному из своих учеников, С. М. Эйзенштейну, который работал, в театре вплоть до "Смерти Тарелкина", или В. Федорову, В. Люце, П. Центнеровичу.
Обычно Мейерхольд прорабатывал с ассистентами план спектакля, выслушивал режиссерскую экспликацию. Режиссеры-ассистенты тщательно готовились к этому торжественому моменту, вычерчивали мизансцены, писали на режиссерских экземплярах пьесы свои мысли. Мейерхольд всех выслушивал, приходил на репетиции, делал свои указания и снова оставлял ассистентов одних. Так доходило до прогонов на сцене. До поры до времени Мейерхольд занимался чем-то другим.
Нужно сказать, что самостоятельная работа для мейерхольдовских ассистентов была очень трудной. Если в МХТ режиссер, ученик основателей театра, ставя спектакль, чувствовал твердую основу в системе Станиславского, которая шаг за шагом вела к построению спектакля, то для ТИМовцев опорой были только разрозненные, хотя и мудрые высказывания и открытия мастера.
Каждый спектакль отличался один от другого тем, что в нем отвергали что-то найденное в прошлом спектакле и выдвигали новое, тут же рожденное решение как "гениальную находку".
Мейерхольд изредка приходил, смотрел работы своих учеников, что-то отвергал, что-то утверждал. Все это не имело характера системы, если не считать правила: "Отвергая, утверждай; утверждая, отвергай!". Ассистенты мастера работали, как умели, как позволяли их талант и, опыт, к тому же весьма робко.
Самое поучительное наступало в тот момент, когда ассистент-режиссер заканчивал свою работу и "сдавал" спектакль Мейерхольду. Тут мастер снимал пиджак, и начиналась настоящая страда. Часто от сделанного спектакля не оставалось камня на камне: Мейерхольд все перекраивал заново. Вплотную я столкнулся с таким методом работы в "Смерти Тарелкина".
Не скажу, что это был для меня какой-то переломный момент в творческой жизни. Нет, к восприятию биомеханики Мейерхольда я, как ни странно, был уже подготовлен в студии ХПРСО. Теоретически я это знал еще по урокам Ф. Ф. Комиссаржевского. Жизнь актера на сцене должна представлять собой цепочку действий. Образ живет в движении, а раз он живет, то у него не может прерываться дыхание, как у человека. А что такое действие актера на сцене? Чувства, возникшие в результате нервного возбуждения (большого или малого), заставляют его физически действовать, двигаться.
Для того чтобы выразительно двигаться, надо натренировать свое тело, усвоить законы пластических форм. Пластика - один из важнейших факторов выразительности актера. Если тело не подчиняется внутреннему состоянию актера, то он может "внутри" кипеть, как самовар, выражая какую-то страсть, но зритель так и не заметит его "кипения".
Я играл в Театре Мейерхольда не бог весть какие роли. Но меня это не угнетало. Я верил, что главное впереди. Эта вера и огромная жажда взять от Мейерхольда все самое лучшее заставляли относиться к театру как к школе жизни и творчества. Я считал, что для молодого актера - теория хорошо, а практика - лучше: надо много играть, много пробовать, усвоенное и найденное проверять, и если мне что-то не удавалось в одной роли, я пробовал это в другой. Шаг за шагом я постигал премудрость актерского мастерства, и понадобилось время, чтобы понять очевидную истину, что "играть" вовсе не означает "наигрывать", а "жить на сцене" совсем не то же самое, что "жить, как в жизни".
Одним из первых таких уроков в ТИМ была для меня роль Брандахлыстовой в "Смерти Тарелкина", которую я играл творчески смело и озорно. Пьеса Сухово-Кобылина, о которой автор в своем посвящении артисту Шепелеву сообщал, что она писалась шутки ради, казалась Мейерхольду наиболее соответствующей цели высмеять побежденный старый мир веселым и грубым балаганным смехом. Мейерхольд считал ее фарсом и отказался от бытового решения в пользу открытой эксцентрики.
Обычные столы и стулья превращались в предметы, враждебные человеку, - они подламывались и падали, полицейский застенок изображала конструкция, называемая "мясорубкой". Актеры летали на канатах, стреляли из пистолетов, боролись с капризами неудобной "прыгающей" мебели. Эти дополнительные помехи и препятствия, по мнению Мейерхольда, подчеркивали внутреннюю линию поведения актера на сцене, заставляя его жить активной, деятельной жизнью, преодолевать все препоны и рогатки, расставленные перед человеком страшной "расейской" действительностью.
Мне, исполнителю роли свидетельницы, Людмилы Брандахлыстовой, "колоссальной бабы лет под сорок", не оставалось ничего другого, как проявить весь свой недюжинный запас энергии.
Почему Брандахлыстову играл я? Автор в ремарке разрешал это ("роль в случае нужды может быть исполнена мужчиной"), и Мейерхольд не преминул этим воспользоваться, ибо такое авторское указание устраивало мастера и оправдывало атмосферу эксцентриады.
Художником-конструктором спектакля была В. Степанова, маленькая коренастая женщина с челкой, мужеподобная, с мощными бицепсами на руках и ногах. Мейерхольд, показывая мне глазами на нее, сказал однажды:
- Играй ее, ее! Понимаешь?
Понять было нетрудно, и я стал играть ее. Мне сделали из парусины юбку, растрафареченную полосами, подобрали чулки, грубые туфли на низких каблуках, полосатую кофточку, тоже парусиновую, волосы я завязывал бантом и сверху кокетливо надевал шляпу-панаму. Вид у меня, прямо скажем, был весьма экстравагантный.
Мадам Брандахлыстова в последнем акте приходила в полицейский участок с детьми, которых играли Женя Бенгис и Володя Люце. Они очень естественно прятались за мою юбку, показывая городовым язык. После короткой перебранки с городовыми Качалой и Шаталой (их играли Охлопков и Сибиряк) меня сажали в "холодную". Вот здесь-то и разворачивалась знаменитая сцена "мясорубки".
В клетку-"мясорубку" попасть было довольно сложно. По стремянке я забирался на самый верх конструкции и оттуда нырял вниз головой, падая на "мясорубочный" нож, сделанный из прочной фанеры. Меня, лежащего на одной из четырех лопастей этой сложной конструкции, провертывали Качала и Шатала, взявшись за "мясорубочную" рукоять. Надо отдать справедливость - провертывали меня Охлопков и Сибиряк виртуозно. Я описывал полукруг и, очутившись внизу, вползал в клетку, которая и изображала "холодную". Это была обычная клетка, вроде тех, в которых сидят звери в зоопарке. Вся эта установка символизировала полицейский произвол, силу, проворачивавшую людей через государственную машину, калеча и уродуя их.
В этом был, конечно, определенный смысл, не говоря уже о том, что сам прием казался необыкновенно остроумным. Мне было весело играть эту сцену, хотя я понимал, что особых психологических глубин я здесь не раскрою. От меня требовалось лишь не зевать и проявлять некоторые акробатические способности, чтобы не прищемить себе руку, не сломать ногу или не расквасить лицо. Юбка создавала для меня дополнительные неудобства.
Публика видела весь этот процесс "проворачивания", ибо конструкция была сделана из тонкого штакетника. С любопытством зрители наблюдали, как я верчусь, как у меня смешно задирается юбка и как я, оказываясь в трусах, визжу, кричу, пока наконец не попадаю в клетку. Едва успев отряхнуться, я немедленно начинал кокетничать с Качалой и Шаталой. Фотография выразительно передает этот "исторический" момент.
Кроме меня, никто из актеров лезть в "мясорубку" не соглашался. Когда на репетициях пытались ко мне подсадить еще одного актера - "соседа по камере", он категорически запротестовал.
- Нет уж, извините, но я туда не полезу, - горячился артист Мологин. - Что вы, этак голову прижмет между лопастями и полом. Нет, нет, я не полезу! Где местком?
Тогда его, упирающегося, придумали вталкивать в клетку сбоку, через потайную дверь, о существовании которой я раньше и не подозревал. Эту запасную дверь Мейерхольд предусмотрел на тот случай, если я не смогу проделывать сальто-мортале в "мясорубке" или вдруг испугаюсь и откажусь.
Но я так освоился, что, проделывая "проворот", успевал показывать "нос" и еще что-то "сыграть" для веселья. Я не скажу, что смех был дружным и громким, для этого нужен был зритель, а к нашему большому огорчению спектакль посещали плохо. Хотя, мне кажется, тот, кто приходил, смеялся от души.
В чем была причина неуспеха?
На премьере "Смерти Тарелкина" зрителю открылась вся театральная кухня: голые стены, служебные выходы. Вся механика колосников, грузы и веревки. Романтика сценических иллюзий была разоблачена. Все было выкрашено сероватой клеевой краской. На ровном полу стояла прыгающая мебель, выкатывалась "мясорубка". Мы играли лишь на первой, ближайшей к зрителю четверти сцены, как говорится, у публики на носу... И вот подпрыгивающие столы и стулья, призванные динамически подчеркивать смешное или трагическое, фактически превратились в главный объект зрительского внимания. Вещи все время капризничали: там, где надо, не прыгали, а прыгали или ломались в совершенно непредвиденных моментах действия. Актеры нервничали, а публика, забывая о пьесе, гадала: "Больно или не больно ударило актера?".
Как ни старалась доброжелательно настроенная к театру критика писать, что "Смерть Тарелкина" - интересная "новация" Мейерхольда, что спектакль означает "смерть психологизму", "смерть бытовизму" и что, мол, "да здравствует сценический конструктивизм! , который как живое, творческое начало подстегивает художника, дает новые ритмы современному театру, помогает спаять воедино искусство и жизнь", - все было тщетно! Спектакль принимали вяло. Он даже не вызывал споров, как, скажем "Великодушный рогоносец" или позже "Лес", когда зрительный зал раскалывался на два лагеря. Артисты винили себя, полагая, что чего-то недопоняли, чего-то недотянули в эксцентрике. "Раз прыгает мебель, нельзя играть всерьез, психологически оправдывая все трюки", - думали мы.
И началось увлечение эксцентрикой. Не скажу, чтобы это способствовало идейному раскрытию образа спектакля и делало весь эксперимент понятным. Нет! Лично я играл с азартом, не считаясь с тем, что на первом плане происходила важная для Сухова-Кобылина психологическая сцена между главными действующими лицами.
Проскочив через горловину "мясорубки", я подходил к решетке, просовывал между прутьями ногу, показывал икры, закатывал рукава, демонстрировал бицепсы, кокетничал с городовыми.

|
|
Афиша кинофильма 'Белый орел'
|
На это Охлопков мне выразительно подмигивал, ежился, делал какие-то сентиментальные гримасы, которые должны были означать, что мадам Брандахлыстова ему нравится. Тогда я прислонялся к решетке и, кокетничая, приподнимал юбку. Публика весело реагировала, смотря на нас, и пропускала главное, что происходило в эти минуты на просцениуме между основными персонажами. Всеволод Эмильевич не выдержал и сказал:
- Жаров, кокетничай с Охлопковым немножко поскромней!
Я ответил, что тогда не знаю, что мне делать в клетке. И Мейерхольд, обычно очень жестко утверждавший свою режиссерскую волю, на этот раз почему-то не стал ограничивать моих импровизаций.
Вообще все мы старались вовсю, и тем не менее спектакль, повторяю, успеха не имел.
Как ни удивительно казалось тогда нам, но при всем обилии трюковых аттракционов спектакль получился серо-скучный, такой же скучный, как и парусина, в которую мы были одеты.
И вся эта мебель с секретными пружинами, из-за которых столы и стулья расползались под тяжестью севшего или облокотившегося на них актера, а потом с треском выпрямлялись, иногда больно ударяя неловкого исполнителя, не успевшего вовремя отпрыгнуть, оказалась на поверку ненужной, праздной выдумкой, не помогавшей, а мешавшей восприятию спектакля.
Некоторые актеры, такие, как Д. Н. Орлов, просто с ужасом играли этот спектакль. Он садился на свое кресло "с секретом", как на электрический стул. "О, хо, хо!" - вздыхал он. Знать, что в определенное время ты должен нажать рычажок, что кресло, на котором ты сидишь, деформируется и что в самый патетический момент своей роли ты брякнешься об пол, - прямо скажем, - не доставляло большого удовольствия. Веселого тут было мало!
Эйзенштейн, который был вторым режиссером этого спектакля, на репетициях недвусмысленно говорил нам перед выходом на сцену, предварительно оглядевшись, нет ли вблизи Мейерхольда:
- Братцы, пошли клоунадничать!
И мы шли.
Вокруг режиссуры "Смерти Тарелкина" творилось что-то непонятное. Вначале казалось, что Мейерхольд решил переложить всю репетиционную работу на Эйзенштейна, раза два он даже не пришел на репетиции, передав, что плохо себя чувствует и просит, чтобы Эйзенштейн репетировал один. Эйзенштейн приступил к делу охотно и с интересной выдумкой, но вдруг тоже сказался больным и оборвал репетиции. Сделали в работе паузу. Режиссеры встретились. О чем говорили они, мне неизвестно. К работе вновь вернулся Мейерхольд и сел за свой режиссерский столик, а Эйзенштейн пересел в глубину партера с какой-то книжечкой, куда он вносил свои записи и зарисовки. Рядом с Мейерхольдом у режиссерского столика мы больше его не видели.
Чем ближе подходило дело к премьере, тем дальше отсаживался Эйзенштейн от Мейерхольда по рядам партера, а после премьеры, в ноябре 1922 года, и вовсе исчез из театра. Вскоре я узнал, что он стал режиссером в Передвижной труппе театра московского Пролеткульта. Там в работе над спектаклем по пьесе Островского "На всякого мудреца довольно простоты" в апреле 1923 года он развернул бурную деятельность по замене старого искусства новым, "аттракционным". По сравнению с "Мудрецом" мейерхольдовский спектакль "Смерть Тарелкина" был просто академическим.
С Эйзенштейном я встретился снова через много лет, уже в кино.
”Д. Е.” и т. п.
Интересным с точки зрения режиссуры и более созвучным современности был спектакль "Даешь Европу!" - "Д. Е.". Он охотно посещался зрителем. Все действие в нем происходило на развалинах Европы, которая была разрушена войной, и только в одной ее части, где-то в Советской России, еще жили люди, весь же остальной мир, мир капиталистический, погибал.
Спектакль, сделанный Мейерхольдом по одноименному роману И. Эренбурга (инсценировка Подгаецкого) состоял из многочисленных эпизодов. Каждая картина имела какую-то общую связь со всем замыслом спектакля, но объединяющего сюжетного хода внутри каждой сцены не было. Лишь два - три эпизода были кое-как связаны общими героями, а потом все резко обрывалось и действие переносилось на новое место, появлялись новые персонажи. В спектакле было множество действующих лиц, и каждый из актеров играл несколько ролей.

|
|
'Аня'. Режиссер О. Преображенская. Совкино. 1927 год. Аня -Тимченко, Али - Агзамов, Боцман - Юренев, Ждан - М. Жаров
|
Всех превзошел в этом Эраст Гарин, который создал галерею резко отличных друг от друга образов изобретателей. Мейерхольд даже сделал для него в спектакле специальный
эстрадный аттракцион, получивший название
"Трансформатор". Эта сцена шла минут пятнадцать, и в течение этих пятнадцати минут Гарин "трансформировался" семь раз, изображая семь разных "типов" изобретателей. Сделано это было очень ловко.
Вместо декораций Мейерхольд ввел к тому времени специальные щиты - одна из его очередных находок. Они передвигались на роликах на глазах у публики. С помощью рабочих сцены, одетых в синюю прозодежду - брюки клеш и блузы из парусины, окрашенной в синий цвет. Прозодежда для актеров уже отошла в прошлое и осталась лишь у рабочих сцены, в основном студийцев, подрабатывавших вечерами в театре.

|
|
Революционная романтика сюжетафильма 'Аня' меня вдохновляла и захватывала
|
Когда шел "Великодушный рогоносец", театральную униформу надевали все актеры, включая Бабанову, которая играла героиню. Только отдельные детали костюма определяли положение того или иного действующего лица в обществе. Потом прозодежда претерпела эволюцию. В "Смерти Тарелкина" униформенная парусина, из которой шили костюмы, была уже раскрашена и растрафаречена по замыслу художника. В следующих за ним спектаклях прозодежда все больше сходила на нет, уступая место самым настоящим театральным костюмам.
И, наконец, в спектакле "Даешь Европу!" Мейерхольд, как бы специально действуя по диалектическому закону "отрицание отрицания", построил на резкой смене театральных костюмов целую сцену, сделав своеобразный костюмерный парад. Когда Гарин, играя в "Д. Е.", заходил в сцене "Трансформатор" за щит, то через мгновение он появлялся из-за другого конца щита в другом, совершенно непохожем на предыдущий, ярком костюме. Двое, а то и трое актеров моментально переодевали его за щитом, преображая со сказочной быстротой его внешний облик.

|
|
На плоту и жили, и снимали фильм, медленно спускаясь к
Каспию
|
Известно, что в театре Мейерхольда многое делали сами актеры - они помогали костюмерам, и рабочим сцены, и осветителям. Это имело большое значение не только для роста нашего мастерства, но и для воспитания уважения к сцене.
В спектакле "Д. Е." наряду с другими актерами я играл несколько ролей: в польском эпизоде я играл какого-то пана, пел "Еще Польска не сгинела", потом предложил Мейерхольду станцевать мазурку, он согласился и отдал распоряжение, чтобы на рояле играли мазурку.
- Бери Женю Бенгис под мышку и давай... - сказал он.
Мазурка получилась лихая. Женя была маленькая, а я долговязый, и было смешно. Получился острый эпизод.

|
|
'Аня'. Съемка финальной сцены фильма происходила на
Каспийском море
|
Затем я переодевался в конферансье какого-то кафешантана, где-то "в центре Европы". Во фраке и цилиндре я объявлял модные номера. Так как объявлять было скучно, я подбирал названия иностранных кинобоевиков и лихо бросал их со сцены без всякого смысла: "Смарагда-Набурен",
"Беладонна" или еще что-то в этом роде. Под эту абракадабру играл джаз, расположившийся в правой ложе; им руководил застенчивый и всегда улыбавшийся В. Парнах, а в числе "джазистов" сидели Е. Габрилович (сейчас крупнейший кинодраматург) и А. Костомолоцкий. Муся Бабанова исполняла эксцентрический танец и пела.

|
|
'Еще одна победа Петра I'. Шарж худ. И. С. Семенова
|
Но вот кончился эпизод "Разлагающаяся Европа", континент погибал под взрывами страшных бомб, я уходил со сцены, быстро переодевался и появлялся в следующей картине, в строю матросов, которые, маршируя под командой Н. Охлопкова, лихо и звонко пели:
Ты-ы, моряк, красивый сам собою,
Тебе-е, моряк, от роду двадцать лет...
Сомкнутым строем, одетые в форму военных моряков, мы долго шли по вертящейся сцене и под скандирование всего зала покидали сцену.
По морям, по морям!
Нынче здесь, завтра там
Спектакль "Даешь Европу!" благодаря режиссерскому решению Мейерхольда был очень динамичен, развивался стремительно, как кинолента. Всеволод Эмильевич так ловко манипулировал сценическими щитами, которые двигались на роликах, что они мгновенно могли принимать любое положение, изменяя до неузнаваемости место действия. Мейерхольд показал себя в нем знатоком движения, блестящим организатором сценического пространства.

|
|
'Аня'. Я долго смотрел на свой крупный план и думал, как совместить правду жизни с техникой кино
|
В связи со спектаклем "Д. Е." я не могу не вспомнить один эпизод. Мейерхольд! Черт возьми, какой это был интересный, обаятельный и вместе с тем непонятный человек! Он был коллективист по природе и по убеждениям. Любое общественное начинание в театре он всячески поддерживал. Если прибегали к нему за помощью, не отказывался ни от чего. Например, у нас была касса взаимопомощи. Нельзя сказать, что актеры в то время "шиковали". Жили мы довольно скромно. У нас было товарищество, и зарплату получали в зависимости от сборов. Если шла такая пьеса, как "Даешь Европу!" или другая, делавшая аншлаги, то зарплату получали исправно. Спектакли, шедшие с меньшим успехом, били по нашему карману. Короче говоря, касса взаимопомощи была нам необходима. Как-то будучи председателем этой кассы, я обратился к Мейерхольду:
- Всеволод Эмильевич, скоро лето, сезон был трудный, ребятам нужно дать отдохнуть. А денег на путевки нет. Нельзя ли сделать и выходной день спектакль в пользу кассы взаимопомощи?
- Очень хорошо! Делайте!
- Спасибо! Но для того чтобы обеспечить полный сбор, требуется ваше участие в спектакле. Нужна афиша с вашей фамилией.
Надо было видеть в этот момент Мейерхольда. Глаза его заблестели и, расплывшись в улыбке, он озорно спросил:
- Думаешь, будет аншлаг?
- Будет, - ответил я.
- Ради бога!.. Давайте, давайте. Печатайте на афише "Д. Е." - спектакль пойдет с участием Мейерхольда... Я что-нибудь придумаю.
И вот мы выпустили афишу, где было написано: "Даешь Европу!" с участием Мейерхольда". Все билеты были моментально распроданы по повышенным ценам. Мейерхольда в качестве актера московская публика не видела уже давно. Его выступления а Художественном театре старики забыли, а новым заядлым театралам интересно было посмотреть Мейерхольда в качестве актера.
Мы очень волновались, потому что до последней минуты не знали, что он будет играть. Он продолжал вести очередные репетиции другого спектакля и на мои робкие напоминания, что спектакль приближается, отвечал. "Все будет хорошо!".
Наконец накануне спектакля я спросил Зинаиду Николаевну, что именно собирается делать в спектакле Всеволод Эмильевич.
- Да он что-то такое придумал, кажется, собирается играть моего летчика.
Райх играла американку, которая прилетает на своем самолете любоваться руинами Европы и встречает там дикаря. Одета она была более чем эксцентрично. Ее вызывающий костюм был зарождением стриптиза.
- Но все-таки, что он будет делать? Нужно же репетировать.
- Ничего. Он уже придумал себе костюм, а текст сочиняет ему Миша Кириллов (артист Кириллов играл дикаря).
И вот наступил день спектакля. Театр заполнен. В картине "На руинах Европы" под шум пропеллера вышел шикарный Мейерхольд. Весь в кожаном: кожаное пальто, кожаная
фуражка, на которую надеты очки, кожаные краги, длинные шоферские перчатки. Его встретили громом рукоплесканий. Вид у него был действительно очень импозантный. Особый шик его фигуре придавал знаменитый ярко-красный шарф. За ним шла в разрезанной до талии юбке Райх. Аплодисменты усилились. Мейерхольд остановился, повернул свой длинный нос и стал смотреть на Райх. Она, сделав круг, тоже остановилась и стала глядеть на Мейерхольда. Всеволод Эмильевич постоял, потом раскланялся, потом посмотрел на ногу Райх в черном чулке и лаковой туфле, красиво выделявшуюся в разрезе платья, и... развел руками, как бы говоря: за костюм я не отвечаю!
В зале раздался смех. Райх, подождав его условленной реплики, нетерпеливо и громко сказала:
- Ну же, ну!
Но Мейерхольд, вздрогнув смешно и растерянно, снова развел руками. Публика, думая, что это трюк, дружно зааплодировала. Тогда Райх повернулась к нему спиной и, пожав плечами, стала ждать Кириллова, не обращая больше никакого внимания на Мейерхольда.
Вышел Миша Кириллов и начал сцену с Райх, а Мейерхольд все стоял и стоял, с него катился пот градом, - в кожаном пальто под светом прожекторов было жарко - он вынул платок, вытер лоб, лицо, потом сказал что-то вроде: "Ну, я полечу" или "Я пойду", и ушел со сцены.
Воцарилась тишина. Публика, состоявшая преимущественно из поклонников его таланта, сидела в ожидании мейерхольдовского трюка, но затем, осознав, что, очевидно, больше ждать нечего, что это и есть трюк маститого мастера, выпустившего специальную афишу "с участием Мейерхольда", дружно захохотала сама над собой, над своей доверчивостью. Смеялись над тем, как ловко, никого не надувая, Мейерхольд вышел из положения. А между тем сам мастер стоял за кулисами растерянный и смущенный. Райх подбежала к нему:
- Что же ты? А тоже: "я! я!". Не мог вымолвить слово!
- Зиночка, но ты же не дала мне реплику.
- Ах, я не дала тебе реплику?.. Ну, знаете ли... Это ты должен был дать мне реплику!
- Нет... Зиночка! Ты же хотела ко мне подойти и что-то сказать!
- Ничего я не хотела сказать, и не хитри, пожалуйста! Просто ты забыл слова. Так и говори, что забыл, растерялся!
В общем Зинаида Николаевна, пользуясь правами жены, отчитала Мейерхольда при всех, а он, смущенный, вытирал платком лоб и тихо повторял:
- Да-да забыл, забыл... Она права!
* * *
Я радовался тому, что постепенно входил во все спектакли, которые ставил в то время Мейерхольд, обогащаясь опытом, открывая каждый раз что-нибудь новое для себя в богатейшей кладовой великого режиссера. Мейерхольд, казалось, тоже чувствовал мою тягу к сцене и жадность к игре, и когда однажды заболел Зайчиков, игравший в "Великодушном рогоносце" писаря, он вызвал меня и сказал:
- Жаров, сегодня вечером прошу тебя сыграть эту роль. Очень прошу. Репетиции, правда, я не могу тебе дать, но с большим удовольствием расскажу, что тебе надо делать.
- Всеволод Эмильевич, чтобы спасти спектакль я, конечно, пойду на эту жертву. Но что из этого получится? Ведь вы долго работали над спектаклем, и как играет Зайчиков эту роль, мне вам рассказывать не надо.
Работу Зайчикова в этом спектакле расценивали наравне с работой Ильинского. Зайчиков показал себя в роли писаря виртуозом выразительного жеста и мимики.
Передо мной стояла сложная задача: так просто, с бухты-барахты, после общепризнанного успеха дуэта Ильинского и Зайчикова, которых всегда встречали бурными аплодисментами, подчас не меньшими, чем Бабанову, войти без репетиции в спектакль. Я шел, как на заклание. Я знал, что иду на жертву, понимал это и Мейерхольд, он очень трогательно мне сказал:
- Понимаешь, я могу отменить спектакль. Но отменять придется и сегодня, и завтра, а с деньгами в театре трудно. Поэтому я тебя прошу.
- А если будет плохо, Всеволод Эмильевич?
- Думаю, что плохо не будет, иначе я тебе не предложил бы. Беда вся в том, что для репетиции времени уже нет, - и он посмотрел на часы. - Да! Только можно успеть пообедать. Ну что ж, будешь импровизировать! - И он мне в коротких словах рассказал суть образа.
Спектакль я играл, не пообедав, - аппетит пропал.
Сыграл три спектакля подряд. В лучшем случае это было сносно. Я не пытался копировать Зайчикова - ведь мы были абсолютно разными. Но я добросовестно делал то, что и он, чтобы не испортить сцену Ильинскому, который очень привык к Зайчикову как к партнеру.
Зайчиков болел долго. В спектакле "Земля дыбом", где он играл императора, была скандально-знаменитая сцена, когда весь зал ахал. Под конструкцией, которая была похожа на основание Эйфелевой башни, была подвешена маленькая площадка, на которой появлялся император в мундире и при регалиях со всей своей свитой. У императора вдруг схватывал живот. Он делал жест, ему приносили ведро с огромным вензелем двуглавого орла, и император тут же, повернувшись спиной к. публике, садился на ведро под звуки духового оркестра, который в этот момент исполнял "Боже, царя храни". Свита брала под козырек.
В зрительном зале разражался шквал. Весь зал ахал. Это была кульминационная сцена всего спектакля, из-за которой публика валом валила на него.
Во время болезни Зайчикова Мейерхольд передал мне и эту роль, подработав ее со мной предварительно на двух репетициях. Императора я играл много спектаклей, и каждый раз перед тем, как сесть на ведро, испытывал ощущение, которое, вероятно, испытывают дети, когда делают запретное. Взрыв в зрительном зале: "ax" - доставлял мне почти
физическое наслаждение, смешанное с каким-то безотчетным страхом.
От спектакля к спектаклю Мейерхольд менял свои художнические приемы, чутко реагируя на бурное развитие эпохи, и под каждый такой поворот подводил научную базу. Он был хитер, умен, этот мастер. Если ему не удавался опыт со сценическим конструктивизмом, как он не удался в "Смерти Тарелкина", то вы могли быть совершенно уверены, что ни в следующем спектакле, ни в каком-либо другом уже не будет прыгающих столов и стульев, но зато появится декларация, в которой будет написано, что опыт "Смерти Тарелкина" с прыгающими предметами оправдал себя целиком и полностью, что мы - мастер и наш штаб - убедились, насколько все было необходимо для дискредитации психологического, бытового театра, которому "Смерть Тарелкина" вбила осиновый кол. Но теперь с этим покончено. Мы сделали свое дело и движемся дальше. Театр не может стоять на месте, театр все время в пути...
И Мейерхольд, действительно, не повторялся. Он был экспериментатором по природе, его делом было открыть новый закон сцены или изобрести его сделать из своего открытия сенсацию, а дальше - берите, пользуйтесь, размножайте! У него ничего не пропадало даром, и даже явные неудачи он оправдывал поисками.
И все же, отрицая традиционные декорации, костюмы, кулисы, Мейерхольд снова вернулся к ним. В ином качестве, но вернулся. Это обнаружилось уже в "Учителе Бубусе" А. Файко, поставленном в январе 1925 года в декорациях И. Шлепянова. Бурной динамике "Д. Е." Мейерхольд
противопоставил в "Бубусе" замедленную пантомиму. Он требовал от актеров пластического предварения каждой реплики, так называемой "предыгры".
В "Бубусе" Мейерхольд отказался от голых стен и ввел декорацию. По горизонту полукругом висели длинные бамбуковые стволы в виде занавеса. Актеры, входя на сцену, раздвигали бамбук, и он, раскачиваясь, создавал во время всего спектакля легкий движущийся звуковой фон. В центре, на высоком партикабле, находилась открытая оркестровая раковина. В ней стоял великолепный полированный черный рояль, на котором играл, одетый во фрак, пианист Лев Арнштам, ныне известный советский кинорежиссер.
Весь спектакль шел под музыку Листа и Шопена, изредка сменявшуюся джазом с фокстротами и шимми. Мебель была изысканная. Персонажи были одеты в костюмы, которые полагалось носить в респектабельном обществе, -безукоризненные фраки и мундиры мужчин, вечерние туалеты дам.
Когда Мейерхольд репетировал "Бубуса", он, как всегда, начал с декларации о том, что нового принесет этот спектакль. Главным в спектакле был провозглашен пластический ритм, замедленные, как он выразился, "полукруглые" ритмы, которые и раскроют внутреннюю сущность пьесы. Пластика актеров, подготовлявшая реплики героев, должна выразить смысл, лежащий за пределами текста роли. Внешнее благополучие буржуазного мира, выраженное в этих полукруглых ритмах, полукруглых мизансценах, будет разоблачено внутренним неблагополучием, беспокойством и ощущением катастрофы, царящими в воздухе. Поэтому чем округленнее актерское движение, тем оно правильнее и точнее бьет в точку. Формальное решение образов в "Бубусе" отвлекло внимание Мейерхольда от внутренней линии поведения персонажей.
В "Учителе Бубусе" я играл секретаря торговой палаты. Роль буквально в несколько слов, но с точки зрения пантомимической "предыгры" она была чрезвычайно показательной. Вся роль строилась на пластическом обыгрывании реплики секретаря, входящего с докладом к "коммерции советнику" (советника играл Б. Захава). Раздвинув бамбуковый занавес и выйдя на сцену, я должен был остановиться у плетеного кресла и сказать:
- Господин коммерции советник, я должен сообщить вам...
Шеф меня перебивал:
- Короче!
Тогда я испуганно вздыхал, обходил кресло и, вернувшись в исходное положение, вновь произносил:
- Господин коммерции советник, я должен...
- Еще короче.
Я опять обходил вокруг кресла, набирал в легкие воздух:
- Господин коммерции советник... я...
- Короче.
Я снова делал круг уже стремительнее:
- Господин коммерции...
- Короче...
Так после каждой реплики, как чиновник-педант, обходя кресло, я начинал доклад сначала, пока не оставалось слово:
- Господин...
- Короче!
Короче нельзя было, и тогда я, обойдя кресло, издавал звук - среднее между "ах!" и "ух!" - и падал в обморок. Сцена на премьере имела успех.
Мейерхольд мне сказал:
- Вот видишь, а ты не хотел играть. Говоришь - маленькая роль. Смотри, как я тебе ее отделал. Неважно, маленькая или большая, важно, как ее сделать.
Не знаю почему, может быть, премьерная публика была очень уж добродушно настроена или на других спектаклях я что-то утерял, но потом мне в этой сцене уже не везло.
Я помню, что на репетициях я несколько раз пытался изменить заданный Мейерхольдом ритм, сыграть свою роль по нарастающей: медленно, чуть-чуть быстрее, потом еще
быстрее, потом обморок.
Он говорил:
- Нет, ты делай все в одном ритме. Делай вот так, как заведенный.
И он, выйдя на сцену, показал, как играть мой кусок. Я ему безусловно доверял и скопировал мастера. А между тем именно в этом, наверное, и заключалась моя ошибка, я нетворчески воспринял режиссерскую трактовку. Когда спектакль уже игрался, случай помог мне найти то, что я не продумал до конца в работе.
Однажды случилось так, что я с Ильей Шлепяновым, художником этого спектакля, пошел слушать оперетту. В "Бубусе" я выходил в последнем акте, примерно часов в десять, во всяком случае за полчаса необходимо было быть в театре. Часы были только у Шлепянова, и я попросил его следить за временем. Спектакль шел весело, мы увлеклись, а когда он взглянул на часы, то воскликнул в ужасе:
- Осталось двадцать минут до твоего выхода!
Я как ошпаренный выскочил из театра, транспорта не было, и я помчался пешком на нынешнюю площадь Маяковского. Задыхаясь, вбежал в уборную, заметив по дороге, что Мейерхольд, как всегда, стоит в левой первой кулисе. Одной рукой раздеваюсь, другой - одеваюсь. Парикмахер натягивает парик, клеит нос, помреж кричит:
- Твой выход.
Я выскочил на сцену, еще не отдышавшись, и с ходу произнес:
- Господин коммерции советник, я должен вас предупредить... Тот говорит:
- Короче.
Я быстро, еще по инерции от прежней гонки, обежал кресло и выпалил:
- Господин коммерции советник, я...
- Короче.
Снова пробежка вокруг кресла:
- Господин коммерции...
- Короче.
Я теряю дыхание, у меня сосет под ложечкой, и при последнем приказе "короче" я издаю "ах!" и падаю в обморок. В зале - гром.
Мейерхольд после спектакля мне говорит:
- Ты сегодня интересно играл. Не понимаю, в чем дело?
- А я понимаю... сегодня я опаздывал на спектакль и всю дорогу бежал.
- Ну, и?..
- Ну, и это совпало с внутренним содержанием моего выхода. Раньше я старательно, но формально и холодно исполнял показанную вамп мизансцену, а сегодня я ее пережил! И получилось верно!
Оказывается, даже такой мудрец, такой тончайший знаток техники актера, как Мейерхольд, не всегда мог понять органику актерской игры. Режиссер дал мне пластический рисунок роли, но этот рисунок должен был быть оправдан внутренним состоянием. Все, что показывал и подсказывал Мейерхольд, надо было воспринимать не механически, а пропустить через свои собственные фантазию, мысли, чувства.
Когда я торопился, весь мой организм, все мое существо трепетало: "Опоздал, опоздал!". Этот взволнованный,
трепещущий ритм в наибольшей степени соответствовал данной роли, вернее - пластическому и психологическому решению данного куска спектакля.
После спектакля А. Файко сказал мне:
- Понял, наконец, как надо играть этого молодого человека. Он ведь рьяный служака. Попал меж двух огней: и сказать надо скорее и поделикатнее, и шефа не разозлить...
Этот урок раскрыл мне важный закон: актер не смеет полагаться лишь на режиссера. Активность, самостоятельность - прежде всего! Будучи внимательным к тому, что показывает великолепный мастер, актер должен смотреть не на то, как он оригинально, остроумно показывает, и копировать его, а понять, что он хочет показать, какой внутренний смысл заложен в его показе. Надо творить и додумывать самому. В общем, как бы ни был гениален режиссер, актер должен, уяснив, что от него хотят, оставаться самостоятельным художником. Это я говорю не только молодежи, но и себе в первую очередь: "Век живи, век учись!".
Последний спектакль, в котором я участвовал у Мейерхольда, был "Мандат" Н. Эрдмана, имевший феноменальный успех. "Лишний билетик" спрашивали чуть ли не от Страстного монастыря. Спектакль вызвал толки, разногласия, потому что острый текст, написанный талантливым Эрдманом, задевал зрительный зал эпохи нэпа, всегда немного замиравший, когда со сцены говорились "рискованные вещи". Мещанству в этом спектакле был дан решительный бой.
Новым в оформлении были знаменитые "движущиеся тротуары", встречное или совместное движение которых создавало большой эффект. Раздвигающиеся стены тотчас вновь смыкались, отгораживая Гулячкиных от внешней среды.
Но в центре режиссерской работы Мейерхольда здесь снова встал человек. Актерские образы были глубже, психологичнее. Достаточно вспомнить Гарина, моменты внезапной фиксации им психологических состояний мещанина Гулячкина. Эффектные мизансцены в духе острого гротеска обнажали самую суть мещанства. Актер С. А. Мартинсон, уходя со сцены каким-то особенным эксцентричным шагом, попадал на движущийся круг. Тот его молниеносно выносил за кулисы, как бы выбрасывая из потока жизни на мусорную свалку истории. Было и смешно, и жутко. Гражданский гнев Мейерхольда вскрыл эту трагикомедию мещанства остро и до конца.
Спектакль имел единодушный успех.
Луначарский оценил спектакль как "самое большое театральное явление... сезона", доказавшее способность гротеска "показать действительность более действительной, чем она дается в жизни".
Я играл Агафангела, денщика бывшего генерала (роль генерала исполнял Борис Вельский). Остроумный текст наших диалогов позволил режиссеру и актерам сделать
великолепные аттракционы, вызывавшие бурную реакцию зрительного зала.
Несмотря на успех последних постановок, нам, молодым актерам, становилось тесно в театре Мейерхольда. В то же время мы видели, что "театральный Октябрь", родоначальником которого был Мейерхольд, начинал
завоевывать и провинцию. Поэтому, когда к нам в театр приехал писатель В. З. Швейцер (псевдоним его "Пессимист") и стал агитировать поработать в Бакинском рабочем театре, где он был директором, режиссер В. Федоров, художник И. Шлепянов, я и еще группа мейерхольдовцев, человек десять, отколовшись от мастера, уехали на самостоятельную работу в Баку. Мы отправились туда после окончания одесских гастролей ТИМ летом 1926 года.
В Бакинском рабочем...
Баку в 1926 году открылась новая страничка моей жизни в театре. Страничка поучительная во многих отношениях.
К началу театрального сезона я опаздывал. Задержался на съемках картины "Аня" режиссеров Ольги Преображенской и Ивана Провова. Это была инсценировка рассказа из времен гражданской войны.
Сезон в Баку уже начался, а натурные съемки на Каспии были в полном разгаре. Снимали очень интересный эпизод: бой рыбачьего парусника с белогвардейским катером. Время еще не изгладило из памяти местных жителей недавние бои с белыми, к киносъемкам еще не привыкли, и каспийские рыбаки, услыхав перестрелку, бросились к берегу доложить начальству о ЧП. Оказывается, забыли предупредить о стрельбе, и у директора картины Блиоха были большие неприятности с местными властями...
Наконец, хоть с запозданием на месяц, я - в Баку. Вот он -город черного золота, город буйный и тихий, черный и белый, где женщины ходили тогда под покрывалом и казалось, что им нечем дышать. Город, где по капризу всевышнего то ласкает солнце, как на лазурном побережье, то дует сильный норд, забивая песок в рот, нос, глаза, хлопая ставнями окон.
Такой я нашел эту знаменитую столицу. Да, именно столицу, но не пышную, официальную, а трудовую, с большим отрядом рабочего класса и прекрасной интеллигенцией. Здесь зритель не просто смотрит спектакли, - он следит за работой театра, он знает актеров, у него есть своп любимцы, которых он не даст в обиду.
Театр также знает своих зрителей, нарядных и любознательных, каждый день шумно заполняющих зал. Короткая, но выразительная табличка на кассе: "Билеты все проданы" - красноречиво подтверждает, что дружба со зрителем есть и контакт налажен. Итак, я буду работать не в провинции, где надо завоевывать город, а в театре, где "аншлаг" - событие естественное, где зритель - строгий критик и судья.
И все-таки, когда я вошел в театр и встретился с косыми взглядами незнакомых актеров, с которыми мне предстояло бок о бок творить, я понял, что не все так лучезарно.
- Актер на лучшие роли, - так отрекомендовали мне, как бы советуя: "запомните и не суйтесь!", - любимца не только бакинской, но и тифлисской публики Н. А. Соколова.
Этот актер с большим творческим диапазоном играл действительно все лучшие роли - от комиков до героев. Талантливый человек, он прекрасно аккомпанировал себе на гитаре, недурно пел. Зная вкусы театральной провинции, Наум Соколов редко играл роли без песенки. Он обязательно. находил место для какого-нибудь романса или куплета, хотя подчас это было не так уж необходимо. Он властвовал в театре полностью. Хотя, как потом мне удалось установить, и у него была слабинка, своя "ахиллесова пята" - тщеславие, распространенная актерская болезнь, из-за которой мы, теряя над собой контроль, нередко совершаем большие и малые промашки.
Была в труппе молодая героиня - красавица Н. И. Огонь-Догановская, за которой В. З. Швейцер ездил специально в новосибирский "Красный факел". Был талантливый, смешной, толстый, а потому, вероятно, и флегматичный комик А. Н. Стешин. Был актер Б. Л. Томский, хороший малый, мечтавший играть героев, но не достигавший в этом успеха, ибо следил в роли главным образом за внешностью своего персонажа, за его галстуком.
Я мог бы описать всех моих новых товарищей, потому что каждый из них - от "малого" актера до "великого" - был колоритной фигурой, в которой много еще жило от старой театральной провинции. Актеры провинции ведь были особым племенем разноликих и разноязычных художников, чаще всего объединенных случаем: "нынче - здесь, завтра - там". Об общем творческом методе в ту пору не могло быть и речи. "Метод на сезон нас не устраивает!" - говорили они.
Да и вообще о методе тогда шел разговор разве только в Художественном театре. Даже у Мейерхольда не было своего стройного и последовательного учения. Руководители студий и периферийных театров, увлеченные и подогреваемые пропагандой идей Пролеткульта, объявили свою приверженность к "левому фронту" и с готовностью устремлялись под знамя Мейерхольда, который, как известно, сам сторонился пролеткультовцев.
Но не обладая ни талантом, ни опытом, ни способностью осмыслить его эксперименты, они превращали в догму внешние приемы мастера. Если у Мейерхольда прием, как правило, служил конкретной идейной цели, был средством раскрытия содержания, то у его новоявленных самостоятельных последователей он превращался чаще всего в фетиш, оборачивался в свою противоположность, приближая опасность формализма. Поэтому сам Мейерхольд чрезвычайно боялся так называемых "учеников Мейерхольда". Когда произносили эти слова, он трясся от бессильного гнева, ибо вскоре понятие "мейерхольдовщина" приобрело значение ругательства. Когда люди хотели сказать: "непонятно,
сумбурно, черт знает что!" - они стали говорить: мейерхольдовщина! .
В то время любой человек из театра, научившись, как ему казалось, работать "а ля Мейерхольд", мог в карьеристских целях явиться в местное управление Политпросвета и с апломбом заявить: "Давайте, я вам организую такой левый театр, что мы самому Мейерхольду нос утрем. Я мейерхольдовец, я знаю, чем он дышит".
О подобном не столько хвастливом, сколько неумном заявлении одного вновь назначенного главного режиссера мне и рассказал директор театра.
К нам, приехавшим в Баку из Москвы, да еще из театра Мейерхольда, стали особо присматриваться, от нас ждали каких-то таинственных новаторств. Ожидание нарастало и особенно обострилось, когда художник Илья Шлепянов и режиссер Василий Федоров, с благословения директора Швейцера, сняли бархатный мягкий занавес и заменили его занавесом "современной конструкции", то есть громоздким рулоном, поставленным "на попа". Этот рулон из мелких планочек, наклеенных на холст, навертывался тросами на барабан в правую часть сцены и стоял, как башня. Так "занавес" выглядел, когда был "открыт", если можно было применить к нему этот термин. Закрывался он сложнее. Надо было, разматывая "занавес" с правого барабана, дотащить его через всю сцену до левого портала. Я всегда со страхом подходил к "закрытому" занавесу - середина его, не находя опоры, зловеще раскачивалась, грозя то и дело рухнуть на первые ряды кресел партера.
Актеры перешептывались: "Новаторство заело - теперь наше дело следить за ширмами и станками, как бы они не рухнули, а играть будут в соседнем театре. За что, боже? Смилуйся над нами!".
Зритель, наоборот, все новаторства принимал с любопытством и даже с интересом.
Мейерхольдовская группа приехала за месяц до открытия сезона и сразу начала репетировать три новых спектакля. Федоров ставил боевик "Собор Парижской богоматери", режиссер Иванов ставил нашумевшую "Зойкину квартиру" Булгакова, режиссер Арсений Рыдаль ставил пьесу, названия которой я сейчас не помню.
Местные актеры встретили нас, как я уже сказал, настороженно, не зная, "с чем нас едят" и кто кого будет "есть". В особо невыгодном положении оказался я: не приняв из-за киносъемок участия ни в одном из трех новых спектаклей, я оказался "чужаком". Желая смягчить неловкость, вызванную моим вынужденным опозданием, В. З. Швейцер, знакомя меня с труппой полушутя сказал:
- Не подумайте, что это гастролер, опаздывающий к сезону. Нет, наша кинозвезда просто немного задержалась на съемках, - и, улыбнувшись, добавил: - Теперь кается! А в общем прошу любить и жаловать!
С места в карьер я начал репетировать в "Комедии о войне и любви" ("Шоколадный солдатик") Б. Шоу роль Блюнчшш, которую играли в свое время молодой Радин, молодой Петипа. Ставил спектакль Федоров.
- Братцы, а вы меня не подведете? Вы уверены, что я это -Блюнчили. Ведь он любовник?!.
- Не были бы уверены, не ждали бы тебя!
- За это спасибо! Но страшновато... Ведь я - простак.
- А ты знаешь, о чем пишет Шоу? Вот то-то и оно-то, начинай лучше работать! - ответил Федоров, широко улыбаясь своей доброй улыбкой.
Шлепянов добавил:
- Не волнуйся! Все продумано, а насчет любовника... ты будешь эффектен, за это я ручаюсь. Вот посмотри эскизы твоих мундиров.
Действительно, в эскизах я выглядел роскошно. Белый плащ, красный и голубой мундиры. Оставалось только играть. Я появлялся на сцене то в красном, то в голубом, обвораживая публику и Огонь-Догановскую, игравшую героиню - сербиянку Раину. Но разве дело только в этом? Разве только это мне надо было преодолевать?
Многое из того, что меня волновало и беспокоило в роли Блюнчили, с помощью режиссуры мне удалось все-таки решить. В нашей трактовке он получился не традиционным любовником, а настоящим армейским офицером, и публика в это поверила. Мне тепло и сердечно аплодировали.
Как ни обидно об этом писать, но аплодисменты и до сих пор являются критерием оценки. Обида заключается в том, что подчас и мастерски проведенную сцену, и грубый трюк зритель равно отмечает аплодисментами. Только тонкое и взыскательное ухо может отличить подлинный восторг зрителя, без которого не может жить художник, от шумного внешнего успеха пустоцвета.
Законы, установившиеся между сценой и зрителем, хотя и не писаны, но непреложны. Они бытовали и в Бакинском театре, и хотели мы этого или нет, но сначала просто считались с этим, а потом тоже включились в борьбу "за количество скандированного шума в зале".
Когда начались репетиции "Шоколадного солдатика", в котором из новичков играл я один, я слышал, как "старики" судачили: "Подумаешь, фигура, снимается в кино! Зачем же тогда приехал в Бакинский театр? Снимался бы себе там, в Москве, и дело с концом. Посмотрим, что это за явление!". Сами они репетировали, что называется, "вполноги", не раскрывая целиком себя, но зато собирались в зале и молча следили за тем, как я работаю с полной отдачей.
Когда мы оставались одни, друзья меня подбадривали:
- Видим... все видим... А ты держись, не распускай свои нервы... Не выходит - ничего, добивайся...
И я работал, работал не за страх, а за совесть. Мобилизовал все силы, тем более, что роль Блюнчили не совпадала с моей индивидуальностью и мне пришлось очень многое в себе преодолеть. Только позже я понял, какая это была суровая и нужная школа.
Чудесный человек, режиссер Арсений Рыдаль, посмотрев несколько репетиций, вызвал меня на откровенный разговор:
- Ничего, ничего... Я тебе посоветовал бы вот что...
Рыдаль был режиссером с большим опытом. Он знал, как работать с актером, и сделал мне ряд великолепных подсказок. Почувствовав, что я отношусь к его советам без верхоглядства, без этакой модной снисходительной улыбки: "Спасибо, мол, тебе, дорогой провинциальный режиссер, за подсказку столичному артисту", он открывал мне то, о чем я и не подозревал, работая в московском театре.
- А еще я тебе скажу вот что: собери всю свою силу и обопрись на молодость. Тебе могут здесь делать ужасные гадости даже прекрасные артисты. А ты молчи и смотри, как они играют, наматывай себе на ус. Следи за ними в спектаклях: как они умеют говорить, строить фразу, как они умеют лепить образы, подмечать жизненные характеры, потому что им приходится играть много, часто и разные роли, и они не должны повторять себя. Бытие определяет... Слушай, как каждая реплика идет у них от сердца, как публика будет им за это аплодировать, кричать. Они станут играть с удовольствием, чтобы показать, что "и мы не лыком шиты", чтобы поставить тебя на место. Но ты не смущайся, а главное -не поддавайся ни на какие провокации, давай им должный отпор. И рано или поздно их нападки прекратятся. Сегодня ты дашь им отпор, завтра будешь их лучшим приятелем. Скажешь: это волчий закон, - да. К нему их приучил хозяин... И это еще живет.
Рыдаль мне очень помог, помогли и мои товарищи.
Поединок
Вот наконец и мой первый спектакль. Зрительный зал полон, Публика встретила меня нельзя сказать что восторженно, но доброжелательно. Мне казалось, что я играю из рук вон плохо: волновался ужасно! А тут еще вылезло все то, о чем предупреждал меня Рыдаль.

|
|
Казанский вариант моей любимой роли - Тихона 'Гоозе' А. Н.
Островского
|
Места в артистических уборных все уже были распределены, и меня посадили гримироваться рядом с актером Б. Томским. В антракте заходит к своему дружку Томскому Соколов и вдруг видит, что на его, Соколова, постоянном месте сижу я. Он остановился как вкопанный в дверях, помолчал и вдруг, неизвестно к кому обращаясь, спросил:
- Почему этот человек, - он даже не назвал меня "молодой человек" и даже не сказал "артист", - гримируется на моем месте?
Не получив ответа, он крикнул:
- Помощник! Почему на моем месте сидит эта персона?
Появившийся помощник режиссера объяснил:
- Так распорядились. Потом Михаилу Ивановичу здесь будет достроен столик, и тогда он...
- Нет, ни потом, ни сейчас Михаил Иванович не будет гримироваться на этом месте. Прошу "их" пересадить!
Это на премьере-то! Вот тогда я вспомнил Рыдаля. Видя, что Соколов продолжает настаивать, а помощник режиссера объявляет: "Начинаю второй акт, Михаил Иванович прошу на сцену", я подчеркнуто вежливо произнес:
- Прошу звонки не давать! Я никуда не пойду, пока вы не попросите Наума Адольфовича Соколова покинуть мою уборную. Он мне мешает сосредоточиться.
Вот этого Соколов ожидал меньше всего. Побледнев, он зашептал сдавленным голосом:
- Щенок! Вы не знаете, с кем говорите! Надо сначала уметь играть, а потом уже разговаривать с Наумом Адольфовичем Соколовым.
 Матрос Орел в пьесе 'Амба' был одной из ролей, сыгранных мною в Казанском театре под руководством А. Л. Гоипича -
ученика Вс. Мейерхольда
Матрос Орел в пьесе 'Амба' был одной из ролей, сыгранных мною в Казанском театре под руководством А. Л. Гоипича -
ученика Вс. Мейерхольда
Я повторил, обращаясь к помощнику режиссера:
- Я не пойду на сцену, пока "они" не уйдут из уборной.
И Соколову пришлось уйти. Не может же вечно продолжаться антракт!
Когда он ушел, я закрыл глаза и, как мне показалось, прочитал про себя молитву: "Спасибо тебе, милый, дорогой Арсений, твой совет я выполнил точно!". И хотя сердце билось, как пойманная птичка, я выдержал, я устоял и, глубоко вздохнув, пошел играть премьеру.
Но это был только первый, пробный наскок за кулисами. Впереди же предстояли встречи на сцене, в работе. И вот вскоре одна из них совершенно неожиданно состоялась.
Заболел актер Женя Агуров, игравший в "Зойкиной квартире", где я не был занят, роль управдома. Аншлаги, снимать спектакли нельзя. Меня вызывает Владимир Захарович и говорит:
- Миша! Ты уже тертый калач, в Блюнчили ты выдержал первый бой. Продолжай так и дальше... Понимаешь, в чем дело? Надо... заменить Агурова.
Было примерно четыре часа дня, через три часа открытие занавеса в "Зойкиной квартире", а он мне предлагает в слаженном спектакле сыграть большую роль.
- Владимир Захарович! Да вы понимаете... - пропищал я.
- Иди сейчас с суфлером, - не давая мне раздумывать, продолжал он, - садись и учи. Обедай, лежи, а суфлер тебе будет читать, читать, читать. Что бы там ни было, сыграй сегодня обязательно. Это дело твоей чести. И не только твоей - нашей общей. Они вас бьют опытом, а ты им покажи, что опыт дело наживное. Понятно?
- Понятно, - ответил я, но не потому, что меня убедили его доводы, а потому что во мне начала пробуждаться моя актерская сущность - любовь к импровизации!
Жить в образе, импровизируя по ходу действия, - для меня всегда было огромным наслаждением. Я вспомнил, как Мейерхольд разрешил мне в "Рогоносце" - импровизируй! И я согласился.
|
■ ' ; *г-" '
'г
Шь
|
♦ «л?
|
|
|
Ил
|
I Wv Li
|
|
, ,* -aJVw*
|
|
Казанский Большой драматический театр. В пьесе 'Рельсы гудят' В. Киршона я играл небольшую роль Злобина, инструктора
чечетки
Прихожу вечером на спектакль, сидим мы вдвоем. Мне уже сделали стол в уборной рядом с Наумом Соколовым, со мной он не разговаривает. Соколов играет главную роль, авантюриста Аметистова и уже почти одет и загримирован. Я же тихо шепчу текст и думаю, как мне загримироваться. Примерил и подобрал усы, так... растрепал волосы... нет, не греет, нужна деталь, характерная черта... Вижу, лежит красная косынка на чьем-то столе. Эврика! Так ведь у управдома флюс! Ну, конечно! Ведь он ходит целый день по квартирам, по двору... сквозняки... простудился и,
естественно, флюс. Я подвяжу платком щеку, и это даст мне возможность делать паузы. Я могу даже простонать где-то... болят зубы... а в это время услышу суфлера.
 Казанский Большой драматический театр. В Казани я сыграл роль Коко в 'Плодах просвещения' Л. Н. Толстого. Ставил пьесу
режиссер А. Л. Гоипич
Казанский Большой драматический театр. В Казани я сыграл роль Коко в 'Плодах просвещения' Л. Н. Толстого. Ставил пьесу
режиссер А. Л. Гоипич
Взял платок, подложил туда ваты и завязываю. У меня получился на макушке большой узел с двумя концами, похожими на заячьи уши. Смотрю на себя в зеркало - лицо смешное: усы ершом, глаза, естественно, испуганные и
печальные, красным платком подвязана щека и вата торчит. Я легонько качнул головой - заячьи ушки запрыгали. И вдруг в зеркале вижу перекошенное лицо Наума Соколова:
- Снимите платок...
- Нет, я не могу снять, потому что у управдома болят зубы.
- А я говорю - снимите, иначе вам будет худо!
Я молчу и продолжаю учить текст.
- Тогда наденьте на голову эту шапку.
Я надел подброшенный им какой-то картузик, заячьи уши скрылись. Посмотрел в зеркало - тоже неплохо!
А Соколов свое:
- Чтобы этих ушей я на сцене не видел! Ходите в картузе!
 Казанский Большой драматический театр. Играя Епиходова, я пел: 'Было бы сердце согрето жаром взаимной любви!' ('Вишневый сад' А. П. Чехова)
Казанский Большой драматический театр. Играя Епиходова, я пел: 'Было бы сердце согрето жаром взаимной любви!' ('Вишневый сад' А. П. Чехова)
Мы пошли на сцену. Соколова всегда встречали аплодисментами. А в "Зойкиной квартире" он имел особый успех. Он уже отыграл первый акт. И вот во втором акте появилась фигура больного человека, с парусиновым портфелем, в сапогах - этакий замызганный управдом.
Соколов остановился (я шел за ним), посмотрел на меня, пожал плечами и, подмигнув зрителям, сделал смешную гримасу, которая означала: "Ну и ну! Посмотрите, мол, что за фигура!".
Его мимика вызвала оживление и аплодисменты в зале. В общем он меня сразу же, с места в карьер, как говорится, "приложил" и только после этого дал свою реплику: "Что вам нужно?".
Я снял свой картузик, сказал:
- Здравствуйте! - и мотнул головой. Мои заячьи уши очень мягко и кокетливо кивнули, и публика сразу насторожилась. Соколов вытаращил на меня глаза и прошипел, не разжимая губ:
- Наденьте картуз...

|
|
Казанский Большой драматический театр. Слепое подражание Вс. Мейерхольду испортило веселыйводевиль В. Катаева
'Квадратура круга'
|
Но я, проговорив свой текст, снова покачал головой, и уши опять кивнули. Публика оживилась, и кто-то даже зааплодировал. Я надел картуз. Мы были квиты. Я видел, как он что-то мучительно обдумывает. Перед самым моим уходом со сцены, налив из графина воды в стакан, он протянул его мне и, глядя в зал, сказал, конечно, не по тексту:
- Страдает! Ишь какое лицо! Таким лицом хорошо полы натирать! На, выпей!
Кто-то засмеялся, кто-то хлопнул в ладоши, но было ясно, что эта грубая и оскорбительная отсебятина успеха не имела. Публика затаила дыхание. Я почувствовал, что она ждет от меня достойного ответа. Я поклонился:
- Спасибо за ласку! Мы не пьющие! - и, сняв картузик, покивал "зайчиком".
Зал проводил меня дружными и бурными аплодисментами. Он был на моей стороне.
В антракте Соколов взглянул на меня через зеркало и сказал, как мне показалось, примирительно:
- Ну и ну, молодой да ранний. Посмотрим дальше. Чудеса!
 Казанский Большой драматический театр. После спектакля 'Амба' я с трепетом приступил к работе над ролью Людовика XIV
в 'Соборе Парижской богоматери'
Казанский Большой драматический театр. После спектакля 'Амба' я с трепетом приступил к работе над ролью Людовика XIV
в 'Соборе Парижской богоматери'
А дальше мы снова встретились в "Любови Яровой". Пьеса только что великолепно прошла в московском Малом театре, где особый успех имели В. Пашенная и С. Кузнецов. Баку тут же откликнулся на новую советскую пьесу. Соколов, получив роль Шванди, ужасно нервничал, надо ведь переиграть Кузнецова! Ставит спектакль Федоров, Шлепянов делает декорации. Федоров мне говорит:
- Ты, наверное, хочешь играть Швандю?
- Да.
- Сыграй Пикалова, советую. Это будет очень интересно. Я тебе добавлю еще одну сцену: в эпизоде с Махорой вместо писаря будет Пикалов.
Пикалова я полюбил с первой читки. Он стал мне почему-то очень близок, а главное - понятен: этого бесхитростного землепашца я видел во всех деталях. "Белых пятен", загадок -почему он делает так, а не этак? - в этой роли для меня не существовало. Я думаю, читатель не сочтет нескромностью, если признаюсь, что впоследствии с радостью прочитал рецензию на "Любовь Яровую", напечатанную в московском журнале "Жизнь искусства": "...Бакинцы видели "Любовь
Яровую" не только с другими артистами, но и в других постановках (например, в гастролях Малого театра), но такого изумительного мастерства, какое проявляет Жаров, из маленькой эпизодической рольки Пикалова сумевший сделать подлинно художественный, насыщенный полнотой жизни образ, не видела, конечно, и сцена Ак. Малого".
Мне кажется, вы поймете мою гордость, когда узнаете, что листочек с этой рецензией прислала мне из Москвы заказным письмом моя мать. Сколько времени сидела она над ним с влажными от счастья глазами, - не знаю.
Материал роли, действительно, был великолепный. То, что это настоящая "крепкая" роль, то, что рядом Швандю репетировал актер Наум Соколов, окрыляло меня. Соколов не принимал мою работу во внимание. Ему надо было потягаться с московским Швандей - Степаном Кузнецовым. Он напряг всю свою выдумку и, перегрузив роль деталями, очевидно, потерял главное. А ведь есть правило: актер должен хотеть хорошо сыграть, но не надо стараться кого-нибудь переигрывать.
 Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
Помните первую встречу Пикалова со Швандей? Красные отступают, в город врываются белые. На опустевшую сцену из левой кулисы осторожно выходит Швандя с наганом в руке. Он останавливается, прячет глубоко в карман бушлата свое оружие. Потом, глядя в кулису, медленно пятится к середине сцены, а в это время из противоположной кулисы, также пятясь, выходит белый солдат Пикалов. Он длинен и неуклюж. На нем большие стоптанные сапоги с голенищами, как ведра, из которых торчат худые ноги; короткая, выше колен, измызганная шинелишка; на плечах - пустой вещевой мешок, на ремне жестяной чайник. Его солдатская фуражка скорее напоминает картуз лотошника. На веревке через плечо, мешая двигаться, болтается винтовка. На середине сцены обе фигуры сталкиваются и быстро оборачиваются. Швандя судорожно опускает руку в карман, Пикалов поднимает руки - сдается.
 Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
На премьере уже один вид моего Пикалова вызвал смех. Когда же я, повернувшись спиной, поднял вверх руки, чтобы сдаваться, публика оценила неожиданность такого хода дружным хохотом и аплодисментами. Тогда Соколов сделал свой снайперский "выстрел" - подмигнул публике: "Ну и ну". Но это успеха не возымело. Последующий наш диалог публика слушала великолепно. С этой минуты и до конца спектакля все появления Пикалова принимались по восходящей, и, странное дело, чем шумнее был зал, тем спокойнее и увереннее я жил в образе.
Впервые в жизни я узнал непередаваемое ощущение актерской власти над образом. Это я был мужичонкой. Это я тосковал по дому, по земле. Это я своим мужицким умом, бесхитростным, но ясным, старался добросовестно доискаться правды. Я ничего не играл и не придумывал. Все придала мне жизнь в образе: и правдивость, и убедительность. Тут я открыл еще неизведанную истину - зритель покоряется твоей правде, он вместе с тобой, и ты его властелин.
Что же сделал на втором спектакле Наум Соколов? Когда мы с ним столкнулись спинами и я поднял руки, то не услыхал ожидаемой реакции - в зале была тишина. "В чем же дело, в чем я ошибся?" - промелькнуло в голове. Поворачиваюсь и вижу в руках у Шванди наган, направленный в мою сторону. Ясно, что вся острота решения сцены была сразу снята: ведь когда на человека направляют наган, он, естественно, поднимает руки.
Глаза у Соколова блестят. Он доволен - аплодисментов нет. Говорит реплику. Я молчу. Он шепчет сквозь зубы: "Отвечайте". Я смотрю на наган и только мотаю головой. Тогда он уже громче шепчет: "Отвечайте!". Я молча снимаю винтовку с плеча, вышибаю прикладом из рук Шванди наган, потом вешаю винтовку снова на плечо, и только тогда поднимаю руки. В зале аплодируют, там не заметили нашего столкновения - все сработало на сюжет сцены. Зрители видят только, как неуклюжий солдат, выбив из рук матроса наган, почему-то снова повесил ружье на плечо и решил сдаться. А так как вся нескладная фигура этого солдата не вяжется с проявленной им прытью и в следующий момент эта прыть не вяжется с решением "сдаться", - это вызывает изумление и осмысленный смех. Получается, что Пикалов сдается не потому, что у него нет другого выхода, а по убеждению. И сдаться матросу он решает достойно.
Вот так была однажды разыграна вариация на тему Швандя -Пикалов. И рождено это было непредвиденными режиссером обстоятельствами. Правда, Наум Соколов получил строгий выговор за "изменение установленной режиссурой мизансцены в спектакле "Любовь Яровая", но на этом наша холодная война не кончилась.
Мы играли "Растратчиков" В. Катаева.
К премьере готовились долго. Конструктивистское оформление спектакля, задуманное художником Шлепяновым, потребовало много сил и времени. Вся сцена пересекалась тросами, по которым бегали легкие ширмы в самых разных направлениях, разделяя игровые площадки. Такая кинематографическая смена мест действия, обозначаемых лишь скупыми деталями реквизита, привела к тому, что в день премьеры мы никак не могли начать спектакль, ибо ширмы заедало и не хватило времени на генеральную репетицию. Ширмы либо не двигались, либо останавливались на полдороге. Вместо восьми часов вечера спектакль начался около десяти. Мы сразу почувствовали враждебность зрительного зала. Никого, даже любимых актеров, публика не принимала. Так, в зловещей тишине, прошли первая и вторая картины, в которых участвовал Н. Соколов, и началась третья.
Я играл сторожа Никиту. В третьей картине герои -бухгалтер - Соколов, Ванечка - Вельский и сторож - я, получив деньги в банке, на минутку заходят в пивную. Но пивная оказалась только началом дальнейших приключений "растратчиков", - в этом суть. И вот мы втроем сидим за столом в пивной и ведем диалог, весьма живой и остроумный. У бухгалтера довольно большой монолог о своей жизни, а у сторожа всего несколько реплик.
По ходу действия наши герои то и дело спрашивают: "Сколько выпили?" - "Столько-то". - "Нужно еще добавить". На столе у нас - настоящее пиво, настоящая закуска: крутые яйца, раки.
Я сидел в центре. Слева от меня - Соколов, справа -Вельский.
Произнеся реплику, мой сторож обязательно должен был выпить пивка и закусить. Но так как у меня были наклеены большие моржовые усы, я понял, что раков есть не смогу и откусывать яйцо тоже опасно - в усах половина застрянет. Лучше всего отправить яйцо целиком в рот. Публика, как я уже сказал, сидела мрачная, не реагируя ни на текст, ни на нашу игру. Я разбил яйцо, очистил скорлупу, поднял пальцем усы и медленно отправил яйцо в рот. Раздался жидкий смешок, который совпал с какими-то смешными словами Соколова. Тот ободрился, глаза у него заблестели: наконец-то, удалось растопить лед. Мы тоже рады: слава тебе, господи, хоть Наум Соколов пробил зрителя!
Я удовлетворенно киваю головой, наливаю себе второй стакан пива, беру второе яйцо, поднимаю усы, и... белое яичко нырнуло в рот, как в норку. Как только оно скрылось, раздался уже не смешок, а хохот. Тогда Соколов, произносивший монолог, быстро переглянулся с нами, ничего не понимая. Успокоившись, Соколов продолжает монолог. Я думаю: "Интересно, над кем же это все-таки смеются?.. Может быть... надо мной? Надо проверить". Я наливаю себе третий стакан пива, беру третье яйцо и едва начинаю его облупливать, как в зале раздается хохот, а затем, когда яйцо спряталось за моими усами, и аплодисменты.
В общем в тот день я съел на сцене пять крутых яиц, а уходя, прихватил и шестое, проглотив его у самой кулисы. Шесть яиц развеселили публику. Напряжение первых сцен спектакля прошло, и дальше общение с залом разворачивалось в доверительном духе.
Этот случай стал предметом обсуждения на художественном совете театра, который пришел к заключению, что трюк с яйцами - в плане спектакля, на премьере он оказался даже переломным моментом, окрасив действие в нужные комедийные тона. Поэтому совет предложил на будущее сохранить его, ограничив число съедаемых яиц до трех.
На следующем спектакле "Растратчиков" получилась такая ситуация. Я - теперь уже совершенно спокойно - на законном основании (на стенке висел приказ художественного совета) очищаю яйцо и только собираюсь отправить его в рот, - вот добродушный простак! - как Вельский встает, перекрывая меня своим широким туловищем, поднимает стакан и говорит Соколову: "Ваше здоровье!". Они чокаются, и мое первое яйцо пропадает, невидимое зрителям. Трюк не удался. Мои братья-актеры, как видно, сговорились отомстить. Мне остается еще два яйца. Я быстро беру второе яйцо, опять собираюсь отправить его в рот, Вельский снова встает, торопливо произнося сакраментальную фразу: "Ваше здоровье!". Но тут я тоже не сижу на месте, а поднявшись во весь рост, так, чтобы быть видным зрителю, отправляю одно за другим два вареных яйца за моржовые усы. Грубо, но яйца сделали свое дело, победив и на втором спектакле. Потом глотанье я отменил совсем.
Этот случай не имеет, кажется, ничего общего с творчеством. Но в то же время он отражает обстановку конкретной борьбы в стенах старого театра. Эта вынужденная борьба, как и всякая борьба, заставляла оттачивать мастерство, порох всегда держать сухим и иметь в запасе изрядный набор приемов, технических секретов и, грубо говоря, "фортелей". При умелом их использовании в настоящей работе все это необходимо. Лень и равнодушие изгонялись начисто. Это было, как в спорте, где каждый отдает всего себя, чтобы выиграть соревнование.
Ночью, после спектакля, я беспокойно ворочался в кровати, беспрерывно ругал себя и за то, и за другое, что делал на сцене, и казалось, нет актера бездарнее меня.
И вспоминались московские друзья-актеры: "Им легко - они не знают, что такое "подсидка" на сцене! Им неизвестны жестокие законы провинциальной конкуренции! Хотя, как знать, это случается порой и в, столице... . Я припоминаю сейчас разговор с блестящим актером М. М. Тархановым. Во время съемок "Петра I" мы с ним очень сдружились и делились и радостями, и печалями. Помню, говоря о неудачах, он мне однажды признался:
- Надо засучив рукава работать и работать. От меня все ждут, что я выкину посмешнее что-нибудь. Я выхожу на сцену, еще ничего не делаю, пытаюсь что-то сообразить, а за кулисами уже стоит толпа и ждет, что я сфортелю. А я не хочу, мне не нужно фортелить, я хочу работать... Тогда они разочарованные уходят...
Золотые слова! В своей жизни я их вспоминал не раз...
В Бакинском рабочем театре я сыграл около двадцати ролей: Кочкарева в "Женитьбе" Гоголя, Ваську-Окорока в "Бронепоезде" Вс. Иванова, Молчалина и других. И что интересно... Жизнь все-таки великая искусница! Казалось бы, все, о чем я рассказал в связи с Наумом Соколовым, должно было сделать нас непримиримыми врагами. А дело кончилось тем, что мы стали лучшими друзьями. Сколько бессонных ночей провели мы с ним, сколько раз я плакал, слушая его великолепное пение - гитара и душа пели вместе. Сколько хороших и умных советов я получил от него. Это был действительно замечательный актер, чуть ли не легенда русской провинциальной сцены. Позже, когда мы уже разъехались и я работал в Москве, а он на короткое время тоже приехал из провинции в столицу и поступил в театр Красной Армии, он мне признался:
- Нет, Миша, я слишком беден, чтобы работать в Москве. Здесь могут работать только богачи. Здесь очень долго сидят без дела, ждут ролей, а не играют. Я не знаю, чем они живут. Натуры, что ли, у них такие богатые? А я жадный! Я бедный и жадный, я хочу много играть... Да, Маргуша, поедем в провинцию, она нас ждет! - закончил он, обращаясь к жене.
И действительно, пробыв в театре Красной Армии год или полтора, он уехал вместе с женой Маргаритой Горбатовой, ученицей Мейерхольда, чудесной актрисой, снова в провинцию и проработал там до конца дней своих. Уже после войны, когда праздновали 125-летний юбилей Малого театра, он приезжал с делегацией в Москву, и мы опять встретились. Долго сидели у меня, вспоминая Баку.
- Да, не прижился я в центре, - говорил он с улыбкой. -Может быть, это и хорошо. Здесь ведь артисты бога-а-атые! -Он почему-то любил повторять это слово. - Мне кажется, и белье-то они шьют себе из коверкота.
То, что я не отвечал на его наскоки тем же, не трусил, а отстаивал свое право артиста, не позволял себя третировать, ставя "премьера" на место, было оценено Наумом по достоинству. Это был, в сущности, чуткий, очень умный, доброжелательный в душе человек и великолепный товарищ в итоге. Сложная штука жизнь, судить о ней никак нельзя по готовой схеме, по заранее придуманным рецептам! А еще сложнее - наука познавать людей. Она дается не сразу и нелегко.
Васька-Окорок, и как он стал "моим”
Моим раздумьям и сомнениям по поводу дальнейшего пути в театре, известной неуверенности в собственных силах положил конец Васька-Окорок из "Бронепоезда 14-69". Наконец я получил роль, которая предоставляла широкую возможность сказать свое слово о современнике.
В Ваське-Окороке - этой великолепной роли - родился на заре советской драматургии и театра образ молодого партизана, малограмотного крестьянского парня, беззаветно отдающего свою жизнь за будущую свободную Россию, которую он еще даже не может осмыслить, но к которой страстно тянется. Мне приходилось встречаться с подобными парнями, когда я ездил по Сибири. Я видел их в армии, в кружках рабочей самодеятельности. А главное - я сам не очень-то далеко от них ушел.
Казалось, я чувствовал Ваську-Окорока всем своим существом. Это не балагур во имя балагурства, какие встречаются среди молодежи. В пьесе Всеволода Иванова есть ряд реплик, создающих впечатление, что Васька - этакий "свой в доску" парень, добродушный трепач. Но вчитавшись в роль, ночами думая над образом, я понял, что он острит и веселит друзей в те самые трудные минуты, когда нужно вселить в них мужество, поднять их на подвиг. И мне раскрылся человек, кругозор которого широк и ясен.
И вот этот Васька-Окорок, обожаемый в отряде, способный без раздумья застрелить "чужака - интервента", вдруг становится на его защиту и оберегает его жизнь от таких же, как сам, отчаянных партизан. Что же происходит в его душе?
В нем, простом русском парне, живут огромные разумные чувства. И как просто говорит Васька своим однокашникам, указывая на американца:
"Братцы, обождь... Убить человека всегда можно. Очень просто. Плевое дело убить. Вон их сколько по нашим деревенским улицам, убитых-то, валяется... надо, братцы, упропагандировать эту курву, американскую. Ну, а коли не поймет он нашу душу, тогда мы его и кокнем..."
Когда Васька уже убедил партизан, что "кокать" не надо, а надо "упропагандировать", для него возникает затруднение -ведь американец говорит на чужом языке! Переводчиков нет. И Васька, полный огромного желания рассказать американцу, кто мы такие, взявшие в руки винтовки, за что мы воюем и почему нас нельзя трогать, почему не надо мешать нам биться за большое счастье для всех людей, - этот Васька не может выразить свою мысль, не может "упропагандировать" американца.
Но он одержим своим желанием. Одержимость - вот ключ к этой сцене. И тогда возникает замечательная, полная огромного политического смысла и вместе с тем почти жанровая сцена. Васька, охваченный бурей чувств, не может ничего объяснить пленному, поэтому приобретают значение не столько слова, сколько то, что скрывается за ними в душе Васьки. Американец силится его понять. И тогда Васька, как якорь спасения, бросает американцу самое дорогое и самое емкое слово: "Ленин!".
И вдруг Васька видит, как слово "Ленин", вырвавшееся у него как самая последняя попытка объясниться с человеком в чужом добротном мундире, находит у того отклик и делает все вдруг очень понятным. Кажется даже, Васька радуется этому пониманию больше, чем американец, которому оно неожиданно спасло жизнь.
Сцена дает возможность актеру выявить полностью все свое мастерство, темперамент и душу. Актер, справившийся с ней, может в дальнейшем сыграть очень многое, потому что в сцене заложено столько страсти, столько разных оттенков чувств, что их нужно по-актерски тонко и умно распределить в процессе исполнения роли, точно, ювелирно разделать грани, а затем собрать в пучок все разноцветные лучи и бросить в зал со словом: "Ленин!".
Конечно, публика не знает, да и не обязана знать, сколько творческих мук пережил артист, находя эти грани, добиваясь объемности образа, расставляя вехи и разбивая маленький эпизод на "монтажные куски". Еще меньше знает зритель о тех бессонных ночах, когда артист бился над передачей богатой Васькиной души и чувствовал, что он еще что-то недоделал, что фигура Васьки получается плоской. "Боже, зачем я живу? -думал я в таких случаях. - Никому не нужный, возомнивший себя артистом! Боже, почему другие все могут? Почему они ничего не боятся? Почему у них получается, а у меня нет?".
И, утомленный вопросами, артист с первыми лучами южного солнца вновь бежал по улицам города к своей школе, к своему рабочему месту, к своей мучительнице и любовнице - к сцене.
Работая над Васькой-Окороком, я, пожалуй, впервые задумался о своей актерской природе. Какой же я артист -разума или чувства?
...Помню один урок в классе Ф. Ф. Комиссаржевского. Педагог по импровизации А. П. Нелидов дал нам интересный этюд: "Ученый, молодой или старый - дело ваше, - затратил годы на открытие важного математического закона. И вот в большой аудитории он делает доклад о своем открытии и, доказывая на доске формулу, от перенапряжения сходит с ума. Попробуйте это сыграть!".
Этот этюд должны были сыграть все ученики подряд. В нашем распоряжении были лишь доска и мел. Можно было играть со словами, можно и без них - полная свобода в импровизации. Когда очередь дошла до меня, я что-то сказал -представился аудитории, но вскоре перешел к доске и стал доказывать формулу. Я был сильно возбужден, меня трясло, и я не мог написать ни одной цифры. Я чередовал кружочки и черточки, а когда наступил момент помешательства, мелок в моей руке сам собой стал выводить какие-то ломаные линии...
Когда все закончили показ этого этюда, выяснилась поучительная картина - наша группа распалась на два лагеря: те, кто чередовал кружки и черточки, и те, кто писал цифры. Первых Нелидов отнес к актерам интуитивным, с сильно развитой возбудимостью, у которых эмоциональное превалирует над рассудком, а вторых - к актерам разума, работающим по заранее продуманному плану. Сделав такой вывод, Нелидов посоветовал каждому из нас в работе над собой воспитывать отсутствующий компонент.
Я запомнил, как он сказал мне:
- Вот, Миша, видишь, как будут у тебя обстоять дела. Ты не из тех, у кого заранее все отработано, кто знает, где он поднимет палец, где опустит его, в каком месте роли застегнуть пуговицу, в каком расстегнуть, когда повысить голос, когда понизить. Накатит на тебя, - ты рванешь, не накатит, - так на "ничьей" и проедешься. Но надо работать. Твой стихийный темперамент придется всякий раз укладывать в форму, заключать, как говорится, "в рамочку"...
Не знаю, прав ли был Нелидов, но думаю, что в основе своей скорее прав, особенно если вспомнить начало моего творческого пути. Несомненно, я был веселый, задиристый и общительный до предела. У меня было много друзей и среди рабочих, и среди актеров и режиссеров. "А ну-ка, Миша, -встречали меня, - расскажи что-нибудь посмешнее. Ты-то это умеешь!". Меня выпускали на сцену, и мне было не столь важно, кого я играю, сколь хотелось наделать побольше трюков, чтобы публика обязательно смеялась. И чаще всего я добивался этого, потому что публика видела, что мне самому интересно, смешно и радостно играть.
Я тяжело расставался с Васькой-Окороком. Спектакль докатывался до сцены "На железнодорожной насыпи". Я ждал и боялся этой сцены. Все располагало в ней к возвышенному и вместе с тем естественному самочувствию. Очень помогала мизансцена. Сделанная графически точно, она ничем не отвлекала зрителей. Актер был в фокусе, один на один с публикой, это и усложняло, и облегчало мою игру. На фоне подсвеченного горизонта хорошо выделялась фигура Васьки-Окорока. Вот издали доносился стук приближавшегося вражеского бронепоезда. Все замирало. Мой Васька вдруг приподнимался на локтях и с такой жадной силой вдыхал полевой воздух, будто хотел впитать в себя все запахи земли, всю необыкновенную жизнь, с которой он через минуту готов проститься, если понадобится его жертва ради революции. И вдруг, как часто бывает, он необыкновенно остро ощутил красоту этого мира. Он приникал к земле, и аромат разнотравья ударял ему в ноздри. Тогда он выпрямлялся и как-то трогательно говорил:
"Не могу, братцы! - Это говорил мой герой, не знавший на протяжении всей роли этих слов: "не могу". - Братцы, где моя гармонь?"
Мне передавали маленькую, почти детскую гармошку, на которой я тихо-тихо, одним пальцем, играл мотив:
Эх, шарабан мой - американка,
А я девчонка, да шарлатанка.
Васька вздыхал, гармонь отрывалась от одной руки, растягиваясь мехами, и лады издавали протяжный, замирающий звук...
Васька-Окорок был той счастливой ролью, которая стала переломной и помогла мне уверовать в себя. Я впервые так полно жил в роли, что мог делать в ней все, что захочу. Мог исключить себя из обстоятельств пьесы, поставить в совершенно иные условия и конфликты, и все равно продолжал бы оставаться Васькой-Окороком и действовать, как он, и говорить, как он, и поступать в каждом особом случае по его природе. И тогда я почувствовал себя счастливым хозяином роли.
Еще один сезон в провинции
Закончились два трудных, сложных, но совершенно необходимых для моей театральной практики и интереснейших, я сказал бы, сезона в Баку. Тянуло в Москву; не потому, что я особенно скучал без нее, а потому, что в Москве снимались фильмы. Вспоминались мои первые картины, увлекательная работа над киноролями, в которых я чувствовал в себе рождение какого-то нового актерского качества. Я еще не мог это объяснить, но понял, что без кино мне не жить. Поблагодарив за предложение остаться в Баку не только актером, но и попробовать силы в режиссуре, я поехал в Москву.
Не успел я оглядеться и отсняться в "Белом орле", как режиссер
A. Л. Грипич стал усиленно агитировать меня поехать на сезон в Казань.
- Подобралась творчески беспокойная и жаждущая играть актерская братия - Михаил Астангов, Павел Герага, Зинаида Минаева, Иван Бодров, да, пожалуй, все актеры интересные и молодые, даже старик
B. А. Сухарев, и тот молод. Поедемте, право, - вас-то нам и недостает. К тому же, если вы понадобитесь в кино, то тоже удобно. - Москва рядом! Ну, по рукам! Не забудьте, что Мейерхольд после ухода из Художественного начал строить свой театр в провинции. Едем!
Я подумал, что если стану работать только в кино, без театра будет ужасно тоскливо. Я тогда впервые ясно ощутил, что без театра я жить не могу, но и кино уже меня манило и искало.
С тех пор так и повелось: когда я отходил от театра и работал больше в кино, я скучал по театру, когда же я работал больше в театре, ужасно тосковал по кино. А. Л. Грипич было одержимым режиссером. Он необыкновенно увлекательно говорил о творческих перспективах, о том, как и ради чего он собирается строить новый театр. Он прекрасно знал, что происходит в провинции, знал ее сильные и слабые стороны, и тем не менее он искренне был убежден, что в провинции можно создавать великолепные спектакли, что провинция - это чудное место, где актер может бурно расти и творить. Эта несколько чрезмерная восторженность была мне близка и понятна, к тому же проверена собственным опытом в Бакинском рабочем театре.
Особенно меня привлекла репертуарная программа Грипича. Сезон должен был открыться "Бронепоездом 14-69", где я снова мог встретиться со своим любимым Васькой-Окороком, затем шли новые советские спектакли: "Рельсы гудят",
"Квадратура круга", "Огненный мост" - в общем играть было что. Не меньший интерес представляла для меня задача сыграть Епиходова в "Вишневом саде", Вово в "Плодах просвещения", Тихона в "Грозе". И уже совсем экзотично для меня - "типично русского актера", как говорил Грипич, -сыграть роль Людовика XI в "Соборе Парижской богоматери". Как видно, Грипич умел разговаривать с актерами.
Мы приехали в Казань, полные новых планов и веры в то, что Грипич - режиссер талантливый, понимавший задачи, стоящие перед театром и в столице, и на периферии, -добьется многого.
Если еще добавить, что рабочая атмосфера была доброжелательной, дружной, что каждая роль поэтому отделывалась очень тщательно, в нее вкладывался весь жар сердца и пыл молодости, если учесть, что ролей было много, то можно понять, что один сезон здесь стоил нескольких лет пребывания в театрах Москвы. Чтобы сыграть только казанский репертуар, который я перечислил, нужно просидеть в Москве не менее десяти лет. Я знаю сейчас, столько чудесных московских артистов, которым, как говорится, сам бог велел играть в полную силу, как мы когда-то играли в Казани с Герагой и Астанговым, и тем не менее они (да и мы, грешные) тоже десяток лет ждут новых ролей.
Казанский театр резко отличался от других периферийных. Сейчас периферия вообще другая. В последние годы мне часто приходилось там бывать, играя на гастролях с разными труппами в разных городах. Ничего общего с той прежней театральной провинцией сегодняшняя периферия не имеет. За годы Советской власти изменилась и сама периферия, изменились и актер, его взаимоотношения с людьми, его моральные качества, да и само слово "периферия" ныне уже не соответствует содержанию, звучит анахронизмом. Актер, работающий не в столице, как и столичный актер, это прежде всего гражданин, это товарищ актер, он и депутат Верховного Совета, и депутат местных органов власти, и коммунист -словом, полноправный член нашего большого общества. Тогда же все было молодо-зелено. Сегодняшние черты едва только прощупывались, а все, что было старого и дрянного в жизни провинциальной сцены - в смысле борьбы за существование, "подсидок", - лежало на поверхности.
Как, скажем, кончался раньше сезон в провинции?
За месяц - полтора до конца сезона нервишки у провинциального актера начинали пошаливать. Каждый ждал, получит или не получит конверт от директора театра. Если вы получили его, значит, вас приглашают на переговоры о работе в будущий сезон. Если вы за месяц до конца не получали такого пакета, то смело могли искать другое место. Более предусмотрительные актеры, учтя ситуацию, с середины сезона уже начинали переписываться с друзьями в разных городах, прощупывая возможности устроиться, а если и это не удавалось, ехали на биржу в Москву. Актерская биржа - это нечто кошмарное! Толпы людей, шум, гам: "Кому нужен Фамусов? Есть герой-любовник!".
В острой борьбе за существование слабый выжить не мог. Провинциального начинающего актера учили, как щенка, как мальчишку, которого бросают в воду и говорят: "Плыви! Выплывешь - молодец! Не выплывешь - не будет из тебя толку!".
Но барахтаться и отбиваться - мало. Одним нахальством тут не возьмешь! Нужно еще завоевать любовь зрителя, локти тут не помогут. Но если ты заслужил любовь зрителя, значит, ты не только отбился, но и получил реальную возможность смело разговаривать на театральном и житейском языке.
Так вот в Казани было иначе. Казань - город университетский. Казанская публика необыкновенно театральная. У театра много подлинных друзей, собственно, вся городская интеллигенция - друзья театра. Нас посещали за кулисами, принимали участие в обсуждениях наших
постановок и очень часто приглашали на дружеские встречи к себе. И это было проявлением не просто любви к театральному искусству, а необыкновенно горячего патриотизма по отношению к своему Казанскому драматическому театру.
Когда однажды на здании кинотеатра появилась реклама фильма "Белый орел", где было написано, что в главных ролях участвуют известные артисты: В. Э. Мейерхольд, В. И. Качалов и артист Казанского театра М. И. Жаров, меня пришла поздравить студенческая молодежь. Это было очень трогательно. Должен вам сказать, что необыкновенно щедрое к нам отношение очень волновало и ко многому обязывало.
Первые спектакли обычно принимались торжественно, нас задаривали цветами. Казанские зрители жали нам руки на улице, благодарили за новые спектакли. В Казани жила чудесная традиция - зрителям знакомиться с труппой, с любимыми артистами, завоевавшими признание. И к нам за кулисы приходили знакомиться старые театралы. Казанские театралы устраивали вечера, скажем, медиков в каком-нибудь медицинском институте, и приглашали артистов на чашку чая. Вас очень тепло встречали. Вы читали или играли сцены. Затем за чашкой чая велись творческие разговоры.
Вот однажды и меня пригласили принять участие в таком вечере. Откровенно говоря, я не находил в этих встречах особой прелести. Но мне сказали, что отказываться нельзя. Был приглашен также и Астангов. Мы с ним стали готовиться. Он решил читать Есенина, а я выучил два рассказа Зощенко, известную всем "Баню" и "Телефон". И тот, и другой рассказ я выбрал потому, что читать их было нестрашно: если забудешь, чего я больше всего боялся, публика сама подскажет.
Никогда мы так не волновались, как в тот вечер. Нам долго утюжили костюмы, наконец, нацепив белые галстуки, мы с Астанговым отправились, бледные и взволнованные. Это была наша первая встреча с казанским зрителем в интимной обстановке. Опыта таких встреч еще не было, и новые отношения между актером и зрителем только складывались.
Первым выступил Астангов. То ли от волнения, то ли от усталости, но, начав читать Есенина, он почему-то перешел на шепот. Из зрительного зала крикнули: "Громче!", он спросил: "Что?". Ему сказали: "Громче!", но у него пересохло в гортани. И он стал читать еще тише. На поклоны, конечно, не вышел.
Я видел весь этот ужас, и когда Астангову крикнули: "Громче!", у меня тоже вдруг язык прилип к нёбу. Первые три фразы рассказа я произнес еще бодро, а главное - громко, но потом вдруг язык окончательно перестал мне повиноваться, распух и заполнил весь рот. У меня сжались связки, из глаз покатились слезы. Я остановился и стал зачем-то глупо улыбаться. Размахивая руками и показывая на горло, пытался что-то сказать, но, кроме: "Гу, гу... Пе... пе...", ничего понять было невозможно.
В кулисах меня встретили люди со стаканом воды и какой-то пилюлей.
Астангова догнал на улице. Чай пили без нас...
Вероятно, сейчас, когда постоянные встречи с рабочими, колхозниками, учеными стали повседневными, никто из молодых актеров не попадет впросак. Но тогда для нас такие встречи со зрителем были внове, все было непривычно и вызывало трепет. Раздумывая о случившемся, мы с Астанговым пришли к выводу, что причиной нашего провала была неуверенность в себе. Так в цирке летающий акробат неминуемо сорвется с трапеции, если хоть на одно мгновение допустит, что может не поймать в воздухе руку партнера. Артист в цирке делает лишь то, в чем абсолютно уверен. А это достигается трудом. В театре мы точно знали, что надо делать, а здесь, на эстраде, все было ново, неосвоенно, и мы, потеряв привычную театральную самоуверенность, растерялись. Это было хорошим уроком. "Ни в коем случае, - решил я про себя, - не делать того, чего не знаешь наверняка, и не полагаться на авось"...
Казанский сезон дал мне ряд уроков. Васька-Окорок был мне знаком, я только продолжал шлифовать грани этого образа, созданного еще в Бакинском рабочем театре. А вот Епиходов в "Вишневом саде" был новой работой. В моей памяти продолжал жить знаменитый спектакль художественников, под впечатлением которого я находился всю свою юность. Самым драгоценным в нем был для меня именно Москвин - Епиходов. Я мог представить себе Москвина в этой роли по памяти во всех деталях. Как живой, он стоял перед моими глазами. И впервые я почувствовал, что это мне мешает. Я должен играть совсем по-другому, не просто из принципа, а потому, что я по-своему увидел Епиходова, когда прочел пьесу, причем пьесу я читал действительно впервые лишь в Казани. До сих пор мне казалось, что я ее знаю, - сколько раз я видел ее на сцене МХТ! Но прочитав пьесу своими глазами, я узнал ее как бы впервые и нашел новые отличительные черты образа.
Тем не менее в этой роли я оказался похож на Москвина. Когда мне принесли после премьеры фотографию, я увидел, что ужасно похож на москвинского Епиходова, хотя всячески старался отойти от него. Я поделился этой мыслью с режиссером, показав ему фотографию, и он мне объяснил, что я похож не на Москвина, а на Епиходова: "Да, да, на чеховского Епиходова, которого очень хорошо понял и раскрыл Москвин, - вот это вас и породнило". И действительно, внешне мы были абсолютно разными: Москвин маленького роста, я - высокий, он плотный, я худой и долговязый. Но какая-то внутренняя психологическая общность была очевидна.
После спектакля "Амба", где я играл разбитного матроса, одно появление которого на сцене вызывало оживление в зрительном зале, я с трепетом приступил к роли Людовика XI в "Соборе Парижской богоматери". Товарищи, побывавшие в Москве, рассказывали, с каким успехом играет эту роль в Малом театре Степан Кузнецов. Людовик в спектакле появлялся только в одной картине, в самом конце. Так вот, говорили товарищи, к этой сцене народу в зал набивалось битком. Приезжали специально смотреть Кузнецова. Я высказал свое опасение Грипичу.
- Да, я видел Кузнецова, он действительно имеет огромный успех. Но если мы будем бояться ставить спектакль, имеющий успех в другом коллективе, из-за того, что у нас нет равного артиста, мы должны закрыть театр! Да! У нас нет народного артиста Степана Кузнецова, но у нас есть молодой артист Жаров! Пусть он растет, пусть он играет хуже, но он должен играть. Так что играть вы будете.
То ли в этом была своя правда, то ли категорический тон режиссера меня успокоил, но после паузы я только спросил:
- Как он играет?
- Очень просто.
- Делает трюки?
- Нет, он очень долго молится и почему-то к концу в зрительном зале раздаются аплодисменты. Никто не может сказать, почему они возникают, но они возникают.
События с ролью Людовика разворачивались следующим образом. Поначалу я тоже стал очень долго молиться, но реакции не последовало. Тогда я подумал, что надо не просто молиться, а как-то особенно.
Потом спросил у Грипича:
- Как Людовик должен сидеть в кресле?
Грипич ответил:
- Как король.
- А как сидит король, наверное, не так, как мы, смертные?
- Так же - удобно сидит.
Я подумал: "Он же король, он может делать все, что хочет". И залез обеими ногами на кресло, потом, произнося монолог, сел на ручку, но и это не вызвало никакого энтузиазма в зрительном зале и абсолютно не помогло моему самочувствию.
Тогда я пришел к такой же великой, сколь и простой истине: попробовать сыграть так, как написано автором. Но ведь для этого надо, как минимум, прочесть роман Гюго - не пьесу, не инсценировку, а именно роман, подлинник, первоисточник. Как я мог это не сделать раньше? Почему молодой актер, получив роль французского короля, не взял тотчас книгу "Собор Парижской богоматери" и не прочитал ее от корки до корки? Почему? Ах, был занят другими делами, было некогда, решил вместо углубленной, сосредоточенной работы найти трюки, которые вызывали бы смех над комичным и страшным Людовиком, каким ты его себе рисовал? Был ли ты страшен, -не знаю, может быть. Но наверняка знаю, что смешон не был, ибо зрительный зал остался равнодушен. А не кажется ли тебе, что затасканные штампы ты самоуверенно хотел выдать за мастерство? Да, так оно и было, в чем я с огромной горечью должен был признаться сам себе и по большому секрету Грипичу.
К тому времени, когда я прочитал книгу, спектакль шел реже и особого успеха не имел. Но меня это не волновало. Мне было важно, что я получаю от новой работы над ролью огромное творческое удовлетворение и приобретаю немалый самостоятельный опыт. В Людовике я поборол самого себя, собственную слабость, желание пойти по легкому пути. И я боролся за роль до конца, боролся для себя, чтобы быть честным перед самим собой. Я отбросил трюки. И хотя я так же, как прежде, сидел в кресле, забравшись в него с ногами, но уже не думал, так или не так сижу. Мне стало удобнее вести диалог, и все внимание я перенес с того, как я говорю, на то с кем и почему.
Если я задумывался над своей интонацией или жестом, то отбирал их уже на основе верного самочувствия. Когда я нашел внутреннюю линию образа, то многое внешнее отпало, а то, что осталось, соединилось с моим внутренним состоянием и стало органичным. Это была необычайно ценная для меня работа и эволюция в образе. Но когда образ вошел в рамки нового и, как нам с Грипичем казалось, очень оригинального, своеобразного рисунка, то есть, когда мы почувствовали, что работа не пропала даром, сезон кончился.
И тут я с группой товарищей бежал из Казани в Москву, потому что устал не только физически (хотя мы были молоды и могли работать бесконечно много), - от количества ролей я измотался духовно. Я понял, что все наши первые приемы и находки неминуемо должны были превратиться в штампы, ибо времени для новых поисков у нас не предвиделось. Мы не успевали свести концы с концами в одной роли, как должны были приступить к работе над следующим спектаклем.
rn ч_/
Трудный год в реалистическом театре
Не помню, кто из зарубежных деятелей театра 20-х годов сказал, что Москва тех лет по богатству художественных достижений, по смелости театральной мысли, разнообразию талантов и направлений была поистине театральной Меккой XX века. Это хорошо чувствовали мы - поколение, рожденное великим Октябрем, - и гордились этим.
Работая в провинции, мы постоянно ощущали прибой московской театральной волны. Нырнуть в эту волну, ощутить ее свежесть было настоятельной потребностью. После сезона в Казани и перед вторым приездом в Баку я на сезон вновь окунулся в московское море.

|
|
Бакинский Рабочий театр. Рабочий-сезонник Михалка в 'Темпе'. Работа над этой ролью сблизила меня с автором пьесы Н.
|
Погодиным на долгие годы
Вот я снова в Москве. Там меня ждало письмо с очень милым и трогательным обращением: "Дорогой друг!..". И дальше сообщалось, что меня просят встретиться с руководством Четвертой студии МХАТ для выяснения "возможностей совместной работы" в театре, который имеет и второе название - "Реалистический".
Основателем студии и ее главным художественным руководителем был М. М. Тарханов. Обаяние этого замечательного артиста, предвкушение возможности встречаться с ним по работе на сцене, а также подпись, стоявшая под приглашением: "Ждем! В. Федоров", сразу определили мое решение работать в этом театре.
Четвертая студия состояла из очень маленького, но сыгранного и дружного коллектива актеров. Входить в этот хорошо слаженный коллектив было по-своему трудно. Трудности эти отличались и от бакинских, и от казанских, которые мне довелось, к счастью, разрешать не в одиночку, а с группой актеров-единомышленников. В Четвертую студию я вступал в середине сезона, один, как перст. Правда, заместителем Тарханова по художественной части был В. Ф. Федоров, а главным художником - Илья Шлепянов, то есть мои друзья.
 Бакинский Рабочий театр. Я люблю эту роль, этого деревенского Ваську Окорока, который был полон неистощимой энергии ('Бронепоезд 14-69' Вс. Иванова)
Бакинский Рабочий театр. Я люблю эту роль, этого деревенского Ваську Окорока, который был полон неистощимой энергии ('Бронепоезд 14-69' Вс. Иванова)
Первой работой Федорова и Шлепянова в студии был спектакль "Норд-ост" по пьесе Д. Щеглова, которым они уже успели заслужить доверие и любовь труппы. Спектакль шел часто, имел огромный успех. В основных ролях были заняты артисты Сергей Морской, Николай Плотников, Ольга Матисова,
Вячеслав Новиков, игравший американского дядюшку Джеффера. В эту роль мне и предложили войти. Артисты очень дорожили своим спектаклем, привыкли друг к другу и ревниво отнеслись к новому исполнителю. Особенно насторожились они, зная, что я мейерхольдовец, а следовательно, противник метода Художественного театра, которым актеры Реалистического особо кичились, всячески подчеркивая свое мхатовское происхождение. Вряд ли у них были к тому особые основания. Ведь спектакль ставил тоже мейерхольдовец Федоров и оформлял опять же мейерхольдовец Шлепянов.
Да и все художественное решение "Норд-оста" было весьма далеко от канонов МХАТ. Играли не в привычных для него бытовых декорациях, а на откровенно условных площадках, укрепленных на металлических стойках. Три - четыре площадки были подвешены на разной от пола высоте. На них-то поочередно и развертывалось все действие пьесы.

|
|
Бакинский Рабочий театр. В спектакле 'Первая Конная' Вс. Вишневского я играл Бойца в малиновом галифе
|
Условность сценической конструкции не освобождала актера от необходимой строгости реалистических форм. Наоборот, актер оставался один на один со своими переживаниями, за которыми следил зритель, и не мог спрятаться, раствориться, как он привык, в натуралистическом павильоне. Все внимание таким образом сосредоточивалось на актере, на развитии внутреннего конфликта.
Площадки помогали быстрому переходу от одной сцены к другой. Весь спектакль был разбит на картины, и это придавало действию стремительность, напоминавшую кинематографическую смену кадров.
 Бакинским Рабочий театр. Пикалов (Любовь Яровая К. Тренева). Желание разобраться в происходящих событиях и недоумение оторванного от земли крестьянина - все это я
должен был передать
Бакинским Рабочий театр. Пикалов (Любовь Яровая К. Тренева). Желание разобраться в происходящих событиях и недоумение оторванного от земли крестьянина - все это я
должен был передать
Артисты, воспитанные в духе психологической школы, играли вполне реалистически, режиссер и не требовал от них ничего другого, хотя и заставлял их действовать на фоне условной выгородки. Актеры мастерски преодолевали непривычные сложности, сохраняя при этом внутреннюю линию поведения персонажей, психологически оправдывая сложно построенные мизансцены.
Но сумеет ли сочетать это мейерхольдовец Жаров? Не разрушит ли он сценическую иллюзию, не пожертвует ли психологизмом ради трюка? Хотя внешне мои новые партнеры по репетициям были вежливы, но на самом деле в каждом их жесте и движении чувствовалось неприятие. Мне честно подавали реплики, но с некоторым холодком и пристальным прищуром. Мне предоставляли возможность свободно передвигаться по сцене, но тут же напоминали, что делал в данном случае предыдущий исполнитель. Когда я вносил что-то свое в рисунок роли, партнеры смущенно останавливались, беспомощно разводили руками и смотрели на режиссера, будто говоря: "У нас такого не было".
 Бакинский Рабочий театр. 1931 г. Юбилей Бакинского рабочего театра был отмечен спектаклем 'Севиль' с участием знаменитой артистки Марзип Давудовой, создательницы роли Севили в Азербайджанском театре. Я играл Атакиши
Бакинский Рабочий театр. 1931 г. Юбилей Бакинского рабочего театра был отмечен спектаклем 'Севиль' с участием знаменитой артистки Марзип Давудовой, создательницы роли Севили в Азербайджанском театре. Я играл Атакиши
Но Василий Федорович терпеливо объяснял:
- Вячеслав Новиков играл по-своему, а Михаил Жаров будет играть по-своему, чему же вы противитесь - это ведь в системе МХАТ. Давайте вместе посмотрим и решим, что вернее. Роль трудная и для пьесы очень важная.
В общем они почувствовали, что я сопротивляюсь старой трактовке, отстаиваю свое видение образа, отстаиваю тем более упорно, что образ дядюшки Джеффера был предельно ясен. В результате, судя по тому, как позже эти же самые артисты, товарищи по сцене, пожимали мне руки, я понял, что был принят в дружную актерскую семью.
 Бакинский Рабочий театр. Сцена в домзаке из спектакля 'Вредный элемент'. Сидят: (справа налево) Н. Соколов, А. Стешин, Николай Волков, А. Шувалов; на полу - И. Липштейн,
стою я
Бакинский Рабочий театр. Сцена в домзаке из спектакля 'Вредный элемент'. Сидят: (справа налево) Н. Соколов, А. Стешин, Николай Волков, А. Шувалов; на полу - И. Липштейн,
стою я
Меня, уже битого и ученого, это радовало по двум причинам: во-первых, я не провалил роль и стал основным ее исполнителем, во-вторых, добился этого, не совершая сделки с совестью, не заискивая и не лицемеря, а честно отстаивая свой взгляд на творчество.
Мы зажили дружно, сердца растаяли, и работа пошла полным ходом. Я приобрел новых друзей.
 Бакинский рабочий театр. ...Условная декорация давала повод к условным мизансценам, но игра актеров была безусловно реалистической. Лиза - А. Сальникова, Молчалин - Мих. Жаров
('Горе от ума' А. Гоибоедова)
Бакинский рабочий театр. ...Условная декорация давала повод к условным мизансценам, но игра актеров была безусловно реалистической. Лиза - А. Сальникова, Молчалин - Мих. Жаров
('Горе от ума' А. Гоибоедова)
Критика оценила "Норд-ост" как новый шаг в эволюции Реалистического театра, как спектакль "на грани прошлых ошибок и новых достижений". В советском театре велась упорная борьба за современный репертуар, отражающий сегодняшний день новой России, С этих позиций выбор пьесы представлялся спорным, идея - малопонятной, но художественное решение спектакля признавалось оригинальным, свидетельствующим о плодотворных поисках Четвертой студии.

|
|
Бакинский рабочий театр. На заднем плане видны площадки -это весы, на которых стояли Чацкий и Молчалин во время
монолога Софьи
|
Я и Фельдкурат Кац
Интересной работой студии был "Бравый солдат Швейк" в постановке мхатовца Л. А. Волкова. Талантливый, с огромной выдумкой, требовательный, точный и четкий актер. Волков выявил в этом спектакле лучшие черты своего дарования. Он обладал замечательным качеством - восприимчивостью к новому; работая в академическом театре, он не считал себя "академиком", не считал, что раз найденное нерушимо и свято для всех и вся. Леонид Волков был очень пытливым человеком с острым глазом и большим чувством юмора.
Инсценировка по роману Я. Гашека состояла из эпизодов: ведь в "Швейке" нет стройно развивающегося сюжета. Отдельные остроумные новеллы можно переставить местами, и от этого ничего не изменится.
 'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
Для оформления спектакля Волков пригласил Шлепянова, который был поистине неисчерпаем. Он проявил всю свою незаурядную изобретательность, чтобы организовать многоэпизодный (тридцать один эпизод) спектакль на крохотной сцене. Художественный вкус сочетался у Шлепянова с трудолюбием и энциклопедическими знаниями -это был не только талантливейший художник, но и преданный друг актера.
Мы с ним были близкими друзьями. Сколько доводов, убеждений, сколько темперамента и страсти было нами израсходовано в дружеских спорах. С непокорной шевелюрой, с отросшей до глаз щетиной, он, как "би-ба-бо", смотрел доверчиво и дружелюбно на меня своими круглыми, как черные пуговицы, глазами, слушая и готовясь дать отпор. В моем актерском формировании он сыграл большую роль.
 'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
Тот, кто не бывал в Четвертой студии, должен себе представить, что она помещалась в нынешнем здании Центрального театра кукол под руководством С. В. Образцова. Сцена размером всего десять шагов в ширину и почти столько же в глубину. И тем не менее Шлепянов сделал великолепную декорацию, детали которой на глазах у публики мгновенно деформировались и превращались в обстановку для следующей картины.
Декорация Шлепянова раскрывала внутреннюю сущность Швейка характерными деталями, определявшими юмористическую тональность эпизодов, и помогала наполнить глубоким социальным смыслом содержание всего спектакля.
 Казанский Большой драматический театр. Васька Окорок был знаком мне, я только продолжал шлифовать грани этого образа, созданного еще в Бакинском рабочем театре. В пьесе 'Бронепоезд 14-69' играл я вместе с П. Герагой
Казанский Большой драматический театр. Васька Окорок был знаком мне, я только продолжал шлифовать грани этого образа, созданного еще в Бакинском рабочем театре. В пьесе 'Бронепоезд 14-69' играл я вместе с П. Герагой
Трудно было расчленить творчество художника, режиссера, актера я композитора в этой чудесной постановке.
Центральным местом спектакля, о котором быстро узнала вся театральная Москва, стал трюк, изобретенный Шлепяновым. Леонид Волков хотя и был воспитан как режиссер в системе Художественного театра, но очень охотно пошел на шлепяновскую выдумку.
Знаменитый трюк заключался в следующем. В тюремной часовне фельдкурат Кац произносил перед арестованными проповедь. Он стоял на кафедре, а за его спиной находилось огромное распятие Иисуса Христа.
1бсвж ете*м. гыФутмы
Колонки* 3*Л Д0А4 Соююа.
5
€*Я е*и*я. (ввЛ>ял§ШО
11 ^ сентября
WWUhw CRtKTIRIb ttUfi-PU
тт м CIMMI
p. e. ф. c. p
hrnriKCMmcjn ммч
ктшпы-ое
глк c иелмтвчк*?*-
ю*Ыги ritrut
.--- ■
‘П
I ПРОГРЛККЛ. I
ФЕР ДИНЯИДОВ-ШЕРШСНСВИМ
ЭДИП-ЦАРЬ
ПРОГРАППЯ.
Постанови* К К ЭГГЕРТ
Му
С JTabfiol*
>МИЬЯЧ1
БУРЯ
у рокгя
£ hr Швм/*Ш4
играют актера» ==
шш щт wKiraKrtte^
ц т и
г
ии-Мм Ъг)и'1>и'■ • hfc-'мам hr»**:*
гми кгакгиа
1««я BjUaeatM Cj*ea* Яма
Ш. б ВОЛЬЕР
пещаннн в дворянстве
3-1 Meta Л*нк
«ш
Г-а ,
П\7а1
• па р
ела л>г+-
ШШ >ГС«1Г|<Я9Я
Pat*aM«*aj С
t. ItaatuiaiM. в ».
Ш. Мпш
*<ут
I I. >r*f■
iaanH'Mj.
-Т>»а if.
г;а> »-.;6чрйии.' в
й******}
■ааммяв
Н^О»Ь. Car а .а 11 ЖгГ*ам<
ея»г> а
У'*’*"» тач.»
Учи rant f-
?
чА гп»|
1В«И
■hi
'•Н*«мк
WIK
Malta*
lici
»«u..p >К— JK /
з— ....
м * »w
u*( -arr Рм>(|(«.
Афиши спектаклей Буря, Мещанин во дворянстве, Эдип-царь . Рогожско-Симоновский рабочий театр имени Сафонова
Сцена начиналась с песенки, которую вечно пьяный фельдкурат распевал с кафедры перед шеренгой арестантов.
Арестанты в одном нижнем белье стояли спиной к публике и, по уставу, "ели глазами начальство", то есть фельдкурата Каца, а заодно и Христа на кресте.
Кац, зажмурив глаза, вдохновенно пел, внимая себе, как тетерев на току:
Одна девица мне всех милей,
Но не один хожу я к ней.
Многих вижу я,
Идущих туда,
О любви ее моля!
Кто же девица сия?
Пре-чи-ста-я де-ва Ма-рия-я!
- гнусавил он, заканчивая песню. Арестанты шумно вздыхали и хрипло шептали: "Бис". Растроганный Кац
говорил: "Разве вам когда-нибудь выучить такую песенку? Нет! Расстрелять вас всех! Кайтесь, кальсонщики!".
 Казанский Большой драматический театр. Афиши спектаклей группы театральной молодежи, гастролировавшей в рабочих
клубах
Казанский Большой драматический театр. Афиши спектаклей группы театральной молодежи, гастролировавшей в рабочих
клубах
Арестанты шумно сморкались, оплакивая свою бесталанность. Тогда Кац патетически восклицал: "Плачьте, братья! И заметьте себе, скоты, что вы люди и бог ваш отец. Сукины вы дети! Так молитесь ему!".
Арестанты падали, "плача и стеная", на колени, кланялись распятому Христу.

|
|
Афиши спектаклей Любовь Яровая и Женитьба работы худ. И.
Ю. Шлепянова. Бакинский рабочий театр
|
И вот в это мгновение Иисус Христос, висевший на кресте, вдруг начинал нетерпеливо чесать одной ногой другую. То ли его кусали мухи, то ли он ежился от "молитвы" Каца!
Арестанты смеялись, бравый фельдкурат, не понимая, в чем дело, орал: "Чему вы, ослы, ржете, как жеребцы?". Хохот нарастал, Кац оглядывался, а Христос замирал. Так повторялось два или три раза. Зал содрогался от восторженного гула.
Дело в том, что на кресте был "распят" артист, на долю которого выпадала очень трудная задача: в течение всего эпизода в часовне (не менее десяти минут) висеть на кресте загримированным буквально с головы до пят, с закрытыми глазами, не выдавая секрета даже движением ресниц. Это было тем более трудно, что, как только открывался занавес, зрители частью понаслышке, а частью по программе, где было написано, что Иисуса Христа играет артист Котовщиков, шептали друг другу: "Смотри на Христа, он живой".
 Блямбин - М. И. Жаров ('Миллион наличными' Ю. Н. Потехина)
Рисунок худ. С. М. Ефименко
Блямбин - М. И. Жаров ('Миллион наличными' Ю. Н. Потехина)
Рисунок худ. С. М. Ефименко
И тем не менее артист не выдавал себя ни одним, даже самым малым движением, он так замирал на кресте, что трюк каждый раз встречали громом аплодисментов.
За кулисами по поводу "игры" Котовщикова иные актеры и актрисы изощрялись в "остроумии", вроде: "Саша, ты сегодня великолепно /кил в роли мертвого Христа".
В этом трюке отразился основной принцип постановки: раскрыть большой внутренний смысл через преувеличение бытовой детали, через гротеск.
Критика писала: "Отдельные сцены, как, например, сцена с крестом, попросту являются своего рода "находкой", настоящим театральным изобретением".

|
|
Афиша спектакля 'Бравый солдат Швейк' Московский
реалистический театр
|
Гротеск был правильно понят нами как острая внешняя характерность, исчерпывающе выражающая внутреннее содержание. Поняв это правило, я в роли фельдкурата Каца тоже строил образ на броских характерных бытовых деталях. Они, однако, не имели ничего общего со стремлением к натуралистическому правдоподобию, а выражали сущность "честного фельдкурата", который, напившись, мог просить своего денщика Швейка:
"Дорогой друг, дайте мне по уху!.. Так, хорошо, очень хорошо! Это способствует пищеварению! Эх, хорошо! Дайте еще раз... по морде!"
"Еще раз?" - спрашивал Швейк.
"Нет. Сыт... по горло!" - восклицал Кац.

|
|
Домоуправ - М. И. Жаров ('Зойкина квартира' М. А. Булгакова)
Рисунок зрителя
|
Кто-то из актеров во время репетиций высказал сомнение: "Все, мол, это интересно, но - гротеск! А у нас все-таки хоть и Четвертая студия, но МХАТ". Волков на следующую репетицию принес книгу и прочитал слова К. С. Станиславского: "Подлинный гротеск - это полное, четкое, меткое, типичное, всеисчерпывающее, наиболее простое внешнее выражение большого, глубокого и хорошо пережитого внутреннего содержания роли и творчества артиста. В таком переживании и воплощении нет ничего лишнего, только самое необходимое".
- Как видите, - захлопнув книгу, сказал Леонид Андреевич, -и великий реформатор сцены - за сгущение красок, за смелый рисунок сценического гротеска. Если он оправдан, давайте работать смело и вдохновенно! А кто боится, кто прячется за раз уже найденное, того я могу и освободить!
Мы ответили ему аплодисментами. И поэтому было необыкновенно приятно, когда, открыв однажды театральную газету, я прочел статью критика В. Блюма "Еще о Швейке", в которой он подтверждал, что наш общий замысел вполне дошел до зрителя.
Публика проявляла к спектаклю огромный интерес, билетов не хватало. Николай Плотников был блестящим исполнителем роли бравого солдата. Позже, когда возникла целая галерея исполнителей роли Швейка, Плотников благодаря своему острому уму и добродушному юмору оставался все же лучшим Швейком.
Летом наш театр перебрался в бывший "Мюзик-холл", где мы сыграли пятнадцать спектаклей "Швейка" подряд.
 Бравый солдат Швейк по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
Бравый солдат Швейк по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
Случилось так, что последний месяц сезона прошел не только в творческих, но и в общественных баталиях, которые еще теснее связали меня с коллективом театра. Дело было в том, что, несмотря на огромный успех двух постановок театра -"Норд-ост" и "Швейк", несмотря на то, что пресса продолжала отмечать "несомненный рост Реалистического театра", в самом театре оказались противники "крикливого новаторства". Те люди, к которым, по существу, и относились слова Л. Волкокова на репетиции: "Кто прячется за раз уж найденное, того я смогу освободить", начали склоку, а как известно, в склоке участвует не тот, кто трудится, работает, творит, - ему некогда этим заниматься,- а те, которые ничего не хотят делать. Всеми правдами и неправдами они создали такое положение в театре, что сначала, Тарханов, а вслед за ним и Федоров, главный режиссер, были вынуждены отойти от руководства театром. Ушел и Шлепянов. Вместо умных, талантливых и высокообразованных художников к руководству пришли чужие и случайные люди.
Новое руководство ничего не поняло в происходившем и вскоре восстановило против себя весь творческий состав и обслуживающие цехи. В довершение всего вскрылась полная бесхозяйственность. И вот тогда вырвался наружу общественный темперамент коллектива. Мне как председателю производственной комиссии месткома поручили возглавить борьбу против злоупотреблений нового руководства. Вместе с группой товарищей мы с головой ушли в проверку выполнения репертуарного плана, выполнения решений месткома и художественного совета, в проверку деятельности администрации и в составление документов, которые только одними фактами могли бы даже неискушенному человеку воочию показать, что новое руководство не оправдало свое назначение и что театр как коллектив может развалиться. Эта проверка возымела свое действие.
Самым старательным человеком нашей бригады, самой внимательной и трудолюбивой среди нашего актива была старейшая актриса М. Л. Роксанова, первая исполнительница роли Нины Заречной в Московском Художественном театре.
 'Бравый солдат Швейк' по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
'Бравый солдат Швейк' по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
Акт, который мы составили, был зачитан на общем собрании труппы в присутствии представителей советских и партийных организаций района, и в открытом бою против бюрократизма и карьеризма нами была одержана первая вдохновляющая победа.
Борьба с бюрократизмом еще больше сплотила наш здоровый коллектив, но, потеряв своих художественных руководителей, театр все же не смог долго просуществовать. Он был передан Н. П. Охлопкову.
Когда я объявил своим товарищам, что на новый сезон опять еду работать в Баку, слова сожаления моих новых друзей, я чувствовал, не были только словами. Мне были устроены сердечные проводы и как актеру, близкому им по духу, и как общественнику.
 Во время проповеди фельдкурата Каца Христос на распятии в
смущении потирал ногой ногу
Во время проповеди фельдкурата Каца Христос на распятии в
смущении потирал ногой ногу
...Интересно устроен человек! В Москве за один сезон я сыграл две новые роли. Казалось бы, нашел то, что искал: передо мной был театр, в котором я мог спокойно и творчески продолжать работу. Но все-таки это были всего-навсего только две роли, и после напряженной работы в Баку п Казани я стал страдать от нерастраченных сил и кажущегося безделья. Когда на долю актера выпадает сразу слишком много ролей, его подстерегает неминуемая опасность заштамповаться, но если у актера мало ролей, то это ведет его к творческому застою, рождает леность. И чувствуешь, как медленно угасают желания и фантазия. Мириться с этим - творческая смерть!
И вот в сезон 1929/30 года я снова приезжаю в свой -ставший уже родным - Бакинский рабочий театр.
Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что я совсем ничего не говорю об отдыхе? Ведь человек должен же иногда отдыхать. Мне это было незнакомо. Мне казалось безумным расточительством, чтобы молодой здоровый человек, каким я был, полный творческого горения, мог расточать свое время, свои годы, такие дорогие и так быстро бегущие день за днем, на какой-то бессмысленный, как мне казалось, отдых. Поэтому между сезонами я снимался. Вот почему я успел за свой довольно длительный жизненный путь сняться почти в восьмидесяти картинах. Пусть там были и маленькие, и средние, и всякие роли, но если это было увлекательно, - я снимался. Меня обуревала жажда работы, и об этом мы будем говорить особо и позже. Это будет тот момент в моей творческой жизни, когда кино и театр тесно переплетутся между собой, не отбирая силы один от другого, не истощая их, а, наоборот, накапливая и взаимно обогащая и отшлифовывая мастерство актера. То самое мастерство, которое в те далекие годы я только-только начинал ощущать, ибо чтобы стать настоящим, подлинным мастером, мало одной жизни.
Снова в Баку
Итак, я снова приехал в Баку, соскучившись по напряженной работе, сознавая, что еще не все получил от периферии и не всей ей отдал.
Главным режиссером в Баку был тогда другой мой товарищ по мейерхолъдовскому периоду С. А. Майоров, очень смелый экспериментатор и талантливый художник. Театр к тому времени имел уже хорошую репутацию как театр новаторский, резко покончивший с традициями старой провинциальной сцены. Дух нового, который наша группа принесла с собой в Баку три - четыре года назад, победил здесь окончательно. Однако не обошлось и без крайностей.
Первой программной постановкой этого сезона было "Горе от ума" Грибоедова. Сергей Майоров и молодой художник Сергей Ефименко сделали одну из самых заумных и ультрасложных постановок грибоедовской комедии, которую мне когда-либо доводилось видеть. В погоне за ложнопонятым новаторством они оказались большими католиками, чем папа римский. Неуемная фантазия Майорова разыгралась в этом спектакле безудержно.
Я играл Молчалина, Александров - Чацкого, Сувирова -Софью, Сальникова - Лизу, Стешин - Фамусова. Работа над спектаклем началась как "во всяком приличном доме". Нам прочли лекции о декабристах, о Грибоедове, мы изучали работы литературоведа Н. К. Пиксанова... Но когда вышли на сцену, все пошло кувырком. В знаменитом диалоге Чацкого с Молчалиным, который всегда отлично слушается зрителем, режиссеру показалось, что одного грибоедовского текста мало. Надо обострить их поединок физическими действиями. И на одной из репетиций он заставил нас "выйти на волю, в сад" и вести свой диалог, бросая друг в друга снежки. Мне всегда нравится пробовать озорно и смело, а не вышло - не беда! Снежки были сделаны из ваты заранее и сложены в кучу.
Мы стояли "в снегу" в зимних черных накидках и скорее были похожи на Онегина и Ленского, чем на Чацкого и Молчалина. После ударной реплики то я, то Александров кидали друг в друга белый комок. Я ловко изворачивался от снежка Чацкого и, выполняя указания режиссера: "сшибай, сшибай с него цилиндр!", - умудрялся порой попадать в головной убор Чацкого. Так и играли эту сцену в спектакле. Но я уверен, что, если бы спросили публику, о чем мы разговаривали в этой сцене, она не смогла бы передать, но зато точно знала, сколько раз Молчалин сбил цилиндр с головы Чацкого.
Верхом режиссерского озорства в этом спектакле была сцена, когда Софья рассуждает о Молчалине и Чацком, взвешивая их пороки и достоинства. Она произносила свой монолог на нижней площадке сцены, а на верхней площадке, в глубине, справа от нее стоял Чацкий, слева - Молчалин. Метровые квадраты паркета, на которых мы стояли вдруг начинали подниматься и опускаться, как чаша весов, в зависимости от того, к кому склонялась в своих рассуждениях Софья. Этот лобовой иллюстративный прием казался нам очень интересным и новым. Тем более, что, когда весы поднимались, нарочито обнаруживался весь их грубый механизм.
Но мы стали замечать, что зрительный зал вдруг замирает и весь превращается в слух в тех скромных и проходных, как нам казалось сценах, где все было спокойно, где отдыхала режиссерская выдумка. И актеры, отдавшись целиком чудесному грибоедовскому тексту, с наслаждением играли в удобных, немудреных мизансценах, забывая о всяких "весах" и "снежках". В этом была великая мудрость зрителя. И, странное дело, спектакль шел часто и при переполненном зале. Чудесный бакинский зритель был внимателен к нам и терпеливо сносил наши творческие поиски, эксперименты.
После Молчалина я отдался работе над "Первой конной" Вс. Вишневского. Здесь все было мне любо и мило: и рваная раздробленность драматургии Вишневского, и грубая правда характеров, и сочный народный язык, и образы людей, каких я знал и видел. Театр хорошо понял пьесу и с огромным успехом ее поставил. Я играл в этой пьесе две роли, как и большинство других актеров: анархиствующего солдата и бойца-буденновца. Если в первой роли я недалеко ушел от других исполнителей стереотипного образа лихого фронтовика, то на второй роли я отыгрался с лихвой. Это была маленькая, сюжетно законченная сцена в теплушке, когда солдат-буденновец, едущий в отпуск с фронта, ухаживает за молодкой. Он рассказывает ей, как красные занимали Ростов и били Деникина.
Сама по себе эта сцена является великолепной новеллой писателя Вс. Вишневского, написана она необыкновенно живо, с сочным, народным юмором и в отличном темпе. Простая по замыслу и сюжету, эта сцена как бы рождена для эстрады. Ее очень часто читал великолепный актер Дмитрий Орлов. Но он рисовал образ буденновца несколько патетически,
возвышенно, в героическом плане. Я же нашел совершенно другой ключ к образу. Героику я взял на вооружение, и она помогла мне обольстить молодку. Мой веселый,
жизнерадостный солдат-буденновец спал и вдруг, открыв глаза, видел перед собой красивую молодку. Встрепенувшись, надвинул буденновку на вихры, надел перчатки и пошел в "атаку". Как ее обольстить? Решил - рассказами о своих подвигах. Иллюстрируя атаки и наступления конницы, он ловко и точно - по смыслу текста - то обнимал молодку, то ласково поглаживал ее. Зал заливался от смеха. С этой сценой я потом смело вышел на концертную эстраду и играл ее пятнадцать лет подряд.
...Сезон 1929/30 года был для Бакинского рабочего театра юбилейным.
Под звуки гимна торжественно взвился занавес на сцене в праздничный вечер, зрители и артисты, горячо аплодируя друг другу, встретились лицом к лицу.
Мне со сцены были видны восторженные лица в зале. Я видел, как блестели глаза людей, когда они смотрели на любимых актеров, когда узнавали в них полюбившихся героев спектаклей, как аплодировали тогда с новой силой. Артисты же сидели на сцене со скромным достоинством, словно именинники в ожидании подарков.
Особенно бурно приветствовали А. Ф. Сальникову. Ее любили все. Она, молодая, красивая и стройная в великолепном красном платье, стояла строго, как на часах, со знаменем театра в руке. Театр в день его десятилетия наградили орденом Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР. Все было торжественно и сердечно.
А через два часа спектаклем "Севиль" Дж. Джабарлы началась юбилейная декада отныне уже Бакинского рабочего краснознаменного театра, объединявшего в этом спектакле азербайджанскую и русскую труппы. Севиль играла выдающаяся актриса азербайджанского театра Марзия Ханум
Давудова. Я волновался ужасно, мне пришлось играть отца ее мужа, старого азербайджанца, смело вступившего на защиту угнетенной невестки. Но первый выход локазал, что все свое волнение я спокойно могу переключить на роль. Приняли меня хорошо, весело.
Все это я вспомнил, когда приехал с Малым театром на гастроли в Баку летом 1964 года. Собственно говоря, я не приехал, а прилетел, сев в Москве в пять часов дня и уже через два с половиной часа прибыв, в Баку - два с половиной часа, подумать только! В 1926 году этот перелет занял у меня сутки, и это считалось необыкновенно быстро. А теперь - чудо, сказка! То же самое произошло и с городом, и с промыслами. Я уже с самолета видел целые острова вышек на железных сваях города в море, тянущиеся с берега ажурные эстакады, и вспомнил, как мы ходили на набережную с удивлением смотреть, как недалеко от берега опускали свои ноги в воду первые одинокие вышки. Тогда, тридцать три года назад, это было диво...
Город преобразился неузнаваемо. Он украсился новыми бульварами и набережной, широкими европейскими улицами и новыми кварталами, удобными, уютными гостиницами и открывшейся для взора многочисленных туристов, как бы снявшей с себя чадру, Девичьей башней. Одним словом, это был тот случай, когда я почувствовал, что прошедшие годы меня состарили, а город омолодили. Зрители меня встретили как земляка. На аэродроме старый друг по театру крепко обнял и сказал: "Аи, яй, яй! Какой широкий ж плотный стал, а у нас был стройный и красивый. Аи, яй! Ждем тебя, вспоминаем, ходим в кино спасибо сказать".
Когда объявили по окончании гастролей - на Празднике воссоединения, - что мне присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР, я, так же как и в тридцатом году ощутил себя именинником и так же заволновался...
А в том сезоне, как ни печально в этом признаваться, я вдруг увидел, что горение, которое характеризовало работу этого театра, когда я впервые в него попал, которое меня и удерживало и привлекало, стало ослабевать. К тому же крепкая ниточка, которая связывала меня с кинематографом, стала толстой веревкой, все упорнее и сильнее тащившей меня обратно в Москву. И я распрощался с Бакинским рабочим
театром, хотя у меня сохранились о нем навсегда самые лучшие воспоминания.
Снова в Москве, но куда?
Я приехал в Москву на съемку очередной картины, еще не зная того театра, в котором буду работать. Было много планов, много желаний, исполнимых и неисполнимых. Но в общем я был молод и не очень волновался.
Однажды утром меня разбудил телефонный звонок моего друга по Баку Ф. Г. Раневской. Она к тому времени была уже актрисой Камерного театра.
Раневская сказала, что мною интересуется А. Я. Таиров.
- Простите, Фаина Григорьевна, я не совсем вас расслышал. Из Камерного театра? Таиров?
- Да, Именно он.
- Зачем я ему нужен? Что я там буду делать?
- То же самое, что и я. И вообще не валяйте дурака, если вам позвонят и пригласят на переговоры, ни в коем случае не отказывайтесь. На минуту забудьте, что вы мейерхольдовец, и не проявляйте, пожалуйста, в данном случае дурацкой принципиальности, - убеждала она меня.
Я сказал: "Хорошо, постараюсь!" и начал уже было
настраивать себя на встречу с Таировым, как раздался другой звонок, который меня хотя и обрадовал, но все же нарушил душевный покой. Звонили из Театра имени МГСПС, от Е. О. Любимова-Ланского. Мне сообщили, что он хочет со мной встретиться на предмет возможной работы в его театре.
Воистину, как говорят, не было ни гроша, да вдруг алтын.
К вечеру позвонила секретарь Таирова Р. М. Брамсон и сказала, что Александр Яковлевич просит, если мне удобно, встретиться с ним завтра, в одиннадцать утра. Я ответил, что непременно приду.
Положив трубку, я задумался...
Вспомнил, что, когда мы работали с Мейерхольдом, а еще раньше с Комиссаржевским, у нас установилось определенное отношение к Камерному театру как к нашему антиподу.
Собираясь вечерами, мы, молодежь, с пеной у рта доказывали преимущества одной театральной школы перед другой.
И если я в те годы мог со знанием дела спорить о МХТ, о его Первой студии, о других театрах Москвы, то о Камерном театре я еще не имел своего мнения.
Тогда же я решил его выработать.
В ту пору театр Таирова находился на Б. Никитской улице, в помещении ВТО. Камерный театр арендовал там зал, где и проходили его спектакли.
Помню, как я, ученик театральной студии, получив пропуск, пошел раздеваться, но сидящая в шубе, платке и валенках гардеробщица мне тоскливо посоветовала:
- Юноша, вы замерзнете, ступайте так.
И вот, сняв только шапку, в перчатках и ватной куртке я сидел в числе немногочисленных зрителей в промерзшем зале театра.
Первое, что меня приятно поразило в театре Таирова, это высокое мастерство пантомимы, которой я в ту пору очень увлекался. С неподдельным интересом смотрел я спектакль "Покрывало Пьеретты".
Перед моими глазами прекрасная Алиса Коонен и очень изящный Николай Церетелли разыгрывали великолепный спектакль без слов. Я был настолько потрясен всем тем, что происходило на сцене - столь выразительны были жесты и движения артистов, - что у меня ни на секунду не возникло мысли: "Ах, как жаль, что они не говорят!". Меня это совсем не беспокоило. Выразительный язык жеста, которым искусные актеры передавали свои чувства, был предельно понятен, и вместе с героями пантомимы я остро переживал их страсти. Это было так замечательно, что следующий спектакль -"Саломею", который я видел в Камерном театре, я не досидел до конца. Как ни странно, мне помешали слова, после выразительнейшей пантомимы казавшиеся ненужными. Может быть, к этому ощущению добавилось то, что я окоченел в холодном зале и перестал чувствовать собственные уши. А нахлобучивать шапку в театре мне казалось кощунством и глубоким неуважением к актерам, к их труду - полуголые, они
произносили слова, которые выходили изо рта вместе с клубами пара!
После этих посещений я стал пристально следить за Камерным театром, мне что-то в нем нравилось, чем-то он меня пленял.
Отправляясь на переговоры с А. Я. Таировым, я вышел пораньше и всю дорогу от дома до театра приводил в порядок свои мысли. "Что меня там ждет? Что будет мешать и что будет греть, если я скажу "да"? Надо честно разобраться", -мысленно говорил я себе.
"Негр", "Любовь под вязами" - это здорово! Великолепное мастерство актрисы Коонен покоряло и захватывало, а разве игра И. Александрова, молодого актера, окончившего школу Таирова, не замечательна? Да! Это хорошо. Здесь видны большие страсти и решаются человеческие судьбы! Дальше: "Брамбилла", "Жирофле-Жирофля", "Сирокко", "Опера нищих" (оказывается, я уж не так мало видел). Музыка, танцы, эксцентрика! Тоже хорошо! Но по-своему... Это театр шутки, театр - карнавал, праздник, вихрь страстей и серпантинноизысканных мизансцен, где актер - певец, танцор, мим -подчинен организованно стремительному ритму и изощренному вкусу режиссера.
Но даже эти лучшие спектакли приятнее смотреть из зрительного зала, аплодируя актерам и режиссеру, властно и умело подчинившему все компоненты театра, своей режиссерской воле, чем самому в них участвовать.
Нужно ли это моей актерской природе, мне, молодому человеку, тоже влюбленному в театр, но мечтающему быть актером во всем великом значении этого слова? Нет, не нужно!
Кто из нас не мечтал быть идеальным актером, актером -властителем дум!
Вот с такими смятенными чувствами я оказался у двери, где золотом по черному было написано: "Дирекция Камерного театра". Не приняв никакого внутреннего для себя решения, я пришел в точно назначенный час к Таирову.
Мило улыбнувшись, Раиса Михайловна сказала, что Александр Яковлевич меня ждет, но у него сейчас корреспонденты.
- Вот посмотрите журналы! - и она подала роскошные заграничные издания о гастролях Камерного театра в Европе.
Таиров встретил меня обаятельной улыбкой (в театре вообще очень мило и много улыбались) и долго всматривался в меня, прежде чем начать разговор.
Я тоже не терял времени и успел рассмотреть собеседника. У него были глубокие темные глаза, немного усталые, и если бы не блеск, заставлявший их искриться, я мог бы сказать, что они грустные.
Он смотрел на меня долго, мне даже показалось, что чересчур долго, но доброжелательно и понимающе.
Слегка дрожащей рукой он то и дело поправлял прическу, производя пальцами движение, будто застегивал пуговицы. Был Таиров в теплом пиджаке и в очень теплом пушистом длинном шарфе, в который, обмотав шею и перекинув конец за спину, кутался, отчего казалось, что он зябнет.
Наконец Александр Яковлевич сказал:
- Пусть вас не смущает, что я долго и пристально вас рассматривал. Мне много говорила о вас Фаина Григорьевна. Я ее очень люблю и уважаю. Она прекрасная актриса. Но заочная рекомендация остается заочной. А позавчера я видел вас в "Путевке в жизнь". Знаете, там вы кажетесь гораздо ниже ростом, чем в жизни, и вообще... вы какой-то другой, чем на экране.
- Это плохо или хорошо? - спросил я.
- Меня это радует. Я полагал, что вы ниже, а вы оказались выше ростом. Значит, когда нужно, вы можете убедить меня...
Вот так начался наш первый разговор с Таировым. Я чувствовал, что он говорит со мной осторожно, не спешит сказать: "давайте работать", а деловито меня прощупывает, как щупают материал, когда подбирают на пальто: в ту ли сторону ворсинка, как хотелось бы!
Эта неторопливость, ненавязчивость, деловитость меня тоже успокоили, создали атмосферу доверия и доброжелательности. Я стал рассматривать кабинет, в котором мы сидели. Он был очень большой (позже я узнал, что в нем происходят репетиции). Стены были выкрашены в темно-синий цвет. Справа были высокие окна, слева во всю стену, метра полтора от пола, тянулись полки, заставленные книгами, сверху стояли на полке всевозможные забавные статуэтки и фигурки, привезенные из разных стран, подарки, связанные с гастролями театра. Прямо у задней стенки стоял большой письменный стол, за которым и сидел Таиров. Мы беседовали долго, прежде чем я решился сказать:
- Александр Яковлевич, я очень тронут вашим вниманием и тем, что вы приглашаете меня в свой театр, но будет нечестно, если я скрою, что не являюсь горячим поклонником вашего театра. (В глазах Таирова забегали огоньки.) Вы должны меня простить, - поспешно добавил я, - ведь учиться и работать мне пришлось у Комиссаржевского и Мейерхольда... Да и вам, вероятно, будет не совсем приятно иметь дело с их учеником.
Он возразил:
- Нет, напротив, мне это будет приятно. Ведь Всеволод Эмильевич имеет свой театр, и вы могли бы пойти работать к нему.
- Возможно, но это значило бы бегать по кругу...
- А вы этого не хотите? - спросил он. - Меня устраивает ваш взгляд!
- Разрешите мне подумать о вашем предложении, Александр Яковлевич. Я только приехал, должен собраться с мыслями и спокойно все обдумать.
Я сказал это в расчете на то, что на следующий день встречусь с Любимовым-Ланским и решу, где работать.
Таиров согласился.
- Да, конечно! Я вас понимаю. Но у меня к вам просьба: посмотрите сегодня спектакль. - Он сделал паузу и опять показался усталым и озабоченным. - Наш театр меняет позиции. Я еще не могу быть с вами вполне откровенным, но если мы будем работать, я расскажу вам много интересного, в частности о том, каким должен быть наш театр в новых условиях. Посмотрите "Линию огня" Николая Никитина - это пьеса советская. То, что вы работаете в кино, меня не смущает, скорее наоборот... Я видел, что у вас мягкая реалистическая манера игры, мне это нравится... Именно это сейчас и нужно театру. Мои актеры воспитывались совершенно в другой школе.
Вечером того же дня я отправился в Камерный театр смотреть спектакль "Линия огня".
Зачем я на него пошел и почему не умею владеть собой? Смеюсь там, где как минимум нужно иметь влажные глаза!
Как гостю мне полагалось вести себя прилично, даже если спектакль не нравился. Но сдержаться я был не в силах. Об этом спектакле много писали, он был раскритикован в свое время очень зло. Для всех было очевидно, что это не победа Таирова в поисках новых, путей, а его поражение. Ах, зачем он меня просил посмотреть этот спектакль! Ведь он все видел -он сидел в ложе и изредка поглядывал на меня.
После окончания спектакля, несмотря на то, что я раздевался в кабинете у Александра Яковлевича, меня никто ни о чем не спросил. Я оделся и ушел, как мне казалось, навсегда.
И вот я у Е. О. Любимова-Ланского. Не в театре, а у него на квартире. И хотя домашняя обстановка располагала к дружеской беседе, глядя на Ланского, я почему-то думал о Таирове; о том, что вчера, уйдя из театра и не поговорив о спектакле, я обидел его. "Он теперь будет думать, что я невежа".
Любимов-Ланской был крупный мужчина, с рыхлым лицом, в модных роговых очках. Говорил он долго и медленно о задачах театра вообще, о новом зрителе вообще. Говорил один, меня ни о чем не спрашивал, а если в паузу я и пытался вставить свое слово, - он меня не слушал. Казалось, что он произносит монолог. Все было очень протокольно, солидно, и мне вдруг стало скучно.
Сидел он грузно, как брошенный куль, на стуле с тонкими "стильными" ножками, и я все время думал, подломятся ножки или нет.
Наконец он заговорил о своем театре, какие у него прекрасные артисты и как он хочет усилить свою труппу. Это уже относилось ко мне, и я собрал внимание.
- Созвездие "бриллиантов"! Вот к чему я стремлюсь... Все должны быть такими, как Ванин и Ковров!
И он тут же назвал роли, на которые я могу рассчитывать. Разговор сразу стал деловым и по существу.
К тому времени в Театре имени МГСПС прошли "Шторм", "Штиль", "Рельсы гудят". Это был театр советского драматурга. В. Билль-Белоцерковский, В. Киршон и другие писатели охотно несли туда свои пьесы. МГСПС был самым передовым театром в смысле репертуара, ибо ставил на своей сцене проблемы, диктовавшиеся жизнью. Е. О. Любимов-Ланской являлся умным и деятельным руководителем нового театрального коллектива. Билеты на спектакли всегда были проданы.
Мне, конечно, льстило, что Любимов-Ланской хотел пополнить свою "коллекцию бриллиантов" мною, но одновременно это и пугало: хотелось работать, то есть искать - ошибаясь, добиваться, а не соперничать в блеске с другими бриллиантами из его коллекции. Но мне были понятны его мысли о сегодняшнем театре и высоком назначении актера.
И все-таки я не сказал тотчас "да". Что-то меня удержало от этого в самую последнюю минуту. Может быть, поражение Таирова в спектакле "Линия огня", под впечатлением которого, как ни странно, я все время находился? Не знаю, но я вспомнил в самый неподходящий момент об этом неудачном спектакле и попросил разрешения дать окончательный ответ на
следующий день. Евсей Осипович сказал:
- Как хотите. Мне думать не надо, мы можем решить все к общему нашему удовольствию сегодня, но если вы хотите поразмыслить, - я не возражаю!
Смотреть спектакли он меня не пригласил, считая, видимо, что это излишне. Я действительно видел два или три спектакля в его театре. Мне понравились актеры. Это был ансамбль интересных индивидуальностей. Да, труппу он составлять умел...
А. Я. Таиров
Назавтра я пошел в Камерный театр с твердым намерением поблагодарить Таирова и начать работу у Любимова-Ланского. Но второй разговор с Таировым перевернул все мои планы.
Илья Эренбург совершенно правильно назвал Таирова рыцарем театра. Он до конца и остался настоящим рыцарем -театр был для него той Прекрасной дамой, которой он посвятил всю свою жизнь.

|
|
Таким я был в 1941 году
|
Второй раз я шел еще медленнее, обдумывая каждое слово, что собирался ему сказать. Слова должны быть не резкие, но убедительные, не хотелось обидеть его своим отказом. И тут я припомнил, как в одну из труднейших для Камерного театра минут на Таирова обрушились критики как на представителя чуждого для пролетариата искусства, театра "одной актрисы", причем обрушились безжалостно, "требуя крови".
Таиров, сидевший в президиуме, выслушал все обвинения, затем выступил в защиту своего театра и своей подруги, первоклассного мастера и обаятельнейшей актрисы Алисы Коонен. В выступлении, длившемся недолго, он был великолепен. Это была не речь, а лирическая поэма о человеческом благородстве, красоте, о нежной преданности и любви к театру.
Он утверждал, что венец его жизни, сокровенная мечта художника - это желание сделать театр современным, в котором красота, высокая любовь в сочетании с гуманизмом воспевали бы человека, а новый зритель полюбил бы и признал своим такой театр.

|
|
С А. Я. Таировым, замечательным режиссером и человеком,
работалось легко
|
Говорил он тихо, вкладывая в слова свое сердце, и зрительный зал замер. Было ясно для всех, что этот человек может заблуждаться, может, увлекаясь, идти не по тому пути, но кривить душой - нет! Никогда! И весь зал, который вначале встретил его почти враждебно, встал, как бы говоря своими аплодисментами: "Мы верим тебе, Таиров!..".
И вот я снова в его кабинете, но теперь уже с твердым намерением отказаться, ссылаясь на занятость в кино!
Александр Яковлевич встретил меня словами:
- Ну, Михаил Иванович, как вы решили с Евсеем Осиповичем?
"Так! Точный удар, - подумал я, - значит, созвонились, и вся придуманная мной постройка рухнула! Ну и ну!" - заключил я и, помолчав, бодро ответил:
- Сказал, что дам ему ответ после встречи с вами.
- А как же вы решили со мной? - спросил он меня так же бодро.
Как юрист, он знал людей и умел говорить с партнером. Вопросы были в лоб, и я понял, что с ним нужно быть откровенным до конца.
- Не могу от вас скрыть, - сказал я, заикаясь, - что вчерашний спектакль произвел на меня... Мне он...
- Ну, ну, смелее... Вам не понравилось?
- Да! Расскажите, что?
 'Оптимистическая трагедия' Вс. Вишневского. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1933 год. Алиса Коонен незабываема
для меня, как мой Комиссар
'Оптимистическая трагедия' Вс. Вишневского. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1933 год. Алиса Коонен незабываема
для меня, как мой Комиссар
Я чуть было уже не высказался со всей резкостью о постановке, но, увидев приветливое выражение глаз Таирова, невольно изменил тон. Я говорил о спектакле, а думал о пути, пройденном этим художником, с которым сейчас мы так доверительно разговариваем, как старые друзья. И чем больше я об этом думал, тем яснее представлял односторонность и несправедливость наскоков на этого человека.
Ведь он начал как ниспровергатель натуралистического театра. Александр Яковлевич любил приводить в качестве аргумента против натурализма басню Эзопа: "На ярмарке скоморох стал подражать писку поросенка, и он это делал так искусно, что все кругом, придя в восторг, стали громко ему аплодировать. Тогда крестьянин побился об заклад, что пропищит так же хорошо: он спрятал под одеждой живого поросенка и стал щипать его. Поросенок, конечно, завизжал, но крестьянина ошикали. Что тут делать, поросенок, наверное, пищал хорошо, но безыскусно".
 Я любил эту гармонику Алексея. Верил, что она могла передать и скорбь, и тоску, и буйство, и непокорность, словом, все оттенки душевных переживаний Алексея
Я любил эту гармонику Алексея. Верил, что она могла передать и скорбь, и тоску, и буйство, и непокорность, словом, все оттенки душевных переживаний Алексея
Я также вспомнил его лекции, которые он читал актерам и его слова, что есть две правды - правда жизни и правда искусства.
Таиров называл свой театр "театром нового реализма", ибо он создавался реальным искусством актера в реальной, в пределах театральной правды, сценической атмосфере.
Он считал это выходом из театрального лабиринта и пошел по нему, но выход оказался ложным. В его театре шли "Жирофле-Жирофля", "Принцесса Брамбилла", "Человек, который был четвергом" - спектакли, знаменовавшие, собственно говоря, взлет Камерного театра к чистой театральности.

|
|
Образы Сиплого и Алексея В. Кларов и я создали в постоянном общении с автором пьесы Вс. Вишневским
|
С развитием советской драматургии Александр Яковлевич сам почувствовал кризис своего театра, и перед ним встал вопрос, каким должен стать Камерный. Я застал его, таким образом, на мучительном перепутье, на переломе его взглядов и на природу актера, и на задачи искусства и новое время.
- Меня не огорчают неудачи, они меня учат! Но я знаю одно: у Камерного театра всегда неизменной оказывалась его воля к исканию новых путей. Вот и сейчас нам нужны актеры, умеющие найти ключ к решению советского репертуара, актеры советской формации. Я хочу сделать театр высокой героики и высокой комедии, - говорил он, поправляя сбившуюся на лоб прядь волос. - Поэтому сейчас вы попадаете в самую гущу интересной работы. Передо мной лежит пьеса, которую я вам сейчас передам. Это "Патетическая соната", я предлагаю вам играть в ней роль матроса Судьбы. Прочтите!
 'Патетическая соната' Н. Кулиша. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1931 год. Сцена на мансарде у Зинки, которую играла Ф. Раневская. Я играл матроса, А. Сумароков - юнкера
'Патетическая соната' Н. Кулиша. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1931 год. Сцена на мансарде у Зинки, которую играла Ф. Раневская. Я играл матроса, А. Сумароков - юнкера
И вот то, как этот влюбленный в театр до самозабвения, мятущийся человек шагал по кабинету и, устремив на меня глаза, рассказывал план постановки "Сонаты", то, как он размахивал руками, рисуя как бы контуры будущего оформления (его шарф, который он уже к этому времени снял с плеч, делал в воздухе какие-то немыслимые зигзаги), - вся душевность, откровенность разговора и необычайное ко мне доверие меня покорили. Я встал и почему-то торжественно заявил:
- Да, Александр Яковлевич, я хочу идти с вами по этому пути. Значит - судьба!
Он подошел ко мне, обнял и сказал:
- Ну, в добрый путь, за работу!
| И я стал артистом Камерного театра... |

|
|
Партизанский отряд, действующий в спектакле, состоял из М. Суворова, И. Шемерея, В. Дорофеева, И. Смысловского, Ю.
Фармаковского и меня
|
расхолаживающим и размагничивающим нового члена театрального коллектива. Да и вообще нет ничего более унизительного для здорового человека, чем бесцельное разбазаривание своих творческих сил. В Камерном театре этого не было, и я на второй же день приступил к работе над ролью матроса Судьбы в пьесе Н. Кулиша "Патетическая соната".
Пьеса вызвала в ту пору беспокойство. Автора обвиняли в том, что, увлеченный своими романтическими героями, их глубоко личными переживаниями, он отвлекся от сложности политической обстановки на Украине периода гражданской войны. Таиров знал об этих суждениях, приступая к работе, но понадеялся, что театральностью, своей сценической изобретательностью ему удастся затушевать промахи пьесы, перекрыть их масштабностью спектакля, выстроив ряд ярких и сильных эпизодов гражданской войны. (Надо сказать, что в последнее время эта точка зрения на пьесу была пересмотрена, и она оценивается, по справедливости, положительно.)
 Пьеса шла в оформлении художника В. Рындина. Конструкция была очень удобна и позволяла перебрасывать действие с быстротой кинематографического монтажа
Пьеса шла в оформлении художника В. Рындина. Конструкция была очень удобна и позволяла перебрасывать действие с быстротой кинематографического монтажа
В. Ф. Рындин, соратник и соавтор его многих спектаклей, главный художник театра, соорудил очень эффектную и удобную для мизансцен коробку-площадку, которая была едина для всех картин: улица (по авансцене) и большой трехэтажный дом (в разрезе). Работали с воодушевлением все - Таиров умел увлекать!
Ф. Г. Раневская играла проститутку Зинку - лирически настроенную девицу, ищущую в каждой встрече такого мужчину, который мог бы ей сказать простые, ласковые, человеческие слова. Для Раневской, так же как и для меня, это был первый спектакль в театре Таирова. Естественно, она очень волновалась. Особенно усилилось ее волнение, когда она увидела декорации и узнала, что "мансарда" ее Зинки находится на третьем этаже.
- Александр Яковлевич, - всплеснула она руками, - что вы со мной делаете! Я боюсь высоты и не скажу ни слова, даже если каким-то чудом вы и поднимете меня на эту башню!
- Я все знаю, дорогая вы моя... - ласково сказал Таиров, взял ее под руку и повел.
Что он ей шептал, мы не слыхали, но наверх она вошла с ним бодро. Мне же он сказал:
- Когда взбежите на мансарду в поисках юнкера, не очень "жмите" на Фаину. Она боится высоты и еле там стоит.
Началась репетиция, я взбегаю наверх - большой, одноглазый, в шинели, накинутой, как плащ, на одно плечо, вооруженный с ног до головы и наступаю на Зинку, которая, пряча мальчишку, должна набродиться на меня, как кошка.

|
|
-
Смотри, мать! Дожили, вся семья в сборе! И внучек Женя и дочки Лида, Шура и Нина... И Миша. ...Мать, разреши?.. - и
взволнованный отец закурил
|
Я тоже волнуюсь и потому делаю все немного излишне темпераментно. Когда взбегал по лестнице, декорация пошатывалась и поскрипывала. Но вот я наверху. Открываю дверь. Раневская, действительно, как кошка, набрасывается на меня, хватает за руку и перепугано говорит:
- Ми-ми-шенька! По-о-жалуйста, не уходите, пока я не отговорю весь текст! А-а потом мы вместе спустимся! А то мне одной с-страшно! Ла-адно?
Это было сказано так трогательно и... так смешно, что все весело захохотали. Она замолчала, посмотрела вниз на Таирова, как-то смешно покрутила головой и смущенно сказала:
- По-о-жалуйста, не смейтесь! Конечно, глупо просить... но не беспокойтесь, я сделаю все одна.
Таиров помахал ей рукой и сказал:
- И сделаете прекрасно, я в этом не сомневаюсь.
Играла эту роль Раневская великолепно...
Однажды после спектакля "Патетическая соната" я встретил Таирова на Тверском бульваре, где он любил "делать сразу два дела: гулять и мечтать". Мы пошли вместе, и он вызвал меня на откровенный разговор:
- Давайте попытаемся понять, почему "Патетическая соната" нравится нам и почему имеет такую резко отрицательную прессу. Как вы думаете?
- Алексей Дикий мне недавно сказал: "Если нужно, я могу поставить спектакль по телефонному справочнику, мне нужен повод, а не пьеса". Как вы думаете, прав он?
Александр Яковлевич остановился, посмотрел на меня, и мы снова молча пошли по свежему снегу, который сыпал, красиво кружась в свете фонарей.
- Да, вы, пожалуй, правы! "Патетическую" ставить не надо было. Вот один критик меня упрекает в том, что в спектакле прежде всего не хватает реалистической разработки образов. Какая чушь! Если бы эту пьесу поставили в его любимом театре, а я знаю, что он любит, - получился бы просто контрреволюционный спектакль. Пьеса неверная, но поставили и разыграли ее мы правильно, хотя это нас и не спасло! Не ругать нас надо, а помогать... пьесами. Хотя, наверное, виноваты и мы, да и вы, милый друг. Вы уж наш, тащите, привлекайте ваших сценаристов.
Мы опять остановились. Он поднял голову и стал смотреть на фонарь, вокруг которого, как в хороводе, кружились снежинки.
- Конечно, выход есть, его нам предлагают некоторые так называемые наши друзья: отказаться от себя и играть в натуралистических тонах. Но тогда мы будем тысяча первым зауряд-театром. Нет! Мы хотим идти своим путем и пойдем, но... вот это маленькое "но" нам и мешает - нам нужна своя драматургия... Вот так! И если вы согласны со мной, то по домам! Уже морозит! - сказал он весело.
Мы простились, снег пошел густо и большими хлопьями. Все вокруг блестело, бульвар был весь, как в пене. Я зашел у Никитских ворот в знакомую дверь и залпом выпил большую кружку теплого пива.
Таиров все видел и понимал, но ему нужно было время, чтобы поразмыслить, пофилософствовать, а затем, осознав и пропустив через себя новые задачи, решить их по-своему. Просто следовать по пути, проложенному, скажем, Любимовым-Ланским, он не хотел. Он считал, что Театр имени МГСПС современен лишь потому, что ставит новую советскую драматургию, а приемы постановки целиком заимствованы им у театра Корша или Незлобина, от которых он недалеко ушел в сценическом искусстве.
Вскоре Таиров поставил еще одну пьесу советского автора. Это была пьеса Л. Первомайского "Неизвестные солдаты". И вновь вокруг Камерного театра разгорелись страсти и споры. Таиров снова допустил ошибку - он взял пьесу, которая, по единодушному мнению, не удовлетворяет элементарным требованиям сцены.
И опять Александр Яковлевич тащит санки по булыжнику. Критика хором пропела отходную пьесе, да и спектаклю. И хотя рецензии отличались лишь вариациями на эту грустную музыку, в них появилось и что-то новое в оценке актеров. Неудачи актеров приписывали на этот раз уже не столько методу и стилю исполнения, хотя были и такие, сколько слабости самого произведения. В это же время Таиров сделал заявление, которое он определил как программное. На отчетном диспуте о "Неизвестных солдатах", который был очень многолюден и горяч, в ответ на замечание Алексея Попова и Ильи Шлепянова о том, "что театр весьма запоздал со своей перестройкой и что спектаклем "Неизвестные солдаты" он не делает шага по пути ликвидации этого запоздания", Таиров сказал:
- Театр должен иметь свою драматургию, которой нет. Переходить на рельсы реалистического театра - не значит начать перестройку. Мы ждем наших пьес и пойдем своим путем.
Как ни спорна была постановка "Неизвестных солдат", но спектакль свидетельствовал о глубокой перестройке, происходившей в театре Таирова.
Актеры на сцене уже были не "говорящими марионетками", какими прежде их считали оппоненты, а живыми людьми нашего сегодня. Таиров смело пошел на привлечение к работе новых, нужных ему актеров, исполнительская манера которых резко отличалась от его ансамбля. В театре началась борьба двух стилей, двух методов. Наидет ли Таиров свои новый, объединяющий метод?
В "Неизвестных солдатах" я играл старого подпольщика-большевика Бороду. Таиров в работе над этой ролью дал полную свободу моей творческой инициативе, лишь пристально и внимательно наблюдая за мной. Когда я прикидывал и переделывал свои сцены, Александр Яковлевич почти не вмешивался; когда надо, - меткими и точными замечаниями разрешал мои сомнения или делал отбор. Я очень любил роль Бороды, в которой человеческая мягкость и сильная воля руководителя скрывались под внешней неуклюжестью и даже чудаковатостью "человека в шляпе".
Было отрадно, что наша трудная и упорная работа актера и режиссера не прошла даром, а была верно понята и оценена публикой и печатью: "...актер несколькими мазками,
сценическими жестами, мягкостью движений создал реально осязаемый, правдивый образ. Перед нами не схема, а живой участник революционной борьбы". И дальше: "...Запоминается мимолетный жест старика, склонившегося над трупом расстрелянной Иды Брук. Старый большевик, потрясенный смертью Иды, горестно кричаще поднимает руки и в то же время сжимает ладони, внутренне призывая себя к выдержке, себя и своих товарищей. Этим мгновенным жестом актер больше завоевывает сочувствие зрителя к Иде, чем автор со всем своим" громоздким рассказом о героизме..."
Так впервые на сцене Камерного театра появился образ революционера-большевика.
Это была победа театра, и только нежеланием видеть, как мучительно, от ступеньки к ступеньке, спотыкаясь и падая, Таиров искал свой путь от "Жирофля", через большевика Бороду, к Комиссару в спектакле "Оптимистическая трагедия", только нежеланием видеть это можно было объяснить слепые наскоки на коллектив театра со стороны критики.
В театр приходит Всеволод Вишневский
Однажды после моего возвращения с очередных съемок из Ленинграда Александр Яковлевич заявил, чтобы я прекратил свои "дезертирские замашки" и отказался от работы в кино.
- Да, Да, и не делайте таких глаз, - откажитесь хотя бы на время. Завтра приходите обязательно слушать Вишневского. Будет читать "Оптимистическую трагедию".
"Как? Всеволод Вишневский - моряк и трибун в театре эстета Таирова! Неужели Александр Яковлевич нашел наконец своего драматурга?" - воскликнули наблюдатели.
Да, эти два человека отыскали друг друга, ответил театр.
Пьеса, которую собирался читать Вишневский, -"Оптимистическая трагедия" - была опубликована в журнале, и многим уже была известна. Говорили, что это агитка.
Я знал, что Вишневский - великолепный трибун, остроумный собеседник, человек необычайно эмоциональный, но как чтец своих произведений он мне был неизвестен.
Я слышал многих драматургов, читавших свои пьесы. Б. Ромашов читал, играя каждую роль, тонируя, навязывал свою характерность. Слушать его было интересно, но, работая, актеру приходилось либо копировать его, либо бороться с уже навязанным.
С. Маршак читал изумительно. Не играя, не изображая, он умел так тонко, с таким огромным юмором и обаянием читать текст и одновременно с каким-то едва уловимым оттенком интонации, модуляцией голоса вкладывать в кусок или в слово свое авторское отношение.
Чаще авторы читают ровным, спокойным голосом - это вернее, потому что дает возможность актеру фантазировать самому.
Но оказалось, что никто не умел так читать, как Всеволод Вишневский. Секрет его чтения, собственно говоря, заключался в том, что он не читал и не играл, а жил жизнью своих героев. На ваших глазах происходило необыкновенно глубокое внутреннее перевоплощение. Он не менял голоса, не становился ни ниже, ни выше, не делался ни более худым, ни более коренастым. Нет, он оставался Всеволодом Вишневским, человеком с узкими, как щелки, глазами, курносым, круглолицым. Он читал сквозь стиснутые зубы, отчего каждое слово наполнялось особой силой, и, так же как в жизни, сопровождал речь коротким, но энергичным взмахом руки. При этом Вишневский вдруг наполнялся такой огромной сущностью того, что он чувствовал и хотел передать другим людям, что не было человека, который мог бы остаться равнодушным. Через три - четыре минуты слушатель всецело отдавался гипнотическому воздействию речи Вишневского. У него была такая сила видения того, о чем он рассказывал, что слова его, возбуждая ваше воображение, заставляли наблюдать происходящее, как на экране.
Когда Вишневский кончил читать, воцарилась мертвая тишина. Ни аплодисментов, ни возгласов. Все молча продолжали жить той трагедией, которая разыгралась на наших глазах и участниками которой все вдруг себя почувствовали. Мы глубоко переживали, что ничем не можем помочь, ничего не можем изменить в судьбе маленькой и смелой женщины, посланной в качестве комиссара к матросам-анархистам.
Трагедия разыгралась на наших глазах. И нам, артистам, все в ней было ясно, ощутимо, казалось, что остается только выйти на сцену и воплотить пьесу в образах.
После длительного молчания, когда затянувшуюся тишину почувствовал каждый из нас, но не в силах был ее нарушить, поднялся Александр Яковлевич и сказал:
- Дорогой Всеволод! Мне не надо тебе говорить, какое впечатление произвела твоя новая пьеса на наш коллектив, -и он обвел рукою зал. - Вот видишь сам - молчат! И молчат не потому, что пьеса не понравилась, - я уверен, что ты это прекрасно понимаешь. Артисты, сидящие здесь, очень хорошо воспитаны, и они не преминули бы вежливо улыбнуться и зааплодировать, если бы пьеса их менее потрясла. А они не улыбаются и не аплодируют - они молчат! Это доказательство того, что ты победил.
- Друзья! - обратился к нам Таиров с какой-то особой проникновенностью. - Друзья! Мы обрели, наконец, драматурга, не только по-настоящему талантливого и сильного, но и стоящего на общих с нами позициях в смысле дальнейшего пути и задач советского театра! Всеволод - наш друг!
Только после этих теплых и точно найденных слов Таирова мы пришли в себя. Он пробудил в нас чувство дружеского общения, все поднялись со своих мест, возбужденные, горящие жаждой деятельности, окружили Вишневского.
Таиров объявил:
- С завтрашнего дня начнем работать над пьесой. Я объявляю пока четыре роли, которые уже согласованы с автором. Комиссара будет играть Алиса Георгиевна, Алексея -Михаил Жаров, Вожака - Сережа Ценин, Сиплого - Виктор Кларов.
После перерыва Вс. Вишневский выступил с развернутой характеристикой действующих лиц, места действия, говорил о гражданской войне и особенно много о флоте и матросах. Много места уделил он и своим личным воспоминаниям, послужившим материалом для пьесы. Я не хочу подробно об этом рассказывать, так как стенограмма обсуждения "Оптимистической трагедии" в Камерном театре 8 декабря 1933 года с заголовком "Автор о трагедии" широко известна, она была напечатана, мы ее читали и перечитывали, но одно дело читать, а другое - слушать из первых уст.
Мы вторично пережили всю историю морского отряда. Если бы Горький был с нами и слушал Вишневского, то, мне кажется, не появилось бы его статьи "О бойкости". Прав, конечно, Горький: когда читаешь стенограмму, "я" выпирает чуть ли не в каждой фразе. В живом же рассказе это было лишь поводом для вздоха, для динамического движения речи рассказчика. Печатное слово не могло передать интонацию живой речи, а у Вишневского это было главным.
Постановка "Оптимистической трагедии" стала основной работой нового Камерного театра. Так, во всяком случае, заявил Таиров, считавший, что этот спектакль должен быть таким же этапным в истории его театра, как когда-то была "Сакунтала".
Первый состав актеров выяснился окончательно в ближайшие же дни. Кроме ранее объявленных, в спектакле играли: Боцмана - Иван Аркадии, Вайнонена - Николай Новлянскпй, Командира - Георгий Яниковский. Ведущими были Иван Александров и Николай Чаплыгин, последний позже, когда я ушел из театра, играя Алексея.
Начав работу над "Оптимистической", Таиров преобразился, похудел, стал, как нам казалось, моложе.
Летом Вишневский сообщил Таирову, что на Балтийском флоте будут происходить большие маневры и что его вместе с Таировым пригласили на них присутствовать.
"Эстет" Таиров отправился к балтийским морякам.
Таиров ставит "Оптимистическую”
Александр Яковлевич приехал с флота восторженный, загорелый. Я никогда не видел его ни потом, ни до этого в столь приподнятом состоянии духа. Он как бы весь преобразился, окунувшись в соленую морскую волну, набрался сил и энергии и, как мне показалось, даже ходить стал, как "морской волк", - вразвалочку.
 Авторы пьесы 6р. Тур и Л. Шейнин (он в то время был следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР) часто
бывали на репетициях
Авторы пьесы 6р. Тур и Л. Шейнин (он в то время был следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР) часто
бывали на репетициях
Вернулся он с готовым планом спектакля, набросками оформления и разработанными характеристиками образов. Передо мной он поставил задачу сыграть Алексея как сложный психологический и вместе с тем героический образ. Для меня это было ново, а значит, и интересно.
К тому времени в советском театре, с легкой руки Г. Коврова и В. Ванина, создавших в "Шторме" великолепный образ красного моряка, выработалось особое амплуа "братишки".
Играть "братишку" я, конечно, не собирался, но Вишневский, зная, что сыграть этот навязший в зубах образ для меня легче легкого, в разговоре со мной не преминул предупредить:
- Боже сохрани тебя играть "братишку". Мы их уже видели на экране и на сцене. Твой Алексей - совсем другой! Помни, что я всегда здесь с вами, если тебя что-то не греет, что-то неясно и непонятно, спрашивай! Требуй! Работать будем вместе!
 'Очная ставка' бр. ТУР и Л. Шейнина. Режиссер М. Жаров.
Камерный театр. 1938 год. Вместе с художником Б. Щуко мы
кадрировали спектакль на ряд сцен. Это рисунок Б. Щуко к сцене 'Убийство на железной дороге
'
'Очная ставка' бр. ТУР и Л. Шейнина. Режиссер М. Жаров.
Камерный театр. 1938 год. Вместе с художником Б. Щуко мы
кадрировали спектакль на ряд сцен. Это рисунок Б. Щуко к сцене 'Убийство на железной дороге
'
Он принес мне литературу о флоте, о гражданской войне, словом, создавал вокруг меня атмосферу флотской жизни.
Таиров как-то сказал:
- Всеволод хочет, чтобы вы играли его. Попробуйте!
Пробовать я не стал - мы были уж очень разные. Я даже сознательно избегал его чудесных, но мешающих мне быть самостоятельным интонаций.
Словом, Алексей не был похож на Вишневского, и не был даже его братом. Передо мной стоял другой моряк, который манил меня, возбуждая фантазию. Я видел его и хотел показать, как человек с большой биографией, наш современник, мучительно на практике решает важнейшие
вопросы бытия и, философски осмыслив их, отдает в борьбе за народ свою жизнь.
Успех пьесы Вс. Вишневского был немыслим без Александра Яковлевича, который отдался работе целиком, без остатка, и вложил в нее не только все свое огромное искусство, мастерство, но и душу.
Надо отдать должное - в работе над спектаклем автор и режиссер были едины. Малейшие изменения и предложения Таирова автор реализовывал немедленно. Вишневскому много пришлось поработать над пьесой еще до театра, это можно установить хотя бы по названию пьесы, которое он менял трижды: вначале это была "Героика" (тема "Авроры"), затем "Да здравствует жизнь!" и, наконец, "Оптимистическая трагедия".

|
|
'Очная ставка'. Наталья Эфрон и Анатолий Нахимов играли
превосходно: он - роль портного, она - его жену
|
В моём актерском экземпляре роли матрос сначала назывался Ярославом и только перед репетициями окончательно оформился как Алексей. Не говоря о частичных изменениях в тексте, которые вносились по ходу репетиций, почти весь третий акт был значительно изменен.
И странное дело, Вишневский - мастер живописно излагать виденное, умевший метким словом определить неясное, - на репетициях сидел тихо, скромно, не вмешиваясь; все предоставлял делать Таирову.
Таиров работал с актерами, не столько показывая, сколько рассказывая, наталкивая, раскрывая сущность сцены, куска или фразы, действуя как умный, опытный и тонкий аналитик. Он не обладал даром актерского перевоплощения, хотя и играл в начале своей карьеры первых любовников, и поэтому не подсказывал актеру собственным исполнением рисунок роли. В отличие от Мейерхольда, с его удивительными "показами", Таиров действовал главным образом словом. Но к нему надо было привыкнуть, его надо было знать. Он был в каком-то смысле кинорежиссером, он тоже мыслил и видел монтажно.

|
|
'Очная ставка'. Это была моя любимая сцена в спектакле.
Портной - А. Нахимов, Ларцев - М. Жаров
|
Бывает, что на съемке режиссер говорит: "Здесь надо быстро пробежать". Спрашиваешь: "Зачем?". Он отвечает: "Мне так надо". Это значит, что ему так надо для монтажа, для темпа. Нужно ли это для вашей роли, он об этом не всегда задумывался. Так же иногда видел сцену и Таиров. Поэтому, зная его, зная эти его увлечения, приходилось быть начеку и делать не все так, как он предлагает, если, испробовав, ты убеждался, что это мешает.
Возникали досадные я не сказал бы конфликты, а досадные минуты взаимных яростных взглядов и упреков.
 'Очная ставка'. Сцену допроса диверсанта в ('Очной ставке' играть было нелегко. Диверсант - Ю. Заостровский, Лавренко -
С. Гортинский, Галкин - В. Черневский, Ларцев - М. Жаров
'Очная ставка'. Сцену допроса диверсанта в ('Очной ставке' играть было нелегко. Диверсант - Ю. Заостровский, Лавренко -
С. Гортинский, Галкин - В. Черневский, Ларцев - М. Жаров
У Таирова было очень ценное для режиссера качество - он знал толк в изобразительном искусстве. Вместе со своим другом и помощником Вадимом Рындиным, который был незаменимым исполнителем его замыслов, он необыкновенно точно, выразительно, с подлинной театральностью раскрывал в декорациях замысел спектакля.
Так было и на этот раз. Таиров и Рындин сделали макет сцены "Оптимистической", который позволял мгновенно трансформировать площадку то в палубу корабля, то в бетонированный дот, то в каюту командира, то в тюремную камеру. Все это достигалось незначительными деформациями, передвижениями скупых деталей декораций и специальных ширм. Спектакль в своей основе был сосредоточен на актерах, на их игре.
Артист был всюду в фокусе зрителя; графически разбросанные группы актеров создавали благодаря четким и скупым линиям оформления и отсутствию ненужных бытовых подробностей суровую и мужественную панораму героической поэмы.
 'Ошибка инженера Кочина'. Режиссер А. Мачерет. 'Мосфильм'. 1939 год. 'Ошибка инженера Кочина' - это кинематографический вариант пьесы 'Очная ставка'. Актеры М. Жаров - Ларцев и С.
Никонов - Лавренко, Л. Кмит - официант и М. Гаврилко -официантка на натурной съемке
'Ошибка инженера Кочина'. Режиссер А. Мачерет. 'Мосфильм'. 1939 год. 'Ошибка инженера Кочина' - это кинематографический вариант пьесы 'Очная ставка'. Актеры М. Жаров - Ларцев и С.
Никонов - Лавренко, Л. Кмит - официант и М. Гаврилко -официантка на натурной съемке
Таиров дневал и ночевал в театре: днем - репетиции, вечером - работа с Рындиным, Вишневским или совещания руководителей цехов. Все сам! Везде сам! А ночью, после спектакля (он жил при театре, в квартире на втором этаже), рассказывал нам пожарник: "Придет на сцену и все что-то ходит с книжкой, а потом наденет очки и начинает в голос читать, а света-то всего, что от дежурной лампочки! .
Таиров был искусным командиром на капитанском мостике и уверенно вел театральный корабль по курсу, когда дело доходило до главного - до сценического воплощения авторского замысла.
Единственно, что мне мешало в работе с Таировым над "Оптимистической", это его попытки определять тональность речи. И когда однажды я попросил его не показывать мне интонации, так как меня это сбивает, - он очень удивился:
- Что вы говорите? А вот Церетелли меня всегда перед выходом даже искал, чтобы я ему произнес интонацию! Он мною пользовался, как камертоном!

|
|
-
Сова? - Сова! - А стрелял в куропатку? - Стрелял в куропатку. -
Не везет? - сказал Кочин. - Не везет - вздохнул Ларцев
|
Манера говорить и весь музыкальный строй таировской речи были изысканно интеллигентскими и далекими от простонародности и вульгаризмов. Как-то Таиров (очевидно, для настроения) стал рассказывать мне про поездку на флот и про свои встречи с моряками. Даже слово "черт" у него звучало как ругательство, а тут вдруг матросское крепкое словцо, и тем не менее ему хотелось, ужасно хотелось не отставать от Вишневского, который охотно рассказывал и показывал моряков.
- Был там очень интересный матрос, красивый парень, философ, но ужасно ругался. Чуть ли не после каждой фразы вставлял, как он выражался, "морской загиб". Как-то я его спрашиваю: "Что же вы делаете в свободное от вахты время?". А он мне и говорит: "Сплю! Трах-тарарах-тах-тах!".

|
|
А. Я. Таиров. Шарж худ. Мака
|
И Таиров на какой-то тонкой ноте вдруг загнул такой "морской загиб", что я даже рот раскрыл от удивления. А Таиров, выругавшись, перекинул шарф через плечо и посмотрел на меня победно, как тот матрос.
Но нет: он не был матросом. Он оставался Таировым, обаятельным интеллигентом, который попал в смешное положение и которому никогда не следовало ругаться, тем более по-матросски...
Через минуту он это понял, очевидно, по моему лицу, крайне смутился, покраснел, и мы оба весело захохотали. Позже, если у него что-нибудь не ладилось и он злился, я советовал ему выругаться с "загибом". Он тогда улыбался и грозил пальцем: "Не будем, мол, вспоминать!".
Чем дальше шли репетиции, чем ближе мы были к премьере, тем больше работали, а работая, - уставали, а уставая, -злились. Что-то не получалось, - дописывали, и все равно не получалось. Атмосфера "адовых" репетиций, хотя до прогонов с публикой оставалась еще недели две, захлестнула театр.
Была одна, особо важная для меня и Комиссара сцена, которую мы условно называли "мое" и "наше".

|
|
Борода - М. И. Жаров. ('Неизвестные солдаты' Л. С.
Первомайского). Рисунок худ. А. О. Костомолоцкого
|
...Комиссар решила "прощупать" своих подопечных и по очереди поговорить с людьми своего отряда: Боцманом,
Командиром, Вайноне-ном и Алексеем, в котором она угадывает незаурядный ум и честность. Эта встреча была написана Вишневским необыкновенно сильно. Разговор между анархиствующим Алексеем и большевистским Комиссаром шел, казалось бы, в резкой пикировке на сугубо народном языке, но понятия "мое", "наше" раскрывались в этой сцене в своем огромном философско-политическом смысле.
В дальнейшем, когда мы играли этот спектакль, публика, следя за нашим диалогом, сидела так тихо, что казалось, если человеку и нужно было двинуться, он не мог бы это сделать. Мы говорили хотя и резко, но почти не повышая голоса, а проронить хотя бы полслова из этого поединка мыслей публика не желала. Вопросы, которые поднимал в этой сцене Алексей и на которые ему отвечала Комиссар, были животрепещущими вопросами жизни всего советского общества. Зал буквально замирал.
Как и все эпизоды, эта сцена была оформлена строго и лаконично: на фоне полукруглой ширмы-стены стоял стол, у стола - три табурета, на столе - полевой телефон, за столом -Комиссар.

|
|
( Патетическая соната Н. Г. Кулиша). Рисунок худ. М. А. Арцыбушева. Матрос Судьба М. И. Жаров
|
Из-за ширмы выходил Алексей, наигрывая на гармонике падеспань, и начинался, как турнир, как бой гладиаторов, "смертельный дуэт", который в "изящном" стиле начинал Алексей.

|
|
('Патетическая соната' Н. Г. Кулиша). Рисунок худ. М. А. Арцыбушева. Зинка - Ф. Г. Раневская
|
На всех репетициях мы вели этот дуэт стоя, в профиль к публике, то есть находясь в одной плоскости. И вдруг на одной репетиции я не обнаружил Комиссара за столом - она стояла, неожиданно для меня, у задней стены-ширмы. Для того чтобы с ней вести диалог, я должен был волей-неволей встать спиной к публике.
- Простите, Александр Яковлевич, что Комиссар будет теперь всегда стоять там?
- Да, я хочу попробовать, - раздался голос из зала. -Продолжайте.
Я стал продолжать, но чувствую, что все слова роли вылетели начисто. А в голове стучит и пульсирует только одно: "Начинается! Затирают!".
Репетиция не вышла. Я положил гармонику на стол и, сказав что-то вроде: "Извините, я себя не совсем хорошо чувствую", ушел со сцены.
 Ларцев - М. И. Жаров ('Очная ставка' братьев Тур и Л. Р. Шейнина). Рисунок худ. Э. Г. Мордмилловича
Ларцев - М. И. Жаров ('Очная ставка' братьев Тур и Л. Р. Шейнина). Рисунок худ. Э. Г. Мордмилловича
А за кулисами уже стоял Вишневский: - Ну, что?
- Я ухожу из театра. Так репетировать я не буду. А иначе они не дадут, все равно затрут!..
- Да ты не горячись! Подожди! - сказал он, отводя меня в темный угол. - Я тебя прекрасно понимаю. Твоя запальчивость доказывает, что ты болеешь за эту роль. Но доверься мне: я сижу в зрительном зале и все вижу. Поверь, Алексей и Комиссар - фигуры для меня одинаково дорогие. В Алексее я вижу свои чувства, а в Комиссаре я вижу свои мысли. Поэтому я тебя попрошу: потерпи! Главное - не спорь! Если не будешь спорить, - все выйдет! Дожмем! Подожди премьеры, -посмотришь, как будут тебя принимать! И увидишь, что это роль, которая нужна и тебе лично, и театру, в котором ты работаешь. Понял?
Но я уже зарвался и, закусив удила, твердил только:
- Нет! Уйду! Уйду!
- Ну, смотри. Подумай, о чем я тебе сказал, и не делай глупостей, - уговаривал меня Вишневский. - А дома посмотри вот эту книгу, которую я хотел подарить тебе на генеральной репетиции, но, ладно, так и быть... - И он сунул мне в карман первое издание "Оптимистической трагедии".
"...Матросу Жарову с творческим огнем и уверенностью в его российском таланте. Вс. Вишневский, 18 авг. 1933 г." -прочитали мне дома, когда я, не раздеваясь, бухнулся на диван и, уткнувшись носом в стенку, пролежал так до вечера.

|
|
Афиша спектакля Аленушка, поставленного М. И. Жаровым. Московский театр юного зрителя
|
Уже стемнело, когда мне позвонила секретарь Таирова Раиса Михайловна и, спросив, как я себя чувствую, тихо сказала:
- А вы не хотите встретиться с Александром Яковлевичем?
- Хочу, - мрачно ответил я.
- Вот и хорошо, приходите сейчас, он вас ждет...
Александр Яковлевич подошел ко мне, взял за плечи и, улыбаясь, сказал:
- Ну, большой ребенок, кто вас обидел? А? Алиса Георгиевна или я?
- Александр Яковлевич, у вас нет основания так говорить со мной. Я не ребенок, и обидеть меня нельзя. Меня можно огорчить, разочаровать, а это больше, чем обидеть.

|
|
В. В. Максимов. Шарж худ. Алякри
|
- Хорошо. Мне этот разговор нравится. Итак, вас сегодня огорчило, что я изменил мизансцену: немного притушил вас и поставил лицом к публике, то есть, говоря языком кино, вывел на крупный план Комиссара. Вы же, почувствовав неудобство, подумали, что вас затирают и разочаровались во мне. Так?
 КРАСНОЙ
—XV—
АРМИИ
*
Книга 'Оптимистическая трагедия' Вс. В. Вишневского с дарственной надписью автора М. И. Жарову
-
КРАСНОЙ
—XV—
АРМИИ
*
Книга 'Оптимистическая трагедия' Вс. В. Вишневского с дарственной надписью автора М. И. Жарову
- Почти так!.. Я не понимаю, скажите... почему нельзя Алексея подать крупно, броско. Для того чтобы победа Комиссара была полной, нужно сделать так, чтобы она далась нелегко. Разве неверно?
- Верно! Почти верно! При условии, если бы Алексея играл другой актер. Вам не кажется, дорогой друг, что победа над Алексеем для Комиссара и без того не так уж легка? Коонен играет труднейшую и не такую эффектную роль, как ваша. Вы только подумайте о своем выходе - с гармошкой да еще с таким монологом, как у вас!
Как же должна себя чувствовать в эти минуты исполнительница роли Комиссара? Ну, будьте логичны до
конца - она должна положить роль на стол, как это сегодня сделали вы с гармошкой, и сказать: "Или я, или ваш
популярный Жаров". Ведь вы сделали так? Не правда ли? А она?.. Алиса Георгиевна сегодня после вашего ухода просила меня оставить мизансцену по-старому, как мы раньше репетировали.
Голос его был мягким и спокойным, меня он не стыдил и не упрекал. Он смотрел на меня, не улыбаясь. Рот был грустный, а глаза добрые. Рука тряслась лишь немного больше, чем обычно, и капли пота проступили на подбородке.

|
|
Мою песенку из фильма пели в городе. Мой папаша пил, как бочка, и погиб он от вина!..' Роль Смирнова я играл с удовольствием! Играть комедию да еще Чехова - значит душевно
отдохнуть
|
Я молчал...
Мои мысли в эту минуту были далеко, я вспомнил: сижу под столом у матери в мастерской, на котором она устало гладит сорочки, и слышу ее голос: "Как нехорошо, большой мальчик и обижаешь Верочку! Она такая добрая, любит тебя, всегда играет с тобой. А ты ее обижаешь! Поди и сейчас же попроси прощения, слышишь?..".
И каким-то чужим голосом я тихо сказал:
- Спасибо!.. Извините!..
- За что, дорогой? Очень хорошо, что мы с вами поговорили. Это нам всем на пользу. А главное, театру! Вам Всеволод сегодня подарил экземпляр "Трагедии"?
- Да!
- Я тоже хочу именно сегодня вам сделать подарок, - и, сняв с полки свою книгу "Записки режиссера", размашисто написал: "Дорогому Михаилу Ивановичу Жарову, с твердой уверенностью в бессрочном нашем содружестве на путях Камерного театра, - и, перечитав, добавил: - и с искренней симпатией. А. Таиров. 33 г. Москва".

|
|
Декорации к водевилю 'Медведь
'
художницы Л. Путиевской оказались весьма удачными и по стилю и по композиции
мизансцен
|
Этот вечер я запомнил навсегда. Наш конфликт рассеялся сразу, как туман в яркий день, и мы продолжали работу с новым увлечением, не считаясь с временем.
И вдруг я засомневался, играть ли мне без грима, как рекомендовал Вишневский: "Лицо не трогай, только сделай погрубей загар, и все!", или все-таки уйти от себя - отпустить усы, наклеить нос, брови.
 'Медведь'. Режиссер И. Анненский. 'Белгоскино'. 1938 год. Комедийный талант и высокая школа Художественного театра помоглиОльге Андровской создать шедевр
'Медведь'. Режиссер И. Анненский. 'Белгоскино'. 1938 год. Комедийный талант и высокая школа Художественного театра помоглиОльге Андровской создать шедевр
Выслушав меня, Таиров покачал головой и сказал:
- Нет! Категорически нет! Прелесть вашего обаяния в лице и улыбке, в вашей манере ходить и разговаривать. Зритель уже успел вас полюбить за эти ваши качества! Вам не надо наклеивать ни носа, ни щек, особенно для Алексея.
- Значит, во всех ролях ходить самим собой? Где же перевоплощение?
- Ведь перевоплощение, о котором всегда идет такой большой разговор и даже спор в искусстве актера, заключается не только в том, что актер переменит тот или иной парик или...
- Или, - стремительно перебил его я, - наклеит бороду, так ведь? Длинную или короткую? И не в том, будут ли у него усы колечком, коротко подстрижены или вовсе он выйдет без усов? Так? Вы это хотите сказать? Что это может быть подсобным выразительным материалом, а перевоплощение надо понимать, как внутреннее перерождение артиста. Ведь так? Ведь в этом правда? Александр Яковлевич, скажите?
- Тихо, тихо! Не надо столько темперамента! Правда. Но эта наша с вами правда, а у других есть другие, их правды. Все хорошо, что убеждает...
- Да! Значит, перерождение происходит, когда я с моими качествами перехожу как бы в область чувств и эмоций другого человека, и живу его жизнью, оставаясь внешне таким, как я есть?
- Именно! - поддержал он мою мысль. - Тогда и ваше лицо, и ваши жесты будут подчиняться как бы тому новому образу, который создается у вас внутри. Вы психологически перестраиваете весь свой аппарат по-другому. И тогда вы будете и внутренне перевоплощаться в другого человека, и внешне, хотя зритель каждый раз и может видеть в вас Жарова. Вы этого не бойтесь!

|
|
Афиша кинофильма 'По следам героя'
|
А я и не боялся - это совпадало с моими убеждениями. Я стал "загорать под Алексея", как советовал мне Вишневский.
Время стремительно катилось, и как всегда бывает в театре, не хватало нескольких дней, а на носу уже было самое волшебное - встреча со зрителем. Но первая генеральная репетиция не была "родительской". Не папы и мамы и близкие друзья, как заведено вековой традицией во всех театрах, находились в, зрительном зале в этот день.

|
|
'Медведь'. Режиссер И. Анненский. 'Белгоскино'. 1938 год. И. Р. Пельтцер, блестящий комедийный актер, исполняя роль Луки,
|
успевал давать мудрые советы товарищам
Нет, в зрительном зале, заполненном сверху донизу, сидели серьезные люди в мундирах. Они пришли рано, в девять часов утра, когда обычно в театре гуляют еще только пылесос и щетка.
Деловито и сосредоточенно разглядывая программки, сидели на местах командиры и полководцы Красной Армии во главе с наркомом К. Е. Ворошиловым. Пьеса и спектакль посвящались пятнадцатой годовщине Красной Армии, и поэтому был приглашен весь Генеральный штаб Красной Армии.
Мы, бледные и молчаливые, стояли на сцене. Таиров вышел за занавес. Он коротко рассказал о работе над спектаклем и от имени коллектива просил Генеральный штаб принять наш спектакль как посвящение Красной Армии.

|
|
'Медведь'. Режиссер И. Анненский. 'Белгоскино'. 1938 год. - К барьеру! Стреляться! - А! С каким наслаждением я влеплю пулю
в ваш медный лоб!
|
Занавес дрогнул и пошел...
Не сразу мы почувствовали, как теплеют сердца наших необычных: зрителей, не сразу стали находить отклик живые слова, звучащие со> сцены, в душах военных, заполнивших зал.
Да, откровенно говоря, мы и не прислушивались: жизнь на сцене шла стремительно и полнокровно, события захватывали. Маленькая умная женщина, посланная партией комиссаром к анархистам, была частицей зрительного зала. Я не помню еще другого спектакля, чтобы Коонен играла Комиссара так, как на этой репетиции. Это было вдохновение, которое приходит нечасто.
 'Медведь'. ...И совсем неожиданно для водевиля - с душевной тоской и отчаянием обманутой женщины - О. Андровская сыграла сцену с письмами...
'Медведь'. ...И совсем неожиданно для водевиля - с душевной тоской и отчаянием обманутой женщины - О. Андровская сыграла сцену с письмами...
И вдруг что-то случилось. Как будто лопнула, растаяла, куда-то исчезла преграда, отделявшая от нас сердца зрителей и незримо существовавшая вначале. Возникло редкое единение душ, полное понимание того, что творится на сцене. Ведь и там, и здесь были люди в мундирах. Только на сцене артисты средствами искусства показывали, воскрешали картины жизни и борьбы первых военных моряков за создание Советского флота, а там, в зрительном зале, нынешние командиры Красной Армии и Флота вспоминали боевые дни. У нас возник поистине единый язык.

|
|
Медведь . Наш Медведь) попал в Италию. Афиша кинофильма
'Медведь' в Риме
|
После спектакля, успех которого рос от сцены к сцене, за кулисы в кабинет к А. Я. Таирову пришел К. Е. Ворошилов с товарищами поблагодарить коллектив. Интересно, что Клемент Ефремович разговаривал с нами не как с актерами, а как с действующими лицами пьесы.
Ворошилов подошел ко мне, пожал руку и стал что-то говорить, Помню только:
- Так что, молодец! Правильно сделал, что пристрелил этого вожака. Жаль, конечно. В основе своей он не плохой парень, боевой, но пошел не по той дороге. Переделывать тебе его было, конечно, некогда... бон... а вред он чинил большой...
Успех спектакля трудно было преувеличить. Ф. Панферов в "Правде" писал: "Постановкой "Оптимистическая трагедия" Вс. Вишневского Камерному театру удалось дать спектакль, полный идейного смысла и актерского мастерства.
"Оптимистическую трагедию" надо отнести к тому типу новых постановок, которые двигают наш театр вперед...".
Сам А. Таиров в статье "Военно-оборонная тематика в Камерном театре" определил этот спектакль как победу театра, ищущего "свой собственный путь к социалистическому реализму, как основному стилю нашей эпохи".

|
|
Проект афиши спектакля 'Учитель Бубус'. Театр имени Вс.
Мейерхольда
|
Молодежь восторженно принимала спектакль, остро и бурно реагируя на происходящее на сцене. "Комсомольская правда" 5 января 1934 года писала: "Этим спектаклем берут первые подступы великого искусства советской оптимистической трагедии".
Казалось, было от чего закружиться голове руководителя театра.
А поток хвалебных рецензий продолжался...
И когда на банкете говорили речи и поздравляли Таирова, я тоже сказал:
- "Оптимистическая трагедия" не случайный успех "эстета и его театра", а крупная победа большого художника, победа Таирова прежде всего над самим собой, осознанный переход его на новый метод работы. Это победа и актерского коллектива, который гибко и смело сломил в себе старое и пошел по новому пути. И я, как законченный эгоист, горжусь,-торжественно заявил я, - что в этой перестройке есть и моя доля!
Аплодисментов не последовало - я произнес свой тост про себя.
Не хочу вспоминать все чудесные слова, сказанные критикой в адрес исполнителя роли Алексея. Но, отбросив ложную скромность, одно высказывание, которое вдохновило меня для дальнейшей работы, придало нужную веру и силы, а главное, позволило критически осмыслить достигнутое и использовать для будущих "бросков", я все же процитирую по пожелтевшей вырезке из газеты.
Ю. Юзовский писал: "...Стиль спектакля в игре Жарова, раскрывшего логику перерождения Алексея, очень редкий случай "перерождения" на сцене, которому веришь. Лихую молодецкую удаль матроса Алексея Жаров не снял, "став сознательным", но дает ей черты другой, революционной романтичности...".
Вот тут-то я и оценил по-настоящему наш разговор с Таировым о "перевоплощении".
- Читали? - спросил я Таирова.
- Читал и вижу, что вы довольны, - ответил он.
- Доволен!.. Мы нашли правду, которая убеждает...
На спектакли я ходил, как на праздник. Я высоко ценил каждое слово в пьесе. И потому особенно было обидно, когда после второго или третьего спектакля убрали финальную сцену с Комиссаром, в которой была найдена большая человеческая правда личных чувств Алексея к женщине-комиссару.
Это была сильнейшая сцена в безлюбовной пьесе Вишневского. Она нигде не была напечатана и сохранилась в моем актерском экземпляре роли.
Вишневский писал в финальной сцене:
"Плен. Матросы спят, обнимая землю. Стоят часовые, мрачные, как империя. Во сне Алексей повторяет: "Бош. Он метнулся, крикнул что-то: "Несите, сволочи!". Проснулся, увидел Комиссара, она сидит, оцепенело-неукротимая. И происходит диалог между Алексеем и Комиссаром, в котором они друг друга прощупывают перед смертью.
Алексей. Слушай, вот тебе настоящее человеческое слово перед кончиной - полюби, а? От чистой души, говорю, смотря в глаза.
Комиссар. От чистой души? Ребеночек!
Алексей. Могу сказать иначе. Полюби, ценю жизнь и способ, которым ее дают.
Комиссар. Оставь свою грусть.
Алексей. Прости! Пять лет подряд бой, бой, бой... Тонул, горел. (С
невыразимым отчаянием.) Да что ж, молиться тебе? Стосковался же по ласке! (
И отвечая, женщина погладила парня по голове, не то успокаивая, не то подчиняясь). Кто вас выдумал, милые, родные, счастье, отрава сладкая, женщины? Вы, вы одни. Вы были до всего... Нас, нас, глупых мужчин, родили. Вы есть, вы будете, и где же ты была раньше?
Комиссар. Ну-ну, не дури, ну...
Алексей. Осточертело мне умным быть.
Комиссар. А может быть, ты глупый...
Алексей. Ну, глупый!
Тихий смех, далекий от всех забот, волнений и ожиданий. На минуту - люди".
Такой необычный диалог, грубый лишь внешне, но необыкновенно целомудренный внутренне, происходил между двумя молодыми людьми на пороге их смерти за революцию.
Происходил почти без единого жеста, движения, слышно только было, как бились наши сердца в тишине притихшего зала. Однако нашлись "специалисты", которые усмотрели в этой сцене, как они выражались, "фарсовое" начало, их шокировало, что перед смертью люди говорят о жизни и зачатии. Это не подходило под утвержденные представления о героизме, и Таиров сцену снял.
Вишневский мне сказал: "Молчи, не ходи выяснять!".
Я не пошел, но было очень жалко, а главное непонятно: почему?
Расставание
Однажды на одном из приемов в ВОКС В. И. Пудовкин, поздравляя Александра Яковлевича с успехом спектакля "Оптимистическая трагедия", со свойственной ему прямотой задал вопрос:
- Почему до сих пор театр называется Камерным, когда состав ваших зрителей уже давно не тот, что был прежде, и спектакли не те, не камерные, - взять хотя бы "Оптимистическую трагедию"? Не пора ли название сменить и отдать в музей как вашу историческую реликвию?
Александр Яковлевич, как всегда, провел кистью руки по своему пробору и сказал:
Мы думали об этом, Всеволод! Предложите. Это не так просто. Название должно родиться естественно и отразить новую сущность нашего театра. К названию "Камерный" мы привыкли, как привыкают к имени человека, данному ему от рождения.
Это был ответ на ходившие по Москве слухи и сплетни о том, что Таиров "остается на старых позициях", что "он даже не рискует переменить название театра". Все это очень мешало работать. Да, Таиров не торопился простой сменой названия убедить неверующих, что он - за!
Он всем своим творчеством доказывал, что новое рождалось в его искусстве мучительно медленно, но все же рождалось... Приглядываться и терпеливо ждать результатов перестройки Таирова не всем хотелось. Проще было вспомнить его слова из книги "Записки режиссера", сказанные по поводу работы над "Сакунталой": "...нам удалось добиться совершенно
исключительного, почти религиозного трепета мистерии...", и расценивать их как постоянную программу и основу "буржуазного" Камерного театра. Многие отказывались даже обсуждать возможность глубокого, осознанного пересмотра Таировым своих эстетических позиций, его перехода на "службу народу".
А я вспоминаю, с каким трепетом, пусть раньше это называлось "религиозным" (при мне этого эпитета он уже не употреблял), Таиров приступал к работе. Он требовал такого же "трепета", или, если хотите, "экстаза", "отдачи всего себя", и от других участников постановки. Это был призыв не к формальной трудовой дисциплине, согласно ставкам, утвержденным Рабисом, и в пределах отпущенного дарования, а горячий призыв к творческому вдохновению, без которого не может быть настоящего искусства. В этом он не признавал компромиссов. Последовательно и неукоснительно он изгонял из театра всяческую "халтуру", небрежность, в чем бы она ни выражалась, начиная от уборки театра до костюмов и декораций. Это был влюбленный в свой Камерный театр человек, и этого же он требовал от других.
С каким удовольствием я всегда наблюдал, как, поставив декорацию на вечерний спектакль, рабочие уступали место бригаде маляров, которые ежедневно подновляли, подмазывали станки и живописные части декораций.
"Ничего небрежного, и никаких случайностей" - было лозунгом и помощника Таирова - художника Вадима Рындина.
Александру Яковлевичу так и не удалось переименовать свое детище, хотя он усиленно вынашивал новое название для своего уже повзрослевшего и возмужавшего театрального коллектива.
Юбилей - двадцать лет со дня основания - праздновали радостно. Было очень много друзей, много сердечных поздравлений.
На торжественном вечере объявили приказ наркома просвещения А. С. Бубнова о присвоении почетных званий народных артистов Таирову и Коонен и заслуженных - ряду актеров, в том числе и мне. Это была моя первая награда. Я получил ее за роль Алексея.
Для Камерного театра присвоение званий означало многое, и прежде всего признание того, что театр встал на верный путь.
М. М. Литвинов, друг Камерного театра и председатель юбилейной комиссии, в теплом вступительном слове поздравил весь коллектив и пожелал ему дальнейших успехов на благо народа. Юбилей прошел скромно, но необыкновенно тепло и искренне.
После премьеры "Оптимистической трагедии", прервавшей на время мою работу в кино, я снова вернулся к съемкам.
Скопились интересные роли на разных студиях: в "Ленфильме" начались работы над второй серией "Петра I", в Москве режиссеры О. Преображенская и И. Провов начали снимать историческую кинокартину "Степан Разин", где я играл роль боярского сына Лазунки.
Однажды, кажется это было в 1936 году, мне позвонили из Комитета по делам кинематографии с просьбой поддержать работу дипломанта Академии киноискусства И. Анненского, который экранизировал водевиль А. П. Чехова "Медведь". Этот молодой режиссер был мне прекрасно известен по Бакинскому театру, где он тоже работал актером и был даже председателем местного комитета.
Я был очень загружен и стал просить комитет освободить меня от такой чести - шефствовать над дипломантом да еще играть роль в его картине.
Но я недостаточно хорошо знал Анненского и совсем не принял во внимание горячность и жадность, которые присущи всем актерам, когда дело касается интересных ролей.
Приехав ко мне, Исидор Анненский очень вежливо, но настойчиво стал просить меня - нет, не согласия на съемки. "Боже сохрани, я не хочу быть навязчивым, - говорил он, -только прослушайте готовый сценарий".
Разложив передо мной эскизы декораций и костюмов, он начал читать, а я, слушая, стал раздумывать, как можно сыграть интересно тот или другой кусок... Где смешно, где еще "не дожато"... И когда он кончил, я уже ходил, возбужденно фантазируя, что-то отрицал, с чем-то соглашался, что-то предлагал новое.
В общем, как говорится, "мужик и ахнуть не успел, как на него медведь насел".
Как и когда это случилось, я не знаю, но на моем столе уже лежал договор, по которому я обязывался приезжать в Ленинград для участия в съемках кинокартины "Медведь" по А. Чехову в роли Смирнова.
Ну что ж! Взявшись за гуж... работай!
Моей партнершей была блестящая комедийная актриса Художественного театра О. Н. Андровская. Искрящийся, как шампанское, легко возбудимый талант Ольги Николаевны делал наши съемки радостными и творчески полноценными. Снимали быстро. И. Р. Пельтцер, он играл Луку, своей мудростью и отменным мастерством уравновешивал нас, и если мы чересчур увлекались излишними водевильными приемами, он, сидя в кресле и крутя большими пальцами сцепленных кистей рук, словно пальцы играли вперегонки, качал головой.
Все ладилось, и вскоре мне показалось, что у меня нет иной, более интересной и важной работы, чем съемки в роли помещика Смирнова в комедийном фильме "Медведь"...
В это время неожиданно к нашему театру подкралась беда. Не знаю, кому это пришло в голову, но вдруг в Москве в 1937 -1938 годах стали объединять театры. Камерный театр почему-то решили слить с Реалистическим театром, которым руководил Н. П. Охлопков, имевший уже большую и заслуженную славу. На наших глазах рождался очень интересный, новаторски смелый коллектив. Его спектакли "Железный поток" А. Серафимовича, "Мать" М. Горького, "Аристократы" Н. Погодина и ряд других вызывали горячие споры, в которых принимали участие уже не только специалисты, но и широкие массы зрителей.
Люди труда, энтузиасты первых пятилеток все яснее видели, что освоение мира идет через труд и искусство. Увлечение поэзией, живописью, книгами, театром стало всеобщим. Все возбуждало огромный интерес нового зрителя, и он стал великолепно понимать, что Камерный театр иной, чем Художественный. Он разбирался, чем Таиров отличается от Мейерхольда и чем от них обоих - Охлопков.
Сливать в одном помещении два театра, совершенно противоположные друг другу, было абсолютно неправильно и практически, и творчески. Когда-то Главполитпросвет приобрел горький опыт от слияния театров Мейерхольда и Фердинандова, о чем я уже рассказывал. Но этот печальный опыт был забыт. Казалось бы, он должен был если не научить, то во всяком случае насторожить. Удивительно, как было не увидеть пагубность этого решения для обоих театральных коллективов, для судеб советского театра.
Жизнь в Камерном театре превратилась в кромешный ад. В большой, своеобразный, только что справивший свое двадцатилетие коллектив таировского театра, начавшего нащупывать свой новый путь в искусстве, насильно "влили" тоже большой, колючий и требующий к себе особого внимания молодой новаторский коллектив. И пусть это будет мелочь, пусть иные скажут: "ерунда!", но первые столкновения
начались из-за актерских уборных. Каждый артист привыкает к своему рабочему месту, он обживает его - там лежат вещи, которые предназначены только для него одного, роли с заметками, грим и другие предметы, которые помогают готовиться к выходу на сцену, - ведь это его творческая лаборатория. В общем каждодневное "таинство" нарушалось. Раздражение росло, мастерство падало...
Наверху, где помещались два художественных руководителя, на первых порах было все довольно деликатно, как на дипломатическом приеме: были улыбки, "дружеские" пожатия рук. "Как ваше здоровье? Что вы собираетесь ставить?"
Охлопков принес инсценировку повести А. Первенцева "Кочубей", и так как труппа теперь стала единой, то на одном собрании он и прочитал эту инсценировку как первую работу объединенного коллектива.
Пьеса меня захватила, роль "Кочубея" как будто была написана Первенцевым для меня. И опять я сидел, фантазируя, красный и возбужденный. Охлопков тихо наблюдал за мной, а когда кончил читать, спросил:
- Я вижу, что тебе нравится пьеса.
- Да, и Кочубей - прекрасная роль!
- Хочешь играть?
- Очень хочу, но я не смогу - занят, много съемок, еле поворачиваюсь.
- Я тоже занят. (В это время он снимался у М. Ромма в картинах "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году".) Ничего! Мы так построим репетиции, что спектакль не пострадает. Играй!
Я не знаю актера, который легко мог бы отказаться от понравившейся ему роли, а Кочубей мне очень нравился - я мечтал сыграть такую роль.
Вечером Александр Яковлевич пригласил меня к себе и стал рассказывать о планах Камерного театра, о трудностях, которые возникли в связи с слиянием двух коллективов. Во время беседы он опять, как мне показалось, был очень озабочен, и когда я собрался было уходить, задержал мою руку и сказал:
- Вы меня просили не занимать вас в ближайшей пьесе и дать возможность отсняться в картинах; я на это, правда, не совсем охотно, но пошел. А теперь узнаю, вы хотите играть Кочубея. Это ведь главная роль!
- Александр Яковлевич! Во-первых, Охлопков не настаивает, чтобы я репетировал каждый день, он будет отпускать меня для съемок. К тому же нас двое на эту роль - я и Петр Аржанов. А во-вторых, ведь вы не будете отрицать, что это очень интересная работа.
- Все вы, актеры, одинаковы. Дай роль, и все забыто... Куда девались заверения... в дружбе... в преданности. - И, махнув рукой, горько добавил: - Ну и ну!
- Александр Яковлевич, меня очень огорчают ваши слова. К счастью или к сожалению, но с Охлопковым мы сейчас работаем в одном театре. Меня с ним связывают дружба и творческая жизнь. Это моя юность!
- А Камерный, вероятно, ваша зрелость!
- Да, это так!
- Меня упрекают, что я избаловал вас, хотя лично я этого не замечаю. Если это и есть, то не вижу в этом ничего плохого. Я в вас верю и всегда ощущаю опору. И вот сейчас... Слушайте! Когда будете свободны от всех ваших дел, и от "Кочубея" в том числе, подумайте над моим новым предложением, которое у меня созрело. Я узнал, что вы интересно поставили "Аленушку" в Детском театре. Так вот, подумайте о новой пьесе и поставьте ее сами в нашем, Камерном театре. Согласны?
...Я действительно, по предложению главного режиссера А. Кричко, поставил в МТЮЗ пьесу Н. Шестакова "Финист - Ясный Сокол", сказку о русском патриотизме, о смелой девушке Аленушке и богатыре Финисте, о храбром Солдате и злой Бабе. Она пленила меня своей лиричностью, чистотой чувств и ловко сбитым сюжетом на тему русских сказок.
Спектакль пользовался очень большой любовью юных зрителей и долго не сходил со сцены. Героиней моего спектакля стала простая крестьянская девушка, и мы решили спектакль так и назвать "Аленушка".
Артистка Г. Бурцева в этой роли была очаровательна -умная, нежная и героическая. Актеры играли все увлеченно, с предельной искренностью. Финиста - отрока, былинного героя интересно сыграл артист С. Курилов, но потом его сманили в кино, и он ушел из театра. Декорации художника А. Распопова поражали детей фантастическими превращениями. Мы применили светящиеся краски. На сцене это было, по-моему, впервые, во всяком случае я этого прежде не видел. Было очень эффектно, когда лес и деревья мгновенно превращались в чудовищ и также быстро исчезали. Ребята ахали, разинув рты. Вот об этом спектакле и вспомнил Александр Яковлевич...
Предложение Таирова о режиссуре для меня было таким же неожиданным, как светящиеся декорации для ребят. Оно запало мне в душу, и я тоже стал "ахать и охать", перечитывая все пьесы, которые попадались под руку.
В то время много говорили о какой-то пьесе Л. Шейнина и братьев Тур, которую взяли в Театр молодежи
1. Говорили, что это увлекательный детектив о нашей разведке, названия точно никто не знал - держали в секрете.
1 (
Московский государственный центральный театр рабочей молодежи (сейчас Театр имени Ленинского комсомола).)
Я уехал в Ленинград на съемки. Там какой-то маленький театр уже поставил эту пьесу, называлась она "Очная ставка". Это была сенсация. Билеты трудно было достать. Спектакль играли в одном из самых больших домов культуры ежедневно, с неизменным аншлагом.
В один из свободных вечеров я пошел смотреть этот спектакль. Мне с трудом поставили стул в проходе. Пьеса была очень увлекательна, и я подумал, что можно было бы поставить ее с успехом в нашем театре, но не просто как детектив, а как интересный патриотическим спектакль. Я немедленно телеграфировал Александру Яковлевичу, чтобы он раздобыл у Шейнина пьесу, прочитал ее и заключил с ним договор на постановку.
Через несколько дней Александр Яковлевич встретил меня в Москве и, положив передо мной экземпляр пьесы, сказал:
- Я прочитал. Благославляю, ставьте!
- А как же Театр молодежи, ведь они уже выпустили афишу? - спросил я.
- Расторгать договор авторы не хотят, театр молодежный, но монопольного права на постановку они не имеют. Пусть вас не смущает, что мы вторые, - делайте быстрее! Если не будете успевать, - технику сцены я возьму на себя.
Это было великолепно, мне оставалась лишь работа с актерами. Авторы согласились с моим предложением о патриотическом спектакле и вносили нужные поправки и изменения без принуждений и кислой мины. Охотно!
Увлеченный режиссерской работой над советской современной пьесой, я выбыл из репетиций "Кочубея", целиком отдался постановке "Очной ставки" и работе над ролью следователя Ларцева.
Репетировали дружно. Актеры, занятые в "Очной ставке", одобрили мой режиссерский замысел сделать не просто шпионский детектив, а увлекательный спектакль о советских людях.
Работа спорилась, мне верили, и спектакль был сделан в рекордно короткий срок. Нам хотелось доказать, что при желании и упорном труде вдохновение, раз проснувшись, не так легко покидает художника. Актеры - Сергей Гартинский, Наташа Эфрон, Георгий Яниковский, Василий Черневский, А. А. Нахимов, Петр Репнин и даже милейшая Е. А. Уварова - не считались с временем. О молодежи и не говорю - Марк Гольцин, В. Колпаков и другие показывали пример дисциплины и преданности. Делали все, и если нужно было, таскали выгородки п мебель, не дожидаясь дежурных рабочих.
Спектакль вышел раньше "Кочубея", хотя начат был значительно позже и репетировали его не на сцене, а в репетиционном зале. И в этом сказалось скрытое желание обогнать "сожителя". Оба театра были похожи на два самовара у одной отдушины: кто раньше закипит? Кто в этом гибридном организме, который продолжал именоваться Камерным, будет первым и займет "бровку"?
Вспомогательные цехи раздирали на части, каждый руководитель требовал внимание только к своему спектаклю, и если что-то просто не успевали сделать или не ладилось, обвиняли чуть ли не во вредительстве! Время было такое!
Художником спектакля я пригласил Бориса Щуко, сына академика В. А. Щуко. Борис решил оформление по принципу кинопавильонов. Это дало нам возможность придать спектаклю некоторую документальность. Ничего внешнего, ничего декоративно-эффектного не было - все удивительно знакомо. ("Я когда-то был в такой обстановке или мог быть!" - было нашим девизом.) Это придавало спектаклю не
натуралистическую, а документальную достоверность, достоверность факта, поданного художником в том ракурсе, в каком он хочет вам его преподнести. Я как режиссер сравнивал себя с оператором документального кино, который фиксирует жизнь, отбирает факты жизни, исходя из своего творческого видения действительности.
Александр Яковлевич утвердил мой план и освободил меня от дальнейших забот о декорационно-постановочной части. Всю монтировку он и Б. Щуко взяли на себя.
- Мне нравится, что вы так горячо отдались спектаклю, -сказал Таиров. - Вот смонтирую оформление, перейдете на сцену, и посмотрим, что у вас получается. Не возражаете?
Я болезненно боялся чьего-либо вмешательства в осуществление моего замысла спектакля. Мне хотелось, чтобы это был мой первенец. Мне хотелось быть полным автором спектакля. В горячности я не понял, что Александр Яковлевич, видя, как я разрываюсь (ведь мои съемки на студиях никто не отменил, они продолжались, и спектакли я продолжал играть), хотел, как акушерка, как повивальная бабка, помочь, облегчить мне роды.
Я засопел, не зная что сказать. Он дотронулся до моего плеча и сказал:
- Не сопите так страшно, я мешать не собираюсь. Я сказал, посмотрим вместе и решим вместе, чего недостает! Да?
- Да!
Удивительное дело! Занят я тогда был по горло: в театре ставил как режиссер и репетировал как актер главную роль Ларцева; снимался в "Медведе", "Петре I" и "Возвращении Максима" на "Ленфильме", - и всюду успевал, и всюду работал с восторгом. Никого по срокам не подводил, и все были довольны. А сейчас?.. Нередко слышишь, актер снимается в одной картине и срывает все планы - и в театре, и в кино. Им недовольны. Почему так? Непонятно!
То, что мы не ошиблись, ставя пьесу как патриотический спектакль, углубляя ее политическую направленность, лучше и точнее всех подтвердил в своей рецензии писатель Евгений Петров. Я привожу отрывок из его статьи "Успех", опубликованной 30 марта 1938 года в "Литературной газете".
"Давно уже Камерный театр не переживал такого успеха, какой переживает сейчас.
Уже задолго до начала вечернего представления у театрального подъезда собирается довольно большая толпа "неудачников", людей, которые хотели попасть в театр, но не смогли достать билетов. Жалобными голосами они
спрашивали: "Нет ли лишнего билетика?". Гардеробщики еле успевают принять все пальто и галоши. Они работают изо всех сил, но на лицах этих незаметных работников сцены можно разглядеть чувство удовлетворения. Волшебная штука - успех!
Атмосфера успеха, нарождающаяся еще у подъезда театра, сопровождает спектакль до самого конца. Принимаются все реплики, от первой до последней. Как говорится, доходят все эпизоды. Можно сказать, не впадая в преувеличение, что пьеса идет сплошь под аплодисменты.
Речь идет об "Очной ставке" братьев Тур и Л. Шейнина.
Приятно за авторов, написавших эту пьесу, приятно за театр, поставивший ее просто и тщательно, приятно за актеров, превосходно ее разыгравших.
...В чем же секрет этого почти что головокружительного успеха?
Секрет успеха - это:
актуальность пьесы,
ее политическая направленность,
ее патриотизм..."
Премьера спектакля прошла с большим подъемом. Вызывали долго. Таиров был доволен; про меня и говорить нечего.
Когда отшумела овация по ту сторону рампы и был опущен железный занавес, актеры окружили меня и вручили вместе с цветами свое коллективное произведение: "Новорожденному режиссеру... В день премьеры, 28 февраля 1938 года, в стенах слитого Московского гос. Камерного театра".
Беременность была тяжелой,
Но роды быстры и легки...
Вы справились с работой новой,
И все оценки высоки!
Вы волновались, кипятились...
...Но вот уж позади поправки...
Прошла премьера "Очной ставки",
Теперь, о режиссер-тиран,
Ребенок наш успешно сдан!
Прошло на славу представленье!
"Мин херц", примите поздравленье,
Мы с вами ждем все очной ставки,
Но на шекспировской подкладке!..
...Позже, когда мои дочки принесли мне первые свои "пятерки", я прослезился так же, как и в тот незабываемый счастливый вечер моей премьеры!
Успех спектакля заинтересовал кинематографистов, и вскоре режиссер А. В. Мечерет совместно с нашими авторами написал
детективный сценарий "Ошибка инженера Кочина" на сюжет "Очной ставки".
Отсутствие приключенческих картин, в которых всегда нуждается зритель, заставило авторов вернуть пьесе тему детектива. Борьба чекистов с шпионами и найденная нами в спектакле тема патриотизма в картине заняли служебное положение. Состав актеров был великолепный: инженера Кочина играл артист МХАТ Н. Дорохин, Л. Орлова играла жертву шпиона, Ф. Раневская и Б. Петкер играли семью Гуревич, скромных людей, напавших на след шпиона. Прекрасный артист Малого театра П.. Леонтьев создал колоритную фигуру матерого диверсанта.
Я переехал из театра на экран, не утруждая себя новыми поисками" лишь новая форма, сшитая в военной мастерской, создавала разницу между двумя Ларцевыми.
И тем не менее специфика кино, аппарат, натурные съемки, отсутствие реакции зрителя, которая вошла в ритм роли, заставили насторожиться. Незаметно для себя я создал другой, менее броский и менее уверенный образ следователя.
Ларцев в кино отличался наблюдательностью, способностью сопоставлять детали и факты и на глазах у зрителя делать выводы. Зритель как бы соучаствует в раскрытии преступления...
Но счастье быстротечно, и часто бывает не там, где ты его ищешь. Вот передо мной письмо за подписью директора Камерного театра И. В. Нежного от 2 сентября 1938 года, то есть того же года, когда была поставлена "Очная ставка":
"Дирекция Московского государственного Камерного театра доводит до вашего сведения, что в/заявление об освобождении от работы переслано на рассмотрение в Управление по делам искусств при Моссовете. До разрешения вопроса просьба приступить к работе в театре".
Что же произошло за такой короткий срок и почему от полного успеха до ухода из театра оказался один шаг? Поссорились? Нет. Разочаровались друг в друге? Нет. Скорее наоборот.
Таиров, когда я сказал ему, что хочу покинуть театр, спокойно спросил:
- Для кино?
- Нет, для театра.
- Какого? - спросил он.
- Малого, - ответил я.
Тогда он удивился, а удивившись, стал убеждать остаться в его театре.
- Вам все даю: хотите ставить - ставьте; хотите только играть - играйте!
Когда я твердо и окончательно решил перейти, он предложил:
- Послушайте, Михаил Иванович, я вам верю и не скрою от вас, что уже поставил вопрос об утверждении вас моим заместителем по художественной части.
Я молчал.
- Неужели наша творческая дружба недостаточно окрепла и вы все-таки уйдете?
- Нет, дорогой Александр Яковлевич, меня с вами связывает столько дорогих и живых нитей, что грубый разрыв их был бы смерти подобен. Поймите меня как человек, как художник... Я хочу в старейшем, прославленном русском театре, в кругу чудесных старух и первоклассных артистов, попробовать свои силы. Я не просился к ним и не искал рекомендаций, скажу больше: предложение это свалилось на меня, как снег на голову, а свалившись, взбудоражило мою фантазию, и я хочу попробовать. Ведь у них, мне кажется, все так же просто, как в кино. Говорят выразительно, но естественно, никакой условной театральности, никаких условных конструкций, от которых я хочу отдохнуть. Все реалистично. Меня это манит. Так не отговаривайте, не противьтесь этому желанию. Отпустите! А если мне там будет все чуждо, будет скучно и душа затоскует, - я вернусь к вам и, как блудный сын, буду просить принять обратно! Поверьте, это так!
Он долго молчал, закинув голову на спинку плетеного кресла. Мы сидели на открытой веранде, глубоко затягиваясь папиросами. Молчание длилось так же томительно долго, как и в первый день нашей встречи, но только теперь он не смотрел на меня, глаза его были закрыты, и что он думал, я в них прочитать не мог.
Выпив глоток нарзана, он улыбнулся (я ужасно любил его улыбку) и ласково сказал:
- Ну, в добрый путь! Желаю счастья на новом месте! Алиса Георгиевна огорчится. Помните, что я всегда с вами!
Это были последние слова, сказанные мне как актеру Камерного театра. Он крепко и дружески пожал мне руку.
Не скрою, ночью я не спал.
В дальнейшем наши отношения с Александром Яковлевичем были самыми сердечными и дружескими...
"Когда же я решился на переход в Малый?" - вспоминаю я сейчас.
Да, началось все это так. В Кисловодске летом 1938 года вместе со мной отдыхала группа актеров Художественного театра, О. Н. Андровская, с которой мы уже подписали договор в новой картине И. Анненского "Человек в футляре", познакомила меня с И. Я. Судаковым. Он в это время перешел из МХАТ в Малый театр и был назначен его художественным руководителем.
Вечера, которые мы вместе проводили в Кисловодске, были полны чудесных, увлекательных разговоров и несбыточных мечтаний о театральном содружестве, которое было когда-то в молодом Художественном театре и в студии Вахтангова.
Илья Судаков, этот темпераментный и увлекающийся человек, был неиссякаем на выдумки; романсы, которые он чудесно пел под собственный аккомпанемент, были и трогательны, и удивительно похожи на пародии. Я его копировал. Он не обижался. Все хохотали. Мы подружились. И однажды после какой-то смешной истории, когда мы оба громко и весело хохотали, он вдруг серьезно сказал:
- Вот наконец-то я подобрал ключ к верному таировцу, - и тут же пригласил меня работать в Малом театре.
- Вот так, группой, все вместе, - вы, я, Царев. Ильинский, Зеркалова, которые уже дали свое согласие, войдем в "старейший", - увлеченно говорил Илья Яковлевич, - и попробуем влиться в содружества актеров, о котором мы мечтаем и которым славен Малый театр! Заманчиво! Увлекательно!
- Вы мне нужны сразу, - продолжал И. Я. Судаков, - будем ставить вместе "Петра I". Алексей Николаевич кое-что доработает в пьесе. Он вас любит. Это очень облегчит с ним работу. Играть, я думаю, вам надо Петра. Меншиков - уже пройденное. Как вы на это смотрите? Думайте, говорите! И пьесу "Волк" Леонова тоже прочтите. Там есть Кукуев. Забавный образ!..
Было над чем задуматься и потерять сон.
Лето прошло в Одессе, в съемках. Снимали "Полтавский бой", и к тому же приехал Анненский снимать натурные сцены для "Человека в футляре". Лето промелькнуло быстро в дружбе с Н. П. Хмелевым. Этот одинокий и замкнутый человек очень доверчиво и трогательно стал дружить со мной. Жаль, что это длилось недолго. Стремительно неслись дни, и уже осенью я был в числе новых актеров Малого театра.
Вот тут-то Игорь Нежный и прислал свое письмо, сделав последнюю попытку, припугнув меня "дезертирством", вернуть в Камерный.
Но я уже вступил на путь новый и неизведанный, который, если сейчас оглянуться, был усеян далеко не одними розами.
Отступать было поздно, надо было упорнейшим трудом и каким-то седьмым чувством пробивать путь среди сложных хитросплетений и неясных взаимоотношений к сердцам своих товарищей по сцене и одновременно завоевывать любовь зрителей.
И очень часто именно эта любовь, бурно проявленная зрительным залом, и закрывала для меня ревнивые сердца моих товарищей.
Но об этом уже особо!
Кончилась театральная молодость. И началась совершенно новая глава моей жизни...
Часть вторая. Кино У порога малого театра
Прежде чем переступить порог старейшего русского театра, знаменитого своей историей, своими традициями и наконец своим нынешним актерским ансамблем, - я задумался.
Труппа театра состоит из великолепных, ярких, своеобразных и самобытных дарований. А с чем я прихожу в этот замечательный ансамбль? Что я принесу своего и чего мне не будет хватать, чтобы встать в ряд с актерами прославленного Малого театра?
И я решил сделать короткую паузу, как это делает футболист, когда, оглядывая поле, выясняет, какие же шансы за и против победы.
Я решил подвести итоги своей творческой работы и пересмотреть багаж, с которым мне предстояло отправиться в новый, неизвестный путь с Малым театром.
Этой передышкой для размышления был отпуск, который я провел в Кисловодске во время перерывов между съемками в Одессе.
Театр и кино (к тому времени я уже участвовал во многих известных кинокартинах) - вот мой путь!
Я говорил до сих пор только о театре, но работа в кино не менее властно, чем сцена, влияет на формирование актерской индивидуальности. Кино вошло в мою жизнь позднее, чем театр, но оно постепенно, шаг за шагом, воздействовало на мой ум, сердце, фантазию и изменяло приемы моего актерского мастерства, систему художественного мышления, пока наконец не захватило меня всего с такой же силой, с какой в свое время захватил и театр. Если не больше...
Вот об этом сложном процессе я и попробую рассказать, тем более что, как мне кажется, он типичен для многих актеров.
Я расскажу о первых своих шагах в кино, которые мне довелось сделать в 1923 - 1924 годы на студии "Межрабпом-Русь".
Но прежде небольшое отступление.
Популярность и труд
Не секрет, что работа актера в кино приносит ему популярность, как говорит Швандя, "в мировом масштабе", и в этом отношении никак не может быть сравнима с театром.
История кино знает много случаев, когда актер способный, но малоизвестный сегодня, окончив картину, завтра просыпается "звездой" киноэкрана.
Мы знаем театральных актеров, у которых одна успешно сыгранная роль в кино решала все их дальнейшее существование и в театре.
Не надо думать, что это просто везение, удача, хотя, несомненно, "дух" удачи здесь имеет место, если актеру достается хорошая, интересная и выигрышная роль. (В театре о таких говорят: самоигральные, положи их на суфлерскую будку, они сами заиграют!) Но все-таки, дело в том, что эта роль должна попасть в руки талантливому актеру, ибо только истинный талант способен обогатить материал роли и сделать ее явлением искусства, ввести образ в историю кино. В свою очередь и роль выдвигает артиста в ранг "звезды".
Роль и актер сосуществуют в единстве. Актера порой начинают звать по имени того действующего лица, которого он сыграл.
В ответ на мой рассказ, что я очень долго не мог отделаться от клички "Жиган" ("Путевка в жизнь"), Жерар Филип мне рассказал, что его тоже часто называли Фанфаном по имени сыгранного им героя в картине "Фанфан-Тюльпан".
И вот в этом как будто безобидном явлении иногда кроются роковые для актера неожиданности, особенно, если он молод и не умеет распределять свои силы.
Вложив всего себя, все свое обаяние, все свое еще не окрепшее мастерство в близкую ему роль, актер долго потом не может разобраться, что же у него свое, органическое, и что осталось от этого героя, столь триумфально шагающего по экранам.
Очень часто актер, "напялив" на себя характер сыгранного им и полюбившегося ему героя, так и коротает с ним свой творческий век.
В этом - корень многих и многих актерских неудач.
Последующие роли часто обладают сходными качествами, а то просто становятся близнецами "знатного" первенца.
В этом отношении Чаплин был и великим и счастливчиком. После долгих и упорных творческих поисков и неудач, начиная от маленького артиста в ансамбле мюзик-холла до бесконечных масок в эстрадном кино, он наконец находит свою маску и, вкладывая в нее весь свой талант, все свое умение, развивает найденную маску в свой смешной,
трогательный и глубокий образ. А дальше, на мой взгляд, все было значительно легче - Чаплин своего маленького человечка, любимого нами героя, ставил в разные обстоятельства и во всех обстоятельствах oбыл великолепен. Ему уже не надо было каждый раз заботиться о создании образа. Чаплин и маленький человек в котелке - это было одно.
Ему как автору нужно было заботиться только о том, чтобы судьба маленького забитого человека была оформлена в интересном и остроумном сюжете.
Как актер он заботится главным образом лишь о комедийных комбинациях и остроумных трюках, которые развивали бы сюжет о маленьком человечке...
Другое дело драматический актер.
В театре, работая над ролью, он каждый раз заново проделывает весь путь создания образа, чтобы потом, утвердившись в нем, переходить к работе над новой ролью. Играя в разных пьесах и живя ежедневно жизнью несхожих образов, актер должен легко и просто каждый раз перевоплощаться, условно говоря, в новую "маску", не "привязывая" себя к какой-нибудь одной.
В этом природа театра: зритель знает, что это - театр, в котором играют актеры, и он идет их смотреть в разных ролях.
А как же обстоит дело в кино с тем же актером?
Снявшись в одной удачной, нашумевшей роли, да еще размноженной по всему миру в сотнях копий, актер оказывается в плену у этой роли - он накрепко привязан к своей "маске".
Сколько упорства и усилий актеру нужно, чтобы создать следующий, новый, не похожий образ.
Я видел, с каким трудом актеры стараются сбросить с себя груз славы одной роли, мешающий им двигаться вперед, и -увы - как часто это не удается.
Но есть и актеры другой судьбы - актеры-работяги. Мне кажется, что у меня есть право причислять себя к ним.
Я радостно и увлеченно прошел весь путь начиная с первых маленьких эпизодических ролей.
Картинки юношеских лет проходят передо мной, как в старой хронике.
В 1916 году я с восторгом наблюдал за ювелирной работой И. Певцова, когда он снимался в картине "Тот, кто получает пощечины", где я "наигрывал" эпизод циркового барейтора. Известная артистка Драматического театра Павлова играла Зениту. Картину ставил Иванов-Гай.
Вспомнился мне смешной случай, происшедший с этим режиссером.
В Марьиной Роще находилось фотоателье со стеклянным верхом, которое сдавали под киносъемки. На втором этаже, где стояла декорация "Анфилада комнат", неуемный Иванов-Гай показывал киноактеру В. В. Максимову мизансцену -"драматический пробег", так именовался эпизод, который снимали, название же картины держали из-за конкуренции в строгом секрете.
Мы, группа молодежи, одетые в парадные костюмы, изображали участников бала и сидели внизу, ожидая вызова наверх. Вдруг фанерный потолок над нами со страшным треском лопается и на наши головы падает Иванов-Гай. Когда, оправившись от испуга, мы наклонились над ним, он лежал бездыханным.
- Доктора! - крикнул кто-то.
- Воды!
- Нашатырь! Вот, возьмите нашатырь!
- Возьмем на руки и дружно понесем, - предложила какая-то бледная пигалица в форме института благородных девиц.
- Перерыв окончен! Все на съемку! - вдруг заорал Иванов-Гай и, вскочив, побежал наверх. - У нас - немая сцена!
Оказывается, он так темпераментно носился, изображая пробег, что перемахнул за декорацию и провалился, вступив на наш "липовый" потолок. Он довел съемку до конца - так же бегал и так же прыгал. Но потом его отвезли в больницу, так как у него было сломано ребро.
А вот передо мною лежит более близкая по времени, но уже выцветшая фотография. На ней изображена сцена в фабричном красном уголке из картины "Его призыв", которая была поставлена Я. А. Протазановым в первую годовщину смерти В. И. Ленина и посвящена Ленинскому призыву в партию.
Всматриваясь в лица участников этой групповой фотографии, нахожу себя. Вспоминаю: это роль молодого рабочего. Рабочий этот играет на гармонике, судя по фигурам танцующих, вальс. А вот на третьем плане обратите внимание, у танцующей девушки с таким милым, симпатичным, с таким удивительно обаятельным лицом есть что-то общее с Марецкой. Вы не находите?
Да, это и есть В. П. Марецкая, славная Верочка, которая, как видите, тоже не проснулась сразу "звездой", а прошла суровую и полезную школу, исполняя небольшие роли.
Мы с ней снимались в тот период и в "Живом трупе", где В. И. Пудовкин играл Протасова (Вера играла даму "легкого" поведения, а я лжесвидетеля), и в "2-Бульди-2", и еще в двух - трех картинах.
И сколько в эти маленькие роли было любовно вложено фантазии и творческого задора нами, начавшими свой путь в кино с "азов".
Есть ряд любимых и популярных актеров, картины которых показывают в Институте кинематографии. Эти актеры создали классические образцы актерского мастерства, и по этим образцам учат студентов.
Марецкая принадлежит к славной когорте актеров, которые шли к своей славе от ступеньки к ступеньке, завоевывая ее огромным трудом, талантом и количеством самых разнохарактерных образов, шли к ней медленно, но верно, оттачивая свое мастерство.
"Межрабпом-фильм"
В Петровском парке, на том месте, где сейчас находится стадион "Динамо", в лесу, среди дач, стоял стеклянный павильон, в котором создавались картины. Это была киностудия "Русь", позже "Межрабпом-Русь", а с 1928 года -"Межрабпомфильм".
Она была тесной и технически плохо оснащенной. Но в ней было выпущено много прекрасных, "актерских" картин. Это и "Поликушка" и "Станционный смотритель" с И. Москвиным, это и "Медвежья свадьба" с К. Эггертом, Ю. Завадским, В. Малиновской и Н. Розенель по сценарию А. В. Луначарского, и "Мать" Горького, поставленная В. И. Пудовкиным с Н. Баталовым, и "Аэлита"
1 с тем же Н. Баталовым, И. Ильинским и Ю. Солнцевой, и "Его призыв", и еще много других великолепных фильмов.
1 (
Первая по возвращении из Германии картина Я. А. Протазанова.)
Студия жила полнокровной жизнью, в ней царила творческая атмосфера. Я был молод, был не удовлетворен тем, что делал, и мне всегда казалось, что главная работа лежит где-то рядом, что я только должен увидеть ее, увлечься, и тогда стремления, желания и сила, которые бурлили во мне, найдут верный творческий выход. И я пришел на эту студию.
Но начав сниматься даже в совсем маленьких эпизодах, я почувствовал, что, если работать так, между делом, ничего хорошего не получится: надо отдавать студии все время, а его у меня было мало.
Театр Мейерхольда я совмещал с работой в Клубе текстильщиков, где поставил два спектакля. Потом мне предложили "на широкую ногу" поставить кружковую работу в рабочем клубе в Нарофоминске. На лето нас поселили в лесу, в бывшем охотничьем доме. Я пригласил руководить кружками моих друзей: литературным - Ю. Кубацкого, секретаря
театрального журнала, и музыкальным - молодого композитора Ю. Милютина.
Ребята и девчата у нас в кружках были великолепные, энтузиасты, работали дружно. И мы охотно помогали им создавать свой первый рабочий театр. Я поставил пьесу Б.
Ивантера о комсомольцах, она была хорошо принята, и меня назначили главным инструктором Союза текстильщиков.
Но меня тянуло в Петровский парк, в стеклянный павильон, где творили искусство, покорившее мир, - кино. И я оставил полюбившуюся уже мне клубную работу в театре самодеятельности и стал все свободные дни проводить на студии.
Я сидел словно завороженный, часами наблюдая и учась, как артисты и режиссеры кропотливо строят сцены, добиваясь нужной правды.
Это меня увлекало настолько, что иногда я лез с советами туда, где в них совсем не нуждались. Но, странное дело, очень часто ко мне прислушивались и совсем не обижались, если я советовал невпопад, чего-то не зная до конца.
Яков Протазанов и другие
Яков Александрович Протазанов обратил внимание на мою увлеченность и стал меня занимать в своих съемках. Часто, как бы шутя, он говорил:
- А вот спросим у Миши - у него голова светлая!..
Впервые у него я снимался в маленькой эпизодической роли в "Аэлите". По сценарию в одном из солдатских клубов любители разыгрывают живую картину по плакату "Один - с сошкой, семеро - с ложкой", где семеро эксплуататоров, поп, купец, царь, фабрикант и другие, живущие за счет одного, стоят с ложкой и жадно смотрят на крестьянина с сошкой. Вот этого длинного худого крестьянина играл я.
Картина "Аэлита" имела большой успех. Этому отчасти способствовала и шумная реклама. На фасаде кино "Аре" была сооружена объемная декорация: на Марсе, среди золотых колонн, кругов и квадратов, перевитых золотыми канатами, были водружены в натуральную величину фигуры владыки Марса и Аэлиты. Мигающие лампочки и скрытый свет придавали таинственность этой рекламе.
Публика всегда толпой стояла на Тверской (ныне улица Горького), мешая движению к неудовольствию милиции. Зато к удовольствию дирекции - на кассе долгое время висел аншлаг: "На все сеансы билеты проданы".
Критика ругалась, несмотря на явные художественные достоинства картины и неплохую игру актеров. Смешон был И. Ильинский в роли сыщика-любителя. Обаятельным красноармейцем с гармошкой расхаживал Н. Баталов. Суров был К. Эггерт - владыка Марса. Безумно красивы и загадочны были Ю. Солнцева - Аэлита и Ю. Завадский - Гора. И разве уж так истеричен, как об этом писали, был Н. Церетелли в роли инженера?
Я. Протазанова упрекали в нечеткости идеи, в стилизации под манеру Камерного театра, но признавали, что это не помешало сочной и добротной игре актеров, изображавших советских людей.
Барышники же подсчитывали реальный заработок, продавая билеты на "Аэлиту" втридорога...
М. Н. Алейников - биограф Протазанова - уверяет, что за свою жизнь Яков Александрович сделал около ста картин. Наверное, оно так и есть. В простое Протазанов быть не любил и "спустя рукава" не работал.
Вскоре после выхода "Аэлиты" он уже начал подбирать актеров для следующей картины - "Его призыв", которая, как я уже говорил, была посвящена Ленинскому призыву в партию и выпускалась к первой годовщине со дня смерти Владимира Ильича.
Я вспоминаю, как Протазанов, узнан, что мой отец рабочий, коммунист Ленинского призыва, очень долго и подробно расспрашивал, как рабочие восприняли весть о смерти Ленина, о их горе и скорби. Просил вспомнить детали -реакцию отца, мою, когда с Вс. Мейерхольдом и труппой нашего театра в лютый мороз мы провели целую ночь, греясь у костров, в очереди в Колонный зал, где стоял гроб с телом Владимира Ильича Ленина.
Захар Даревский, заведующий производством фильмов, рассказывал мне в те дни, что Протазанов, мастер первоклассных боевиков, которые он делал спокойно и уверенно, к постановке фильма "Его призыв" относился не только с чувством повышенной ответственности, но еще и страшно нервничал: многие считали, что он не справится с темой о партии и Ленине, и фильм он снимал на свой страх и риск.
Да и сценарий В. Эри, как справедливо позже отмечал В. И. Пудовкин, отражал всю неустойчивость и растерянность кинематографистов перед поисками революционной правды как в области содержания, так и формы.
Влияние западных "бандитских" и всякого рода модернистских картин было огромно. Мы, молодые артисты, бывало, после спектакля бросались смотреть их запоем у Бойтлера, американизированного директора кинотеатра на Малой Дмитровке (бывш. Купеческий клуб).
Похожий на американского актера Уильяма Харта, в каких-то всегда немыслимых ковбойских рубашках, с трубкой и в широкополой шляпе, Бойтлер пропускал нас, "мейерхольдовцев", даже если сидеть приходилось на плечах друг у друга. Он без конца показывал многосерийные картины, полные убийств и приключений, в которых были французы из "Патэ" и "Гомона"; бандитка в черном трико, артистка Мюзидора в "Вампирах" конкурировала с Пирл Уайт, а обе вместе с американцами и Дугласом Фербенксом...
Молодые кинематографисты еще цеплялись за детектив, а Протазанов уже сопоставлял колесо мельницы с колесом рулетки в казино, где прожигают жизнь бежавшие из Советской России фабриканты.
Он заставлял оператора делать наплыв: мельничное колесо (работа, труд) вытесняет крутящуюся рулетку (тунеядство, праздность). Появились социальные акценты в обрисовке разных сторон жизни представителей разных классов.
Когда для натурных съемок мы выехали в деревню Кашино, где была зажжена первая лампочка Ильича, Я. Протазанов задержал меня ("для консультации", пока не кончил снимать все сцены эпизода: "Рабочие, осуществляя шефство, проводят в деревню электричество".
Я не знал, не догадывался поначалу, что эту картину он -большой специалист и искренний художник - расценивал как свою реабилитацию после "Аэлиты", как свой "вклад в дело Ленина". Так он сказал мне вечером, когда после беседы с крестьянами, видевшими Владимира Ильича, мы возвращались в избу, где жили.
В картине было очень много ценных, трепетных находок. Протазанов, всегда бурный и громкий, эту картину делал сосредоточенно, тихо беседуя с актерами и как бы передавая своим настроением всю важность и ответственность темы. И актеры, чувствуя это, играли вдохновенно, с большим настроением. М. Блюменталь-Тамарина в сцене убийства была трагически наполнена. В. Попова, А. Кторов, И. Самборский играли в лучших традициях реалистической школы, что в значительной мере оправдало некоторую надуманность любовного сюжета и увлечение сценариста детективной занимательностью. Отлично играла девочка, Таня Мухина, которую потом часто снимали в советских лентах.
Острые детали, вроде висящих рядом с иконой портретов Маркса и Ленина, очень точно и тонко раскрывали психологию старого человека, вступающего на новый путь.
Мы видели, как исчезают штампы, набитые ремеслом, как сила гражданской страсти движет художником, делая его вдохновенным и подлинным творцом.
Таким его приняли общественность и строгая критика. Картина произвела перелом в тематике и приемах кино. Она точно выражала чувства и мысли советских людей. Фильм дал больше чем реабилитацию мастеру, - он свидетельствовал о понимании Протазановым задач советского искусства, о его желании активно участвовать в живом процессе, в рождении новых общественных отношений.
В "Правде" М. Кольцов писал:
"Его призыв" - скромное по размерам шумихи, но крупное и очень важное достижение молодого советского кино. В нем прощупывается настоящая дорога... зритель видит, что героиня-работница должна была вступить в Ленинский призыв в партию. Это случилось не потому, что в художественном совете или другой инстанции решено было так кончить картину, а потому, что развивавшееся шаг за шагом зрелище не могло иначе кончиться..."
Яков Александрович работал с актерами много, старательно и любовно, как хороший рассказчик описывал образы в их действиях. Он любил актерскую профессию за фантазерство и пылкость воображения. Его глаза, когда он разговаривал, то сужались, то расширялись. Его взгляд принимал то мрачный и даже грозный оттенок, то становился лучезарным.
(Однажды я рассказывал ему про спектакль в "Эрмитаже". Он, усомнившись в факте, о котором я рассказывал, спросил: "А с кем вы были?". Я "для авторитета" ответил, что с Гейротом. Увы, - выдумал я весьма неудачно: А. Гейрот, артист Художественного театра, в этот вечер снимался у него. Протазанов хохотал, как мальчишка, что поймал меня, и потом всегда меня дразнил: "Миша, а вы сейчас были, часом, не с Гейротом?")
Яков Александрович был необыкновенно красив и свою великолепно посаженную голову нес гордо и с достоинством. Мне казалось, что он похож на льва, но со мною не все соглашались и говорили, что я в него влюблен... Не знаю. Может быть. Я любил наблюдать его в работе. Властно и точно он отдавал распоряжения. На съемочной площадке всегда был
порядок, все были на своих местах, всегда подтянуты, "в хорошей форме".
Съемки были немые, и тем не менее в павильоне, когда снимал Протазанов, была абсолютная тишина. Он всегда стоял рядом с оператором (тот с большим искусством крутил ручку, снимая в определенном ритме) и пристально следил за игрой актера. Тихо или громко, в зависимости от характера и настроения снимаемого куска. Протазанов дирижировал действиями актера.
- Так, глаза на меня! - Актер переводил глаза.
- Так, пауза. Глаза шире, резкий поворот. Крик. Спасибо! - И рука ложится на плечо оператора: - Ну как?
- Салат! - отвечает тот.
- Лапша! - кричит Протазанов, и палка в его руках разлетается на мелкие кусочки. (Он ходил со специально выточенной палкой.) Эта "мистика" означала, что пленка не провертывалась, образовался завал: "Салат", и сцену придется переснимать. Огорченный режиссер ругался и в гневе ломал палку. (Их было много в запасе у помощника режиссера, и ломал их Протазанов по нескольку штук в день...)
А сколько раз актерам приходилось ловить брошенную в них палку или получать легкий удар: "Не спать!".
Сам всегда бравый и полный энергии, Протазанов не терпел вялости и инертности в работе. Разговаривая с одним, он вдруг неожиданно бросал палку в сторону того, кто скисал или зевал.
"Лихт аус!" - гремело после каждого снятого эпизода, и палка стремительно летела к помощнику. Это значило: "Пошли дальше!" или "Где мой сценарий!"
Снимал он с оператором Луи Форестье, французом, который один из первых приехал по приглашению русских, да так и остался в России, найдя здесь свою вторую родину. Это был замечательный специалист.
Он плохо говорил по-русски и, когда начинал злиться, бормотал невесть что, понять его было невозможно. Только
помощник, уже привыкший к своему шефу, спрашивал совершенно спокойно:
- Что ты хочешь, Луи? Что?
Тогда Луп взрывался, топал ногами и кричал:
- Дурак! Какой! Почему не понимаешь? Я говорю ясно: подвинь на крышку!
Приносили крышку от ящика.
- Нет! - заходился окончательно Форестье, бегая вокруг аппаратуры: - Дурак! Почему не понимаешь - крышка! Хлеб -крышка!
- Крошка?
- Да!
- Так и говори, подвинь на крошку, а то заладил крышка, крышка!
Форестье быстро успокаивался и со всеми вместе весело смеялся.
Я с Луи Петровичем очень долго дружил - это был сердечный человек, остроумный, веселый, словом, чудесный друг. Вечера, которые я с ним провел, вспоминаются, как серия чудесных новелл.
Протазанов, а с его легкой руки Желябужский и другие режиссеры стали меня охотно приглашать сниматься.
Яков Александрович в шутку, но с серьезным лицом говорил, что я приношу ему счастье, и поэтому обязательно просил сняться в его картине, хотя бы это был и совсем незначительный эпизод:
- Вот снял без вас одну картину, и худо!
В какой-то картине, кажется в "Процессе о трех миллионах", была сцена: полицейские ищут вора на чердаке. Протазанов со свойственной ему остротой и уменьем находить точные детали решил чердак заполнить кошками: когда, мол,
полицейский откроет дверь, коты и кошки с мяуканьем обязательно выскочат на человека, и будет смешная сцена.
- Миша, вы мой лучший друг, сыграйте эту роль-малюточку для меня.
Кошек собрали со всей Москвы и поместили в декорацию, забив в ней все дырки. Место съемки - лестницу на чердаке и дверь в темную комнату, наполненную кошками, тоже обнесли высокой стенкой. Для аппаратов проделали форточки. Кошки, их собрали штук пятьдесят, мяукали протяжно и нудно. Весь предыдущий день и ночь их не кормили, чтобы были злее.
Перед самой съемкой, когда дали свет на площадку, я прорепетировал проход и воображаемую сцену с кошками -отмахивался, крутился.
Протазанов подошел ко мне и очень мило сказал:
- Миша, если боитесь, - не надо. Кошки легко бесятся - не дай бог укусят. Я прокляну себя.
- Ничего, - храбро ответил я. - На мне высокие резиновые сапоги и ватник.
- Ну,смотрите.
Я надел перчатки, натянул на уши картуз, и съемка началась.
Играя, я оглядел все уголки, заглянул под лестницу, наконец взошел по ступенькам и... смело открыл дверь - на пороге сидели две сонные кошки и жмурились от света, потом из темноты медленно вышло еще несколько, они потянулись, расправили когти, почесав их о деревянные ступеньки, и, зажмурив глаза, начали, мурлыкая, расходиться по площадке.
Я стоял, прикрыв себя на всякий случай дверью, и надо было видеть мои растерянные глаза, особенно когда какая-то рыжая драная кошка, выгнув спину дугой и жалобно мяукнув, потерлась о мою ногу.
Хохотали все до упаду.
Начали орать, бить по стенкам кошачьей комнаты палками, -появилось еще несколько штук: свет, тепло их разморили, и они, тихо выходя, укладывались на лестницу калачиком, а я, окруженный мирно спавшими кошками, размахивал жезлом и кричал:
- Брысь, брысь!..
После этого Яков Александрович, встречаясь со мной, становился во фронт и, подняв палку кверху, как саблю, отчеканивал:
- Привет от моей кошечки!
* * *
После успеха "Сорок первого" Протазанов остановился на повести И. Шмелева "Человек из ресторана", которую вместе с О. Леонидовым - милейшим и добрейшим человеком - быстро обработал в сценарий для И. Москвина.
Протазанов сначала намечал актеров, а потом уже, с учетом их индивидуальных особенностей, создавал сценарий и намечал роли. Но Иван Москвин заболел, и на роль старого официанта был приглашен Михаил Чехов. В эпизодах были заняты первоклассные актеры: Степан Кузнецов, Михаил Климов и другие. Не забыт был и я.
О. Леонидов, придя как-то в павильон на съемку, сказал мне:
- Яков Александрович сейчас предложил мне написать для вас роль официанта, обаятельного и нагловатого, с пушистыми усами. В паре с Чеховым - он маленький, вы длинный - будет отлично.
Так я и встретился с М. А. Чеховым. Но об этом я уже рассказал.
Однажды, в 1928 году, Я. А. Протазанов ставил фильм, который назывался "Дон Диего и Пелагея". На главные роли он пригласил М. Блюменталь-Тамарину и замечательного артиста А. Быкова, руководителя театра импровизации "Семперанте". Мне он сказал:
- Миша, у меня нет для вас роли, но я хочу, чтобы вы обязательно участвовали.
- Спасибо! Но если нет роли, то...
- То это значит, что специально для вас я ее написал. Вот роль инструктора по сельскохозяйственной работе, который о сельскохозяйственной работе понятия не имеет. Мне кажется, вы должны ее хорошо сыграть. Фигура сатирическая, и, по-моему, получилось смешно. Представьте инструктора, который не знает, что такое грабли, и не видит разницы между коровой и быком.
На визитной карточке, которую он всем сует, будет написано: "Инструктор по сельскому хозяйству Михаил
Иванович Жаров". Вас это не обидит?
- Наоборот. Лестно и смешно!
Говорят, картина смотрится до сих пор очень интересно и весело.
Протазанов заканчивал картину эффектным приемом, тогда он был еще нов и производил впечатление: когда в финале справедливость торжествует, - гипсовый бюст Калинина улыбается..
"Шахматная горячка"
В 1925 году Хосе Рауль Капабланка приехал в Москву на шахматный турнир. Кинематографисты "Межрабпома" решили использовать его приезд и снять короткометражную комедию по сценарию Н. Шпиковского. Режиссер Всеволод Пудовкин, это была его первая самостоятельная работа, и оператор Анатолий Головня сняли веселую картину, которая как "сенсационная комедия "Шахматная горячка" с участием дона Хосе Рауля Капабланки" вышла на экраны. Она была интересна и тем, что в эпизодических ролях, шутки ради, внося свой дружеский вклад в шахматное искусство, снимались не только ведущие актеры, но и режиссеры, шахматные болельщики - межрабпомовцы. В главной роли любителя был Фогель. У всех остальных - у Протазанова, который играл аптекаря, завертывающего пациенту вместо пузырька с лекарством ферзя, и Райзмана, у Пудовкина и Барнета, у Кторова, Наташи Глан, Самборского - ну, почти у всех были маленькие эпизодические роли, которые они играли с удовольствием и озорно. Я играл веселого маляра.
Картину, правда, она была короткометражная, сняли в рекордно короткий срок - в шесть или семь дней.
Капабланка, Маршалл, Рети, Грюнфельд и другие мастера тоже фигурировали в картине - их изображения ловко смонтировали, взяв куски из хроники. Картина получилась смешная и имела успех
Владимир Фогель
Герой многих комедий, в том числе и "Шахматной горячки", Владимир Фогель был замечательным комедийным артистом. Судьба его, к сожалению, кончилась трагически.
Получив воспитание в школе Льва Кулешова, он вместе с В. Пудовкиным, Б. Барнетом и другими вскоре отделился от группы и начал свой самостоятельный путь.
Талантливый и своеобразный актер, В. Фогель обладал всеми данными, чтобы быть ведущим комиком мирового экрана.
Худой, с прекрасно тренированной фигурой, мрачный, в очках, он был представителем милой человеческой разновидности интеллигентов, которые на земном шаре, занимая исполнительские посты и службы, не имеют никакого решающего значения для судьбы человека.
Он в меру умен и в меру растяпа. Обаятелен в доброте и беспокоен в задумчивости. Девушки его любят и легко оставляют, не думая, что он может страдать. Ему верят, и его же обманывают. Таков был герой Володи, весьма схожий с ним самим.
Друг В. Пудовкина, он находился всецело под его влиянием.
Он обладал дарованием эксцентрика. И учитель его Л. Кулешов эффектно и гротескно подавал Фогеля в своих пантомимах "Картины без пленки". Но Фогель этим не довольствовался и стал одним из убежденных поклонников реалистического метода игры и раскрытия образа.
Трудолюбивый, он всегда работал жадно и так много, стараясь ничего не упустить, что у нас, его друзей, даже создавалось впечатление, что эта торопливость вызвана какими-то скрытыми мотивами.
Он очень любил семью. Человек высоких моральных качеств, чистый и застенчивый, он никогда не произносил непристойных слов и, смущаясь, как девица, краснел, если при нем ругались походя и зря.
Вечно озабоченный, он был либо непоседа и торопыга, либо вдруг мог долго стоять, глядя в одну точку.
- Володя!
Молчание.
- Володя!
- Да, да!.. Ты меня звал?
- Звал, несколько раз, но ты о чем-то мечтаешь?
- О жизни, дружище, о жизни...
Думать о жизни мучительно и озабоченно, вероятно, долго нельзя - он заболел. Его поместили в нервно-психиатрическую лечебницу...
Как-то во время съемок "Белого орла", пока в павильоне снимали Вс. Мейерхольда, В. Качалов, выпив чего-то из фляжки, которая всегда находилась у него в кармане мундира, пригласил меня в буфет.
В ожидании наших съемок, я играл его секретаря, Василий Иванович рассказывал мне множество увлекательных случаев из своей жизни, из жизни старой Москвы и актеров.
Так я узнал, что ему, молодому студенту, который был принят в труппу, - дело происходило, если мне не изменяет память, в Вильне, - антрепренер порекомендовал переменить для сцены фамилию.
"Вам не кажется, что не очень благозвучно для девочек: "Шверубович, Шверубович, бис!" Чувствуете,- нехорошо. Надо переменить".
"Я об этом как-то не задумывался. На какую же?" - смущенно спросил Качалов.
А вот посмотрим, - сказал антрепренер, развертывая свежий номер газеты. - Вот, пожалуйста, умер генерал Василий Иванович Качалов. "Качалов, Качалов, бис!" - прикинул антрепренер. - А?.. Удобно! Ну вот и отлично - один Качалов умер, а другой родился. Согласны?"
- Так я и стал Качаловым... - заключил Василий Иванович. -А то, вот еще с Мишей Климовым... у нас был случай на масленой...
Но в это время я почувствовал, что на меня кто-то пристально смотрит; быстро повернув голову, я увидел, как из темноты коридора, поблескивая очками, на меня глядел Владимир Фогель.
Я вышел:
- Верить ли глазам? Владимир, ты?
- Как видишь.
- Отпустили? Отдохнул, пойдем к нам, - и стал тащить его в буфет.
- Нет, нет! И не кричи, пожалуйста, я гуляю. Соскучился и вот пришел.
Он был возбужден, белая рубашка была расстегнута, тонкая шея и худые, впалые небритые щеки его очень старили. Глаза, обычно мягкие, с грустным юмором, беспокойно бегали.
- Володя, что случилось? - спросил я тревожно, после того как он буквально затиснул меня под лестницу, где лежали ковры и дорожки.
- Нет, ничего не случилось! Я хочу тебе сказать... посоветовать... Чтобы ты не работал... много... Надо чаще отдыхать... Верь мне, а то потом... трудно успокоить инерцию -хочется работать... В больнице не могу отдыхать... Тишина меня угнетает, - говорил он торопливо, заикаясь и очень убежденно припечатывая слова.
- Володя, но ведь это для тебя необходимо. Ты не рассчитал свои силы - устал. Милый, надо отдохнуть!
- Да, да, спасибо. Иди! Тебя зовут на съемку, и я сейчас пойду, прощай.
Мы с ним поцеловались, и он ушел... Навсегда.
Через два дня, 10 июня 1929 года, мы его хоронили.
Мэри Пикфорд
"Межрабпом-Русь" получил сведения, что приглашенные им в гости американские артисты - популярные звезды мирового экрана - супруги Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс 21 июля (это было в 1926 году) приезжают в Москву.
Нельзя описать, что творилось у Белорусского вокзала. Возбужденные поклонники "маленькой Мэри" и "Багдадского вора" заполонили всю Тверскую, балконы, окна и даже фонари были утыканы поклонниками Мэри - "мэринами", как их окрестила языкастая Москва.
Я схватил штатив, Ю. Райзман - ящик с кассетами, кто-то -аппарат, и только тогда милиция нас пропустила на перрон как операторов кинохроники.
Поезд остановился, толпа рванулась к вагону, сметая все на своем пути, с дикими криками: "Мэри, Мэри!". Мы еле спасли аппараты.
Автомобиль, в который, с трудом протиснувшись через толпу, уселась Мэри Пикфорд, был немедленно смят - на крыльях и багажнике сидели ребята.
Остановились наши гости в гостинице "Савой".
Москва была в те дни в трауре - в Колонном зале Дома союзов стоял гроб с телом Ф. Э. Дзержинского, и москвичи, длинными шеренгами, с траурными знаменами направлявшиеся в Колонный зал, были возмущены неуместными криками и воем стоявшей перед окнами "Савоя" толпы мальчиков и девочек - "мэринов". Заполнив весь переулок, они истошно и дико орали, требуя к окну то Мэри, то Дугласа, не уважая и не считаясь со скорбью москвичей.
На студии был устроен прием очень скромно, без приглашенных, присутствовали только режиссеры, актеры и руководство "Межрабпома". Прием был, как говорили остряки, "постный", непривычный для избалованных гостей, но гости вели себя очень тактично. Много и роскошно улыбались, показывая белоснежные зубы.
Их без конца снимали. Мэри показала безукоризненное владение ракурсами, очень мило и обаятельно позируя во все стороны.
Дуглас Фербенкс сделал несколько своих знаменитых прыжков. Это был красивый человек с фигурой спортсмена, очень подвижной и ловкий.
Мэри Пикфорд, которую я видел впервые, была уже немолода, но выглядела великолепно. Когда ее
фотографировали, она сидела рядом с В. Малиновской, нашей "звездой", героиней нашумевших картин - "Медвежья свадьба" и только что выпущенного боевика "Человек из ресторана". Просмотрев эту картину, в ней снимался М. Чехов, супруги ничего не сказали. Миссис Пикфорд, мило поцеловав Веру, снисходительно похлопала ее по руке.
Вера расцвела от счастья. Вообще она не страдала гипертрофией чувства собственного достоинства. Она была наивна и бездумна. Уехав потом за границу, она вела там бродячую жизнь и погибла в каком-то кабаке. Несмотря на то, что она была почти в два раза моложе Мэри Пикфорд и интереснее, на фотографии Мэри получалась свежее и красивее, потому что умение держать себя в режиме, быть всегда в форме и даже умело применять косметику - это тоже искусство, а Пикфорд владела им в совершенстве, играя в сорок лет восемнадцатилетних.
"Дорога к счастью"
Однажды художник и режиссер С. В. Козловский обратился ко мне:
- Миша, вот сценарий, прочти повнимательнее, а завтра поговорим.
Это была история молодого крестьянина, который был призван в армию. В деревне он оставил жену и дочь. В Москве познакомился с фабричной работницей, молодой девушкой, и между ними возникла любовь. Сюжет был жизненный, как великое вечное: она, он, она. Жена в деревне умирает при родах. Убитый горем Егор приезжает в деревню. Полюбившая его работница берет на воспитание двоих девочек, и в результате образуется хорошая, счастливая семья. Вот и весь сюжет. Сценарий мне понравился.

|
| 'Его призыв'. Режиссер Я. Протазанов Межрабпом-Русь'. 1925 год Козловский ответил: |
- Очень хорошо! Значит, тебя и буду снимать. Спасибо, Яков Александрович, за совет - актер в кармане! - сказал он подошедшему Протазанову.
- Поздравляю. Не подведешь? - шутливо спросил он, хлопнув меня палкой.
- Ваш ученик, - ответил я, почесываясь.
Протазанов сказал:
- Если будут сомнения, трудности, - посоветуйтесь со мной! Не стесняйтесь! Ну, ни пуха, ни пера!
"Идите к черту!" - ответил я про себя, следуя "обычаю", который требовал только такого ответа.
Козловского я спросил:
- А почему все-таки вы меня выбрали на эту роль, когда кругом такие замечательные артисты?
Вместо ответа Козловский сказал:
- Ты должен внести в роль свою жизнеутверждающую радость. Ты общительный; что-то всегда весело рассказываешь, со всеми одинаково мил, и где ты бываешь, там тепло и весело. Вот я и хочу, чтобы Егор, которого я предложил тебе сыграть, был бы таким же непосредственным, как ты. Он должен быть умным, добродушным и сердечным человеком, и - ради бога - не старайся придумывать какую-нибудь сногсшибательную характерность - он не косой, не заика и не горбун. Вы, молодые, в погоне за острой характерной деталью можете "измордовать" любой образ.
 Фильм 'Его призыв
'
я репетировал сперва с Н. Баталовым, затем с Ив. Коваль-Самборским. Все менялось, все зависело от актера:
мизансцены, кадры
Фильм 'Его призыв
'
я репетировал сперва с Н. Баталовым, затем с Ив. Коваль-Самборским. Все менялось, все зависело от актера:
мизансцены, кадры
Твоей партнершей будет великолепная актриса театра Вахтангова - Елизавета Алексеева. Она статная и красивая. Ты видел, как она играет Виринею. В остальных ролях будут заняты тоже "неплохие" актеры: Блюменталь-Тамарина, Поль и Таня Мухина. Состав актеров, как видишь, дай бог! -закончил он.
Таня была девочка-вундеркинд, и ей прочили большую будущность. Мою дочку в нашей картине она играла очаровательно. Но, к сожалению, заняв ее в нескольких картинах, где нужна была ее наивность и детскость, Таню снимать перестали. Она выросла. Ее судьба мне неизвестна.
 Один из самых первых Я. Протазанов привлек в кино актеров театра, и мы полюбили новое искусство. В этом фильме состоялось первое выступление Веры Марецкой в кино. Она играла совсем маленькую роль. Вот она выглядывает из-за плеча танцующего В. Аталова, а я играю на гармонике
Один из самых первых Я. Протазанов привлек в кино актеров театра, и мы полюбили новое искусство. В этом фильме состоялось первое выступление Веры Марецкой в кино. Она играла совсем маленькую роль. Вот она выглядывает из-за плеча танцующего В. Аталова, а я играю на гармонике
Картина была для меня первой интересной большой работой. Она не стала боевиком, подобным "Аэлите", но все же шла на первых экранах.
Снимали картину быстро. Директором картины был М. С. Трофимов, бывший хозяин киностудии, которому и принадлежал этот павильон, он же основатель акционерного общества "Русь".
После революции акционерное общество было реорганизовано и стало называться "Межрабпом-Русь" -международная рабочая помощь. М. С. Трофимов остался работать, продолжая быть директором целого ряда картин.

|
|
Еще один кадр из протазановского фильма, где я опять с
|
гармоникой
"Дорогу к счастью" снимали в деревне и в городе, на улицах Москвы, на поле, на армейском полигоне и в павильоне.
Первые огорчения
Снимали покос. Просыпались в половине пятого утра. Завтракали, гримировались и отправлялись на место съемки. Возвращались вечером. Работая много лет в театре, я не привык играть на природе, что так важно для киноактера.

|
|
'Его призыв'. В селе Кашино, где зажглась 'лампочка Ильича', мы снимали сцену электрификации. Я должен был залезть на столб
|
Я очутился на настоящем лугу, среди настоящих деревенских косарей, среди живописно одетых мужчин и женщин - начало покоса всегда было праздником. Надо было косить. Но я никогда не держал в руках косу.
Меня стали наспех учить: "Размахивай в общем ритме и смотри за косой, чтобы не воткнулась в землю!".
Отснятый материал показал, что я выпадаю из общего ансамбля косарей - косой я только махал, а не косил. Смотреть было стыдно, и я закрыл глаза.
 'Его призыв'. С Ив. Коваль-Самборским меня сдружила любовь к театру и кино. Здесь мы с ним в качестве шефов приехали в
деревню
'Его призыв'. С Ив. Коваль-Самборским меня сдружила любовь к театру и кино. Здесь мы с ним в качестве шефов приехали в
деревню
Так на опыте я познал простую истину - изображая трудовой процесс, ты должен его познать и овладеть им, иначе стеклянный глаз объектива, который "все видит, все знает", обнаружит подделку, "липу".
Так постепенно, шаг за шагом, шла моя шлифовка и обкатка для кино.

. ■
'Дорога к счастью' Режиссер С. Козловский. 'Межрабпом-Русь', 1925 год. Егор Миронов в картине 'Дорога к счастью' был моей
первой большой ролью в кино
Я видел, что М. С. Трофимов рассердился, был испорчен съемочный день. Я принес убыток. Разволновавшись, я не спал в эту ночь.
Лежа на спине в сарае, на душистом сене, я в полудремоте мечтал: "Как было бы красиво выйти на луг и показать класс!".

|
|
'Дорога к счастью' Режиссер С. Козловский. 'Межрабпом-Русь', 1925 год. В корявый пень воткнут осколок зеркала, несколько четких мазков гримера Н. Печенцова, и я готов к съемке
|
Вдруг чувствую - меня дергают за ногу:
- Миша! Спишь?
- Нет...
- Страдаешь?
- Страдаю...
- Пойдем,покосим!
И мы пошли. Это был Николай, сын хозяина, где я жил, парнишка лет семнадцати. Ночь мне показалась волшебной. Запахи одурманивающие... Луг, дали, утопающие в легком тумане, и рядом маленький хлопец - стройный, голубоглазый, а для меня - чудо-богатырь.

|
|
Таня Мухина, игравшая дочь Егора, как всегда дети в кино, играла на редкость хорошо и естественно
|
Руки Николая изящно взмахивают, коса, как лунный луч, прорезает траву, издавая лишь легкий звук: з-з-жи! , з-з-
жи!". И трава, вдруг обессиленная, с легким поклоном ложится ровными рядами.
Красота!
Я иду с ним рядом и стараюсь изо всех сил.

|
|
В картине было много драматических сцен. Мой герой Егор Миронов расстается с женой...
|
Днем мою косьбу пересняли. За ужином Трофимов сказал:
- Спасибо! Хорошо косил! Но вот завтра будь внимателен, снимаем твои сцены с лошадью. Не подведи - за хвост лошадь держать не надо, - заявил он, скрывая улыбку большой ватрушкой, которую ел с аппетитом.
Он был милейшим человеком. Полный, ходил вразвалку и все делал со вкусом.

|
|
'Артисты Е. Алексеева, М. Жаров и Таня Мухина великолепно выразили благородную идею картины. Дружная семья и есть 'Дорога к счастью', - сказал нарком Н. А. Семашко на просмотре
|
картины
Начали съемку.
Москву-реку я переплыл на лошади вполне прилично, на берегу слез, легко перекинул через голову повод ("Молодец", -похвалил я сам себя) и пошел к стоящему актеру, который играл деревенского старосту.
Подошел, начали разговор... И вдруг слышу общий хохот. Обрываю разговор на полуслове:
- Что вас так смешит?
А Трофимов, трясясь от смеха и еле выговаривая слова, спрашивает:
- Интересно, зачем ты держишь в руке повод, когда лошадь давно ушла?
Оказывается, пока я разговаривал, лошадь, болтая головой, сбросила с себя уздечку и ушла, а я, ничего не замечая, продолжал держать повод в руках. Кошмар!

|
|
'Процесс о трех миллионах'. Режиссер Я. Протазанов. 'Межрабпом-Русь'. 1926 год. Напрасно мы готовились к нападению кошек. Они оказались смирными и сонными, испортив замысел эпизода
|
Опять практический урок - я не знал, как держат лошадь. О кино, многого же тебе надо! Тут все другое - и окружающая атмосфера, и манера игры.
Все, что в театре мне казалось мягко и жизненно, в кино было неестественно и даже грубо. Выяснилось, что лошадь, береза, у которой я остановился точить настоящую косу, коса, о которую можно обрезаться, луг, река, спокойно текущая, -одним словом, вся окружавшая меня природа обнажала мою игру; приемы, которыми я работал в театре, получались надуманными и нежизненными.

|
|
'Случай на мельнице'. Режиссер С. Козловский. 'Межрабпом-Русь'. 1926 год. Для съемки меня выкрасили, и я стал брюнетом.
|
Но и это не помогло перевоплощению
Началась опять мучительная работа над собой; надо было все понять, освоить и сделать своим, но меня одолевал, мучил какой-то ложный стыд - раз я играю главную роль в кинокартине, раз я главный артист, значит, я все должен знать сам. Ведь главные артисты ни у кого не спрашивают, как играть. А я вдруг буду спрашивать: "Как мне играть, чтобы быть настоящим? Посоветуйте, граждане!". Стыдно!
 'Случай на мельнице' - одна из первых работ оператора Е.
Любимова, в ней он удачно снял натуру. Кадры замерзшей мельницы и плотины очень хороши
'Случай на мельнице' - одна из первых работ оператора Е.
Любимова, в ней он удачно снял натуру. Кадры замерзшей мельницы и плотины очень хороши
И вот смотришь вечером готовый материал в кусках, отворачиваешься, краснеешь, мотаешь головой - все кажется ужасным, и сам ты какой-то долговязый урод! Почему это? Кто
скажет? Почему все играют хорошо, а я... Ох!
Единственный человек, которому я доверял, был Козловский, и я ему сказал:
- У меня ничего не получается. Как сделать, чтобы получалось? Научите! Подскажите!
- Во-первых, у тебя получается. Если бы не получалось, я давно снял бы тебя с роли. Не мудри, а ступай лучше спать, нам надо рано встать.
 'Мисс Менд'. Режиссер Ф. Оцеп. 'Межрабпом-Русь'. 1926 год. Режиссер Ф. Оцеп предложил мне придумать эпизод. 'Хорошо!' -ответил я, и в роли веселого официанта вошел в картину
'Мисс Менд'. Режиссер Ф. Оцеп. 'Межрабпом-Русь'. 1926 год. Режиссер Ф. Оцеп предложил мне придумать эпизод. 'Хорошо!' -ответил я, и в роли веселого официанта вошел в картину
Но меня это не успокоило. Смотреть себя на экране мне было очень трудно. Во всех движениях и взглядах я чувствовал ложь, неестественность. Правда, часть беспокойства отпала, когда из наводящих и осторожных разговоров с более опытными товарищами я узнал одно интересное обстоятельство: для того чтобы привыкнуть, научиться
смотреть на себя на экране как на постороннее лицо, нужно спокойствие, которое приходит со временем.
Это абсолютно верно. Сейчас, когда я гляжу на себя на экране, то спокойно разбираюсь, что хорошо и что плохо.
И тем не менее я думаю, что добрейший С. В. Козловский, который обязался в срок сдать картину, во многом меня успокаивал. Пусть это было неплохо, но мое беспокойство имело основание. Глаз объектива, направленный на актера, безжалостно фиксирует малейшую ложь и неуверенность в движениях, в жестах, во взгляде, в ракурсе и в положении тела. Он точно засекает напряженность там, где должно быть освобожденное тело, кривой рот там, где должна быть легкая, обаятельная улыбка счастливого человека. И все это я видел.
Однако глаз объектива также беспощадно обнажает и полную беспомощность натурализма, о чем я буду говорить позже.
Мысли в вразброд...
Так начался второй этап моего творческого становления. Во мне начала бродить реакция, как при химическом опыте в колбе. Смесь театра и кино создавала некий новый состав. И это было довольна мучительно.
От театра я получил уменье работать над образом, хватку, четкость, смелость и остроту построения характера, яркость исполнения и подачи текста, в театре я научился находить сквозное действие роли, вести ее через все спады и нарастания.
Кино требовало жизнеподобной правды. Отсюда - мягкость в движениях и в реакции, нежная, почти акварельная обрисовка даже самых гротескных фигур. Раскрытие чувств, их глубину -через глаза и едва заметные движения лица. Рождение мысли происходит и протекает острее и т. д. и т. п. Да, я это все понимал, но должен был ждать, когда осядет во мне муть сомнений и обнаружится новый элемент, новое актерское качество, нужное, как показал опыт, для дальнейшей работы и в кино, и в театре.
Наступила пора экспериментов, анализа и размышлений.
Артист не должен в кино играть только самого себя - это ясно. Но, может быть, нужно уловить интересные данные того или иного актера и иногда подогнать роль под него? По существу, все американские кинематографисты так и делали. Они брали Ричарда Бартлемесса, Дугласа Фербенкса или Мэри Пикфорд и, основываясь на их личных человеческих качествах, создавали фильмы. Мэри Пикфорд мало изменяла себя и тем не менее сыграла очень много картин и была любима зрителями всего мира. Она всегда была обаятельна, глубоко трогательна, и зритель был ей бесконечно благодарен, что, встречаясь на экране с этой замечательной актрисой, взволнованно следя за судьбой ее героинь, подчас глубоко сочувствуя ей, переживал и свои невзгоды.
Так было и с Ричардом Бартлемессом. Этот артист, всегда оставался самим собой - чудесным, застенчивым парнем, вначале как бы неуклюжим и робким, когда нужно, мужественным, стойким и в конце концов героическим характером. Но часто предприниматели американского кинематографа, используя личные качества актеров, заказывали без конца для них фильмы, пока актеры не старели и не исчезали с экрана.
Но почему Жан Габен до сегодняшнего дня не сошел с экрана? Он всегда находит новые интересные внутренние перевоплощения для своих образов. Оставаясь внешне самим собой, пользуясь лишь незначительными, но существенными деталями грима, Габен с юношеских лет играл главные роли героев всех возрастов, и то, что он делает, всегда интересно и вряд ли может надоесть.
Мы видели и актера другой системы - Лонг Чанея, который при помощи грима и всевозможных технических ухищрений, подтяжек, корсета, всевозможных способов, даже деформируя свою фигуру, добивался внешнего перевоплощения. Это было очень крупное явление артистического искусства. Есть фильм, посвященный этому актеру, который называется "Человек с тысячью лиц".
Но судьба Габена и Чанея не характерна для актера Запада. В основном все поиски режиссеров Голливуда заключались в том, чтобы найти соответствующий времени обаятельный актерский типаж, до конца его выжать, выбросить и перейти к новому модному актеру.
Звезда потускнела, да здравствует звезда!..
...Возвращаюсь к своим раздумьям. Почему же С. В. Козловский сказал мне: "Оставайся самим собой. Я тебя потому и беру, что ты похож на Егора"? Значит, он хочет, чтобы я был актером одной роли - самого себя! Зачем же так безжалостно сужать мои актерские возможности? Что же, это и есть знаменитая специфика кино? Да?
Нет! Просто режиссеры кино богаче театральных собратьев. Оказывается, у них есть большое преимущество перед театром.
Нужно ли в кино перевоплощение?
Актерское перевоплощение - вот подлинно вдохновенное искусство актера. Оно имеет свои традиции, свою историю: вдохновение и труд шлифовали чудесное искусство актера, которым славились наши учителя, наши русские актеры, начиная со Щепкина. Они были родоначальниками школы перевоплощения, основанной на большой реалистической правде; позже Станиславский теоретически обосновал это направление.
Но вернемся все-таки к Козловскому, к его предложению -играть мне самого себя.
Значит, из какой-то огромной труппы он выбрал меня, считая наиболее подходящим. И как задачи подгоняют под ответ, так роль он подгонял под меня.
Что же это за труппа?
Постараемся разобраться и найти ответ, который должен был разъяснить многие мои недоумения.
Все дело в том, что в распоряжении режиссеров и директоров киностудии как работодателей находятся:
все актеры всего Советского Союза, в каких бы труппах они ни работали;
все ученики театральных студий;
и вообще любой встречный гражданин, который может пленить пылкую фантазию режиссера или его многочисленных ассистентов и помощников.
Вот это и есть труппа кино и его резервы.
Поразмыслив, я закричал: "Эврика!".
Все очень просто.
Зачем же театральному актеру, приходящему на работу в кино, особенно стараться перевоплощаться? Как только он начнет искать грим, чтобы уйти от себя, он обязательно придет к какому-то актеру, который похож на него в гриме. Чтобы не быть голословным, вспоминаю такой случай.
Меня пригласили на одну московскую студию для пробы на главную роль. Перед гримом мне посоветовал, нет, не режиссер, - он еще не появлялся, - а его помощник или ассистент: "Ничего с лицом не делайте или, может быть, на всякий случай примерьте усы". Я прикинул несколько форм усов и загримировался, то есть положил тон.
И вот пришел "сам"! Долго и скучно смотрел на меня со всех сторон - я вертелся, он сидел.
Наконец он посоветовал: потемнить брови, глаза потушить, потом усы сделать пожестче и тоже потемнее, потом наклеить нос и накладку в волосы...
И когда все эти "потом" я сделал, - на меня из зеркала смотрел кто-то, удивительно похожий на одного популярного актера.
Я спросил режиссера:
- Вас это устраивает?
- Пожалуй... Да!.. Только... Вот... гм... гм...
- Только вот, - перебил я его, - возьмите актера, на которого я стал похож, и тогда никаких других "вот" вам не понадобится! До свидания!..
Играл "рекомендованный" мною актер. Да! Перевоплощение для кино дорогая вещь, ведь надо искать, работать, рисковать, может не получиться! А типаж проще и легче.
"Но, позвольте, любезный критик, - запротестовал во мне актер. - Значит, по-вашему, в кино не нужно перевоплощаться, как в театре, а нужно только, оставаясь самим собой, менять наклейки по характеру типажа - бороды и усы. Так? Да?"
Нет! Совсем не так! Надо, даже играя себя, используя свои данные, работать, работать и много работать над уменьем перевоплощаться, над созданием приемов сложнейшей внутренней гимнастики, надо тренировать выразительность и гибкость внутренних красок.
Ведь нет двух одинаковых людей, как бы они ни были похожи друг на друга. Индивидуальные качества одного влекут по одному пути, а другого - по другому. Это две разные жизни...
Вот эта сложность, о которой я тогда, в дни своей киномолодости, мучительно много думал, сверяя ее с практикой, привела меня к одной из безусловных истин.
В театре мне больше удавались роли комедийные. Очевидно, во мне заложено много энергии, жизнерадостности, которыми я наполняю свои роли. Мне сказали, что я простак. По амплуа простак - это веселый нельзя сказать, что глупый, но довольно легкомысленно смотрящий на жизнь человек. Простаков любит зритель, их - носителей веселой шутки, смешного слова, озорных действий - публика всегда смотрит с удовольствием.
Когда в кино я столкнулся с ролью Егора, то прежде всего постарался увидеть в нем не простака, а человека, моего современника, красноармейца, каких я встречаю сотнями на улице. Жизнь Егора к тому же была ограничена определенной дисциплиной. Весь сюжет направлен на то, что честный парень страдает: полюбил девушку, а в деревне жена. Значит, роль скорее драматическая, хотя в силу своей молодости он может быть веселым и даже озорным. Вероятно, найдя какие-то смешные места, я за них мог бы зацепиться согласно амплуа простака. Только нужно ли это? Приведет ли это к настоящей правде, к большому искусству? Нет, не приведет.
Маску должна заменить жизнь.
Декорации и натура
В театре - в декорации - у актера возникают на сцене одни ассоциации. На улице, на натуре у снимающегося киноактера возникают другие - они естественнее и ближе к жизни.
Работая в картине "Дорога к счастью", я впервые понял интуитивно, обостренным чутьем, что кино требует от меня чего-то другого. Конечно, я могу и имею право делать все то же, что и в театре, но приемы и качество игры должны быть другими.
Так, спотыкаясь и нащупывая, я искал систему игры для кино.
Тогда не было стройной системы работы над образом в кино, как ее, впрочем, нет и сейчас, и мы сами обкатывали и приспособляли во время съемок свои театральные приемы. Каждый актер в то время был изобретателем своей системы. Одни, более чуткие, талантливые, дотошные, сразу этот секрет раскусили и ловко приспособили свое мастерство; другие, тоже талантливые, потерпев неудачу, откатывались, недоумевая, почему их подвело "проверенное" мастерство.
Золотая середина
То, что испытывал я, вероятно, испытывал каждый актер, впервые пришедший в кино из театра.
По молодости мне казалось, что сцена требует от актера некоторого педалирования своих выразительных средств -голоса, жеста, приподнятого выявления человеческих чувств, эмоций, резко подчеркнутого грима. Мне казалось, что сам зрительный зал к этому располагает. Одни зрители сидят в первых рядах, другие далеко, и это заставляет актера играть и гримироваться на тот средний фокус, который проходит где-то в геометрическом центре зала.
Если в театре в какой-нибудь роли я находил своих почитателей, то на экране в той же роли, несмотря на успех у зрителя, мои критиканы говорили: "Да, может быть, это и смешно, и интересно, но все-таки это театрально, педалировано и даже грубовато".
Я не отношу себя к числу тех "величественных" артистов, которые, как глухари, когда сами поют, то не слышат, что делается рядом.
Нет, я всегда - и, может быть, это даже мой недостаток -слишком критически настроен к себе.
И вот, анализируя, критикуя, просматривая свои работы, я понял, что мое фокусное расстояние до кинозрителя - это объектив аппарата. Мой кинозритель может быть рядом, может смотреть мне в глаза, в зрачки - он видит малейшие тонкости, оттенки и нюансы моих душевных переживаний. Движение глазного века иногда говорит кинозрителю больше, чем сложная мизансцена. Значит, угол объектива кинокамеры стал реостатом, который регулирует силу эмоции и ее пластического выражения.
Поняв это, я понял главное. Позднее я перенес это "открытие" и на театр.
Я так долго задерживаюсь на картине "Дорога к счастью" только потому, что она была началом моей кинематографической дороги ц великолепной школой в поисках правильных решений.
В процессе работы я заметил несоответствие: в кино можно быть простым, как в жизни, то есть как в хронике, но ведь хроника снимает только явления действительности, будь то съезд или состязание, футбольная встреча или событие из жизни какого-нибудь выдающегося человека. Значит, такая простота - "как в жизни" - для искусства отпадает, ее нельзя воплотить в художественных образах. Нужно нечто среднее.
И я понял, что если театр научил меня работать над образом, то кино дало ощущение правды жизни и знаменитого в искусстве "чуть-чуть", то есть золотой середины художественной правды, которую мы ищем и в театре, и в кино.
Мои учителя в театре рассказывали, как работать над образом, как питать свою фантазию и как все это потом сделать своим. Театр требовал яркости, а кино говорило: делай мягко, чтобы выходило естественно, чтобы художественно воплощенный образ был не утрированным, а
И
я стал перестраивать для той "золотой середины" свое тело, свой голос, свое выражение глаз, свое внутреннее состояние, с которым иногда, кстати говоря, актер выходит на сцену пустым. Мало ли что бывает в жизни: придя взволнованным неудачей или радостью, актер не может сосредоточиться, а нужно выходить на сцену, тогда он начинает свою роль технически, исполняя только рисунок, и уже в процессе игры включается и живет в образе.
На сцене это допустимо, и чем крупнее актер, тем виртуознее он это делает. Публика не замечает перехода от имитации к подлинным чувствам. В кино это сделать нельзя -объектив выдаст вас!
Конечно, на общем плане, где фигура далеко, можно даже подменить артиста, играющего роль, что часто и делают, -одевают в костюм дублера, снимают его, и никто не догадывается, что произошла подмена. Так, например, было в картине "Медведь". Нужно было снять мой проход с О. Н. Андровской, через сад в оранжерею, где происходит наша дуэль, а я заболел. Кусок монтажный, не игровой, но без этого куска нельзя закончить картину. И тогда пригласили моего друга, который, говорят, очень похож на меня.
Он очень смешно рассказывает, как однажды - это было в 1937 году - к нему явились два таинственных молодых человека и сказали:
- Вы Эскин, Александр Моисеевич?
- Да.
- Директор Дома актера?
- Да.
- Нам нужно поговорить с вами наедине.
- Пожалуйста. - И, попросив всех выйти из кабинета, я,
неизвестно почему, волнуясь, сказал: - Я в вашем
распоряжении.
Поискав что-то в кармане, один из них сказал:
- Мы обращаемся к вам с большой просьбой - заменить на съемках "Медведя" Михаила Ивановича Жарова, который болен. Я директор картины Кабеливкер.
- Тьфу, ты! - выругался Эскин. - Зачем же нужно было закрывать дверь и напускать столько тумана, я это сделаю с большим удовольствием.
Его сняли вместо меня со спины, и никто не догадывается, что иду не я. Это не кинематографическая небрежность, а допустимая возможность - фокусное расстояние, о котором я говорил, и техника кино позволяют безболезненно для картины производить замену.
Но когда дело доходит до тонких психологических переживаний или сдержанных моментов выражения горя, страданий или радости, которые можно передать только через глаза и лицо, то в театре зритель должен смотреть на актера в бинокль, стараясь увидеть то, чего не увидят сидящие без бинокля.
В кинематографе же все зрители на огромном экране в равной степени видят лицо актера в самых малейших деталях и следят за его внутренней жизнью, заглядывая ему в глаза в буквальном смысле. Тут уж актер врать не может. Он должен находиться в том состоянии изображаемого человека, которое необходимо по ходу сцены или действия.
В "Дороге к счастью" есть сцена: мой герой получает сообщение, что в деревне умирает жена. Это известие застает его врасплох, и я должен показать отчаяние молодого человека. Момент драматический, сложный, и режиссер сказал: "Ты должен сыграть эту сцену чисто, не надеясь на монтаж. Я буду снимать ее одним куском: письмо вскрой, прочти и покажи мне свое горе".
Я вспомнил этюды, мы занимались ими в школе, и я решил из сцены сделать этюд. Не вышло. Я пробовал сидя читать и вскакивать - нехорошо! Тогда стал читать стоя, а затем садился, - тоже не получалось. Так, репетируя в разных вариантах несколько раз эту сцену, ища удобные и, как мне казалось, выразительные ракурсы, я в какой-то момент, огорченный и разозленный на себя, не думая о ракурсах, просто сел на кончик стула и, с досадой взяв себя за голову, начал что-то говорить.
И вдруг режиссер воскликнул:
- Тихо! Снимаем! Вот это горе! Мы на тебя смотрим и верим.
Актеры зашептали какие-то одобрительные слова.
Что же произошло? Пока я старался сыграть горе, то есть, надеясь на "мастерство", пытался изобразить эту сцену, у меня ничего не получалось. А когда вдруг, решив в отчаянии, что я бездарность, что ничего сыграть не могу, раскрепостил свое тело от надуманных ракурсов и стал подлинно взволнованным, нашлось нужное положение, эмоции возникли легко. Это и было подлинным выражением моего внутреннего горя, моего внутреннего состояния. Сцена была снята. Она производила нужное впечатление на зрителя.
Творчество и дружба
Я любил товарищескую атмосферу "межрабпомовской" студии и бывал там почти ежедневно. Это ничего общего не имеет с фабричной обстановкой современных студий, куда, даже если тебя и знают, без пропуска - "нет, шалишь", - не пустят!
- Зачем? Какие, такие творческие заявки?.. Встречи?.. Нельзя! Осади!.. Отвечать еще за вас!
В студиях везде огромные надписи: "Без дела не входить", а у тебя и нет конкретного дела, а есть творческие мысли!
- Как же быть?
На одном собрании в Доме кино А. Довженко метко сказал:
- Что такое "Мосфильм": это всюду далеко и никуда не
прямо! Студия в Петровском парке была уютная, гостеприимная. Входя, вы попадали в зал, где стояли круглый стол, несколько кресел. Вот там и собирались в свободные минуты молодые артисты, режиссеры, операторы: Володя
Фогель, Борис Барнет, Иван Коваль-Самборский, Всеволод Пудовкин, Юлий Райзман, Борис Свешников, Николай Баталов, Сергей Комаров и другие. Рядом были павильоны и комнаты руководителей: М. Н. Алейникова, который был директором студии, режиссера Я. А. Протазанова и других. Беседы протекали непринужденно, в чудесной творческой атмосфере.
С каким нетерпением мы ждали, когда режиссер и оператор пойдут вниз, где находились лаборатория и просмотровый зал, смотреть отснятый материал, и как волновались, сидя вместе с ними в темноте.
"Хорошо или плохо?" - каждый задавал про себя вопрос и старался отыскать ответ в холодном и иногда непроницаемом лице внимательно смотрящего соседа.
Все радости и невзгоды переживали вместе - все происходило на виду. Правда, тогда все было проще, примитивнее - не было ни союза, объединяющего в себе целую армию работников кино, ни грандиозных киностудий, ни домов киноактера, ни Театра киноактера, где происходят просмотры, диспуты, конференции, съезды. И тем не менее было бы хорошо в этих нужных общественных организациях - даже при их масштабе работ - сохранить интимность творческих встреч. Это сближает, объединяет друзей и движет искусство вперед.
Я рассказываю это не для того, чтобы сказали: "Ах, бедный Жаров, что он переживал и как волновался!", а чтобы подчеркнуть: подлинное творчество дается нелегко. Это я говорю тем молодым, которые думают, что все просто, -снялся, поиграл, а затем вкушай плоды славы.
Нет, работа актера - это большой тяжелый и кропотливый труд. И, может быть, именно то, что я был всегда критически настроен к себе, помогло мне сняться почти в восьмидесяти картинах и сыграть много крупных ролей, которые полюбились зрителю.
В общем после сдачи картины "Дорога к счастью" (я на просмотре быть не мог, играл спектакль) мне сообщил режиссер, что дирекция картину приняла хорошо. "Тебе просили передать благодарность!". А для того чтобы я это ощутил, ибо "соловья баснями не кормят", директор М. С. Трофимов написал записку в бухгалтерию, где предлагалось выдать артисту Жарову премию за "отличное исполнение роли Егора Шаронова в картине "Дорога к счастью".
Первую мою премьеру 8 декабря 1925 года в кинотеатре "Аре" я запомнил навсегда.
Через несколько дней в той же самой гостиной на студии ко мне подошел сценарист Эдуард Гребнер и сказал:
- Ну, поздравляю! Сейчас дирекция мне заказала сценарий специально для вас. Сюжет уже готов. Картина будет называться "Случай на мельнице". Постараюсь, чтобы роль была для вас увлекательной и новой.
Ставил картину опять С. Козловский. Снимал Ю. Любимов, интересный оператор и неугомонный человек - вечно в изобретениях.
С Козловским произошел разговор:
- Сергей Васильевич! Надо, чтобы этот, еще незнакомый нам Ефим не получился бы родным братом Егору. Мне кажется, надо репетировать уже сейчас, а не откладывать до съемок. А? Искать, за что зацепиться.
- Верно! Вот и ищи, а я тебя пока перекрашу и подберу костюмы.
Он как художник видел образ и ощущал его зрительно, мне же, исполнителю, предложил заняться "копаньем изнутри".
Перевоплощение началось с того, что меня отправили на Кузнецкий мост, в дамскую парикмахерскую, откуда через часа три я и вышел жгучим брюнетом, даже брови торчали на белом лице, как две запятые.
Картина снималась спокойно, в деревне под Москвой, в лютые морозы, но это только поддавало нам жару - не засиживались.
Примечательного в съемках ничего не было - крестьянский быт я уже постиг, освоил. Картина вышла в срок и на среднем уровне.
Премьера ее также была в кинотеатре "Аре" 15 сентября 1926 года. Она была торжественной, и я опять ужасно волновался... Для режиссера С. В. Козловского эта премьера была последней. Больше картин он не ставил.
...Знаменательно, что восемнадцать лет спустя произошло событие, которое опять соединило мою судьбу с Козловским: указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1944 году были присвоены нам звания - С, В. Козловскому народного художника, мне народного артиста. Мы долго и крепко обнимались, вспоминали нашу работу. Я сохраняю самые дорогие чувства признательности моему первому режиссеру, который поверил в меня и пустил в жизнь...
...На премьеру фильма "Дорога к счастью" я пришел вместе с Николаем Эрдманом, тут у него и родилась мысль написать для меня сценарий. Всегда медлительный, он вдруг загорелся и работу начал быстро. Сценарий назывался "Митя", по имени героя, которого я должен oбыл играть. Эрдман работал увлеченно. Я приезжал к нему почти ежедневно, и каждый раз он читал новые сцены или рассказывал о задуманном. Все было остроумно и талантливо. Я уже в мечтах предвкушал момент, когда в образе Мити войду на съемочную площадку и начнется мой первый съемочный день, всегда такой долгожданный и волнующий. Митю я видел отлично, он жил во мне...
Но потом, как это часто в жизни бывает, по неизвестным причинам или по "причинам, от меня не зависящим", мечты остались мечтами, а жизнь - жизнью! "Митя" был поставлен в Одесской киностудии режиссером Н. П. Охлопковым, исполнявшим главную роль.
Я продолжаю делать открытия
В "Межрабпомфильме" режиссер К. Эггерт, наш комиссаржевец, начал ставить фильм "Черное золото" ("Последний выстрел"). Главную роль шахтера должен был играть Николай Баталов, но он захворал, и снимался Иван Самборский.
Мы поехали в Донбасс.
Был 1926 год, часть шахт еще только откачивали, они были затоплены белыми, некоторые были взорваны. Шахты восстанавливались наспех: стране нужен был уголь.
В шахту - она была действующая - спустили и доставили на съемочный горизонт всю осветительную аппаратуру.
Надев на себя шахтерские костюмы и получив в руки лампы, мы в воскресенье, когда шахта работала не полностью, всей съемочной группой впервые в жизни были спущены вниз.
Первое впечатление, которое я получил, было ошеломляющим!
Нас посадили в клеть и предупредили, что есть такая традиция: опускать нового человека в шахту "с ветерком". Как мы на это посмотрим?
- Ну, раз традиция, а мы играем шахтеров, значит, должны уважать традиции, - опускайте! - сказали мы храбро.
И нас опустили.
Одному актеру стало худо, он категорически отказался идти дальше и, заявив, что "не создан для шахты", уехал в тот же день в Москву...
Я боевое крещение перенес довольно легко, только после: "Ах!" - не сразу наладил дыхание.
В подземном царстве мы долго шли ходами - и в рост, и ползком, выставив вперед фонари, и наконец вышли на главный штрек, по которому возят уголь и, завернув за угол, оказались на горизонте, где была съемка. Горизонт новый,
далекий. Было воскресенье, и лишь в отдельных отсеках продолжали отбой угля.
Я не могу забыть одно ощущение, которое осталось у меня на всю жизнь. Все было очень интересно, ново: глубоко под землей вдоль штрека мелькают лампочки, но стоит только отойти от главного штрека в сторону на пятнадцать - двадцать шагов, как погружаешься в темноту и - самое страшное - в тишину! Эта зловещая тишина на земле неизвестна. В ней ничего не резонирует. Голос не звучит. Лишь изредка раздаются скрипы или стоны оседающей породы.
Пока до меня не дошла очередь сниматься, я с любопытством ходил, в районе пятидесяти шагов, чтобы не заблудиться. Зашел в какую-то пещеру и чуть не упал, - у моих ног был обрыв, и лампа осветила уходившую в темноту черную воду. Я сделал несколько шагов по штреку, который был тускло освещен электричеством, и повернул в следующий -неосвещенный - штрек. Географически мое путешествие я представил себе так: если мои товарищи работают на нижнем штреке, а я прошел шагов тридцать кверху и затем повернул налево параллельно горизонту, где работают мои товарищи, -значит, если я опять поверну налево вниз, то попаду к своим. Я представил себе квадрат, на нижней части которого работают мои товарищи, и пошел. Найдя лаз, по которому, по моим расчетам, нужно было, правда, не идти, а ползти, на соединение с группой, я не задумываясь ринулся ползком в темноту, держа в руке лампочку.
Прошло минут, как мне показалось, десять, когда я увидел, что небольшой обвал преградил мне дорогу, назад ползти не могу, - значит, нужно завал разгребать руками. Разбрасываю по бокам породу, и вдруг мой фонарь падает, тухнет, и я оказываюсь в абсолютной темноте, заживо погребенным в буквальном смысле - со всех сторон, кругом земля. Лежу, зачем-то закрыв глаза, и обдумываю, что делать - пытаюсь крикнуть, но голос дальше моего носа никуда не идет.
И подумал я, что это - конец.
Говорят, что иногда за секунду перед человеком проносится вся его жизнь. Дважды со мной так было, когда я думал, что конец, и дважды я вспоминал только одного человека - свою мать.
Лежа глубоко под землей, я представил себе, как матери скажут: "Миша погиб в шахте!". А она посмотрит и сурово ответит: "Нет, этого не может быть!".
"Ответит именно так - она хочет видеть меня мужественным и сильным", - подумал я и, собрав все силы, протолкнул завал и пополз по кишке дальше. Я полз в темноте и тишине, долго и медленно, не зная куда. Эти десять или пятнадцать минут мне показались вечностью.
И вдруг я заревел; да, лег на руки и в голос заревел -впереди мелькнул огонек - значит спасен! Вылез я в забой, где сидели два шахтера. Это были члены бригады, которая взяла на себя ударные обязательства. Когда я вылез из лаза, они сидели сбоку, упершись спиной в породу, и, отдыхая, курили, глядя на гладкий, нависший пласт антрацита, который блестел напротив от света их лампочек. Я радостно пробормотал что-то вроде:
- Я, понимаете ли... заблудился, понимаете ли... и... - и полез под гладкий блестящий пласт, чтобы там отдохнуть после волнений, но четыре руки меня молниеносно схватили и подтянули к себе.
Меня ругали самыми страшными, отборными словами из всех, какие я когда-либо слышал в своей жизни. Оказывается, шахтеры, подрубив пласт, решили отдохнуть перед тем, как начать второй цикл работы: бревном ткнуть в подрубленный пласт, после чего он обрушился бы со страшной силой.
Представляете, что было бы со мной, если бы я облокотился на пласт и качнул бы его своей спиной, - этих воспоминаний я не писал бы!
Как вы, наверное, догадываетесь, больше гулять я уже никуда не ходил. Работали мы там неделю, спускались рано утром, туда же нам привозили еду. А выходили вечером, когда темнело.
Однажды, когда мы поднялись на-гора, это было на четвертый или пятый день нашей работы, светила луна. Я не помню, чтобы когда-нибудь для меня луна была бы такой чудесной, а небо таким дорогим.
Однажды кто-то из актеров наивно спросил шахтеров перед их спуском вниз: "А вам нравится ваша работа, ведь это же очень трудно, всегда быть под землей". После неловкого молчания один из них сказал: "Привыкли! Это наша жизнь! Непонятно?.. Молод еще!.. Поживешь, поймешь: будет уголь -будут и артисты".
В сценарии была сцена: в шахте происходит катастрофа. Об этом узнает в поселке народ и бежит к шахте. Трагический момент сюжета. Как же снять эту сцену массовки? Приглашать актеров было невозможно, - их просто негде было взять... Просить сняться в массовке население? Однажды на другой шахте уже была сделана такая попытка, но ничего не вышло, -люди бежали не сразу, смеялись, смотрела в аппарат, толкая друг друга, показывая пальцами. Съемки тогда были новинкой. И все же решили снимать население. Пошли на хитрость: замаскировали съемочные аппараты на улице, ведущей к шахте и у шахтного двора, затем должны были дать набат тревоги и снимать, что получится.
Когда все сделали и дали набат, картина получилась действительно страшная: из всех хат, домов, отовсюду
выскочили люди и устремились к шахте. Жены, матери, бросив хозяйство, как есть, дети - все это лавиной неслось к шахте, молча, с трагически искаженными лицами. Но когда выяснилось, что это киносъемка, гнев их был так велик, что я и теперь не смогу передать его силу.
Мы только тогда поняли, какое это величайшее горе, если в шахте случается несчастье, и что этим горем, этим несчастьем ни для каких высокохудожественных фильмов пользоваться нельзя. К тому же натуралистическое изображение явления ничего общего не имеет с подлинным искусством.
Когда мы вернулись из Донбасса, нас ожидала новая неудача: все, что было в течение десяти суток снято на глубине трехсот метров и чуть ли не в километре от главного ствола шахты, куда мы добирались и стоя, и лежа, и ползком, -все это натуралистическое, доподлинное окружение производило на экране серое, скучное, невыразительное впечатление, как в плохо построенной или плоско нарисованной декорации.
Актеры не играют, а живут трудностями, но зритель их не видит, и получается фальшь, наигрыш, хотя на самом деле мы преодолевали настоящие трудности, не думая об игре. Натурализм нас подвел.
Все кончилось просто, как и должно быть. С. В. Козловский построил в павильоне шахту, и все сцены были заново пересняты в павильоне, в игровых декорациях.
Освободившись от настоящих ненужных трудностей, актеры почувствовали себя в обстоятельствах своих героев, которых засыпал обвал. Стали жить выразительно и точно.
А в монтаже с натурной съемкой поверхности шахты, с падающей клетью это создавало настоящую, подлинную, художественно выраженную жизнь.
Таким образом, я был свидетелем, как дважды были посрамлены попытки натуралистического использования и показа явлений: и настоящая паника, и подлинные забои в художественном произведении совершенно не впечатляли. Эта картина с ее неудачами продолжила мою суровую школу -школу человека, посвятившего себя киноискусству...
"Аня"
В 1926 году О. И. Преображенская и И. К. Провов ставили
II Л II w W U
немую картину Аня из времен гражданской войны, в которой рассказывалось о русской девочке Ане (ее играла Тимченко) и мальчике-туркмене Али (Акзанов), как они помогли моряку Ждану, большевику, руководителю партизанского движения, которого играл я, пробраться через территорию, занимаемую белыми, и привезти оружие. Действие происходило на Волге. Картину мы начали снимать летом, в дельте Волги, в тростниковых заповедниках, и на Каспийском море. Базировались в Астрахани.
На зимний сезон я подписал договор в Бакинский рабочий театр и должен был туда выехать с группой наших мейерхольдовцев к началу сезона, но задержался, продолжая сниматься. Съемки были увлекательными: чудесная природа, сцены, полные приключений, плот, на котором мы плыли, - все это создавало романтическую атмосферу подлинных
приключений. С каким затаенным дыханием я лежал в колоде-гробу, закрытый крышкой, куда меня прятали Аня и Али при появлении белых. Дети все переживали по-настоящему, заражая и меня.
Я был молод, и меня все бесконечно радовало: Волга, Каспий, камыши, стрельба, бой - романтическая обстановка возбуждала, я работал с удовольствием.
Потом из Баку мне пришлось съездить в Москву для досъемки. Фильм был почти готов. Мне показали материал.
Снято все хорошо, средние планы великолепны: и чудесная натура, и высокие камыши, и фигура моя в тельняшке, с непокрытой головой, по грудь в воде, раздвигая камыши, я вглядываюсь в берега, где находятся мои враги, волосы, эффектно развеваются на ветру, взгляд направо и налево. Хорошо, четко! Все убеждало, но... Позвольте, - что это я делаю со своим лицом?
Если вся моя фигура абсолютно естественно выражает осторожность, то лицо безмерно "хлопочет" - старается показать: "Обратите, мол, внимание - я наблюдаю". Откуда это?
Что это? Театральность, которая для кино не годится? В театре, если нужно было сыграть человека, смотрящего вдаль, я помогал лицом - морщил переносицу, брови, а иногда еще и раскрывал при этом рот. Другая вина моей манерности - в диктате режиссеров великого немого.
Актеры привыкли к тому, что режиссер во время съемки ведет его, как марионетку, - и даже особым мастерством, "уменьем держать себя у аппарата" считалось быстрое реагирование на возгласы, идущие со стороны аппарата, где обычно сидел режиссер:
- Поворот! (Ракурс тела изменялся.)
- Глаза! (Происходила соответствующая заданию "стрельба глазами".)
- Улыбка! (И обворожительно сверкали зубы.)
Потом, с приходом звукового кино, когда режиссер лишен был возможности диктовать действия (игру) актера своими подсказками, актер, вдруг освободившись от дирижерской опеки, руководствуясь только своим чутьем, психологической разработкой образа и накопленным опытом, стал сам координировать и руководить своей игрой.
Однако это не значит: "долой режиссеров!". Наоборот, когда актер работает в картине, он должен верить и любить режиссера, который не только командует, а, если говорить объективно, одновременно и очень помогает. Вкус, знания режиссера - друга, педагога, умение его вместе с актером разобраться в психологической разработке роли помогли многим актерам отделаться от штампов.
А вот мои гримасы (такие фальшивые и ненужные) не "стерли" режиссеры, то ли не обратив внимания, то ли в масштабе натуры (небо, дали и вода) они не были столь резкими.
Переснимать не хотели. Сказали, что я преувеличиваю, но я все-таки упросил О. И. Преображенскую показывать меня в этой сцене больше на средних планах.
И эти ошибки пошли мне впрок, а мои гримасы сослужили мне огромную службу. Я понял еще одну простую истину: чтобы показать человека, глядящего вдаль или думающего, нужно и думать, и смотреть по-настоящему, а не наигрывать: "Ах, смотрите, как я гляжу! Как думаю сосредоточенно".
Наигрывать, как говорил Станиславский, можно только на балалайке!
’’Путевка в жизнь”
Однажды в театре Мейерхольда ко мне подошел режиссер нашего театра, талантливый человек, Николай Экк, и предложил прочитать сценарий на тему о беспризорности, который сделали молодые сценаристы Регина Янушкевич и Александр Столпер. Сценарий "Путевка в жизнь" мне очень понравился, но роль, которую предложил Экк, меня в восторг не привела.
 'Кто ты такой?' ('По ту сторону щели'). Режисер Ю.
Желябужский. 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Я играл с удовольствием и эпизодическую роль студента, вкладывая массу
ненужного темперамента
'Кто ты такой?' ('По ту сторону щели'). Режисер Ю.
Желябужский. 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Я играл с удовольствием и эпизодическую роль студента, вкладывая массу
ненужного темперамента
Пятнадцатилетним юношей, как и все ребята моего возраста, я был горячим поклонником кинематографа и старался не пропускать ни одного интересного фильма. Я простаивал часами в кинотеатре "Уран" на Сретенке, чтобы получить билет на четырехсерийную картину молодого Якова Протазанова, которая называлась "Сашка-семинарист". Сашку замечательно играл артист Художественного театра Петр Бакшеев. Разве можно рассказать, что я переживал, следя из глубины зрительного зала за ходом событий, по которым нас вел авантюрист Сашка? Разве можно забыть трюк, которым кончалась одна из серий: убит банкир и взломан несгораемый шкаф, приходит сыщик, фотографирует лежащего на полу
убитого банкира? В следующем кадре руки вынимают из воды фотографию, и на экране мы видим огромный глаз убитого, а в нем - с кинжалом в руке Сашка-семинарист. Затемнение и надпись: "Продолжение в третьей серии". Разве это не
"роскошный" сюжет для мальчишки? Разве можно это забыть?

|
|
В фильме 'Человек из ресторана', где в главной роли Скороходова был снят Чехов, я играл небольшую роль
официанта
|
Но когда Экк предложил мне сыграть жулика Жигана -убийцу Мустафы, - меня это обидело:
- Коля, а почему ты думаешь, что я должен играть Жигана?.. Жулика и убийцу?
- Во-первых, - ответил он - потому, что ты не похож ни на жулика, ни на убийцу тем более!
А во-вторых, ты будешь в паре с Николаем Баталовым. Он будет играть начальника коммуны. Вы разные, вас нельзя спутать.
 'На экране Чехов остается экранным, он не стремится нарушить безмолвие полотна движением разговаривающих губ', - писал Н.
Волков о 'Человеке из ресторана'. Рядом с М. Чеховым - М.
Нароков
'На экране Чехов остается экранным, он не стремится нарушить безмолвие полотна движением разговаривающих губ', - писал Н.
Волков о 'Человеке из ресторана'. Рядом с М. Чеховым - М.
Нароков
Да, конечно, Николай Баталов другой - это смуглый брюнет с очаровательной улыбкой, немного курносый, с задорными, умными глазами, которые сверкали, когда он смеялся. Это был замечательный актер Художественного театра. Я задумался.

|
|
"Человек из ресторана". Режиссер Я. Протазанов "Межрабпом-Русь". 1927 год. Это один из эпизодов, в котором, как мне казалось, мы внутренне слышали друг друга - Мих. Чехов и я
|
- Нечего думать, по рукам, и все! Пробовать тебя я не буду... - заключил Экк.
Экк меня не убедил, а заинтересовал, увлек, и я согласился играть Жигана, несмотря на то что у меня уже был подписан договор с режиссером Ю. Райзманом, который ставил свою первую картину "Земля жаждет". У нас была с Райзманом хорошая дружба - мы часто тихо и подолгу беседовали с ним о будущих картинах. И вот он предложил мне играть комсомольца, простого, ясного, такого прямолинейного парня. А тут Жиган - что-то сложное, тоскливое и беспокойное.
 Человек из ресторана . Режиссер Я. Протазанов Межрабпом-Русь'. 1927 год. Эпизод, где я передаю дочери Скороходовой Наташе - В. Малиновской писку от 'гостя', снимался в помещении
бывшего 'Яра'
Человек из ресторана . Режиссер Я. Протазанов Межрабпом-Русь'. 1927 год. Эпизод, где я передаю дочери Скороходовой Наташе - В. Малиновской писку от 'гостя', снимался в помещении
бывшего 'Яра'
Я постарался Райзману все объяснить, он молча выслушал и хмуро ответил:
- Хорошо. Я могу освободить тебя и от картины, и от дружбы! Меня это очень обидело, мы расстались. И я остервенело стал сниматься в "Путевке в жизнь".
”Для чего я на свете родился?”
Картина была первой художественно-звуковой, которую снимали по системе инженера Тагера. Тогда звук начали снимать на двух системах: ленинградцы снимали по системе инженера Шорина; москвичи - по системе инженера Тагера -энтузиаста, восторженно-беспокойного человека, который всегда присутствовал на первых наших съемках и первом прослушивании актерских голосов.
19 м. Жаров
Записали пробу моего голоса. Я пел песенку:
Голова ли ты моя удалая,
Долго ль буду тебя я носить!
под аккомпанемент трио гармонистов из театра Мейерхольда, Макарова, Попкова и Кузнецова и двух гитаристов.
Техника звуковой синхронной съемки была тогда
"фантастической". На съемочный аппарат, после того как оператор навел фокус и приготовился к съемке, чтобы в микрофон не попадал его треск, надевали бокс. Это было громоздкое сооружение из свинца с войлочной прокладкой; его подносили на носилках и накрывали съемочный аппарат сверху. Только после этой операции начиналась синхронная звуковая съемка. Бокс был настолько тяжел, что штатив съемочного аппарата часто не выдерживал - ножки раздвигались, и под тяжестью бокса аппарат "садился". Все начинали сначала, иногда по нескольку раз. Но все были энтузиастами, и беды никого не угнетали. Тагер с азартом брался руководить надеванием бокса, и неудач от этого было еще больше.
 'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Артисты М. Блюменталь-Тамарина и А. Быков снимались в комедии. Сцена на полустанке; какое величие - он
жезл держит, как рапиру
'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Артисты М. Блюменталь-Тамарина и А. Быков снимались в комедии. Сцена на полустанке; какое величие - он
жезл держит, как рапиру
Как оператор Пронин ни уговаривал закутать одеялами свой аппарат, клянясь "всеми богами", что треска не будет -Нестеров, звукооператор - это была новая профессия -- ничего не хотел слушать, ужасно
волновался и требовал, чтобы бокс был обязательно надет на аппарат. Бокс в конце концов водворялся на аппарат, и начиналась съемка.
Я пел свою песенку:
Эх, судьба ль ты моя роковая,
Эх, долго ль буду на свете я жить.
Свету лепили много, пленка была малой чувствительности, и у меня загорелись брюки. Обливаясь потом, я все же дотянул до конца. На другой день мне позвонили по телефону, пригласили пожаловать на телеграф в двенадцать часов ночи, чтобы прослушать фонограмму песенок.
 'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. С артистом Художественного театра В. Михайловым на съемке крестьяне разговаривали, как со своим, настолько он был естествен в роли
'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. С артистом Художественного театра В. Михайловым на съемке крестьяне разговаривали, как со своим, настолько он был естествен в роли
В то время в "Межрабпоме" был всего-навсего один с трудом заглушенный павильон для звуковых съемок, а уж зала для прослушивания не было и в помине.
Пользовались щедротами Радиокомитета, который после окончания работы предоставлял нам свою студию, куда и был повешен специальный экран и поставлена аппаратура, чтобы можно было прослушивать и смотреть на экране изображение и звуковую пленку.

|
|
На визитной карточке, которую мой герой в картине предъявил, было написано: 'Специалист по сельскому хозяйству Жаров Мих.
|
Иванович'
Звуковое кино, как всякое новаторство и новшество, принималось консервативно, тем более что первая звуковая документальная картина Дзиги Вертова - с плохой записью, без полутонов и без диапазона звука - произвела на рядового зрителя невыгодное впечатление. Когда я услышал этот звуковой фильм в кинотеатре на Арбатской площади, то ушел с головной болью.

|
|
Член общества изучения деревни после неудачного инспектирования пчелиной пасеки
|
Вполне естественно, что и у некоторой части работников художественной кинематографии было скептическое отношение к говорящему кино. Не верили, что этот "аттракцион" можно использовать для художественных картин, поэтому к картине "Путевка в жизнь" относились весьма скептически. И чтобы не давать материала для всяких ненужных и праздных разговоров, мешающих экспериментировать и работать, решено было никого не пускать на прослушивание материала, делать все тихо, даже секретно.
Прослушать мою первую песенку собралось в зале радио, на улице Горького, четыре человека: Нестеров - оператор,
которого интересовало качество записанного им звука; Тагер -изобретатель звукового записывающего аппарата, его интересовало все; режиссер Экк - создатель первого художественного звукового фильма, готовый слушать свои куски без конца - он еще не мог привыкнуть, что экран говорит, и я - первый исполнитель блатных песен на экране.

|
|
'Озимая или яровая?' - спрашивает мой 'специалист'
|
Погасили свет и пустили на экран звуковую дорожку, по которой Тагер и Нестеров определяли частоту своих бегающих палочек - звуков. Стало тихо. Полились звуки гитары, а затем раздался и мой "чарующий" голос.
Для чего я на свете родился,
Для чего родила меня мать...
Ах! Для того чтоб...
Слушали в темноте и в абсолютной тишине, затаив дыхание... Затем режиссер сказал:
- Послушаем еще раз!
Прослушали и включили свет.
У меня был мокрый нос. Я, скосив глаза, смотрю на своих товарищей, и мне кажется, что они трут себе глаза. Тогда я нахально спрашиваю:
- Плачете?
И четверо молодых и здоровых мужчин, не стесняясь, что их назовут сентиментальными, стали вынимать платки.
Они плакали от счастья.
Тагер плакал от сознания, что его изобретение пошло в производство и начнет эру звукового художественного фильма.
Оператор Нестеров - от того, что именно он будет первым звукооператором в истории, записавшим человеческий голос.
Режиссер Экк - от того, что благодаря своей настойчивости и воле он стал режиссером и автором первого звукового фильма.
Отчего же плакал я, артист Жаров, первый певец в первом звуковом фильме?
Я плакал от того, что совершенно не узнал своего голоса.
Конечно, я не Шаляпин, да и не возлагал больших надежд на свое пение, но то, что я услышал, было выше всякой фантастики - с экрана раздавался глухой, как из бочки, звук, удивительно похожий на лай голодного пса...

|
|
'Путевка в жизнь'. Режиссер Н. Экк. 'Межрабпомфильм. 1931 год. Первая проба песенки Жигана для первого звукового фильма
'Путевка в жизнь'
|
Но самое замечательное, что все хлопали меня по плечам, спине и в восторге кричали: "Поразительно! Феноменально! Молодец!".
Я недоумевал, но оказалось, со мной случилось то самое, что случается со всеми. Когда я впервые увидел себя на экране, то также не мог смотреть на свое изображение. Все казалось ужасным. То же самое произошло и сейчас: впервые услышав свой голос, я его не узнал, и мне казалось, что поет кто-то другой.
 'Путевка в жизнь'. Режиссер Н. Экк. 'Межрабпомфильм. 1931 год.
Я с гитарой, рядом - режиссер Н. Экк
,
с микрофоном инженер по звуку Л. Бронштейн, у аппарата оператор В. Пронин. Все
волнуются!
'Путевка в жизнь'. Режиссер Н. Экк. 'Межрабпомфильм. 1931 год.
Я с гитарой, рядом - режиссер Н. Экк
,
с микрофоном инженер по звуку Л. Бронштейн, у аппарата оператор В. Пронин. Все
волнуются!
Появление звука в кино не застало актеров театра врасплох, наоборот, слово расширило выразительные возможности актера и добавило новые, основные краски в его творческую палитру. Мысль нашла свое ясное выражение. Мы стали себя чувствовать в седле, как всадники на хорошей лошади, потому что драматический артист в немом кино тосковал по слову.

|
|
'Путевка в жизнь'. Режиссер Н. Экк. 'Межрабпомфильм. 1931 год.
'И будьте любезны - свой в доску!' Фомка Жиган - Михаил Жаров
|
Вот так мы начали снимать "Путевку в жизнь".
Вокруг картины собрались интересные люди.
Николай Баталов завязал большую дружбу с человеком, с которого был написан его образ - воспитателя Сергеева. Это был комсомолец, очень любопытный человек, умница, начитанный, увлекался искусством, любил МХАТ и Баталова. Его звали Михаил Генрихович Типограф. Он работал в комиссии по ликвидации беспризорности. Знал души этих несчастных малышей, умел с ними ладить. Не было случая, чтобы он не завоевал доверия ребят, которых ему приходилось вылавливать в развалинах или в подвалах разрушенных московских домов и препровождать в детские приемники, куда они шли неохотно. Типограф помог Баталову найти верный подход - "зерно" роли. Несколько раз он брал с собой Баталова на "операции" и даже подарил ему для съемок свою кубанку и шинель.

|
|
'Не стой на льду - лед провалится. Не люби вора, вор завалится!' - лихо подпевала Жигану Лелька Мазуха (артистка М. Гонта)
|
Мустафа
Первым эпизодом, с которого начали съемку картины, была облава беспризорных в подвале разрушенного дома. На студии, в помещении бывшего ресторана "Яр", была построена двухэтажная декорация коридора и подвала. На роль Мустафы был отобран артист Новиков, на остальные роли были приглашены молодые ребята из театральных студий и ученики ГИК, в том числе из национальных отделений.

|
|
Подружку Жигана играла артистка М. Гонта. Под этим
псевдонимом скрыта современная писательница
|
Съемки происходили ночью. На студию, кроме участников, почти никого не пускали.
Когда беспризорники заполнили декорацию для съемки панорамы общей сцены, мы увидели воспроизведенную с документальной точностью жизнь заброшенных ребят, жизнь, скрытую и тщательно оберегаемую от глаз взрослых.
Николай Экк трактовкой сцен показал, что он не только новатор в области техники кино, но и великолепный художник.
С обостренным чувством гражданской ответственности, ярко и смело он вскрыл ужасы, порожденные войной и разрухой.

|
|
Беспризорника Мустафу Ферта играл студент ГИК И. Кырла, мариец родом. На фото он снят с Н. Баталовым
|
Показом сцен, где действуют дети, он как бы взывал:
- Люди! Вы ответственны за жизнь и судьбы этих обездоленных детей! Присмотритесь и запомните!..
Моя первая съемка началась тоже в этом объекте: приход Жигана с девицей в подвал.
На эту вечернюю съемку собрались гости - члены комиссии по борьбе с беспризорностью, писатели, работники "Межрабпома". Я чувствовал себя, как в театре. Начал волноваться - в горле пересохло, мышцы напряглись, гибну!
К счастью, сразу играть не надо было; пока установили свет, поправили декорацию, грим, отрепетировали сцену (репетировал небрежно, маскируя волнение), я взял себя в руки и, оседлав ненужное волнение, направил его по существу действия сцены.

|
|
'Окраина'. Режиссер Б. Барнет. 'Межрабпомфильм'. 1933 год.
|
Режиссер Б. Барнет умел вдохновить актера и заставить его работать с полной отдачей сил. В фильме снимались Е. Кузьмина, Н. Боголюбов, Н. Крючков и я
Желающих попасть на наши съемки было много, особенно, когда узнали, что будут смотреть и слушать результат первых
двух дней съемки - к изображению уже был подложен звук. У просмотрового зала, который находился в подвале, стояла толпа. Все сотрудники студии рвались посмотреть на новое, интересное: "Говорят, просто чудо". В зале находились
исполнители ролей, члены съемочной группы и руководство студии.
Во время этого просмотра, который шел под аплодисменты, так все нравилось, всех поразил один парень, изображавший беспризорника. Эпизод был сделан следующим образом. Когда стоявшие на страже ребята крикнули, что идет милиция, все беспризорники попрятались кто куда успел - по углам, лестницам; залезали в валявшиеся бочки и ящики, оттуда их вытряхивали и вытаскивали.

|
|
Кудряш тоже умел мечтать
|
Был снят монтажный кусок к этой сцене: из бочки
выглядывает беспризорный с лицом монгола, в приплюснутой дамской старой шляпе. Когда показалось его озорное лицо с узкими, хитро смотрящими глазами, да еще в шляпе, раздался дружный хохот, а когда он, смешно крикнув "ку-ку", опять спрятался, - зал разразился бурными аплодисментами.
- Кто это?
- Откуда?
- Да ведь это Мустафа!
- Лучше не найдешь!
- Покажите еще раз, это роскошная находка!
Так все, не сговариваясь, сказали в один голос:
- Вот это Мустафа!
И тут же, не выходя из зрительного зала, было решено: этого, никому не известного парня перевести на роль Мустафы, а Новикова перевести на другую, тоже очень интересную роль.

|
|
'Гроза'. Режиссер В. Петров. 'Союзфильм'. 1934 год. 'Ходил, гулял в полночь глухую я по кладбищам завсегда!' - так пел вместе с Варварой (Ириной Зарубиной) Кудряш, которого снова, на этот раз в постановке В. Петрова, играл я
|
Артист, сыгравший этот эпизод, был немедленно приглашен, он оказался студентом Марийского отделения ГИК, Иваном Кырла.
Вот так бывает не только в сказке, где утром Золушка, а вечером - принцесса, но и в кино.
Иван Кырла имел необыкновенный успех в этой роли, по улице он просто не мог ходить. Низкорослый, коренастый, всегда веселый и модно одетый, он был избалован вниманием публики немедленно. Администраторы концертных организаций не преминули использовать этот совершенно головокружительный успех. Экк написал ему сцены на тему "Путевки в жизнь", которые он играл в своем костюме беспризорника. Его стали возить по всем городам Советского Союза. Успех и деньги вскружили голову, и он зазнался.

|
|
Ну, значит, и не боюсь я его..., - бахвалился Кудряш другу
Шайкину
|
Я был свидетелем, как этот, по существу, сердечный, веселый и добродушный парень, когда его режиссер Столпер (сценарист "Путевки") приглашал на роль в свою будущую картину, вдруг зафардыбачился. Я видел, что Ивана Кырла меньше всего интересовала роль и сценарий, - он прежде всего спросил:
- А сколько мне заплатят?
Режиссер Столпер ответил:
- Ты сначала прочитай сценарий и побеседуй о роли, а потом уже спрашивай, сколько тебе заплатят. Тебе заплатят сколько полагается.
Кырла хмыкнул и сказал:
- Зачем читать, а может быть, меня плата не устроит.
- Ну, а сколько же ты хочешь? - вдруг с любопытством спросил Столпер.
И Кырла назвал сумму - это был шаляпинский гонорар.
Столпер растерялся, но, сдерживая себя, мягко сказал:
- Ах, Кырла, Кырла! Не с того ты начинаешь. И все-таки, любя тебя, - ты ведь умный и талантливый парень! -рекомендую: прочти сценарий и подумай о том, что ты сейчас говорил. Тебя избаловали одной ролью, но ведь это долго длиться не может. Ты надоешь, а ты молодой, неопытный артист, что ж будет с тобой дальше! Смотри!
 'Любовь и ненависть'. Режиссер А. Гендельштейн. 'Межрабпомфильм'. 1935 год. Случались и такие трансформации: начав сниматься в роли рабочего в 'Песне', я закончил ее ролью прапорщика в фильме, который вышел под
названием 'Любовь и ненависть'
'Любовь и ненависть'. Режиссер А. Гендельштейн. 'Межрабпомфильм'. 1935 год. Случались и такие трансформации: начав сниматься в роли рабочего в 'Песне', я закончил ее ролью прапорщика в фильме, который вышел под
названием 'Любовь и ненависть'
Кырла задумался. Но сценарий не взял и, сказав, что он уезжает с концертами, ушел. Больше я его никогда не видел.
В связи с двадцатипятилетием выхода на экран "Путевки в жизнь" я выступал по радио с воспоминаниями и говорил о Иване Кырла. Редактор газеты "Марийская правда" прислал мне письмо, в котором высказывал благодарность за теплое слово о их земляке, память о котором им дорога. Были слухи, что он погиб на войне. Это был очень талантливый молодой человек. Он писал стихи и был гордостью марийского народа. На родине был издан сборник его стихов, и о нем сохранились очень хорошие воспоминания...
 Три товарища . Режиссер С. Тимошенко. Ленфильм . 1935 год. -Помнишь Каховку? - А как же! И два боевых друга, смотря на фото, запели: 'Каховка, Каховка, родная винтовка!' Эта знаменитая песня была написана И. Дунаевским и М. Светловым
для фильма 'Три товарища'
Три товарища . Режиссер С. Тимошенко. Ленфильм . 1935 год. -Помнишь Каховку? - А как же! И два боевых друга, смотря на фото, запели: 'Каховка, Каховка, родная винтовка!' Эта знаменитая песня была написана И. Дунаевским и М. Светловым
для фильма 'Три товарища'
По сценарию, Жиган в конце фильма встречается с Мустафой на железнодорожных путях и между ними происходит драка, в
результате которой Жиган убивает Мустафу, но, по сценарию же, и Мустафа успевает его ранить, Жиган падает с откоса в болото, где и погибает. Так заканчивалась в фильме роль Жигана. Так было снято и даже вставлено в картину в рабочем порядке. Но возникла мысль, что Фомка Жиган может еще понадобиться для второй серии, которую собирались снимать, и, посоветовавшись, мы, вопреки сценарию, решили, что Жиган, убив Мустафу, исчезает.
 На съемке фильма 'Три товарища'. Все довольны, а режиссер С.
Тимошенко особенно: 'Все идет по графику!' М. Жаров, С.
Тимошенко, В. Полонская
На съемке фильма 'Три товарища'. Все довольны, а режиссер С.
Тимошенко особенно: 'Все идет по графику!' М. Жаров, С.
Тимошенко, В. Полонская
Действие второй серии, к которой готовились после небывалого успеха картины "Путевка в жизнь", должно было происходить на Беломорском канале, среди "старых знакомых", но в новых обстоятельствах. Жиган, пройдя трудный путь "перековки", становится членом общества. Вторая серия могла бы иметь еще больший успех, - это несомненно: фильм любили и судьбы действующих лиц зрителей волновали.
Но режиссер Экк увлекся другой темой, он был человеком неспокойным, любил пробовать новые пути. Вторую серию нужно было еще доделывать, это было скучно, и он увлекся
уже готовым сценарием "Груня Корнакова" ("Соловей-соловушко") и снял фильм в цвете.
 Начало картины 'Три товарища' снимали под Ленинградом; начальник лесосплава Лацис (Н. Баталов) встречает жену (В. Полонская), которая приехала вместе с его другом Зайцевым (М.
Жаров). У аппарата - режиссер С. Тимошенко
Начало картины 'Три товарища' снимали под Ленинградом; начальник лесосплава Лацис (Н. Баталов) встречает жену (В. Полонская), которая приехала вместе с его другом Зайцевым (М.
Жаров). У аппарата - режиссер С. Тимошенко
Режиссер первого звукового и первого цветного фильмов, он оказался жертвой ужасного произвола - его арестовали и сослали, сломав начисто жизнь талантливого, энергичного художника, неистового новатора, смело пробивавшего пути для молодого советского кино.
Жалко, что смяли, исковеркали жизнь человека, который еще много мог бы создать прекрасных картин.
”Да ты пьян?”
Первые кадры появления Жигана снимали около Киевского вокзала. У железной решетки маленького сквера стоял Жиган, который руководил "сложной операцией" при участии своей подруги Маруси и Мустафы. Все, что происходило за кадром, мы видим по его лицу. Вот Жиган, потягивая махорку из "козьей ножки", пристально следит.
 'Встречай фронтового друга! Не узнаешь? Ну, Зайцев я!' Так
'Встречай фронтового друга! Не узнаешь? Ну, Зайцев я!' Так
I/ I/ V/
f—r— I
начался мой первый съемочный день в картине Три товарища
Стоит гражданка с чемоданом.
Крупно - Жиган делает утверждающий знак.
Мы слышим голос: "Гражданка, вы уронили рубль".
Гражданка поднимает рубль, говорит "спасибо", поворачивается к своему чемодану, а чемодана нет.
Крупно - Жиган, улыбаясь, затягивается "козьей ножкой", он явно доволен.
Новый знак, и отрезан со спины у дамы в манто кусок каракуля.
Операция окончена.

|
|
Зайцев любил и шутку
|
Жиган тушит горящую махорку о ладонь, берет поставленный к ногам чемодан и уезжает на трамвае.
Вот и вся сцена. Весь конфликт - его развитие и конец - мы наблюдаем по лицу Жигана и по движениям его руки.
Иван Кырла работал виртуозно, отдаваясь весь роли, - он играл себя, не думая об образе. Все было предельно правдиво и убедительно. Марийский акцент придавал особую остроту его речи, а узкие глаза и обаятельная улыбка делали его таинственно-задорным. Здоров он был феноменально. В сцене "Облава на Жигана" в загородной даче, когда Мустафа с группой из колонии стоит в дверях, я должен, убегая, сбить Мустафу! Не тут-то было! Я мог разбить себе скорее плечо, чем сдвинуть его. Пришлось просить, чтоб он поддался.
 'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. Ленфильм'. 1937 год. Профессиональным жестом мой Дымба брал кий, думая про себя: 'Бедный Максим! Трепещи!'
'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. Ленфильм'. 1937 год. Профессиональным жестом мой Дымба брал кий, думая про себя: 'Бедный Максим! Трепещи!'
Эта сцена - "Малина на загородной даче" - для Жигана была очень важной: пьяная вечеринка, устроенная для сманивания ребят из колонии, должна быть и отвратительной по разнузданности, и манящей по веселью и задору.
Жиган поет:
Нас на свете два громилы, Там-тербим-бумбия!
Один я, другой Гаврила,
Там-тербим-бумбия!
- лихо перебирая на гитаре.
Пьяные голоса девиц и визгливо играющая гармошка в руках Маруси создавали возбужденную атмосферу.
Я был целиком во власти сцены, глаза пьяно блестели, руки мяли плечи подруги, песня звучала озорно.
 'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. 'Ленфильм'. 1937 год. Сцена 'Опьянение Дымбы' была снята одним куском, без дубля - редчайший случай в кино
'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. 'Ленфильм'. 1937 год. Сцена 'Опьянение Дымбы' была снята одним куском, без дубля - редчайший случай в кино
Снимали монтажные планы и куски, приходилось все время возвращать себя в "угарное" самочувствие.
Всеволод Пудовкин стоял в группе режиссеров, и я заметил, что он усиленно смотрит на меня, не отрывая глаз.
В перерыве он подошел ко мне и, разговаривая, стал незаметно обнюхивать.
- Ты что меня нюхаешь? Я не...
- Понимаешь, меня уверяют, что ты действительно пьян... Экк тебя подпаивает... Какая чушь... от тебя и не пахнет... Значит, ты... ловко возбуждаешься... Молодец! Пойдем, подыши на них, а то не верят! Всех обманул!

|
|
'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. Ленфильм'. 1937 год. Обеденный перерыв. Граф Шереметев ('Петр Первый') в гостях у Максима ('Возвращение Максима'). Слева направо: режиссер Л. Трауберг, оператор А. Москвин, М. Тарханов (Шереметев), Гр. Козинцев, Б. Чирков (Максим) и я
|
’’Своих не узнаешь!”
...Прокат картины был небывалый. Я читал информационную заметку, что "Путевка в жизнь" три раза обошла вокруг света, - таков был ее прокат. Она шла во всех кинотеатрах и даже в Большом зале консерватории. В то довольно суровое и холодное время, когда с топливом было плохо, чтобы сохранить зал, его сдали в аренду "Межрабпомфильму", который и устроил там кинотеатр "Колосс".
"Путевку в жизнь" прокатывали в "Колоссе" в течение нескольких месяцев с утра до вечера при переполненном зале.

|
|
Этот кадр назывался 'Марш свободных анархистовСолдатку Дусю играла Н. Ужвий, Дымбу - я
|
Вступительный текст в картине "Слово к зрителю" читал В. И. Качалов.
Первых советских киноактеров публика не всех знала по фамилиям. Баталова знали прекрасно, он уже снялся в главных ролях в "Аэлите" и в "Матери". "Путевка в жизнь" была его третьей картиной. К тому же он с большим успехом сыграл в Художественном театре в пьесе "Бронепоезд" Ваську-Окорока.
 'Выборгская сторона'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг.
Ленфильм'. 1938 год. '...Я Дусенька!.. Графинь лобызал, а то вас!.. Эх!.. Я не тюрлюм, тюрлюм, тюрлюм!..' - с пьяным надрывом распевал Дымба
'Выборгская сторона'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг.
Ленфильм'. 1938 год. '...Я Дусенька!.. Графинь лобызал, а то вас!.. Эх!.. Я не тюрлюм, тюрлюм, тюрлюм!..' - с пьяным надрывом распевал Дымба
Меня публика не всегда узнавала. Однако сыграв Жигана, я начал испытывать довольно неприятное ощущение: стоило только мне появиться в местах скопления публики, будь то трамвайная остановка, стоянка такси или магазин, как вокруг меня вскоре образовывалась пустота. Окружающие сначала как-то испуганно глядели на меня, а потом, держась за карманы, пятились и отходили. Первое время я терялся, не понимал, в чем дело, даже думал, что от меня пахнет нафталином или чесноком, но товарищи все объяснили:
- Чего ты волнуешься, это вполне естественно. Каждый день во всех кинотеатрах крупно, во весь экран показывают лицо жулика Жигана, - ты ведь играешь его без грима. Ясно! Поэтому человека беспокоит твое лицо, когда он сталкивается с тобой в жизни.
 'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
И действительно, на меня долго смотрели довольно подозрительно:
- Черт его знает! Говорят, артист, а может, жулик, лучше от греха подальше!..
Я жил и живу в Москве, но снимался много и часто в Ленинграде.
После "Путевки" я начал сниматься в "Грозе" на студии "Ленфильм".
 'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
Как-то вечером, возвращаясь с съемки, я зашел на Невском в ночной магазин. Ожидая, пока продавец завернет покупку, я увидел в зеркальной витрине, против которой стоял, как ко мне в карман опустил руку вихрастый паренек лет десяти. Он, наверное, заметил, как я положил туда сдачу.
Вероятно, от волнения (был он не бледный, а какой-то прозрачный) свою операцию проводил неловко и неуклюже, тыча меня в бок пальцами.
Я мог бы взять его за руку, но пожалел - он трясся, как осиновый лист.
"Господи! Ну бери скорее и уходи", - подумал я.
Малыш вытащил бумажку, тяжело вздохнул, быстро отошел и затерялся среди покупателей.
Когда я вышел из магазина, меня кто-то окликнул:
- Товарищ Жаров!
 'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
Я оглянулся, - в глубине ворот стоял длинный, худой, лет семнадцати парень, который держал моего вихрастого малыша за руку.
- В чем дело? - спросил я.
- Вот вам ваши три рубля! Извините его, пожалуйста, -произнес парень сиплым голосом. - Эх, ты, зануда! Своих не узнаешь! - И торопливо замахнулся на совсем уже зеленого, сжавшегося в комочек мальчишку.
Это не анекдот, это подлинная правда.
И рассказал я ее без прикрас, не изменяя факта, чтобы сосредоточить внимание вокруг огромной силы воздействия на зрителя художественного образа, силы, идущей с экрана, о которой мы часто забываем. Я не встречал подобного в театре.
Я не помню, чтобы в актере, играющем в театре пьяницу или хулигана, оборванца или жулика, зритель, встречаясь с ним в жизни, искал те же качества, которые он видел у него в театре.
Курьезы профессии
Могу сказать, что у меня в связи с исполняемыми ролями в кино бывали и другие курьезы. Я играл роли, в которых мне приходилось выпивать, - это был Дымба в "Возвращении Максима", дьяк Гаврил в "Богдане Хмельницком" и еще две -три роли из восьмидесяти сыгранных мною, и тем не менее меня преследует молва, что я любитель выпить и в жизни. Я не хожу в ресторан, потому что ко мне обязательно подойдет какой-нибудь незнакомый товарищ и скажет: "Михаил Иванович, разрешите с вами выпить". И если я откажусь, он ужасно обидится, а если еще добавлю, что "я непьющий", -улыбнется, разведет руками: "ну и ну", и, вытаращив глаза, уйдет.
Я редко отдыхаю, но однажды приехал в дом отдыха в Гагру. Южная жара, прилетел я на самолете в светлом шерстяном костюме. Пока сестра оформляла мою путевку, я сидел в вестибюле. Вокруг ходили отдыхающие - загорелые, оживленные, в легких костюмах, прозрачных майках. Останавливались, здоровались, узнавали.
- А, товарищ Жаров! Приехали отдыхать? - тряся руку, интересовался какой-то густой бас.
- Да, отдыхать, - я устал, мне жарко, говорить лень.
- А может, лечиться?
- А может, и лечиться.
- Сердце? - продолжает он свой ненужный ни ему, ни мне допрос.
- Да. Сердце... - отвечаю я безразлично.
Тогда он щелкает языком, закатывает глаза и, сокрушенно качая головой, охает:
- Ай, яй, яй! Сердце! Вот видите... Нельзя много... того...
!
- и делает щелчок по шее, который означает "за галстук". - Пора и успокоиться, уважаемый наш дядя Миша!
На этот раз я ужасно обиделся:
- Послушайте, дорогой племянник! Почему вы делаете этот жест... Ведь я с вами никогда не выпивал.
- К сожалению... дорогой... к сожалению, не выпивали. Да вы не обижайтесь... все знают по кино, что вы любите заложить! - смущенно оправдывался он, и кружок, образовавшийся из отдыхающих, весело хохочет.
- А вам не кажется, что все эти недоразумения происходят только потому, что в нескольких картинах мне пришлось, как вы выразились, ловко заложить?
- Да... да... возможно... Ох!.. И вкусно же вы пьете... однажды, смотря вашу картину, я не мог дождаться конца, пошел в буфет и выпил так же, как вы, - с удовольствием.
В картине "Возвращение Максима" приказчик Дымба -отменный бильярдист, он король санкт-петербургского бильярда.
Играя Дымбу, я с треском и шикарно закладываю шары - "от двух бортов в среднюю".
После картины стоило мне зайти в бильярдный зал, как начинались просьбы показать класс - сыграть с кем-нибудь. Просьбы шли с определенным желанием проверить меня, -играю ли я так же ловко в жизни, как на экране, или нет. Хитрость была шита белыми нитками, и я, пожимая плечами, отвечал тем же:
- Мне сейчас, к сожалению, некогда, да и вряд ли среди вас найдется партнер, равносильный мне.
Все улыбаются - друг друга поняли отлично.
Но однажды один из бильярдистов без подхода спросил меня:
- Товарищ Жаров, это вы сами в "Выборгской стороне" закладываете шарики в лузу?
- Сам! - ответил я.
- Нет, не сам, - возразил нахально он.
- Почему? - возмутился я.
Вы понимаете, в чем ехидство этого разговора: закладывать "за галстук", - так это я, а вот закладывать шарики в лузу, -так это не я. Хотя шарики-то как раз закладывал именно я.
Сцену на бильярде с Чирковым - Максимом надо было играть виртуозно, чтобы ни на одну секунду у зрителя не возникло подозрения, что играют люди, никогда не прикасавшиеся к бильярду, что для актера вообще вполне допустимо и вероятно. Не может же актер во всех профессиях, которые ему приходится играть, быть виртуозом, можно и не уметь играть на бильярде. Важно и нужно, чтобы "хватка" и вся "посадка" роли были сделаны с точным знанием профессиональной характерности героя, и мы с Борисом Чирковым с большим удовольствием прошли курс бильярдной игры под руководством известного мастера кия, ленинградского бильярдиста, которого все любовно называли Жора.
Эти курьезы возникают только с киноактерами. Хроника, мир научных открытий приучают зрителя верить в реальность существования и героев художественных фильмов.
Позже я расскажу, как и почему я сыграл в трилогии о Максиме у режиссеров Трауберга и Козинцева роль Дымбы, когда картина была уже почти закончена с другим артистом.
В. М. Петров "Гроза”
Однажды в 1933 году я прочитал в газете "Вечерняя Москва" о том что режиссер В. М. Петров на студии "Ленфильм" для кинокартины "Гроза" начал пробу актеров.
"Все ясно! Актер ты или ничто - решит эта картина", - сказал я себе, не имея никакого основания к такой постановке вопроса, за исключением того, что я играл Кудряша и Тихона много раз в районном театре и в Казани.
Особенно был увлечен Тихоном. Я любил этого забитого человека и вкладывал в драму несчастного всю свою душу, что произвело впечатление даже на прессу. Критика так и писала: "Роль была сыграна душевно!".
В Камерном театре А. Я. Таиров предложил мне опять играть Кудряша. Спектакль был уже на износе, но я вошел в него с удовольствием, и сцену в овраге мы с Варварой играли молодо, задорно и очень влюбленно. Несмотря на некоторую смелую, с моей стороны, трактовку "интимного свидания молодых людей", - она смотрелась целомудренно.
Узнав, что актерские пробы уже происходят, я не находил себе места от волнения. Что делать? Как поступить? Хочу играть Кудряша! Может быть, написать письмо режиссеру, попросить его посмотреть меня в театре. Но ведь он в Ленинграде и вряд ли поедет... Так, однажды, раздираемый сомнениями между желанием участвовать в съемках и возможностью это реализовать, я медленно
разгримировывался, когда вдруг билетер принес мне записку: "Видел сцену в овраге, - хочу вам предложить Кудряша в картине "Гроза". Владимир Петров".
Вы думаете, что у меня закружилась от счастья голова? Нет, тогда она у меня не кружилась - я был молод, здоров, очень хотел сниматься и... через три дня, мило принятый и обласканный В. Петровым, я уже сидел в его кабинете на "Ленфильме".
- Какую сцену вы хотите сделать для пробы?
- С Варварой.
- Это ясно, но у меня сегодня нет Варвары. Ирина Зарубина занята в театре, а вечером вы уезжаете. Придется снять вас одного - для художественного совета!
Когда меня стали гримировать и вместо привычного парика, лишь слегка завили волосы и когда я обнаружил на усах, которые лежали на столе следы старого лака, в голову полезли разные мысли: "Ага, значит, до меня уже пробовали кого-то из ленинградских актеров и поэтому со мной халтурят". А уж после того, как оператор В. Гарданов как-то небрежно поставил для моего портретного плана всего две лампы, интересуясь главным образом какими-то лучами "в размывку", на фоне, за моей спиной, - мне стало совершенно ясно, что вся процедура моей "пробы" нужна только для сравнения с другими, уже отобранными актерами и ничего общего не имеет с творческой оценкой кандидатуры на роль.
Придя к такому выводу, я свободно и даже озорно сделал все, что от меня требовали на пробе, и уехал в Москву злой, "кляня свою судьбу", решив больше не думать о "Грозе".
Но через два дня, к моему огромному удивлению, я получил телеграмму: мне предлагали приехать немедленно для
заключения договора на роль Кудряша! Бедное сердце, я понимаю, почему оно иногда лопается: я не ехал, - я летел, я мчался.
И вот вчерашний "интриган" (в моих глазах!), а сегодня уже "чудесный и милейший" второй режиссер Н. Дориан повел меня в просмотровый зал.
Никто не знает, сколько горя, сколько несчастных минут и горьких разочарований принес просмотровый зал мне, как, наверное, и любому другому актеру, за мою длительную и сложную жизнь в кино...
- Нет! Мне не понравилась моя проба Кудряша, говорю вам
честно и откровенно, - ответил я Дориану на вопрос, который он задал мне с поощрительной усмешкой: Ну, как,
понравилась проба?". - Что-то Кудряш гримасничает, вместо того чтобы просто и естественно быть веселым. Нет, нехорошо. Правда? А как вы думаете? - спросил в свою очередь я Дориана.
Он посмотрел на меня каким-то лукавым глазом, хмыкнул и, покачав головой, сказал:
- Ну и молодец же вы, молодец! Конечно, только так и надо себя вести при отличной пробе - умно и скромно. Молодец!
Как? Значит, он подумал, что я дипломатничаю или, что еще хуже, кокетничаю, то есть набиваю цену!.. Мне стало ужасно стыдно и обидно: я открыл ему свое сердце, поделился с ним моими сомнениями искренне, а он во всем увидел только одну корысть... Зачем же... вот так... взял и закрыл еще один "клапаночек" в моей душе! Жаль! Очень жаль!
Кабаниха и Феклуша
Сниматься в "Грозе" было истинное наслаждение. Моей партнершей, о которой говорил В. Петров, была Ирина Зарубина. Ее Варвара - сочная, добродушная и бесконечно ленивая, была лучшей в галерее Варвар Островского.
"Золотые" старухи Е. Корчагина-Александровская и В. Массалитинова, играя Феклушу и Кабаниху, показывали виртуозное мастерство. За их внешне скупыми действиями чувствовалось такое кипение жизни, богатой внутренним содержанием, что, например, сцена, где они пьют чай, мирно беседуя, стала уникальной. Ее надо хранить навечно - это предметный урок высшего актерского мастерства.
Как-то Владимир Михайлович мне сказал:
- Приходи сегодня вечером на съемку старух, отмени все свои похождения и посмотри, как они работают - одна перед другой. Этого ты больше никогда и нигде не увидишь!
И я пришел. За столом, казалось бы, совершенно мирно беседуя, сидели две старухи: одна постарше Феклуша -Корчагина, а другая помоложе Кабаниха - Массалитинова. Происходил турнир талантов: кто кого прижмет к доске.
И все тихо, ласково.
- А ты не устала, Варюша?
- Ну, что ты, Катюша! Может, ты хочешь полежать?
- Я? Нет!
- А я и подавно!
Говорили они в паузы, отдыхая и нежно подкалывая друг друга, но как только начиналась съемка, - все замирало.
Ни съемочного аппарата, ни микрофона для них не существовало. Была полная отдача, с одной стороны, ролям, в которых каждая буква, каждое произнесенное слово Островского были полны глубокого чувства и смысла, а с другой, - хитрому и пристальному взгляду - прищуру на партнершу: "Ах! Как бы она меня не обштопала".
Все участники съемки - осветители, рабочие, все, кто был в павильоне в это время, были подчинены творческой "литургии" этих старух.
Было тихо, как в храме. Все говорили шепотом, ходили на цыпочках, и только изредка тетя Катя спрашивала Петрова, указывая на микрофон:
- А этот колдун-то слышит нас там?.. Мы не тихо говорим, я-то громче не буду... Вот, может, Варвара хочет погромче?
Но Варвара, сосредоточенная и величественная в своей роли, только молча качала головой, шепча про себя текст.
И если все было хорошо, то Варвара широко улыбалась своим на редкость характерным и обаятельным лицом и, протянув руки к микрофону, говорила:
- Ух! Синхрончнк, дорогой. Спасибо!
Если же не удавалось, - ворчала, грозя кулаком:
- У-у! Проклятый синхрон!..
М. Тарханов и М. Царев
На Венецианском фестивале, куда В. Петров возил картину и где она получила золотую медаль "Гран при", было отмечено, что ансамбль исполнителей вызывает восхищение. И действительно, ансамбль был великолепным. Кроме уже названных артистов, роли играли: Алла Тарасова - Катерина, Михаил Царев - Борис, Иван Чувелев - Тихон и Михаил Тарханов - Дикой.
С Тархановым нас сблизили две большие работы - "Гроза" и "Петр I". Совместные поездки в Ленинград, жизнь бок о бок в гостинице и наконец работа укрепили наши дружеские отношения. Сколько актерских дум, замыслов, несбыточных мечтаний обсудили мы с ним в долгие бессонные ночи, возбужденные до предела после съемок.
 'Петр Первый'. Режисер В. Петров. Ленфильм'. 1937 год (1-я серия) и 1938 год (2-я серия). Верный друг Алексашка во всем подражал Петру, 'минхерцу', он даже внешне старался походить
на Петра
'Петр Первый'. Режисер В. Петров. Ленфильм'. 1937 год (1-я серия) и 1938 год (2-я серия). Верный друг Алексашка во всем подражал Петру, 'минхерцу', он даже внешне старался походить
на Петра
Уезжая со "стрелой" после спектакля или работы на студии, мы старались успокоить расходившиеся и обостренные нервы сначала в вагоне, а если это не удавалось, то на первой остановке.
Смотря понимающими глазами друг на друга, мы молча вставали и шли на станцию. Нам молча наливали, мы также молча выпивали и также молча шли в вагон спать.

|
|
Такк, шаг за шагом, кропотливо добиваясь, пробуя, искали мы
грим Меншикова
|

|
|
Такк, шаг за шагом, кропотливо добиваясь, пробуя, искали мы
грим Меншикова
|

|
|
Так, шаг за шагом, кропотливо добиваясь, пробуя, искали мы
грим Меншикова
|
И представьте себе, после легкого покрякивания и магических слов Тарханова: "Вот так и гибнут люди!", которые были сигналом тушить свет, мы засыпали мгновенно!..
Утром Тарханов, чисто выбритый, свежий и бодрый, являлся на работу. Во время съемок он бывал молчаливо-сосредоточен, сидел на своем месте за стаканом крепкого чая. Будучи тяжело больным, он все делал охотно, не высказывая ни малейшей жалобы. Эта дисциплина укоренилась в нем после трудной жизни в провинции, в борьбе за свое место на сцене. Больных хозяин не любил.
 На съемку 'Взятие крепости' приехали Алексей Николаевич Толстой с женой Людмилой Ильиничной. Толстой долго глядел на меня, а потом задумчиво произнес: 'Да... Вот он какой...
Меншиков!.. Интересно
!'
На съемку 'Взятие крепости' приехали Алексей Николаевич Толстой с женой Людмилой Ильиничной. Толстой долго глядел на меня, а потом задумчиво произнес: 'Да... Вот он какой...
Меншиков!.. Интересно
!'
Две мелодичные песенки, которые я пел в "Грозе", были взяты из фольклорного сборника и мною интерпретированы по-современному. Слова Кудряша:
Ходил, гулял в полночь глухую Я по кладбищу завсегда
- очень хорошо контрастировали с настроением после любовного свидания, когда утомленные и счастливые после гулянки Кудряш и Варвара лениво расходятся по домам.
 'Петр Первый'. Меншиков, не задумываясь, уступил Катерину
Петру. 'Ударьте его по щеке!' - посоветовал режиссер, и А.
Тарасова ударила...
'Петр Первый'. Меншиков, не задумываясь, уступил Катерину
Петру. 'Ударьте его по щеке!' - посоветовал режиссер, и А.
Тарасова ударила...
Сцена Бориса с Кудряшом была сценаристом перенесена из оврага в комнату дома Дикого. Развалясь на койке и бренча на гитаре, Кудряш подтрунивает над Борисом.
Гитара давала мне возможность акцентировать слова, а сделанное в паузе глиссандо придавало тексту игривый смысл - собирались ведь на свидание в овраг!
 'Петр Первый'. Петр в гневе был страшен: 'Врешь, светлейший, воруешь!' - прорычал Николай Симонов и поднял кулак. 'Сейчас
убьет' - подумал я и закрыл глаза
'Петр Первый'. Петр в гневе был страшен: 'Врешь, светлейший, воруешь!' - прорычал Николай Симонов и поднял кулак. 'Сейчас
убьет' - подумал я и закрыл глаза
Эта встреча явилась для нас с Михаилом Царевым началом длительной творческой дружбы.

|
|
'Верю! Снимаем!' - скомандовал режиссер В. Петров. И снял
|
Талантливый актер романтической школы, лучший исполнитель Чацкого, Арбенина и многих других ролен героического репертуара, а также Армана Дюваля, он в то же время великолепен и в характерных ролях.
Трудную и безликую роль Бориса Царев играл точно и интересно - малодушным, бесхребетным, красивым молодым человеком. Он был замечательным партнером для Аллы Тарасовой, которая, несмотря на сильно сокращенный текст роли, сумела создать превосходный образ Катерины. Это была триумфальная победа актрисы.

|
|
'Петр Первый'. Н. Черкасовым я встретился впервые на съемке 'Петра Первого', где он играл царевича Алексея
|
Снимаясь в "Петре 1", мы с ней всегда вспоминали нашу "Грозу", где работалось легко и радостно.
Когда "Гроза" вышла на экран, она имела успех и принесла популярность актерам. В ту пору вообще не было, кажется, кинотеатра, в котором не шла бы какая-нибудь картина с моим участием. Это было радостно, но и очень стесняло.

|
|
'Петр Первый'. Оператор В. Гарданов снимал так
,
что становились видны малейшие душевные переживания
|
Ребятишки поодиночке, а то и дружными стайками бегали за мной и, в зависимости от их темперамента или картины, которая шла в данный момент в соседнем кино, кричали: "За что убил Мустафу?" или, приплясывая, пели:
Мой папаша пил, как бочка,
И погиб он от вина.
Я одна осталась дочка И зовусь "мамзель Нана".
А то вдруг, крикнув хором: "Эй, цыпленок жареный", смеясь, разбегались.
Однажды мне навстречу вылетел из ворот парнишка лет двенадцати; увидев меня, остановился, вытаращил глаза, а потом, вбежав обратно в ворота, стал истошно орать: "Петька! Петька! Жаров идет!". И я уже представил, как сейчас выскочит вихрастый Петька и как они оба начнут мне в спину кричать разные разности, но... Петька не появлялся, хотя мальчишка и продолжал орать. Я заинтересовался, в чем дело.
Почему нет Петьки? И когда подошел к воротам, невольно заглянул во двор.
 'Петр Первый'. Бывший пирожник, а теперь светлейший князь и первый губернатор Санкт-Петербурга пускал в ход при нужде и
кулаки
'Петр Первый'. Бывший пирожник, а теперь светлейший князь и первый губернатор Санкт-Петербурга пускал в ход при нужде и
кулаки
В глубине двора бегал вихрастый мальчишка с длинным шестом, гоняя голубей: "Киш, киш, киш!", и на истошные крики: "Петька! Петька! Жаров идет!", также истошно
прокричал: "Фиг с ним!.. Киш! киш! киш!".

|
|
Меншикова
|
И тут я "с горечью" понял и философски оценил, что каждый - раб своей страсти.

|
|
Драгуны Меншикова в резерве. Еще минута, и Петр бросит их в
бой
|
”Три товарища”
Новый сценарий (а с ним и нужный до зарезу аванс) успокоил и привел в равновесие начинавшие уже сдавать нервы, в связи с тем что на моем рабочем столе не лежал очередной сценарий, который обычно давал мне основание просить домашних соблюдать относительную тишину: "Видите, что я работаю над ролью!".
Нервы сдавали всегда, когда, заканчивая картину, я не получал новых предложений. "Ну вот, кончено! Все! Меня больше снимать не будут", - жаловался я.

|
|
Было от чего и отдохнуть. Съемки шли напряженно
|
На этот раз новый сценарий появился в доме вместе с маленьким сгорбленным человеком, обладателем очень длинного носа и улыбки сатира. Он вошел, как-то странно шагая, и скрипучим, с каким-то смешным призвуком голосом сказал:
- Здесь живет нужный мне третий артист?
- Смотря какой из трех вам нужен?
- Мне нужен блатмейстер, но с вашим обаянием.
- Это не так уж оригинально, - жулик Жиган тоже был с моим обаянием!
- Мне нужен благороднее, другого класса!
- С кем имею честь?
- "Ленфильм", режиссер Семен Тимошенко.
- Очень приятно! И, если не секрет, кто два других актера, которые составят компанию третьему?
- Нет, не секрет, они уже в кармане, - и он похлопал по портфелю. - Это Николай Баталов и Анатолий Горюнов, а так как комедия Алексея Каплера называется "Три товарища", то вот я и предлагаю вам, уважаемый Михаил Жаров, как вы изволили выразиться, составить им компанию. Володя Петров меня убедил вас не пробовать. Согласен. Вот сценарий, и если не будет возражений, завтра встретимся в Комитете по делам искусств и подпишем договор. До свидания, тороплюсь к Горюнову на обед. - Сунул руку, взял портфель и, шагая всем корпусом, исчез.

|
|
Часто, остановив съемку, В. Петров вносил новые и новые
предложения
|
Съемки "Трех товарищей" шли дружно и быстро не только потому, что было все хорошо организовано; организовано было обычно, но творческое содружество четырех друзей было лучше обычного... К нам примкнула - на условиях настоящей мужской дружбы - красивая, как куколка с фарфоровым личиком и очаровательными ямочками на щеках, актриса Вероника Полонская. Она была великолепным товарищем. Мы так старательно наперебой за ней ухаживали, что нашу компанию прозвали "Сусанна и три старца".
Жили в "Астории", дружно работая и весело отдыхая.
’’Каховка”
Михаил Светлов и Исаак Дунаевский привезли нам ставшую впоследствии такой любимой и популярной знаменитую "Каховку", которая была специально написана для нашей дуэтной сцены:
"Два фронтовых товарища (их играли Баталов и я) смотрят на старое пожелтевшее фото, где они сняты молодыми, в форме бойцов, и, вспоминая прошлые походы, тихо поют".
Вот то, что они поют, мы и должны были услышать.
 Дипломы лауреатов Государственной премии за исполнение ролей мы с Н. Симоновым получили из рук Вл. И. Немировича-Данченко. Со словом благодарности от имени награжденных выступил Алексей Толстой: '...Мы сознаем всю ответственность
быть орденоносцами'...
Дипломы лауреатов Государственной премии за исполнение ролей мы с Н. Симоновым получили из рук Вл. И. Немировича-Данченко. Со словом благодарности от имени награжденных выступил Алексей Толстой: '...Мы сознаем всю ответственность
быть орденоносцами'...
Придя к нам на съемку в павильон, Дунаевский расположился прямо у рояля и, воспользовавшись перерывом, спел песню, которую мы ждали с понятным нетерпением: во-первых, мы уже подошли в съемках к этой сцене "дуэта", а во-
вторых, мелодию новой песни, которую никто еще не слышал, всегда ждут с большим волнением.
Раздались первые аккорды. Стало тихо. Дунаевский запел:
Каховка, Каховка - родная винтовка Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -Этапы большого пути.
Он пел тихо и задушевно, смотря куда-то ввысь, четко выпевая новые, никому не известные слова:
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались.
Как нас обнимала гроза?..
И Дунаевский, тихо покачиваясь в такт песне, посмотрел кругом, ища, очевидно, Светлова.
А Светлов, вдруг ставший юным, скромно сидел в уголке за декорацией и слушал песню с закрытыми глазами, как будто перед ним проходило все, о чем он песней поведал людям, и, поведав, почему-то застеснялся.
Его губы тихо шептали:
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались Ее голубые глаза...
Дунаевский пел все восторженнее и так заразительно, что конец последнего куплета:
Мы мирные люди, но наш бронепоезд Стоит на запасном пути!
- закончили вместе с ним все, кто до этого молча и сосредоточенно слушал.
Раздались аплодисменты, начались объятия, поцелуи: "Спасибо! Удружили! Это гениально!". И тут же, не отходя от рояля, мы начали ее разучивать. Хотелось услышать ее скорее с экрана и уже в собственном исполнении. Песня не была снята на фонограмму, как это делают теперь, нет, мы с Баталовым, разучив ее под аккомпанемент Дунаевского, спели синхронно, играя сцену.
Баталов пел очень музыкально, тепло и лирично; я шел за ним, подтягивая в унисон.
Больше всех от песни был в восторге Горюнов, он прыгал, бил себя по коленам и кричал:
- Это потрясающе - лирично, мелодично и моментально запоминается. Я хочу тоже петь! Семен, - обратился он к Тимошенко, - какие же это три товарища - Баталов п Жаров поют, а я что? Вставь мое соло в сцену, когда я сижу один. Исаак! Играй!
Дунаевский, который дружил и очень любил Горюнова, быстро согласился, шепнув нам:
- Не уходите, получите огромное удовольствие. Толя! Давай, милый, пой! - стал играть мелодию.
Рассказать, как пел Горюнов, нельзя: закрыв глаза и выбрав одну ноту, он, не слушая мелодии, как метроном, низким голосом выстукивал:
Та-тата-та-та!
Та-тита-тата!
Нет, и описать не могу. Лучше возьмите любую ноту и спойте на ней:
Ка-хов-ка, Ка-хов-ка - род-на-я вин-тов-ка...
делая ударение на среднем слоге, и у вас будет примерное представление об исполнении "Каховки" Горюновым.
Дунаевский с совершенно серьезным лицом и очень старательно выстукивал ему все ноты мелодии, но Анатолий был очарователен в своем постоянстве, - облюбовав одну ноту, он никак не хотел бросать ее.
Концерт закончился бурными аплодисментами.
Горюнова начали качать, а он, взлетая вверх, кричал:
- Варвары! Вы ничего не смыслите в нюансах!.. Пустите же... тупицы!
Дунаевский, нежно обняв его, стал "шептать" на ухо, чтобы слышали все:
- Толя! Ты прав... Они тупицы, пойдем обедать. А я тебе обязательно напишу ариозо на одной ноте, только подскажи, какую ты больше любишь из всей гаммы!
За обедом мы дружно подняли бокалы за Дунаевского и Светлова и за наше содружество.
К концу съемки наша смена рабочих уже пела эту песенку, а на другой день ее распевала вся студия. Радио вскоре тоже пронюхало, и когда вышла картина, то песенку уже встретили как добрую знакомую.
Работа над картиной шла быстро, Тимошенко не утруждал артистов сложными задачами в "предлагаемых обстоятельствах".
- Артисты у меня высокой квалификации и получают соответственно этому оплату, - отвечал он корреспонденту газеты "Кино", который интересовался, много ли мы репетируем.
- Нет, снимаем сразу после одной - двух технических репетиций для звуковиков и осветителей.

|
|
Вс. Мейерхольд. Шарж худ. Челли
|
Метод "работы над ролью" у Тимошенко был не сложный: он садился рядом со съемочным аппаратом. Говорить ему было нельзя - микрофон висел рядом, - но если ему казалось, что сцена идет не в темпе, не как "у французов", он пальцами изображал "ножницы" и, качая головой, мимически показывал нам, что "напрасно, мол, стараетесь... все эти ваши художества я ножницами вырежу!". Вот это, собственно говоря, и было основным в "системе" работы Тимошенко с актером. Нас вначале это смешило, а потом стало мешать. Тогда мы решили отучить его от этого метода. Как только он начинал с ехидной улыбочкой работать "ножницами", актеры останавливались и, сделав большие глаза, спрашивали: "Опять что-нибудь мы не так сделали?". Тимошенко испуганно охал и кричал: "Да зачем же вы остановились, ну вот, все испортили", - и начинал сцену сначала. Понял ли он наш протест или нет, но игру с "ножницами" прекратил.
"Ленфильм"
Студия "Ленфильм" была одной из лучших, если не единственной, в которой творческая и производственная жизнь била ключом. Работали все дружно, начиная от молодых новаторов Г. Козинцева и Л. Трауберга, комсомольцев А. Хейфица и А. Зархи, мудреца Фридриха Эрмлера до "традиционалистов" В. Петрова, А. Ивановского В. Гардина, включая "беспринципного специалиста" С. Тимошенко. На студии уживались и мирно сосуществовали все методы. Критика на деловых просмотрах была прямой - в лоб и по существу, но самое главное - товарищески искренней.
Мои лучшие воспоминания всегда связаны с работой на этой студии.
А. Н. Толстой
Вскоре после окончания "Трех товарищей" Владимир Петров прислал мне письмо, чтобы я освободил вечер - он приедет в Москву и хочет со мной встретиться, разговор будет о Меншикове. О том, что Петров ставит "Петра I", уже было известно из газет.
Я пришел после спектакля. На Балчуге, в холодном ресторане Ново-Московской гостиницы, где-то на самом верху, Петров познакомил меня с А. Н. Толстым.
Очень полный и, как мне показалось, важный, с длинными волосами поэта, Толстой был несколько утомлен, и только умные и ясные глаза, пристально смотревшие через толстые стекла очков, говорили, что он полон сил и утомление, видимо, было его манерой вести себя.
Рядом с ним сидел щупленький, уже подвыпивший человек, тоже в очках, с очень острыми и, как бывает у больных туберкулезом, блестящими глазами. Одет он был в черную или во всяком случае темную вельветовую блузу-толстовку. Сунув, не глядя на меня, руку, он торопливо пожал и, сказав: "Ильинский", выдернул ее обратно. Все его внимание занимал Толстой, который в момент, когда я подошел к столу (сидели они, видно, уже давно), довольно добродушно отмахивался от напора Ильинского:
- Слушай! Отстань ты от меня!
Но тот очень настойчиво, жужжа, как муха, повторял:
- Нет, ты послушай, Алеша! Ведь всю картотеку Льву Николаевичу составил я! Давай я и тебе составлю картотеку!
- Иди ты к черту! Гы! Гы! Со своей картотекой! - ухмыляясь, отвечал Толстой.
Этот короткий диалог возобновлялся через каждые пять -десять минут, пока мы сидели и разговаривали о будущей картине, и только разве от количества выпитых рюмок он к концу несколько ожесточился:
- Алеша! Дай!
- Иди ты к черту! Гы, гы, гы!
Толстой очень ласково и трогательно похвалил меня за Кудряша и, мотнув головой в сторону Петрова, сказал:
- Я вот ему говорю, чтобы он не искал никого на Меншикова. Мне кажется, я вижу верно. Володь! А? Ты что же молчишь, аль окосел?
- Нельзя хвалить, а то заважничает!
- А ты хвали, если заслуживает, ему будет легче работать!
Вот эти слова из большого и очень интересного разговора я запомнил точно. Мне никогда не приходилось слышать такую ясную и простую истину.
Налив мне большую рюмку и ткнув в меня пальцем, что означало: "За твое здоровье", Толстой молча и со вкусом выпил такую же.
Разговор о Петре был очень интересный и нужный. Потом, примерно месяца через три, когда начались уже съемки, я часто в своих мыслях возвращался к добрым советам, которые в промежутках между: "Алеша?" - "Иди ты... Гы, гы!" - давал мне Алексей Николаевич.
Но практически эта встреча была только знакомством, смотринами - Толстой хотел со мной встретиться после "Грозы" и "прикинуть" для Меншикова.
Сценарий не был еще закончен. Пробы, вернее -предварительный отбор, производились только с кандидатами на роль Петра. Было уже заснято много актеров. Н. Симонов тоже еще не был утвержден. В. Петров посоветовал мне почитать еще раз роман, а Толстой назвал мне добавочную литературу, и мы расстались.
Проба на роль Меншикова
Как будет со мной дальше, я не знал - будут ли пробовать, или же, по рекомендации Толстого, просто заключат договор. Но вот наконец получаю долгожданную официальную телеграмму, в которой мне предлагают приехать для переговоров о роли Меншикова и для пробы на эту роль...
Как забилось мое сердце, знают только актеры. Ах, как застучало ретивое, когда я опять вошел в уже знакомый мне кабинет В. Петрова. Теперь на стенах у него висели не эскизы к "Грозе", а портреты Петра I. Их было очень много, и все разные и все непохожие один на другой, хотя что-то общее их всех и объединяло, - по-моему, усы.
Вокруг кабинета режиссера расположились комнаты группы. Количество комнат и состав группы говорили, что такой картины по масштабу работы и по размаху организации на студии еще не было. Комнаты были заполнены всевозможными книгами, рисунками, эскизами художников, подлинными вещами петровской эпохи и орденами, взятыми из музея. Оружие валялось на столах, у стены стояли мушкеты. Со всего снимали образцы для передачи в пошивочные, гримерные и бутафорские цехи. Все требовалось для картины в сотнях и тысячах штук. Все были заняты, и тем не менее меня встретили как старого друга. С многими работал еще в "Грозе".
Петров, закурив свою любимую "Тройку", сидя за заваленным всевозможными книгами столом, и, как бы извиняясь, сказал:
- Надо будет пробу сделать для художественного совета. Просят... да я думаю, и тебе будет интересно поискать грим.
"Ага, - пронеслось у меня в голове, - понимаю, это он золотит противную пилюлю пробы... Так, значит, Толстой зря обещал без пробы. Кого-то еще хотят взять". Но я, очень мило улыбнувшись, поспешно сказал:
- Да, да, конечно, мне интересно поискать, очень! Я пойду к гримеру, поищу, глядишь и найду!
Но Петров, этот видавший виды человек, хитро заулыбался и, протянув мне пачку "Тройки", сказал:
- Ходить тебе не надо, отдохни! Покури! Вот сейчас придет Анджан, и мы все обсудим, проверим, прикинем!
- А портреты есть Меншикова? - спросил я.
- Мало, да и то немецкие для второй серии, когда он был уже шишка важная, сановник. А в первой серии он ведь пирогами торговал, с таких портретов не писали. Придется думать, обговаривать, искать самим!
Пришел А. Анджан, и выяснилось, что, кроме мольеровского парика для пробы на роли сенаторов, у него ничего нет. У костюмеров было тоже нелучше - несколько дежурных костюмов: французский - для двора и военный - для офицеров и генералов.
Я всегда был противником возмутительной системы проб. Актера приглашают на большую работу и, не продумав, в наспех подобранных, отдаленно похожих костюмах, в случайных париках и наклейках делают скоропалительные пробы, которые часто решают, будет актер играть роль или нет. Черт знает что! При этом еще клянутся Станиславским!
Собравшиеся помощники и консультанты решили, что раз ничего на меня не лезет: все было мало и узко, за исключением одного французского камзола, снять меня во французском парике.
- Кстати, и посмотрим, как ты в нем будешь выглядеть для второй серии, - поставил точку Петров, и я пошел гримироваться.
Между прочим, я узнал, что кандидатов на роль Петра - их было человек двенадцать - пятнадцать - подгоняли по гриму к висевшим портретам, и даже некоторые были очень похожи, но Алексей Николаевич, как только увидел пробу Симонова, воскликнул:
- Вот это Петр! Не правда ли? Ну, конечно, он!.. Утверждаю!..
- Но знаете ли, - возразил ему один из консультантов, - он единственный актер, который не похож ни на один из двадцати пяти портретов Петра!
- Неважно, - сказал Толстой, - если Симонов сыграет его ярко и интересно, - а по кинопробе я вижу, что он Петра сыграет именно так, - то запомнят его. Это и будет двадцать шестой портрет, потому что, вспоминая Симонова, будут представлять себе Петра.
Грим был у меня несложный: положив тон, Анджан надел на меня серый (белый волос, с сединой), очень пышный мольеровский парик. Я взглянул в зеркало и тут же понял, что этот ужасный парик мне противопоказан. Парик, с его буклями и завитушками при моем русском, круглом носе, круглом подбородке, подходил ко мне так же, как корове седло. Вольтером - как он выглядит на знаменитом скульптурном портрете - я не был! Тем не менее пробу сделали, сделали наспех, без Петрова, сняли крупный план в профиль и анфас, с улыбкой и без оной. Я уехал опечаленный.
Прошла неделя - ни ответа, ни привета... Все! Значит, провалили нарочно, иначе почему же молчание? Если бы я подошел, вызвали бы, так обычно это делается, через два -три дня телеграммой: "приезжайте примерку костюмов" или еще конкретнее: "заключения договора".
И я отправляю, как мне кажется, ни к чему не обязывающую дипломатическую телеграмму: "Хочу смотреть пробу свободен завтра". Мне отвечают: "Приезжайте".
И никаких обнадеживающих намеков.
Хождение по мукам
Войдя в группу, я понял, что все рухнуло. Обычно милые и такие разговорчивые ребята и девушки при моем появлении изменились - одни полезли куда-то под стол, поднимать то, что не падало, другие, уткнувшись носом в книгу, с такой старательностью ее разглядывали, как будто это был тот первый экземпляр, который осчастливил человечество.
Я, смотря на их затылки, сказал: "Здравствуйте", но,
получив в ответ бормотание, прошел в кабинет Петрова.
- Владимир Михайлович просил подождать: если хочешь, сходи в буфет, - посоветовал мне всегда улыбающийся, с чересчур благополучным лицом Коля Лещенко, не здороваясь и не поднимая головы от стола, где читал сценарий. Он был вторым режиссером и одним из соавторов сценария "Петра I".
- Спасибо, я сыт! - сухо ответил я, хотя мне ужасно хотелось с ним поговорить.
После длительного молчания и двух сигарет, выкуренных залпом, для бодрости, я, напустив на себя этакую развязность, независимым тоном начал разговор:
- Ну, как?.. Смотрели мою пробу?
Он молча дочитал страницу до конца, перевернул ее, потянулся и, зевнув во всю пасть, ответил:
- Да! Кажется... - И опять начал читать.
- Ну, и как? - уже грубо и настойчиво спросил я. Меня злила и его гнусавость, и безразличие, с которым он мне отвечал.
- Увидишь сам! - отмахнулся он от меня, затем, подвинув чужую пачку сигарет "Тройка" и, промямлив: - Кури - вышел из кабинета. Он был в эту минуту такой "вежливый и аккуратный", что я...
"С тобой и говорить-то не хотят, а ты лезешь... обиваешь пороги... Ни стыда, ни совести у парня... право..."
Сколько горечи я испытал, сколько слез от обиды я мог бы пролить в эту несчастную и такую, казалось, позорную для меня минуту, если бы в это время не вошел Владимир Михайлович, а вместе с ним очень милая и очень красивая Алла Тарасова. Он что-то рассказывал, и они оба весело хохотали.
- Батюшки! Да это Миша! Вот не узнала! - воскликнула она. -Почему такой грустный? - И, не дожидаясь ответа, продолжала: - Как я рада! Когда вы уезжаете? Сегодня... Да?.. "Стрелой"... Да?.. Значит, вместе? Терпеть не могу ездить одна! Значит, до вечера? Ужинаем вместе? Вы где? Ах, в "Европейской", а я в "Астории"... Пока!
Прощебетав все восторженно, одним духом, она ушла счастливая и обаятельная.
Петров, проводив ее, сел за стол. И, как всегда, закурив "Тройку": и выпуская клубы дыма, он небрежно меня спросил:
- Как ехал? "Стрелой"? Выспался? Да?
Опять во мне поднялась тоска, и я зло ответил:
- Ехал хорошо! Спал еще лучше!
Повисло молчание.
- Хочешь смотреть пробу? - вдруг резко спросил Петров.
- Да! - почти крикнул я от тоски и боли.
- Пойдем!
И мы пошли, но не группой, как бывает обычно, при хорошей пробе, а вдвоем, медленно и молча, пересекая двор. Чувствовалось, что буквально вся студия жила подготовкой к "Петру". Мы проходим мимо группы статистов переодетых в костюмы бояр и солдат, делались пробные съемки для пленки, света, фактуры материала.
Мне ужасно хотелось поговорить с Петровым, услышать слова, пусть горькие, но человеческие, слова друга, который мне объяснил бы, что же произошло, но... то Петров останавливался и делал какие-то указания, то его останавливали, спрашивали что-то.
"Путь Христа к Голгофе был легче, чем мой, - думал я, направляясь к просмотровому залу, месту, где уже кто-то решил мою судьбу. - Ну, хорошо, ладно. Художественный совет меня забраковал... конечно, в этом парике я плох, но почему же холодно произнесенное "нет!" так меня терзает? Не потому ли, что до сих пор мне такого "нет" не говорили, и стало обидно? Так, что ли? Да, мне очень обидно, что они не поверили не только мне, но и Толстому, когда этот большой художник увидел, оценил, уверовал в меня и сказал: "да!". И я хочу понять, кто же прав?"
Когда мы сели, я, собравшись с духом, вдруг совершенно чужим голосом спросил Петрова:
- Художественный совет, конечно, смотрел?
- Да.
- И, конечно, сказали: "нет"?
- Сказали.
Потух свет в зале, и на экране, во всю его длину и ширину, появилось лицо. Нет! Лицом "это" назвать было нельзя, -появилось что-то крупное, круглое с дырочками, которые высовывалось из чего-то, что напоминало куст! Ужас!
Вообще-то, пока не привыкнешь к своему лицу на экране, всегда испытываешь чувство неловкости, но то, что увидел я, было похоже... нет, не берусь рассказать: это было что-то неприличное, от чего мне стало стыдно и страшно. Я опустил голову, закрыл глаза руками и тихо попросил не продолжать дальше показа.
Я подумал, что сниматься не только в роли Меншикова, но ни в какой другой я больше никогда не буду.
- Владимир Михайлович! Вы можете сделать мне последнее одолжение?
- Да, какое?
- Отдайте мне эту пробу, чтобы никто никогда не мог увидеть ее. Хорошо?
- Хорошо!
Я вздохнул, и слезы закапали сами собой.
Тогда Петров с какой-то нежностью, совершенно для него несвойственной положил мне руку на колени и очень ласково сказал:
- Ну что же ты так расстраиваешься. Ну, действительно, этот парик тебе не к лицу. Ну и что?.. На, возьми этот ролик и сожги его, уничтожь!
- А... Толстой видел?
- Да, видел.
- Боже, какой ужас! Что же он сказал?
И тут Петров мне рассказал, как Толстой сначала молча смотрел, потом попросил показать еще раз и вдруг начал дико хохотать:
- Нет! Вы только посмотрите: ведь это же великолепно,
\j \j i
n \j \j
какой предметный урок! Вот что получается с русской головой, если на нее напялить французский парик! Смешно!
- Так и сказал?
- Да! Лицо-то, говорит, конфликтует с буклями и в знак протеста вываливается из парика!
- А потом, наверное, сделал "гы, гы, гы"?
- Сделал!
- Ну и что же решили? - робко спросил я.
- Отхохотавшись, он сказал: дайте ему сценарий и пусть работает.
- Как работает? Значит? Я буду... - замер я.
- Значит, ты будешь сниматься в роли Меншикова!
- А как же художественный совет?
- Художественный совет капитулировал. Толстой взял над тобой шефство.
Я уткнулся в платок, чтобы никто не видел, что и драгуны тоже плачут.
- Ну зачем же вы меня так мучили, это безжалостно! -упрекнул я Петрова.
- А ты что же хочешь, без мук и трудностей? Пришел, увидел, победил! Нет, брат, так не бывает! Иди сейчас к Анджану, и начинайте работать над гримом по-настоящему. Затем зайди в костюмерную, сними мерку и посмотри там эскизы твоих костюмов. Потом сговорись с Лещенко, надо начинать тренировки на лошади, ведь Меншиков - драгун! Работы будет много, только успевай поворачиваться.
Писатель и хирург
И чем больше он находил трудностей, которые меня ожидали в процессе работы над ролью, тем больше ликовала моя душа! Она пела потому, что мир, на который я смотрел до этой минуты через черные очки, оказался не такой уже мрачный и отнюдь не без добрых людей. Я обнаружил среди них множество благородных людей, которые полны веры в человека. Я ощутил прилив огромной благодарности и любви и к Владимиру Михайловичу Петрову, и к Алексею Николаевичу Толстому. Писатель увидел во мне черты и характер, нужные для воплощения своего любимейшего героя - Алексашки Меншикова, и, поверив, что я сумею их воплотить, не отступил от своего мнения даже при виде этой ужасной пробы.
Да, это он, Толстой, воскресил во мне веру в свои силы, вернул мне радость творчества, без которых не может жить и работать актер. Он излечил меня от травмы, от тяжелого потрясения.
И я вспомнил другое событие.
До сих пор считаю, что в моей жизни произошли дважды события, сохранившие мне жизнь...
...Мне было лет восемь - девять, когда, упав с лестницы, я переломил правую руку. Это был третий перелом одной и той же кости. День был воскресный, бежал я радостный что-то сообщить отцу, но больная нога, которую накануне растянул, играя в "казаки-разбойники", подвернулась, и я упал на каменную площадку. Первое, что я увидел, открыв после падения глаза, была рука, которая качалась в неестественном положении. Она поднялась на месте перелома кверху и, похожая на шею лебедя, медленно поворачивалась в разные стороны. Левой рукой я схватился за острый выступ перелома и почему-то совершенно спокойно сказал самому себе: "Так... Все кончилось - переломил руку!".
Отец, больно ударив меня, заплакал. В больницу поехали все.
Дежурный хирург, осмотрев перелом и узнав, что это третий перелом в одном и том же месте, сообщил родителям, что руку надо немедленно отрезать по локоть. Мать с белыми от волнения губами сказала:
- Зачем же отрезать, ему ее уже два раза сращивали в лубке!
- Но у него уже образовалась костная мозоль и не срастется. Как хотите, я могу положить и в лубок, но будет сухоручка! Выбирайте.
- Пусть будет сухая, но все-таки рука, чем так... - И она как-то странно помахала рукой.
Все опять заплакали. И в это время - ну, как хотите, так и расценивайте: судьба ли это, случай или мое счастье, - в операционную с группой студентов вошел главный хирург Старо-Екатерининской больницы профессор Петр Александрович Герцен. Позже я узнал, что он был внуком А. И. Герцена.
Учтите, что это было в воскресенье и он совершенно случайно, сам делая в другом корпусе какую-то неотложную операцию, пришел сюда просто так, на "огонек".
- Что за шум? Почему все плачут? - спросил он моего хирурга.
Тот ему объяснил - третий перелом, костная мозоль.
- Что же вы предлагаете?
- Ампутировать по локоть!
- Да? - и, взяв мою руку, Герцен начал ощупывать сломанную кость, потом, сказав: - Пинцет, - вынул маленький осколок кости, который, прорезав кожу, торчал наружу, потом, крикнув: - Гипс! - заставил дежурного хирурга оттянуть сломанную часть руки и медленно ее отпускать, а сам в это время осторожно, как ювелир, соединял сломанные кости. Вправив, он уверенно забинтовал руку гипсовым бинтом.
Вся операция происходила тихо, как во сне, и первое, что я услышал, были слова, обращенные к дежурному:
- Как же так можно. Ведь он еще ребенок, у него вся жизнь впереди, а вы... ампутировать... - И он поднял свои мокрые руки.
Студентка моментально достала из его кармана папиросу, сунула ему в рот, студент тоже моментально зажег спичку и дал ему прикурить. Все было сделано четко, без суеты и, вероятно, не в первый раз. Видно было, что ученики его обожают.
- Вы мамаша? - спросил он ожидавших родителей.
- Да.
- Не надо плакать! Все будет хорошо! Как зовут сына?
- Ми-ша...
- Ну так вот, Миша неловко упал. Будем считать, что ему не повезло!
- Ему повезло! Если бы не вы, быть ему без руки...
- И опять в слезы. Ах, мамаши, мамаши! - И, погладив меня по голове, сердито сказал: - Не огорчай больше мать! Видишь, как плачет!
Потом они все ушли так же внезапно, как и появились...
Все это я рассказал вечером Алексею Николаевичу.
- И вот мне кажется, что между хирургом и писателем есть много общего. Благодаря своей чуткости, человечности и любви к людям хирург вернул меня обществу, сделав трудоспособным, а вы... И подумать только, что я мог бы быть жертвой невнимания утверждающих инстанций, а вы со своим большим сердцем вмешались и сохранили... - И тут, набрав большую, чем надо, "высоту" пафоса, я замялся и, промямлив что-то вроде: - сохранили творческую индивидуальность, -остановился, покраснел и стал мокрый, как мышь.
Толстой, который очень внимательно слушал мою философски напыщенную тираду, не улыбнулся, а покачав головой, сказал:
- Да, была бы беда... С Герценом тебе, действительно, в жизни повезло... Судьба, говоришь? Ай, яй, яй, как бывает интересно! - И он задумался.
Разговор в этот вечер как-то не клеился.
’’Рыжий дьявол!”
Граф был явно не в духе!
Зато Людмила Ильинична была очень любезна, внимательна и все время угощала нас крепким чаем.
- Михаил Иванович, - обратилась она ко мне, - какой же вы решили сделать грим для молодого Алексашки?
- Не знаю... Ищем! Мне кажется, что надо исходить от жизни - соратники и приближенные всегда стараются подражать своему начальству. Мне кажется, что и Меншиков старался: и волосы зачесывал назад, и усы отращивал по-кошачьи, как у Петра, но только у него все было моложе и озорнее, брови, мне кажется, торчали кверху, как будто собирались улететь.
- Мин херц! - вдруг неожиданно назвав его так, обратился я к Толстому: - Я прочитал, что один иностранный дипломат на ассамблее у Меншикова очень назойливо приставал к Петру с каким-то вопросом. Петр не хотел отвечать ему и сказал Меншикову: "Не надо его здесь, на ассамблее, задерживать!". Меншиков, выполняя волю царя, деликатно выпроводил чрезмерно любопытного дипломата со второго этажа. И вот дипломат, описывая в своих воспоминаниях этот случай, пишет, что "Меншиков, этот рыжий дьявол с огненными глазами, меня толкнул".
- Верно рассказал, так было!
- Так вот, мин херц, я не могу расшифровать, почему "рыжий дьявол" и почему с "огненными глазами"?
Толстой покосился на поставленный ему стакан чая, сердито его отодвинул и сказал, сунув в рот трубку:
- Можно себе представить, как Меншиков "выпроводил" дипломата с лестницы, если он показался ему "рыжим", да еще с "огненными" глазами. Представляешь, что там было?
- Но почему же дьявол?
- Ну, а дьяволом он его просто обругал, когда, сидя внизу на площадке, почесывал задницу!
А вот насчет сходства с Петром? Что ж, это стоит подумать. Маленькие усики штопорком и буйный зачес волос дадут стремительность, и летящие брови тоже хорошо! А?! Владимир Михайлович, как ты думаешь?
И Петров, перед которым почему-то появилась рюмка коньяка, которую он тут же опрокинул, сказал:
- Посмотрим! Увидим! Посоветуемся! Они с Анджаном сегодня что-то уже делали. Взглянем на фото! Поговорим! Проверим!
На первых фото я был похож на недоразвитого цыпленка, пришлось осторожно, меняя деталь за деталью, уравновешивать прическу с бровями, брови с усами, а все вместе с лицом и костюмом, пока не сказали все, в том числе и члены художественного совета: "Вот теперь хорошо!".
Вскоре начались съемки, все заработало, и Толстой уехал в Карлсбад (Карловы Вары) лечиться. Советоваться было не с кем. Но даже в те короткие встречи, которые состоялись, он умел двумя - тремя меткими сравнениями, хлестким определением или даже просто вовремя прозвучавшим "гы, гы, гы" раскрыть целый новый мир в жизни образа и взбудоражить надолго фантазию.
"Взятие крепости"
Снимали натуру под Ленинградом. В Озерках между двумя холмами были построены крепостные ворота, башня и стены города Нарвы. Если смотреть на съемочную площадку с террасы дачи, где мы отдыхали, обедали и где всегда стоял кипящий самовар, то вид был необыкновенно живописным.
 'Степан Разин'. Режиссеры О. Преображенская и И. Правов.
'Мосфильм'. 1939 год. Боярский сын Лазунка был еще одной фигурой в ряду моих 'исторических' героев
'Степан Разин'. Режиссеры О. Преображенская и И. Правов.
'Мосфильм'. 1939 год. Боярский сын Лазунка был еще одной фигурой в ряду моих 'исторических' героев
Слева, на фоне воды, высилась шведская осажденная крепость. На зубчатых стенах ходили солдаты, пушкари изредка производили выстрел из крепостного орудия, и "чугунное" ядро, пролетев метров двадцать, "хлюпалось" среди наступавших петровских пехотинцев. Через глубокий ров был перекинут цепной мост. Ворота крепости были разбиты, и, плотно заслонив узкий проход, на мосту стояли шведские солдаты, защищая вход в город. Съемки шли у ворот крепости, снимали шведов, готовившихся отразить атаку драгун. Справа, за холмистыми дюнами, спрятаны были драгуны Меншикова. Они были спокойно заняты своими делами: кто лежал прямо на песке, задрав кверху натруженные ноги, кто читал "Комсомольскую правду" (солдаты молодые) или другую газету, а кто просто покуривал, весело чему-то смеясь. Жизнь шла, как на настоящем бивуаке.
Лошади, собранные вместе, обмахивались хвостами, отгоняя оводов, слетавшихся со всего взморья. Тут же на холмах и деревьях сидели ребята, пуская от восторга слюну, и наблюдали "настоящий петровский бой". Но вот пришли гонцы с площадки от режиссера и сообщили, что после перерыва начнут снимать атаку драгун.
- Владимир Михайлович просит, чтобы вы, Михаил Иванович, проверили свою лошадь и не сели бы на вороную, как вчера, вместо своей серой!

|
|
'Степан Разин'. Режиссеры О. Преображенская и И. Правов. 'Мосфильм'. 1939 год. Сценой встречи Степана (А. Абрикосов) с Лазункой (М. Жаров) Ольга Преображенская начала съемки
картины 'Степан Разин'
|
Небо для съемок - роскошное. По лазурно-голубому плывут белые барашки облаков. Боковое солнце освещало дорогу к крепости и башню, на которой развевался флаг. Красота!
Операторы торопили. Наконец все на местах.
Раздалась команда:
- Моторы! Начали!
Серый красавец, на котором сидел Меншиков, заржал. Светлейший, похлопав коня ласково по шее, быстро поднялся на стременах. Стало тихо.

|
|
'Степан Разин'. Режиссеры О. Преображенская и И. Правов. 'Мосфильм'. 1939 год. ...Расписные челны Стеньки Разина снимали не только на Волге, но и в павильоне 'Мосфильма'. На
Лазунку надели чалму
|
И вдруг истошно:
- Солдаты! В крепости вино и бабы! Даю три дня на разгул! Вперед! За мной! Ура!
Прозвучал сигнал горна, и драгуны, обогнув холм и вынув сабли, вышли на оперативный простор. С криками: "Ура! Ура! Ура!" рванулась красномундирная лавина по прямой - к перекидному мосту.
Со стены крепости раздались залпы, и круглые, как футбольные мячи, ядра с зажженными фитилями, шипя и вертясь, но теряя скорость, стали плюхаться и шлепать среди всадников Меншикова, не причиняя им особого беспокойства.
Меншиков, поймав летящее прямо в него ядро, лихо развернул руку и с ходу бросил его назад, на мост, в группу шведов. Ядро зашипело, с сердитым гулом закрутилось, как волчок, и, перескочив через край моста, утонуло во рву. Шведы, прячась от гранаты, сломали строй, и Меншиков первым стремительно врезался в неприятельскую пехоту, охранявшую ворота.
Смяв охрану, драгуны, рубя саблями направо и налево, устремились через ворота в крепость.
Возбужденный, с горящими глазами, Меншиков опять поднялся на стременах и, охрипшим голосом крикнув: "Ура! Вперед!", дал шпоры... Но лошадь, сделав рывок, споткнулась о бревно, всадник вылетел из седла и, перелетев через голову лошади, ударился о крепостную стену.
 Человек в футляре . Режиссер И. Анненский. Советская Белорусь'. 1939 год. Вслед за чеховским 'Медведем' сняли 'Человека в футляре', где я играл учителя Коваленко
Человек в футляре . Режиссер И. Анненский. Советская Белорусь'. 1939 год. Вслед за чеховским 'Медведем' сняли 'Человека в футляре', где я играл учителя Коваленко
Дали отбой. Съемка прекратилась. Ко мне, лежавшему в позе поверженного Меншикова, подбежали дежурные врачи. К
счастью, все обошлось более чем благополучно. Я отделался легкой травмой, ушиб был незначительным, больше пострадала крепостная стена: от моего удара гранитные плиты, которые были искусно нарисованы на холсте, прорвались, тело мое таким образом "самортизировалось", и я тихо откатился в кучу опилок, выкрашенных в цвет травы, которые маскировали пролеты между землей и декорацией.
Испуганный Петров тихо, но беспокойно спросил у врача:
- Ну, как?
- Ох! Ох! - простонал я, наблюдая одним глазом.
- Да вот... - развел руками врач.
- Что вот?.. Сниматься не сможет?
- Думаю, что...
- Сможет! Сможет! - пропищал я совсем тоненько.
- Значит, жив! - закричал Петров. - Ну слава богу! Молодец!
- А как же! - еще громче крикнул я. И, отхлебнув из фляжки врача глоток особого "к. с.", уже важно ответил: - Вот полечимся, и в атаку.
Петров схватил меня в охапку и начал тискать и мять.
- Значит, еще дублик сделаешь!
- Сделаю, сделаю! Только отдайте мою фляжку!
Но Петров, опрокинув голову, допил ее до конца и, помахивая пустой посудиной, веселый и счастливый, сказал:
- Премия за взятие крепости за мной!
Тут же выяснилось, что можно больше не снимать. Со слов Петрова, из всех дублей этот дубль был просто великолепный:
- Особенно было эффектно, как ты ловко разделался с гранатой, - поймал, развернул и швырнул. Толстой даже присел от удовольствия!
- Как Толстой? Он ведь в Карлсбаде?..
- Был... А сегодня приехал, и прямо на съемку!
- Атаку нашу видел?
- Доволен очень! Хвалил тебя!
- Так зачем же снимать, если хорошо?
- Не ворчи, старик! Надо застраховаться.
Мы съехались опять за холм, на исходный рубеж и приготовились уже в который раз к атаке.
Раздался сигнал горна:
- Тра-та-та та-та-а! Приготовиться к атаке!..
Сын полка
Горнист, который стоял на операторской вышке вместе с главным оператором, чудесным мастером, умным и талантливым художником, с полусонными, но красивыми глазами, Вячеславом Гардановым, был мальчик лет десяти -двенадцати, бывший беспризорник, усыновленный кавалерийским полком, который участвовал в наших съемках.
 'Человек в футляре'. Режиссер И. Анненский. 'Советская Белорусь'. 1939 год. Играя в 'Человеке с футляром' прелестную девушку, сестру Коваленко, О. Андровская замечательно пела в одной из сцен. Очень боясь испортить песню, я осторожно
подтягивал ей
'Человек в футляре'. Режиссер И. Анненский. 'Советская Белорусь'. 1939 год. Играя в 'Человеке с футляром' прелестную девушку, сестру Коваленко, О. Андровская замечательно пела в одной из сцен. Очень боясь испортить песню, я осторожно
подтягивал ей
"Сын полка" стал полковым горнистом и все команды знал великолепно. Ему очень хотелось надеть костюм и сниматься, но так как горнист был нужнее, его одели в драгунский мундир (он утонул в нем, как в пальто, и выглядел очень смешно), надели парик с треуголкой, Анджан приклеил ему пышные черные усы, и прикрепили к режиссеру. Гордый и довольный, без единой улыбки, стоял он рядом с Петровым и по его
команде давал сигналы: "Приготовиться!", "Атака!", "Вперед! Марш! Марш!", "Отбой!".
Кавалерийские лошади знали сигналы и выполняли их, как в цирке, точно и незамедлительно. Про всадников уж я и не говорю.
На репетициях (это было накануне съемки, когда происходило "освоение" объекта) после сигнала: "Вперед! Марш! Марш!" всадники, обогнув холм, устремлялись на дорогу. Я не участвовал во всех прогонах. Освоив трассу, я залез на вышку и оттуда смотрел на репетицию.
От долгих репетиций за поворотом, у холма, сырой песок, разбитый копытами коней, образовал кашу, мешавшую аллюру, так как лошади в ней вязли. И вот на одной из репетиций, повернув за холм, первые лошади споткнулись, упали вместе с всадниками, задние, не видя из-за поворота их падения, мчались вперед, и образовалась "куча мала".

|
|
В этом молчаливом поединке с Беликовым (Н. Хмелевым),который снимали крупным планом, я внутренне переживал, как на ответственном экзамене. Переиграть или недоиграть было
|
невозможно
Все могло бы закончиться катастрофой, я это понял по перепуганным и растерянным лицам начальства, которое стояло тут же на вышке, и только один мальчонка-горнист, внимательно все наблюдавший, оставался совершенно спокоен. Когда упали лошади, он поднес горн к губам, и раздались резкие металлические звуки:
- Тра-ра! Тра-ра! Тра-ра!
Звуки были назойливые и однообразные. Как будто кто-то приказывал: "Стоп! Стоп! Стоп!".
И их нельзя было не слушаться. Все в мгновенье ока изменилось.
Лошади, которые неслись, остановились, а те, которые лежали, сразу вскочили, опустив голову, как будто стесняясь,
W I
что из-за них произошел такой переполох!
Все обошлось благополучно! Но как переживали, как охали, ахали, как наперебой все хвалили горниста, а он, чудесный сын своего полка, дергал меня за рукав и, как будто ничего не произошло, шептал:
- Дядя Миша, попросите дядю Гарданова снять меня на фото в костюме, в школе просили, для стенной газеты. Ребята гордятся, что я снимаюсь в "Петре Первом". Хорошо! Дядя Миша? Да?
- Да! Да! Хорошо! Обязательно! Милый мой Алексашка!
Его звали тоже Сашей, и я считал это хорошей приметой для моей роли.
- А ты знаешь, что и мой Алексашка служил в "потешных" у Петра, - шептал я на ухо ничего непонимавшему мальчонке с большими черными усами.
rn ч_/
1 олстои и мушкетеры
...Атаку сняли еще раз, и я подъехал к Алексею Николаевичу. Он стоял рядом с Людмилой Ильиничной в кругу друзей, помолодевший и очень красивый, его массивная голова немного покачивалась, но глаза излучали бездну света, а пухлые губы что-то шептали. Он долго и размеренно тряс меня за руку, потом почему-то вдруг вынул платок, протер очки и высморкался, как делают в тех случаях, когда слезы попадают в нос.
 'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света, я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света, я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
 'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света,
я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света,
я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
- Людмила!
А, смотри, Меншиков-то каков? Красавец! А ну, слезай-ка на минутку.
Я спрыгнул с лошади и попал прямо в его объятья. Навалившись грудью, он крепко обнял меня, а потом, положив руки на плечи, позвал Людмилу Ильиничну и, глядя мне прямо в глаза, сказал:
- Спасибо, дорогой! Хорош... А, Людмила? Теперь уж Меншикова в следующей книге я буду писать с него! - И повернулся к гостям: - Знакомьтесь - живой Алексашка!
- Мин херц!.. А вы похудели, - вдруг, ничего умнее не придумав, сказал я прорезавшимся голосом.
Все почему-то весело рассмеялись, а Алексей Николаевич, потрепав лошадь по шее, сказал:
- Похудеешь! Промывали насквозь!
- Как насквозь? - спросил я, решив поддержать светский разговор.
- Так, литров тридцать впустят, а двадцать выпустят!
- Двадцать?.. Интересно, а куда же девались остальные?
- Рассасывались! Гы, гы, гы! - под дружный хохот закончил Толстой.
За завтраком я поделился с ним тревогами и сомнениями, которые мучили меня.
- И что же тебя беспокоит?
- Не слишком ли я современен, не окомсомолил ли я Меншикова? Какая-то у меня и лихость, и хватка... современно удалая!
- Так это хорошо! Тебя зритель будет любить за это и принимать великолепно.
Комсомол - это молодость! А молодость во все времена и у всех народов есть молодость.
 Богдан Хмельницким. Режиссер И. Савченко. Киевская киностудия, 1941 год. 'Можно и отдохнуть' - так думали мы, делая перерыв в работе над фильмом. Игорь Савченко чокается со мной. Оператор Ю. Екельчик, директор картины В. Чайка, словом, весь коллектив картины собрался здесь
Богдан Хмельницким. Режиссер И. Савченко. Киевская киностудия, 1941 год. 'Можно и отдохнуть' - так думали мы, делая перерыв в работе над фильмом. Игорь Савченко чокается со мной. Оператор Ю. Екельчик, директор картины В. Чайка, словом, весь коллектив картины собрался здесь
- Спасибо, мин херц! Я тоже так думаю, и даже, скажу вам по секрету, меня вдохновили еще и мушкетеры. Я у них позаимствовал отваги! Они ведь в одной временной горизонтали с Меншиковым - то же время и тот же возраст! Вот мне и показалось, что у них должно быть что-то общее, объединяемое эпохой, а что - я не знаю, чутьем чувствую, что должно, а "теоретическую базу" не могу подвести, и вот вы взяли да подвели - молодость! Ну, конечно! Правильно! Именно молодость!
Толстой посмотрел на меня внимательно, как никогда еще не смотрел, губы его вытянулись, глаза округлились...
 'Богдан Хмельницкий'. Режиссер И. Савченко. Киевская
киностудия, 1941 год. 'Дьяк Гаврило был свободолюбивый, жизнерадостный казак и любезный кавалер! Свой крест и
пистоль он пропил, ухаживая за хозяйкой, - говорил мне А. Корнейчук и показывал на Э. Цесарскую, которая играла
шинкарку
'Богдан Хмельницкий'. Режиссер И. Савченко. Киевская
киностудия, 1941 год. 'Дьяк Гаврило был свободолюбивый, жизнерадостный казак и любезный кавалер! Свой крест и
пистоль он пропил, ухаживая за хозяйкой, - говорил мне А. Корнейчук и показывал на Э. Цесарскую, которая играла
шинкарку
- Знаете, что он мне сказал, - обратился Толстой к кому-то из сидевших рядом, - что Меншиков-то похож на мушкетера. Слыхали? Да ты, оказывается, хитрый!
- Какой там хитрый. Вот износил уже два полных костюма, а аромата эпохи, которым отличается петровский молодой человек от нашего, уловить не могу. Так мне кажется...
Уже кончился перерыв, и меня звали на съемку крупного плана, а у меня еще были тысячи разных нерешенных "но", которые требовали разъяснений.
- Тебе нужен аромат петровской эпохи?
- Да!
- Чудаки, вы, рябчики! Да он кругом здесь, на каждом шагу, в каждом камне, нас окружают петровские чудеса, только успевай поворачиваться. Не умеете ловить аромат, поэтому и не ловится, - сказал он сокрушенно. - Вот поезжай сегодня, не откладывая, после съемки в Петровский дворец, что в Летнем саду, каждый день ведь мимо ездишь, да переночуй там. Вот так, как есть, в костюме, Пригласи Симонова, может, и он поедет, и проведите там вдвоем ночку... Глядь, Петр-то и приснится, аромат-то и появится, если вы еще захватите штоф!.. Гы, гы, гы! - закончил он, сочно смеясь. - А я сейчас поеду мимо и все устрою! Хорошо?

|
|
'Богдан Хмельницкий'. - В бога веруешь? - Горилку пьешь?.. Так дьяк Гаврило проверяет качества настоящего казака
|
Ночь в летнем дворце
Симонова на съемке не было, и меня отвезли во дворец одного.
Раскинув на полу свой тулуп, я приготовил все ко сну, как в кадре ночной сцены Петра и Меншикова, когда, засыпая, они ведут разговор о России.
Нарезал в деревянную чашку свой ужин, в настоящую петровскую бутыль перелил армянский "коллекционный", зажег свечи в шандале (подсвечнике) и, сев за стол у окна, ждал Симонова.
Передо мной открывался фантастический вид на Неву, Петропавловскую крепость и дальше на Крестовский остров.

|
|
'Богдан Хмельницкий'. - Пью, дорогой, пью! Тильки что-то скупо подносить стали! - нарушая авторский текст, весело ответил дед,
|
хитро прищуривая глаз
В этом районе Ленинград неповторим: утром он, как нежный акварельный рисунок, - все тона голубовато-розовые, днем они совсем другие - новые, яркие краски и резкие светотени ломают линии строений, придавая им причудливые ракурсы. А красавица Нева как-то особенно мощно и мятежно катит свои волны. Вечером это вновь тихий, прозрачный, романтический, нереальной красоты град.

|
|
'Матерь божья! Пресвятая богородица! Ты слышишь меня?' -кричал Гаврила, пугая Богдана (Н. Мордвинова) и Довбню (Б.
Андреева)
|
Может быть, именно здесь, на этом "берегу пустынных волн", стоял Пушкин, когда писал:
Люблю тебя, Петра творенье...
Да, он разнообразен и по-разному красив, при всякой погоде и во все времена года, этот чудесный город!
Я сидел у окна и смотрел как зачарованный.
Окно угловой комнаты создавало для пейзажа естественную рамку, которая так удачно отрезала боковые современные здания, что передо мной предстала как бы величественная панорама старого Петербурга. Таким я его еще никогда не видел.
Старые часы хрипло отстукали одиннадцать вечера, но было совершенно светло, и свечи горели только для настроения.

|
|
Н. Мордвинов и Б. Андреев перенимают опыт, как надо пить из
казацкой чарки
|
В доме стояла исключительная тишина, даже не скребли мыши. Я очень устал, и хотелось спать. Ранняя съемка, волнения встречи с Толстым, атаки верхом давали себя знать.
Симонова, вероятно, не известили, и я, выпив положенное и закусив один, улегся на тулуп. Уснул моментально.
 Энтузиазм в этой сцене возникал от торопливого стремления поскорее вылезти из бассейна с водой. Ведь там пришлось
сидеть всю рабочую смену
Энтузиазм в этой сцене возникал от торопливого стремления поскорее вылезти из бассейна с водой. Ведь там пришлось
сидеть всю рабочую смену
Но, как мне показалось, я так же быстро и проснулся от солнечного луча, который бил прямо мне в лицо. Потянулся, открыл глаза... Незнакомая комната, и стены, и окна со странными переплетами рам. Старые дамы, смотрящие на меня с портретов, и я, лежащий на полу в мундире... Все показалось мне сном, и, не желая терять его, упустить, я снова крепко зажмурил глаза.
Разбудил меня стук, кто-то настойчиво и, очевидно, давно стучал. Я быстро открыл. В дверях стоял Алексей Николаевич, свежий, пахнущий утром.

|
|
'Богдан Хмельницкий'. На роль Великана пригласили борца из
Киевского цирка
|
- Разоспался, светлейший! - сказал он, улыбаясь. - А я приехал за тобой!
- Сейчас, мин херц!
Пока я бегал умываться, он успел налить из термоса кофе и развернуть пакет с едой.
- Закусывай. Вот и поедем на съемку, уже шесть часов. Чудесное утро!
Я смотрел в его добрые глаза. В эту минуту он был для меня самым дорогим человеком.
- Алексей Николаевич!
- Ну что?
Я молчал. Он посмотрел на меня и, похлопав нежно, нежно по руке, сказал:
- Ну, ну! Утри нос и ешь! Ишь, как тебя разобрало!..
"Жалование получаешь, - терпи!"
Снимали сцену для первой серии:
"Меншиков просыпается после ассамблеи. Голова болит -много выпито.
Вылезая из-за полога кровати, хмуро орет: "Катя! Квасу!".
Вбегает Петр, он в руках держит мундир из гнилого сукна, которое поставляет на армию Меншиков.
"Вор!" - кричит царь в гневе и, подбегая, бьет Меншикова".
Николай Симонов - артист серьезный, играет роли трагические, шутить не любит!
И если в сценарии написано: "Петр бьет Меншикова", можно не сомневаться - выдаст все, что положено.
Я уже нервничать начал с утра, хожу рассеянный, все из рук валится.
- Ты что? - спрашивает Петров.
- Да вот, думаю о сцене.
- Ну, и что же придумал?
- Не надо битье снимать одним куском, как написано в сценарии.
- Почему это не надо? Почему?

|
|
'Богдан Хмельницкий'. Оператор Екельчик отлично снимал, умело 'подавал' актера, тонко интерпретировал его состояние
|
И, как моряк, который, смотря на темный горизонт, говорит: "Не нравится мне что-то туча", - так и я, указывая на сидевшего в углу Симонова, произнес шепотом:
- Не нравится мне сегодня что-то Симонов, уж слишком старательно готовится к нашей сцене, зачем-то все выходит, потом, разглаживая усы, начинает тяжело дышать...
- Молодец! Сцена тяжелая... Он и готовится...
- Меня бить! - сказал я сокрушенно. - Да?
- А ты сценарий читал?
- Читал!
- Значит, забыл: там ясно сказано: "Разъяренный Петр бьет..." Ты жалованье получаешь. Терпи!
- Гм! Терпи! Это хорошо сказать...
...Но разрешите тут сделать маленькое отступление. Бить в кино "нарочно" нельзя - надо ударить либо по-настоящему, если снимают крупно и одним куском, либо монтажно, то есть разбить сцену на несколько кусков: замах - кулак у лица -звук удара - человек падает.

|
|
'Богдан Хмельницкий'. Сцену смерти Гаврилы я мог репетировать и сниматься в ней без конца, так она увлекала и волновала меня
|
В картине "Секретарь райкома" есть такая сцена:
"Партизан, старик Русов, захвачен немцами. Его допрашивает генерал, играл его Михаил Астангов:
"Старик! Если ты скажешь, где находится секретарь райкома, то мы тебя отпустим, дадим денег и корову!"
"Это, значит, если скажу? А если не скажу?.."
"Тогда мы тебя повесим!"
Старик почесался, плюнул в кулак и, сказав:
"Вешайте, мать вашу так-то!" - ударил генерала".
Сцена несложная, но Астангов, так же как и я в "Петре", очень волновался и в чем-то очень горячо убеждал Пырьева (режиссером этой картины был упрямый, но очень темпераментный художник Иван Александрович Пырьев).
Перед самой съемкой, когда сцена была уже отрепетирована, Пырьев цодошел ко мне (я играл Русова) и, поправляя что-то в моем костюме, прошептал:
- Снимать я буду без дублей, один раз, так что ударь его как следует! Понял?
- Как ударить понял, но почему один раз будешь снимать, -не понял.
- Потому что ударить второй раз он тебе не позволит! Ясно?
- Ох, ясно!
Так оно и получилось.
Когда я Астангова ударил, чего он никак не ожидал, оказывается, Пырьев его заверил, что я ударю тихо, только для монтажа, - он зашатался и рухнул вниз со сцены на какие-то ящики.
Эффект получился, конечно, сильный, и во время демонстрации картины публика после удара всегда бурно аплодировала.
Действительно, в картине я бью с остервенением. Вид у генерала донельзя растерянный, испуганное лицо и вытаращенные глаза производили жуткое впечатление.
Но самое драматичное произошло потом: оскорбленный, что его обманули, да при этом еще и ранили, - падая он проколол гвоздем руку, - Астангов был так потрясен, что потерял даже дар речи.
Он встал, посмотрел на окровавленный палец и, обдав нас презрением, молча удалился со съемки...
...Вот так и я, возвращаясь к сцене с Петром, после предложения Петрова терпеть, категорически заявил:
- Нет! Нет! Раз Симонов усами шевелит, темперамент нагоняет, значит... убьет. Ей-богу, убьет!
- Что же ты предлагаешь?
- Снимать монтажно - из трех кусков: первый - Петр вбегает, хватает меня, трясет, бросает из кадра, во втором куске - от его броска я влетаю в кадр - ударяюсь о стенку, он меня опять трясет и опять бросает за кадр, в третьем куске - я лечу за полог кровати, Симонов подбегает, хватает меня за пологом и начинает бить, а там я подставляю ему подушечку и пусть он бьет сколько хочет.
Владимир Михайлович, прорепетировав, убедился, что монтажные куски дают сцене нужную стремительность -трепка получается значительней, - согласился со мной. Так и сняли!
Опять специфика кино
Но тут произошло непредвиденное: когда Симонов начал меня трепать, то шелковый галстук, который был завязан по шелковой же рубашке большим бантом, от трепки развязался и повис двумя колбасками. Съемка на этом первом куске закончилась, и все разошлись, но (вот в этом-то "но" и все дело) никто из помощников не заметил, что у меня во время съемки развязался галстук.
И вот к чему привело это невнимание.
Утром я надел рубашку, завязал, как полагается, бант и пошел сниматься во втором куске: от броска Симонова лечу в стенку. Сняли всю сцену, и я уехал в Москву.
А через два дня - телеграмма: "Приезжайте, пересъемка ваш счет".
Что такое? Какой счет? Приезжаю. Показывают смонтированный эпизод.
Меншиков кричит: "Катя! Квасу!".
Вбегает Петр - зубы блестят, усы торчат, лицо свирепое -хватает Меншикова, треплет его (галстук развязывается и повисает) и отшвыривает за кадр... Крупнее - Меншиков влетает в кадр, ударяется о стенку - блям! (и галстук оказывается опять завязанным)^
- Видал? - говорит директор картины.
- Видал! - отвечаю я. Надо переснимать?
- Надо.
- За твой счет! Не следишь за костюмом!
Директор был новый, назначенный из совершенно другого ведомства, ничего общего не имевшего с производством картин. После пересъемки он подошел ко мне и говорит:
- Не расстраивайтесь, это, признаться, я напугал вас нарочно.
- Не понимаю?
- Ну чего тут не понимать? Я вас расстроил, и вы вон как замечательно пересняли сцену с начальством - испуганно...
Очевидно, он решил со мной поделиться опытом, - в ведомстве, где он проработал очень долго, с начальством разговаривали по стойке: "Смирно!".
Во второй сцене я уже сниматься не мог, у меня было несмыкание связок, и надо было молчать. Но директор потребовал справку от врача, и меня повезли в поликлинику. Когда я проходил в костюме и гриме Меншикова по приемному покою, то слышал, как больные, толкая друг друга, говорили:
- Посла привезли!
- А что ж, послы не хворают что ли?
- Хворают, но почему без очереди...
Борис Корнилов
Этот день был полон неожиданностей.
В "Астории" остановилась проездом с Беломорского канала большая Группа наших московских писателей. Ко мне пришел Всеволод Вишневский, и только мы уселись пообедать, как начались звонки по телефону или просто стали заходить члены Союза писателей - вдруг всем понадобился Вишневский. В моем номере образовалась небольшая, но плотно набитая "забегаловка". Все чувствовали себя непринужденно, как дома, - приходили, заказывали, ели, пили, много говорили о канале, о людях, о Горьком и уходили. Все было очень мило.
Пришел Борис Корнилов, он очень часто заходил ко мне с фразой, которую произносил в нос и нараспев: "В светелке есть кто-нибудь?". Читал что-то новое, но что, убей бог, не помню! Знаю, что писатели хорошо и дружно хлопали его по плечам.
Он вошел в мою жизнь как-то случайно и неожиданно.
Позвонил телефон.
- Жаров?
- Да.
- Михаил?
- Да.
- Меншиков?
- Кто говорит?
- Говорит Корнилов.
- Поэт?
- Да.
- Борис?
- Ну, да, да! Хочу зайти к тебе!
- Заходи, буду рад!
Вот так, легко, без "брудершафтной" неловкости, мы с ним познакомились и стали говорить "ты".
Дальше было все просто. Когда он шумно на "войдите!" распахнул дверь и сказал: "А вот и я!" - слова полились у меня легко, плавно, сердечно:
- Борис, дорогой наш талантище! Низко кланяюсь и приветствую! Давно пора...
Как будто наши отношения определялись столетием.
Он долго хлопал меня, смотрел в глаза и, как будто ответив на какие-то свои, далекие мысли, медленно изрек:
- Такой же... Как на экране... Хорош... Здоров!
"Так на конном покупают лошадей", - подумал я.
Сам мелкорослый, он любил широту и могутность в жизни и в стихе.
Молодость - глупая и беспечная, как я теперь жалею, что не уберег, не сохранил порванные его черновики, не записал и не запомнил мимолетные импровизации, которые Борис слагал легко и красиво, так же красиво, как выпускал из моего окна в гостинице "Астория" бумажных голубей, заставляя их "планировать к Исаакию".
Иногда он приходил, молча садился за письменный стол и писал. Потом читал, рвал и опять писал.
- Хлебнем! - изредка говорил он, не отрывая глаз от письма. Говорил увесисто, как выкладывают на стол из печки хлеб, и так властно, что я, покоряясь, быстро отвечал:
- Хлебнем!
Читал он мне много, подолгу, с закрытыми глазами, как будто хотел быть в темноте или пытался услышать себя в своем чтении.
Потом быстро открывал глаза и смотрел на меня. Глаза у него были колючие, и смотрел он долго, проникновенно, смотрел, будто скреб ими по днищу.
У меня было всегда ощущение, что этому талантливому человеку чего-то не хватает.
Мне кажется, он был одинок только потому, что сам убегал от нужной дружбы.
Он хотел быть один и - тяготился одиночеством. Ко мне относился доверчиво и очень просто, но наша дружба была короткой - одно лето.
Отхлебнув положенное, он часто уходил вдруг, молча и тихо, оставив за собой раскрытую дверь.
И тогда я долго мучился, вспоминая, не обидел ли его чем-нибудь.
Нет! Это его мятежный дух не находил покоя.
Однажды он позвонил мне в "Асторию" и сказал, что сейчас приедет, но я уже уезжал на съемку, ждать его не мог и назвал час, когда вернусь. Он просил меня что-то одолжить. Вернулся со съемки я очень поздно, около часа ночи, - в ручке двери торчала записка:
Обозленный, как кобель,
Отправляюсь в Коктебель!
Больше мне с ним встретиться не привелось.
Жизнь моя сосредоточилась в этот период между Москвой и Ленинградом.
Последняя встреча с А. Н. Толстым
Выпуск первой серии "Петра I" был огромной удачей советского кино. Залы были переполнены. Критика была обширная и разнообразная. Образ Петра, созданный Николаем Симоновым, был отнесен к явлениям мирового актерского мастерства... Позже, в 1938 году, в газете промелькнула заметка: "Между прочим, "Петр I" - первый советский фильм, который смотрел в Белом доме президент США Рузвельт, -сообщил нам находящийся в Москве председатель Амкино В. Берлинский...".
После опубликования списка награжденных орденами работников кино, в том числе и участников работы над картиной "Петр I", на студии был митинг. Товарищи очень сердечно и трогательно приветствовали нас, награжденных не по случаю юбилея, а за создание фильма. Это было первое такое награждение.
Толстой в своей теплой речи, обращенной ко всем кинематографистам, сказал:
- Я всегда горячо верил и любил творческий коллектив "Ленфильма" и не ошибся, когда заявил, что первые съемки "Петра" дают мне возможность сказать: я спокоен за судьбу картины!
Говорил он сердечно и взволнованно:
- Спасибо за труд вложенный, за сердца горячие и за ум, все постигающий! Про таланты я уж и не говорю! - И он махнул рукой в сторону актеров.
* * *
Была война. И вот однажды, в 1942 году, снимаясь на аэродроме в Алма-Ате, где шли заключительные натурные съемки "Воздушного извозчика", я увидел машину, из которой вышли Алексей Николаевич и Людмила Ильинична.
- А я пролетом (кажется, он сказал из Ташкента), лечу в Москву, и узнал, что ты здесь снимаешься, приехал навестить!
- Спасибо, мин херц!
- Мин херц! - сказал он, как будто что-то прикидывая. - Мин херц!.. Слушай! Я привез тебе пьесу "Нечистая сила"! Не перебивай - знаю, что скажешь! Я ее заново переделал, осовременил... Вот Людмила говорит, что читается с интересом. Я хочу, чтобы ты сыграл Мардыкина, помнишь, Борисов его играл? А? Как ты смотришь, ее интересно сыграть в Малом, а? Может, и поставишь сам. Держи!
Подошли товарищи, и разговор стал общим. Примерно через полчаса, посмотрев на часы, он заторопился, и мы простились.
Захлопывая за ним дверцу машины, я не знал, что вижу в последний раз Алексея Николаевича, дорогого мне человека, который, улыбаясь и нежно помахав рукой, растаял вместе с машиной в густой алма-атинской пыли...
Я остался один. Съемка кончилась. Солнце крупное и красное, каким оно не бывает в России, торопилось опуститься за хребет синих гор. Стало сразу холодно...
И я вспомнил: взятие шведской крепости, горнист, кони, ядра. Я скачу! Толстой гладит лошадь.
- Спасибо, дорогой, - удружил! - слышу голос Толстого.
- Спасибо вам, человек с большим сердцем! - шепчу я.
Кремль. Получаем ордена. Слушаем М. И. Калинина. Толстой стоит рядом со мной.
- Спасибо! Мин херц! - говорю я Михаилу Ивановичу, принимая орден.
Толстой жмет мне руку...
Как будто все это было вчера - не было войны и не было сейчас вот здесь, с нами, великого русского писателя, такого простого и бесконечно любившего людей, человека, который торопился на фронт как член комиссии по расследованию фашистских злодеяний.
- До свидания! Мой отец, мой шеф, дорогой Алексей Николаевич,- шептал я.
Но нет! Не суждено мне было больше с ним свидеться. Вот почему мне, очевидно, вдруг захотелось плакать...
23 февраля 1945 года на приеме в Доме Министерства иностранных дел ко мне подошел взволнованный Рубен Симонов, он только что приехал из санатория "Барвиха", и тихо сказал:
- Умер Алексей Николаевич!
”Дымба - король бильярда”
1937 - 1938 годы были для меня необыкновенно насыщены работой. Я снимался на "Ленфильме" в двух сериях "Петра I", снимался на фабрике "Белгоскино" в роли помещика Смирнова в картине "Медведь", ставил в Камерном театре как режиссер "Очную ставку" и играл там же главную роль следователя Ларцева, начинал на "Мосфильме" сниматься в "Степане Разине".
И вот однажды в павильон "Петра I", где снимали сцену "праздника Бахуса", которая, к сожалению, не вошла в картину, зашли Козинцев и Трауберг... Смотря на нашу с Гардиным сцену, они стали весело мне подмигивать и одобрительно кивать головой.
Было приятно, что они одобряют работу, которую я только что проделал перед аппаратом, но особого внимания этому я не придал.
Посещение режиссерами и писателями съемок "Петра" было обычным делом, мы привыкли на всех съемках видеть людей, желавших посмотреть на живых героев замечательного романа А. Толстого. Но когда я кончил, Козинцев и Трауберг подошли ко мне и сказали:
- Дорогой наш друг (обращение "друг" я услышал от них впервые) Михаил Иванович! Мы хотели бы, когда окончите вечернюю съемку, сделать вам одно интересное творческое предложение. Не возражаете, если мы вас подождем?
Я сказал, что очень рад всякому творческому предложению, особенно если оно исходит от таких любимых мною мастеров, и с удовольствием с ними встречусь.
По окончании съемки, когда я вошел в гримерную, там уже сидел Григорий Михайлович, который, не дожидаясь, пока я переоденусь, сказал:
- Михаил Иванович, мы просим вас сняться в нашей картине.
- "Возвращение Максима"? - спросил я.
- Да, - кивнул головой он.
Меня это озадачило. Я быстро прикинул: что же они могут предложить мне интересного, когда картина уже почти закончена и осталось всего несколько съемочных дней. Очевидно, хотят предложить какой-то эпизод. Я уже решил, что разговор будет неприятный.
Согласиться на эпизод при моей занятости я не мог, и отказаться мне также не хотелось - Григорий Михайлович просил необыкновенно любезно и даже трогательно. Я подумал и полугрустно сказал:
- Я слушаю вас, кого вы хотите мне предложить сыграть?
- Конторщика Дымбу! - как-то не совсем уверенно выпалил он, наклонив при этом, как всегда в ответственных разговорах, голову набок и сложив руки лодочкой.
Вот это уже было совсем непонятно: в роли конторщика Дымбы у них снимается замечательный артист, очень своеобразный, яркий... Непонятно... Как Дымба?.. Ведь роль уже закончена? В ней отснялся актер?.. Такого количества вопросов одновременно у меня не возникало никогда.
Козинцев потер нос и, глядя вниз, сказал:
- Я завтра вам не только все расскажу, но и покажу, а сейчас у меня такая просьба: не можете ли вы быстро переодеться в костюм Дымбы?
- Переодеться, сейчас?.. В какой костюм?..
- А вот мы пофантазируем с вами насчет грима, и нам ясно будет, в какой костюм! Я знаю, как вы быстро схватываете и сами подсказываете!
- Это все верно, - ответил я, - но не сейчас, я снимался в двух сменах. Устал. Дайте мне сценарий, я к утру прочту. Хорошо?.. Но по вашим глазам я понимаю, что не должен об этом никому говорить?
Он кисло улыбнулся:
- Да, лучше пока не говорить!
* * *
Роль Дымбы мне не понравилась и не грела, как не грело сделанное в свое время Экком предложение сниматься в роли Жигана.
Публика меня любила в ролях веселых, озорных и беспокойных, но всегда симпатичных людей.
Мне не хотелось, чтобы меня видели в таких отвратительных ролях, и я решил не сниматься.
На следующий день, отработав опять две смены в "Петре", я вновь увидел в гримерной Козинцева, который был, как всегда, чисто выбрит и бесконечно очарователен:
- Я очень рад, дорогой Михаил Иванович, что вы в полной боевой готовности и торопитесь, как мне кажется, одеться в тот костюм, который вы уже, наверное, нафантазировали и который мы сейчас по вашему указанию подберем! Да?
Это был со стороны Козинцева ход конем!
"Ну что мне делать? - подумал я. - Сказать, что я ничего не подобрал и совсем не готов, это он и сам знает, или все-таки признаться, что, снимаясь сегодня в роли Меншикова, я где-то в душе, даже втайне от себя, вынашивал уже образ ненавистного Дымбы. Что делать?"
И вдруг неожиданно для себя я легко и просто сказал:
- Да, я знаю, как он одет, на нем крахмальная... - и рассказал костюм и грим, как будто это был мой старый знакомый.
А через час мы уже были в декорациях "Возвращения Максима", которые изображали бильярдный зал в трактире.
В крахмальном воротничке, гладко причесанный на прямой пробор, с синяком под глазом, с коротко подстриженными усами, веселый, пьяный, с кием в руке, я властно кричал: "Васька!.. пива!" - и играл сцену за бильярдом с Максимом. Съемки кончили в пять часов утра.
Днем я отдыхал, а когда приехал на фабрику, меня уже в коридоре встретила ассистент Надя (ныне известный комедийный режиссер Н. Кошеверова) и, подхватив под руки, "торжественно" ввела в переполненный просмотровый зал.
Григорий Михайлович весело крикнул: "Давайте!".
Просмотрев сцену за бильярдом, я понял, что у меня к отступлению отрезаны все пути, хотя бы потому, что хохотал и орал на просмотре больше всех я. С большим удовольствием я смотрел на этого незнакомого человека - он родился и жил во мне одну ночь, а вот сегодня его я уже смотрю на экране! Я не успел его ни полюбить, ни возненавидеть, я смотрел на него любопытными глазами. Передо мной жил веселый, не дурак выпить человек, лихо играющий на бильярде и упоенный своим величием.
И мне вдруг стало жалко, что его жизнь сейчас, вот так запросто, сказав "Козинцеву: "нет!", я могу оборвать.
Я почувствовал в нем что-то мне дорогое и волнующее - это было мое творение, это была моя плоть и кровь! И я громко сказал: "Хорошо! Я согласен!", взяв тем самым на себя непомерную нагрузку.
Но я попросил мне объяснить, что же случилось с актером, который уже снялся в роли Дымбы.
- Я не буду штрейкбрехером?
- Нет! Мы сейчас вам все покажем и расскажем.
Передо мной прошла почти вся смонтированная картина. Что же произошло?
Артист предложил свое прочтение образа.
Раз Дымба - хозяйский холуй и предатель дела рабочего класса, раз это разложившийся элемент, то артист, развив эту тему, пошел дальше и сделал его представителем союза русского народа. Так решив, он и надевает на себя соответствующий костюм: лаковые сапоги, плисовые
шаровары, шелковую русскую рубашку, вышитую красивым
орнаментом, и картуз с лаковым козырьком, как у охотнорядских торговцев. Мощная фигура представителя монархистов и рядом с ним маленький большевик - Максим были в классическом соотношении, как Давид и Голиаф. А чем кончился конфликт между Давидом и Голиафом, мы знаем. То же самое получилось и в картине: зло и добро, белое и черное... Чем кончится все, - ясно, смотреть неинтересно, конфликта нет: Давид победит Голиафа!
Зрительский интерес падает. С одной стороны, будут хулигански погромные поступки тупого Дымбы, а с другой стороны, будет ясный и чистый в своей идейной направленности большевик Максим, который в результате и победит. Такое прямолинейное выражение образа не способствовало развитию сюжетного конфликта. И Козинцев мне сказал:
- Теперь, когда вы сами увидели свою сцену в бильярдной, вы понимаете, почему мы просим, чтобы играли именно вы. Когда у нас Дымба будет живой, веселый, забавный, пусть бабник и любитель выпить, великолепно играющий в бильярд, то будет ясно, что этот разудалый человек, очевидно, из рабочих, но разложившийся и сбитый с пути, и мы еще не знаем, чем с ним все может кончиться. Либо он кокнет Максима, либо опомнится, осознает. А может быть, пойдет даже вместе с Максимом, то есть конфликт будет назревать в его естественных событиях... Снято, как вы видите, все, но мы хотим переснять заново сцены Дымбы с вами.
- Ясно! - ответил я. - Хорошо. Вот только немного отдохну, разберусь в том, что я сделал импровизационно и стихийно в куске, который вам нравится, и начнем.
Григорий Михайлович сказал:
- Тут мы сдаем свои позиции и вручаем вас в руки директора нашей картины, который вас ждет.
М. С. Шостака я знал как большого специалиста и одного из лучших организаторов производственного процесса в создании картин. Свой разговор он начал примерно так:
- Здравствуйте, дорогой Михаил Иванович, Ну что, мы вас замучили?
- Да, устал! Сегодня ночь не спал и вчера.
- Да, это утомительно, но искусство требует жертв! - смеясь, спародировал он горе-делягу. - Ну как, свою пробу видели?
- Видел, - говорю.
- Блеск?..
- Как будто ничего. Но это ведь с маху.
- Вот именно, с маху! Может, с маху-то оно и лучше? Может, нам этого "маху" и держаться?
- Что-то не понимаю? - сказал я, предчувствуя какой-то подвох.
- Хорошо. Разберемся. По-дружески, по-деловому. У нас в павильоне комплексная декорация трактира стоит вторую неделю, а по плану мы должны были ее сломать три дня назад. Но режиссеры решили, и совершенно правильно, переснять эту роль, пригласив вас. Сегодня художественный совет и дирекция утвердили вас в этой роли, с чем горячо поздравляю!
- Спасибо!
- Дальше, Михаил Иванович, я обращаюсь к вам как к человеку, который понимает, что такое производство. Помогите нам.
- Чем? - тревожно спросил я.
Он посмотрел на меня умными глазами и осторожно произнес:
- Волноваться не надо, если скажете: "нет", - настаивать я не буду.
- Ох, не тяните! Говорите прямо - не выходить что ли из павильона, пока не снимем?
- Да, милый! Да! Точно в воду глядел! То, что было запланировано в десять дней, надо снять в три дня, у вас сейчас три - четыре дня перерыва в съемках "Петра I"... Мы поставим вам кровать и будем снимать столько смен, сколько вы сможете. Если вы уложитесь в эти трое суток, то вы сделаете очень большое дело и студия не будет в простое, ибо мы создаем пробку в одном из главных павильонов.
Вы очень многого от меня хотите, я ведь человек и вряд ли смогу это сделать.
- Не настаиваю! Попробуйте! А сейчас пообедайте, немного отдохните, пока приведут в порядок декорации, и начнем съемку! В добрый час!
В общем так оно и было. Весь коллектив - оператор Андрей Москвин, режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, вся съемочная группа и артисты - не выходил из павильона. Съемка шла в необыкновенном темпе.
Все, что импровизационно создалось у меня в первую ночь, немедленно всплыло, как только я надел костюм,
загримировался, сделал синяк под глазом; он меня почему-то особенно грел и стал чем-то вроде ключа, который сразу вводил меня в образ. Как только мне наводили синяк, во мне пробуждалось что-то новое, чего я доселе в себе не ощущал, -какое-то новое удальство, какой-то размах, какая-то бравада. Кий, шары на бильярде, пиво, синяк, пьяный угар, Васька-половой, на которого можно орать, - все это создавало атмосферу, где мой Дымба чувствовал себя, как рыба в воде.
 'Оборона Царицына'. Режиссеры С. и Г. Васильевы. Ленфильм'. 1942 год. С. и Г. Васильевы работали много и увлеченно: они добивались точности в актерском исполнении и выразительности кадра. Их ближайшим помощником был оператор А. Сигаев
'Оборона Царицына'. Режиссеры С. и Г. Васильевы. Ленфильм'. 1942 год. С. и Г. Васильевы работали много и увлеченно: они добивались точности в актерском исполнении и выразительности кадра. Их ближайшим помощником был оператор А. Сигаев
И можете себе представить, что творческий рывок, который проявил весь коллектив, оказался очень плодотворным. Работали все вдохновенно, не думая о времени, работали не за страх, а за совесть. В свободную минутку кто-то отдыхал, кто-то пил горячий чай или ел вовремя поданный обед, но все продолжали работать.
Сцену сняли в трое суток при самом высоком качестве. Непостижимо, но факт! "Авось, сойдет" - в нашем лексиконе не существовало.
Снимали невиданными темпами.

|
|
'Оборона Царицына'. Режиссеры С. и Г. Васильевы. Ленфильм'.
1942 год. Этот эпизод 'Обороны Царицына', где мой герой -казак Перчихин прощается со своей подругой Катей Давыдовой, (ее играла В. Мясникова), был снят перед самой эвакуацией
Ленфильма' в Алма-Ату
|
Москвин, мрачный человек в очках, и Козинцев, - они руководили съемкой - решили снимать, отказавшись от нескольких дублей. Все снимали с одного раза.
Практика показывает, что, как правило, лучший кусок всегда бывает первый, а уж по актерской линии он всегда самый волнующий: все творческое кипение, весь творческий экстаз почему-то выражаются в первой съемке.
- А если кусок не удался, если где-то будет брак, то еще сутки добавим, - решил Козинцев, - и переснимем уже наверняка.

|
|
'Оборона Царицына'. Казак Перчихин рассказывает о походе
Ворошилова
|
Так и делали, и эксперимент целиком себя оправдал.
С. М. Киров, живший недалеко от студии, гуляя вечерами, очень любил заходить на съемки и смотреть отснятый материал. Сцену на бильярде он смотрел несколько раз. Посмотрит текущий материал, а потом попросит:
Покажите Чиркова с Жаровым на бильярде, уж очень лихо играют!
 'Оборона ЦарицынаСнимать эту сцену мы выехали в ту самую казачью станицу, где происходили исторические события
обороны Царицына
'Оборона ЦарицынаСнимать эту сцену мы выехали в ту самую казачью станицу, где происходили исторические события
обороны Царицына
Творческий бросок и такое боевое содружество во время работы очень сблизили меня со всем коллективом.
Андрей Москвин
Особо меня привлекал молчаливый и хмурый, с лицом аскета, оператор Андрей Москвин, человек, для которого, если перефразировать Михаила Щепкина, "Ленфильм" был: "Моя студия - мой дом! .
Спокойный и медлительный внешне, он был яростным и горячим в работе, зажигая и не позволяя ни на минуту угаснуть своим товарищам. Осветительные приборы он расставлял в декорации весьма оригинальным методом - молча шел на то место, где должен стоять источник света, и плевал -через минуту там уже горел свет. Новатор и изобретатель, он все свободное время проводил в технических мастерских, что-то сооружая и вытачивая.

|
|
'Оборона Царицына'. Отбивая атаку белых, Ворошилов (Н. Боголюбов) дал очередь из пулемета
|
Однажды для окончания декорации или досъемки мне пришлось после спектакля выехать в Ленинград. Ездил я часто, но это был день, в который студия обычно не работала. Приехал рано.
В коридоре меня встретил Андрей Москвин. Не отвечая на "здравствуй, Андрей!", он молча взял меня за лацкан нового
пиджака, ткнул ножом, прорезал большую дырку и, сказав: "поздравляю", пошел дальше. Коридор был пуст, спросить, рехнулся Москвин или нет, было не у кого, и я пошел в комнату группы. Только здесь выяснилась причина такой эксцентрической выходки Андрея: утром в газетах был
опубликован приказ о награждении группы киноработников орденами. Меня наградили орденом Трудового Красного Знамени. Вечером мы сидели в "Астории" у меня в номере, и Москвин молча, но с большим вкусом, пил за мое здоровье.

|
|
Чтобы образ Мартына Перчихина получился живым и ярким, необходимо было найти лаконичный жест и выразительную мимику. Г. Васильев на репетиции перед съемкой
|
Григорий Козинцев
V/ m а и U U U
Григории Михаилович, худой, элегантный, очень моложавый, с юношеской фигурой, говорит тихо, наклонив голову набок и сложив руки лодочкой, изредка дирижируя ими, как бы подчеркивая важность сказанного. Слушать его - одно удовольствие. Говорит он необыкновенно увлекательно и всегда интересно.
Он человек веселый и общительный. Любит и острое словцо, и остроумный рассказ, но я никогда не слыхал от него разговоров пустых и никчемных.
Стоя у аппарата всегда рядом с Москвиным, он был - весь внимание. Глаза обострялись, и актер, видя это, невольно подтягивался, приобретал рабочее состояние. Он не показывал актеру сцену, он ее лепил, выстраивал своими короткими указаниями, которые легко было выполнять. Актер все делает сам, но под пристальным взглядом понимающего и знающего, чего он хочет и чего ему нужно добиться, прекрасного художника Г. М. Козинцева.

|
|
Этот броневик был вывезен из Ленинградского музея в станицу под Царицын для наших съемок. Увы, он остался в станице, когда туда приблизились немецкие войска и съемочная группа
эвакуировалась
|
Энциклопедист, человек с отменным вкусом, великолепный педагог, он прекрасно знает всю механику и психику актера.
Я провел с ним много дней в творческом труде. Когда заболел в Алма-Ате брюшным тифом Г. Раппапорт, режиссер картины "Воздушный извозчик", то Григорий Михайлович, по нашей просьбе, выручил заболевшего товарища и продолжал съемки, сделав несколько великолепных сцен.
Леонид Трауберг
Леонид Захарович Трауберг человек на редкость выдержанный; воспламенить его, вывести из равновесия во время работы было почти невозможно.
Всегда размеренный и точный, он производил впечатление педанта, как будто сознательно надев на себя маску некоего старого холостяка. Может быть, именно эта замкнутость иногда
отпугивала от него людей.
И возникал парадокс: Трауберг дичится людей, избегает их, и в то же время свои общественные обязанности выполняет охотно, с любовью, отдавая людям много тепла.
Леонид Трауберг очень сердечный и добрый человек, но проникнуть в его сердце, быть его другом - стоило многого. "Пуд соли надо съесть", прежде чем он откроется перед вами во всей своей человеческой красоте. В сотрудничестве с Козинцевым, которое в те годы было так плодотворно, он был писателем, сценаристом. И в этой роли был, как жонглер, -ловок, точен, знал все секреты механики, которая движет сюжет и интригу.
 'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. 'Старик пошел в партизанский отряд к секретарю райкома, нацепив свои георгиевские кресты. Вот таков твой Гаврила Русое!' - сказал мне режиссер Иван Пырьев
'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. 'Старик пошел в партизанский отряд к секретарю райкома, нацепив свои георгиевские кресты. Вот таков твой Гаврила Русое!' - сказал мне режиссер Иван Пырьев
Он создавал поток увлекательных сцен, которые в стремительном и жизненно правдивом действии, не резонируя и не поучая, раскрывали основную идею произведения. Благодаря яркости и оригинальной композиции они надолго оставались в вашем сознании.
Просмотрев с утра весь отснятый материал, он являлся на съемку как начальник штаба или главный конструктор, который знает и видит все целиком. Своим ясным и холодным взглядом он осматривал поле творческой битвы и всегда находил, где надо дописать, где перекроить, что убрать, за что драться.
Он не шел по шаблону и был противником всего старого, что подгоняли - иногда спекулятивно - под понятие "традиция". Мыслил оригинально и остро.
 'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. Дед Русов размахнулся и ударил фашистского
генерала. К сожалению, милейший М. Ф. Астангов, который играл полковника Макенау, не был подготовлен к моему удару, чем я в интересах искусства и воспользовался
'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. Дед Русов размахнулся и ударил фашистского
генерала. К сожалению, милейший М. Ф. Астангов, который играл полковника Макенау, не был подготовлен к моему удару, чем я в интересах искусства и воспользовался
Обладатель уникальной библиотеки детективных романов, которые он коллекционировал, начиная от бульварных копеечных выпусков Ника Картера, Пата Пинкертона до романов типа Коллинза и А. Конан-Дойля, включая самую новейшую западную детективную литературу.
Однажды я похвалился:
- Леонид Захарович, я достал, правда, с большим трудом, "Разбойника Чуркина" в трех частях! У вас есть?
- У меня-то есть, а вот вам зачем? - смешно хмыкнув, спросил он. Как зачем? - удивился я, не зная, что ответить на такой простой вопрос. - Читать!
- Читать? Странно... - пробурчал он ядовито. - Ведь это же "низменное чтиво"...
- А зачем же тогда вы собираете?
- Я?.. Видите ли... я считаю, что в каждом, даже самом плохом детективе есть крупица талантливой выдумки... Скажите, где можно найти такое количество занимательных, а порой и "сногсшибательных" положений, трюков, неожиданных поворотов и смертельных "подвигов", как не в этих книжицах?

|
|
В горах Алатау уже с зимы С. М. Эйзенштейн высматривал летнюю натуру для съемок 'Ивана Гоозного'
|
Понять и научиться технике построения сюжета, его видению можно смело и у литературы, которую, на словах презирая, ханжи рвут друг у друга и втайне зачитывают до дыр!..
Свои книги он берег как зеницу ока, не выпуская из дома ни при каких обстоятельствах.
 На съемку 'Успенского собора
'
в студию пришли гости. С.
Эйзенштейн, Н. Черкасов, М. Названов и я снялись вместе с
ними
На съемку 'Успенского собора
'
в студию пришли гости. С.
Эйзенштейн, Н. Черкасов, М. Названов и я снялись вместе с
ними
Как же было мне приятно, когда однажды на мою просьбу разрешить пользоваться его библиотекой: "Я книголюб и сохраню все в целости!" - он, мучительно вздохнув, подошел к шкафу и достал увесистый роман "Роковое наследство".
- Только вас, Миша Иванович, первого, я пускаю в мою коллекцию, - цените! Это за вашу чудную работу в нашей картине и за ваш покладистый характер, но условимся: новая книга берется, только после того как прочитанная встала на место. Договорились?
- Зарубил на носу!
- То-то. Ключ всегда здесь.
Когда эвакуировалась из блокированного Ленинграда студия "Ленфильм", естественно, из всей этой редкостной библиотеки ему удалось спасти всего несколько книг.
Жаль, очень жаль!
Очень жаль, - не вдаваясь, конечно, в подробности случившегося и вне зависимости от того, что произошло, -жаль и бесконечно обидно, что распалось замечательное творческое содружество, именуемое в своем младенчестве "ФЭКС".

|
|
'Васса Железнова'. Режиссер Л. Луков. Киностудия имени М.
Горького. 1953 год. Из Горького, после гастролей, вся группа артистов Малого театра отправилась на пароходе в Кинешму на натурную съемку к режиссеру Л. Лукову
|
Войдя в кино как отрицатели серости и обыденщины, чуждые холодного, казенного и показного патриотизма, они, бунтари, разрушая, мужали и учились. Ошибаясь, брали ценное на вооружение.
Бывали биты - осознавали и зализывали раны. Не получая ответа на вопрос: "за что?", вновь смело и без устали начинали искать.
Новаторы, глубоко проникнутые идеями партии и общества, в котором и для которого оттачивали свое мастерство, они были нетерпимы к бюрократическим канонам в искусстве. Один дополнял другого естественно и органично. То, чего не хватало одному, с избытком было у другого.
 'Васса Железнова'. Режиссер Л. Луков. Киностудия имени М.
Горького. 1953 год. Грим для Прохора (М. Жаров) был утвержден
на первой пробе
'Васса Железнова'. Режиссер Л. Луков. Киностудия имени М.
Горького. 1953 год. Грим для Прохора (М. Жаров) был утвержден
на первой пробе
Как концы ножниц, они могли расходиться, но всегда только для того, чтобы резать с двух сторон.
Смотря сейчас работы Козинцева и Трауберга, я всегда вспоминаю Станиславского и Немировича - этот чудесный сплав, создавший в театре эпоху.
Если бы Козинцев и Трауберг не разошлись, - может быть? Кто знает? Эпохи ведь создаются и в кино!
"Цыпленок жареный"
"Возвращение Максима" явилось второй серией трилогии о Максиме. Обе серии были сделаны необыкновенно смело.
Фильмы исторического плана, особенно те, где затронута партийная тема, как история большевика Максима, казалось, совершенно естественно, делались в хроникальнодокументальной или в несколько эпически приподнятой манере повествования. Трауберг и Козинцев подошли к своему материалу с иных позиций. Они сделали свою картину смело, ярко и ново, совершенно неожиданно построив сюжет на эпизодах, имеющих глубокое внутреннее содержание, эпизодах, которые можно назвать, как это не вяжется с темой, аттракционами. Это была цепь великолепных и впечатляющих аттракционов.
 Леонид Луков импровизирует: в его сценарии Прохор Храпов возвращается после ночного кутежа
Леонид Луков импровизирует: в его сценарии Прохор Храпов возвращается после ночного кутежа
Такая форма, в этом можно убедиться, просмотрев всю трилогию, очень ярко, очень насыщенно и очень взволнованно давала возможность на экране, кинематографическими приемами, раскрыть и показать остроту борьбы большевика Максима с остатками контрреволюции. Неожиданные повороты и ракурсы, через которые режиссеры показывали и заставляли рассматривать эпизоды борьбы, были очень смелыми и раскрывали с новой силой внутреннее решение сцены, а стало быть, и событий.
"Дусенька" - Н. М. Ужвий
В сценарии сказано:
"Очередь солдатских жен стоит за пособием перед закрытыми дверями кассы.
Оборванная девчонка, цепляясь за юбку матери, скулит:
"Мамка-а! Хлеба!"
Вдруг раздается нестройное пение и под визгливый оркестр выходит жидкая процессия.
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыплята тоже Хочут жить,
- подтягивает Дымба, стоя в пролетке извозчика. У него на груди красный бант.
Сидящая рядом размалеванная девица, лихо задрав ногу, смолит курево.
"Творите анархию! Обитатели тьмы!" - орет низенький человек в развевающейся крылатке...
Дымба подходит к женской очереди:
"Соскучились без мужей... Откомандирован в ваше распоряжение".
"Отойди, кобель! И без тебя тошно!" - отмахивается солдатка с впалыми щеками, прижимая к себе девчонку.
"Хлеба-а! Мамка!"
"Без меня тошно, со мной будет сладко, - рявкает Дымба. -Получай, сопля, шоколад "Миньон" - реквизирован у мировой буржуазии".
Так появляется в третьей серии ("Выборгская сторона") Дымба.
Он обрюзг и стал наглее.
Знакомство с солдаткой Евдокией Козловой происходит стремительно, как налет:
"Платон Дымба, свободный анархист, король бильярда. Р1зволпте проживать в собственном дворце или в гостинице "Англетер"?"
"В подвале живем", - горько отвечает вдова.
"Адресок не скажете?.."
Н. М. Ужвий скупыми красками создала необыкновенно сложный и живой образ солдатки Дусеньки.
1 Pv.lHm ИЛ# i-
T ПАЛ Т Г D-T
п МЕЙЕРХОЛЬДА
Гпм'язитрт'ь eer-э тяв, ЖАРОВ Михаил Кэяна&ич кр-
I J ±i-*I
ыандируетея театро* гкенк 3? рлэльлв в г. ОдефСэ
по яе-гу вргачиэжций чаи га^гроле^ твчтгра
Сэйет театра проиич опяа^ннть тэв. ЖАРОВУ валкое
содеястэ^^ е емпэлчепци иоэлглечнэго на него nopj-ченлл
ГО НЕТ А
ЯР!ДС51АТ?
иш
Удостоверение М. И. Жарова, подписанное Вс. Э. Мейерхольдом
Актриса была так наполнена скорбью и отчаянием, в ее красивых голубых глазах столько было тоски и покорности, что стоящие в очереди женщины, приглашенные на массовку или просто наблюдавшие съемку, не верили, что актриса играет:
- Нет, так играть нельзя. Вы посмотрите на ее лицо, скорбные губы, руки, которые прижимают дитё, - нет, у нее горе и большое горе...
Сцена в подвале, куда Дымба приводит эсера Ропшина, начинается разгульной песней:
...Я не советский,
Я не кадетский,
Я не народный Тим-тир-люм...
За столом, заваленным бутылками и объедками, сидит Евдокия Козлова.
Актриса Ужвий как-то сразу (что значит жить в образе) нашла свое место у стола.
Вся ее фигура с накинутым на опущенные плечи платком, голова, брошенная на руку, пустые пьяные глаза, устремленные на грязный комок из тряпок, под которым жмутся спящие на полу дети, с огромной трагической силой раскрывает перед зрителем обреченность и безысходность существования этой забитой горем и нуждой женщины.

|
|
Работа в Кинешме закончилась по традиции групповым снимком с В. Пашенной и оператором В. Рапопортом в центре
|
Низким и красивым голосом актриса передает все оттенки, все самые тонкие психологические нюансы своей героини...
Бравурно звенит гитара, с шумом вылетает пробка из бутылки.
"От двух бортов в среднюю..." - кричит Дымба.
Его схватили,
Остановили,
Велели пачпорт Предъявить...
"Что свои кари глазки пучишь? Не веришь?"
"Не верю!" - стонет женщина.
"Ну и дура! Специальный комиссариат... организуется -женщинов по карточкам будут выдавать! Факт!
...Менял я женщин,
Тыр-дыр-люм-бля,
Как перчатки.
Носил всегда я Тыр-дыр-люм-бля Шапокляк...
"Я, Дусенька, графинь лобызал... Бывало, возьму графиню -
раз, два, три -тьфу!
Вот. А то вас! Эх..
Цыпленки
Тоже
Хочут, -
Жить !
Эту сцену сняли на одном дыхании.
Григорий Михайлович на репетициях очень осторожно подвел все наше трио - Дусю, Дымбу и Ропшина - к основной задаче. Ввел в атмосферу подполья беспокойство ритмом и контрастом звучания речи.
От таких почти мистических напевностей эсера:
"Слушай, женщина, я с детских лет за народ дерусь... за таких, как ты, я... а они русских душат... Будет им конец..."
До злобного, беззвучного шепота солдатки:
"А хлеб будет?.."
"Будет".
"И не будут детей отымать?"
"Большевистские бредни!" - напевает Ропшин.
"Ведите", - бледная до жути и шальная от угара, шепчет Козлова.
И вдруг с диким вздыбом и с визгом струн кричит Дымба:
"Пей, Дуся, за людей, которые жить хотят со звоном да треском!"
Отрепетировав по кадрам всю сцену, Козинцев дал нам сутки отдохнуть, чтобы все отлежалось и стало своим.
Андрей Москвин за это время освоил декорацию, создав
u v м
светом выразительный и полный настроения интерьер. А потом одним махом, без остановки, была снята вся сцена.
Великая сила - актер. Если только он, солируя, не пытается, используя любые приемы, вылезти из ансамбля, переиграть всех.
Сцена "В подвале у солдатки Козловой" является классическим примером того, как режиссер, работая с актерами и давая каждому из них возможность играть по-своему, создает слаженный и великолепно сыгранный ансамбль.
Каждый актер в сцене живет заинтересованностью в действии партнера.
Уметь создавать ансамбль - это великое искусство, нужны мастерство, вкус, педагогический талант, эрудиция и еще много всего, чем должен владеть режиссер-руководитель.
Козинцев этим искусством владеет в совершенстве.
Н. Ужвий - актриса огромной силы, которая просто потрясает в сольных сценах и в то же время является чутким и доверчивым партнером в дуэтах.
Б. Чирков - чудесный Максим, обаятельный человек, отдавший всю жизнь делу большевистской партии, и В. Кибардина, игравшая его подружку, завоевали большую любовь и симпатию зрителя.
Песенка:
Крутится, вертится шар голубой!
Крутится, вертится над головой...
стала одной из любимейших и популярнейших песен, которую распевали буквально все.
А Дымба? Прохвост, который должен по сценарию быть наказан и уничтожен пролетарским судом, человек, несущий в себе самые низменные пороки, был тоже тепло принят не только специалистами, но и широким зрителем.
Сергей Юткевич писал:
"...И пусть здесь возникнут споры о методике игры этих актеров, так же как и об игре М. Жарова, создавшего один из своих наиболее ярких образов в кинематографе, но мне лично гораздо ближе этот взволнованный и памфлетный, яркий стиль кинематографической игры, чем унылое копирование псевдомхатовских театральных шаблонов..."

|
|
После отравления мужа Васса Железнова (В. Пашенная) как
будто окаменела
|
Козинцев и Трауберг, авторы и создатели этой знаменитой трилогии, вводят Дымбу в третью серию, которая называется "Выборгская сторона". Хотя он должен погибнуть во второй.
И как когда-то Шерлок Холмс, убитый своим автором Конан-Дойлем, по требованию читателей был воскрешен, так же по требованию зрителей Трауберг и Козинцев воскресили Дымбу для третьей серии. Песенка:
Цыпленок жареный,
Цыпленок пареный,
Цыплята тоже Хочут жить!..
- стала также очень популярной.
И странное дело: введенная в картину как марш анархистов, она стала "просто забавной песенкой, которую исполняет Жаров в роли Дымбы".
А. Хейфиц и А. Зархи
Вспоминаю другое творческое объединение талантливых режиссеров. Достаточно назвать одну из их картин - "Депутат Балтики", как вам будет ясно, что разговор идет о А. Хейфице и А. Зархи.
Я работал с ними. Репетировали и даже начали снимать "Ленинградцы", но потом картина и числе многих других была снята с производства председателем Комитета по делам кинематографии.
 Леонид Луков вводил в картину новые эпизоды. На репетициях с
ним всегда было интересно
Леонид Луков вводил в картину новые эпизоды. На репетициях с
ним всегда было интересно
Я вначале репетировал сложную, а поэтому и интересную роль - диверсанта, проникшего из-за рубежа и живущего в Ленинграде под личиной сезонного рабочего: "пилим-
стругаем, заборы починяем" этакого увальня и придурка. Роль попала в жилу, и образовался перекос в мою пользу - враг получился смекалистым, обаятельным и умным. Парнем "своим в доску". Это нас беспокоило. Обсудили, показали друзьям пробы и репетиции, и я перешел на другую центральную роль - большевика, старого рабочего путиловца. Роль меня увлекла, грим и внешний облик мы нашли сразу, он органично сочетался с моим внутренним пониманием питерского пролетария.
Моя первая съемка была сложной и по масштабу, и по содержанию - действие происходило во дворе завода после ранения Ленина.
Митинг гнева и возмущения. Старик выступает страстно - он требует охраны революции от врагов внутренних и внешних. Эта сильная, эмоциональная сцена являлась для меня после удач в комедийных ролях настоящим творческим испытанием.
Двор забит рабочими (они же и зрители моих картин), которые являются участниками митинга. Ассистенты режиссера объясняют характер и задачу снимаемого куска, а также поведение и реакцию собравшихся на митинг:
- Когда войдет артист Жаров, он играет старого рабочего вашего завода (в толпе раздались жидкие аплодисменты и смех) и произнесет речь, - все должны снять шапки и опустить головы. Ясно?
- Ясно, а скажет он что-нибудь смешное? - раздался чей-то голос.
- Нет! Он скажет, что ранен Ленин.
Меня в гриме они еще не видели. Когда все было готово (решили, что речь на народе я репетировать не буду, а скажу сразу, с ходу, в том естественном волнении, которое у меня будет), я незаметно сменил технического дублера (по которому устанавливали свет и кадр). Мой герой вышел на трибуну в рабочей спецовке, суровый и гневный. Все замерли.
Речь я говорил тихо, как бы упрекая себя: "Не сберег родного Ильича, каюсь!..". Этот прием (обратный штампованной митинговой речи, громкой и призывной), предложенный мне режиссерами, произвел на слушающих нужное впечатление. Кадры рабочих, их крупные планы, снятые во время моего выступления параллельными аппаратами, выражали все, о чем я говорил, - и скорбь, и гнев.
- Дебют на народе прошел отлично - забыли веселого Жарова, видели скорбного старика-рабочего, - пожимая руку, сказал мне главный инженер завода. - Вместе с вами все переживали и наши рабочие! Как они слушали! Обмануть их не так легко. Они подчинились прежде всего вашей правде, -вместо крика, который они ожидали, раздался стон раненого сердца. Это, вероятно, и есть переживание правдивое и высокохудожественное. Спасибо!

|
| Е. В. Потопчина. Шарж худ. Алякри Разве можно забыть эти искренние и такие точные слова? |
И вот эту-то картину сначала стали переделывать, а потом и вовсе прекратили съемки, оборвав увлеченную работу коллектива. И Я. Жеймо, и А. Консовский, и остальные актеры были просто убиты горем: им ведь очень удались их герои, подлинные, живые люди, участники героической поэмы о ленинградцах.
Можно с полной уверенностью считать, что это была бы одна из выдающихся картин студии "Ленфильм".
В "Бакинцах" - следующей работе Зархи и Хейфица, они опять предложили мне роль. Это был некий инженер. Роль сложная и трудная, в процессе репетиций не сразу мне давшаяся в руки. Но все же я поймал сущность, стержень характера. Сняли пробные сцены, они встретили общее одобрение, которое не разделил только руководитель комитета. По неустановленным причинам он был недружелюбно настроен ко мне и категорически запретил снимать меня, причем не только в этой роли, но и "вообще".

|
|
И. Ф. Балиев. Автошарж
|
Следуя поговорке "Без троицы - дом не строится", мы все-таки пытались сблизиться вновь в работе: в третий раз я пробовался у Зархи и Хейфица, на этот раз много позже, на роль старшего Журбина. И опять судьба оказалась сильнее наших желаний. Художественный совет утвердил другого актера, и мы сдались - больше попыток преодолеть судьбу и восстановить творческую дружбу не делали.
И тем не менее наши незаконченные работы были интересны, я прекрасно изучил качества этих великолепных, тонких, всегда психологически глубоких в своей работе режиссеров. Храню о них самые лучшие воспоминания.
Жаль, что развалилось такое нужное для советского кино содружество, а что это так, - стоит только взглянуть на созданные ими в период дружбы картины...

|
|
Н. Ф. Монахов. Шарж худ. Алякри
|
"Падение "Ангела"
Как-то вечером после съемок, усталый, я спустился в ресторан; за нашим столом сидел Б.Н. Ливанов, восторженный, громадный, он казался красивее, чем всегда, чокался с метром и пил за чье-то здоровье.
- Миша, дорогой, а я тебя искал на студии (он снимался в "Дубровском"). У меня сын родился! Радость-то какая! Милый, выпьем за здоровье Евгении Казимировны и Васьки! Я ведь его Василием назвал в честь нашего великого Качалова.
- Борис! С удовольствием выпью этот бокал и за жену, и за сына, и за...
- Нет, никаких коллективных тостов, - пьем за всех раздельно.
Тут к нам подошли Илья Трауберг (брат Леонида), Михаил Дубсон и актриса Ксения Тарасова, они тоже поздравили Ливанова, и он заставил все начать сначала: "За здоровье сына!.."
Трауберг с Дубсоном собирались ставить сценарий "Падение "Ангела". "Ангел" - это кличка крупного взломщика несгораемых шкафов. Они разыскивали меня, чтобы предложить главную роль.
Я был занят сверх головы, но... вечное это актерское "но!": картина на злободневную тему "перековки", роль великолепная, положения захватывающие, сюжет увлекательный...
И вот я, чтобы не разрывать свое сердце трудно выговариваемым: "нет", придумываю игру-лотерею -
испытываю судьбу.

|
|
Афиши кинофильма 'Аэлита', 'Шахматная горячка' и 'Аня Гай' с
участием М. И. Жарова
|
- Пусть все решит джаз. Если сейчас заиграют "Прощай, прощай, Одесса-мама", - я снимаюсь!
Игра была, конечно, глупая, но мы ужинали в ресторане и справляли рождение Василия Ливанова, а не сидели в студийном кабинете, поэтому все было простительно. Мои режиссеры махнули рукой и, сказав: "Издеваешься", подняли по "последней", собираясь уходить... Но (опять это злополучное "но!") в это время полилась мелодия:
Прощай, прощай,
Одесса-мама!
Мне не забыть Твой чудный вид И море Черное, упрямо Волнами бьющее О твой гранит...
- А! А! Что? Допрыгался! - запели мои режиссеры. -Баловаться судьбой вздумал.
- На, держи сценарий! Завтра поговорим...
Картину начали снимать, съемки делали быстро. Летом переехали на натуру.
Помню съемки сцены, которая привлекла внимание огромной толпы любопытных. Снимали недалеко от студии, в переулке.

|
|
Афиши кинофильма 'Аэлита', 'Шахматная горячка' и 'Аня Гай' с
участием М. И. Жарова
|
"Ангел", взломав несгораемый шкаф в магазине "Ювелирторга", пирует в "малине" со своими сообщниками. Кутеж в разгаре, а милиция тихо окружает дом, где происходит "бал".
Сигнал: "Лягавые!". И "Ангел" со своей дамой сердца (в этой роли - Ксения Тарасова) вылезают через окно на крышу сарая.
"Стой, "Ангел", прыгать не надо, ты нам дорог! Сходи сам", -раздается команда начальника уголовного розыска.
"Ангел" медленно, под наведенными дулами пистолетов, глядя на ощетинившихся милицейских собак, поднимает руки, прикрывая собой свою красавицу.
Короткое: "Беги!". Толчок, - она сброшена с крыши по другую сторону двора и исчезает в темноте.
"Ангел" сдается!

|
|
Афиши кинофильма 'Аэлита', 'Шахматная горячка' и 'Аня Гай' с
участием М. И. Жарова
|
Как видите: он вор, но по духу - рыцарь, спасает даму, жертвуя собой.
Это не случайная черта, в его натуре заложено доброе начало. Попав в результате в лагерь, где происходит трудовая "перековка", мой "Ангел" откалывается от блатного мира. Начинает трудовую жизнь, обзаводится семьей. За это его и убивают.
Съемки шли ночью, но зрители стояли, наблюдая до конца (до пяти часов утра). Казалось, не спит весь Васильевский остров.
Было ясно, что успех у картины будет не меньший, чем у "Путевки в жизнь". Но осенью съемки вдруг резко оборвали. Образовалась пауза.
Выяснилось, что Михаил Дубсон (он был когда-то секретарем Горького) решил заручиться замечаниями Алексея
Максимовича по поводу сценария. Горький долго не давал ответа, это Дубсона взволновало. Съемки приостановили. Наконец пришел ответ: Алексею Максимовичу сценарий не понравился. Картину законсервировали.
Судьба - индейка: как начал я картину несерьезно, с налета, за ужином, так не по-деловому ее и кончили, а жаль! "Путевка в жизнь", "Падение "Ангела" и "Аристократы" Н. Погодина не были похожи на картины типа "Сонька - Золотая ручка" или детективные боевики Запада, хотя некоторые чистоплюи-критики и ханжи не видели разницы.
Александр Корнейчук
Я снимаюсь в "Богдане Хмельницком".
Во время съемок А. Каплер рассказал мне о своей задумке. С режиссером Л. Луковым они решили создать фильм о Котовском. Жизнь легендарного героя, командира Красной Армии была очень колоритна, романтична и полна невероятных, кажущихся невозможными приключений, которые он совершал дерзко и смело, проникая в тыл к врагу. И было бы величайшей ошибкой не показать это на экране.
- Литературный сценарий я уже набросал, а так как мы с Луковым, обдумав, решили, что "при твоих способностях" мы другого исполнителя, кроме тебя, не видим, то поэтому...
- То поэтому... Нет слов, чтобы выразить мой восторг и за веру в мои "способности", которые вы так преувеличиваете, что они закрывают от вас других актеров, и, если говорить по-серьезному, конечно, за роль-мечту! Спасибо, дай, я тебя...
- Дай договорить и не лезь со своими губами! Не девушка, противно! Заткнись! Слушай. Мы с Луковым едем по местам Котовского. Надо все посмотреть, понюхать. Едем с нами?
Уговаривать меня долго не пришлось. Тем более до отъезда оставался месяц и я мог закончить свои дела. Я уехал в Киев кончать последние съемки "Богдана Хмельницкого".
Короткая встреча с А. Е. Корнейчуком была для меня очень плодотворна - я прочитал ему монолог у столба: обращение Гаврилы к деве Марии перед поркой, которую ему собирается выдать Богдан - "Пречистая! Ты меня слышишь?" и т. д. Сцена эта великолепно снята в картине.
Александр Евдокимович выслушал и тут же внес все находки, которые родились в живом нашем общении, в текст сценария. Работать актеру с Александром Евдокимовичем Корнейчуком - наслаждение. Он хорошо знает народ, своих героев не выдумывает; он с ними общается и находит всегда интересный путь в сложных и запутанных руслах драматургии.
Корнейчук великолепно знает законы сцены, он точно знает, что смешно и что трогает зрителя до слез.
Являясь большим другом актеров, он прекрасно понимает, чем они дышат, их сущность, их выразительные возможности. Он пишет роли с учетом актера. Нельзя забыть случай с А. А. Яблочкиной. Закончив пьесу "Крылья" и сдав ее Малому театру для репетиций, он поехал отдыхать в подмосковный санаторий, где и встретился с Александрой Александровной.
- Если бы вы только видели, - рассказывал Корнейчук, - как она меня атаковала, узнав, что для нее в "Крыльях" нет роли!
- Как же вы, наш актерский друг, зная, что я тоскую по ролям, давно ничего нового не играю, не написали для меня? Садитесь и пишите сейчас же роль современной женщины. Я могу еще многое сказать, играя.
Я пообещал подумать.
Прошло не больше двух дней, как медицинская сестра уже говорит мне конфиденциально:
- Яблочкина просила меня проследить, пишете ли вы для нее роль или нет. Что ей сказать?
- Скажите... что... - замялся я.
- Скажите, что пишет, ответила за меня Ванда Львовна, -смеясь, продолжал Корнейчук, - и представьте себе, эти две энергичные женщины - Ванда Василевская и Александра Яблочкина - заставили меня написать новую роль в уже готовую пьесу.
- Ну, результат вы знаете - Александра Александровна играла в "Крыльях" и, надо отдать ей должное, в девяносто лет блестяще сыграла свою Горицвет. Вот урок молодым актрисам, как биться за роли, - закончил Корнейчук.
Общение с Корнейчуком во время работы обогащает фантазию. Его реплики, произнесенные как бы нехотя, с ленцой, как будто и сказать-то ему нечего, являются точными и верными попаданиями в решение волнующего вас вопроса. Они бывают полны такого подлинного юмора и образного выражения, что только успевай засекать возникающие в тебе сцены, вызванные его подсказом.
И если возникали у актера свои слова, рожденные в поисках образа, - Корнейчук немедленно утверждал их.
Так было со мной и в "Богдане Хмельницком" в кино, так было и в "Странице дневника" в театре.
После премьеры пьесы "Страница дневника" мы собрались усталые, но счастливые, у Рубена Симонова. Говорили про спектакль взволнованно, но тихо, мысли возникали глубокие и даже иногда неожиданные, - все еще жили волнениями спектакля, находились во власти своих работ.
Вечер был чудесный.
Евгений Симонов просил отца спеть: "Ну, я тебя прошу для меня тихо спой "Калитку"!". Рубен поддался. Охая (он только что перенес тяжелое заболевание), он взял гитару и запел прекрасно, с огромным настроением, пел не столько голосом, сколько душой.
Потом как-то незаметно опять заговорили о театре, о душе актера, и Корнейчук, который молчал, уютно сидя в кресле, куря папиросу за папиросой, как-то вдруг проникновенно сказал:
- Люблю живое человеческое слово! Механика хороша для счетных машин! Моя самая большая радость, когда мой текст, мои мысли делаются собственностью актера и он ими владеет властно, по-хозяйски, создавая, как полноправный художник, на равных, видимый и пластически ощущаемый, свой образ! Тогда я бываю счастлив, - закончил он, улыбаясь одними глазами.
Но возвращаюсь к "Богдану Хмельницкому".
"Истинно христианская душа"
В Киеве меня ждала большая работа - съемки сцены в корчме. Хозяйку корчмы играла Эмма Цесарская. Надо было с ней договориться и найти на репетициях "нити наших взаимоотношений", как любил иронизировать Игорь Савченко, умный, талантливый и нетерпеливый человек.
- Жарову нужны, видите ли, нити, без нитей он с Эммой играть не может! А горилки не хочешь? - ворчал он, когда мне показалось, что" неплохо бы еще раз "пошлифовать" сцену.
- Шлифуй! Шлифуй! Знаем тебя... А снимать начнем, выкинешь без шлифовки кучу неожиданностей. Ха! Импровизатор трудится. Валяй! - издевался Игорь.
Да, я любил импровизировать, и в этом, мне кажется, есть подлинная и единственно верная сила киноактера. Рожденная по первому зову и ведомая мыслью, эмоция блестит неповторимой новизной.
Но для этого нужно, как по канве, начертить, разбросать и проверить несколько раз точный рисунок. В нем потом будешь играть или, если хотите, жить, действовать, и тогда легко и свободно пойдет эмоция, чувство.
Вот это и есть осознанная необходимость, заключенная в мизансценах и психологических переходах.
Познав эту высокоорганизованную необходимость, прикинув ее и преодолев все препятствия, я свободно пускаю себя в путь, как лыжник в сложном и головокружительном слаломе. И вот тогда рождаются импровизационные находки - в роли, в сцене, в картине.
Так мы - автор, режиссер, артист - работали и снимали почти все мои сцены. И если сравнить мой текст в картине с утвержденным текстом в сценарии, можно легко обнаружить разницу.
Помню, как снимали очень трудную по организации кадра сцену вербовки добровольцев в армию Богдана:
"Стоит дьяк Гаврила, он в рясе, поверх которой сабля, за поясом два пистолета и крест.
Длинная очередь крестьян, вооруженных вилами, косами и топорами, тянется к Гавриле.
"Как звать?"
"Микола!"
"Веры не предавал?"
"Нет, святой отец!"
"Добре: "отче наш" знаешь?"
"Знаю!"
"Горилку пьешь?"
"Пью!"
"Истинно христианская душа. Целуй крест, раб божий! - и Гаврила сует ему в рот с размаху крест. - Следующий!"
Постепенно Гаврила устает и вопросы задает уже короче:
"В бога веруешь?"
"Горилку пьешь?"
"Целуй крест!"
Часто вместо креста подносит к губам "раба божьего" пистолет".
Съемка звуковая с микрофоном. Поэтому всех предупредили, чтобы во время съемки, упаси боже, никаких лишних слов и разговоров не было.
С текстом снимались актеры, а без текста местные колхозники и рыбаки. Но один старик оказался на редкость живописным: его лицо, усы, глаза и мягкая украинская речь могли украсить эпизод. С ним поработали ассистенты, дали ему слова и поставили в очередь.
Отвечал на мои вопросы он быстро, старательно и звонко.
"Как звать?"
"Веры не продавал?"
"Отче! Даже страшно подумать! Нет! Не продавал, -сымпровизировал он восторженно.
"Горилку пьешь?"
Он хотел ответить, но, подумав, остановил свой пыл и как-то весь вдруг обмяк, только глаза его молодо заблестели. Он смочил языком сухие губы и ужасно тоскливо (сыграть и повторить интонацию мы потом не смогли), но в то же время с глубокой верой, что все в моих руках, ответил:
"Нет! Не пью! Дорогой Михайло Иванович, не подносят старику! Ну что ты скажешь, не подносят!" - И, выпалив наболевшее, он, ядовито поджав губы и положив руки на живот, решил побеседовать... Но я сунул ему крест, и он пошел, долго приговаривая: "Ну что ты скажешь, не подносят".
Сцену переснимать не стали - солнце уже зашло.
Вечером, когда мы сидели и дружно пытались объяснить старику, что он испортил сцену своим разговором, Сашко, уже разомлевший и довольный, качая головой, говорил тенорком:
- Нет, нет! - и пел нам каким-то воркующим голосом: "Пить или не пить - все равно помрешь!".
После каждой фразы он качал головой и, умильно щелкая себя по носу, щебетал:
- Хорошо! А? Скажи спасибо! А кому? Михайло Ивановичу, -не человек!
Пока не уснул тут же на лавке около хаты.
Дьяк Г аврила
Образ дьяка Гаврилы, которого я играл в картине, стал для меня дорогим.
Манил он меня давно. И хотел его играть еще в театре, когда Корнейчук передал пьесу "Богдан Хмельницкий" в Малый театр, но Л. Волков, который ставил этот спектакль, решил иначе - Гаврилу он поручил И. Ильинскому, а мне предложил Богуна, молодого соратника Богдана. Богуна мне играть не хотелось. Я из спектакля вышел и стал работать над ролью в пьесе Леонова "Волк", которую ставил И. Судаков зимой 1939 года.
Но вот И. Савченко присылает мне сценарий "Богдана Хмельницкого" и я еду в Киев на пробу дьяка Гаврилы.
Когда страстно хочешь играть роль, когда она уже в тебе, знай - она будет твоей, это обязательно. Появляются особая сила убеждения, легкость в овладении материалом и упорная творческая настойчивость добиться. Чтобы то, что видишь и чувствуешь ты, увидели и почувствовали другие. Конечно, все это в том случае, если вокруг тебя нет заговора или творческой блокады, но для моих размышлений о творчестве эта шелуха (она часто мешает работать) сейчас не в счет, хотя, к сожалению, она существует.
”У вас живет академик”
Как-то Н. Черкасов прочитал случайно сценарий "Депутат Балтики.
- Я весь затрепетал, - рассказывал он мне, - настолько ясно я увидел себя профессором Полежаевым.
- Не знаю, как это произойдет, - добавил он убежденно, - но играть, вот увидишь, Полежаева буду я, а не Берсенев, хотя его, кажется, уже утвердили на эту роль.
Я стал наблюдателем этой интереснейшей борьбы, этого творческого поединка. Ежевечерне, после окончания съемок "Петра", Черкасов садился за грим вместе с чудесным мастером художником-гримером А. Анджаном. Они начинали творить образ. Работа была сложная, ювелирная. Долго не выходило, но вот однажды Черкасов сказал:
- Довольно, Антон, я поеду!
И он поехал ночью к своим друзьям.
Позвонил и, когда ему открыли, спросил: "Извините за беспокойство! Академик дома?". Наступила пауза, а затем жена приятеля, которая стояла в дверях, зевая и потягиваясь, сказала: "Входи, полуночник, академик" дома! Саша, это Коля пришел! Выпить!.. Видать, с концерта, в гриме".
Все! Узнали - фокус не удался.
И снова начинались поиски грима, и снова ночью ехали к друзьям, и снова везде говорили: "Здравствуй, Коля!", и снова Черкасов возвращался в машину, где его ждал Анджан, и печально говорил:
- Нет, Антоша, не то!
Но однажды во время очередного визита ему очень вежливо и толково разъяснили, что "уважаемый товарищ ошибается, здесь академика нет", и, всячески стараясь помочь, задавали наводящие вопросы.
- Антоша! Победа! Наконец-то не узнали. Открывай шампанское.
И через час за столом у Черкасова весело закусывали за здоровье "уважаемого профессора Полежаева". А профессор, раскрасневшийся и веселый, любезно угощал своих дорогих друзей - Антошу и собственную жену.
Проследим, что же произошло.
Был ли последний грим лучше первого? Может быть, был и лучше, тщательнее, но дело не в этом - основная сила была в том, что Черкасов с каждым разом все больше и больше перевоплощался внутренне, пока не нашел в образе полного единства внешнего вида с внутренним содержанием, и тогда его не узнали.
Вот она великая сила - перевоплощение актера!
На следующий день Черкасов заявил, что хочет участвовать в конкурсе и просит его попробовать на роль Полежаева. Дальнейшее известно...
Игорь Савченко
Вот так же уверенный в своем видении дьяка Гаврилы и я приступил к пробе. Проба прошла быстро. Вечером меня уже вызвали на просмотр, заключили договор, я стал Гаврилой юридически.
Создать образ казака из украинской вольницы, товарищества Сечи Запорожской, куда стекалась в XVII веке обездоленная и обиженная голытьба, разоренная тяжким гнетом польских панов, чтобы подготовить новое восстание против первоклассно вооруженной панской Речи Посполитой, -было лестно. Эпическое полотно Корнейчука требовало такого же монументального воплощения и на экране.
Но монумент - монументом, а люди - людьми! Надо разворот исторических событий показать на людях. Задача для режиссера труднейшая. Сцены, символизирующие страдания, муки и высокие ратные подвиги захватывающего драматизма, чередовались со сценами реальной жизни, живых людских страданий и страстей. Между этими сценами надо было сохранить чувство пропорции. Это - как ожерелье: бусы бывают разные и по размеру, и по цвету, надо только точно угадать в ритме сочетание и цвета, и величины при их нанизывании.
Все мои сцены снимались очень быстро и творчески наполнение. Все казалось легким и лепилось само собой. Роль получилась выпуклая, живая и очень объемная, с биографией. Когда подобрали мой материал, куски смотрелись живо и в зале становилось весело.
Я присутствовал на очень важном просмотре, смотрела комиссия ЦК КПУ. Узнал я об этом случайно. Соседом по купе, когда я ехал на последнюю съемку, оказался Отто Юльевич Шмидт. Мы с ним были знакомы: в Камерном театре шла пьеса Семенова "Не сдадимся!", посвященная челюскинской эпопее. Я играл главную роль штурмана Бородина, и Отто Юльевич был у нас консультантом и вдохновителем. Он мне и сказал, что едет в студию смотреть материал по "Богдану Хмельницкому".
Позже я узнал, что всему причиной были разногласия между художественным руководителем студии и И. Савченко. Споры шли о роли Хмельницкого, которого играл Н. Мордвинов, и моей - дьяка Гаврилы. Худрук, кажется, считал, что эти роли должны были играть украинские актеры, им это ближе и роднее. Комиссии поручено было просмотреть заснятый материал по этим двум ролям. На студии меня встретил Савченко и, страшно заикаясь, что было признаком волнения, попросил пойти с ним в просмотровую. Вот тут-то и увидел я впервые в подборке свой материал.
Прошли куски Хмельницкого (серьезные и глубоко взятые актером Н. Мордвиновым). Просмотр, как и полагалось, шел в полной тишине. Было даже слышно, как билось сердце Савченко, с которым я сидел рядом, - так было тихо.
"Если они так же мрачно будут смотреть и мои куски, - все! Мы горим!" - подумал я, и вдруг услышал, как бьется уже не одно, а два сердца, причем одно подгоняло другое, и если мое говорило: "тик!", то сердце Игоря отвечало: "так-так!". И опять в голове возник давно забытый вопрос: "Зачем только я пошел в актеры? Боже, сколько муки в этой тишине!".
Но что это? Кажется кто-то хихикнул?
- Игорь? Правда, или мне это показалось?
- Нет! Это правда!
Смеются! Ну, конечно, я не ошибся!
С каждой сценой атмосфера в зале все теплела, улыбка сменилась смехом, смех сменился хохотом, а все закончилось аплодисментами - к нашему благополучию.
ВС. МЕЙЕРХОЛЬДАт М|.«н IH лпв«чал«-. b Ик. tin««Mn >*J Bl ■ |TWMh Mi,*. О. ЗШ я Ь Мъ»«ра«.. i i % |

|
 гпегдгпр имени
гпегдгпр имени
 си £3led 24.В1 26
си £3led 24.В1 26 ПРЕМЬЕРА
it 23 (в 24 и 28
| • р*лнж *ягррантам Инин вся жрупп* и студенту ГЭНТЕШГ* |

|
|
Афиша спектакля 'Рычи, Китай!'. Театр имени Вс. Мейерхольда
|
Товарищи встали, улыбающиеся, веселые, но уже через минуту, будто стесняясь своего смеха или вспомнив, что они члены комиссии, опустили глаза и стали опять серьезными и важными. Я быстро вышел из зала. Обсуждение, говорят, длилось недолго.
В буфет, где я с аппетитом доедал яичницу с колбасой и салом - "по-украински", вошли радостные Савченко, директор картины Чайка и оператор Екельчик.
- Ну что? - дожевывая колбасу, самоуверенно спросил я. Игорь крепко обнял меня и, шепнув:
"Спасибо, дорогой!", громко сказал:
- Идите гримироваться!.. Все хорошо.
Он почти не заикался...
"Хороша Тарань!.."
Смешно сейчас вспоминать, но пересъемка, ради которой я приехал, была, по существу, пустяковая - по небрежности человека, отвечавшего за игровые вещи, уже бывшие в кадре.
Сняли такую сцену:
"Дьяк Гаврила вынес ведро с горилкой, достал из шаровар тарань, затем, перекрестив кружку с горилкой:
"За здравие господа нашего! - выпил, крякнул и, понюхав тарань, сказал: - Эх! Добрая тарань, жаль горилки мало!".
Опять зачерпнул и опять перекрестил полную до краев кружку с горилкой:
"За здравие девы непорочной!" - выпил и, опять крякнув, понюхал тарань.
Зачерпнул в третий раз кружку до краев:
"За здравие апостолов святых!"
Но тут сказали казаки:
"Погоди, дьяче! Ты на свадьбе, что ли?"
Потянулись за кружкой, но Гаврила, крепко держа ее, воскликнул:
"Грешники! Выпьем здесь побольше, а то, не приведи господи, в рай попадем, погибнем там без водки!" - выпил и третью".
Таким образом, в этой сцене тарань была очень важной игровой деталью в моих руках: то я ее нюхал после каждой выпивки, то размахивал ею, жестикулируя, и т. п.
Сцену не досняли. Стало темно, и операторы отказались продолжать съемку. Успели снять только средний или поясной планы, а крупные отложили до утра.
Это происходило под Киевом, на берегу Днепра. На холме была построена декорация Сечи Запорожской, а внизу, в степи, разместился табор, где среди шатров и телег происходили актерские сцены. Утром досняли крупные планы (я нюхаю тарань), и я уехал в Москву.
И вот пришлось переснимать крупные планы с таранью. Оказалось, что, когда снимали мои средние планы, тарань была крупная и длинная, но ночью те, кто остался охранять вещи, ею закусили. Утром, испугавшись скандала, подсунули мне другую - маленькую и сухую, так и сняли: никто не заметил.
Когда сцену смонтировали - между моими средними планами вставили крупные, - обнаружился смешной трюк: тарань в моих руках прыгала - она то вытягивалась и толстела, а то, когда я ее подносил к носу нюхать, съеживалась и усыхала. Это было, может быть, очень смешно, но не для сцены. Вот такой и нужно было переснять...
Это уже относится к курьезам или, вернее, к браку, которые в процессе съемок, как я рассказывал, иногда возникают по недосмотру. Эти куски сами по себе по неожиданности смешны, и если бы их собрать вместе, получилась бы очень оригинальная комическая картина.
”Г орящие быки”
Я вспоминаю еще и такой курьез - во время съемки очень важной сцены произошел непредвиденный случай. Сцена следующая: окруженный войсками Потоцкого, Хмельницкий мучительно думает, как, не жертвуя людьми, с наименьшими потерями вырваться из окружения. Он стоит задумавшись.
Раздается взрыв от гранаты, и раненый бык несется по табору.
"Смотрит Хмельницкий на быка, - пишет Корнейчук в сценарии, - лицо его проясняется, и вдруг захохотал гетман. Крикнул: "Слава!" - и начал танцевать.
"Мы сметем их пушки без жертв!.."
Лагерь. Стадо быков. Казаки привязывают к хвостам пучки соломы".
Потом в сценарии идут перебивочные кадры боя:
"Солому поджигать".
"Быки разъяренные бегут!"
"Обезумевшие быки летят на пушки!"
"Быки давят жолнеров!"
"За ними мчится конница казаков!"
"Ляхи бегут, бросив пушки!"
Вот так ярко, динамично и темпераментно была разработана сцена в сценарии.
Настал день съемки, снимали там же, у Днепра, в степи, где стояла декорация Сечи.
Смотреть на редчайшую съемку из Киева приехало очень много народа. Кто-то пустил слух, что будут бегать "жареные быки". Всем интересно посмотреть.
За ночь согнали на равнину сотню волов с большими рогами - "цоп-цобе". Хвосты за ночь им обмотали соломой и поставили головой в ту сторону, куда они должны бежать. Снимать приготовились с трех или четырех аппаратов. Ясно, что дублей делать не удастся, - страховались.
Гостей и неучаствовавших в эпизоде загнали на холм от греха. Бык не артист - подожжешь ему хвост, - черт его знает, куда побежит!
Наконец все на месте. Режиссер, волнуясь, посматривает на операторов, операторы смотрят на небо, а директор смотрит на всех, но больше всего на незанятых в эпизоде людей.
- Не дай бог, быки поранят кого-нибудь. Не расхлебаешь потом беды! - сказал он стоявшему рядом с ним командиру части, которая снималась в массовых сценах.
Командир надвинул на нос от солнца фуражку и, посмотрев в степь, довольно мрачно произнес:
- Да! От быков всего ждать можно! Разрешите, чтобы было все спокойно, я окружу своими людьми место съемки, и если разъяренные быки побегут на народ, мы будем стрелять!
- Давайте, окружайте!
- Солнце на месте, можно снимать, - распорядился оператор.
- Поджигайте хвосты! - крикнул режиссер.
Побежали с факелами, подожгли хвосты.
- Внимание, съемка! Моторы!
- Есть моторы!
Все затихло. Трещат аппараты.
Быки стоят, помахивая хвостами, и никуда не бегут!
Но потом какого-то быка, видно, припекло - он сел на хвост и потушил свой факел.
Очевидно, их стало всех припекать, они поерзали, потерлись хвостами по земле и...
- Стоп!
Моторы остановились.
Быки не бегут!
Что же делать?
Решили дать залп в воздух. Быки, мол, испугаются и побегут. Дали залп. Не тут-то было. Быки только подняли головы от травы, которую жевали, и как бы прислушались, откуда стреляют. Потом опять стали жевать. Стоявший в группе режисеров Корнейчук, обращаясь к своим друзьям, которые хохотали до слез, заметил:
- Ну вот, а говорят мы сценарии не пишем! Написал, у них быки не бегут!
Было смешно и конфузно.
Но вдруг все радостно закричали: "Ура!" - и начали снимать.
Пока обсуждали, как заставить быков бежать, - пацаны, в которых никогда нет недостатка на съемках, взяли какие-то жерди и начали колоть и толкать быков в зад. Задние быки побежали, толпа зашумела, заорала, тогда дрогнули и побежали все остальные быки. Но бежали они не по заданной трассе, а как попало, в разные стороны, и в объектив аппарата попало всего несколько штук. Мы потом смотрели пленку - в пыли, которую подняли быки, бежали всего пять или шесть "рогачей", подняв хвост дудкой.
Как мне объяснили, в лаборатории шесть быков, снятых на негативе, превратили в восемнадцать посредством трюковой печати.
Всемогущая техника кино спасла сцену...
Власть образа
Пусть мне не удалось сыграть Гаврилу в театре. Зато всю свою страсть к этой роли я вложил в полюбившийся образ кинофильма. Все во мне было подчинено этой роли, я жил ею, знал всю подноготную Гаврилы, знал его до корней волос. Возбужденная и взбудораженная фантазия обостряла и роль, и все мои наблюдения в жизни. Курьезы, которые я рассказал, смешны и порой даже похожи на анекдоты. "Ах, так не бывает", - скажут иные. Может быть, и действительно так не бывает, но возбужденная фантазия создает, досочиняет, она во время творчества могуча. То, что проходит порой мимо сонного глаза наблюдателя, я вижу своими обостренными до предела нервами ясно, точно, хорошо.
Тогда роль набирает глубину. Смешное и неловкое чередуются и оттеняют драматическое и возвышенное.
Трагическое рождается и возникает естественно, и так же естественно и просто оно потрясает. В этом - смысл переходов, ключ к трудным и, казалось бы, невыполнимым кускам.
Кино дает тебе воздух, создает атмосферу и разбег с длинной дистанции, если тебе нужен этот разбег.
Меня часто спрашивают: вам не мешает свет, который слепит глаза; люди с бесстрастными лицами, рядом стоящие и деловито исполняющие порученную работу; ограниченное аппаратом пространство и, наконец, микрофон, о котором тоже надо помнить?
Нет! Не мешают, если ты во власти образа.
И да! Очень мешают, если ты прицеливаешься, ищешь, примеряешься к роли, обманываешь и себя, и других: "У меня все уже найдено - только не мешайте жить! .
Не верьте - это шаманство! Это рисовка или, если хотите, каприз "звезды". Подлинное творчество, оно демократично к окружающему. "Найти себя в образе", "Быть в образе" - это не мистика и не сумасшествие, это творческое воссоздание образа человека, в которого актер перевоплощается, уходя и возвращаясь, по своему желанию, в раз найденный и обретенный образ. А раз это так, то, находясь в образе, артист владеет им безраздельно, и окружающее мешать ему не может.
Закончив съемки и поставив точку, я с печалью снял с себя костюм, который стал таким родным, таким необходимым для моей второй жизни - в образе родного для меня Гаврилы. Бороду и усы я не снимал, а как бы отрывал с кровью. Мне было до слез жалко расставаться с куском моей жизни, прожитой в XVII веке.
Но время летит вперед. Смахнув слезу, я сел в поезд Киев -Львов. А к утру уже жал руку Каплеру, который был готов для поездки со мной по местам Котовского.
Братья Васильевы
План наш был прост: отдохнуть в Моршане, в санатории с шикарным названием "Хрустальный дворец", а затем поехать по Западной Украине, заглянуть в Черновцы и обратно в Львов через села и местечки, где бывал Котовский. Но обстановка тех мест была сложная: то ли шли военные маневры, то ли еще что-то, но передвигаться по дорогам было очень трудно. До Черновиц мы ехали с писателем Авдеенко в его машине. Помню большой митинг в городском театре, где мы собрались на встречу с интеллигенцией. Митинг открыл Корнейчук, выступали очень ярко и горячо Довженко, Бажан, Михалков, Луков. Я приветствовал коллег от имени артистов кино. Это был центр Буковины, город очень колоритный, здесь сосредоточивались торговые интересы многих
капиталистических стран. Реклама, яркая и броская, вывески и витрины фирменных магазинов ошеломили своим количеством, свидетельствуя о жестокой конкуренции, которую развили международные купцы в этом малюсеньком городке.
Эта поездка, кроме поверхностного знакомства с бытом и людьми, для съемок ничего не дала. Может быть, сказывалась трудная зимняя работа - я был утомлен и невольно подчинился инерции отдыха. Вернулся во Львов окрепший и огрубевший от ветра дорог. Встретил в гостинице братьев Васильевых, которые долго и весело хлопали меня по плечам, а потом потащили обедать. Такой наскок несколько озадачил меня: раньше встречи наши ограничивались краткими: "Здравствуйте!" да "Прощайте!". За обедом все выяснилось: я был нужен им для картины "Оборона Царицына". Отрывок из этого сценария я случайно прочел в одном из журналов. Сценарий сейчас лежал на столе, прикрытый широкой ладонью Георгия Васильева.
- Вот возьмите сценарий, прочтите его, а вечером мы поговорим. Сидим мы уже здесь три дня и пора уезжать, -работа ждет. Дело за вами!
- А что за роль? - робко спросил я, хотя знал, что сидеть между двумя стульями долго нельзя, и придется им сказать, что я уже занят.
- Роль главная, две другие - это исторические фигуры, их играть надо в документальных рамках, а ваша -художественный домысел, играй, рви страсти, смеши. Делайте все, на что вы такой мастак. Все подходит и все будет украшать роль казака Перчихина, которую мы писали, думая о тебе! - переходя на интимное "ты", закончил Сергей.
"Боже мой! - подумал я. - И эти писали, думая обо мне, вот уж поистине - не знаешь, где найдешь, где потеряешь. А как же Котовский? Его тоже пишут, глядя на меня?! Но у Каплера ведь еще нет сценария и есть только "Места Котовского", по которым нам даже не удалось проехать? А тут вот лежит готовый, пухлый сценарий в две серии, который ставить будут чудесные мастера "Чапая". Есть о чем погрустить!"
- Спасибо! Я прочту сегодня же!..
Роль оказалась не так хороша, как мне ее расписывали, но, конечно, на фоне других лучшая; многогранна по характеру и интересна по действию -- много увлекательных приключений!
За чтением сценария меня и застали Каплер и Луков: не найдя меня в ресторане за ужином, они зашли ко мне.
- Ну вот, читает... Я тебе говорил, что они приехали за ним, а не "так... вообще!" - еще на пороге проговорил Луков, пропуская вперед Каплера. - Любуйся, - читает взасос!.. Твой друг - "Котовский".
Разговор был короткий: или я с ними, или я у Васильевых. Других соображений Луков слушать не хотел. Утром мы встретились все за завтраком и выяснили, что, пока Каплер напишет сценарий, а Луков проведет подготовительный период, Васильевы успеют отснять меня в натурных съемках и отпустят для натуры Котовского. Все это очень ловко и, как мне казалось, вполне логично и убедительно обрисовал Сергей Васильев, Георгий под столом жал мне ногу. Я, довольный, улыбался, качая головой. Каплер смешно делал глазами, один закрывал, а другой таращил, мол, "пой, пташечка, пой". Луков сопел, но, не теряя аппетита, поедал второй завтрак.
Потом я поймал в коридоре Каплера и спросил: "Что же мне делать?". Он, увильнув от ответа, нахально засмеялся сказав: "Ха! Решай сам!", и исчез за дверью номера, куда до этого - я видел - прошли чудные ножки в красивых туфельках.
Вопрос решился "сам собою" - я слабо отказывался, ссылаясь на данное Лукову слову, а Васильевы крепко налегали, уверяя, что "слово остается словом". Короче говоря, Георгий вынул уже заполненный договор; не прошло и получаса, как разногласия по единственно незаполненному пункту были ликвидированы, пункт был благополучно заполнен, и мы обменялись подписанными договорами.
Через две недели я обязан был быть в Ленинграде.
Так началась моя работа с братьями Васильевыми. Могу сказать, что поступил я тогда вполне разумно: они картину начали вовремя и снимали по точному плану, а сценарий Котовского долго не был готов, началась война, и в результате снимал "Котовского" уже не Луков, а А. Файнциммер с Н. Мордвиновым в главной роли.
Стиль и работа Васильевых были очень конкретными и своеобразными. Разговоров о "художественном наитии" или творческих процессах, которые "свойственны художнику", -вовсе не было. Нет. Репетируя и снимая, они ясно и точно, думая кадрами, видели, чего надо добиваться в той или другой сцене. Прекрасно зная закон монтажа в его логическом развитии и воздействии на зрителя, они не искали легкой популярности. Работали с творческой добросовестностью.
Один, красивый и спокойный, остроумный и всегда вежливый, безукоризненно одетый, был силен в составлении режиссерского сценария и монтажа, - это был Георгий. И абсолютной его противоположностью (они ведь не были кровными братьями) был Сергей - худощавый, с карими и очень живыми глазами, с маленькой бородкой-эспаньолкой, он как будто был весь пронизан упругой пружиной, которая не давала ему возможности быть спокойным. Редко можно было увидеть его в одной и той же позе - он ее менял не рывками и внезапно, а как бы переходил из одного качества в другое; так же было и с мыслями, которые часто меняли в разговоре направление.
В смысле стиля исполнения Сергею нравилась манера актеров МХАТ, о которой он часто упоминал, хотя актеров из Художественного театра в своп картины почти не приглашал.
В работе и задачах, которые ставил перед исполнителями, Сергей был предельно ясен. Двумя или тремя - иногда очень грубыми - определениями он чеканил образ в данном кадре, переходя, как по ступенькам, от кадра к кадру, к основному, целому. Все было ясно и нужно для данной творческой минуты, для данного куска, но следовало "быть начеку" и держать все его замечания в памяти для всего образа в целом. Увлеченный отдельным кадром или сценой, Сергей Васильев мог и "накрошить дров". Забывая, что говорил раньше, он мог повести актера не в ту сторону. Однажды я сказал ему об этом. Он мне, смеясь, ответил:
- Мое дело, как режиссера, ставить задачи, а твое, как актера, воплощать их в образе, - вот ты и следи сам, что верно, а что нет.
Такая гибкая творческая платформа давала нам возможность спорить и находить или, как говорил Георгий, "привинчивать правильно куски".
Началась тренировка верховой езды. Пришлось не только в свободное время, но еще и находить час - два во время напряженной работы и в театре, и в кино для упражнений на манеже. Я ведь был не просто наездник, галопирующий в Гайд-парке, а казак в седле, это то же самое, что драгун Меншиков.
Моя ранняя тренировка, которую я начал "блестящим" стартом, снимаясь опричником, оказалась не случайной -потом мне пришлось много и хорошо поездить верхом.
Основы езды я уже знал, прежний тренаж не пропал даром, и тем не менее для Перчихина я работал много: надо было по-казачьи сидеть в седле. Ни в одной сцене я не допускал дублера - везде снимался на коне сам, и в средних и в общих планах.
Самочувствие было отличное - боевое. В походке и в манере держаться появились черты, свойственные только всаднику.
Казак Перчихин
Однажды, когда мы снимали натуру - бой с белыми, Перчихин, который любил говорить, что "он казак, приписанный к Советской власти", разыскивал на поле боя товарища Ворошилова. Мой конь испугался взрыва, который произошел совсем перед его носом. Встав на дыбы, он покрутился и вдруг понес меня, но я, овладев им, направил по нужной дороге, которая проходила мимо ветряной мельницы.
Не сбавляя хода, конь поскакал по моей указке, но поскакал, черт его знает почему, в очень узкий проход между крылом и стеной мельницы. На мою беду из стены торчало тормозное бревно, которое могло либо сбить меня, в лучшем случае, либо размозжить голову.
Сергей Васильев, стоявший у аппарата, рассказывал потом, что многие закрыли руками глаза. Думали, что мне конец. Но инстинктивно, абсолютно ничего не соображая в эту секунду, я прижался к лошади, и... с меня сбило только картуз. На экране это выглядело очень эффектно, как трюк. Я понимаю Жана Марэ, который все трюки в кино делает сам, - это мужественно, смело, хотя и рискованно. Благодарный зритель очень любит в актере это подлинно профессиональное мастерство. В театре оно почти не нужно, если не считать, что тело актера всегда должно быть тренировано.
Роль была почти вся на коне, развивалась на натурных съемках. В театре я взял на лето отпуск. Городничего, которого я уже начал репетировать с Провом Михайловичем Садовским, пришлось временно отложить. Однако
Мурзавецкого в "Волках и овцах" Л. Волков меня обязал доделать и играть. Пришлось часто летать из Москвы на Волгу и обратно. Снимали около города Серафимовича, в селе; там происходили самые важные сцены, обрисовывавшие внутреннюю борьбу и перелом, которые характеризуют казака Перчихина.
Для сцен "Встреча с командармом Ворошиловым" и "Разведка" из Ленинграда был привезен броневик с двумя башнями. Это была историческая реликвия. С такого броневика выступал Ленин у Финляндского вокзала.
Вместе с Н. Боголюбовым, который играл К. Е. Ворошилова, я проехал много дорог, когда снималась сцена разведки. Потом начали снимать основную - Перчихин и Ворошилов подъезжают к дому Перчихина. Все сожжено, только печь и труба на суровом небе выглядят, как памятник погибшей матери. Перчихин берет горсть родной земли в платок. Ворошилов молча отходит. Казак долго держит землю, глядя вдаль. Эта сцена была снята Георгием Васильевым. (Сергей был болен - прыгая через окоп, он порвал связку.) Георгий обычно один не снимал, поэтому очень долго примерялся, и сцена получилась очень сильная и изобразительно, и по действию.
Сцена с броневиком была последней, нашей съемочной группе пришлось срочно эвакуироваться, так как немцы уже были близко. Броневик остался па околице, у входа в село. Потом там шли тяжелые бои...
Большие сцены - атаки Красной конницы, битва с белоказаками Мамонтова, встреча Перчихина со своим врагом белым эсаулом - снимались на Мамаевом кургане. Это было горячее время съемок. Нам капалось, что правильно воссозданная военными консультантами картина гражданской войны будет единственной и последней войной , разыгранной нами на этой ключевой стратегической возвышенности, у основания которой красиво и живописно раскинулся город со своими заводами и светлой лентой Волги.
Отдыхая, я любил лежать на земле с закрытыми глазами и вдыхать запах горькой полыни. Где-то в отдалении слышны были глухие звуки города и гудки железной дороги.
А спустя несколько месяцев о Мамаевом кургане, который переходил неоднократно из рук в руки, говорил и писал весь мир. Там решалась судьба прогресса - счастья и жизни человечества - в борьбе со злом и варварством...
Война
Летом 1941 года Малый театр выехал на гастроли в Днепропетровск, и я был вызван со съемок на три первых спектакля.
Вечером 20 июня я прилетел в Москву, а ранним утром 21-го приехал на Ходынку, где находился Центральный аэродром.
Было чудесное утро, многие уезжали на юг, среди них были друзья и знакомые.
Кинорежиссер Борис Барнет, с которым я случайно встретился, обратил мое внимание на большое количество автомашин, подъезжавших к аэропорту. По развевающимся флажкам со свастикой мы поняли, что это машины немецкого посольства.
Но наше внимание остановило не количество машин и даже людей, в них приехавших, а оригинальный способ перевозки грудных детей.
В обыкновенных, плетенных из хвороста корзинах с ручкой лежали дети, которых вносили лакеи в самолеты, где, очевидно, и подвешивали их за ручки, как люльки.
Новые "юнкерсы", тоже со свастикой, стоявшие, как солдаты в строю, нацелив на нас свои тупые морды, производили зловещее впечатление.
Зафиксировав для себя факт, что немцы почему-то уезжают в большом количестве из Москвы, мы сели в свои самолеты и на этом успокоились. Это было утром 21 июня.
Днем я прилетел в Днепропетровск. Назавтра вечером во Дворце металлистов мы начинали наши гастроли спектаклем "Волки и овцы". А утром 22 июня в номер, где мы репетировали, ворвалась бледная Фадеева и совсем охрипшим, идущим откуда-то из самих низин голосом, стоя у двери, прошептала:
- Какой ужас!
- Что случилось?.. Соня? - Но она мотала головой и ничего не отвечала.
Кто-то крикнул:
- Уйди, мы репетируем, - не мешай!
- Война!.. - еще тише сказала она. Ты с ума сошла!.. С кем?
- Немцы напали... Там, на площади, народ... слушают все... радио... говорит... из Москвы... - И повторяя: - Ужас! Ужас!.. -она зарыдала.
Улицы были полны народа, но говорили все тихо. Мы, превратившись в слух, стояли у входа в гостиницу.
Да! Соня права - свершилось страшное.
Пришел Коля Рыжов, охраняемый добровольцами. Оказывается, как всегда хорошо одетый, в шляпе и с тросточкой, он слушал радио, как вдруг после слов: "Будьте бдительны", какая-то лоточница, пристально смотревшая на него, заорала: "Шпион! Бейте его!". Возбужденные и
наэлектризованные голосом из Москвы, люди подняли кулаки, и ему было бы очень худо, если бы стоявший рядом военный не прикрыл его собой, крича на лоточницу:
- Чего ты горло дерешь и сеешь панику! Граждане! Это же наш гость! Артист Малого театра! Николай Иванович Рыжов!..
Только это и спасло Рыжова.
Появились надписи со стрелками: "Бомбоубежище", высоко в небе пролетали самолеты, и прохожие стали жаться к домам.
Все бросились к телефонам - звонить в Москву. Образовалась большая очередь. Наташа Белевцева, получив с большим трудом три минуты, сказала мужу всего пять слов:
- Милый! Война! Мы пока живы! - повторяя их без конца в течение трех минут...
Началась война.
Секретарь обкома, к которому мы поехали с А. Е. Пузанковым, секретарем нашей парторганизации, принял нас немедленно.
- От имени коллектива театра во главе с нашими стариками -Садовским, Рыжовой, Массалитиновой - заявляем, что отдаем себя и свое искусство в полное распоряжение обкома и готовы выполнить любое ваше поручение, - заявили мы.
Сердечно поблагодарив коллектив, секретарь ответил:
- Вы можете поступать, как хотите. Если останетесь с нами, будем очень рады; если хотите домой, мы примем все меры, чтобы срочно вас отправить в Москву.
Мы сыграли два спектакля. Зал был далеко не полон, хотя билеты были проданы на все спектакли.
Началась мобилизация.
Над городом появились первые немецкие самолеты. Многие рабочие и часть актеров пошли на призывные пункты. Я, приехавший на два дня, должен был выехать в Серафимович, где меня ждали съемки. Вечером 24 июня мы с П. М. Садовским отправились в Москву, которая нас встретила полной темнотой. Все было тревожно, непривычно, и сердце билось отчаянно. Хотелось быть со всеми вместе. На следующий день я уже вылетел в Сталинград. Там я жил в знаменитом доме специалистов, на берегу Волги, который впоследствии, как крепость, держался до конца, до победы. Жил я у вдовы бакинского актера А. Стешина, актрисы Фотеевой.
В драматическом театре работали тоже бакинцы: мой старый знакомый и друг Наум Соколов с женой Маргаритой Горбатовой.
Эвакуация
Снимали ежедневно, без отдыха. Все мобилизовали себя внутренне, работа шла быстро, точно, съемки происходили даже в хмурый день. Город очень быстро изменил свой внешний вид, изменился и темп жизни. Лавина беженцев двигалась с запада, они останавливались, оседая, захватывая все углы в домах и сараях, на площадях появились палатки. На рынках и в пригороде попадались подозрительные типы, участился бандитизм.
Возвращаясь ночью со съемок, мы видели в степи сигнальные огни, мелькавшие в темноте, были слышны звуки самолетов - сбрасывали диверсантов.
Набрать массовку для сцены не представляло труда. Улицы были полны людей.
Наша группа сделала в газете обращение к работникам искусств и устроила большой концерт. Зал был переполнен, дорогие билеты (по повышенным ценам) рвали нарасхват. Весь сбор был передан в фонд обороны. Возвращаясь с концерта, мы зашли в темноте на тротуар у телеграфа. Охрана направила автоматы, началась перебранка. Все выяснил подоспевший офицер, начальник караула. Проверив документы,, нас отпустили.
- Хоть вы и знаменитые артисты, товарищ Жаров и товарищ Боголюбов, а ходить должны в разрешенных местах, а то может случиться беда! Приказ стрелять, если не слушают: "Стой!", существует. Фронт близко! Договорились!..
Я получил сообщение из Малого театра, что мне поручено играть Пьера Безухова, - Судаков начал ставить "Войну и мир". Требовали прекратить съемки и вернуться в Москву.
Связь с Москвой часто прерывалась, дозвониться было совершенно невозможно, мои телеграммы, что группа "Ленфильма" меня не отпускает до конца съемок оборонного фильма, очевидно, не доходили. Ответа не было.
Только когда приехала прокуратура из Москвы, я сумел через прокурора связаться с театром по телефону. Администратор Солонин сообщил мне тоскливым голосом следующее:
- Театр вчера уехал в Челябинск. Я думаю, что вы можете спокойно оставаться для съемок, - в театре остался один я для охраны имущества. Не волнуйтесь, работайте спокойно! До свидания, если оно может состояться.
- Почему так мрачно?
- Война!
Свидание, действительно, не состоялось, он вскоре умер... Я в растерянности стоял в кабинете главного прокурора республики, не зная, что же все-таки мне делать.
- Может, ехать в Челябинск? А, как вы думаете? - обратился я к прокурору.
Он подумал и сказал:
- Давайте разберемся: вы находитесь на государственной работе в "Ленфильме". Снимаетесь в оборонном сценарии в главной роли, у братьев Васильевых - это не фунт изюма! Вас театр на съемки отпустил. Значит, вы не дезертир. Все законно. Прав ваш администратор: работайте спокойно!
Такое авторитетное разъяснение моего правового положения окончательно меня успокоило, и я убрал роль Безухова до лучших времен, но сыграть мне ее не удалось. Спектакль после успеха в Челябинске привезли в Москву, здесь он не понравился, и его вскоре сняли...
Немцы подходили к Сталинграду все ближе, уже бомбили узловые станции. Были большие пробки, так как железная дорога была однопутная.
Закончив натуру, братья Васильевы вместе с артистами М. Геловани и Н. Боголюбовым, со всей операторской группой и директором картины Гинзбургом уехали спокойной дорогой через Каспий на Красноводск и дальше.
К этому времени Государственная комиссия по эвакуации нашла и переслала ко мне в Сталинград отца, мать, сестер -всю мою многочисленную и разбросанную по разным местам семью. Я решил больше не разлучаться с ними. И вот вместе с актерами, обслуживающим персоналом, рабочими и всем имуществом "Ленфильма" все мое семейство отправилось в
Алма-Ату. Мы двигались через знаменитое Поворино, которое точно два раза в сутки бомбили немцы. Поезд прибыл в Поворино ночью, все пути были забиты составами. Узнать, когда отправят, было трудно и не у кого, а попасть к диспетчеру было так же невозможно, как пролезть в ушко иглы, - у двери стояла с автоматами охрана, а кругом - толпа из представителей разных ведомств. Наша экспедиция ехала с удостоверением на бланке: "Съемочная группа братьев
Васильевых киностудии "Ленфильм". "Поход Ворошилова", первая серия "Оборона Царицына".
Тут-то я и почувствовал по-настоящему, как велика у нас любовь народа к артистам. У меня был мандат, или пропуск, или предписание - как хотите, которое гласило, что нас должны отправлять в первую очередь после военных грузов, но показать его можно было, лишь пробравшись в помещение, где работал представитель комиссии. И вот, усталый и охрипший, я пошел на крайность. Снял фуражку, чтобы меня узнали, встал под фонарь и крикнул:
- Товарищи! Разрешите пройти из киноэкспедиции "Поход Ворошилова".
Все оглянулись, и тут случилось то, чего я и добивался. Такие же усталые и невыспавшиеся люди меня узнали, заулыбались и стали протаскивать, как мешок, передавая из рук в руки: "Пропустите артиста Жарова", - пока я не очутился около бойцов. Бойцы, выдернув меня из толпы и любовно похлопав по спине: "Дядя Миша, проходи, пожалуйста!" -толкнули в дверь.
Через три часа - к утру - мы были уже прицеплены к составу товарища Коробова, который вез своих металлургов из Днепропетровск и поехали дальше. Как мы ехали? Я скажу только, что до Алма-Аты мы ехали три недели. Там сошлись две студии - "Мосфильм" и "Ленфильм", которые и образовали один мощный коллектив, временно именовавшийся:
Центральная объединенная киностудия художественных
фильмов (ЦОКС).
Началась эра войны.
Искусство было сдвинуто со своего пьедестала, но его не спрятали в землю, не упаковали в солому и не обложили мешками с песком, как это сделали с бронзой П. Клодта или медью Э. Фальконе, - нет! Люди, творящие искусство театра и кино, были отправлены в тыл страны только для того, чтобы, спокойно перестроив ряды, сосредоточить весь огонь своего мастерства по врагу.
В Алма-Ате можно было встретить многих: К. Паустовского и Г. Уланову, В. Марецкую и В. Шкловского, Ю. Завадского и С. Магарилл, Н. Мордвинова и Ф. Эрмлера, С. Бирман и Н. Черкасова - почти всех актеров, режиссеров кино и хроники.
Могучий Эйзен (так звали С. М. Эйзенштейна студийцы) продолжал воспитывать своих птенцов из ВГИК с такой требовательностью, как будто они и не выезжали с уютной московской площади.
И только по боевым мыслям и творческому взлету (впереди маячил "Иван Грозный") мы, его друзья, понимали, что Сергей Михайлович неспокоен за судьбу Родины.
Великие подвиги советского народа и его могучих сынов, вставших на защиту земли Советской, горечь первых поражений, радость справедливых побед и наконец полный разгром черных армий зла - все это потрясало и заставляло художника по-новому смотреть на свое искусство. Хотелось, чтобы оно не молчало, а стреляло залпом и в одиночку вместе с "катюшами" на фронте.
Эти боевые дни нашей военной работы в кино и у меня были заполнены до отказа: В. Пудовкин снимал меня в фильме "Во имя Родины", ("Русские люди"), С. Эйзенштейн в "Иване Грозном"; К. Юдин в "Близнецах", Г. Раппапорт в "Воздушном извозчике".
Поездки с писателями к пограничникам.
Поездки на фронтовую "премьеру".
Боевые военные киносборники.
Работа над картиной "Беспокойное хозяйство".
Сколько встреч, воспоминаний.
Для них нужна особая книга, которую я назвал бы: "Малый театр, его актеры и их жизнь в искусстве".
Все эти события требуют размышлений и раздумий...
Эту же книгу я хочу закончить воспоминаниями о замечательном советском режиссере, добрейшей души человеке - Леониде Давыдовиче Лукове, который так рано и неожиданно ушел, оборвав свою работу на полуслове.
Лукавов и ”Васса Железнова”
Последним спектаклем "Васса Железнова" были закончены в городе Горьком гастроли Малого театра.
Начинался июль. Трудный сезон 1953/54 года уже позади, и все актеры театра уезжали в отпуск. Лишь наша группа поехала на пристань и начала грузиться на пароход. Мы отправлялись в Кинешму, где нас с нетерпением ждал режиссер Л. Д. Луков со своей группой, чтобы начать натурные съемки "Вассы Железновой".
В кинематографический вариант пьесы, который написал Луков, были введены дополнительные сцены в городе на натуре, что, на наш настороженный взгляд (мы очень боялись резкого вмешательства кино в органически и крепко сделанную пьесу Горького), делать не надо было, но все оказалось верно и очень интересно. Раздвинутые сценарием рамки места действия (пьеса разыгрывается, как известно, в одном павильоне - комнате Вассы) давали возможность актерам шире выразить характеры своих героев. Предложенные режиссером Луковым обстоятельства этому способствовали.
После веселой, но суматошной погрузки, - она была хлопотлива главным образом из-за вещей В. Н. Пашенной, которая, вечно недосчитывая чего-то из своих многочисленных сумочек, чемоданчиков и обязательно что-нибудь теряя, начинала охать. А когда ее успокаивали, что "все найдется", она, шумно вздыхая, бодро говорила: "Да ничего, наплевать, не ищите - я гусар! Я люблю рисковать!".
Но риска особенного не было, все быстро находилось, за исключением, пожалуй, одного случая, когда пропал чемодан и его искали всюду; наш "Фигаро" - всегда спокойный и расторопный Ю. Бернар специально вернулся в гостиницу. Чемодан нашли нескоро: оказалось, что Вера Николаевна на нем сидела, охая о пропаже. Наконец раздался долгий и тоскующий, как крик сирены, пароходный гудок.
Все сразу успокоились, стали сосредоточенно тихи. Вероятно, так бывает, когда физически ощущаешь, что жизнь двинулась куда-то вперед, в неизвестное. Может быть, в эту минуту мы проверяем ушедший день и готовимся к новому.
Было много платков, которыми махали и вытирали глаза. Нас провожала большая группа друзей из зрителей, которых мы успели приобрести за дни гастролей.
Ехать-то было недалеко, всего одна ночь дороги, но, по русскому обычаю, все плакали, будто расставались навечно.
Второй раз гудок прогудел хрипло, но заносчиво, - он как будто торопился возвестить всем, что пароход, носящий имя нашего собрата Александра Пирогова, отчаливает от земных берегов и начинает свой медленный, но верный ход по красивейшей реке России.
Кто-то затянул песню, ее подхватили, и все тихо хором запели:
Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песной зовется...
Наступило удивительное спокойствие, шум города исчез, будто утонул за бортом, в зеленой расходившейся складками упругой волне.
Темнело, лилово-малиновые тучи тянулись по горизонту над лесистыми берегами, предвещая ветер.
Облокотясь на борт, мы, тихо покачиваясь, смотрели усталыми глазами вдаль и блаженствовали - уже не надо было торопиться в театр, не надо лаком наклеивать на лицо усы и бороды; впереди - законный отдых. Но странное дело, когда пассажиры, окружавшие нас, спрашивали, куда мы едем: "Наверное, в Щелыково, к Островскому в именье, отдыхать?", -мы качали головой, а Вера Николаевна, уже успокоенная и умиротворенная (даже немного разомлевшая), обмахиваясь, как веером, газетой, в которой ее хвалили, говорила:
- Ну что вы, что вы, когда же актеры отдыхают, - едем сниматься в Кинешму.
- В чем же, уважаемая, вы снимаетесь? - спрашивал немного охмелевший, в войлочной шляпе и шлепанцах на босу ногу сутулый человек.
- В "Вассе Железновой". Вот все мы, - и она сделала широкий жест, как бы знакомя с актерами. - Вот наша талантливая молодежь - Екатерина Еланская, это дочь Клавдии Еланской из Художественного театра, - знаете, которая так замечательно играет Катюшу Маслову в "Воскресении". Вы видели?
- Да! Да! Как же, уважаемая, - неуверенно сказал собеседник. - А это кто же будет, - он указал на Сергеева, который в кругу молодежи что-то так весело рассказывал, что все хохотали, - это он какой-нибудь анекдотик "скабриозный" отчудил, хе, хе, забавно послушать!
- А! - сказала Пашенная. - Это мой ученик, он очень способный молодой актер, но, кажется, уже немного того... Навеселе! Что-то уж очень возбужден, - и, покачав головой, сокрушенно добавила: - Любит, знаете ли... иногда...
Собеседник быстро прикрыл рот рукой и, отодвинувшись от Пашенной, очень проникновенно сказал:
- Уважаемая! А кто же это не любит! Даже наш корабль и тот - вы присмотритесь только - тихо вальсирует! Вы скажете - это от волны... Нет! От благодати, которую воспринял человек, его ведущий! Да-с!
Действительно, мы только сейчас заметили, что наш "корабль", как его назвала войлочная шляпа, странно покачивался из стороны в сторону. Нос не был, как ему полагалось, направлен на одну цель, а в ритме "раз - два -три" менял свое положение ежесекундно, отклоняясь то вправо, то влево. От этого, как справедливо заметил наш собеседник, казалось, что пароход танцует, как слон в цирке, переступая с ноги на ногу и помахивая хоботом.
Мы никак не могли сообразить, что же происходит и отчего это, но ломать голову нам долго не пришлось. Все разъяснилось гораздо быстрее, чем мы предполагали.
К нашему столу, за который мы уселись ужинать, подошел, покачиваясь, сильно подвыпивший, очень восторженный молодой матрос и с обидой в голосе заявил мне:
- Ну, почему такая несправедливость, Михаил Иванович, я вас очень люблю за ваш талант в кино! Лихо вы это там! - и он щелкнул по воротнику. - Спасибо большое от молодежи! И вот решил рюмку выпить за ваше здоровье, а меня сняли с вахты. Выходит, пострадал за веселого человека!
Когда я весел,
Пою я много песен!
Разрешите присесть, может, бутылочку шайманского... за знакомство?
Но знакомства "на короткой ноге" не состоялось.
Кто-то тихо, но сурово окликнул: "Саша!". Матрос оглянулся и, сконфуженно пролепетав: "Капитан! Извините! Я влип!", подошел к человеку в белой форме, стоявшему в дверях.
Отправив матроса спать, капитан подошел к нам; это был очень красивый человек, с большими усами, которые теперь носят только артисты на сцене, пышными и переходящими в баки.
Вера Николаевна, сверкнув глазами, ласково улыбнулась: "Милости просим", и посадила его рядом с собой.
- Благодарю, если разрешите, только на минуточку! Вы уж извините Сашу, хороший матрос, рулевой, но вот увидел любимого артиста и... он у нас в самодеятельности играет -комик. Встал на вахту и все рассказывал про Михаила Ивановича, сначала головой мотал, ну, а потом и руками начал! Увлекся! Пришлось снять! Извините, если что не так сказал!
- Ну что вы, такой милый юноша, - восторженно ответила Пашенная.
- Говорят, вы едете на съемку "Вассы Железновой". Прекрасный спектакль, видел в Горьком, ходили всей семьей. Спасибо вам, наши дорогие друзья, а особенно спасибо вам, Вера Николаевна. Превосходно это у вас получается. Естественно! А кто же режиссер?
- В театре ставил Зубов, а картину будет снимать Луков.
- В театре великолепно, не могут испортить съемками?
- Наоборот, сценарий очень расширяет рамки пьесы. Вот едем снимать натуру в Кинешму, там уже стоят декорации, повесили старые купеческие вывески, которые вернут город к временам Горького. Будем снимать и "мой дом", - сказала она, смеясь, - мой, поскольку я уже не могу Вассу отделить от себя. Да, работы будет много!..
- А когда же отдыхать? Вы нам нужны, берегите себя!
- Спасибо за ласковые слова! - И, звонко чокнувшись, мы выпили взаимно друг за друга.
- Советую выйти на палубу. Вечер на редкость теплый. Тихо, красота первозданная. Звезды совсем рядом. Навстречу идет пароход с молодежью, они уже узнали, что едут артисты, -будут встречать, по радио просили передать вам привет.
Ночь была бархатная, мягкая и глубокая. Врубелевская синева окружила нас, и лишь сигнальные бакены на реке, покачиваясь, как бы подмигивали своим одним глазом: "Любуйся, пока можешь!"
Вскоре показался пароход весь в огнях. Раздались приветственные гудки, и уже на подходе мы услыхали скандирующие звонкие выкрики: "Да здравствует Малый
театр!". А когда встретились бортами бок о бок, громкое "ура!" разорвало тишину ночи...
Утром на пристани в Кинешме нас встречала съемочная группа в полном составе во главе с Леонидом Луковым, которого мы увидели издали - он старательней всех размахивал большим букетом цветов.
Несмотря на свою грузность, он очень изящно обнял Веру Николаевну, преподнес ей цветы и, подражая возлюбленному, "пылко" произнес:
- Я рвусь к работе с вами, милая! Поверьте, что дни подготовки проходили в томительном ожидании...
Она закрыла игриво свои красивые глаза и кокетливо ответила:
- Ах, не смотрите на меня, я плохо спала!
Обедали мы всей группой на террасе, в знаменитом трактире, где со вкусом, здорово и много ели. Луков подробно рассказал нам о плане работы и очень увлекательно, с юношеским пылом стал хвастать находками и придумками которые "обогатят картину и ваши образы".
Я хочу передать все русское, показать все подлинное, раскрыть кажущуюся бессвязность русской речи, за которой чувствуются могучий ум и сметка. Волнуюсь, как никогда: Горький и Малый театр - два гиганта. Ответственность... Что-то будет... - И он остановился, то ли подыскивал слово, то ли задумался.
И тут в наступившей тишине кто-то не вовремя сподхалимничал:
- А я не волнуюсь, раз с нами Вера Николаевна, значит, будет шедевр! Вы, надеюсь, постараетесь!
Луков внимательно посмотрел на говорившего, и его глаза стали злыми, он отрывисто произнес:
- Нет, я не буду стараться делать шедевр, хотя нам часто и говорят, что, приступая к работе, мы должны думать о шедевре! Нет! Эта претензия сковывает и зажимает человека! Мы не будем стараться! Мы будем жить и работать в образах, по Горькому, но, как учил Чехов, без малейшего оттенка литературы и искусственности! Значит, будем
работать, а не стараться кого-то переплюнуть!
Мгновенная вспышка его на этом закончилась, и он уже дружески добавил:
- Не знаю, как вас, друзья, а меня здесь все возбуждает к
творчеству - и милейшие люди, которые готовы распластаться в лепешку, чтобы помочь нам, и сам город с его старым бытом, и Волга и... - он поднял бокал, - и особенно ваши
очаровательные глаза, которыми вы так ласково сейчас на меня смотрите!
Чокнувшись с раскрасневшейся и сиявшей Верой Николаевной, все принялись уплетать сделанные по особому заказу - гордость Кинешмы - знаменитые "фризюрные" пироги...
Съемки начались на следующий день с моего подъезда к дому Железнова.
На высоком берегу Волги стояла уже, как говорят художники, обжитая декорация - высокий плотный забор и тяжелые мрачные, похожие на тюремные ворота.
Прохор Храпов, брат Вассы, подъезжает на извозчике после ночного кутежа с барышней. Расцеловавшись и цинично похлопав свою подругу, Прохор, не забыв забрать свой коллекционный амбарный замок, уходит в калитку.
Это вводная сцена наглядно освещала биографию Прохора. Сцена несложная, но "режимная", то есть снимать ее можно только в определенные часы, когда солнце светит так, как это необходимо оператору для настроения и по установленному кадру.
Вторая трудность сцены заключалась в том, что между забором и обрывом была очень узкая проезжая часть, и извозчику трудно было разворачиваться для повторных репетиций и съемок. Лошадь пугал свет ламп, они ее слепили. Она артачилась и пятилась назад. Можно было "загреметь" с довольно высокого обрыва.
Луков сохранял во всех таких случаях необыкновенное спокойствие. Когда на одном из дублей лошадь нас понесла, а мы, боясь рухнуть вниз, соскочили с пролетки, Луков подошел к нам, при всей своей грузности он был очень ловок и подвижен, и сел в коляску.
- Хорошо, что я толще вас вдвое и могу один заменить двоих - трусов! Не понимаю, что тут страшного. Смотрите, - и, взяв у извозчика кнут, стегнул лошадь, она лихо проехала по заданной трассе...
- Ну вот и все, просто, как видите, и гениально! - кричал он через минуту, когда кончили сцену.
Если сцена удавалась и дублировать ее больше не надо было, он как-то озорно кричал: "Гениально!".
Помню, как-то одна из сцен у нас долго не получалась, хотя дублей сняли много, и казалось, что вот уже все выходит, но "гениально!" не раздавалось.
Наконец, усталые и измученные, мы собрали последние силы и четко, как нам казалось, без единой накладки, в хорошем темпе провели всю сцену. Я радостно крикнул: "Вот уж теперь наверняка - гениально!". А Луков, тоже усталый и мокрый (в павильоне была невыносимая жара), оторвавшись от лупы съемочного аппарата, через который он наблюдал сцену, охрипшим от ледяного боржома (он пил его бутылками) голосом сказал:
- Гениально или нет, это мы посмотрим завтра в кадре, а сейчас съемка окончилась. Володя! Пойдем поговорим, что-то у нас с тобой не получается.
Требователен он был и к себе, и к другим.
Слова были обращены к Владимиру Раппопорту - оператору, человеку вдумчивому и с большим вкусом. Успех картины во многом определила его работа...
Приходилось вставать с первыми лучами солнца, а ложиться порой и ночью, все очень уставали, спали мало, поэтому, естественно, что-то и не удавалось. Тогда люди нервничали и злились.
Леонид Давыдович работал, как часы, как будто он и не нуждался во сне, - это было просто поразительно.
Бритый и опрятно одетый, он появлялся на съемочной площадке точно в назначенное время. Осматривал, все ли на месте, все ли приготовлено так, как надо, и только после этого начинал снимать.
В уменье организовать работу на съемочной площадке у него было что-то общее с Эйзенштейном. Глядя на Лукова, я вспомнил: однажды в ночной смене в павильоне Алма-атинской студии снимали свадьбу Ивана Грозного. Была большая массовка - одетые боярами артисты сидели за свадебными столами. Съемка одна из труднейших и по объему, и по организации кадра.
Во время перерыва, часа в два ночи, мы сидели за столом и пили чай. Эйзенштейн остановил "боярина" - на его костюме недоставало одной пуговицы. Сергей Михайлович, держа артиста за рукав, стал громко звать: "Лидия Ивановна,
позовите ко мне Лидию Ивановну!" (Это моя сестра, она была главным художником по костюмам.) Встревоженной и торопливо подошедшей Лидии Ивановне он довольно сердито сказал:
- Непорядок в вашем хозяйстве?.. Надо давать взбучку костюмерам. Почему здесь нет пуговицы?
- Сергей Михайлович, этот товарищ сидит в самом конце зала, так что не только пуговицы, а и самого-то его не видно -сказал я с единственной целью успокоить Эйзенштейна. Он очень разгорячился, и мне стало его ужасно жалко.
Эйзенштейн мне ничего не ответил, даже было непонятно, слышал ли он мои слова. Однако я ошибся: отпустив
костюмеров, которые стояли перед ним усталые и понурые, Эйзенштейн сел и совершенно спокойно, как будто ничего не случилось, сказал мне:
- Никогда, дорогой и любимый мой Малюта... Иванович, не вмешивайтесь в мои указания. Я могу вас поставить в неловкое положение, сделав вам замечание, это будет нехорошо и стыдно. Но даже и не это самое главное, - главное в дисциплине и в порядке. Вот вы будете режиссером, вам придется иметь дело с помощниками, а вы их оправдываете и говорите мне: "пуговицы не видно, он далеко". Да, сейчас актер далеко, а через минуту я его возьму на первый план, что же вы тогда и начнете искать костюмера, иголку, нитку и пришивать пуговицу! Да? На съемке должен быть порядок, и все должны быть на своих местах... Зеваете? Я понимаю, это скучно слушать, но в этом залог успеха! Когда-нибудь вспомните, дорогой! Вот если бы, например, мы продумали с костюмерами костюм Черкасова, как его быстрее снимать и одевать, то и не тратили бы дорогих часов на одевание и зашивание.
Черкасов, который сидел в гриме юного Ивана в плотном парчовом костюме, только крякнул, дав этим понять, что "да, было бы неплохо посидеть без костюма"...
Вот эта черта ответственности, внимания к кажущимся мелочам была присуща и Лукову. Его помощники знали эту его черту и следили друг за другом, выручая при беде товарища.
Луков снимал быстро, все у него было продумано заранее, и только новые находки, актерские или операторские, могли отвлечь его от намеченного рисунка.
После одной из репетиций не совсем ясно было, как же снять выход Вассы, отравившей мужа. Раппопорт предложил это сделать так: "Двери медленно открываются, и в дверях стоит потрясенная содеянным Васса, руки ее раскрыты, как на распятии, она освещена контражуром (светом за ее спиной). Будет впечатление мученичества". Лукову понравилась эта мысль, он ее режиссерски продумал, так и снял. Эта сцена в картине производит ошеломляющее впечатление.
Моя работа в театре над ролью Прохора была близка Лукову и по трактовке, и по исполнительскому темпераменту, он ее принял целиком и лишь развивал уже найденное. Работать было приятно. Останавливаться не хотелось. Паузы расхолаживали.
По приезде в Москву сделали небольшой перерыв, чтобы отдохнула Вера Николаевна, и затем съемки в павильоне возобновились также стремительно и плодотворно.
В рекордно короткий срок Леонид Давыдович закончил работу. Фильм был продан почти во все страны. Идет с большим успехом до сих пор.
В одну из своих последних работ - "Олеко Дундич", которая делалась совместно с югославами, Луков пригласил меня, предложив сыграть в интересном эпизоде древнего старика, которого Дундич, одетый для конспирации в форму белогвардейского офицера, просит показать дорогу или тропу через границу.
Старик, видя "беляка", замкнулся, и только поняв что перед ним переодетые красные партизаны (его угостили водкой и салом - "беляк угощать не будет") - он согласился провести отряд.
Однако полуголодный старик, сразу опьянел и заснул. Женщины из его семьи говорят, что теперь все погибло, он будет спать двое суток и разбудить его никак нельзя. Операция может провалиться.
Грим мы нашли прекрасный: старик казался могучим, как дуб, хотя был бел, как лунь. Луков предложил процедуру питья водки сделать торжественной - как причастие. Мы нашли нужные приспособления и краски. Старик крестился, долго дул в сторону, потом, набирая воздух, выпускал его со свистом, и только после этого опрокидывал стакан с водкой, залпом выпивая его, потом, открыв рот от задыха, он начинал долго, с кваканьем, как при коклюше, кашлять - отчаянно отмахиваясь руками. Выпив таким образом с разговорами три стакана, старик, как подкошенный, ложился на стол и начинал сладко и виртуозно храпеть. Он уже спал. Дундич растерянно поглядывал на всех. Эпизод, занимавший целый ролик, был интересно поставлен и, как говорил на художественном совете Марк Донской, сыгран виртуозно! Его демонстрировали с успехом на всех конференциях и просмотрах материала, но в фильм он, к сожалению, не вошел! Сцена была во второй серии, а картина вышла в одной серии и, прицепившись к этому, главное начальство в соответствующей инстанции посоветовало сцену не пускать. Русские, мол, так не пьют, что о нас будут думать! Было очень обидно, что работа света не увидела. Тем более что русские так пьют!
Луков позвонил мне по телефону, просил не огорчаться:
- Я тебе даю слово, что мы воскресим этот чудесный и такой близкий правде образ в другой картине и в более крупном масштабе. Я не успокоюсь, пока мы с тобой этого не сделаем.
Но судьба решила иначе - воскресить нашего старика с Леонидом Давыдовичем Луковым не успели...
Заключая эту книгу последней встречей с Л. Луковым, я как бы забежал вперед и таким образом оборвал мое повествование, хронологически доведя его лишь до порога Малого театра.
Ну что ж, так бывает! Жизнь сложна, а наши планы порой нарушаются. Вспомнив добрые дела чудесного художника, я постараюсь впоследствии продолжить нить воспоминаний и рассказать о Малом театре и о кино во время Великой Отечественной войны и в мирные, послевоенные годы.
Оглавление
Жизнь, театр, кино
О авторе
Часть первая. Театр
Малиновый цвет
Снежная баба
Акула
"Золотое сердечко Венеры"
В театре Зимина
Первая роль в кино
Ф. И. Шаляпин
Мои пути-дороженьки
Экзамены
Закат зиминского театра
Народный милиционер № 10
Первое путешествие по России
Первая студия
Легкий жанр
Г ляжу революцию
Жизнь продолжается
На революционном перевале
Новые веяния в старом театре
В студии ХПСРО
Урок Вс. Э. Мейерхольда
Урок Ф. Ф. Комиссаржевского
Полконя за царство
Выхожу на сцену
Во фронтовом театре
В Москве, у Рогожской затавы
”Не рыдай!”
Неистовый экспериментатор
Мастер и подмастерья
Играю Брандахлыстову
”Д. Е.” и т. п.
В Бакинском рабочем...
Поединок
Васька-Окорок, и как он стал "моим”
Еще один сезон в провинции
Трудный год в реалистическом театре
Я и Фельдкурат Кац
Снова в Баку
Снова в Москве, но куда?
А. Я. Таиров
В театр приходит Всеволод Вишневский
Таиров ставит "Оптимистическую”
Расставание
Часть вторая. Кино У порога малого театра
Популярность и труд
"Межрабпом-фильм"
Яков Протазанов и другие
"Шахматная горячка"
Владимир Фогель
Мэри Пикфорд
"Дорога к счастью"
Первые огорчения
Мысли в вразброд...
Нужно ли в кино перевоплощение?
Декорации и натура
Золотая середина
Творчество и дружба
Я продолжаю делать открытия
"Аня"
’’Путевка в жизнь”
”Для чего я на свете родился?”
Мустафа
”Да ты пьян?”
’’Своих не узнаешь!”
Курьезы профессии
В. М. Петров "Гроза”
Кабаниха и Феклуша
М. Тарханов и М. Царев
”Три товарища”
’’Каховка”
"Ленфильм"
А. Н. Толстой
Проба на роль Меншикова
Хождение по мукам
Писатель и хирург
’’Рыжий дьявол!”
"Взятие крепости"
Сын полка
1 олстои и мушкетеры
Ночь в летнем дворце
"Жалование получаешь, - терпи!"
Опять специфика кино
Борис Корнилов
Последняя встреча с А. Н. Толстым
”Дымба - король бильярда”
Андрей Москвин
Григорий Козинцев
Леонид Трауберг
Жаль, очень жаль!
"Цыпленок жареный"
"Дусенька" - Н. М. Ужвий
А. Хейфиц и А. Зархи
Александр Корнейчук
"Истинно христианская душа"
Дьяк Г аврила
”У вас живет академик”
Игорь Савченко
"Хороша Тарань!.."
”Г орящие быки”
Власть образа
Братья Васильевы
Казак Перчихин
Война
Эвакуация
Лукавов и ”Васса Железнова”






 Меня разбудили какие-то люди, которые показывали на меня городовому и говорили, что этот мальчик, наверное, заблудился.
Городовой спросил:
- Сколько тебе лет?
- Четыре-пять!
- А где твоя мать?
- Там!
- А как ты сюда пришел?
- Ногами!
- А где живешь?
- Там... Только я хочу есть, - сказал и заплакал.
Все замолчали. Они большие, а не знали, что я хочу баранку.
Тогда один господин в очень высокой шляпе сказал:
- Это Миша! Я его знаю. Пойдем!
Но все закричали:
- Не отдавайте, а спросите у Миши, знает ли он его.
- Миша, ты знаешь дядю? - спросил городовой.
Я сказал:
- Да, я знаю дядю! - дал ему руку, и мы пошли.
Дома мама, она была почему-то вся в слезах, схватила меня и долго целовала и шлепала:
- Горе мое, где же ты был? - И опять целовала и опять шлепала.
Но все очень радостно улыбались:
Меня разбудили какие-то люди, которые показывали на меня городовому и говорили, что этот мальчик, наверное, заблудился.
Городовой спросил:
- Сколько тебе лет?
- Четыре-пять!
- А где твоя мать?
- Там!
- А как ты сюда пришел?
- Ногами!
- А где живешь?
- Там... Только я хочу есть, - сказал и заплакал.
Все замолчали. Они большие, а не знали, что я хочу баранку.
Тогда один господин в очень высокой шляпе сказал:
- Это Миша! Я его знаю. Пойдем!
Но все закричали:
- Не отдавайте, а спросите у Миши, знает ли он его.
- Миша, ты знаешь дядю? - спросил городовой.
Я сказал:
- Да, я знаю дядю! - дал ему руку, и мы пошли.
Дома мама, она была почему-то вся в слезах, схватила меня и долго целовала и шлепала:
- Горе мое, где же ты был? - И опять целовала и опять шлепала.
Но все очень радостно улыбались:


 Ф. И. Шаляпин. На концерте в Большом театре вышел могучий красивый человек и запел: 'Эх, дубинушка, ухнем!' Шарж И.
Малютина
Для эпизода, когда пугачевцы нападают на крепость, требовалось много статистов.
Декорация на сцене изображала крепость. На заднем плане -частокол. В крепости - солдаты, а из-за частокола нападают пугачевцы.
Ф. И. Шаляпин. На концерте в Большом театре вышел могучий красивый человек и запел: 'Эх, дубинушка, ухнем!' Шарж И.
Малютина
Для эпизода, когда пугачевцы нападают на крепость, требовалось много статистов.
Декорация на сцене изображала крепость. На заднем плане -частокол. В крепости - солдаты, а из-за частокола нападают пугачевцы.




 Я смотрел знаменитый спектакль 'Потоп' не менее двенадцати раз, потому что в нем играли роль Фрезера поочередно два выдающихся актера: Михаил Чехов и Евгений Вахтангов
Я быстро входил в дверь, над которой висела маленькая "дежурная" лампочка, открывал одну дверь, другую, проходил один тамбур, другой чуть побольше, снова нажимал на дверь... Вся эта сложная система дверей, которая у непосвященного могла вызвать удивление, была нужна для того, чтобы разгоряченный артист не попадал зимой сразу на холод и не простужался. (Неплохо было бы и сейчас предусмотреть это при строительстве новых театров.)
Наконец вы попадали в маленькую прихожую - раздевалку, где сидели двое: швейцар и дядя Герасим - наш театральный курьер. Одноглазый дядя Герасим всегда сидел у широкого окна с книгой, в которой приходившие на спектакль артисты должны были расписаться. Швейцар же помогал раздеваться господам артистам.
Длина прихожей была всего шесть - восемь шагов, и незаметно проскочить через нее за кулисы под перекрестными взглядами дяди Герасима и швейцара было просто невозможно.
Я смотрел знаменитый спектакль 'Потоп' не менее двенадцати раз, потому что в нем играли роль Фрезера поочередно два выдающихся актера: Михаил Чехов и Евгений Вахтангов
Я быстро входил в дверь, над которой висела маленькая "дежурная" лампочка, открывал одну дверь, другую, проходил один тамбур, другой чуть побольше, снова нажимал на дверь... Вся эта сложная система дверей, которая у непосвященного могла вызвать удивление, была нужна для того, чтобы разгоряченный артист не попадал зимой сразу на холод и не простужался. (Неплохо было бы и сейчас предусмотреть это при строительстве новых театров.)
Наконец вы попадали в маленькую прихожую - раздевалку, где сидели двое: швейцар и дядя Герасим - наш театральный курьер. Одноглазый дядя Герасим всегда сидел у широкого окна с книгой, в которой приходившие на спектакль артисты должны были расписаться. Швейцар же помогал раздеваться господам артистам.
Длина прихожей была всего шесть - восемь шагов, и незаметно проскочить через нее за кулисы под перекрестными взглядами дяди Герасима и швейцара было просто невозможно.


 Опера Зимина. Мне была поручена вся реклама гастролей Ф. И. Шаляпина у Зимина, и я видел его на всех репетициях и слушал во всех партиях. Сцена из забытой теперь оперы А. Канкаровича 'Сын земли' в постановке Ф. Ф. Комиссаржевского
Там всегда было невероятно тесно, набивалось в этот зал по сто и более человек. Тот, кто не мог войти, стоял на лестнице. Когда подавалась команда: "Статисты, на выход!", наша ватага устремлялась вниз. В двух комнатах рядом находились "избранные" - старосты-десятники и статисты "премьеры", к которым так же трудно было попасть, как и в уборные солистов. Эти комнаты удивительно были похожи на "матрешек" - одна меньше другой, и чем меньше была комната, тем важнее персона из статистов пребывала там.
Опера Зимина. Мне была поручена вся реклама гастролей Ф. И. Шаляпина у Зимина, и я видел его на всех репетициях и слушал во всех партиях. Сцена из забытой теперь оперы А. Канкаровича 'Сын земли' в постановке Ф. Ф. Комиссаржевского
Там всегда было невероятно тесно, набивалось в этот зал по сто и более человек. Тот, кто не мог войти, стоял на лестнице. Когда подавалась команда: "Статисты, на выход!", наша ватага устремлялась вниз. В двух комнатах рядом находились "избранные" - старосты-десятники и статисты "премьеры", к которым так же трудно было попасть, как и в уборные солистов. Эти комнаты удивительно были похожи на "матрешек" - одна меньше другой, и чем меньше была комната, тем важнее персона из статистов пребывала там.




 Блестящим исполнителем роли Мельника был В. Люминарский (несправедливо забытый). Он же режиссер чеховской 'Канители', с которой я выступил на экзамене в студию Ф.
Комиссаржевского
Мефистофель - Шаляпин корчился в муках, пытаясь увернуться от крестного знамени. Момент был незабываемый! Устремив глаза в мою сторону, то пригибаясь, то вытягиваясь во весь свой могучий рост, великий артист передавал мимикой все оттенки своей ненависти к кресту, которым его осеняли. Все замерли. Наконец Мефистофель, пятясь, скрылся за кулисы. Снова раздался гром аплодисментов, зрительный зал неистовствовал. Я снова ору от восторга, сам не помня себя... И вдруг чья-то энергичная рука решительно стаскивает меня за ногу с лестницы. Разъяренный помреж Кудрин, весь красный от гнева, кричит, чтобы я убирался на все четыре стороны.
- Ты что же, черт кудлатый, Федор Иванович играет, а ты ему рожи строишь?!
- Боже мой, что вы говорите! Какие рожи? Когда!
Блестящим исполнителем роли Мельника был В. Люминарский (несправедливо забытый). Он же режиссер чеховской 'Канители', с которой я выступил на экзамене в студию Ф.
Комиссаржевского
Мефистофель - Шаляпин корчился в муках, пытаясь увернуться от крестного знамени. Момент был незабываемый! Устремив глаза в мою сторону, то пригибаясь, то вытягиваясь во весь свой могучий рост, великий артист передавал мимикой все оттенки своей ненависти к кресту, которым его осеняли. Все замерли. Наконец Мефистофель, пятясь, скрылся за кулисы. Снова раздался гром аплодисментов, зрительный зал неистовствовал. Я снова ору от восторга, сам не помня себя... И вдруг чья-то энергичная рука решительно стаскивает меня за ногу с лестницы. Разъяренный помреж Кудрин, весь красный от гнева, кричит, чтобы я убирался на все четыре стороны.
- Ты что же, черт кудлатый, Федор Иванович играет, а ты ему рожи строишь?!
- Боже мой, что вы говорите! Какие рожи? Когда!


 На утреннике у Зимина в 'Капитанской дочке', одетый в костюм пугачевца, я впервые очутился на сцене театра. Высунув голову из-за частокола, я получил увесистый удар ружьем
Среднего роста, изящный, нервный, подвижный,
самолюбивый, как всякий баловень судьбы, Юдин
приготовился к репетиции и стоял на сцене в костюме, поверх которого опоясался ремнем со шпагой. Шаляпин опаздывал. Десять минут, пятнадцать минут - Шаляпина нет. Все нервничают, злятся, говорят, что это хамство, что так вести себя нельзя. Проходит полчаса, и Юдин объявляет, что уходит с репетиции...
В эту минуту знаменитая маленькая дверь открывается, и Федор Иванович, согнувшись, как был с улицы, в поддевке с красным шарфом вокруг шеи, засунутым за борт пиджака, в шапке пирожком и в ботах, вваливается на сцену и еще в дверях гудит:
- Извините, голубчики, опоздал... опоздал... Давайте начинать...
И говорит именно "голубчики", а не "господа".
На утреннике у Зимина в 'Капитанской дочке', одетый в костюм пугачевца, я впервые очутился на сцене театра. Высунув голову из-за частокола, я получил увесистый удар ружьем
Среднего роста, изящный, нервный, подвижный,
самолюбивый, как всякий баловень судьбы, Юдин
приготовился к репетиции и стоял на сцене в костюме, поверх которого опоясался ремнем со шпагой. Шаляпин опаздывал. Десять минут, пятнадцать минут - Шаляпина нет. Все нервничают, злятся, говорят, что это хамство, что так вести себя нельзя. Проходит полчаса, и Юдин объявляет, что уходит с репетиции...
В эту минуту знаменитая маленькая дверь открывается, и Федор Иванович, согнувшись, как был с улицы, в поддевке с красным шарфом вокруг шеи, засунутым за борт пиджака, в шапке пирожком и в ботах, вваливается на сцену и еще в дверях гудит:
- Извините, голубчики, опоздал... опоздал... Давайте начинать...
И говорит именно "голубчики", а не "господа".



 Валентин Серов, автор эскиза грима и костюма Олоферна, на первом спектакле оперы 'Юдифь' сам гримировал руки Шаляпина, чтобы сделать их 'мощными и властными'. Проходя в марше, я видел Шаляпина - Олоферна стоящим у входа в шатер
Пауза. Все остановились.
Шаляпин говорит, обращаясь к Плотникову:
- Евгений Евгеньевич, есть еще артист какой-нибудь?
Тот отвечает:
- Я думаю, что вернется Сергей Петрович.
- Не надо, чтобы он возвращался. Вызовите другого артиста.
Сделали перерыв. Приехал Немов-Немчинский в военной форме, он был призван в армию, но изредка пел и провел все гастроли с Шаляпиным, исполняя партию Фауста. Юдин больше уже никогда не встречался с Шаляпиным. А жаль, что так получилось!
Я продолжал наблюдать за репетицией. Больше всего меня удивило, что ссора с Юдиным, казалось, абсолютно не взволновала Шаляпина. В этот день он вообще был в особом ударе. А может быть, так с ним бывало всегда, когда он злился?
Слушать его рокочущий голос, звучащий даже вполсилы, было наслаждением.
Вот он дошел до музыкальной фразы: "Сатана там правит ба-а-л", и остановился. Подойдя к авансцене, Шаляпин заговорил с Плотниковым, настойчиво убеждая его:
Евгений Евгеньевич, дорогой, вы тут паузы не держите. А композитор пишет не только ноты, звуки, он еще пишет и паузы. Это тоже музыка, это нужно знать, мой милый, - и Шаляпин напевает это место, как он его понимает.
И красавец, гроза всех солистов, Плотников, положив палочку на пюпитр, сложив руки на груди, внимательно, как школьник, слушал, что ему говорит Шаляпин. И он не качал головой: "нет", и не выражал скепсиса. Его лицо было непроницаемым.
- А потом, голубчик, пожалуйста, - обратился Шаляпин к ударнику в оркестре, - после слова "ба-а-л" ударьте в тарелки: "дзинь" - как будто золото рассыпалось!
И сам, взяв тарелки, показал ударнику, как это сделать.
Шаляпин повторил арию, тарелки сработали, и это было великолепно, это было потрясающе, и все присутствовавшие поняли, как был прав Шаляпин, и не могли не простить ему излишние резкости.
Вот так из темноты своей ложи я наблюдал за репетициями Ф. И. Шаляпина. А потом, наскоро пообедав, снова бежал в театр, где видел Шаляпина уже на сцене, перед зрителем, в полной красе и мощи его огромного таланта и редчайшего сценического темперамента.
Особенно я дорожил спектаклем "Борис Годунов", в котором сам, уже признанный статист, в костюме стражника сдерживал толпу хористов в знаменитой сцене у Спасских ворот. Я стоял спиной к зрительному залу, перед самым помостом, на который вступал царь Борис - Шаляпин, когда пел знаменитую арию "Скорбит душа, какой-то страх невольный...".
Когда он запел, все замерли, на сцене и в зале воцарилась мертвая тишина, а Шаляпин вдохновенно, с закрытыми глазами, сделал несколько шагов в мою сторону и остановился надо мной. Я смотрел на него снизу вверх, пока он пел: "О, праведник, о, мой отец державный...".
И тут я в первый и последний раз в жизни увидел горло великого артиста в процессе пения, увидел его гортань и маленький язычок, который трепетал там, внутри, как пойманная птичка. Шаляпин делал еле заметные движения губами и мускулами лица, как бы расставляя резонаторы, и эти движения и клокотанье язычка придавали голосу обворожительный тембр. Я как бы видел звук, льющийся из его гортани, потому что видел механизм, его создающий. Голос Шаляпина был объемным, казалось, можно было его потрогать, и слово будто ввинчивалось. И как бы ни пел Шаляпин - в полную силу, шепотом или речитативом, - он вас покорял своей выразительностью на всю жизнь.
В перерывах между большими спектаклями, в которых Федор Иванович пел ведущие партии, он давал себе отдых и выступал в сборных спектаклях, исполняя более легкие роли. Но и в них он отдавался сцене целиком. Был спектакль, когда шли "Моцарт и Сальери" и сцена в корчме из "Бориса Годунова", в которой Шаляпин играл Варлаама. Что это был за Варлаам - невозможно передать! Я три раза видел его в этой сцене, и все три раза был наверху блаженства. Сцена в корчме разыгрывалась в закрытом павильоне. Спектакль начинался в семь часов, но уже к шести все дырки в декорациях были забронированы актерской братией. Никто не желал пропускать шаляпинского Варлаама.
...Недавно мне пришлось видеть и слышать по телевидению сцену в корчме в исполнении артистов одного из периферийных театров, театра очень почтенного, пользующегося большой любовью советских зрителей. Я смотрел и думал, как в общем и целом вырос наш оперный артист, понимающий, что в опере нужно не только петь, но и играть. И действительно, сцена в корчме была сделана по-новому, вопреки существовавшим традициям. И все же какое-то щемящее чувство неудовлетворенности я испытывал, глядя на игру актеров. Боязнь выйти из образа, какая-то внутренняя робость, отсутствие артистизма лишали их образы масштабности и размаха пушкинской лиры и музыки Мусоргского. Возможно, в этом моем ощущении сыграло роль то обстоятельство, что я как зритель был на всю жизнь "испорчен" для восприятия другого Варлаама, кроме шаляпинского.
Не знаю, плохо это или хорошо. Во всяком случае, соприкосновение с подлинным искусством всегда прекрасно, даже если вы не можете после этого смотреть ничего другого. Я старался пересилить себя, глядя в телевизор на старательную игру современного Варлаама, барахтавшегося в плену "малых правд". Но у меня в тот вечер было испорчено настроение, потому что я все время вспоминал Федора Ивановича и жалел, что его школа, его традиция не учтены молодым советским актером...
Что же поражало в Шаляпине, когда он с таким блеском и виртуозностью исполнял партию Варлаама? В нем виделся прежде всего художник огромного масштаба, бескрайнего дарования, неуемной фантазии и темперамента.
Каждый раз вы ждали от Шаляпина не только эстетического наслаждения, но и раскрытия психологического, внутреннего состояния оперного героя, с новой, неожиданной для вас стороны. Идти в оперу и получить, кроме музыкальных впечатлений, то, что может дать только драма, - уже великая вещь!
Шаляпин - Варлаам был колоритнейшей фигурой. Он был очень высок ростом, толст, очень толст, у него была голова дулей, которая суживалась к темени, - череп напоминал дыню. Это был обжора, бражник, весельчак, забулдыга, трутень. Он хватал в жизни все, что плохо лежало. Вы видели сразу по его хитрому прищуру, на что он зарится и к чему безразличен. Когда Шаляпин доходил до места: "Как во городе было, во Казани", когда в одной руке он зажимал штоф, а в другой что-то вроде соленого огурца, точно не помню, то это была не вставная ария, которую композитор написал оперному артисту. О, нет! Обычно артист, играющий Варлаама, проговаривает и походя проигрывает положенный текст до этой арии, зная, что основное в этой маленькой эпизодической роли - "Как во городе было, во Казани". Такие актеры не знают, что Варлааму делать до этой арии и после нее.
Когда же вы слушали Шаляпина, вам было ясно, почему он с таким подъемом поет эту песню. Его, плотоядного и жизнелюбивого монаха-растригу, усталого и голодного с дороги, многообещающая корчмарка угостила вином. Оно его возбудило, и вся его плоть, до сих пор дремавшая от голода и стужи, вдруг задрожала, воскресла, и он запел обуреваемый пробудившимися страстями...
Рассказать, как пел Федор Иванович, невозможно. Знаю только, что пел он необыкновенно. Начинал тихим рокочущим голосом: "Как во городе было, во Казани", как будто хотел открыть нам тайну, которая произошла в городе Казани. И когда доходил он до "бочки с порохом", которая "закружилася", он так комично и легко вертелся на одной ноге, а после слов "и в окопы покатилася, да и трахнула", с такой силой ударял ногой по воображаемой бочке, что, казалось, и впрямь видишь, как она, грохоча, "закружилася и покатилася". Тут раздавалась буря аплодисментов, и последнее "трахнула" уже тонуло в прибое рукоплесканий.
Видел я Шаляпина и в роли Олоферна из оперы "Юдифь" царственно возлежавшим на ложе с чашей в руке.
И мы понимаем А. Я. Головина, который не мог пропустить эту живописную позу артиста и создал картину на эту тему, дающую точное представление об Олоферне Шаляпина, -жестоком тиране, страшном человеке, застывшем, как мраморное изваяние. Одним скупым движением кисти руки Шаляпин мог передать весь его характер.
А на следующий день, вернее - через день, так как гастрольные спектакли шли три раза в неделю, Шаляпин уже был русским до мозга костей, разухабистым, яростным и отчаявшимся Еремкой во "Вражьей силе". Кто помнит эту оперу, тот знает, что Еремка поет вместе с хором "Широкая масленица, ты с чем пришла...". И кончается эта сцена наивысшим форте хора, которое Еремка должен покрыть своим голосом.
Что же делал Шаляпин? Когда наступало форте, он поворачивался спиной к публике и лицом к хору и, не выходя из образа, дирижировал кулаками, как бы делая знак хору: "А ну-ка, поддай! Пусть знают наших!". И хор действительно давал жару, да такого, что своды театра, казалось, вот-вот лопнут. В тот момент, когда хор доходил до кульминации, Шаляпин вдруг поворачивался лицом к зрителям, хор сразу переходил на пиано, а Федор Иванович брал высочайшее форте.
Невозможно передать, что делалось в этот момент в театре! Шаляпин показывал здесь не столько силу своего голоса, нет, он был здесь виртуозом техники пения, умнейшим и талантливейшим мастером. С легкостью гения он преодолевал главную трудность оперного исполнения - пресловутое форте хора и оркестра, которое обычно заглушает певца. И более того, силой своего дарования, актерской интуицией Шаляпин доказывал на практике, что форте в искусстве вообще и в оперном в частности - не крик, не надрыв, а самая высокая степень эмоционального выражения.
Мы часто говорим: "колоссальный успех", "потрясающий", "необыкновенный". Но какие бы слова мы ни подобрали, они не передадут и сотой части того настоящего успеха, который выпадал почти каждый раз на долю Шаляпина. Двадцать раз актер выходил в гриме на аплодисменты зала. Что это, колоссально? Да, но еще не все. Затем раз десять выходил в костюме, уже после того как успел снять грим и парик. Зал продолжал греметь овацией. Затем Шаляпин выходил в халате и раскланивался семь - восемь раз. Потом снова уходил в свою уборную.
- Спа-си-бо! Спа-си-бо! Ша-ля-пин! - продолжал скандировать зал. И он - властелин чувств человеческих -показывался уже в вечернем костюме, в котором он ехал ужинать в ресторан, ибо он обязательно после каждого спектакля уезжал в ресторан ужинать. Казалось бы, все, но публика не унималась, требуя снова и снова выхода своего любимца на сцену. Между выходами аплодировали по очереди, группами - то здесь, то там, а когда появлялся артист, по залу проносился вихрь. Так еще пять - семь раз. Наконец Шаляпин появлялся на сцене в своей знаменитой поддевке, с закрученным вокруг шеи красным шарфом, в ботищах и перчатках. Он шел к рампе, низко кланялся и говорил:
- Благодарю, братцы! Благодарю!
Все входы в театр были заняты пикетчиками. Студенты-добровольцы сдерживали толпу, а когда подавали шаляпинскую карету, то распрягали лошадей и везли ее сами. Часто Шаляпина выпускали черным ходом.
Вот это и есть подлинный успех, который сопутствует не модной знаменитости, не звезде экрана, а подлинному таланту, умноженному трудом, отданному народу. Такой талант приносит славу!
Довелось мне быть и на одном из последних выступлений Ф. И. Шаляпина уже в советское время. Это был грандиозный концерт в Большом театре, после окончания какой-то конференции или съезда, на котором присутствовали Ленин и делегаты съезда Советов.
Я сидел в пятом или шестом ряду партера, так как был одним из технических организаторов этого концерта.
Шаляпин пел Бориса Годунова с огромным подъемом, проникновенно, с особым настроением. Ради правды, нужно сказать, что из двадцати - тридцати спектаклей, в которых я слышал Федора Ивановича, я могу вспомнить максимум десять, когда чувствовалось, что он был в ударе и сам получал огромное художественное наслаждение от своего щедрого таланта. Это были минуты необыкновенного вдохновения, когда актер раскрывал свое дарование полностью, не щадя сил, не сдерживая темперамента. Вообще же Шаляпин старался не очень расходовать себя и пел не в полный голос. Он берег себя, не в пример такому актеру, как драматический тенор В. П. Дамаев, которому сулили мировую славу, но который не достиг ее, ибо не щадил себя, был неумен, расточителен и вскоре "пропел" свой голос.
На концерте, о котором я рассказываю, Шаляпин полностью отдавал себя зрителям. Несмотря на то, что это был официальный, правительственный концерт, по особым приглашениям, зрительный зал был переполнен. Не было свободного места и за кулисами. На колосниках Большого театра, по которым ходят рабочие, чтобы опускать или поднимать декорации, на этих мостках, невидимых зрителям, сидели и даже лежали люди, слушая певца сверху и видя лишь его темя. И вот, когда Федор Иванович пел знаменитое ариозо "И мальчики кровавые в глазах", кто-то с колосников уронил программку.
Большого формата, из меловой бумаги, она как-то лениво и тяжело падала, медленно опускаясь через всю высоту сцены Большого театра. Зрительный зал замер. Все знали характер Шаляпина. Этот человек был непримиримым в творчестве, и не дай бог, чтобы злосчастная программка опустилась у него перед носом во время исполнения монолога Бориса. Шаляпину ничего не стоило прервать пение и уйти со сцены.
Секунды, пока программка, медленно качаясь в воздухе, снижалась, зрительный зал сидел, не шелохнувшись. А когда она упала сзади распростертого на полу Бориса, зал облегченно вздохнул. Шаляпин ничего не заметил! Казалось, прошла целая вечность, а не полминуты...
И еще одно, последнее воспоминание, связанное с Ф. И. Шаляпиным. Оно особенно врезалось в мою память, ибо касалось частной жизни Шаляпина. Я расскажу о редчайшем случае, свидетелем которого я оказался не из праздного любопытства к "приключениям великих личностей". Нет, это меня совершенно не интересует. Мне запомнилась эта история тем, как в ней отразился Шаляпин-художник.
У нас была чудесная юношеская компания: мой друг Ваня Юров, Лидочка - дочка помрежа, Саша - артистка зиминского кордебалета и я. Саша была чудесным товарищем и обворожительной девушкой. Обаятельна она была необыкновенно, пухленькая, с симпатичными ямочками на щеках, голубыми веселыми близорукими глазками и смешно вздернутым носиком. Она была остроумна и не робкого десятка.
Федор Иванович имел обыкновение разговаривать с ней за кулисами, дожидаясь своего выхода. Однажды он ее спросил:
- Сашенька, что вы делаете сегодня вечером?
- А что бы вы хотели, чтобы я делала? - кокетливо улыбнулась она.
- Не хотите ли поехать с нами?
- Куда же вы собираетесь ехать?
- Ужинать в ресторан Оливье. Там будет много народа, я вас приглашаю в нашу компанию.
Саша с минуту поколебалась:
- Нет, я не могу, потому что сговорилась со своим другом идти гулять, и без него не пойду.
- А кто ваш друг?
- Миша. Вы его не знаете.
- Пожалуйста, пусть едет и Миша.
После долгих препирательств Саша уговорила меня туда пойти. Я в ресторан пошел, но был там недолго, потому что не хотел огорчать мать поздним приходом домой. Если я говорил, что приду тогда-то, то мог опоздать не более чем на пятнадцать - двадцать минут, иначе мать волновалась и не могла заснуть.
Саша посоветовала:
- Скажешь, что был длинный спектакль и ты меня провожал домой. Подумай, такой случай!..
В общем она меня уговорила, и я пошел.
В ресторане были и Зимин, и Маторин, и еще много оперных, а из драматических актеров я узнал только Качалова и Москвина.
Сидели в банкетном зале ресторана "Эрмитаж" (что был на Трубной площади). Я очень стеснялся и пристроился где-то на уголке длинного стола. И вот из общего зала, где играл струнный квартет, раздалось пение. Какой-то эстрадный певец исполнял романс "Глядя на луч пурпурного заката...".
Шаляпин сказал:
- Господа, прошу одну минуточку, - и стал слушать своего коллегу по искусству.
Все притихли. Я немного опьянел, мне дали бокал вина, а я никогда не пил. Вдруг вижу, как Шаляпин встает, направляется в общий зал. Он подходит к оркестру и говорит:
- Маэстро, одну минуточку, проаккомпанируйте мне этот романс.
И запел. Боже мой, что это было!
И тут я увидел Шаляпина беспощадного, непримиримого к любой фальши в искусстве, не терпящего халтуры. Он физически не мог себе позволить пройти мимо несовершенного в искусстве. Вот почему, когда запел певец-ремесленник, без души, Шаляпин не мог не исполнить этот романс - он не мог не вернуть музыке ее суть, ее содержание, ее красоту.
И это было прекрасно.
Значительно позднее я снимался в картине Протазанова "Белый орел", исполняя роль адъютанта губернатора, которого играл В. И. Качалов. Однажды в перерыве я начал рассказывать ему об этом памятном для меня вечере. Василий Иванович как-то сразу потеплел взглядом и, перебив меня, закончил мой рассказ словами: "И спел он "Глядя на луч пурпурного заката...". Этот эпизод, видимо, так прочно запечатлелся и в его памяти, что Качалов тут же, вспоминая Шаляпина, подражая его тембру голоса, по-шаляпински артистично, незабываемо спел целиком этот романс, удивительно передавая все нюансы шаляпинской манеры пения.
Возвращаясь к тому концерту, на котором присутствовал В. И. Ленин, добавлю, что, несмотря на то, что Шаляпин спел целиком оперу "Борис Годунов", он после перерыва вышел во фраке, какой-то особенно красивый и могучий, и по собственному желанию выступил еще и в концерте. Он исполнил "Дубинушку".
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет,
- пел Шаляпин. И ему подпевал зрительный зал, ему подпевали делегаты съезда. Они пели сосредоточенно и громко. Пели и те, кто никогда не пел. Пели все! Я посмотрел на Ленина, и мне казалось, что он тоже пел.
Валентин Серов, автор эскиза грима и костюма Олоферна, на первом спектакле оперы 'Юдифь' сам гримировал руки Шаляпина, чтобы сделать их 'мощными и властными'. Проходя в марше, я видел Шаляпина - Олоферна стоящим у входа в шатер
Пауза. Все остановились.
Шаляпин говорит, обращаясь к Плотникову:
- Евгений Евгеньевич, есть еще артист какой-нибудь?
Тот отвечает:
- Я думаю, что вернется Сергей Петрович.
- Не надо, чтобы он возвращался. Вызовите другого артиста.
Сделали перерыв. Приехал Немов-Немчинский в военной форме, он был призван в армию, но изредка пел и провел все гастроли с Шаляпиным, исполняя партию Фауста. Юдин больше уже никогда не встречался с Шаляпиным. А жаль, что так получилось!
Я продолжал наблюдать за репетицией. Больше всего меня удивило, что ссора с Юдиным, казалось, абсолютно не взволновала Шаляпина. В этот день он вообще был в особом ударе. А может быть, так с ним бывало всегда, когда он злился?
Слушать его рокочущий голос, звучащий даже вполсилы, было наслаждением.
Вот он дошел до музыкальной фразы: "Сатана там правит ба-а-л", и остановился. Подойдя к авансцене, Шаляпин заговорил с Плотниковым, настойчиво убеждая его:
Евгений Евгеньевич, дорогой, вы тут паузы не держите. А композитор пишет не только ноты, звуки, он еще пишет и паузы. Это тоже музыка, это нужно знать, мой милый, - и Шаляпин напевает это место, как он его понимает.
И красавец, гроза всех солистов, Плотников, положив палочку на пюпитр, сложив руки на груди, внимательно, как школьник, слушал, что ему говорит Шаляпин. И он не качал головой: "нет", и не выражал скепсиса. Его лицо было непроницаемым.
- А потом, голубчик, пожалуйста, - обратился Шаляпин к ударнику в оркестре, - после слова "ба-а-л" ударьте в тарелки: "дзинь" - как будто золото рассыпалось!
И сам, взяв тарелки, показал ударнику, как это сделать.
Шаляпин повторил арию, тарелки сработали, и это было великолепно, это было потрясающе, и все присутствовавшие поняли, как был прав Шаляпин, и не могли не простить ему излишние резкости.
Вот так из темноты своей ложи я наблюдал за репетициями Ф. И. Шаляпина. А потом, наскоро пообедав, снова бежал в театр, где видел Шаляпина уже на сцене, перед зрителем, в полной красе и мощи его огромного таланта и редчайшего сценического темперамента.
Особенно я дорожил спектаклем "Борис Годунов", в котором сам, уже признанный статист, в костюме стражника сдерживал толпу хористов в знаменитой сцене у Спасских ворот. Я стоял спиной к зрительному залу, перед самым помостом, на который вступал царь Борис - Шаляпин, когда пел знаменитую арию "Скорбит душа, какой-то страх невольный...".
Когда он запел, все замерли, на сцене и в зале воцарилась мертвая тишина, а Шаляпин вдохновенно, с закрытыми глазами, сделал несколько шагов в мою сторону и остановился надо мной. Я смотрел на него снизу вверх, пока он пел: "О, праведник, о, мой отец державный...".
И тут я в первый и последний раз в жизни увидел горло великого артиста в процессе пения, увидел его гортань и маленький язычок, который трепетал там, внутри, как пойманная птичка. Шаляпин делал еле заметные движения губами и мускулами лица, как бы расставляя резонаторы, и эти движения и клокотанье язычка придавали голосу обворожительный тембр. Я как бы видел звук, льющийся из его гортани, потому что видел механизм, его создающий. Голос Шаляпина был объемным, казалось, можно было его потрогать, и слово будто ввинчивалось. И как бы ни пел Шаляпин - в полную силу, шепотом или речитативом, - он вас покорял своей выразительностью на всю жизнь.
В перерывах между большими спектаклями, в которых Федор Иванович пел ведущие партии, он давал себе отдых и выступал в сборных спектаклях, исполняя более легкие роли. Но и в них он отдавался сцене целиком. Был спектакль, когда шли "Моцарт и Сальери" и сцена в корчме из "Бориса Годунова", в которой Шаляпин играл Варлаама. Что это был за Варлаам - невозможно передать! Я три раза видел его в этой сцене, и все три раза был наверху блаженства. Сцена в корчме разыгрывалась в закрытом павильоне. Спектакль начинался в семь часов, но уже к шести все дырки в декорациях были забронированы актерской братией. Никто не желал пропускать шаляпинского Варлаама.
...Недавно мне пришлось видеть и слышать по телевидению сцену в корчме в исполнении артистов одного из периферийных театров, театра очень почтенного, пользующегося большой любовью советских зрителей. Я смотрел и думал, как в общем и целом вырос наш оперный артист, понимающий, что в опере нужно не только петь, но и играть. И действительно, сцена в корчме была сделана по-новому, вопреки существовавшим традициям. И все же какое-то щемящее чувство неудовлетворенности я испытывал, глядя на игру актеров. Боязнь выйти из образа, какая-то внутренняя робость, отсутствие артистизма лишали их образы масштабности и размаха пушкинской лиры и музыки Мусоргского. Возможно, в этом моем ощущении сыграло роль то обстоятельство, что я как зритель был на всю жизнь "испорчен" для восприятия другого Варлаама, кроме шаляпинского.
Не знаю, плохо это или хорошо. Во всяком случае, соприкосновение с подлинным искусством всегда прекрасно, даже если вы не можете после этого смотреть ничего другого. Я старался пересилить себя, глядя в телевизор на старательную игру современного Варлаама, барахтавшегося в плену "малых правд". Но у меня в тот вечер было испорчено настроение, потому что я все время вспоминал Федора Ивановича и жалел, что его школа, его традиция не учтены молодым советским актером...
Что же поражало в Шаляпине, когда он с таким блеском и виртуозностью исполнял партию Варлаама? В нем виделся прежде всего художник огромного масштаба, бескрайнего дарования, неуемной фантазии и темперамента.
Каждый раз вы ждали от Шаляпина не только эстетического наслаждения, но и раскрытия психологического, внутреннего состояния оперного героя, с новой, неожиданной для вас стороны. Идти в оперу и получить, кроме музыкальных впечатлений, то, что может дать только драма, - уже великая вещь!
Шаляпин - Варлаам был колоритнейшей фигурой. Он был очень высок ростом, толст, очень толст, у него была голова дулей, которая суживалась к темени, - череп напоминал дыню. Это был обжора, бражник, весельчак, забулдыга, трутень. Он хватал в жизни все, что плохо лежало. Вы видели сразу по его хитрому прищуру, на что он зарится и к чему безразличен. Когда Шаляпин доходил до места: "Как во городе было, во Казани", когда в одной руке он зажимал штоф, а в другой что-то вроде соленого огурца, точно не помню, то это была не вставная ария, которую композитор написал оперному артисту. О, нет! Обычно артист, играющий Варлаама, проговаривает и походя проигрывает положенный текст до этой арии, зная, что основное в этой маленькой эпизодической роли - "Как во городе было, во Казани". Такие актеры не знают, что Варлааму делать до этой арии и после нее.
Когда же вы слушали Шаляпина, вам было ясно, почему он с таким подъемом поет эту песню. Его, плотоядного и жизнелюбивого монаха-растригу, усталого и голодного с дороги, многообещающая корчмарка угостила вином. Оно его возбудило, и вся его плоть, до сих пор дремавшая от голода и стужи, вдруг задрожала, воскресла, и он запел обуреваемый пробудившимися страстями...
Рассказать, как пел Федор Иванович, невозможно. Знаю только, что пел он необыкновенно. Начинал тихим рокочущим голосом: "Как во городе было, во Казани", как будто хотел открыть нам тайну, которая произошла в городе Казани. И когда доходил он до "бочки с порохом", которая "закружилася", он так комично и легко вертелся на одной ноге, а после слов "и в окопы покатилася, да и трахнула", с такой силой ударял ногой по воображаемой бочке, что, казалось, и впрямь видишь, как она, грохоча, "закружилася и покатилася". Тут раздавалась буря аплодисментов, и последнее "трахнула" уже тонуло в прибое рукоплесканий.
Видел я Шаляпина и в роли Олоферна из оперы "Юдифь" царственно возлежавшим на ложе с чашей в руке.
И мы понимаем А. Я. Головина, который не мог пропустить эту живописную позу артиста и создал картину на эту тему, дающую точное представление об Олоферне Шаляпина, -жестоком тиране, страшном человеке, застывшем, как мраморное изваяние. Одним скупым движением кисти руки Шаляпин мог передать весь его характер.
А на следующий день, вернее - через день, так как гастрольные спектакли шли три раза в неделю, Шаляпин уже был русским до мозга костей, разухабистым, яростным и отчаявшимся Еремкой во "Вражьей силе". Кто помнит эту оперу, тот знает, что Еремка поет вместе с хором "Широкая масленица, ты с чем пришла...". И кончается эта сцена наивысшим форте хора, которое Еремка должен покрыть своим голосом.
Что же делал Шаляпин? Когда наступало форте, он поворачивался спиной к публике и лицом к хору и, не выходя из образа, дирижировал кулаками, как бы делая знак хору: "А ну-ка, поддай! Пусть знают наших!". И хор действительно давал жару, да такого, что своды театра, казалось, вот-вот лопнут. В тот момент, когда хор доходил до кульминации, Шаляпин вдруг поворачивался лицом к зрителям, хор сразу переходил на пиано, а Федор Иванович брал высочайшее форте.
Невозможно передать, что делалось в этот момент в театре! Шаляпин показывал здесь не столько силу своего голоса, нет, он был здесь виртуозом техники пения, умнейшим и талантливейшим мастером. С легкостью гения он преодолевал главную трудность оперного исполнения - пресловутое форте хора и оркестра, которое обычно заглушает певца. И более того, силой своего дарования, актерской интуицией Шаляпин доказывал на практике, что форте в искусстве вообще и в оперном в частности - не крик, не надрыв, а самая высокая степень эмоционального выражения.
Мы часто говорим: "колоссальный успех", "потрясающий", "необыкновенный". Но какие бы слова мы ни подобрали, они не передадут и сотой части того настоящего успеха, который выпадал почти каждый раз на долю Шаляпина. Двадцать раз актер выходил в гриме на аплодисменты зала. Что это, колоссально? Да, но еще не все. Затем раз десять выходил в костюме, уже после того как успел снять грим и парик. Зал продолжал греметь овацией. Затем Шаляпин выходил в халате и раскланивался семь - восемь раз. Потом снова уходил в свою уборную.
- Спа-си-бо! Спа-си-бо! Ша-ля-пин! - продолжал скандировать зал. И он - властелин чувств человеческих -показывался уже в вечернем костюме, в котором он ехал ужинать в ресторан, ибо он обязательно после каждого спектакля уезжал в ресторан ужинать. Казалось бы, все, но публика не унималась, требуя снова и снова выхода своего любимца на сцену. Между выходами аплодировали по очереди, группами - то здесь, то там, а когда появлялся артист, по залу проносился вихрь. Так еще пять - семь раз. Наконец Шаляпин появлялся на сцене в своей знаменитой поддевке, с закрученным вокруг шеи красным шарфом, в ботищах и перчатках. Он шел к рампе, низко кланялся и говорил:
- Благодарю, братцы! Благодарю!
Все входы в театр были заняты пикетчиками. Студенты-добровольцы сдерживали толпу, а когда подавали шаляпинскую карету, то распрягали лошадей и везли ее сами. Часто Шаляпина выпускали черным ходом.
Вот это и есть подлинный успех, который сопутствует не модной знаменитости, не звезде экрана, а подлинному таланту, умноженному трудом, отданному народу. Такой талант приносит славу!
Довелось мне быть и на одном из последних выступлений Ф. И. Шаляпина уже в советское время. Это был грандиозный концерт в Большом театре, после окончания какой-то конференции или съезда, на котором присутствовали Ленин и делегаты съезда Советов.
Я сидел в пятом или шестом ряду партера, так как был одним из технических организаторов этого концерта.
Шаляпин пел Бориса Годунова с огромным подъемом, проникновенно, с особым настроением. Ради правды, нужно сказать, что из двадцати - тридцати спектаклей, в которых я слышал Федора Ивановича, я могу вспомнить максимум десять, когда чувствовалось, что он был в ударе и сам получал огромное художественное наслаждение от своего щедрого таланта. Это были минуты необыкновенного вдохновения, когда актер раскрывал свое дарование полностью, не щадя сил, не сдерживая темперамента. Вообще же Шаляпин старался не очень расходовать себя и пел не в полный голос. Он берег себя, не в пример такому актеру, как драматический тенор В. П. Дамаев, которому сулили мировую славу, но который не достиг ее, ибо не щадил себя, был неумен, расточителен и вскоре "пропел" свой голос.
На концерте, о котором я рассказываю, Шаляпин полностью отдавал себя зрителям. Несмотря на то, что это был официальный, правительственный концерт, по особым приглашениям, зрительный зал был переполнен. Не было свободного места и за кулисами. На колосниках Большого театра, по которым ходят рабочие, чтобы опускать или поднимать декорации, на этих мостках, невидимых зрителям, сидели и даже лежали люди, слушая певца сверху и видя лишь его темя. И вот, когда Федор Иванович пел знаменитое ариозо "И мальчики кровавые в глазах", кто-то с колосников уронил программку.
Большого формата, из меловой бумаги, она как-то лениво и тяжело падала, медленно опускаясь через всю высоту сцены Большого театра. Зрительный зал замер. Все знали характер Шаляпина. Этот человек был непримиримым в творчестве, и не дай бог, чтобы злосчастная программка опустилась у него перед носом во время исполнения монолога Бориса. Шаляпину ничего не стоило прервать пение и уйти со сцены.
Секунды, пока программка, медленно качаясь в воздухе, снижалась, зрительный зал сидел, не шелохнувшись. А когда она упала сзади распростертого на полу Бориса, зал облегченно вздохнул. Шаляпин ничего не заметил! Казалось, прошла целая вечность, а не полминуты...
И еще одно, последнее воспоминание, связанное с Ф. И. Шаляпиным. Оно особенно врезалось в мою память, ибо касалось частной жизни Шаляпина. Я расскажу о редчайшем случае, свидетелем которого я оказался не из праздного любопытства к "приключениям великих личностей". Нет, это меня совершенно не интересует. Мне запомнилась эта история тем, как в ней отразился Шаляпин-художник.
У нас была чудесная юношеская компания: мой друг Ваня Юров, Лидочка - дочка помрежа, Саша - артистка зиминского кордебалета и я. Саша была чудесным товарищем и обворожительной девушкой. Обаятельна она была необыкновенно, пухленькая, с симпатичными ямочками на щеках, голубыми веселыми близорукими глазками и смешно вздернутым носиком. Она была остроумна и не робкого десятка.
Федор Иванович имел обыкновение разговаривать с ней за кулисами, дожидаясь своего выхода. Однажды он ее спросил:
- Сашенька, что вы делаете сегодня вечером?
- А что бы вы хотели, чтобы я делала? - кокетливо улыбнулась она.
- Не хотите ли поехать с нами?
- Куда же вы собираетесь ехать?
- Ужинать в ресторан Оливье. Там будет много народа, я вас приглашаю в нашу компанию.
Саша с минуту поколебалась:
- Нет, я не могу, потому что сговорилась со своим другом идти гулять, и без него не пойду.
- А кто ваш друг?
- Миша. Вы его не знаете.
- Пожалуйста, пусть едет и Миша.
После долгих препирательств Саша уговорила меня туда пойти. Я в ресторан пошел, но был там недолго, потому что не хотел огорчать мать поздним приходом домой. Если я говорил, что приду тогда-то, то мог опоздать не более чем на пятнадцать - двадцать минут, иначе мать волновалась и не могла заснуть.
Саша посоветовала:
- Скажешь, что был длинный спектакль и ты меня провожал домой. Подумай, такой случай!..
В общем она меня уговорила, и я пошел.
В ресторане были и Зимин, и Маторин, и еще много оперных, а из драматических актеров я узнал только Качалова и Москвина.
Сидели в банкетном зале ресторана "Эрмитаж" (что был на Трубной площади). Я очень стеснялся и пристроился где-то на уголке длинного стола. И вот из общего зала, где играл струнный квартет, раздалось пение. Какой-то эстрадный певец исполнял романс "Глядя на луч пурпурного заката...".
Шаляпин сказал:
- Господа, прошу одну минуточку, - и стал слушать своего коллегу по искусству.
Все притихли. Я немного опьянел, мне дали бокал вина, а я никогда не пил. Вдруг вижу, как Шаляпин встает, направляется в общий зал. Он подходит к оркестру и говорит:
- Маэстро, одну минуточку, проаккомпанируйте мне этот романс.
И запел. Боже мой, что это было!
И тут я увидел Шаляпина беспощадного, непримиримого к любой фальши в искусстве, не терпящего халтуры. Он физически не мог себе позволить пройти мимо несовершенного в искусстве. Вот почему, когда запел певец-ремесленник, без души, Шаляпин не мог не исполнить этот романс - он не мог не вернуть музыке ее суть, ее содержание, ее красоту.
И это было прекрасно.
Значительно позднее я снимался в картине Протазанова "Белый орел", исполняя роль адъютанта губернатора, которого играл В. И. Качалов. Однажды в перерыве я начал рассказывать ему об этом памятном для меня вечере. Василий Иванович как-то сразу потеплел взглядом и, перебив меня, закончил мой рассказ словами: "И спел он "Глядя на луч пурпурного заката...". Этот эпизод, видимо, так прочно запечатлелся и в его памяти, что Качалов тут же, вспоминая Шаляпина, подражая его тембру голоса, по-шаляпински артистично, незабываемо спел целиком этот романс, удивительно передавая все нюансы шаляпинской манеры пения.
Возвращаясь к тому концерту, на котором присутствовал В. И. Ленин, добавлю, что, несмотря на то, что Шаляпин спел целиком оперу "Борис Годунов", он после перерыва вышел во фраке, какой-то особенно красивый и могучий, и по собственному желанию выступил еще и в концерте. Он исполнил "Дубинушку".
Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет,
- пел Шаляпин. И ему подпевал зрительный зал, ему подпевали делегаты съезда. Они пели сосредоточенно и громко. Пели и те, кто никогда не пел. Пели все! Я посмотрел на Ленина, и мне казалось, что он тоже пел.




 Это класс Ф. Комиссаржевского. Он сидит с книгой, рядом В. Бебутов, В. Зайчиков. Справа - я и И. Лобанов; девушка с косой
- М. Бабанова, молодой человек в галстуке с бабочкой - А.
Румнев
И начались новые веяния в бывшей опере Зимина. В театре появились новые художники, искусство оперы стало дерзать. Одним из первых таких спектаклей, помнится, была постановка "Бориса Годунова" с участием Григория Пирогова в заглавной роли. По мысли Федора Федоровича и художника спектакля Ивана Малютина, чудесного и яркого колориста, этот спектакль должен был объявить войну традиционной оперной красоте, вернее - красивости, которая, как говорил Комиссаржевский, звучала фальшиво от начала до конца.
Комиссаржевский и Малютин считали, что Шаляпин, гениально показывая трагедию одинокого царя, идеализировал Бориса Годунова. Годунов, говорили они, не был чужд корыстной цели и судорожно рвался к власти. Пушкин точно охарактеризовал всю трагедию двумя словами: "Народ безмолвствует". Эту концепцию режиссура проводила в большом и малом.
Было известно, что Борис Годунов монгольского происхождения, а раз так, то делать ему этакую традиционную курчавую "шаляпинскую" бороду не к чему. С легкой руки Шаляпина грим Годунова был эталоном для всех "Борисов". Комиссаржевский поломал его, сделал Годунова с раскосыми
глазами, с узкими усиками, без бороды, а все оформление спектакля со смещенными плоскостями выдержал в русском стиле, использовав и лубочные иконописные мотивы. Чтобы художественный облик спектакля был целостным во всех своих частях, режиссура отменила все парчовые одеяния, богатый запас которых был гордостью оперного гардероба. Борис Годунов и бояре надели костюмы, сшитые из бязи по технически великолепно выполненным эскизам и
раскрашенные анилиновой и бронзовой красками с
характерной орнаментовкой для каждого персонажа.
На генеральную репетицию собрался полный зал; слух о "новаторской" постановке прошел по всей театральной Москве. Комиссаржевский в фокусе внимания, у него много поклонников-друзей, но много и недругов, молчаливых до поры до времени, может быть, даже завистников.
Это класс Ф. Комиссаржевского. Он сидит с книгой, рядом В. Бебутов, В. Зайчиков. Справа - я и И. Лобанов; девушка с косой
- М. Бабанова, молодой человек в галстуке с бабочкой - А.
Румнев
И начались новые веяния в бывшей опере Зимина. В театре появились новые художники, искусство оперы стало дерзать. Одним из первых таких спектаклей, помнится, была постановка "Бориса Годунова" с участием Григория Пирогова в заглавной роли. По мысли Федора Федоровича и художника спектакля Ивана Малютина, чудесного и яркого колориста, этот спектакль должен был объявить войну традиционной оперной красоте, вернее - красивости, которая, как говорил Комиссаржевский, звучала фальшиво от начала до конца.
Комиссаржевский и Малютин считали, что Шаляпин, гениально показывая трагедию одинокого царя, идеализировал Бориса Годунова. Годунов, говорили они, не был чужд корыстной цели и судорожно рвался к власти. Пушкин точно охарактеризовал всю трагедию двумя словами: "Народ безмолвствует". Эту концепцию режиссура проводила в большом и малом.
Было известно, что Борис Годунов монгольского происхождения, а раз так, то делать ему этакую традиционную курчавую "шаляпинскую" бороду не к чему. С легкой руки Шаляпина грим Годунова был эталоном для всех "Борисов". Комиссаржевский поломал его, сделал Годунова с раскосыми
глазами, с узкими усиками, без бороды, а все оформление спектакля со смещенными плоскостями выдержал в русском стиле, использовав и лубочные иконописные мотивы. Чтобы художественный облик спектакля был целостным во всех своих частях, режиссура отменила все парчовые одеяния, богатый запас которых был гордостью оперного гардероба. Борис Годунов и бояре надели костюмы, сшитые из бязи по технически великолепно выполненным эскизам и
раскрашенные анилиновой и бронзовой красками с
характерной орнаментовкой для каждого персонажа.
На генеральную репетицию собрался полный зал; слух о "новаторской" постановке прошел по всей театральной Москве. Комиссаржевский в фокусе внимания, у него много поклонников-друзей, но много и недругов, молчаливых до поры до времени, может быть, даже завистников.

 Ширмы, кубы и черный бархат давали возможность режиссеру Ф. Комиссаржевскому (он же и художник) создавать иллюзии волшебных появлений и исчезновений артистов в спектакле
'Буря'. С жезлом - К. Эггерт
Как плод многих размышлений и усилий мы выпускаем программу, которую я несу в типографию:
"...Театр-студия будет местом исканий в области новых подходов к истолкованию музыкально-сценических произведений, лабораторией для создания внутреннего ансамбля исполнителей... для введения всех исполнителей в стиль исполняемого... в понимание различных манер исполнения... различных по духу и стилю произведений...
Настоящее театральное искусство, основанное на "действии", выражаемом прежде всего и главным образом в движении актера, пользуется всеми прочими родами искусства (литературным словом, музыкой, живописью, архитектурой) лишь как средствами, усиливающими впечатление, производимое на зрителей искусством актера, и помогающими "действовать" актеру. Современные же театры, наперекор смыслу театрального искусства, идут на поводу то у литературы, то у музыки, то у живописи.
Ширмы, кубы и черный бархат давали возможность режиссеру Ф. Комиссаржевскому (он же и художник) создавать иллюзии волшебных появлений и исчезновений артистов в спектакле
'Буря'. С жезлом - К. Эггерт
Как плод многих размышлений и усилий мы выпускаем программу, которую я несу в типографию:
"...Театр-студия будет местом исканий в области новых подходов к истолкованию музыкально-сценических произведений, лабораторией для создания внутреннего ансамбля исполнителей... для введения всех исполнителей в стиль исполняемого... в понимание различных манер исполнения... различных по духу и стилю произведений...
Настоящее театральное искусство, основанное на "действии", выражаемом прежде всего и главным образом в движении актера, пользуется всеми прочими родами искусства (литературным словом, музыкой, живописью, архитектурой) лишь как средствами, усиливающими впечатление, производимое на зрителей искусством актера, и помогающими "действовать" актеру. Современные же театры, наперекор смыслу театрального искусства, идут на поводу то у литературы, то у музыки, то у живописи.
 Эскизы А. Лентулова для 'Сказок Гофмана' являлись самостоятельным произведением живописного искусства, но не
были удобны для актеров
Театр-студия ХПСРО, признавая все роды искусства и отводя каждому из них подобающее место в общественной жизни, считает, что театр должен быть синтезом всех искусств, объединяемых на сцене творцом сценического представления -актером. Все искусства должны иметь место в театре, но им принадлежит хотя и значительная, но служебная роль. Театрстудия не является ни обычным "драматическим", ни "оперным", ни "балетным" театром, ни "выставкой живописных полотен", но пользуется всеми искусствами для вящего торжества театральности.
Театр-студия идет по пути к созданию театра - синтеза всех искусств, в центре которого стоял бы актер, действующий на зрителя-слушателя всеми выразительными средствами.
Каждый актер театра-студии призван быть одновременно и художником движения, и художником слова, и художником пения..."
Так говорилось в нашей программе, которую, мне кажется, нелишне было бы привести целиком. В заключение мы заявляли:
"Следуя по вышеуказанному пути, студийный театр, пока еще у него нет своего современного репертуара для желанного синтетического театра, ищет материал для своих исканий в пьесах прежнего репертуара, пригодных для указанных выше целей.
Им поставлены и в его мастерской находятся в работе: "Похищение из гарема", представление с пением Моцарта, "Паяцы", музыкальная драма Леонкавалло, "Буря" Шекспира, "Сказки Гофмана" Оффенбаха, "Дочь рынка", оперетта Лекока, "Перикола", оперетта Оффенбаха, "Любовь в полях" Глюка и другие произведения.
Желая возможно шире ознакомить пролетариат с новым направлением в искусстве театра... управление театральной студии Х.-П. союза рабочих организаций предоставляет пролетарским организациям возможность получать билеты в студийный театр на льготных условиях..."
В студии с самого начала образовалось три отделения: оперное, которым руководил профессор пения Бернарди, позже уехавший на свою родину в Италию; балетное, первое время возглавляемое М. М. Мордкиным, знаменитым балетмейстером, с которым я подружился во время его работы над балетом "Азияде", и основное - драматическое отделение, имевшее три класса. Руководили ими Ф. Ф. Комиссаржевский, В. М. Бебутов, А. П. Зонов, А. П. Нелидов.
Комиссаржевский оказался необыкновенным организатором-педагогом. Он обладал особым даром воспитывать кадры. Это было его второй стихией, он не мог жить без того, чтобы не передавать молодежи свои обширные познания, свое мастерство требовательного, всегда неудовлетворенного и вечно ищущего художника-экспериментатора.
Учебный план студии ХПСРО был великолепно разработан по дисциплинам. Я не помню, чтобы позже, да и сейчас в театральных школах был такой первоклассный преподавательский состав. Студия действительно ставила перед собой задачу выпустить высококвалифицированных специалистов по всем трем отделениям.
Комиссаржевский в период работы в студии синтетического актера был одержим идеями театра импровизации. Книга К. Миклашевского "A commedia dell'arte" была на отделениях первого курса настольной. Даже Н. О. Массалитинов, один из ведущих артистов Художественного театра, преподававший нам два предмета, казалось бы, столь отдаленных друг от друга, как речь и грим, также строил свои уроки на изучении комедии дель арте. Он считал, что истоками речи на театре должна быть речь народная. Для русского театра в основу был положен московский говор, чистейшим образцом которого была речь монашек-просвирен Чудова монастыря, что в Кремле.
Преподавали у нас и Н. Ф. Костромской, один из ведущих актеров Малого театра, и А. П. Петровский, великолепный артист театра Корша, режиссер и виртуозный исполнитель эпизодических ролей. Маленького роста, пухлый, уже немолодой, он умел удивительно перевоплощаться на сцене, становясь неузнаваемым, из маленького и толстого вдруг делался высоким, длинным, худым и даже молодым.
Эскизы А. Лентулова для 'Сказок Гофмана' являлись самостоятельным произведением живописного искусства, но не
были удобны для актеров
Театр-студия ХПСРО, признавая все роды искусства и отводя каждому из них подобающее место в общественной жизни, считает, что театр должен быть синтезом всех искусств, объединяемых на сцене творцом сценического представления -актером. Все искусства должны иметь место в театре, но им принадлежит хотя и значительная, но служебная роль. Театрстудия не является ни обычным "драматическим", ни "оперным", ни "балетным" театром, ни "выставкой живописных полотен", но пользуется всеми искусствами для вящего торжества театральности.
Театр-студия идет по пути к созданию театра - синтеза всех искусств, в центре которого стоял бы актер, действующий на зрителя-слушателя всеми выразительными средствами.
Каждый актер театра-студии призван быть одновременно и художником движения, и художником слова, и художником пения..."
Так говорилось в нашей программе, которую, мне кажется, нелишне было бы привести целиком. В заключение мы заявляли:
"Следуя по вышеуказанному пути, студийный театр, пока еще у него нет своего современного репертуара для желанного синтетического театра, ищет материал для своих исканий в пьесах прежнего репертуара, пригодных для указанных выше целей.
Им поставлены и в его мастерской находятся в работе: "Похищение из гарема", представление с пением Моцарта, "Паяцы", музыкальная драма Леонкавалло, "Буря" Шекспира, "Сказки Гофмана" Оффенбаха, "Дочь рынка", оперетта Лекока, "Перикола", оперетта Оффенбаха, "Любовь в полях" Глюка и другие произведения.
Желая возможно шире ознакомить пролетариат с новым направлением в искусстве театра... управление театральной студии Х.-П. союза рабочих организаций предоставляет пролетарским организациям возможность получать билеты в студийный театр на льготных условиях..."
В студии с самого начала образовалось три отделения: оперное, которым руководил профессор пения Бернарди, позже уехавший на свою родину в Италию; балетное, первое время возглавляемое М. М. Мордкиным, знаменитым балетмейстером, с которым я подружился во время его работы над балетом "Азияде", и основное - драматическое отделение, имевшее три класса. Руководили ими Ф. Ф. Комиссаржевский, В. М. Бебутов, А. П. Зонов, А. П. Нелидов.
Комиссаржевский оказался необыкновенным организатором-педагогом. Он обладал особым даром воспитывать кадры. Это было его второй стихией, он не мог жить без того, чтобы не передавать молодежи свои обширные познания, свое мастерство требовательного, всегда неудовлетворенного и вечно ищущего художника-экспериментатора.
Учебный план студии ХПСРО был великолепно разработан по дисциплинам. Я не помню, чтобы позже, да и сейчас в театральных школах был такой первоклассный преподавательский состав. Студия действительно ставила перед собой задачу выпустить высококвалифицированных специалистов по всем трем отделениям.
Комиссаржевский в период работы в студии синтетического актера был одержим идеями театра импровизации. Книга К. Миклашевского "A commedia dell'arte" была на отделениях первого курса настольной. Даже Н. О. Массалитинов, один из ведущих артистов Художественного театра, преподававший нам два предмета, казалось бы, столь отдаленных друг от друга, как речь и грим, также строил свои уроки на изучении комедии дель арте. Он считал, что истоками речи на театре должна быть речь народная. Для русского театра в основу был положен московский говор, чистейшим образцом которого была речь монашек-просвирен Чудова монастыря, что в Кремле.
Преподавали у нас и Н. Ф. Костромской, один из ведущих актеров Малого театра, и А. П. Петровский, великолепный артист театра Корша, режиссер и виртуозный исполнитель эпизодических ролей. Маленького роста, пухлый, уже немолодой, он умел удивительно перевоплощаться на сцене, становясь неузнаваемым, из маленького и толстого вдруг делался высоким, длинным, худым и даже молодым.
 Сказки Гофмана . Это был чисто оперный спектакль, но едва ли не главное место в нем занимал художник А. Лентулов. Плавные движения певцов В. Барсовой и Н. Озерова не вписывались в условную (хотя и оригинальную) декорацию
Среди преподавателей был поэт Петр Потемкин, автор сборника изящных стихов "Цветущая герань", посвященного "жене Жене" - актрисе Художественного театра Е. Хованской.
Этот любивший студию, на редкость жизнерадостный человек, непременный участник всех вечеринок, неутомимый хлопотун, был неиссякаемым автором шуток и экспромтов. На вечере у художника И. С. Федотова после премьеры "Свадьбы Фигаро" он на всех присутствовавших сочинял экспромты. Когда очередь дошла до меня, он произнес:
Семнадцатый! - Семнадцать лет,
И ты не знал ударов.
Расти, учись Покуда. Нет,
Не хулиган мой Жаров.
Прочтя, он очень забавно стал крутить рукой, приговаривая при этом, как фокусник: "Уникальный случай: свободное кручение руки направо и налево".
Слово преподавал нам бывший князь С. М. Волконский. Седой, высокий, очень худой человек, он и потрепанную шинель носил, как фрак. Влюбленный в слово, он уверял, что о человеке можно судить по одному тому, как он разговаривает, что опытный следователь или психиатр по "музыке речи" способен узнать, с каким человеческим характером ему предстоит иметь дело. Он тут же приводил убедительный пример с нищим-попрошайкой.
- Если человек в настоящей беде просит помощи, то всегда речь его строится на низких тонах, он говорит низким грудным голосом, сам того не подозревая. Профессиональный же попрошайка, желая разжалобить, считает, что для этого существует интонация плаксивая, на тонких высоких нотах: "Ми-лые-е, по-мо-ги-те, род-нень-кие, не-счаст-но-му" и т. д.
Он учил нас, что актер должен уходить со сцены после чтения стихов или прозы, не назойливо раскланиваясь, а тихо, медленно, незаметно, как бы оставляя зрителя наедине с только что услышанным.
Он говорил о застенчивости, о том, как ее избежать, и рассказывал случай, когда одна благовоспитанная девица из высокопоставленных кругов никак не могла преодолеть своего смущения перед предстоящим любительским концертом. Краснея, теряя голос, она вынуждена была покидать на репетициях подмостки. Ей необходимо было перешагнуть рубеж страха.
Сказки Гофмана . Это был чисто оперный спектакль, но едва ли не главное место в нем занимал художник А. Лентулов. Плавные движения певцов В. Барсовой и Н. Озерова не вписывались в условную (хотя и оригинальную) декорацию
Среди преподавателей был поэт Петр Потемкин, автор сборника изящных стихов "Цветущая герань", посвященного "жене Жене" - актрисе Художественного театра Е. Хованской.
Этот любивший студию, на редкость жизнерадостный человек, непременный участник всех вечеринок, неутомимый хлопотун, был неиссякаемым автором шуток и экспромтов. На вечере у художника И. С. Федотова после премьеры "Свадьбы Фигаро" он на всех присутствовавших сочинял экспромты. Когда очередь дошла до меня, он произнес:
Семнадцатый! - Семнадцать лет,
И ты не знал ударов.
Расти, учись Покуда. Нет,
Не хулиган мой Жаров.
Прочтя, он очень забавно стал крутить рукой, приговаривая при этом, как фокусник: "Уникальный случай: свободное кручение руки направо и налево".
Слово преподавал нам бывший князь С. М. Волконский. Седой, высокий, очень худой человек, он и потрепанную шинель носил, как фрак. Влюбленный в слово, он уверял, что о человеке можно судить по одному тому, как он разговаривает, что опытный следователь или психиатр по "музыке речи" способен узнать, с каким человеческим характером ему предстоит иметь дело. Он тут же приводил убедительный пример с нищим-попрошайкой.
- Если человек в настоящей беде просит помощи, то всегда речь его строится на низких тонах, он говорит низким грудным голосом, сам того не подозревая. Профессиональный же попрошайка, желая разжалобить, считает, что для этого существует интонация плаксивая, на тонких высоких нотах: "Ми-лые-е, по-мо-ги-те, род-нень-кие, не-счаст-но-му" и т. д.
Он учил нас, что актер должен уходить со сцены после чтения стихов или прозы, не назойливо раскланиваясь, а тихо, медленно, незаметно, как бы оставляя зрителя наедине с только что услышанным.
Он говорил о застенчивости, о том, как ее избежать, и рассказывал случай, когда одна благовоспитанная девица из высокопоставленных кругов никак не могла преодолеть своего смущения перед предстоящим любительским концертом. Краснея, теряя голос, она вынуждена была покидать на репетициях подмостки. Ей необходимо было перешагнуть рубеж страха.

 Каждый раз после своего выхода я из-за кулис изучал игру А.
Закушняка в роли шута Тринкуло (на сцене - Дмитриев,
Закушняк, Де-Бур)
На этих уроках нам говорили о значении дыхания и умении владеть дыхательным аппаратом, диафрагмой:
- Вбирая воздух, не задерживайте его, а быстро выбрасывайте мышцами живота, и вы почувствуете, как ваши мышцы становятся эластичными, диафрагма делается упругой и голос начинает приобретать необходимое звучание и глубину. И нужно это делать всегда, не только на уроках, но и дома, особенно при ходьбе попробуйте всегда думать о диафрагме.
Однажды зимой в гололед я переходил улицу, ни на что не обращая внимания, и твердил про себя: "диафрагма,
диафрагма", набирал воздух, радуясь, что мышцы эластично раздвигаются, и вдруг - бац!.. трах! тарарах! Что такое?
Мне в живот уперлась оглобля низких саней, а возчик, махая кнутом, испуганно орал: "Ты что, тоскливый, обалдел, под оглоблю лезешь?". Я же спокойно "запер" воздух в животе, и от меня, как от надутой камеры, отскочила оглобля. Так я реально оценил пользу занятий: если бы не "система
дыхания", - лежать бы мне в больнице.
Общие лекции у нас были тоже интереснейшие. Психологию читал профессор Б. Грифцов, драматургию - В. Волькенштейн, преподавали также историю театра, теорию (технику) актерской игры и др.
Я был в классе Комиссаржевского. Часто его заменял Зонов -ленинградский режиссер, работавший в свое время в театре В. Ф. Комиссаржевской. С хриплым голосом, всегда почему-то недобритый, очень некрасивый, но с удивительно смешным лицом Кола Брюньона, он следил, чтобы ученик был подтянут и в форме. Хриплых не любил!
На занятиях по актерскому мастерству мы учились импровизации на вольные темы. Мы сами писали сценарии по типу сценариев комедни дель арте, образцы которых нам давали для изучения специально перепечатанными на машинке. Мы сочиняли собственные сюжеты на всевозможные современные темы и на уроках их показывали.
Я помню один такой показ, имевший для нас принципиальное значение и, как мне кажется, не потерявший интереса и сегодня. В нашем классе учились Василий Зайчиков, Муся Бабанова и Иван Штраух. Как-то Зонов дал нам тему, старую, как сотворение мира. "Вернулся отец из города, - наметил он экспозицию, - и привез подарки: младшей - красивое платье, старшей - бисер и шитье. Старшая в злости режет платье младшей, та плачет. Входит отец и ругает старшую дочь. Вот схема, по ней надо сымпровизировать", - дал он задание.
Каждый раз после своего выхода я из-за кулис изучал игру А.
Закушняка в роли шута Тринкуло (на сцене - Дмитриев,
Закушняк, Де-Бур)
На этих уроках нам говорили о значении дыхания и умении владеть дыхательным аппаратом, диафрагмой:
- Вбирая воздух, не задерживайте его, а быстро выбрасывайте мышцами живота, и вы почувствуете, как ваши мышцы становятся эластичными, диафрагма делается упругой и голос начинает приобретать необходимое звучание и глубину. И нужно это делать всегда, не только на уроках, но и дома, особенно при ходьбе попробуйте всегда думать о диафрагме.
Однажды зимой в гололед я переходил улицу, ни на что не обращая внимания, и твердил про себя: "диафрагма,
диафрагма", набирал воздух, радуясь, что мышцы эластично раздвигаются, и вдруг - бац!.. трах! тарарах! Что такое?
Мне в живот уперлась оглобля низких саней, а возчик, махая кнутом, испуганно орал: "Ты что, тоскливый, обалдел, под оглоблю лезешь?". Я же спокойно "запер" воздух в животе, и от меня, как от надутой камеры, отскочила оглобля. Так я реально оценил пользу занятий: если бы не "система
дыхания", - лежать бы мне в больнице.
Общие лекции у нас были тоже интереснейшие. Психологию читал профессор Б. Грифцов, драматургию - В. Волькенштейн, преподавали также историю театра, теорию (технику) актерской игры и др.
Я был в классе Комиссаржевского. Часто его заменял Зонов -ленинградский режиссер, работавший в свое время в театре В. Ф. Комиссаржевской. С хриплым голосом, всегда почему-то недобритый, очень некрасивый, но с удивительно смешным лицом Кола Брюньона, он следил, чтобы ученик был подтянут и в форме. Хриплых не любил!
На занятиях по актерскому мастерству мы учились импровизации на вольные темы. Мы сами писали сценарии по типу сценариев комедни дель арте, образцы которых нам давали для изучения специально перепечатанными на машинке. Мы сочиняли собственные сюжеты на всевозможные современные темы и на уроках их показывали.
Я помню один такой показ, имевший для нас принципиальное значение и, как мне кажется, не потерявший интереса и сегодня. В нашем классе учились Василий Зайчиков, Муся Бабанова и Иван Штраух. Как-то Зонов дал нам тему, старую, как сотворение мира. "Вернулся отец из города, - наметил он экспозицию, - и привез подарки: младшей - красивое платье, старшей - бисер и шитье. Старшая в злости режет платье младшей, та плачет. Входит отец и ругает старшую дочь. Вот схема, по ней надо сымпровизировать", - дал он задание.
 Шут - вводная фигура в интермедии к спектаклю 'Виндзорские проказницы' - был моей первой ролью в Театре-студии ХПСРО.
1918 год
Обговорив между собой действие, И. Штраух (отец), М. Бабанова (младшая сестра), О. Нечаева (старшая) начали показ. Вся сцена разворачивалась довольно интересно, были хорошие находки в деталях, все довольно искренне и убедительно играли. Но вот наступает кульминация, и Иван, трясясь от гнева, набрасывается на старшую дочь, машет ремнем и начинает ругать ее... площадной бранью.
Этот случай стал предметом обсуждения на художественнопедагогическом совете. Комиссаржевский доказывал, что человек, не владеющий собой, - не актер, и темперамент его, как бы он ни был силен, и возбудимость его, как бы ни была велика, ничего общего не имеют с искусством художника. Такой актер, не отвечающий за себя, может действительно задушить Дездемону.
- Мне с таким актером делать нечего, - закончил он свою речь.
Весь преподавательский состав единогласно высказался в этом же духе, но Зонов выпросил для себя право как учитель Ивана Штрауха оставить его в студии и работать с ним хотя бы до конца года.
- Это гений! Увидите! - заявил он.
Позже Зонов взял его в Свободный театр, где Иван Штраух без особого успеха играл в "Служанке Памелле", снимался он и в кино, очень много, но не всегда удачно. Человек он был мрачный, оживлялся в редкие минуты, когда составлял какие-то, одному ему понятные смеси из спирта, эссенции, ягод и чего-то еще другого. Умер Иван Штраух где-то в больнице от нервного потрясения. Актер из него не получился, гений - тем более. Комиссаржевский оказался прав.
Студия была организована первоклассно. На 180 студентов у нас было много аудиторий и площадок. В первом этаже, где при Зоне было кабаре "Ко всем чертям!", был прекрасно оборудованный зал для балетного отделения. В остальных классах были передвижные сцены с кулисами, с занавесом, с закулисным пространством и небольшой партер, где сидели за столом ученики, проходя сначала теоретическую часть "работы над ролью".
На занятиях комедией дель арте Комиссаржевский говорил, что сегодня артист страны, где свершилась народная революция, должен сам стать народным, как некогда исполнители итальянского театра масок, игравшие на площади перед толпой. Им ничто не помогало - ни декорации, ни музыка, ни заранее написанный текст. "Голый человек на голой земле!" - было любимым выражением Федора Федоровича. Пластикой, движениями, мимикой актер должен изобразить все страсти, овладевающие человеком. Поэтому актер должен уметь петь, танцевать, играть, прыгать, быть акробатом, делать фокусы - он должен быть синтетическим артистом. Этому нас учили на первом курсе. Важным предметом являлась пантомима на основе чувствования. Это
были очень интересные и полезные занятия. Они давали нам многое.
К сожалению, Комиссаржевский не довел до конца свои опыты. Он так и не сумел выпустить учебник актерского мастерства, который писал. В двух книгах "Театральные прелюдии" и "Творчество актера и теория Станиславского" он, ведя полемику на два фронта, приступил к изложению своего художнического кредо. Но несмотря на споры Комиссаржевского со Станиславским, с одной стороны, и с Мейерхольдом, - с другой, у всех троих было много общего в требованиях к актеру.
Шут - вводная фигура в интермедии к спектаклю 'Виндзорские проказницы' - был моей первой ролью в Театре-студии ХПСРО.
1918 год
Обговорив между собой действие, И. Штраух (отец), М. Бабанова (младшая сестра), О. Нечаева (старшая) начали показ. Вся сцена разворачивалась довольно интересно, были хорошие находки в деталях, все довольно искренне и убедительно играли. Но вот наступает кульминация, и Иван, трясясь от гнева, набрасывается на старшую дочь, машет ремнем и начинает ругать ее... площадной бранью.
Этот случай стал предметом обсуждения на художественнопедагогическом совете. Комиссаржевский доказывал, что человек, не владеющий собой, - не актер, и темперамент его, как бы он ни был силен, и возбудимость его, как бы ни была велика, ничего общего не имеют с искусством художника. Такой актер, не отвечающий за себя, может действительно задушить Дездемону.
- Мне с таким актером делать нечего, - закончил он свою речь.
Весь преподавательский состав единогласно высказался в этом же духе, но Зонов выпросил для себя право как учитель Ивана Штрауха оставить его в студии и работать с ним хотя бы до конца года.
- Это гений! Увидите! - заявил он.
Позже Зонов взял его в Свободный театр, где Иван Штраух без особого успеха играл в "Служанке Памелле", снимался он и в кино, очень много, но не всегда удачно. Человек он был мрачный, оживлялся в редкие минуты, когда составлял какие-то, одному ему понятные смеси из спирта, эссенции, ягод и чего-то еще другого. Умер Иван Штраух где-то в больнице от нервного потрясения. Актер из него не получился, гений - тем более. Комиссаржевский оказался прав.
Студия была организована первоклассно. На 180 студентов у нас было много аудиторий и площадок. В первом этаже, где при Зоне было кабаре "Ко всем чертям!", был прекрасно оборудованный зал для балетного отделения. В остальных классах были передвижные сцены с кулисами, с занавесом, с закулисным пространством и небольшой партер, где сидели за столом ученики, проходя сначала теоретическую часть "работы над ролью".
На занятиях комедией дель арте Комиссаржевский говорил, что сегодня артист страны, где свершилась народная революция, должен сам стать народным, как некогда исполнители итальянского театра масок, игравшие на площади перед толпой. Им ничто не помогало - ни декорации, ни музыка, ни заранее написанный текст. "Голый человек на голой земле!" - было любимым выражением Федора Федоровича. Пластикой, движениями, мимикой актер должен изобразить все страсти, овладевающие человеком. Поэтому актер должен уметь петь, танцевать, играть, прыгать, быть акробатом, делать фокусы - он должен быть синтетическим артистом. Этому нас учили на первом курсе. Важным предметом являлась пантомима на основе чувствования. Это
были очень интересные и полезные занятия. Они давали нам многое.
К сожалению, Комиссаржевский не довел до конца свои опыты. Он так и не сумел выпустить учебник актерского мастерства, который писал. В двух книгах "Театральные прелюдии" и "Творчество актера и теория Станиславского" он, ведя полемику на два фронта, приступил к изложению своего художнического кредо. Но несмотря на споры Комиссаржевского со Станиславским, с одной стороны, и с Мейерхольдом, - с другой, у всех троих было много общего в требованиях к актеру.







 Когда-то А. Закушняк предсказал мне, что я буду играть Тринкуло в спектакле 'Буря'. И вот сбылось! Театр Рогожско-Симоновского района. 1921 год
Была ужасная метель, когда мы вышли из госпиталя. Поддерживая друг друга побрели по Уфе. Вспомнилась песня "Два гренадера из русского плена брели...". Мы были очень похожи на этих двух гренадеров. Закутавшись в шинели, обнявшись, мы доковыляли до штаба. Нас должен был принять кто-то из начальства. Мы сидели в приемной, разомлев от тепла. Вдруг все присутствующие встали. По коридору упругой походкой спортсмена шел на редкость красивый человек в ловко пригнанной военной форме. Это был М. Н. Тухачевский -командарм 5-й. Оглядев всех, он остановился взглядом на нас:
- Бог мой, откуда такие красавцы?
Мы подтянулись и, как умели, приняли положение "смирно".
Мирский как бывший офицер отрапортовал.
- Куда же вы сейчас собрались? - спросил Тухачевский.
- Мы хотим догнать наш театр.
- Какой там театр! Да вы на ногах не держитесь. Смотрите, на кого вы похожи!
Обратившись к коменданту, спросил:
- Накормили их?
- Нет, еще не накормили, товарищ командарм.
- Почему?
- Нельзя их сразу кормить. Желудки тонки. Могут лопнуть! -отчеканил тот.
- Отправьте в оздоровительную команду. Пусть с ложечки едят.
Мы стали уверять, что уже совсем здоровы.
- Это только видимость у нас такая невзрачная, а внутри мы вполне... - Не окончив свою тираду, я поперхнулся и закашлялся.
Тухачевский грустно взглянул на нас и сказал:
- Энтузиасты, значит! Хорошо! Ну и худущие же! Оденьте их, чтобы похожи были на артистов. Пусть отдохнут, а потом видно будет.
На нашу повторную просьбу разрешить догнать театр, Тухачевский распорядился:
- Хорошо. Устройте их в санитарный поезд, идущий на восток. Да прикажите, чтобы о них позаботились.
На фронт, где продолжал свирепствовать тиф, шли специальные составы с врачами, сестрами и няньками, переболевшими уже этой болезнью. Обратно поезда возвращались, переполненные больными, и снова порожняком спешили на фронт.
Когда-то А. Закушняк предсказал мне, что я буду играть Тринкуло в спектакле 'Буря'. И вот сбылось! Театр Рогожско-Симоновского района. 1921 год
Была ужасная метель, когда мы вышли из госпиталя. Поддерживая друг друга побрели по Уфе. Вспомнилась песня "Два гренадера из русского плена брели...". Мы были очень похожи на этих двух гренадеров. Закутавшись в шинели, обнявшись, мы доковыляли до штаба. Нас должен был принять кто-то из начальства. Мы сидели в приемной, разомлев от тепла. Вдруг все присутствующие встали. По коридору упругой походкой спортсмена шел на редкость красивый человек в ловко пригнанной военной форме. Это был М. Н. Тухачевский -командарм 5-й. Оглядев всех, он остановился взглядом на нас:
- Бог мой, откуда такие красавцы?
Мы подтянулись и, как умели, приняли положение "смирно".
Мирский как бывший офицер отрапортовал.
- Куда же вы сейчас собрались? - спросил Тухачевский.
- Мы хотим догнать наш театр.
- Какой там театр! Да вы на ногах не держитесь. Смотрите, на кого вы похожи!
Обратившись к коменданту, спросил:
- Накормили их?
- Нет, еще не накормили, товарищ командарм.
- Почему?
- Нельзя их сразу кормить. Желудки тонки. Могут лопнуть! -отчеканил тот.
- Отправьте в оздоровительную команду. Пусть с ложечки едят.
Мы стали уверять, что уже совсем здоровы.
- Это только видимость у нас такая невзрачная, а внутри мы вполне... - Не окончив свою тираду, я поперхнулся и закашлялся.
Тухачевский грустно взглянул на нас и сказал:
- Энтузиасты, значит! Хорошо! Ну и худущие же! Оденьте их, чтобы похожи были на артистов. Пусть отдохнут, а потом видно будет.
На нашу повторную просьбу разрешить догнать театр, Тухачевский распорядился:
- Хорошо. Устройте их в санитарный поезд, идущий на восток. Да прикажите, чтобы о них позаботились.
На фронт, где продолжал свирепствовать тиф, шли специальные составы с врачами, сестрами и няньками, переболевшими уже этой болезнью. Обратно поезда возвращались, переполненные больными, и снова порожняком спешили на фронт.


 'Лес' А. Н. Островского. Зинаида Райх и Иван Коваль-Самборский в сцене свидания, которую великолепно поставил Вс.
Мейерхольд
- Чтобы придать динамику действию, - говорил нам Мейерхольд, выразительно, как фокусник жестикулируя, -чтобы включать пьесу "Лес" в ритм нашей сегодняшней жизни, ее нужно разбить на отдельные части, назовем их эпизодами. Таким образом, мы получим тридцать три эпизода-аттракциона, развивающих идею и тему автора. Динамично? -вопрошал он и отвечал сам: за всех: - Динамично! Каждый такой маленький эпизод ставим как самостоятельный сценарий, как самостоятельный маленький аттракцион, сюжетно связанный со всей пьесой. Обостряем идею? Обостряем! Дальше, на совершенно пустую сцену из левой дальней кулисы, с высоты, мы спускаем по спирали деревянный помост на тросах. Понятно? На нем будут происходить все эпизоды, связанные с дорогой. В центре сцены останется очень выгодное пространство, ограниченное дорогой - спиралью. Это пространство мы трансформируем, подготовляем для новых эпизодов игровыми деталями: голубятня, стол, качели, гигантские шаги и так далее. Удобно? Удобно!
После такой убедительной экспликации весь спектакль, его художественный образ ярко вставали перед нашими глазами.
Одним из главных мейерхольдовских аттракционов в "Лесе" стал эпизод объяснения Петра с Аксюшей, известный под названием "сцены на гигантских шагах". Эти "шаги" давали, как говорил Всеволод Эмильевич, "динамический взлет", который помогал вскрыть все подспудное в лирической сцене, где бойкая и красивая Аксюша и влюбленный, но робеющий перед ней Петр ведут не столько высказываемый, сколько внутренний разговор друг с другом.
Мейерхольд доказывал, что внутренний огонь Петра и Аксюши, этих двух страстных натур, не позволил бы им в жизни сидеть и вяло выбрасывать какие-то оплевки и обрывки слов полуватными губами.
'Лес' А. Н. Островского. Зинаида Райх и Иван Коваль-Самборский в сцене свидания, которую великолепно поставил Вс.
Мейерхольд
- Чтобы придать динамику действию, - говорил нам Мейерхольд, выразительно, как фокусник жестикулируя, -чтобы включать пьесу "Лес" в ритм нашей сегодняшней жизни, ее нужно разбить на отдельные части, назовем их эпизодами. Таким образом, мы получим тридцать три эпизода-аттракциона, развивающих идею и тему автора. Динамично? -вопрошал он и отвечал сам: за всех: - Динамично! Каждый такой маленький эпизод ставим как самостоятельный сценарий, как самостоятельный маленький аттракцион, сюжетно связанный со всей пьесой. Обостряем идею? Обостряем! Дальше, на совершенно пустую сцену из левой дальней кулисы, с высоты, мы спускаем по спирали деревянный помост на тросах. Понятно? На нем будут происходить все эпизоды, связанные с дорогой. В центре сцены останется очень выгодное пространство, ограниченное дорогой - спиралью. Это пространство мы трансформируем, подготовляем для новых эпизодов игровыми деталями: голубятня, стол, качели, гигантские шаги и так далее. Удобно? Удобно!
После такой убедительной экспликации весь спектакль, его художественный образ ярко вставали перед нашими глазами.
Одним из главных мейерхольдовских аттракционов в "Лесе" стал эпизод объяснения Петра с Аксюшей, известный под названием "сцены на гигантских шагах". Эти "шаги" давали, как говорил Всеволод Эмильевич, "динамический взлет", который помогал вскрыть все подспудное в лирической сцене, где бойкая и красивая Аксюша и влюбленный, но робеющий перед ней Петр ведут не столько высказываемый, сколько внутренний разговор друг с другом.
Мейерхольд доказывал, что внутренний огонь Петра и Аксюши, этих двух страстных натур, не позволил бы им в жизни сидеть и вяло выбрасывать какие-то оплевки и обрывки слов полуватными губами.
 '... Твоя кокетливая Брандахлыстова нас всегда пугает, ее жеманство не имеет границ!..' - сказал шутливо Мейерхольд на
спектакле 'Смерть Тарелкина'
- Вы понимаете, - рассуждал он, - что это совершенно не к лицу ни современному зрителю слушать, ни современному актеру играть. Сегодняшний актер должен раскрыть буйную молодость этих горячих натур, зажатую тисками быта, обрядов, религии. Молодость, которая неудержимо стремится, рвется навстречу друг другу, вопреки нудному и вялому течению старой жизни. Мы с вами работать будем только так! -закончил он, сладко затягиваясь папироской, которую никогда не стеснялся "подстрелить" у первого попавшегося собеседника. "Свои папиросы" он не держал, гордо говоря, что не курит.
- Если и курю, то только, когда работаю!
Работал же он много и всегда.
Все шло хорошо, пока Орлов репетировал без "шагов". Но стоило ему только выйти на сцену и увидеть их, как он хватался за голову:
- Дорогой Всеволод, я тебя очень прошу (они были на ты), если тебе нужны качели, сделай обыкновенные, нормальные качели, знаешь, этакие на дощечке: раз - вверх, раз - вниз! Право, это тоже будет эффектно! Я сяду и буду качаться: раз-раз... Ну, прошу тебя, пойми - я не могу прыгать под потолок, у меня сердце заходится.
- Ну что ты, Митенька! Ведь это же очень легко! - сказал Мейерхольд и взбежал на сцену.
'... Твоя кокетливая Брандахлыстова нас всегда пугает, ее жеманство не имеет границ!..' - сказал шутливо Мейерхольд на
спектакле 'Смерть Тарелкина'
- Вы понимаете, - рассуждал он, - что это совершенно не к лицу ни современному зрителю слушать, ни современному актеру играть. Сегодняшний актер должен раскрыть буйную молодость этих горячих натур, зажатую тисками быта, обрядов, религии. Молодость, которая неудержимо стремится, рвется навстречу друг другу, вопреки нудному и вялому течению старой жизни. Мы с вами работать будем только так! -закончил он, сладко затягиваясь папироской, которую никогда не стеснялся "подстрелить" у первого попавшегося собеседника. "Свои папиросы" он не держал, гордо говоря, что не курит.
- Если и курю, то только, когда работаю!
Работал же он много и всегда.
Все шло хорошо, пока Орлов репетировал без "шагов". Но стоило ему только выйти на сцену и увидеть их, как он хватался за голову:
- Дорогой Всеволод, я тебя очень прошу (они были на ты), если тебе нужны качели, сделай обыкновенные, нормальные качели, знаешь, этакие на дощечке: раз - вверх, раз - вниз! Право, это тоже будет эффектно! Я сяду и буду качаться: раз-раз... Ну, прошу тебя, пойми - я не могу прыгать под потолок, у меня сердце заходится.
- Ну что ты, Митенька! Ведь это же очень легко! - сказал Мейерхольд и взбежал на сцену.
 Н. Охлопков играл Качалу, а я - Брандахлыстову. Мы импровизируем ('Смерть Тарелкина' А. Сухово-Кобылина в Театре имени Вс. Мейерхольда)
Вероятно, желая показать, как это легко, он бодро влез в лямку и... стоя на месте, проговорил текст, лишь приседая на тех словах, где надо прыгать:
- Нет, нет, Митенька, нет, ты не можешь себе представить,
что это будет за чудо, когда ты бросишь: "В Саратов..." - и прыгнешь! "В.Самару..." - и взнесешься ввысь... Ты не представляешь эффекта этого сочетания: твоего умения
говорить со взлетами под потолок, - убеждал он Орлова, быстро вылезая из лямки.
- Я все понимаю, дорогой Всеволод, но ты не думаешь, что, крикнув: "В Самару... в Саратов...", и прыгнув, я могу не вернуться оттуда?.. Я могу умереть там, под твоим потолком... - умолял Орлов.
Н. Охлопков играл Качалу, а я - Брандахлыстову. Мы импровизируем ('Смерть Тарелкина' А. Сухово-Кобылина в Театре имени Вс. Мейерхольда)
Вероятно, желая показать, как это легко, он бодро влез в лямку и... стоя на месте, проговорил текст, лишь приседая на тех словах, где надо прыгать:
- Нет, нет, Митенька, нет, ты не можешь себе представить,
что это будет за чудо, когда ты бросишь: "В Саратов..." - и прыгнешь! "В.Самару..." - и взнесешься ввысь... Ты не представляешь эффекта этого сочетания: твоего умения
говорить со взлетами под потолок, - убеждал он Орлова, быстро вылезая из лямки.
- Я все понимаю, дорогой Всеволод, но ты не думаешь, что, крикнув: "В Самару... в Саратов...", и прыгнув, я могу не вернуться оттуда?.. Я могу умереть там, под твоим потолком... - умолял Орлов.
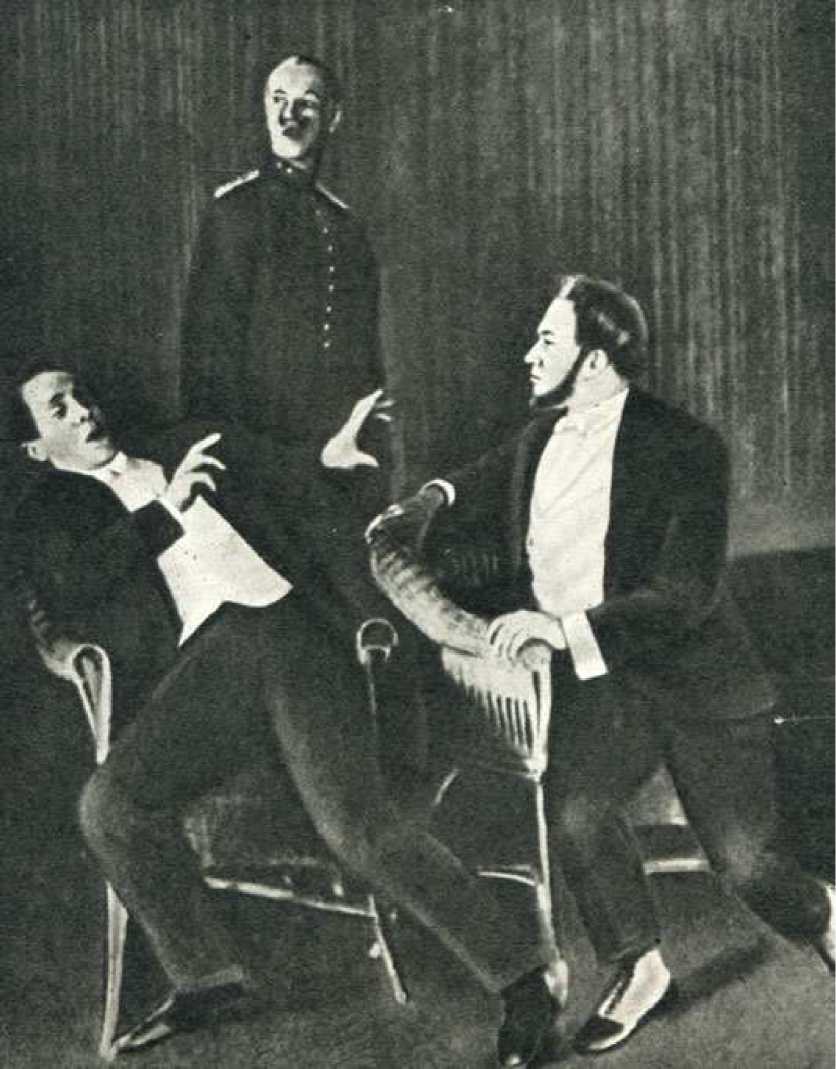
 'Даешь Европу!' М. Подгаецкого в Театре имени Вс. Мейерхольда. Роль конферансье давала мне возможность импровизировать текст на каждом спектакле
- Ну, кто же сыграет Петра? - бросил он в зрительный зал.
Мы, наблюдавшие за репетицией из зала, помочь ему ничем не могли. И хотя многие из нас наверняка чувствовали себя "рожденными для роли Петра, сказать об этом при всех не решались: ведь надо было сразу брать "быка за рога".
"А... это... Нет, это рискованно", - если не все, то так думал я.
- Ну, кто же, кто? - твердил мастер.
"Черт возьми! - продолжал думать я. - Может быть, рискнуть, ведь во фронтовом театре я же получил эту роль?"
Пока я так рассуждал, на сцену вышел помощник режиссера и сказал:
- Всеволод Эмильевич, здесь уже три дня добивается с вами встречи один актер. Он хочет с вами поговорить.
- О чем еще говорить? Видите - я занят, - раздраженно отмахнулся режиссер. - Хотя, постойте... Актер, говоришь?
- Актер.
- А какой он из себя?
- Блондин, с голубыми глазами.
- Блондин, говоришь?
- Да, довольно молодой. На солдата похож.
- На солдата? - заерзал Мейерхольд. - А ну-ка тащите его сюда! - решительно приказал он.
'Даешь Европу!' М. Подгаецкого в Театре имени Вс. Мейерхольда. Роль конферансье давала мне возможность импровизировать текст на каждом спектакле
- Ну, кто же сыграет Петра? - бросил он в зрительный зал.
Мы, наблюдавшие за репетицией из зала, помочь ему ничем не могли. И хотя многие из нас наверняка чувствовали себя "рожденными для роли Петра, сказать об этом при всех не решались: ведь надо было сразу брать "быка за рога".
"А... это... Нет, это рискованно", - если не все, то так думал я.
- Ну, кто же, кто? - твердил мастер.
"Черт возьми! - продолжал думать я. - Может быть, рискнуть, ведь во фронтовом театре я же получил эту роль?"
Пока я так рассуждал, на сцену вышел помощник режиссера и сказал:
- Всеволод Эмильевич, здесь уже три дня добивается с вами встречи один актер. Он хочет с вами поговорить.
- О чем еще говорить? Видите - я занят, - раздраженно отмахнулся режиссер. - Хотя, постойте... Актер, говоришь?
- Актер.
- А какой он из себя?
- Блондин, с голубыми глазами.
- Блондин, говоришь?
- Да, довольно молодой. На солдата похож.
- На солдата? - заерзал Мейерхольд. - А ну-ка тащите его сюда! - решительно приказал он.


 - Ведь Блюнчли любовник, а я простак? - Посмотри на себя в зеркало! И я посмотрел... - Ну, и что?.. (Из разговора с режиссером В. Федоровым в Бакинском рабочем театре)
Через полчаса И. И. Коваль-Самборский уже держал в руках красное удостоверение. Не веря глазам, он читал такие дорогие для сердца слова: "артист театра имени
Мейерхольда".
- С завтрашнего дня репетируем только "качели"! - заявил довольный мастер.
Мейерхольд был влюблен в эту сцену и стремился сделать ее камертоном всего спектакля, показывая, как зарождается великое вечное - первая молодая любовь Аксюши и Петра, любовь радостная и бурная.
Все получалось хорошо, в меру было шумно и задорно, но в сцене не хватало лирики, мечты. Искали музыку, которая дала бы внутренний ритм сценической жизни. И вот на одной из репетиций получил свое второе рождение знаменитый "Собачий вальс".
Помог опять случай. В театре было трио отменных гармонистов - Макаров, Попков, Кузнецов. На репетиции обычно играл Макаров. Однажды Мейерхольд ему сказал:
- Макаров, сыграй какой-нибудь старый вальс.
Но вальсы Макарова не подходили. Мейерхольд ходил по зрительному залу, насвистывая и напевая сам. Все тоже усиленно мурлыкали... Вдруг Макаров, исчерпав свой концертный репертуар, тихо заиграл "Собачий вальс". Наступила тишина. Все повернули головы к сцене, затаенно слушая, и одновременно, в какую-то секунду, всем стало ясно, что вот именно этот - да!.. да! - только этот вальс, такой наивный и трогательный, должен звучать здесь, в любовной сцене. Наивность его мелодии подчеркивала какую-то особую, почти детскую непосредственность всего образного строя спектакля, его оформления и даже костюмов и грима, к которым Мейерхольд вернулся в "Лесе".
Боже, ведь как просто, и никто не мог вспомнить! И Мейерхольд воскликнул:
- Браво, Макаров! Ну, конечно, только он! Где же ты раньше был, милый?
"Собачий вальс" прочно вошел в спектакль.
Он стал в тот период так же знаменит, как становится знаменитой всякая популярная песенка, которая, едва родившись, делается любимой - ее поют и когда весело, и когда грустно, поют всегда!
Огромным тиражом была выпущена пластинка: "Собачий вальс" из спектакля "Лес" театра Мейерхольда". И словно забыли, что этот вальс был давным-давно уже написан, назывался "Две собачки", был модным, и под него танцевали наши деды.
Так окончательно сложилась знаменитая "сцена на гигантских шагах" и счастливо взошел на театральные подмостки, а позже и на экраны кино И. И. Коваль-Самборский.
Это был чудесный человек и великолепный товарищ, с которым мы вскоре стали большими друзьями.
Я в тот период уже начал сниматься в студии "Межрабпом-Русь". После удачного эпизода в "Аэлите" режиссер Я. А. Протазанов предложил мне отсняться в фильме "Его призыв" в роли молодого рабочего. На студию я привел с собой Ивана Самборского и, познакомив с Яковом Александровичем, рекомендовал занять в каком-нибудь эпизоде. Думали мы с Иваном об эпизоде, а случилось так, что вскоре заболел Н. Баталов и центральную роль в "Его призыве", картине, посвященной В. И. Ленину, сыграл Иван Самборский. Так, с моей легкой руки начав сниматься, он прочно вошел в кино. В театре же Мейерхольд к нему быстро остыл, стал называть его, неизвестно почему, "актером в сапогах". Тот почувствовал перемену отношения к себе мастера, ушел в кино совсем, где и приобрел популярность. "Месс-Менд", "Девушка с коробкой", "Человек из ресторана", "Земля в плену" и другие картины с его участием имели большой успех.
Как же все-таки определить отношение Всеволода Эмильевича к актерам?
Через его театр прошло огромное количество великолепных актеров, в том числе и Степан Кузнецов, но, посидев на репетициях, некоторые, так и не дождавшись ролей, исчезали. Был, например, приглашен в театр Павел Орленев. Мейерхольд хотел с ним ставить не то "Гамлета", не то "Царя Федора", не помню точно. И Орленев даже несколько дней важно называл себя "артистом театра Мейерхольда". Он приходил ежедневно в театр, садился в ложу и начинал свои бесконечные увлекательные рассказы из актерской жизни.
Шепотом, искоса поглядывая на сцену, где репетировал Мейерхольд, он говорил:
- Я уже, наверно, староват для Всеволода, хотя... О-о, этот Всеволод! Он любому старому актеру "воткнет" такой шприц, что сразу станешь молодым. Молодец! Упрямый и требует от актера многого... Ну, да вы молодые! Он и многое дает... Набирайтесь!
Однажды на репетиции "Леса" он вспомнил, как впервые узнал о появлении этой пьесы Островского.
- Дело было в Гомеле или Виннице, - начал он свой рассказ, - я был еще совсем молод, и после очередного спектакля меня пригласил местный купец - почитатель моего таланта - к себе на вечер. Ужин затянулся, и только далеко за полночь я отправился к себе домой. Жил я на окраине города.
Иду, дышу ароматами... Ночь чудная, летняя. Все кругом спит, луна светит, и я, блажененький, немного выпивший, иду, рассуждая о луне, о прекрасных украинских ночах, о судьбе артиста, который бродяжничает по этой земле белых мазанок. И вдруг слышу грубый хохот. Какой-то человек смеется дико и громко. Я сначала подумал, что мне это показалось... Нет... Опять смех. Огляделся - вижу из открытого окна мазанки высовывается человек, растрепанный, волосатый, дико хохочет и прячется обратно. "Сумасшедший", - подумал я и, тихо подкравшись, стал наблюдать. Человек через паузы продолжал высовываться в окно, - высунется, отхохочется и скроется опять. Я подошел еще ближе. И тут-то увидел... Ну кого бы вы думали? Да, да... его... Самого Андреева-Бурлака. Знаменитого артиста! Я смело подхожу:
- Василий Николаевич, что случилось?
- Ах голубчик мой, не могу тебе рассказать, что это за красотища. Читаю я сейчас "Лес" Островского. Смешно... Ужасно смешно... Но хохотать, понимаешь, в доме нельзя - все спят, вот я и высовываюсь в окно, отхохочусь и снова читаю, -закончил свой очередной рассказ Орленев под наш искренний смех...
...Когда я в Малом театре репетировал городничего и по сцене мне нужно было чихнуть, но тихо, так, чтобы не разбудить спящего в соседней комнате Хлестакова, я вспомнил этот рассказ Орленева и, взяв понюшку табаку, пошел чихать в открытое окно. Это было неожиданностью, и все весело засмеялись. Больше всех хохотала Вера Николаевна Пашенная, и я решил эту "находку" закрепить. Помню, как один из режиссеров театра, смотря на меня, долго качал головой, а после репетиции тихо сказал:
- Не делай, не советую, скажут не в традиции Малого.
- Но ведь они смеялись!
- Тем более! - И, подняв многозначительно палец, добавил: -Привыкай!..
Вот так П. Н. Орленев, просидев несколько дней в театре, дальше ложи никуда не ушел и, рассказав нам еще несколько веселых и поучительных историй, исчез с мейерхольдовского горизонта. Хотя, казалось бы, почему такому замечательному мастеру, как Мейерхольд, и такому великолепному артисту, как Орленев, не встретиться на сцене, почему? А почему бы Мейерхольду не дать Орленеву блеснуть последней вспышкой таланта, которая бывает такой яркой? Но этого не случилось. Нет, он о нем забыл и легко отпустил из театра. А жаль, очень жаль!
Не прижился также в театре эксцентрический комик Матов. Знаменитый комик-куплетист Алеша Матов пользовался на тогдашней эстраде огромным успехом, особенно когда он пел смешную песенку с рефреном:
А журавль все не идет.
Хвост вытащит, нос уйдет,
Нос вытащит, хвост уйдет...
И вот так без конца:
Хвост вытащит, нос уйдет,
Нос вытащит, хвост уйдет...
Сначала публика не понимала, что это значит: "Нос
вытащит, хвост уйдет, хвост вытащит, нос уйдет". Недоумевали. В зале воцарялась зловещая тишина. Но через две - три минуты весь зал начинал хохотать дико, и остановиться уже было невозможно.
Мейерхольд, как всегда вдруг, влюбился в него. Это был вообще период его влюбленности. Он был весь какой-то легкий, молодой, весь он был наполнен необычной нежностью к очаровательной Райх, дарил щедрость своей души всем, и Матову тоже, таскал его за собой, готовил его для Аркашки, для Расплюева, говорил, что тот переиграет вообще весь комедийный репертуар.
И бедный Матов поверил. Мейерхольду нельзя было не верить. Ему все верили. Если он хотел человека околдовать своим обаянием, то делал это без всякого труда: оттаивал свои холодные непроницаемые глаза-льдинки и расплывался в улыбке. Вот так он околдовал и Матова. Тот бросил Ленинград, театр, где имел успех, переехал в Москву, хотя его жена, тоже актриса, предупреждала его: "Не делай этого, не бросай все сразу - я знаю Мейерхольда давно".
В общем он год был в театре Мейерхольда, но тот для него так ничего и не поставил. Испытав глубокую обиду, он наконец ушел от мастера.
В общем я не берусь утверждать, что Мейерхольд тяготел к воспитанию театрального ансамбля, что он сплачивал вокруг себя художников-единомышленников, что это было его единственной мечтой. Я этого не сказал бы. Но, несомненно, Всеволод Эмильевич много и упорно работал с отдельными актерами, необходимыми ему в очередном "опусе", как он сам нередко называл свои постановки.
Так было с Бабановой, Райх, Тяпкиной, Гариным, Орловым, Ильинским, Свердлиным, Охлопковым, Мартинсоном, Боголюбовым, Вельским, Старковским, Темериным и другими. На одних он задерживался дольше, к другим быстро остывал, и тогда они уходили - делать им в театре было уже нечего.
- Ведь Блюнчли любовник, а я простак? - Посмотри на себя в зеркало! И я посмотрел... - Ну, и что?.. (Из разговора с режиссером В. Федоровым в Бакинском рабочем театре)
Через полчаса И. И. Коваль-Самборский уже держал в руках красное удостоверение. Не веря глазам, он читал такие дорогие для сердца слова: "артист театра имени
Мейерхольда".
- С завтрашнего дня репетируем только "качели"! - заявил довольный мастер.
Мейерхольд был влюблен в эту сцену и стремился сделать ее камертоном всего спектакля, показывая, как зарождается великое вечное - первая молодая любовь Аксюши и Петра, любовь радостная и бурная.
Все получалось хорошо, в меру было шумно и задорно, но в сцене не хватало лирики, мечты. Искали музыку, которая дала бы внутренний ритм сценической жизни. И вот на одной из репетиций получил свое второе рождение знаменитый "Собачий вальс".
Помог опять случай. В театре было трио отменных гармонистов - Макаров, Попков, Кузнецов. На репетиции обычно играл Макаров. Однажды Мейерхольд ему сказал:
- Макаров, сыграй какой-нибудь старый вальс.
Но вальсы Макарова не подходили. Мейерхольд ходил по зрительному залу, насвистывая и напевая сам. Все тоже усиленно мурлыкали... Вдруг Макаров, исчерпав свой концертный репертуар, тихо заиграл "Собачий вальс". Наступила тишина. Все повернули головы к сцене, затаенно слушая, и одновременно, в какую-то секунду, всем стало ясно, что вот именно этот - да!.. да! - только этот вальс, такой наивный и трогательный, должен звучать здесь, в любовной сцене. Наивность его мелодии подчеркивала какую-то особую, почти детскую непосредственность всего образного строя спектакля, его оформления и даже костюмов и грима, к которым Мейерхольд вернулся в "Лесе".
Боже, ведь как просто, и никто не мог вспомнить! И Мейерхольд воскликнул:
- Браво, Макаров! Ну, конечно, только он! Где же ты раньше был, милый?
"Собачий вальс" прочно вошел в спектакль.
Он стал в тот период так же знаменит, как становится знаменитой всякая популярная песенка, которая, едва родившись, делается любимой - ее поют и когда весело, и когда грустно, поют всегда!
Огромным тиражом была выпущена пластинка: "Собачий вальс" из спектакля "Лес" театра Мейерхольда". И словно забыли, что этот вальс был давным-давно уже написан, назывался "Две собачки", был модным, и под него танцевали наши деды.
Так окончательно сложилась знаменитая "сцена на гигантских шагах" и счастливо взошел на театральные подмостки, а позже и на экраны кино И. И. Коваль-Самборский.
Это был чудесный человек и великолепный товарищ, с которым мы вскоре стали большими друзьями.
Я в тот период уже начал сниматься в студии "Межрабпом-Русь". После удачного эпизода в "Аэлите" режиссер Я. А. Протазанов предложил мне отсняться в фильме "Его призыв" в роли молодого рабочего. На студию я привел с собой Ивана Самборского и, познакомив с Яковом Александровичем, рекомендовал занять в каком-нибудь эпизоде. Думали мы с Иваном об эпизоде, а случилось так, что вскоре заболел Н. Баталов и центральную роль в "Его призыве", картине, посвященной В. И. Ленину, сыграл Иван Самборский. Так, с моей легкой руки начав сниматься, он прочно вошел в кино. В театре же Мейерхольд к нему быстро остыл, стал называть его, неизвестно почему, "актером в сапогах". Тот почувствовал перемену отношения к себе мастера, ушел в кино совсем, где и приобрел популярность. "Месс-Менд", "Девушка с коробкой", "Человек из ресторана", "Земля в плену" и другие картины с его участием имели большой успех.
Как же все-таки определить отношение Всеволода Эмильевича к актерам?
Через его театр прошло огромное количество великолепных актеров, в том числе и Степан Кузнецов, но, посидев на репетициях, некоторые, так и не дождавшись ролей, исчезали. Был, например, приглашен в театр Павел Орленев. Мейерхольд хотел с ним ставить не то "Гамлета", не то "Царя Федора", не помню точно. И Орленев даже несколько дней важно называл себя "артистом театра Мейерхольда". Он приходил ежедневно в театр, садился в ложу и начинал свои бесконечные увлекательные рассказы из актерской жизни.
Шепотом, искоса поглядывая на сцену, где репетировал Мейерхольд, он говорил:
- Я уже, наверно, староват для Всеволода, хотя... О-о, этот Всеволод! Он любому старому актеру "воткнет" такой шприц, что сразу станешь молодым. Молодец! Упрямый и требует от актера многого... Ну, да вы молодые! Он и многое дает... Набирайтесь!
Однажды на репетиции "Леса" он вспомнил, как впервые узнал о появлении этой пьесы Островского.
- Дело было в Гомеле или Виннице, - начал он свой рассказ, - я был еще совсем молод, и после очередного спектакля меня пригласил местный купец - почитатель моего таланта - к себе на вечер. Ужин затянулся, и только далеко за полночь я отправился к себе домой. Жил я на окраине города.
Иду, дышу ароматами... Ночь чудная, летняя. Все кругом спит, луна светит, и я, блажененький, немного выпивший, иду, рассуждая о луне, о прекрасных украинских ночах, о судьбе артиста, который бродяжничает по этой земле белых мазанок. И вдруг слышу грубый хохот. Какой-то человек смеется дико и громко. Я сначала подумал, что мне это показалось... Нет... Опять смех. Огляделся - вижу из открытого окна мазанки высовывается человек, растрепанный, волосатый, дико хохочет и прячется обратно. "Сумасшедший", - подумал я и, тихо подкравшись, стал наблюдать. Человек через паузы продолжал высовываться в окно, - высунется, отхохочется и скроется опять. Я подошел еще ближе. И тут-то увидел... Ну кого бы вы думали? Да, да... его... Самого Андреева-Бурлака. Знаменитого артиста! Я смело подхожу:
- Василий Николаевич, что случилось?
- Ах голубчик мой, не могу тебе рассказать, что это за красотища. Читаю я сейчас "Лес" Островского. Смешно... Ужасно смешно... Но хохотать, понимаешь, в доме нельзя - все спят, вот я и высовываюсь в окно, отхохочусь и снова читаю, -закончил свой очередной рассказ Орленев под наш искренний смех...
...Когда я в Малом театре репетировал городничего и по сцене мне нужно было чихнуть, но тихо, так, чтобы не разбудить спящего в соседней комнате Хлестакова, я вспомнил этот рассказ Орленева и, взяв понюшку табаку, пошел чихать в открытое окно. Это было неожиданностью, и все весело засмеялись. Больше всех хохотала Вера Николаевна Пашенная, и я решил эту "находку" закрепить. Помню, как один из режиссеров театра, смотря на меня, долго качал головой, а после репетиции тихо сказал:
- Не делай, не советую, скажут не в традиции Малого.
- Но ведь они смеялись!
- Тем более! - И, подняв многозначительно палец, добавил: -Привыкай!..
Вот так П. Н. Орленев, просидев несколько дней в театре, дальше ложи никуда не ушел и, рассказав нам еще несколько веселых и поучительных историй, исчез с мейерхольдовского горизонта. Хотя, казалось бы, почему такому замечательному мастеру, как Мейерхольд, и такому великолепному артисту, как Орленев, не встретиться на сцене, почему? А почему бы Мейерхольду не дать Орленеву блеснуть последней вспышкой таланта, которая бывает такой яркой? Но этого не случилось. Нет, он о нем забыл и легко отпустил из театра. А жаль, очень жаль!
Не прижился также в театре эксцентрический комик Матов. Знаменитый комик-куплетист Алеша Матов пользовался на тогдашней эстраде огромным успехом, особенно когда он пел смешную песенку с рефреном:
А журавль все не идет.
Хвост вытащит, нос уйдет,
Нос вытащит, хвост уйдет...
И вот так без конца:
Хвост вытащит, нос уйдет,
Нос вытащит, хвост уйдет...
Сначала публика не понимала, что это значит: "Нос
вытащит, хвост уйдет, хвост вытащит, нос уйдет". Недоумевали. В зале воцарялась зловещая тишина. Но через две - три минуты весь зал начинал хохотать дико, и остановиться уже было невозможно.
Мейерхольд, как всегда вдруг, влюбился в него. Это был вообще период его влюбленности. Он был весь какой-то легкий, молодой, весь он был наполнен необычной нежностью к очаровательной Райх, дарил щедрость своей души всем, и Матову тоже, таскал его за собой, готовил его для Аркашки, для Расплюева, говорил, что тот переиграет вообще весь комедийный репертуар.
И бедный Матов поверил. Мейерхольду нельзя было не верить. Ему все верили. Если он хотел человека околдовать своим обаянием, то делал это без всякого труда: оттаивал свои холодные непроницаемые глаза-льдинки и расплывался в улыбке. Вот так он околдовал и Матова. Тот бросил Ленинград, театр, где имел успех, переехал в Москву, хотя его жена, тоже актриса, предупреждала его: "Не делай этого, не бросай все сразу - я знаю Мейерхольда давно".
В общем он год был в театре Мейерхольда, но тот для него так ничего и не поставил. Испытав глубокую обиду, он наконец ушел от мастера.
В общем я не берусь утверждать, что Мейерхольд тяготел к воспитанию театрального ансамбля, что он сплачивал вокруг себя художников-единомышленников, что это было его единственной мечтой. Я этого не сказал бы. Но, несомненно, Всеволод Эмильевич много и упорно работал с отдельными актерами, необходимыми ему в очередном "опусе", как он сам нередко называл свои постановки.
Так было с Бабановой, Райх, Тяпкиной, Гариным, Орловым, Ильинским, Свердлиным, Охлопковым, Мартинсоном, Боголюбовым, Вельским, Старковским, Темериным и другими. На одних он задерживался дольше, к другим быстро остывал, и тогда они уходили - делать им в театре было уже нечего.








 Матрос Орел в пьесе 'Амба' был одной из ролей, сыгранных мною в Казанском театре под руководством А. Л. Гоипича -
ученика Вс. Мейерхольда
Я повторил, обращаясь к помощнику режиссера:
- Я не пойду на сцену, пока "они" не уйдут из уборной.
И Соколову пришлось уйти. Не может же вечно продолжаться антракт!
Когда он ушел, я закрыл глаза и, как мне показалось, прочитал про себя молитву: "Спасибо тебе, милый, дорогой Арсений, твой совет я выполнил точно!". И хотя сердце билось, как пойманная птичка, я выдержал, я устоял и, глубоко вздохнув, пошел играть премьеру.
Но это был только первый, пробный наскок за кулисами. Впереди же предстояли встречи на сцене, в работе. И вот вскоре одна из них совершенно неожиданно состоялась.
Заболел актер Женя Агуров, игравший в "Зойкиной квартире", где я не был занят, роль управдома. Аншлаги, снимать спектакли нельзя. Меня вызывает Владимир Захарович и говорит:
- Миша! Ты уже тертый калач, в Блюнчили ты выдержал первый бой. Продолжай так и дальше... Понимаешь, в чем дело? Надо... заменить Агурова.
Было примерно четыре часа дня, через три часа открытие занавеса в "Зойкиной квартире", а он мне предлагает в слаженном спектакле сыграть большую роль.
- Владимир Захарович! Да вы понимаете... - пропищал я.
- Иди сейчас с суфлером, - не давая мне раздумывать, продолжал он, - садись и учи. Обедай, лежи, а суфлер тебе будет читать, читать, читать. Что бы там ни было, сыграй сегодня обязательно. Это дело твоей чести. И не только твоей - нашей общей. Они вас бьют опытом, а ты им покажи, что опыт дело наживное. Понятно?
- Понятно, - ответил я, но не потому, что меня убедили его доводы, а потому что во мне начала пробуждаться моя актерская сущность - любовь к импровизации!
Жить в образе, импровизируя по ходу действия, - для меня всегда было огромным наслаждением. Я вспомнил, как Мейерхольд разрешил мне в "Рогоносце" - импровизируй! И я согласился.
Матрос Орел в пьесе 'Амба' был одной из ролей, сыгранных мною в Казанском театре под руководством А. Л. Гоипича -
ученика Вс. Мейерхольда
Я повторил, обращаясь к помощнику режиссера:
- Я не пойду на сцену, пока "они" не уйдут из уборной.
И Соколову пришлось уйти. Не может же вечно продолжаться антракт!
Когда он ушел, я закрыл глаза и, как мне показалось, прочитал про себя молитву: "Спасибо тебе, милый, дорогой Арсений, твой совет я выполнил точно!". И хотя сердце билось, как пойманная птичка, я выдержал, я устоял и, глубоко вздохнув, пошел играть премьеру.
Но это был только первый, пробный наскок за кулисами. Впереди же предстояли встречи на сцене, в работе. И вот вскоре одна из них совершенно неожиданно состоялась.
Заболел актер Женя Агуров, игравший в "Зойкиной квартире", где я не был занят, роль управдома. Аншлаги, снимать спектакли нельзя. Меня вызывает Владимир Захарович и говорит:
- Миша! Ты уже тертый калач, в Блюнчили ты выдержал первый бой. Продолжай так и дальше... Понимаешь, в чем дело? Надо... заменить Агурова.
Было примерно четыре часа дня, через три часа открытие занавеса в "Зойкиной квартире", а он мне предлагает в слаженном спектакле сыграть большую роль.
- Владимир Захарович! Да вы понимаете... - пропищал я.
- Иди сейчас с суфлером, - не давая мне раздумывать, продолжал он, - садись и учи. Обедай, лежи, а суфлер тебе будет читать, читать, читать. Что бы там ни было, сыграй сегодня обязательно. Это дело твоей чести. И не только твоей - нашей общей. Они вас бьют опытом, а ты им покажи, что опыт дело наживное. Понятно?
- Понятно, - ответил я, но не потому, что меня убедили его доводы, а потому что во мне начала пробуждаться моя актерская сущность - любовь к импровизации!
Жить в образе, импровизируя по ходу действия, - для меня всегда было огромным наслаждением. Я вспомнил, как Мейерхольд разрешил мне в "Рогоносце" - импровизируй! И я согласился.
 Казанский Большой драматический театр. В Казани я сыграл роль Коко в 'Плодах просвещения' Л. Н. Толстого. Ставил пьесу
режиссер А. Л. Гоипич
Взял платок, подложил туда ваты и завязываю. У меня получился на макушке большой узел с двумя концами, похожими на заячьи уши. Смотрю на себя в зеркало - лицо смешное: усы ершом, глаза, естественно, испуганные и
печальные, красным платком подвязана щека и вата торчит. Я легонько качнул головой - заячьи ушки запрыгали. И вдруг в зеркале вижу перекошенное лицо Наума Соколова:
- Снимите платок...
- Нет, я не могу снять, потому что у управдома болят зубы.
- А я говорю - снимите, иначе вам будет худо!
Я молчу и продолжаю учить текст.
- Тогда наденьте на голову эту шапку.
Я надел подброшенный им какой-то картузик, заячьи уши скрылись. Посмотрел в зеркало - тоже неплохо!
А Соколов свое:
- Чтобы этих ушей я на сцене не видел! Ходите в картузе!
Казанский Большой драматический театр. В Казани я сыграл роль Коко в 'Плодах просвещения' Л. Н. Толстого. Ставил пьесу
режиссер А. Л. Гоипич
Взял платок, подложил туда ваты и завязываю. У меня получился на макушке большой узел с двумя концами, похожими на заячьи уши. Смотрю на себя в зеркало - лицо смешное: усы ершом, глаза, естественно, испуганные и
печальные, красным платком подвязана щека и вата торчит. Я легонько качнул головой - заячьи ушки запрыгали. И вдруг в зеркале вижу перекошенное лицо Наума Соколова:
- Снимите платок...
- Нет, я не могу снять, потому что у управдома болят зубы.
- А я говорю - снимите, иначе вам будет худо!
Я молчу и продолжаю учить текст.
- Тогда наденьте на голову эту шапку.
Я надел подброшенный им какой-то картузик, заячьи уши скрылись. Посмотрел в зеркало - тоже неплохо!
А Соколов свое:
- Чтобы этих ушей я на сцене не видел! Ходите в картузе!
 Казанский Большой драматический театр. Играя Епиходова, я пел: 'Было бы сердце согрето жаром взаимной любви!' ('Вишневый сад' А. П. Чехова)
Мы пошли на сцену. Соколова всегда встречали аплодисментами. А в "Зойкиной квартире" он имел особый успех. Он уже отыграл первый акт. И вот во втором акте появилась фигура больного человека, с парусиновым портфелем, в сапогах - этакий замызганный управдом.
Соколов остановился (я шел за ним), посмотрел на меня, пожал плечами и, подмигнув зрителям, сделал смешную гримасу, которая означала: "Ну и ну! Посмотрите, мол, что за фигура!".
Его мимика вызвала оживление и аплодисменты в зале. В общем он меня сразу же, с места в карьер, как говорится, "приложил" и только после этого дал свою реплику: "Что вам нужно?".
Я снял свой картузик, сказал:
- Здравствуйте! - и мотнул головой. Мои заячьи уши очень мягко и кокетливо кивнули, и публика сразу насторожилась. Соколов вытаращил на меня глаза и прошипел, не разжимая губ:
- Наденьте картуз...
Казанский Большой драматический театр. Играя Епиходова, я пел: 'Было бы сердце согрето жаром взаимной любви!' ('Вишневый сад' А. П. Чехова)
Мы пошли на сцену. Соколова всегда встречали аплодисментами. А в "Зойкиной квартире" он имел особый успех. Он уже отыграл первый акт. И вот во втором акте появилась фигура больного человека, с парусиновым портфелем, в сапогах - этакий замызганный управдом.
Соколов остановился (я шел за ним), посмотрел на меня, пожал плечами и, подмигнув зрителям, сделал смешную гримасу, которая означала: "Ну и ну! Посмотрите, мол, что за фигура!".
Его мимика вызвала оживление и аплодисменты в зале. В общем он меня сразу же, с места в карьер, как говорится, "приложил" и только после этого дал свою реплику: "Что вам нужно?".
Я снял свой картузик, сказал:
- Здравствуйте! - и мотнул головой. Мои заячьи уши очень мягко и кокетливо кивнули, и публика сразу насторожилась. Соколов вытаращил на меня глаза и прошипел, не разжимая губ:
- Наденьте картуз...

 Казанский Большой драматический театр. После спектакля 'Амба' я с трепетом приступил к работе над ролью Людовика XIV
в 'Соборе Парижской богоматери'
А дальше мы снова встретились в "Любови Яровой". Пьеса только что великолепно прошла в московском Малом театре, где особый успех имели В. Пашенная и С. Кузнецов. Баку тут же откликнулся на новую советскую пьесу. Соколов, получив роль Шванди, ужасно нервничал, надо ведь переиграть Кузнецова! Ставит спектакль Федоров, Шлепянов делает декорации. Федоров мне говорит:
- Ты, наверное, хочешь играть Швандю?
- Да.
- Сыграй Пикалова, советую. Это будет очень интересно. Я тебе добавлю еще одну сцену: в эпизоде с Махорой вместо писаря будет Пикалов.
Пикалова я полюбил с первой читки. Он стал мне почему-то очень близок, а главное - понятен: этого бесхитростного землепашца я видел во всех деталях. "Белых пятен", загадок -почему он делает так, а не этак? - в этой роли для меня не существовало. Я думаю, читатель не сочтет нескромностью, если признаюсь, что впоследствии с радостью прочитал рецензию на "Любовь Яровую", напечатанную в московском журнале "Жизнь искусства": "...Бакинцы видели "Любовь
Яровую" не только с другими артистами, но и в других постановках (например, в гастролях Малого театра), но такого изумительного мастерства, какое проявляет Жаров, из маленькой эпизодической рольки Пикалова сумевший сделать подлинно художественный, насыщенный полнотой жизни образ, не видела, конечно, и сцена Ак. Малого".
Мне кажется, вы поймете мою гордость, когда узнаете, что листочек с этой рецензией прислала мне из Москвы заказным письмом моя мать. Сколько времени сидела она над ним с влажными от счастья глазами, - не знаю.
Материал роли, действительно, был великолепный. То, что это настоящая "крепкая" роль, то, что рядом Швандю репетировал актер Наум Соколов, окрыляло меня. Соколов не принимал мою работу во внимание. Ему надо было потягаться с московским Швандей - Степаном Кузнецовым. Он напряг всю свою выдумку и, перегрузив роль деталями, очевидно, потерял главное. А ведь есть правило: актер должен хотеть хорошо сыграть, но не надо стараться кого-нибудь переигрывать.
Казанский Большой драматический театр. После спектакля 'Амба' я с трепетом приступил к работе над ролью Людовика XIV
в 'Соборе Парижской богоматери'
А дальше мы снова встретились в "Любови Яровой". Пьеса только что великолепно прошла в московском Малом театре, где особый успех имели В. Пашенная и С. Кузнецов. Баку тут же откликнулся на новую советскую пьесу. Соколов, получив роль Шванди, ужасно нервничал, надо ведь переиграть Кузнецова! Ставит спектакль Федоров, Шлепянов делает декорации. Федоров мне говорит:
- Ты, наверное, хочешь играть Швандю?
- Да.
- Сыграй Пикалова, советую. Это будет очень интересно. Я тебе добавлю еще одну сцену: в эпизоде с Махорой вместо писаря будет Пикалов.
Пикалова я полюбил с первой читки. Он стал мне почему-то очень близок, а главное - понятен: этого бесхитростного землепашца я видел во всех деталях. "Белых пятен", загадок -почему он делает так, а не этак? - в этой роли для меня не существовало. Я думаю, читатель не сочтет нескромностью, если признаюсь, что впоследствии с радостью прочитал рецензию на "Любовь Яровую", напечатанную в московском журнале "Жизнь искусства": "...Бакинцы видели "Любовь
Яровую" не только с другими артистами, но и в других постановках (например, в гастролях Малого театра), но такого изумительного мастерства, какое проявляет Жаров, из маленькой эпизодической рольки Пикалова сумевший сделать подлинно художественный, насыщенный полнотой жизни образ, не видела, конечно, и сцена Ак. Малого".
Мне кажется, вы поймете мою гордость, когда узнаете, что листочек с этой рецензией прислала мне из Москвы заказным письмом моя мать. Сколько времени сидела она над ним с влажными от счастья глазами, - не знаю.
Материал роли, действительно, был великолепный. То, что это настоящая "крепкая" роль, то, что рядом Швандю репетировал актер Наум Соколов, окрыляло меня. Соколов не принимал мою работу во внимание. Ему надо было потягаться с московским Швандей - Степаном Кузнецовым. Он напряг всю свою выдумку и, перегрузив роль деталями, очевидно, потерял главное. А ведь есть правило: актер должен хотеть хорошо сыграть, но не надо стараться кого-нибудь переигрывать.
 Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
Помните первую встречу Пикалова со Швандей? Красные отступают, в город врываются белые. На опустевшую сцену из левой кулисы осторожно выходит Швандя с наганом в руке. Он останавливается, прячет глубоко в карман бушлата свое оружие. Потом, глядя в кулису, медленно пятится к середине сцены, а в это время из противоположной кулисы, также пятясь, выходит белый солдат Пикалов. Он длинен и неуклюж. На нем большие стоптанные сапоги с голенищами, как ведра, из которых торчат худые ноги; короткая, выше колен, измызганная шинелишка; на плечах - пустой вещевой мешок, на ремне жестяной чайник. Его солдатская фуражка скорее напоминает картуз лотошника. На веревке через плечо, мешая двигаться, болтается винтовка. На середине сцены обе фигуры сталкиваются и быстро оборачиваются. Швандя судорожно опускает руку в карман, Пикалов поднимает руки - сдается.
Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
Помните первую встречу Пикалова со Швандей? Красные отступают, в город врываются белые. На опустевшую сцену из левой кулисы осторожно выходит Швандя с наганом в руке. Он останавливается, прячет глубоко в карман бушлата свое оружие. Потом, глядя в кулису, медленно пятится к середине сцены, а в это время из противоположной кулисы, также пятясь, выходит белый солдат Пикалов. Он длинен и неуклюж. На нем большие стоптанные сапоги с голенищами, как ведра, из которых торчат худые ноги; короткая, выше колен, измызганная шинелишка; на плечах - пустой вещевой мешок, на ремне жестяной чайник. Его солдатская фуражка скорее напоминает картуз лотошника. На веревке через плечо, мешая двигаться, болтается винтовка. На середине сцены обе фигуры сталкиваются и быстро оборачиваются. Швандя судорожно опускает руку в карман, Пикалов поднимает руки - сдается.
 Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
На премьере уже один вид моего Пикалова вызвал смех. Когда же я, повернувшись спиной, поднял вверх руки, чтобы сдаваться, публика оценила неожиданность такого хода дружным хохотом и аплодисментами. Тогда Соколов сделал свой снайперский "выстрел" - подмигнул публике: "Ну и ну". Но это успеха не возымело. Последующий наш диалог публика слушала великолепно. С этой минуты и до конца спектакля все появления Пикалова принимались по восходящей, и, странное дело, чем шумнее был зал, тем спокойнее и увереннее я жил в образе.
Впервые в жизни я узнал непередаваемое ощущение актерской власти над образом. Это я был мужичонкой. Это я тосковал по дому, по земле. Это я своим мужицким умом, бесхитростным, но ясным, старался добросовестно доискаться правды. Я ничего не играл и не придумывал. Все придала мне жизнь в образе: и правдивость, и убедительность. Тут я открыл еще неизведанную истину - зритель покоряется твоей правде, он вместе с тобой, и ты его властелин.
Что же сделал на втором спектакле Наум Соколов? Когда мы с ним столкнулись спинами и я поднял руки, то не услыхал ожидаемой реакции - в зале была тишина. "В чем же дело, в чем я ошибся?" - промелькнуло в голове. Поворачиваюсь и вижу в руках у Шванди наган, направленный в мою сторону. Ясно, что вся острота решения сцены была сразу снята: ведь когда на человека направляют наган, он, естественно, поднимает руки.
Глаза у Соколова блестят. Он доволен - аплодисментов нет. Говорит реплику. Я молчу. Он шепчет сквозь зубы: "Отвечайте". Я смотрю на наган и только мотаю головой. Тогда он уже громче шепчет: "Отвечайте!". Я молча снимаю винтовку с плеча, вышибаю прикладом из рук Шванди наган, потом вешаю винтовку снова на плечо, и только тогда поднимаю руки. В зале аплодируют, там не заметили нашего столкновения - все сработало на сюжет сцены. Зрители видят только, как неуклюжий солдат, выбив из рук матроса наган, почему-то снова повесил ружье на плечо и решил сдаться. А так как вся нескладная фигура этого солдата не вяжется с проявленной им прытью и в следующий момент эта прыть не вяжется с решением "сдаться", - это вызывает изумление и осмысленный смех. Получается, что Пикалов сдается не потому, что у него нет другого выхода, а по убеждению. И сдаться матросу он решает достойно.
Вот так была однажды разыграна вариация на тему Швандя -Пикалов. И рождено это было непредвиденными режиссером обстоятельствами. Правда, Наум Соколов получил строгий выговор за "изменение установленной режиссурой мизансцены в спектакле "Любовь Яровая", но на этом наша холодная война не кончилась.
Мы играли "Растратчиков" В. Катаева.
К премьере готовились долго. Конструктивистское оформление спектакля, задуманное художником Шлепяновым, потребовало много сил и времени. Вся сцена пересекалась тросами, по которым бегали легкие ширмы в самых разных направлениях, разделяя игровые площадки. Такая кинематографическая смена мест действия, обозначаемых лишь скупыми деталями реквизита, привела к тому, что в день премьеры мы никак не могли начать спектакль, ибо ширмы заедало и не хватило времени на генеральную репетицию. Ширмы либо не двигались, либо останавливались на полдороге. Вместо восьми часов вечера спектакль начался около десяти. Мы сразу почувствовали враждебность зрительного зала. Никого, даже любимых актеров, публика не принимала. Так, в зловещей тишине, прошли первая и вторая картины, в которых участвовал Н. Соколов, и началась третья.
Я играл сторожа Никиту. В третьей картине герои -бухгалтер - Соколов, Ванечка - Вельский и сторож - я, получив деньги в банке, на минутку заходят в пивную. Но пивная оказалась только началом дальнейших приключений "растратчиков", - в этом суть. И вот мы втроем сидим за столом в пивной и ведем диалог, весьма живой и остроумный. У бухгалтера довольно большой монолог о своей жизни, а у сторожа всего несколько реплик.
По ходу действия наши герои то и дело спрашивают: "Сколько выпили?" - "Столько-то". - "Нужно еще добавить". На столе у нас - настоящее пиво, настоящая закуска: крутые яйца, раки.
Я сидел в центре. Слева от меня - Соколов, справа -Вельский.
Произнеся реплику, мой сторож обязательно должен был выпить пивка и закусить. Но так как у меня были наклеены большие моржовые усы, я понял, что раков есть не смогу и откусывать яйцо тоже опасно - в усах половина застрянет. Лучше всего отправить яйцо целиком в рот. Публика, как я уже сказал, сидела мрачная, не реагируя ни на текст, ни на нашу игру. Я разбил яйцо, очистил скорлупу, поднял пальцем усы и медленно отправил яйцо в рот. Раздался жидкий смешок, который совпал с какими-то смешными словами Соколова. Тот ободрился, глаза у него заблестели: наконец-то, удалось растопить лед. Мы тоже рады: слава тебе, господи, хоть Наум Соколов пробил зрителя!
Я удовлетворенно киваю головой, наливаю себе второй стакан пива, беру второе яйцо, поднимаю усы, и... белое яичко нырнуло в рот, как в норку. Как только оно скрылось, раздался уже не смешок, а хохот. Тогда Соколов, произносивший монолог, быстро переглянулся с нами, ничего не понимая. Успокоившись, Соколов продолжает монолог. Я думаю: "Интересно, над кем же это все-таки смеются?.. Может быть... надо мной? Надо проверить". Я наливаю себе третий стакан пива, беру третье яйцо и едва начинаю его облупливать, как в зале раздается хохот, а затем, когда яйцо спряталось за моими усами, и аплодисменты.
В общем в тот день я съел на сцене пять крутых яиц, а уходя, прихватил и шестое, проглотив его у самой кулисы. Шесть яиц развеселили публику. Напряжение первых сцен спектакля прошло, и дальше общение с залом разворачивалось в доверительном духе.
Этот случай стал предметом обсуждения на художественном совете театра, который пришел к заключению, что трюк с яйцами - в плане спектакля, на премьере он оказался даже переломным моментом, окрасив действие в нужные комедийные тона. Поэтому совет предложил на будущее сохранить его, ограничив число съедаемых яиц до трех.
На следующем спектакле "Растратчиков" получилась такая ситуация. Я - теперь уже совершенно спокойно - на законном основании (на стенке висел приказ художественного совета) очищаю яйцо и только собираюсь отправить его в рот, - вот добродушный простак! - как Вельский встает, перекрывая меня своим широким туловищем, поднимает стакан и говорит Соколову: "Ваше здоровье!". Они чокаются, и мое первое яйцо пропадает, невидимое зрителям. Трюк не удался. Мои братья-актеры, как видно, сговорились отомстить. Мне остается еще два яйца. Я быстро беру второе яйцо, опять собираюсь отправить его в рот, Вельский снова встает, торопливо произнося сакраментальную фразу: "Ваше здоровье!". Но тут я тоже не сижу на месте, а поднявшись во весь рост, так, чтобы быть видным зрителю, отправляю одно за другим два вареных яйца за моржовые усы. Грубо, но яйца сделали свое дело, победив и на втором спектакле. Потом глотанье я отменил совсем.
Этот случай не имеет, кажется, ничего общего с творчеством. Но в то же время он отражает обстановку конкретной борьбы в стенах старого театра. Эта вынужденная борьба, как и всякая борьба, заставляла оттачивать мастерство, порох всегда держать сухим и иметь в запасе изрядный набор приемов, технических секретов и, грубо говоря, "фортелей". При умелом их использовании в настоящей работе все это необходимо. Лень и равнодушие изгонялись начисто. Это было, как в спорте, где каждый отдает всего себя, чтобы выиграть соревнование.
Ночью, после спектакля, я беспокойно ворочался в кровати, беспрерывно ругал себя и за то, и за другое, что делал на сцене, и казалось, нет актера бездарнее меня.
И вспоминались московские друзья-актеры: "Им легко - они не знают, что такое "подсидка" на сцене! Им неизвестны жестокие законы провинциальной конкуренции! Хотя, как знать, это случается порой и в, столице... . Я припоминаю сейчас разговор с блестящим актером М. М. Тархановым. Во время съемок "Петра I" мы с ним очень сдружились и делились и радостями, и печалями. Помню, говоря о неудачах, он мне однажды признался:
- Надо засучив рукава работать и работать. От меня все ждут, что я выкину посмешнее что-нибудь. Я выхожу на сцену, еще ничего не делаю, пытаюсь что-то сообразить, а за кулисами уже стоит толпа и ждет, что я сфортелю. А я не хочу, мне не нужно фортелить, я хочу работать... Тогда они разочарованные уходят...
Золотые слова! В своей жизни я их вспоминал не раз...
В Бакинском рабочем театре я сыграл около двадцати ролей: Кочкарева в "Женитьбе" Гоголя, Ваську-Окорока в "Бронепоезде" Вс. Иванова, Молчалина и других. И что интересно... Жизнь все-таки великая искусница! Казалось бы, все, о чем я рассказал в связи с Наумом Соколовым, должно было сделать нас непримиримыми врагами. А дело кончилось тем, что мы стали лучшими друзьями. Сколько бессонных ночей провели мы с ним, сколько раз я плакал, слушая его великолепное пение - гитара и душа пели вместе. Сколько хороших и умных советов я получил от него. Это был действительно замечательный актер, чуть ли не легенда русской провинциальной сцены. Позже, когда мы уже разъехались и я работал в Москве, а он на короткое время тоже приехал из провинции в столицу и поступил в театр Красной Армии, он мне признался:
- Нет, Миша, я слишком беден, чтобы работать в Москве. Здесь могут работать только богачи. Здесь очень долго сидят без дела, ждут ролей, а не играют. Я не знаю, чем они живут. Натуры, что ли, у них такие богатые? А я жадный! Я бедный и жадный, я хочу много играть... Да, Маргуша, поедем в провинцию, она нас ждет! - закончил он, обращаясь к жене.
И действительно, пробыв в театре Красной Армии год или полтора, он уехал вместе с женой Маргаритой Горбатовой, ученицей Мейерхольда, чудесной актрисой, снова в провинцию и проработал там до конца дней своих. Уже после войны, когда праздновали 125-летний юбилей Малого театра, он приезжал с делегацией в Москву, и мы опять встретились. Долго сидели у меня, вспоминая Баку.
- Да, не прижился я в центре, - говорил он с улыбкой. -Может быть, это и хорошо. Здесь ведь артисты бога-а-атые! -Он почему-то любил повторять это слово. - Мне кажется, и белье-то они шьют себе из коверкота.
То, что я не отвечал на его наскоки тем же, не трусил, а отстаивал свое право артиста, не позволял себя третировать, ставя "премьера" на место, было оценено Наумом по достоинству. Это был, в сущности, чуткий, очень умный, доброжелательный в душе человек и великолепный товарищ в итоге. Сложная штука жизнь, судить о ней никак нельзя по готовой схеме, по заранее придуманным рецептам! А еще сложнее - наука познавать людей. Она дается не сразу и нелегко.
Казанский Большой драматический театр. Скупое и выразительное оформление И. Шлепянова, графически четкие мизансцены В. Федорова дали возможность актерам Н. Плотникову, О. Матисовой и С. Морскому создать волнующий и
цельный спектакль 'Норд-ост'
На премьере уже один вид моего Пикалова вызвал смех. Когда же я, повернувшись спиной, поднял вверх руки, чтобы сдаваться, публика оценила неожиданность такого хода дружным хохотом и аплодисментами. Тогда Соколов сделал свой снайперский "выстрел" - подмигнул публике: "Ну и ну". Но это успеха не возымело. Последующий наш диалог публика слушала великолепно. С этой минуты и до конца спектакля все появления Пикалова принимались по восходящей, и, странное дело, чем шумнее был зал, тем спокойнее и увереннее я жил в образе.
Впервые в жизни я узнал непередаваемое ощущение актерской власти над образом. Это я был мужичонкой. Это я тосковал по дому, по земле. Это я своим мужицким умом, бесхитростным, но ясным, старался добросовестно доискаться правды. Я ничего не играл и не придумывал. Все придала мне жизнь в образе: и правдивость, и убедительность. Тут я открыл еще неизведанную истину - зритель покоряется твоей правде, он вместе с тобой, и ты его властелин.
Что же сделал на втором спектакле Наум Соколов? Когда мы с ним столкнулись спинами и я поднял руки, то не услыхал ожидаемой реакции - в зале была тишина. "В чем же дело, в чем я ошибся?" - промелькнуло в голове. Поворачиваюсь и вижу в руках у Шванди наган, направленный в мою сторону. Ясно, что вся острота решения сцены была сразу снята: ведь когда на человека направляют наган, он, естественно, поднимает руки.
Глаза у Соколова блестят. Он доволен - аплодисментов нет. Говорит реплику. Я молчу. Он шепчет сквозь зубы: "Отвечайте". Я смотрю на наган и только мотаю головой. Тогда он уже громче шепчет: "Отвечайте!". Я молча снимаю винтовку с плеча, вышибаю прикладом из рук Шванди наган, потом вешаю винтовку снова на плечо, и только тогда поднимаю руки. В зале аплодируют, там не заметили нашего столкновения - все сработало на сюжет сцены. Зрители видят только, как неуклюжий солдат, выбив из рук матроса наган, почему-то снова повесил ружье на плечо и решил сдаться. А так как вся нескладная фигура этого солдата не вяжется с проявленной им прытью и в следующий момент эта прыть не вяжется с решением "сдаться", - это вызывает изумление и осмысленный смех. Получается, что Пикалов сдается не потому, что у него нет другого выхода, а по убеждению. И сдаться матросу он решает достойно.
Вот так была однажды разыграна вариация на тему Швандя -Пикалов. И рождено это было непредвиденными режиссером обстоятельствами. Правда, Наум Соколов получил строгий выговор за "изменение установленной режиссурой мизансцены в спектакле "Любовь Яровая", но на этом наша холодная война не кончилась.
Мы играли "Растратчиков" В. Катаева.
К премьере готовились долго. Конструктивистское оформление спектакля, задуманное художником Шлепяновым, потребовало много сил и времени. Вся сцена пересекалась тросами, по которым бегали легкие ширмы в самых разных направлениях, разделяя игровые площадки. Такая кинематографическая смена мест действия, обозначаемых лишь скупыми деталями реквизита, привела к тому, что в день премьеры мы никак не могли начать спектакль, ибо ширмы заедало и не хватило времени на генеральную репетицию. Ширмы либо не двигались, либо останавливались на полдороге. Вместо восьми часов вечера спектакль начался около десяти. Мы сразу почувствовали враждебность зрительного зала. Никого, даже любимых актеров, публика не принимала. Так, в зловещей тишине, прошли первая и вторая картины, в которых участвовал Н. Соколов, и началась третья.
Я играл сторожа Никиту. В третьей картине герои -бухгалтер - Соколов, Ванечка - Вельский и сторож - я, получив деньги в банке, на минутку заходят в пивную. Но пивная оказалась только началом дальнейших приключений "растратчиков", - в этом суть. И вот мы втроем сидим за столом в пивной и ведем диалог, весьма живой и остроумный. У бухгалтера довольно большой монолог о своей жизни, а у сторожа всего несколько реплик.
По ходу действия наши герои то и дело спрашивают: "Сколько выпили?" - "Столько-то". - "Нужно еще добавить". На столе у нас - настоящее пиво, настоящая закуска: крутые яйца, раки.
Я сидел в центре. Слева от меня - Соколов, справа -Вельский.
Произнеся реплику, мой сторож обязательно должен был выпить пивка и закусить. Но так как у меня были наклеены большие моржовые усы, я понял, что раков есть не смогу и откусывать яйцо тоже опасно - в усах половина застрянет. Лучше всего отправить яйцо целиком в рот. Публика, как я уже сказал, сидела мрачная, не реагируя ни на текст, ни на нашу игру. Я разбил яйцо, очистил скорлупу, поднял пальцем усы и медленно отправил яйцо в рот. Раздался жидкий смешок, который совпал с какими-то смешными словами Соколова. Тот ободрился, глаза у него заблестели: наконец-то, удалось растопить лед. Мы тоже рады: слава тебе, господи, хоть Наум Соколов пробил зрителя!
Я удовлетворенно киваю головой, наливаю себе второй стакан пива, беру второе яйцо, поднимаю усы, и... белое яичко нырнуло в рот, как в норку. Как только оно скрылось, раздался уже не смешок, а хохот. Тогда Соколов, произносивший монолог, быстро переглянулся с нами, ничего не понимая. Успокоившись, Соколов продолжает монолог. Я думаю: "Интересно, над кем же это все-таки смеются?.. Может быть... надо мной? Надо проверить". Я наливаю себе третий стакан пива, беру третье яйцо и едва начинаю его облупливать, как в зале раздается хохот, а затем, когда яйцо спряталось за моими усами, и аплодисменты.
В общем в тот день я съел на сцене пять крутых яиц, а уходя, прихватил и шестое, проглотив его у самой кулисы. Шесть яиц развеселили публику. Напряжение первых сцен спектакля прошло, и дальше общение с залом разворачивалось в доверительном духе.
Этот случай стал предметом обсуждения на художественном совете театра, который пришел к заключению, что трюк с яйцами - в плане спектакля, на премьере он оказался даже переломным моментом, окрасив действие в нужные комедийные тона. Поэтому совет предложил на будущее сохранить его, ограничив число съедаемых яиц до трех.
На следующем спектакле "Растратчиков" получилась такая ситуация. Я - теперь уже совершенно спокойно - на законном основании (на стенке висел приказ художественного совета) очищаю яйцо и только собираюсь отправить его в рот, - вот добродушный простак! - как Вельский встает, перекрывая меня своим широким туловищем, поднимает стакан и говорит Соколову: "Ваше здоровье!". Они чокаются, и мое первое яйцо пропадает, невидимое зрителям. Трюк не удался. Мои братья-актеры, как видно, сговорились отомстить. Мне остается еще два яйца. Я быстро беру второе яйцо, опять собираюсь отправить его в рот, Вельский снова встает, торопливо произнося сакраментальную фразу: "Ваше здоровье!". Но тут я тоже не сижу на месте, а поднявшись во весь рост, так, чтобы быть видным зрителю, отправляю одно за другим два вареных яйца за моржовые усы. Грубо, но яйца сделали свое дело, победив и на втором спектакле. Потом глотанье я отменил совсем.
Этот случай не имеет, кажется, ничего общего с творчеством. Но в то же время он отражает обстановку конкретной борьбы в стенах старого театра. Эта вынужденная борьба, как и всякая борьба, заставляла оттачивать мастерство, порох всегда держать сухим и иметь в запасе изрядный набор приемов, технических секретов и, грубо говоря, "фортелей". При умелом их использовании в настоящей работе все это необходимо. Лень и равнодушие изгонялись начисто. Это было, как в спорте, где каждый отдает всего себя, чтобы выиграть соревнование.
Ночью, после спектакля, я беспокойно ворочался в кровати, беспрерывно ругал себя и за то, и за другое, что делал на сцене, и казалось, нет актера бездарнее меня.
И вспоминались московские друзья-актеры: "Им легко - они не знают, что такое "подсидка" на сцене! Им неизвестны жестокие законы провинциальной конкуренции! Хотя, как знать, это случается порой и в, столице... . Я припоминаю сейчас разговор с блестящим актером М. М. Тархановым. Во время съемок "Петра I" мы с ним очень сдружились и делились и радостями, и печалями. Помню, говоря о неудачах, он мне однажды признался:
- Надо засучив рукава работать и работать. От меня все ждут, что я выкину посмешнее что-нибудь. Я выхожу на сцену, еще ничего не делаю, пытаюсь что-то сообразить, а за кулисами уже стоит толпа и ждет, что я сфортелю. А я не хочу, мне не нужно фортелить, я хочу работать... Тогда они разочарованные уходят...
Золотые слова! В своей жизни я их вспоминал не раз...
В Бакинском рабочем театре я сыграл около двадцати ролей: Кочкарева в "Женитьбе" Гоголя, Ваську-Окорока в "Бронепоезде" Вс. Иванова, Молчалина и других. И что интересно... Жизнь все-таки великая искусница! Казалось бы, все, о чем я рассказал в связи с Наумом Соколовым, должно было сделать нас непримиримыми врагами. А дело кончилось тем, что мы стали лучшими друзьями. Сколько бессонных ночей провели мы с ним, сколько раз я плакал, слушая его великолепное пение - гитара и душа пели вместе. Сколько хороших и умных советов я получил от него. Это был действительно замечательный актер, чуть ли не легенда русской провинциальной сцены. Позже, когда мы уже разъехались и я работал в Москве, а он на короткое время тоже приехал из провинции в столицу и поступил в театр Красной Армии, он мне признался:
- Нет, Миша, я слишком беден, чтобы работать в Москве. Здесь могут работать только богачи. Здесь очень долго сидят без дела, ждут ролей, а не играют. Я не знаю, чем они живут. Натуры, что ли, у них такие богатые? А я жадный! Я бедный и жадный, я хочу много играть... Да, Маргуша, поедем в провинцию, она нас ждет! - закончил он, обращаясь к жене.
И действительно, пробыв в театре Красной Армии год или полтора, он уехал вместе с женой Маргаритой Горбатовой, ученицей Мейерхольда, чудесной актрисой, снова в провинцию и проработал там до конца дней своих. Уже после войны, когда праздновали 125-летний юбилей Малого театра, он приезжал с делегацией в Москву, и мы опять встретились. Долго сидели у меня, вспоминая Баку.
- Да, не прижился я в центре, - говорил он с улыбкой. -Может быть, это и хорошо. Здесь ведь артисты бога-а-атые! -Он почему-то любил повторять это слово. - Мне кажется, и белье-то они шьют себе из коверкота.
То, что я не отвечал на его наскоки тем же, не трусил, а отстаивал свое право артиста, не позволял себя третировать, ставя "премьера" на место, было оценено Наумом по достоинству. Это был, в сущности, чуткий, очень умный, доброжелательный в душе человек и великолепный товарищ в итоге. Сложная штука жизнь, судить о ней никак нельзя по готовой схеме, по заранее придуманным рецептам! А еще сложнее - наука познавать людей. Она дается не сразу и нелегко.

 Бакинский Рабочий театр. Я люблю эту роль, этого деревенского Ваську Окорока, который был полон неистощимой энергии ('Бронепоезд 14-69' Вс. Иванова)
Первой работой Федорова и Шлепянова в студии был спектакль "Норд-ост" по пьесе Д. Щеглова, которым они уже успели заслужить доверие и любовь труппы. Спектакль шел часто, имел огромный успех. В основных ролях были заняты артисты Сергей Морской, Николай Плотников, Ольга Матисова,Вячеслав Новиков, игравший американского дядюшку Джеффера. В эту роль мне и предложили войти. Артисты очень дорожили своим спектаклем, привыкли друг к другу и ревниво отнеслись к новому исполнителю. Особенно насторожились они, зная, что я мейерхольдовец, а следовательно, противник метода Художественного театра, которым актеры Реалистического особо кичились, всячески подчеркивая свое мхатовское происхождение. Вряд ли у них были к тому особые основания. Ведь спектакль ставил тоже мейерхольдовец Федоров и оформлял опять же мейерхольдовец Шлепянов.
Да и все художественное решение "Норд-оста" было весьма далеко от канонов МХАТ. Играли не в привычных для него бытовых декорациях, а на откровенно условных площадках, укрепленных на металлических стойках. Три - четыре площадки были подвешены на разной от пола высоте. На них-то поочередно и развертывалось все действие пьесы.
Бакинский Рабочий театр. Я люблю эту роль, этого деревенского Ваську Окорока, который был полон неистощимой энергии ('Бронепоезд 14-69' Вс. Иванова)
Первой работой Федорова и Шлепянова в студии был спектакль "Норд-ост" по пьесе Д. Щеглова, которым они уже успели заслужить доверие и любовь труппы. Спектакль шел часто, имел огромный успех. В основных ролях были заняты артисты Сергей Морской, Николай Плотников, Ольга Матисова,Вячеслав Новиков, игравший американского дядюшку Джеффера. В эту роль мне и предложили войти. Артисты очень дорожили своим спектаклем, привыкли друг к другу и ревниво отнеслись к новому исполнителю. Особенно насторожились они, зная, что я мейерхольдовец, а следовательно, противник метода Художественного театра, которым актеры Реалистического особо кичились, всячески подчеркивая свое мхатовское происхождение. Вряд ли у них были к тому особые основания. Ведь спектакль ставил тоже мейерхольдовец Федоров и оформлял опять же мейерхольдовец Шлепянов.
Да и все художественное решение "Норд-оста" было весьма далеко от канонов МХАТ. Играли не в привычных для него бытовых декорациях, а на откровенно условных площадках, укрепленных на металлических стойках. Три - четыре площадки были подвешены на разной от пола высоте. На них-то поочередно и развертывалось все действие пьесы.

 Бакинским Рабочий театр. Пикалов (Любовь Яровая К. Тренева). Желание разобраться в происходящих событиях и недоумение оторванного от земли крестьянина - все это я
должен был передать
Артисты, воспитанные в духе психологической школы, играли вполне реалистически, режиссер и не требовал от них ничего другого, хотя и заставлял их действовать на фоне условной выгородки. Актеры мастерски преодолевали непривычные сложности, сохраняя при этом внутреннюю линию поведения персонажей, психологически оправдывая сложно построенные мизансцены.
Но сумеет ли сочетать это мейерхольдовец Жаров? Не разрушит ли он сценическую иллюзию, не пожертвует ли психологизмом ради трюка? Хотя внешне мои новые партнеры по репетициям были вежливы, но на самом деле в каждом их жесте и движении чувствовалось неприятие. Мне честно подавали реплики, но с некоторым холодком и пристальным прищуром. Мне предоставляли возможность свободно передвигаться по сцене, но тут же напоминали, что делал в данном случае предыдущий исполнитель. Когда я вносил что-то свое в рисунок роли, партнеры смущенно останавливались, беспомощно разводили руками и смотрели на режиссера, будто говоря: "У нас такого не было".
Бакинским Рабочий театр. Пикалов (Любовь Яровая К. Тренева). Желание разобраться в происходящих событиях и недоумение оторванного от земли крестьянина - все это я
должен был передать
Артисты, воспитанные в духе психологической школы, играли вполне реалистически, режиссер и не требовал от них ничего другого, хотя и заставлял их действовать на фоне условной выгородки. Актеры мастерски преодолевали непривычные сложности, сохраняя при этом внутреннюю линию поведения персонажей, психологически оправдывая сложно построенные мизансцены.
Но сумеет ли сочетать это мейерхольдовец Жаров? Не разрушит ли он сценическую иллюзию, не пожертвует ли психологизмом ради трюка? Хотя внешне мои новые партнеры по репетициям были вежливы, но на самом деле в каждом их жесте и движении чувствовалось неприятие. Мне честно подавали реплики, но с некоторым холодком и пристальным прищуром. Мне предоставляли возможность свободно передвигаться по сцене, но тут же напоминали, что делал в данном случае предыдущий исполнитель. Когда я вносил что-то свое в рисунок роли, партнеры смущенно останавливались, беспомощно разводили руками и смотрели на режиссера, будто говоря: "У нас такого не было".
 Бакинский Рабочий театр. 1931 г. Юбилей Бакинского рабочего театра был отмечен спектаклем 'Севиль' с участием знаменитой артистки Марзип Давудовой, создательницы роли Севили в Азербайджанском театре. Я играл Атакиши
Но Василий Федорович терпеливо объяснял:
- Вячеслав Новиков играл по-своему, а Михаил Жаров будет играть по-своему, чему же вы противитесь - это ведь в системе МХАТ. Давайте вместе посмотрим и решим, что вернее. Роль трудная и для пьесы очень важная.
В общем они почувствовали, что я сопротивляюсь старой трактовке, отстаиваю свое видение образа, отстаиваю тем более упорно, что образ дядюшки Джеффера был предельно ясен. В результате, судя по тому, как позже эти же самые артисты, товарищи по сцене, пожимали мне руки, я понял, что был принят в дружную актерскую семью.
Бакинский Рабочий театр. 1931 г. Юбилей Бакинского рабочего театра был отмечен спектаклем 'Севиль' с участием знаменитой артистки Марзип Давудовой, создательницы роли Севили в Азербайджанском театре. Я играл Атакиши
Но Василий Федорович терпеливо объяснял:
- Вячеслав Новиков играл по-своему, а Михаил Жаров будет играть по-своему, чему же вы противитесь - это ведь в системе МХАТ. Давайте вместе посмотрим и решим, что вернее. Роль трудная и для пьесы очень важная.
В общем они почувствовали, что я сопротивляюсь старой трактовке, отстаиваю свое видение образа, отстаиваю тем более упорно, что образ дядюшки Джеффера был предельно ясен. В результате, судя по тому, как позже эти же самые артисты, товарищи по сцене, пожимали мне руки, я понял, что был принят в дружную актерскую семью.
 Бакинский Рабочий театр. Сцена в домзаке из спектакля 'Вредный элемент'. Сидят: (справа налево) Н. Соколов, А. Стешин, Николай Волков, А. Шувалов; на полу - И. Липштейн,
стою я
Меня, уже битого и ученого, это радовало по двум причинам: во-первых, я не провалил роль и стал основным ее исполнителем, во-вторых, добился этого, не совершая сделки с совестью, не заискивая и не лицемеря, а честно отстаивая свой взгляд на творчество.
Мы зажили дружно, сердца растаяли, и работа пошла полным ходом. Я приобрел новых друзей.
Бакинский Рабочий театр. Сцена в домзаке из спектакля 'Вредный элемент'. Сидят: (справа налево) Н. Соколов, А. Стешин, Николай Волков, А. Шувалов; на полу - И. Липштейн,
стою я
Меня, уже битого и ученого, это радовало по двум причинам: во-первых, я не провалил роль и стал основным ее исполнителем, во-вторых, добился этого, не совершая сделки с совестью, не заискивая и не лицемеря, а честно отстаивая свой взгляд на творчество.
Мы зажили дружно, сердца растаяли, и работа пошла полным ходом. Я приобрел новых друзей.
 Бакинский рабочий театр. ...Условная декорация давала повод к условным мизансценам, но игра актеров была безусловно реалистической. Лиза - А. Сальникова, Молчалин - Мих. Жаров
('Горе от ума' А. Гоибоедова)
Критика оценила "Норд-ост" как новый шаг в эволюции Реалистического театра, как спектакль "на грани прошлых ошибок и новых достижений". В советском театре велась упорная борьба за современный репертуар, отражающий сегодняшний день новой России, С этих позиций выбор пьесы представлялся спорным, идея - малопонятной, но художественное решение спектакля признавалось оригинальным, свидетельствующим о плодотворных поисках Четвертой студии.
Бакинский рабочий театр. ...Условная декорация давала повод к условным мизансценам, но игра актеров была безусловно реалистической. Лиза - А. Сальникова, Молчалин - Мих. Жаров
('Горе от ума' А. Гоибоедова)
Критика оценила "Норд-ост" как новый шаг в эволюции Реалистического театра, как спектакль "на грани прошлых ошибок и новых достижений". В советском театре велась упорная борьба за современный репертуар, отражающий сегодняшний день новой России, С этих позиций выбор пьесы представлялся спорным, идея - малопонятной, но художественное решение спектакля признавалось оригинальным, свидетельствующим о плодотворных поисках Четвертой студии.

 'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
Для оформления спектакля Волков пригласил Шлепянова, который был поистине неисчерпаем. Он проявил всю свою незаурядную изобретательность, чтобы организовать многоэпизодный (тридцать один эпизод) спектакль на крохотной сцене. Художественный вкус сочетался у Шлепянова с трудолюбием и энциклопедическими знаниями -это был не только талантливейший художник, но и преданный друг актера.
Мы с ним были близкими друзьями. Сколько доводов, убеждений, сколько темперамента и страсти было нами израсходовано в дружеских спорах. С непокорной шевелюрой, с отросшей до глаз щетиной, он, как "би-ба-бо", смотрел доверчиво и дружелюбно на меня своими круглыми, как черные пуговицы, глазами, слушая и готовясь дать отпор. В моем актерском формировании он сыграл большую роль.
'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
Для оформления спектакля Волков пригласил Шлепянова, который был поистине неисчерпаем. Он проявил всю свою незаурядную изобретательность, чтобы организовать многоэпизодный (тридцать один эпизод) спектакль на крохотной сцене. Художественный вкус сочетался у Шлепянова с трудолюбием и энциклопедическими знаниями -это был не только талантливейший художник, но и преданный друг актера.
Мы с ним были близкими друзьями. Сколько доводов, убеждений, сколько темперамента и страсти было нами израсходовано в дружеских спорах. С непокорной шевелюрой, с отросшей до глаз щетиной, он, как "би-ба-бо", смотрел доверчиво и дружелюбно на меня своими круглыми, как черные пуговицы, глазами, слушая и готовясь дать отпор. В моем актерском формировании он сыграл большую роль.
 'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
Тот, кто не бывал в Четвертой студии, должен себе представить, что она помещалась в нынешнем здании Центрального театра кукол под руководством С. В. Образцова. Сцена размером всего десять шагов в ширину и почти столько же в глубину. И тем не менее Шлепянов сделал великолепную декорацию, детали которой на глазах у публики мгновенно деформировались и превращались в обстановку для следующей картины.
Декорация Шлепянова раскрывала внутреннюю сущность Швейка характерными деталями, определявшими юмористическую тональность эпизодов, и помогала наполнить глубоким социальным смыслом содержание всего спектакля.
'Будешь тоже актером!' - думал
я
, смотря на сына Евгения... И когда промелькнули годы, не знаю, а он уже на сцене и под руководством Н. П. Акимова играет мою роль - Мурзавецкого ('Волки и овцы' А. Н. Островского)
Тот, кто не бывал в Четвертой студии, должен себе представить, что она помещалась в нынешнем здании Центрального театра кукол под руководством С. В. Образцова. Сцена размером всего десять шагов в ширину и почти столько же в глубину. И тем не менее Шлепянов сделал великолепную декорацию, детали которой на глазах у публики мгновенно деформировались и превращались в обстановку для следующей картины.
Декорация Шлепянова раскрывала внутреннюю сущность Швейка характерными деталями, определявшими юмористическую тональность эпизодов, и помогала наполнить глубоким социальным смыслом содержание всего спектакля.
 Казанский Большой драматический театр. Васька Окорок был знаком мне, я только продолжал шлифовать грани этого образа, созданного еще в Бакинском рабочем театре. В пьесе 'Бронепоезд 14-69' играл я вместе с П. Герагой
Трудно было расчленить творчество художника, режиссера, актера я композитора в этой чудесной постановке.
Центральным местом спектакля, о котором быстро узнала вся театральная Москва, стал трюк, изобретенный Шлепяновым. Леонид Волков хотя и был воспитан как режиссер в системе Художественного театра, но очень охотно пошел на шлепяновскую выдумку.
Знаменитый трюк заключался в следующем. В тюремной часовне фельдкурат Кац произносил перед арестованными проповедь. Он стоял на кафедре, а за его спиной находилось огромное распятие Иисуса Христа.
1бсвж ете*м. гыФутмы
Колонки* 3*Л Д0А4 Соююа.
5€*Я е*и*я. (ввЛ>ял§ШО
11 ^ сентября
WWUhw CRtKTIRIb ttUfi-PU тт м CIMMI
p. e. ф. c. p
hrnriKCMmcjn ммч
ктшпы-ое глк c иелмтвчк*?*- ю*Ыги ritrut
.--- ■
Казанский Большой драматический театр. Васька Окорок был знаком мне, я только продолжал шлифовать грани этого образа, созданного еще в Бакинском рабочем театре. В пьесе 'Бронепоезд 14-69' играл я вместе с П. Герагой
Трудно было расчленить творчество художника, режиссера, актера я композитора в этой чудесной постановке.
Центральным местом спектакля, о котором быстро узнала вся театральная Москва, стал трюк, изобретенный Шлепяновым. Леонид Волков хотя и был воспитан как режиссер в системе Художественного театра, но очень охотно пошел на шлепяновскую выдумку.
Знаменитый трюк заключался в следующем. В тюремной часовне фельдкурат Кац произносил перед арестованными проповедь. Он стоял на кафедре, а за его спиной находилось огромное распятие Иисуса Христа.
1бсвж ете*м. гыФутмы
Колонки* 3*Л Д0А4 Соююа.
5€*Я е*и*я. (ввЛ>ял§ШО
11 ^ сентября
WWUhw CRtKTIRIb ttUfi-PU тт м CIMMI
p. e. ф. c. p
hrnriKCMmcjn ммч
ктшпы-ое глк c иелмтвчк*?*- ю*Ыги ritrut
.--- ■ Казанский Большой драматический театр. Афиши спектаклей группы театральной молодежи, гастролировавшей в рабочих
клубах
Арестанты шумно сморкались, оплакивая свою бесталанность. Тогда Кац патетически восклицал: "Плачьте, братья! И заметьте себе, скоты, что вы люди и бог ваш отец. Сукины вы дети! Так молитесь ему!".
Арестанты падали, "плача и стеная", на колени, кланялись распятому Христу.
Казанский Большой драматический театр. Афиши спектаклей группы театральной молодежи, гастролировавшей в рабочих
клубах
Арестанты шумно сморкались, оплакивая свою бесталанность. Тогда Кац патетически восклицал: "Плачьте, братья! И заметьте себе, скоты, что вы люди и бог ваш отец. Сукины вы дети! Так молитесь ему!".
Арестанты падали, "плача и стеная", на колени, кланялись распятому Христу.

 Блямбин - М. И. Жаров ('Миллион наличными' Ю. Н. Потехина)
Рисунок худ. С. М. Ефименко
И тем не менее артист не выдавал себя ни одним, даже самым малым движением, он так замирал на кресте, что трюк каждый раз встречали громом аплодисментов.
За кулисами по поводу "игры" Котовщикова иные актеры и актрисы изощрялись в "остроумии", вроде: "Саша, ты сегодня великолепно /кил в роли мертвого Христа".
В этом трюке отразился основной принцип постановки: раскрыть большой внутренний смысл через преувеличение бытовой детали, через гротеск.
Критика писала: "Отдельные сцены, как, например, сцена с крестом, попросту являются своего рода "находкой", настоящим театральным изобретением".
Блямбин - М. И. Жаров ('Миллион наличными' Ю. Н. Потехина)
Рисунок худ. С. М. Ефименко
И тем не менее артист не выдавал себя ни одним, даже самым малым движением, он так замирал на кресте, что трюк каждый раз встречали громом аплодисментов.
За кулисами по поводу "игры" Котовщикова иные актеры и актрисы изощрялись в "остроумии", вроде: "Саша, ты сегодня великолепно /кил в роли мертвого Христа".
В этом трюке отразился основной принцип постановки: раскрыть большой внутренний смысл через преувеличение бытовой детали, через гротеск.
Критика писала: "Отдельные сцены, как, например, сцена с крестом, попросту являются своего рода "находкой", настоящим театральным изобретением".


 Бравый солдат Швейк по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
Случилось так, что последний месяц сезона прошел не только в творческих, но и в общественных баталиях, которые еще теснее связали меня с коллективом театра. Дело было в том, что, несмотря на огромный успех двух постановок театра -"Норд-ост" и "Швейк", несмотря на то, что пресса продолжала отмечать "несомненный рост Реалистического театра", в самом театре оказались противники "крикливого новаторства". Те люди, к которым, по существу, и относились слова Л. Волкокова на репетиции: "Кто прячется за раз уж найденное, того я смогу освободить", начали склоку, а как известно, в склоке участвует не тот, кто трудится, работает, творит, - ему некогда этим заниматься,- а те, которые ничего не хотят делать. Всеми правдами и неправдами они создали такое положение в театре, что сначала, Тарханов, а вслед за ним и Федоров, главный режиссер, были вынуждены отойти от руководства театром. Ушел и Шлепянов. Вместо умных, талантливых и высокообразованных художников к руководству пришли чужие и случайные люди.
Новое руководство ничего не поняло в происходившем и вскоре восстановило против себя весь творческий состав и обслуживающие цехи. В довершение всего вскрылась полная бесхозяйственность. И вот тогда вырвался наружу общественный темперамент коллектива. Мне как председателю производственной комиссии месткома поручили возглавить борьбу против злоупотреблений нового руководства. Вместе с группой товарищей мы с головой ушли в проверку выполнения репертуарного плана, выполнения решений месткома и художественного совета, в проверку деятельности администрации и в составление документов, которые только одними фактами могли бы даже неискушенному человеку воочию показать, что новое руководство не оправдало свое назначение и что театр как коллектив может развалиться. Эта проверка возымела свое действие.
Самым старательным человеком нашей бригады, самой внимательной и трудолюбивой среди нашего актива была старейшая актриса М. Л. Роксанова, первая исполнительница роли Нины Заречной в Московском Художественном театре.
Бравый солдат Швейк по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
Случилось так, что последний месяц сезона прошел не только в творческих, но и в общественных баталиях, которые еще теснее связали меня с коллективом театра. Дело было в том, что, несмотря на огромный успех двух постановок театра -"Норд-ост" и "Швейк", несмотря на то, что пресса продолжала отмечать "несомненный рост Реалистического театра", в самом театре оказались противники "крикливого новаторства". Те люди, к которым, по существу, и относились слова Л. Волкокова на репетиции: "Кто прячется за раз уж найденное, того я смогу освободить", начали склоку, а как известно, в склоке участвует не тот, кто трудится, работает, творит, - ему некогда этим заниматься,- а те, которые ничего не хотят делать. Всеми правдами и неправдами они создали такое положение в театре, что сначала, Тарханов, а вслед за ним и Федоров, главный режиссер, были вынуждены отойти от руководства театром. Ушел и Шлепянов. Вместо умных, талантливых и высокообразованных художников к руководству пришли чужие и случайные люди.
Новое руководство ничего не поняло в происходившем и вскоре восстановило против себя весь творческий состав и обслуживающие цехи. В довершение всего вскрылась полная бесхозяйственность. И вот тогда вырвался наружу общественный темперамент коллектива. Мне как председателю производственной комиссии месткома поручили возглавить борьбу против злоупотреблений нового руководства. Вместе с группой товарищей мы с головой ушли в проверку выполнения репертуарного плана, выполнения решений месткома и художественного совета, в проверку деятельности администрации и в составление документов, которые только одними фактами могли бы даже неискушенному человеку воочию показать, что новое руководство не оправдало свое назначение и что театр как коллектив может развалиться. Эта проверка возымела свое действие.
Самым старательным человеком нашей бригады, самой внимательной и трудолюбивой среди нашего актива была старейшая актриса М. Л. Роксанова, первая исполнительница роли Нины Заречной в Московском Художественном театре.
 'Бравый солдат Швейк' по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
Акт, который мы составили, был зачитан на общем собрании труппы в присутствии представителей советских и партийных организаций района, и в открытом бою против бюрократизма и карьеризма нами была одержана первая вдохновляющая победа.
Борьба с бюрократизмом еще больше сплотила наш здоровый коллектив, но, потеряв своих художественных руководителей, театр все же не смог долго просуществовать. Он был передан Н. П. Охлопкову.
Когда я объявил своим товарищам, что на новый сезон опять еду работать в Баку, слова сожаления моих новых друзей, я чувствовал, не были только словами. Мне были устроены сердечные проводы и как актеру, близкому им по духу, и как общественнику.
'Бравый солдат Швейк' по роману Я. Гашека. Режиссер Л. Волков. Реалистический театр. 1930 год. Спектакль имел яркую сатирическую направленность, Швейк - Н. Плотников, Кац - М.
Жаров, аббат - В. Новиков
Акт, который мы составили, был зачитан на общем собрании труппы в присутствии представителей советских и партийных организаций района, и в открытом бою против бюрократизма и карьеризма нами была одержана первая вдохновляющая победа.
Борьба с бюрократизмом еще больше сплотила наш здоровый коллектив, но, потеряв своих художественных руководителей, театр все же не смог долго просуществовать. Он был передан Н. П. Охлопкову.
Когда я объявил своим товарищам, что на новый сезон опять еду работать в Баку, слова сожаления моих новых друзей, я чувствовал, не были только словами. Мне были устроены сердечные проводы и как актеру, близкому им по духу, и как общественнику.
 Во время проповеди фельдкурата Каца Христос на распятии в
смущении потирал ногой ногу
...Интересно устроен человек! В Москве за один сезон я сыграл две новые роли. Казалось бы, нашел то, что искал: передо мной был театр, в котором я мог спокойно и творчески продолжать работу. Но все-таки это были всего-навсего только две роли, и после напряженной работы в Баку п Казани я стал страдать от нерастраченных сил и кажущегося безделья. Когда на долю актера выпадает сразу слишком много ролей, его подстерегает неминуемая опасность заштамповаться, но если у актера мало ролей, то это ведет его к творческому застою, рождает леность. И чувствуешь, как медленно угасают желания и фантазия. Мириться с этим - творческая смерть!
И вот в сезон 1929/30 года я снова приезжаю в свой -ставший уже родным - Бакинский рабочий театр.
Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что я совсем ничего не говорю об отдыхе? Ведь человек должен же иногда отдыхать. Мне это было незнакомо. Мне казалось безумным расточительством, чтобы молодой здоровый человек, каким я был, полный творческого горения, мог расточать свое время, свои годы, такие дорогие и так быстро бегущие день за днем, на какой-то бессмысленный, как мне казалось, отдых. Поэтому между сезонами я снимался. Вот почему я успел за свой довольно длительный жизненный путь сняться почти в восьмидесяти картинах. Пусть там были и маленькие, и средние, и всякие роли, но если это было увлекательно, - я снимался. Меня обуревала жажда работы, и об этом мы будем говорить особо и позже. Это будет тот момент в моей творческой жизни, когда кино и театр тесно переплетутся между собой, не отбирая силы один от другого, не истощая их, а, наоборот, накапливая и взаимно обогащая и отшлифовывая мастерство актера. То самое мастерство, которое в те далекие годы я только-только начинал ощущать, ибо чтобы стать настоящим, подлинным мастером, мало одной жизни.
Во время проповеди фельдкурата Каца Христос на распятии в
смущении потирал ногой ногу
...Интересно устроен человек! В Москве за один сезон я сыграл две новые роли. Казалось бы, нашел то, что искал: передо мной был театр, в котором я мог спокойно и творчески продолжать работу. Но все-таки это были всего-навсего только две роли, и после напряженной работы в Баку п Казани я стал страдать от нерастраченных сил и кажущегося безделья. Когда на долю актера выпадает сразу слишком много ролей, его подстерегает неминуемая опасность заштамповаться, но если у актера мало ролей, то это ведет его к творческому застою, рождает леность. И чувствуешь, как медленно угасают желания и фантазия. Мириться с этим - творческая смерть!
И вот в сезон 1929/30 года я снова приезжаю в свой -ставший уже родным - Бакинский рабочий театр.
Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что я совсем ничего не говорю об отдыхе? Ведь человек должен же иногда отдыхать. Мне это было незнакомо. Мне казалось безумным расточительством, чтобы молодой здоровый человек, каким я был, полный творческого горения, мог расточать свое время, свои годы, такие дорогие и так быстро бегущие день за днем, на какой-то бессмысленный, как мне казалось, отдых. Поэтому между сезонами я снимался. Вот почему я успел за свой довольно длительный жизненный путь сняться почти в восьмидесяти картинах. Пусть там были и маленькие, и средние, и всякие роли, но если это было увлекательно, - я снимался. Меня обуревала жажда работы, и об этом мы будем говорить особо и позже. Это будет тот момент в моей творческой жизни, когда кино и театр тесно переплетутся между собой, не отбирая силы один от другого, не истощая их, а, наоборот, накапливая и взаимно обогащая и отшлифовывая мастерство актера. То самое мастерство, которое в те далекие годы я только-только начинал ощущать, ибо чтобы стать настоящим, подлинным мастером, мало одной жизни.


 'Оптимистическая трагедия' Вс. Вишневского. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1933 год. Алиса Коонен незабываема
для меня, как мой Комиссар
Я чуть было уже не высказался со всей резкостью о постановке, но, увидев приветливое выражение глаз Таирова, невольно изменил тон. Я говорил о спектакле, а думал о пути, пройденном этим художником, с которым сейчас мы так доверительно разговариваем, как старые друзья. И чем больше я об этом думал, тем яснее представлял односторонность и несправедливость наскоков на этого человека.
Ведь он начал как ниспровергатель натуралистического театра. Александр Яковлевич любил приводить в качестве аргумента против натурализма басню Эзопа: "На ярмарке скоморох стал подражать писку поросенка, и он это делал так искусно, что все кругом, придя в восторг, стали громко ему аплодировать. Тогда крестьянин побился об заклад, что пропищит так же хорошо: он спрятал под одеждой живого поросенка и стал щипать его. Поросенок, конечно, завизжал, но крестьянина ошикали. Что тут делать, поросенок, наверное, пищал хорошо, но безыскусно".
'Оптимистическая трагедия' Вс. Вишневского. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1933 год. Алиса Коонен незабываема
для меня, как мой Комиссар
Я чуть было уже не высказался со всей резкостью о постановке, но, увидев приветливое выражение глаз Таирова, невольно изменил тон. Я говорил о спектакле, а думал о пути, пройденном этим художником, с которым сейчас мы так доверительно разговариваем, как старые друзья. И чем больше я об этом думал, тем яснее представлял односторонность и несправедливость наскоков на этого человека.
Ведь он начал как ниспровергатель натуралистического театра. Александр Яковлевич любил приводить в качестве аргумента против натурализма басню Эзопа: "На ярмарке скоморох стал подражать писку поросенка, и он это делал так искусно, что все кругом, придя в восторг, стали громко ему аплодировать. Тогда крестьянин побился об заклад, что пропищит так же хорошо: он спрятал под одеждой живого поросенка и стал щипать его. Поросенок, конечно, завизжал, но крестьянина ошикали. Что тут делать, поросенок, наверное, пищал хорошо, но безыскусно".
 Я любил эту гармонику Алексея. Верил, что она могла передать и скорбь, и тоску, и буйство, и непокорность, словом, все оттенки душевных переживаний Алексея
Я также вспомнил его лекции, которые он читал актерам и его слова, что есть две правды - правда жизни и правда искусства.
Таиров называл свой театр "театром нового реализма", ибо он создавался реальным искусством актера в реальной, в пределах театральной правды, сценической атмосфере.
Он считал это выходом из театрального лабиринта и пошел по нему, но выход оказался ложным. В его театре шли "Жирофле-Жирофля", "Принцесса Брамбилла", "Человек, который был четвергом" - спектакли, знаменовавшие, собственно говоря, взлет Камерного театра к чистой театральности.
Я любил эту гармонику Алексея. Верил, что она могла передать и скорбь, и тоску, и буйство, и непокорность, словом, все оттенки душевных переживаний Алексея
Я также вспомнил его лекции, которые он читал актерам и его слова, что есть две правды - правда жизни и правда искусства.
Таиров называл свой театр "театром нового реализма", ибо он создавался реальным искусством актера в реальной, в пределах театральной правды, сценической атмосфере.
Он считал это выходом из театрального лабиринта и пошел по нему, но выход оказался ложным. В его театре шли "Жирофле-Жирофля", "Принцесса Брамбилла", "Человек, который был четвергом" - спектакли, знаменовавшие, собственно говоря, взлет Камерного театра к чистой театральности.

 'Патетическая соната' Н. Кулиша. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1931 год. Сцена на мансарде у Зинки, которую играла Ф. Раневская. Я играл матроса, А. Сумароков - юнкера
И вот то, как этот влюбленный в театр до самозабвения, мятущийся человек шагал по кабинету и, устремив на меня глаза, рассказывал план постановки "Сонаты", то, как он размахивал руками, рисуя как бы контуры будущего оформления (его шарф, который он уже к этому времени снял с плеч, делал в воздухе какие-то немыслимые зигзаги), - вся душевность, откровенность разговора и необычайное ко мне доверие меня покорили. Я встал и почему-то торжественно заявил:
- Да, Александр Яковлевич, я хочу идти с вами по этому пути. Значит - судьба!
Он подошел ко мне, обнял и сказал:
- Ну, в добрый путь, за работу!
'Патетическая соната' Н. Кулиша. Режиссер А. Я. Таиров. Камерный театр. 1931 год. Сцена на мансарде у Зинки, которую играла Ф. Раневская. Я играл матроса, А. Сумароков - юнкера
И вот то, как этот влюбленный в театр до самозабвения, мятущийся человек шагал по кабинету и, устремив на меня глаза, рассказывал план постановки "Сонаты", то, как он размахивал руками, рисуя как бы контуры будущего оформления (его шарф, который он уже к этому времени снял с плеч, делал в воздухе какие-то немыслимые зигзаги), - вся душевность, откровенность разговора и необычайное ко мне доверие меня покорили. Я встал и почему-то торжественно заявил:
- Да, Александр Яковлевич, я хочу идти с вами по этому пути. Значит - судьба!
Он подошел ко мне, обнял и сказал:
- Ну, в добрый путь, за работу!

 Пьеса шла в оформлении художника В. Рындина. Конструкция была очень удобна и позволяла перебрасывать действие с быстротой кинематографического монтажа
В. Ф. Рындин, соратник и соавтор его многих спектаклей, главный художник театра, соорудил очень эффектную и удобную для мизансцен коробку-площадку, которая была едина для всех картин: улица (по авансцене) и большой трехэтажный дом (в разрезе). Работали с воодушевлением все - Таиров умел увлекать!
Ф. Г. Раневская играла проститутку Зинку - лирически настроенную девицу, ищущую в каждой встрече такого мужчину, который мог бы ей сказать простые, ласковые, человеческие слова. Для Раневской, так же как и для меня, это был первый спектакль в театре Таирова. Естественно, она очень волновалась. Особенно усилилось ее волнение, когда она увидела декорации и узнала, что "мансарда" ее Зинки находится на третьем этаже.
- Александр Яковлевич, - всплеснула она руками, - что вы со мной делаете! Я боюсь высоты и не скажу ни слова, даже если каким-то чудом вы и поднимете меня на эту башню!
- Я все знаю, дорогая вы моя... - ласково сказал Таиров, взял ее под руку и повел.
Что он ей шептал, мы не слыхали, но наверх она вошла с ним бодро. Мне же он сказал:
- Когда взбежите на мансарду в поисках юнкера, не очень "жмите" на Фаину. Она боится высоты и еле там стоит.
Началась репетиция, я взбегаю наверх - большой, одноглазый, в шинели, накинутой, как плащ, на одно плечо, вооруженный с ног до головы и наступаю на Зинку, которая, пряча мальчишку, должна набродиться на меня, как кошка.
Пьеса шла в оформлении художника В. Рындина. Конструкция была очень удобна и позволяла перебрасывать действие с быстротой кинематографического монтажа
В. Ф. Рындин, соратник и соавтор его многих спектаклей, главный художник театра, соорудил очень эффектную и удобную для мизансцен коробку-площадку, которая была едина для всех картин: улица (по авансцене) и большой трехэтажный дом (в разрезе). Работали с воодушевлением все - Таиров умел увлекать!
Ф. Г. Раневская играла проститутку Зинку - лирически настроенную девицу, ищущую в каждой встрече такого мужчину, который мог бы ей сказать простые, ласковые, человеческие слова. Для Раневской, так же как и для меня, это был первый спектакль в театре Таирова. Естественно, она очень волновалась. Особенно усилилось ее волнение, когда она увидела декорации и узнала, что "мансарда" ее Зинки находится на третьем этаже.
- Александр Яковлевич, - всплеснула она руками, - что вы со мной делаете! Я боюсь высоты и не скажу ни слова, даже если каким-то чудом вы и поднимете меня на эту башню!
- Я все знаю, дорогая вы моя... - ласково сказал Таиров, взял ее под руку и повел.
Что он ей шептал, мы не слыхали, но наверх она вошла с ним бодро. Мне же он сказал:
- Когда взбежите на мансарду в поисках юнкера, не очень "жмите" на Фаину. Она боится высоты и еле там стоит.
Началась репетиция, я взбегаю наверх - большой, одноглазый, в шинели, накинутой, как плащ, на одно плечо, вооруженный с ног до головы и наступаю на Зинку, которая, пряча мальчишку, должна набродиться на меня, как кошка.

 Авторы пьесы 6р. Тур и Л. Шейнин (он в то время был следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР) часто
бывали на репетициях
Вернулся он с готовым планом спектакля, набросками оформления и разработанными характеристиками образов. Передо мной он поставил задачу сыграть Алексея как сложный психологический и вместе с тем героический образ. Для меня это было ново, а значит, и интересно.
К тому времени в советском театре, с легкой руки Г. Коврова и В. Ванина, создавших в "Шторме" великолепный образ красного моряка, выработалось особое амплуа "братишки".
Играть "братишку" я, конечно, не собирался, но Вишневский, зная, что сыграть этот навязший в зубах образ для меня легче легкого, в разговоре со мной не преминул предупредить:
- Боже сохрани тебя играть "братишку". Мы их уже видели на экране и на сцене. Твой Алексей - совсем другой! Помни, что я всегда здесь с вами, если тебя что-то не греет, что-то неясно и непонятно, спрашивай! Требуй! Работать будем вместе!
Авторы пьесы 6р. Тур и Л. Шейнин (он в то время был следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР) часто
бывали на репетициях
Вернулся он с готовым планом спектакля, набросками оформления и разработанными характеристиками образов. Передо мной он поставил задачу сыграть Алексея как сложный психологический и вместе с тем героический образ. Для меня это было ново, а значит, и интересно.
К тому времени в советском театре, с легкой руки Г. Коврова и В. Ванина, создавших в "Шторме" великолепный образ красного моряка, выработалось особое амплуа "братишки".
Играть "братишку" я, конечно, не собирался, но Вишневский, зная, что сыграть этот навязший в зубах образ для меня легче легкого, в разговоре со мной не преминул предупредить:
- Боже сохрани тебя играть "братишку". Мы их уже видели на экране и на сцене. Твой Алексей - совсем другой! Помни, что я всегда здесь с вами, если тебя что-то не греет, что-то неясно и непонятно, спрашивай! Требуй! Работать будем вместе!
 'Очная ставка' бр. ТУР и Л. Шейнина. Режиссер М. Жаров.
Камерный театр. 1938 год. Вместе с художником Б. Щуко мы
кадрировали спектакль на ряд сцен. Это рисунок Б. Щуко к сцене 'Убийство на железной дороге
'
Он принес мне литературу о флоте, о гражданской войне, словом, создавал вокруг меня атмосферу флотской жизни.
Таиров как-то сказал:
- Всеволод хочет, чтобы вы играли его. Попробуйте!
Пробовать я не стал - мы были уж очень разные. Я даже сознательно избегал его чудесных, но мешающих мне быть самостоятельным интонаций.
Словом, Алексей не был похож на Вишневского, и не был даже его братом. Передо мной стоял другой моряк, который манил меня, возбуждая фантазию. Я видел его и хотел показать, как человек с большой биографией, наш современник, мучительно на практике решает важнейшие
вопросы бытия и, философски осмыслив их, отдает в борьбе за народ свою жизнь.
Успех пьесы Вс. Вишневского был немыслим без Александра Яковлевича, который отдался работе целиком, без остатка, и вложил в нее не только все свое огромное искусство, мастерство, но и душу.
Надо отдать должное - в работе над спектаклем автор и режиссер были едины. Малейшие изменения и предложения Таирова автор реализовывал немедленно. Вишневскому много пришлось поработать над пьесой еще до театра, это можно установить хотя бы по названию пьесы, которое он менял трижды: вначале это была "Героика" (тема "Авроры"), затем "Да здравствует жизнь!" и, наконец, "Оптимистическая трагедия".
'Очная ставка' бр. ТУР и Л. Шейнина. Режиссер М. Жаров.
Камерный театр. 1938 год. Вместе с художником Б. Щуко мы
кадрировали спектакль на ряд сцен. Это рисунок Б. Щуко к сцене 'Убийство на железной дороге
'
Он принес мне литературу о флоте, о гражданской войне, словом, создавал вокруг меня атмосферу флотской жизни.
Таиров как-то сказал:
- Всеволод хочет, чтобы вы играли его. Попробуйте!
Пробовать я не стал - мы были уж очень разные. Я даже сознательно избегал его чудесных, но мешающих мне быть самостоятельным интонаций.
Словом, Алексей не был похож на Вишневского, и не был даже его братом. Передо мной стоял другой моряк, который манил меня, возбуждая фантазию. Я видел его и хотел показать, как человек с большой биографией, наш современник, мучительно на практике решает важнейшие
вопросы бытия и, философски осмыслив их, отдает в борьбе за народ свою жизнь.
Успех пьесы Вс. Вишневского был немыслим без Александра Яковлевича, который отдался работе целиком, без остатка, и вложил в нее не только все свое огромное искусство, мастерство, но и душу.
Надо отдать должное - в работе над спектаклем автор и режиссер были едины. Малейшие изменения и предложения Таирова автор реализовывал немедленно. Вишневскому много пришлось поработать над пьесой еще до театра, это можно установить хотя бы по названию пьесы, которое он менял трижды: вначале это была "Героика" (тема "Авроры"), затем "Да здравствует жизнь!" и, наконец, "Оптимистическая трагедия".


 'Очная ставка'. Сцену допроса диверсанта в ('Очной ставке' играть было нелегко. Диверсант - Ю. Заостровский, Лавренко -
С. Гортинский, Галкин - В. Черневский, Ларцев - М. Жаров
У Таирова было очень ценное для режиссера качество - он знал толк в изобразительном искусстве. Вместе со своим другом и помощником Вадимом Рындиным, который был незаменимым исполнителем его замыслов, он необыкновенно точно, выразительно, с подлинной театральностью раскрывал в декорациях замысел спектакля.
Так было и на этот раз. Таиров и Рындин сделали макет сцены "Оптимистической", который позволял мгновенно трансформировать площадку то в палубу корабля, то в бетонированный дот, то в каюту командира, то в тюремную камеру. Все это достигалось незначительными деформациями, передвижениями скупых деталей декораций и специальных ширм. Спектакль в своей основе был сосредоточен на актерах, на их игре.
Артист был всюду в фокусе зрителя; графически разбросанные группы актеров создавали благодаря четким и скупым линиям оформления и отсутствию ненужных бытовых подробностей суровую и мужественную панораму героической поэмы.
'Очная ставка'. Сцену допроса диверсанта в ('Очной ставке' играть было нелегко. Диверсант - Ю. Заостровский, Лавренко -
С. Гортинский, Галкин - В. Черневский, Ларцев - М. Жаров
У Таирова было очень ценное для режиссера качество - он знал толк в изобразительном искусстве. Вместе со своим другом и помощником Вадимом Рындиным, который был незаменимым исполнителем его замыслов, он необыкновенно точно, выразительно, с подлинной театральностью раскрывал в декорациях замысел спектакля.
Так было и на этот раз. Таиров и Рындин сделали макет сцены "Оптимистической", который позволял мгновенно трансформировать площадку то в палубу корабля, то в бетонированный дот, то в каюту командира, то в тюремную камеру. Все это достигалось незначительными деформациями, передвижениями скупых деталей декораций и специальных ширм. Спектакль в своей основе был сосредоточен на актерах, на их игре.
Артист был всюду в фокусе зрителя; графически разбросанные группы актеров создавали благодаря четким и скупым линиям оформления и отсутствию ненужных бытовых подробностей суровую и мужественную панораму героической поэмы.
 'Ошибка инженера Кочина'. Режиссер А. Мачерет. 'Мосфильм'. 1939 год. 'Ошибка инженера Кочина' - это кинематографический вариант пьесы 'Очная ставка'. Актеры М. Жаров - Ларцев и С.
Никонов - Лавренко, Л. Кмит - официант и М. Гаврилко -официантка на натурной съемке
Таиров дневал и ночевал в театре: днем - репетиции, вечером - работа с Рындиным, Вишневским или совещания руководителей цехов. Все сам! Везде сам! А ночью, после спектакля (он жил при театре, в квартире на втором этаже), рассказывал нам пожарник: "Придет на сцену и все что-то ходит с книжкой, а потом наденет очки и начинает в голос читать, а света-то всего, что от дежурной лампочки! .
Таиров был искусным командиром на капитанском мостике и уверенно вел театральный корабль по курсу, когда дело доходило до главного - до сценического воплощения авторского замысла.
Единственно, что мне мешало в работе с Таировым над "Оптимистической", это его попытки определять тональность речи. И когда однажды я попросил его не показывать мне интонации, так как меня это сбивает, - он очень удивился:
- Что вы говорите? А вот Церетелли меня всегда перед выходом даже искал, чтобы я ему произнес интонацию! Он мною пользовался, как камертоном!
'Ошибка инженера Кочина'. Режиссер А. Мачерет. 'Мосфильм'. 1939 год. 'Ошибка инженера Кочина' - это кинематографический вариант пьесы 'Очная ставка'. Актеры М. Жаров - Ларцев и С.
Никонов - Лавренко, Л. Кмит - официант и М. Гаврилко -официантка на натурной съемке
Таиров дневал и ночевал в театре: днем - репетиции, вечером - работа с Рындиным, Вишневским или совещания руководителей цехов. Все сам! Везде сам! А ночью, после спектакля (он жил при театре, в квартире на втором этаже), рассказывал нам пожарник: "Придет на сцену и все что-то ходит с книжкой, а потом наденет очки и начинает в голос читать, а света-то всего, что от дежурной лампочки! .
Таиров был искусным командиром на капитанском мостике и уверенно вел театральный корабль по курсу, когда дело доходило до главного - до сценического воплощения авторского замысла.
Единственно, что мне мешало в работе с Таировым над "Оптимистической", это его попытки определять тональность речи. И когда однажды я попросил его не показывать мне интонации, так как меня это сбивает, - он очень удивился:
- Что вы говорите? А вот Церетелли меня всегда перед выходом даже искал, чтобы я ему произнес интонацию! Он мною пользовался, как камертоном!





 Ларцев - М. И. Жаров ('Очная ставка' братьев Тур и Л. Р. Шейнина). Рисунок худ. Э. Г. Мордмилловича
А за кулисами уже стоял Вишневский: - Ну, что?
- Я ухожу из театра. Так репетировать я не буду. А иначе они не дадут, все равно затрут!..
- Да ты не горячись! Подожди! - сказал он, отводя меня в темный угол. - Я тебя прекрасно понимаю. Твоя запальчивость доказывает, что ты болеешь за эту роль. Но доверься мне: я сижу в зрительном зале и все вижу. Поверь, Алексей и Комиссар - фигуры для меня одинаково дорогие. В Алексее я вижу свои чувства, а в Комиссаре я вижу свои мысли. Поэтому я тебя попрошу: потерпи! Главное - не спорь! Если не будешь спорить, - все выйдет! Дожмем! Подожди премьеры, -посмотришь, как будут тебя принимать! И увидишь, что это роль, которая нужна и тебе лично, и театру, в котором ты работаешь. Понял?
Но я уже зарвался и, закусив удила, твердил только:
- Нет! Уйду! Уйду!
- Ну, смотри. Подумай, о чем я тебе сказал, и не делай глупостей, - уговаривал меня Вишневский. - А дома посмотри вот эту книгу, которую я хотел подарить тебе на генеральной репетиции, но, ладно, так и быть... - И он сунул мне в карман первое издание "Оптимистической трагедии".
"...Матросу Жарову с творческим огнем и уверенностью в его российском таланте. Вс. Вишневский, 18 авг. 1933 г." -прочитали мне дома, когда я, не раздеваясь, бухнулся на диван и, уткнувшись носом в стенку, пролежал так до вечера.
Ларцев - М. И. Жаров ('Очная ставка' братьев Тур и Л. Р. Шейнина). Рисунок худ. Э. Г. Мордмилловича
А за кулисами уже стоял Вишневский: - Ну, что?
- Я ухожу из театра. Так репетировать я не буду. А иначе они не дадут, все равно затрут!..
- Да ты не горячись! Подожди! - сказал он, отводя меня в темный угол. - Я тебя прекрасно понимаю. Твоя запальчивость доказывает, что ты болеешь за эту роль. Но доверься мне: я сижу в зрительном зале и все вижу. Поверь, Алексей и Комиссар - фигуры для меня одинаково дорогие. В Алексее я вижу свои чувства, а в Комиссаре я вижу свои мысли. Поэтому я тебя попрошу: потерпи! Главное - не спорь! Если не будешь спорить, - все выйдет! Дожмем! Подожди премьеры, -посмотришь, как будут тебя принимать! И увидишь, что это роль, которая нужна и тебе лично, и театру, в котором ты работаешь. Понял?
Но я уже зарвался и, закусив удила, твердил только:
- Нет! Уйду! Уйду!
- Ну, смотри. Подумай, о чем я тебе сказал, и не делай глупостей, - уговаривал меня Вишневский. - А дома посмотри вот эту книгу, которую я хотел подарить тебе на генеральной репетиции, но, ладно, так и быть... - И он сунул мне в карман первое издание "Оптимистической трагедии".
"...Матросу Жарову с творческим огнем и уверенностью в его российском таланте. Вс. Вишневский, 18 авг. 1933 г." -прочитали мне дома, когда я, не раздеваясь, бухнулся на диван и, уткнувшись носом в стенку, пролежал так до вечера.


 КРАСНОЙ
—XV—
АРМИИ
*
Книга 'Оптимистическая трагедия' Вс. В. Вишневского с дарственной надписью автора М. И. Жарову
- Почти так!.. Я не понимаю, скажите... почему нельзя Алексея подать крупно, броско. Для того чтобы победа Комиссара была полной, нужно сделать так, чтобы она далась нелегко. Разве неверно?
- Верно! Почти верно! При условии, если бы Алексея играл другой актер. Вам не кажется, дорогой друг, что победа над Алексеем для Комиссара и без того не так уж легка? Коонен играет труднейшую и не такую эффектную роль, как ваша. Вы только подумайте о своем выходе - с гармошкой да еще с таким монологом, как у вас!
Как же должна себя чувствовать в эти минуты исполнительница роли Комиссара? Ну, будьте логичны до
конца - она должна положить роль на стол, как это сегодня сделали вы с гармошкой, и сказать: "Или я, или ваш
популярный Жаров". Ведь вы сделали так? Не правда ли? А она?.. Алиса Георгиевна сегодня после вашего ухода просила меня оставить мизансцену по-старому, как мы раньше репетировали.
Голос его был мягким и спокойным, меня он не стыдил и не упрекал. Он смотрел на меня, не улыбаясь. Рот был грустный, а глаза добрые. Рука тряслась лишь немного больше, чем обычно, и капли пота проступили на подбородке.
КРАСНОЙ
—XV—
АРМИИ
*
Книга 'Оптимистическая трагедия' Вс. В. Вишневского с дарственной надписью автора М. И. Жарову
- Почти так!.. Я не понимаю, скажите... почему нельзя Алексея подать крупно, броско. Для того чтобы победа Комиссара была полной, нужно сделать так, чтобы она далась нелегко. Разве неверно?
- Верно! Почти верно! При условии, если бы Алексея играл другой актер. Вам не кажется, дорогой друг, что победа над Алексеем для Комиссара и без того не так уж легка? Коонен играет труднейшую и не такую эффектную роль, как ваша. Вы только подумайте о своем выходе - с гармошкой да еще с таким монологом, как у вас!
Как же должна себя чувствовать в эти минуты исполнительница роли Комиссара? Ну, будьте логичны до
конца - она должна положить роль на стол, как это сегодня сделали вы с гармошкой, и сказать: "Или я, или ваш
популярный Жаров". Ведь вы сделали так? Не правда ли? А она?.. Алиса Георгиевна сегодня после вашего ухода просила меня оставить мизансцену по-старому, как мы раньше репетировали.
Голос его был мягким и спокойным, меня он не стыдил и не упрекал. Он смотрел на меня, не улыбаясь. Рот был грустный, а глаза добрые. Рука тряслась лишь немного больше, чем обычно, и капли пота проступили на подбородке.


 'Медведь'. Режиссер И. Анненский. 'Белгоскино'. 1938 год. Комедийный талант и высокая школа Художественного театра помоглиОльге Андровской создать шедевр
Выслушав меня, Таиров покачал головой и сказал:
- Нет! Категорически нет! Прелесть вашего обаяния в лице и улыбке, в вашей манере ходить и разговаривать. Зритель уже успел вас полюбить за эти ваши качества! Вам не надо наклеивать ни носа, ни щек, особенно для Алексея.
- Значит, во всех ролях ходить самим собой? Где же перевоплощение?
- Ведь перевоплощение, о котором всегда идет такой большой разговор и даже спор в искусстве актера, заключается не только в том, что актер переменит тот или иной парик или...
- Или, - стремительно перебил его я, - наклеит бороду, так ведь? Длинную или короткую? И не в том, будут ли у него усы колечком, коротко подстрижены или вовсе он выйдет без усов? Так? Вы это хотите сказать? Что это может быть подсобным выразительным материалом, а перевоплощение надо понимать, как внутреннее перерождение артиста. Ведь так? Ведь в этом правда? Александр Яковлевич, скажите?
- Тихо, тихо! Не надо столько темперамента! Правда. Но эта наша с вами правда, а у других есть другие, их правды. Все хорошо, что убеждает...
- Да! Значит, перерождение происходит, когда я с моими качествами перехожу как бы в область чувств и эмоций другого человека, и живу его жизнью, оставаясь внешне таким, как я есть?
- Именно! - поддержал он мою мысль. - Тогда и ваше лицо, и ваши жесты будут подчиняться как бы тому новому образу, который создается у вас внутри. Вы психологически перестраиваете весь свой аппарат по-другому. И тогда вы будете и внутренне перевоплощаться в другого человека, и внешне, хотя зритель каждый раз и может видеть в вас Жарова. Вы этого не бойтесь!
'Медведь'. Режиссер И. Анненский. 'Белгоскино'. 1938 год. Комедийный талант и высокая школа Художественного театра помоглиОльге Андровской создать шедевр
Выслушав меня, Таиров покачал головой и сказал:
- Нет! Категорически нет! Прелесть вашего обаяния в лице и улыбке, в вашей манере ходить и разговаривать. Зритель уже успел вас полюбить за эти ваши качества! Вам не надо наклеивать ни носа, ни щек, особенно для Алексея.
- Значит, во всех ролях ходить самим собой? Где же перевоплощение?
- Ведь перевоплощение, о котором всегда идет такой большой разговор и даже спор в искусстве актера, заключается не только в том, что актер переменит тот или иной парик или...
- Или, - стремительно перебил его я, - наклеит бороду, так ведь? Длинную или короткую? И не в том, будут ли у него усы колечком, коротко подстрижены или вовсе он выйдет без усов? Так? Вы это хотите сказать? Что это может быть подсобным выразительным материалом, а перевоплощение надо понимать, как внутреннее перерождение артиста. Ведь так? Ведь в этом правда? Александр Яковлевич, скажите?
- Тихо, тихо! Не надо столько темперамента! Правда. Но эта наша с вами правда, а у других есть другие, их правды. Все хорошо, что убеждает...
- Да! Значит, перерождение происходит, когда я с моими качествами перехожу как бы в область чувств и эмоций другого человека, и живу его жизнью, оставаясь внешне таким, как я есть?
- Именно! - поддержал он мою мысль. - Тогда и ваше лицо, и ваши жесты будут подчиняться как бы тому новому образу, который создается у вас внутри. Вы психологически перестраиваете весь свой аппарат по-другому. И тогда вы будете и внутренне перевоплощаться в другого человека, и внешне, хотя зритель каждый раз и может видеть в вас Жарова. Вы этого не бойтесь!



 'Медведь'. ...И совсем неожиданно для водевиля - с душевной тоской и отчаянием обманутой женщины - О. Андровская сыграла сцену с письмами...
И вдруг что-то случилось. Как будто лопнула, растаяла, куда-то исчезла преграда, отделявшая от нас сердца зрителей и незримо существовавшая вначале. Возникло редкое единение душ, полное понимание того, что творится на сцене. Ведь и там, и здесь были люди в мундирах. Только на сцене артисты средствами искусства показывали, воскрешали картины жизни и борьбы первых военных моряков за создание Советского флота, а там, в зрительном зале, нынешние командиры Красной Армии и Флота вспоминали боевые дни. У нас возник поистине единый язык.
'Медведь'. ...И совсем неожиданно для водевиля - с душевной тоской и отчаянием обманутой женщины - О. Андровская сыграла сцену с письмами...
И вдруг что-то случилось. Как будто лопнула, растаяла, куда-то исчезла преграда, отделявшая от нас сердца зрителей и незримо существовавшая вначале. Возникло редкое единение душ, полное понимание того, что творится на сцене. Ведь и там, и здесь были люди в мундирах. Только на сцене артисты средствами искусства показывали, воскрешали картины жизни и борьбы первых военных моряков за создание Советского флота, а там, в зрительном зале, нынешние командиры Красной Армии и Флота вспоминали боевые дни. У нас возник поистине единый язык.



 Фильм 'Его призыв
'
я репетировал сперва с Н. Баталовым, затем с Ив. Коваль-Самборским. Все менялось, все зависело от актера:
мизансцены, кадры
Твоей партнершей будет великолепная актриса театра Вахтангова - Елизавета Алексеева. Она статная и красивая. Ты видел, как она играет Виринею. В остальных ролях будут заняты тоже "неплохие" актеры: Блюменталь-Тамарина, Поль и Таня Мухина. Состав актеров, как видишь, дай бог! -закончил он.
Таня была девочка-вундеркинд, и ей прочили большую будущность. Мою дочку в нашей картине она играла очаровательно. Но, к сожалению, заняв ее в нескольких картинах, где нужна была ее наивность и детскость, Таню снимать перестали. Она выросла. Ее судьба мне неизвестна.
Фильм 'Его призыв
'
я репетировал сперва с Н. Баталовым, затем с Ив. Коваль-Самборским. Все менялось, все зависело от актера:
мизансцены, кадры
Твоей партнершей будет великолепная актриса театра Вахтангова - Елизавета Алексеева. Она статная и красивая. Ты видел, как она играет Виринею. В остальных ролях будут заняты тоже "неплохие" актеры: Блюменталь-Тамарина, Поль и Таня Мухина. Состав актеров, как видишь, дай бог! -закончил он.
Таня была девочка-вундеркинд, и ей прочили большую будущность. Мою дочку в нашей картине она играла очаровательно. Но, к сожалению, заняв ее в нескольких картинах, где нужна была ее наивность и детскость, Таню снимать перестали. Она выросла. Ее судьба мне неизвестна.
 Один из самых первых Я. Протазанов привлек в кино актеров театра, и мы полюбили новое искусство. В этом фильме состоялось первое выступление Веры Марецкой в кино. Она играла совсем маленькую роль. Вот она выглядывает из-за плеча танцующего В. Аталова, а я играю на гармонике
Картина была для меня первой интересной большой работой. Она не стала боевиком, подобным "Аэлите", но все же шла на первых экранах.
Снимали картину быстро. Директором картины был М. С. Трофимов, бывший хозяин киностудии, которому и принадлежал этот павильон, он же основатель акционерного общества "Русь".
После революции акционерное общество было реорганизовано и стало называться "Межрабпом-Русь" -международная рабочая помощь. М. С. Трофимов остался работать, продолжая быть директором целого ряда картин.
Один из самых первых Я. Протазанов привлек в кино актеров театра, и мы полюбили новое искусство. В этом фильме состоялось первое выступление Веры Марецкой в кино. Она играла совсем маленькую роль. Вот она выглядывает из-за плеча танцующего В. Аталова, а я играю на гармонике
Картина была для меня первой интересной большой работой. Она не стала боевиком, подобным "Аэлите", но все же шла на первых экранах.
Снимали картину быстро. Директором картины был М. С. Трофимов, бывший хозяин киностудии, которому и принадлежал этот павильон, он же основатель акционерного общества "Русь".
После революции акционерное общество было реорганизовано и стало называться "Межрабпом-Русь" -международная рабочая помощь. М. С. Трофимов остался работать, продолжая быть директором целого ряда картин.


 'Его призыв'. С Ив. Коваль-Самборским меня сдружила любовь к театру и кино. Здесь мы с ним в качестве шефов приехали в
деревню
Так на опыте я познал простую истину - изображая трудовой процесс, ты должен его познать и овладеть им, иначе стеклянный глаз объектива, который "все видит, все знает", обнаружит подделку, "липу".
Так постепенно, шаг за шагом, шла моя шлифовка и обкатка для кино.
'Его призыв'. С Ив. Коваль-Самборским меня сдружила любовь к театру и кино. Здесь мы с ним в качестве шефов приехали в
деревню
Так на опыте я познал простую истину - изображая трудовой процесс, ты должен его познать и овладеть им, иначе стеклянный глаз объектива, который "все видит, все знает", обнаружит подделку, "липу".
Так постепенно, шаг за шагом, шла моя шлифовка и обкатка для кино.
 . ■
'Дорога к счастью' Режиссер С. Козловский. 'Межрабпом-Русь', 1925 год. Егор Миронов в картине 'Дорога к счастью' был моей
первой большой ролью в кино
Я видел, что М. С. Трофимов рассердился, был испорчен съемочный день. Я принес убыток. Разволновавшись, я не спал в эту ночь.
Лежа на спине в сарае, на душистом сене, я в полудремоте мечтал: "Как было бы красиво выйти на луг и показать класс!".
. ■
'Дорога к счастью' Режиссер С. Козловский. 'Межрабпом-Русь', 1925 год. Егор Миронов в картине 'Дорога к счастью' был моей
первой большой ролью в кино
Я видел, что М. С. Трофимов рассердился, был испорчен съемочный день. Я принес убыток. Разволновавшись, я не спал в эту ночь.
Лежа на спине в сарае, на душистом сене, я в полудремоте мечтал: "Как было бы красиво выйти на луг и показать класс!".






 'Случай на мельнице' - одна из первых работ оператора Е.
Любимова, в ней он удачно снял натуру. Кадры замерзшей мельницы и плотины очень хороши
И вот смотришь вечером готовый материал в кусках, отворачиваешься, краснеешь, мотаешь головой - все кажется ужасным, и сам ты какой-то долговязый урод! Почему это? Ктоскажет? Почему все играют хорошо, а я... Ох!
Единственный человек, которому я доверял, был Козловский, и я ему сказал:
- У меня ничего не получается. Как сделать, чтобы получалось? Научите! Подскажите!
- Во-первых, у тебя получается. Если бы не получалось, я давно снял бы тебя с роли. Не мудри, а ступай лучше спать, нам надо рано встать.
'Случай на мельнице' - одна из первых работ оператора Е.
Любимова, в ней он удачно снял натуру. Кадры замерзшей мельницы и плотины очень хороши
И вот смотришь вечером готовый материал в кусках, отворачиваешься, краснеешь, мотаешь головой - все кажется ужасным, и сам ты какой-то долговязый урод! Почему это? Ктоскажет? Почему все играют хорошо, а я... Ох!
Единственный человек, которому я доверял, был Козловский, и я ему сказал:
- У меня ничего не получается. Как сделать, чтобы получалось? Научите! Подскажите!
- Во-первых, у тебя получается. Если бы не получалось, я давно снял бы тебя с роли. Не мудри, а ступай лучше спать, нам надо рано встать.
 'Мисс Менд'. Режиссер Ф. Оцеп. 'Межрабпом-Русь'. 1926 год. Режиссер Ф. Оцеп предложил мне придумать эпизод. 'Хорошо!' -ответил я, и в роли веселого официанта вошел в картину
Но меня это не успокоило. Смотреть себя на экране мне было очень трудно. Во всех движениях и взглядах я чувствовал ложь, неестественность. Правда, часть беспокойства отпала, когда из наводящих и осторожных разговоров с более опытными товарищами я узнал одно интересное обстоятельство: для того чтобы привыкнуть, научиться
смотреть на себя на экране как на постороннее лицо, нужно спокойствие, которое приходит со временем.
Это абсолютно верно. Сейчас, когда я гляжу на себя на экране, то спокойно разбираюсь, что хорошо и что плохо.
И тем не менее я думаю, что добрейший С. В. Козловский, который обязался в срок сдать картину, во многом меня успокаивал. Пусть это было неплохо, но мое беспокойство имело основание. Глаз объектива, направленный на актера, безжалостно фиксирует малейшую ложь и неуверенность в движениях, в жестах, во взгляде, в ракурсе и в положении тела. Он точно засекает напряженность там, где должно быть освобожденное тело, кривой рот там, где должна быть легкая, обаятельная улыбка счастливого человека. И все это я видел.
Однако глаз объектива также беспощадно обнажает и полную беспомощность натурализма, о чем я буду говорить позже.
'Мисс Менд'. Режиссер Ф. Оцеп. 'Межрабпом-Русь'. 1926 год. Режиссер Ф. Оцеп предложил мне придумать эпизод. 'Хорошо!' -ответил я, и в роли веселого официанта вошел в картину
Но меня это не успокоило. Смотреть себя на экране мне было очень трудно. Во всех движениях и взглядах я чувствовал ложь, неестественность. Правда, часть беспокойства отпала, когда из наводящих и осторожных разговоров с более опытными товарищами я узнал одно интересное обстоятельство: для того чтобы привыкнуть, научиться
смотреть на себя на экране как на постороннее лицо, нужно спокойствие, которое приходит со временем.
Это абсолютно верно. Сейчас, когда я гляжу на себя на экране, то спокойно разбираюсь, что хорошо и что плохо.
И тем не менее я думаю, что добрейший С. В. Козловский, который обязался в срок сдать картину, во многом меня успокаивал. Пусть это было неплохо, но мое беспокойство имело основание. Глаз объектива, направленный на актера, безжалостно фиксирует малейшую ложь и неуверенность в движениях, в жестах, во взгляде, в ракурсе и в положении тела. Он точно засекает напряженность там, где должно быть освобожденное тело, кривой рот там, где должна быть легкая, обаятельная улыбка счастливого человека. И все это я видел.
Однако глаз объектива также беспощадно обнажает и полную беспомощность натурализма, о чем я буду говорить позже.
 'Кто ты такой?' ('По ту сторону щели'). Режисер Ю.
Желябужский. 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Я играл с удовольствием и эпизодическую роль студента, вкладывая массу
ненужного темперамента
Пятнадцатилетним юношей, как и все ребята моего возраста, я был горячим поклонником кинематографа и старался не пропускать ни одного интересного фильма. Я простаивал часами в кинотеатре "Уран" на Сретенке, чтобы получить билет на четырехсерийную картину молодого Якова Протазанова, которая называлась "Сашка-семинарист". Сашку замечательно играл артист Художественного театра Петр Бакшеев. Разве можно рассказать, что я переживал, следя из глубины зрительного зала за ходом событий, по которым нас вел авантюрист Сашка? Разве можно забыть трюк, которым кончалась одна из серий: убит банкир и взломан несгораемый шкаф, приходит сыщик, фотографирует лежащего на полу
убитого банкира? В следующем кадре руки вынимают из воды фотографию, и на экране мы видим огромный глаз убитого, а в нем - с кинжалом в руке Сашка-семинарист. Затемнение и надпись: "Продолжение в третьей серии". Разве это не
"роскошный" сюжет для мальчишки? Разве можно это забыть?
'Кто ты такой?' ('По ту сторону щели'). Режисер Ю.
Желябужский. 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Я играл с удовольствием и эпизодическую роль студента, вкладывая массу
ненужного темперамента
Пятнадцатилетним юношей, как и все ребята моего возраста, я был горячим поклонником кинематографа и старался не пропускать ни одного интересного фильма. Я простаивал часами в кинотеатре "Уран" на Сретенке, чтобы получить билет на четырехсерийную картину молодого Якова Протазанова, которая называлась "Сашка-семинарист". Сашку замечательно играл артист Художественного театра Петр Бакшеев. Разве можно рассказать, что я переживал, следя из глубины зрительного зала за ходом событий, по которым нас вел авантюрист Сашка? Разве можно забыть трюк, которым кончалась одна из серий: убит банкир и взломан несгораемый шкаф, приходит сыщик, фотографирует лежащего на полу
убитого банкира? В следующем кадре руки вынимают из воды фотографию, и на экране мы видим огромный глаз убитого, а в нем - с кинжалом в руке Сашка-семинарист. Затемнение и надпись: "Продолжение в третьей серии". Разве это не
"роскошный" сюжет для мальчишки? Разве можно это забыть?

 'На экране Чехов остается экранным, он не стремится нарушить безмолвие полотна движением разговаривающих губ', - писал Н.
Волков о 'Человеке из ресторана'. Рядом с М. Чеховым - М.
Нароков
Да, конечно, Николай Баталов другой - это смуглый брюнет с очаровательной улыбкой, немного курносый, с задорными, умными глазами, которые сверкали, когда он смеялся. Это был замечательный актер Художественного театра. Я задумался.
'На экране Чехов остается экранным, он не стремится нарушить безмолвие полотна движением разговаривающих губ', - писал Н.
Волков о 'Человеке из ресторана'. Рядом с М. Чеховым - М.
Нароков
Да, конечно, Николай Баталов другой - это смуглый брюнет с очаровательной улыбкой, немного курносый, с задорными, умными глазами, которые сверкали, когда он смеялся. Это был замечательный актер Художественного театра. Я задумался.

 Человек из ресторана . Режиссер Я. Протазанов Межрабпом-Русь'. 1927 год. Эпизод, где я передаю дочери Скороходовой Наташе - В. Малиновской писку от 'гостя', снимался в помещении
бывшего 'Яра'
Я постарался Райзману все объяснить, он молча выслушал и хмуро ответил:
- Хорошо. Я могу освободить тебя и от картины, и от дружбы! Меня это очень обидело, мы расстались. И я остервенело стал сниматься в "Путевке в жизнь".
Человек из ресторана . Режиссер Я. Протазанов Межрабпом-Русь'. 1927 год. Эпизод, где я передаю дочери Скороходовой Наташе - В. Малиновской писку от 'гостя', снимался в помещении
бывшего 'Яра'
Я постарался Райзману все объяснить, он молча выслушал и хмуро ответил:
- Хорошо. Я могу освободить тебя и от картины, и от дружбы! Меня это очень обидело, мы расстались. И я остервенело стал сниматься в "Путевке в жизнь".
 'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Артисты М. Блюменталь-Тамарина и А. Быков снимались в комедии. Сцена на полустанке; какое величие - он
жезл держит, как рапиру
Как оператор Пронин ни уговаривал закутать одеялами свой аппарат, клянясь "всеми богами", что треска не будет -Нестеров, звукооператор - это была новая профессия -- ничего не хотел слушать, ужасноволновался и требовал, чтобы бокс был обязательно надет на аппарат. Бокс в конце концов водворялся на аппарат, и начиналась съемка.
Я пел свою песенку:
Эх, судьба ль ты моя роковая,
Эх, долго ль буду на свете я жить.
Свету лепили много, пленка была малой чувствительности, и у меня загорелись брюки. Обливаясь потом, я все же дотянул до конца. На другой день мне позвонили по телефону, пригласили пожаловать на телеграф в двенадцать часов ночи, чтобы прослушать фонограмму песенок.
'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. Артисты М. Блюменталь-Тамарина и А. Быков снимались в комедии. Сцена на полустанке; какое величие - он
жезл держит, как рапиру
Как оператор Пронин ни уговаривал закутать одеялами свой аппарат, клянясь "всеми богами", что треска не будет -Нестеров, звукооператор - это была новая профессия -- ничего не хотел слушать, ужасноволновался и требовал, чтобы бокс был обязательно надет на аппарат. Бокс в конце концов водворялся на аппарат, и начиналась съемка.
Я пел свою песенку:
Эх, судьба ль ты моя роковая,
Эх, долго ль буду на свете я жить.
Свету лепили много, пленка была малой чувствительности, и у меня загорелись брюки. Обливаясь потом, я все же дотянул до конца. На другой день мне позвонили по телефону, пригласили пожаловать на телеграф в двенадцать часов ночи, чтобы прослушать фонограмму песенок.
 'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. С артистом Художественного театра В. Михайловым на съемке крестьяне разговаривали, как со своим, настолько он был естествен в роли
В то время в "Межрабпоме" был всего-навсего один с трудом заглушенный павильон для звуковых съемок, а уж зала для прослушивания не было и в помине.
Пользовались щедротами Радиокомитета, который после окончания работы предоставлял нам свою студию, куда и был повешен специальный экран и поставлена аппаратура, чтобы можно было прослушивать и смотреть на экране изображение и звуковую пленку.
'Дон Диего и пелагея'. Режиссер Я. Протазанов 'Межрабпом-Русь'. 1927 год. С артистом Художественного театра В. Михайловым на съемке крестьяне разговаривали, как со своим, настолько он был естествен в роли
В то время в "Межрабпоме" был всего-навсего один с трудом заглушенный павильон для звуковых съемок, а уж зала для прослушивания не было и в помине.
Пользовались щедротами Радиокомитета, который после окончания работы предоставлял нам свою студию, куда и был повешен специальный экран и поставлена аппаратура, чтобы можно было прослушивать и смотреть на экране изображение и звуковую пленку.




 'Путевка в жизнь'. Режиссер Н. Экк. 'Межрабпомфильм. 1931 год.
Я с гитарой, рядом - режиссер Н. Экк
,
с микрофоном инженер по звуку Л. Бронштейн, у аппарата оператор В. Пронин. Все
волнуются!
Появление звука в кино не застало актеров театра врасплох, наоборот, слово расширило выразительные возможности актера и добавило новые, основные краски в его творческую палитру. Мысль нашла свое ясное выражение. Мы стали себя чувствовать в седле, как всадники на хорошей лошади, потому что драматический артист в немом кино тосковал по слову.
'Путевка в жизнь'. Режиссер Н. Экк. 'Межрабпомфильм. 1931 год.
Я с гитарой, рядом - режиссер Н. Экк
,
с микрофоном инженер по звуку Л. Бронштейн, у аппарата оператор В. Пронин. Все
волнуются!
Появление звука в кино не застало актеров театра врасплох, наоборот, слово расширило выразительные возможности актера и добавило новые, основные краски в его творческую палитру. Мысль нашла свое ясное выражение. Мы стали себя чувствовать в седле, как всадники на хорошей лошади, потому что драматический артист в немом кино тосковал по слову.








 'Любовь и ненависть'. Режиссер А. Гендельштейн. 'Межрабпомфильм'. 1935 год. Случались и такие трансформации: начав сниматься в роли рабочего в 'Песне', я закончил ее ролью прапорщика в фильме, который вышел под
названием 'Любовь и ненависть'
Кырла задумался. Но сценарий не взял и, сказав, что он уезжает с концертами, ушел. Больше я его никогда не видел.
В связи с двадцатипятилетием выхода на экран "Путевки в жизнь" я выступал по радио с воспоминаниями и говорил о Иване Кырла. Редактор газеты "Марийская правда" прислал мне письмо, в котором высказывал благодарность за теплое слово о их земляке, память о котором им дорога. Были слухи, что он погиб на войне. Это был очень талантливый молодой человек. Он писал стихи и был гордостью марийского народа. На родине был издан сборник его стихов, и о нем сохранились очень хорошие воспоминания...
'Любовь и ненависть'. Режиссер А. Гендельштейн. 'Межрабпомфильм'. 1935 год. Случались и такие трансформации: начав сниматься в роли рабочего в 'Песне', я закончил ее ролью прапорщика в фильме, который вышел под
названием 'Любовь и ненависть'
Кырла задумался. Но сценарий не взял и, сказав, что он уезжает с концертами, ушел. Больше я его никогда не видел.
В связи с двадцатипятилетием выхода на экран "Путевки в жизнь" я выступал по радио с воспоминаниями и говорил о Иване Кырла. Редактор газеты "Марийская правда" прислал мне письмо, в котором высказывал благодарность за теплое слово о их земляке, память о котором им дорога. Были слухи, что он погиб на войне. Это был очень талантливый молодой человек. Он писал стихи и был гордостью марийского народа. На родине был издан сборник его стихов, и о нем сохранились очень хорошие воспоминания...
 Три товарища . Режиссер С. Тимошенко. Ленфильм . 1935 год. -Помнишь Каховку? - А как же! И два боевых друга, смотря на фото, запели: 'Каховка, Каховка, родная винтовка!' Эта знаменитая песня была написана И. Дунаевским и М. Светловым
для фильма 'Три товарища'
По сценарию, Жиган в конце фильма встречается с Мустафой на железнодорожных путях и между ними происходит драка, в
результате которой Жиган убивает Мустафу, но, по сценарию же, и Мустафа успевает его ранить, Жиган падает с откоса в болото, где и погибает. Так заканчивалась в фильме роль Жигана. Так было снято и даже вставлено в картину в рабочем порядке. Но возникла мысль, что Фомка Жиган может еще понадобиться для второй серии, которую собирались снимать, и, посоветовавшись, мы, вопреки сценарию, решили, что Жиган, убив Мустафу, исчезает.
Три товарища . Режиссер С. Тимошенко. Ленфильм . 1935 год. -Помнишь Каховку? - А как же! И два боевых друга, смотря на фото, запели: 'Каховка, Каховка, родная винтовка!' Эта знаменитая песня была написана И. Дунаевским и М. Светловым
для фильма 'Три товарища'
По сценарию, Жиган в конце фильма встречается с Мустафой на железнодорожных путях и между ними происходит драка, в
результате которой Жиган убивает Мустафу, но, по сценарию же, и Мустафа успевает его ранить, Жиган падает с откоса в болото, где и погибает. Так заканчивалась в фильме роль Жигана. Так было снято и даже вставлено в картину в рабочем порядке. Но возникла мысль, что Фомка Жиган может еще понадобиться для второй серии, которую собирались снимать, и, посоветовавшись, мы, вопреки сценарию, решили, что Жиган, убив Мустафу, исчезает.
 На съемке фильма 'Три товарища'. Все довольны, а режиссер С.
Тимошенко особенно: 'Все идет по графику!' М. Жаров, С.
Тимошенко, В. Полонская
Действие второй серии, к которой готовились после небывалого успеха картины "Путевка в жизнь", должно было происходить на Беломорском канале, среди "старых знакомых", но в новых обстоятельствах. Жиган, пройдя трудный путь "перековки", становится членом общества. Вторая серия могла бы иметь еще больший успех, - это несомненно: фильм любили и судьбы действующих лиц зрителей волновали.
Но режиссер Экк увлекся другой темой, он был человеком неспокойным, любил пробовать новые пути. Вторую серию нужно было еще доделывать, это было скучно, и он увлекся
уже готовым сценарием "Груня Корнакова" ("Соловей-соловушко") и снял фильм в цвете.
На съемке фильма 'Три товарища'. Все довольны, а режиссер С.
Тимошенко особенно: 'Все идет по графику!' М. Жаров, С.
Тимошенко, В. Полонская
Действие второй серии, к которой готовились после небывалого успеха картины "Путевка в жизнь", должно было происходить на Беломорском канале, среди "старых знакомых", но в новых обстоятельствах. Жиган, пройдя трудный путь "перековки", становится членом общества. Вторая серия могла бы иметь еще больший успех, - это несомненно: фильм любили и судьбы действующих лиц зрителей волновали.
Но режиссер Экк увлекся другой темой, он был человеком неспокойным, любил пробовать новые пути. Вторую серию нужно было еще доделывать, это было скучно, и он увлекся
уже готовым сценарием "Груня Корнакова" ("Соловей-соловушко") и снял фильм в цвете.
 Начало картины 'Три товарища' снимали под Ленинградом; начальник лесосплава Лацис (Н. Баталов) встречает жену (В. Полонская), которая приехала вместе с его другом Зайцевым (М.
Жаров). У аппарата - режиссер С. Тимошенко
Режиссер первого звукового и первого цветного фильмов, он оказался жертвой ужасного произвола - его арестовали и сослали, сломав начисто жизнь талантливого, энергичного художника, неистового новатора, смело пробивавшего пути для молодого советского кино.
Жалко, что смяли, исковеркали жизнь человека, который еще много мог бы создать прекрасных картин.
Начало картины 'Три товарища' снимали под Ленинградом; начальник лесосплава Лацис (Н. Баталов) встречает жену (В. Полонская), которая приехала вместе с его другом Зайцевым (М.
Жаров). У аппарата - режиссер С. Тимошенко
Режиссер первого звукового и первого цветного фильмов, он оказался жертвой ужасного произвола - его арестовали и сослали, сломав начисто жизнь талантливого, энергичного художника, неистового новатора, смело пробивавшего пути для молодого советского кино.
Жалко, что смяли, исковеркали жизнь человека, который еще много мог бы создать прекрасных картин.
 'Встречай фронтового друга! Не узнаешь? Ну, Зайцев я!' Так
I/ I/ V/ f—r— I
начался мой первый съемочный день в картине Три товарища
Стоит гражданка с чемоданом.
Крупно - Жиган делает утверждающий знак.
Мы слышим голос: "Гражданка, вы уронили рубль".
Гражданка поднимает рубль, говорит "спасибо", поворачивается к своему чемодану, а чемодана нет.
Крупно - Жиган, улыбаясь, затягивается "козьей ножкой", он явно доволен.
Новый знак, и отрезан со спины у дамы в манто кусок каракуля.
Операция окончена.
'Встречай фронтового друга! Не узнаешь? Ну, Зайцев я!' Так
I/ I/ V/ f—r— I
начался мой первый съемочный день в картине Три товарища
Стоит гражданка с чемоданом.
Крупно - Жиган делает утверждающий знак.
Мы слышим голос: "Гражданка, вы уронили рубль".
Гражданка поднимает рубль, говорит "спасибо", поворачивается к своему чемодану, а чемодана нет.
Крупно - Жиган, улыбаясь, затягивается "козьей ножкой", он явно доволен.
Новый знак, и отрезан со спины у дамы в манто кусок каракуля.
Операция окончена.

 'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. Ленфильм'. 1937 год. Профессиональным жестом мой Дымба брал кий, думая про себя: 'Бедный Максим! Трепещи!'
Эта сцена - "Малина на загородной даче" - для Жигана была очень важной: пьяная вечеринка, устроенная для сманивания ребят из колонии, должна быть и отвратительной по разнузданности, и манящей по веселью и задору.
Жиган поет:
Нас на свете два громилы, Там-тербим-бумбия!
Один я, другой Гаврила,
Там-тербим-бумбия!
- лихо перебирая на гитаре.
Пьяные голоса девиц и визгливо играющая гармошка в руках Маруси создавали возбужденную атмосферу.
Я был целиком во власти сцены, глаза пьяно блестели, руки мяли плечи подруги, песня звучала озорно.
'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. Ленфильм'. 1937 год. Профессиональным жестом мой Дымба брал кий, думая про себя: 'Бедный Максим! Трепещи!'
Эта сцена - "Малина на загородной даче" - для Жигана была очень важной: пьяная вечеринка, устроенная для сманивания ребят из колонии, должна быть и отвратительной по разнузданности, и манящей по веселью и задору.
Жиган поет:
Нас на свете два громилы, Там-тербим-бумбия!
Один я, другой Гаврила,
Там-тербим-бумбия!
- лихо перебирая на гитаре.
Пьяные голоса девиц и визгливо играющая гармошка в руках Маруси создавали возбужденную атмосферу.
Я был целиком во власти сцены, глаза пьяно блестели, руки мяли плечи подруги, песня звучала озорно.
 'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. 'Ленфильм'. 1937 год. Сцена 'Опьянение Дымбы' была снята одним куском, без дубля - редчайший случай в кино
Снимали монтажные планы и куски, приходилось все время возвращать себя в "угарное" самочувствие.
Всеволод Пудовкин стоял в группе режиссеров, и я заметил, что он усиленно смотрит на меня, не отрывая глаз.
В перерыве он подошел ко мне и, разговаривая, стал незаметно обнюхивать.
- Ты что меня нюхаешь? Я не...
- Понимаешь, меня уверяют, что ты действительно пьян... Экк тебя подпаивает... Какая чушь... от тебя и не пахнет... Значит, ты... ловко возбуждаешься... Молодец! Пойдем, подыши на них, а то не верят! Всех обманул!
'Возвращение Максима'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг. 'Ленфильм'. 1937 год. Сцена 'Опьянение Дымбы' была снята одним куском, без дубля - редчайший случай в кино
Снимали монтажные планы и куски, приходилось все время возвращать себя в "угарное" самочувствие.
Всеволод Пудовкин стоял в группе режиссеров, и я заметил, что он усиленно смотрит на меня, не отрывая глаз.
В перерыве он подошел ко мне и, разговаривая, стал незаметно обнюхивать.
- Ты что меня нюхаешь? Я не...
- Понимаешь, меня уверяют, что ты действительно пьян... Экк тебя подпаивает... Какая чушь... от тебя и не пахнет... Значит, ты... ловко возбуждаешься... Молодец! Пойдем, подыши на них, а то не верят! Всех обманул!


 'Выборгская сторона'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг.
Ленфильм'. 1938 год. '...Я Дусенька!.. Графинь лобызал, а то вас!.. Эх!.. Я не тюрлюм, тюрлюм, тюрлюм!..' - с пьяным надрывом распевал Дымба
Меня публика не всегда узнавала. Однако сыграв Жигана, я начал испытывать довольно неприятное ощущение: стоило только мне появиться в местах скопления публики, будь то трамвайная остановка, стоянка такси или магазин, как вокруг меня вскоре образовывалась пустота. Окружающие сначала как-то испуганно глядели на меня, а потом, держась за карманы, пятились и отходили. Первое время я терялся, не понимал, в чем дело, даже думал, что от меня пахнет нафталином или чесноком, но товарищи все объяснили:
- Чего ты волнуешься, это вполне естественно. Каждый день во всех кинотеатрах крупно, во весь экран показывают лицо жулика Жигана, - ты ведь играешь его без грима. Ясно! Поэтому человека беспокоит твое лицо, когда он сталкивается с тобой в жизни.
'Выборгская сторона'. Режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг.
Ленфильм'. 1938 год. '...Я Дусенька!.. Графинь лобызал, а то вас!.. Эх!.. Я не тюрлюм, тюрлюм, тюрлюм!..' - с пьяным надрывом распевал Дымба
Меня публика не всегда узнавала. Однако сыграв Жигана, я начал испытывать довольно неприятное ощущение: стоило только мне появиться в местах скопления публики, будь то трамвайная остановка, стоянка такси или магазин, как вокруг меня вскоре образовывалась пустота. Окружающие сначала как-то испуганно глядели на меня, а потом, держась за карманы, пятились и отходили. Первое время я терялся, не понимал, в чем дело, даже думал, что от меня пахнет нафталином или чесноком, но товарищи все объяснили:
- Чего ты волнуешься, это вполне естественно. Каждый день во всех кинотеатрах крупно, во весь экран показывают лицо жулика Жигана, - ты ведь играешь его без грима. Ясно! Поэтому человека беспокоит твое лицо, когда он сталкивается с тобой в жизни.
 'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
И действительно, на меня долго смотрели довольно подозрительно:
- Черт его знает! Говорят, артист, а может, жулик, лучше от греха подальше!..
Я жил и живу в Москве, но снимался много и часто в Ленинграде.
После "Путевки" я начал сниматься в "Грозе" на студии "Ленфильм".
'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
И действительно, на меня долго смотрели довольно подозрительно:
- Черт его знает! Говорят, артист, а может, жулик, лучше от греха подальше!..
Я жил и живу в Москве, но снимался много и часто в Ленинграде.
После "Путевки" я начал сниматься в "Грозе" на студии "Ленфильм".
 'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
Как-то вечером, возвращаясь с съемки, я зашел на Невском в ночной магазин. Ожидая, пока продавец завернет покупку, я увидел в зеркальной витрине, против которой стоял, как ко мне в карман опустил руку вихрастый паренек лет десяти. Он, наверное, заметил, как я положил туда сдачу.
Вероятно, от волнения (был он не бледный, а какой-то прозрачный) свою операцию проводил неловко и неуклюже, тыча меня в бок пальцами.
Я мог бы взять его за руку, но пожалел - он трясся, как осиновый лист.
"Господи! Ну бери скорее и уходи", - подумал я.
Малыш вытащил бумажку, тяжело вздохнул, быстро отошел и затерялся среди покупателей.
Когда я вышел из магазина, меня кто-то окликнул:
- Товарищ Жаров!
'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
Как-то вечером, возвращаясь с съемки, я зашел на Невском в ночной магазин. Ожидая, пока продавец завернет покупку, я увидел в зеркальной витрине, против которой стоял, как ко мне в карман опустил руку вихрастый паренек лет десяти. Он, наверное, заметил, как я положил туда сдачу.
Вероятно, от волнения (был он не бледный, а какой-то прозрачный) свою операцию проводил неловко и неуклюже, тыча меня в бок пальцами.
Я мог бы взять его за руку, но пожалел - он трясся, как осиновый лист.
"Господи! Ну бери скорее и уходи", - подумал я.
Малыш вытащил бумажку, тяжело вздохнул, быстро отошел и затерялся среди покупателей.
Когда я вышел из магазина, меня кто-то окликнул:
- Товарищ Жаров!
 'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
Я оглянулся, - в глубине ворот стоял длинный, худой, лет семнадцати парень, который держал моего вихрастого малыша за руку.
- В чем дело? - спросил я.
- Вот вам ваши три рубля! Извините его, пожалуйста, -произнес парень сиплым голосом. - Эх, ты, зануда! Своих не узнаешь! - И торопливо замахнулся на совсем уже зеленого, сжавшегося в комочек мальчишку.
Это не анекдот, это подлинная правда.
И рассказал я ее без прикрас, не изменяя факта, чтобы сосредоточить внимание вокруг огромной силы воздействия на зрителя художественного образа, силы, идущей с экрана, о которой мы часто забываем. Я не встречал подобного в театре.
Я не помню, чтобы в актере, играющем в театре пьяницу или хулигана, оборванца или жулика, зритель, встречаясь с ним в жизни, искал те же качества, которые он видел у него в театре.
'Падение ангела'. Сценарий, написанный В. Скрипицыным, был просто детективом. Его герои - рецидивист Васька-Ангел и Валька. Фильм не вышел, а кадры, где я снят с К. Тарасовой, остались. Вот побег из 'малины' Роль Васьки-Ангела была остра и, наверное, полюбилась бы зрителю как один из вариантов
погодинских аристократов
Я оглянулся, - в глубине ворот стоял длинный, худой, лет семнадцати парень, который держал моего вихрастого малыша за руку.
- В чем дело? - спросил я.
- Вот вам ваши три рубля! Извините его, пожалуйста, -произнес парень сиплым голосом. - Эх, ты, зануда! Своих не узнаешь! - И торопливо замахнулся на совсем уже зеленого, сжавшегося в комочек мальчишку.
Это не анекдот, это подлинная правда.
И рассказал я ее без прикрас, не изменяя факта, чтобы сосредоточить внимание вокруг огромной силы воздействия на зрителя художественного образа, силы, идущей с экрана, о которой мы часто забываем. Я не встречал подобного в театре.
Я не помню, чтобы в актере, играющем в театре пьяницу или хулигана, оборванца или жулика, зритель, встречаясь с ним в жизни, искал те же качества, которые он видел у него в театре.
 'Петр Первый'. Режисер В. Петров. Ленфильм'. 1937 год (1-я серия) и 1938 год (2-я серия). Верный друг Алексашка во всем подражал Петру, 'минхерцу', он даже внешне старался походить
на Петра
Уезжая со "стрелой" после спектакля или работы на студии, мы старались успокоить расходившиеся и обостренные нервы сначала в вагоне, а если это не удавалось, то на первой остановке.
Смотря понимающими глазами друг на друга, мы молча вставали и шли на станцию. Нам молча наливали, мы также молча выпивали и также молча шли в вагон спать.
'Петр Первый'. Режисер В. Петров. Ленфильм'. 1937 год (1-я серия) и 1938 год (2-я серия). Верный друг Алексашка во всем подражал Петру, 'минхерцу', он даже внешне старался походить
на Петра
Уезжая со "стрелой" после спектакля или работы на студии, мы старались успокоить расходившиеся и обостренные нервы сначала в вагоне, а если это не удавалось, то на первой остановке.
Смотря понимающими глазами друг на друга, мы молча вставали и шли на станцию. Нам молча наливали, мы также молча выпивали и также молча шли в вагон спать.



 На съемку 'Взятие крепости' приехали Алексей Николаевич Толстой с женой Людмилой Ильиничной. Толстой долго глядел на меня, а потом задумчиво произнес: 'Да... Вот он какой...
Меншиков!.. Интересно
!'
Две мелодичные песенки, которые я пел в "Грозе", были взяты из фольклорного сборника и мною интерпретированы по-современному. Слова Кудряша:
Ходил, гулял в полночь глухую Я по кладбищу завсегда
- очень хорошо контрастировали с настроением после любовного свидания, когда утомленные и счастливые после гулянки Кудряш и Варвара лениво расходятся по домам.
На съемку 'Взятие крепости' приехали Алексей Николаевич Толстой с женой Людмилой Ильиничной. Толстой долго глядел на меня, а потом задумчиво произнес: 'Да... Вот он какой...
Меншиков!.. Интересно
!'
Две мелодичные песенки, которые я пел в "Грозе", были взяты из фольклорного сборника и мною интерпретированы по-современному. Слова Кудряша:
Ходил, гулял в полночь глухую Я по кладбищу завсегда
- очень хорошо контрастировали с настроением после любовного свидания, когда утомленные и счастливые после гулянки Кудряш и Варвара лениво расходятся по домам.
 'Петр Первый'. Меншиков, не задумываясь, уступил Катерину
Петру. 'Ударьте его по щеке!' - посоветовал режиссер, и А.
Тарасова ударила...
Сцена Бориса с Кудряшом была сценаристом перенесена из оврага в комнату дома Дикого. Развалясь на койке и бренча на гитаре, Кудряш подтрунивает над Борисом.
Гитара давала мне возможность акцентировать слова, а сделанное в паузе глиссандо придавало тексту игривый смысл - собирались ведь на свидание в овраг!
'Петр Первый'. Меншиков, не задумываясь, уступил Катерину
Петру. 'Ударьте его по щеке!' - посоветовал режиссер, и А.
Тарасова ударила...
Сцена Бориса с Кудряшом была сценаристом перенесена из оврага в комнату дома Дикого. Развалясь на койке и бренча на гитаре, Кудряш подтрунивает над Борисом.
Гитара давала мне возможность акцентировать слова, а сделанное в паузе глиссандо придавало тексту игривый смысл - собирались ведь на свидание в овраг!
 'Петр Первый'. Петр в гневе был страшен: 'Врешь, светлейший, воруешь!' - прорычал Николай Симонов и поднял кулак. 'Сейчас
убьет' - подумал я и закрыл глаза
Эта встреча явилась для нас с Михаилом Царевым началом длительной творческой дружбы.
'Петр Первый'. Петр в гневе был страшен: 'Врешь, светлейший, воруешь!' - прорычал Николай Симонов и поднял кулак. 'Сейчас
убьет' - подумал я и закрыл глаза
Эта встреча явилась для нас с Михаилом Царевым началом длительной творческой дружбы.



 'Петр Первый'. Бывший пирожник, а теперь светлейший князь и первый губернатор Санкт-Петербурга пускал в ход при нужде и
кулаки
В глубине двора бегал вихрастый мальчишка с длинным шестом, гоняя голубей: "Киш, киш, киш!", и на истошные крики: "Петька! Петька! Жаров идет!", также истошно
прокричал: "Фиг с ним!.. Киш! киш! киш!".
'Петр Первый'. Бывший пирожник, а теперь светлейший князь и первый губернатор Санкт-Петербурга пускал в ход при нужде и
кулаки
В глубине двора бегал вихрастый мальчишка с длинным шестом, гоняя голубей: "Киш, киш, киш!", и на истошные крики: "Петька! Петька! Жаров идет!", также истошно
прокричал: "Фиг с ним!.. Киш! киш! киш!".




 Дипломы лауреатов Государственной премии за исполнение ролей мы с Н. Симоновым получили из рук Вл. И. Немировича-Данченко. Со словом благодарности от имени награжденных выступил Алексей Толстой: '...Мы сознаем всю ответственность
быть орденоносцами'...
Придя к нам на съемку в павильон, Дунаевский расположился прямо у рояля и, воспользовавшись перерывом, спел песню, которую мы ждали с понятным нетерпением: во-первых, мы уже подошли в съемках к этой сцене "дуэта", а во-
вторых, мелодию новой песни, которую никто еще не слышал, всегда ждут с большим волнением.
Раздались первые аккорды. Стало тихо. Дунаевский запел:
Каховка, Каховка - родная винтовка Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -Этапы большого пути.
Он пел тихо и задушевно, смотря куда-то ввысь, четко выпевая новые, никому не известные слова:
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались.
Как нас обнимала гроза?..
И Дунаевский, тихо покачиваясь в такт песне, посмотрел кругом, ища, очевидно, Светлова.
А Светлов, вдруг ставший юным, скромно сидел в уголке за декорацией и слушал песню с закрытыми глазами, как будто перед ним проходило все, о чем он песней поведал людям, и, поведав, почему-то застеснялся.
Его губы тихо шептали:
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались Ее голубые глаза...
Дунаевский пел все восторженнее и так заразительно, что конец последнего куплета:
Мы мирные люди, но наш бронепоезд Стоит на запасном пути!
- закончили вместе с ним все, кто до этого молча и сосредоточенно слушал.
Раздались аплодисменты, начались объятия, поцелуи: "Спасибо! Удружили! Это гениально!". И тут же, не отходя от рояля, мы начали ее разучивать. Хотелось услышать ее скорее с экрана и уже в собственном исполнении. Песня не была снята на фонограмму, как это делают теперь, нет, мы с Баталовым, разучив ее под аккомпанемент Дунаевского, спели синхронно, играя сцену.
Баталов пел очень музыкально, тепло и лирично; я шел за ним, подтягивая в унисон.
Больше всех от песни был в восторге Горюнов, он прыгал, бил себя по коленам и кричал:
- Это потрясающе - лирично, мелодично и моментально запоминается. Я хочу тоже петь! Семен, - обратился он к Тимошенко, - какие же это три товарища - Баталов п Жаров поют, а я что? Вставь мое соло в сцену, когда я сижу один. Исаак! Играй!
Дунаевский, который дружил и очень любил Горюнова, быстро согласился, шепнув нам:
- Не уходите, получите огромное удовольствие. Толя! Давай, милый, пой! - стал играть мелодию.
Рассказать, как пел Горюнов, нельзя: закрыв глаза и выбрав одну ноту, он, не слушая мелодии, как метроном, низким голосом выстукивал:
Та-тата-та-та!
Та-тита-тата!
Нет, и описать не могу. Лучше возьмите любую ноту и спойте на ней:
Ка-хов-ка, Ка-хов-ка - род-на-я вин-тов-ка...
делая ударение на среднем слоге, и у вас будет примерное представление об исполнении "Каховки" Горюновым.
Дунаевский с совершенно серьезным лицом и очень старательно выстукивал ему все ноты мелодии, но Анатолий был очарователен в своем постоянстве, - облюбовав одну ноту, он никак не хотел бросать ее.
Концерт закончился бурными аплодисментами.
Горюнова начали качать, а он, взлетая вверх, кричал:
- Варвары! Вы ничего не смыслите в нюансах!.. Пустите же... тупицы!
Дунаевский, нежно обняв его, стал "шептать" на ухо, чтобы слышали все:
- Толя! Ты прав... Они тупицы, пойдем обедать. А я тебе обязательно напишу ариозо на одной ноте, только подскажи, какую ты больше любишь из всей гаммы!
За обедом мы дружно подняли бокалы за Дунаевского и Светлова и за наше содружество.
К концу съемки наша смена рабочих уже пела эту песенку, а на другой день ее распевала вся студия. Радио вскоре тоже пронюхало, и когда вышла картина, то песенку уже встретили как добрую знакомую.
Работа над картиной шла быстро, Тимошенко не утруждал артистов сложными задачами в "предлагаемых обстоятельствах".
- Артисты у меня высокой квалификации и получают соответственно этому оплату, - отвечал он корреспонденту газеты "Кино", который интересовался, много ли мы репетируем.
- Нет, снимаем сразу после одной - двух технических репетиций для звуковиков и осветителей.
Дипломы лауреатов Государственной премии за исполнение ролей мы с Н. Симоновым получили из рук Вл. И. Немировича-Данченко. Со словом благодарности от имени награжденных выступил Алексей Толстой: '...Мы сознаем всю ответственность
быть орденоносцами'...
Придя к нам на съемку в павильон, Дунаевский расположился прямо у рояля и, воспользовавшись перерывом, спел песню, которую мы ждали с понятным нетерпением: во-первых, мы уже подошли в съемках к этой сцене "дуэта", а во-
вторых, мелодию новой песни, которую никто еще не слышал, всегда ждут с большим волнением.
Раздались первые аккорды. Стало тихо. Дунаевский запел:
Каховка, Каховка - родная винтовка Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -Этапы большого пути.
Он пел тихо и задушевно, смотря куда-то ввысь, четко выпевая новые, никому не известные слова:
Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались.
Как нас обнимала гроза?..
И Дунаевский, тихо покачиваясь в такт песне, посмотрел кругом, ища, очевидно, Светлова.
А Светлов, вдруг ставший юным, скромно сидел в уголке за декорацией и слушал песню с закрытыми глазами, как будто перед ним проходило все, о чем он песней поведал людям, и, поведав, почему-то застеснялся.
Его губы тихо шептали:
Тогда нам обоим сквозь дым улыбались Ее голубые глаза...
Дунаевский пел все восторженнее и так заразительно, что конец последнего куплета:
Мы мирные люди, но наш бронепоезд Стоит на запасном пути!
- закончили вместе с ним все, кто до этого молча и сосредоточенно слушал.
Раздались аплодисменты, начались объятия, поцелуи: "Спасибо! Удружили! Это гениально!". И тут же, не отходя от рояля, мы начали ее разучивать. Хотелось услышать ее скорее с экрана и уже в собственном исполнении. Песня не была снята на фонограмму, как это делают теперь, нет, мы с Баталовым, разучив ее под аккомпанемент Дунаевского, спели синхронно, играя сцену.
Баталов пел очень музыкально, тепло и лирично; я шел за ним, подтягивая в унисон.
Больше всех от песни был в восторге Горюнов, он прыгал, бил себя по коленам и кричал:
- Это потрясающе - лирично, мелодично и моментально запоминается. Я хочу тоже петь! Семен, - обратился он к Тимошенко, - какие же это три товарища - Баталов п Жаров поют, а я что? Вставь мое соло в сцену, когда я сижу один. Исаак! Играй!
Дунаевский, который дружил и очень любил Горюнова, быстро согласился, шепнув нам:
- Не уходите, получите огромное удовольствие. Толя! Давай, милый, пой! - стал играть мелодию.
Рассказать, как пел Горюнов, нельзя: закрыв глаза и выбрав одну ноту, он, не слушая мелодии, как метроном, низким голосом выстукивал:
Та-тата-та-та!
Та-тита-тата!
Нет, и описать не могу. Лучше возьмите любую ноту и спойте на ней:
Ка-хов-ка, Ка-хов-ка - род-на-я вин-тов-ка...
делая ударение на среднем слоге, и у вас будет примерное представление об исполнении "Каховки" Горюновым.
Дунаевский с совершенно серьезным лицом и очень старательно выстукивал ему все ноты мелодии, но Анатолий был очарователен в своем постоянстве, - облюбовав одну ноту, он никак не хотел бросать ее.
Концерт закончился бурными аплодисментами.
Горюнова начали качать, а он, взлетая вверх, кричал:
- Варвары! Вы ничего не смыслите в нюансах!.. Пустите же... тупицы!
Дунаевский, нежно обняв его, стал "шептать" на ухо, чтобы слышали все:
- Толя! Ты прав... Они тупицы, пойдем обедать. А я тебе обязательно напишу ариозо на одной ноте, только подскажи, какую ты больше любишь из всей гаммы!
За обедом мы дружно подняли бокалы за Дунаевского и Светлова и за наше содружество.
К концу съемки наша смена рабочих уже пела эту песенку, а на другой день ее распевала вся студия. Радио вскоре тоже пронюхало, и когда вышла картина, то песенку уже встретили как добрую знакомую.
Работа над картиной шла быстро, Тимошенко не утруждал артистов сложными задачами в "предлагаемых обстоятельствах".
- Артисты у меня высокой квалификации и получают соответственно этому оплату, - отвечал он корреспонденту газеты "Кино", который интересовался, много ли мы репетируем.
- Нет, снимаем сразу после одной - двух технических репетиций для звуковиков и осветителей.

 'Степан Разин'. Режиссеры О. Преображенская и И. Правов.
'Мосфильм'. 1939 год. Боярский сын Лазунка был еще одной фигурой в ряду моих 'исторических' героев
Слева, на фоне воды, высилась шведская осажденная крепость. На зубчатых стенах ходили солдаты, пушкари изредка производили выстрел из крепостного орудия, и "чугунное" ядро, пролетев метров двадцать, "хлюпалось" среди наступавших петровских пехотинцев. Через глубокий ров был перекинут цепной мост. Ворота крепости были разбиты, и, плотно заслонив узкий проход, на мосту стояли шведские солдаты, защищая вход в город. Съемки шли у ворот крепости, снимали шведов, готовившихся отразить атаку драгун. Справа, за холмистыми дюнами, спрятаны были драгуны Меншикова. Они были спокойно заняты своими делами: кто лежал прямо на песке, задрав кверху натруженные ноги, кто читал "Комсомольскую правду" (солдаты молодые) или другую газету, а кто просто покуривал, весело чему-то смеясь. Жизнь шла, как на настоящем бивуаке.
Лошади, собранные вместе, обмахивались хвостами, отгоняя оводов, слетавшихся со всего взморья. Тут же на холмах и деревьях сидели ребята, пуская от восторга слюну, и наблюдали "настоящий петровский бой". Но вот пришли гонцы с площадки от режиссера и сообщили, что после перерыва начнут снимать атаку драгун.
- Владимир Михайлович просит, чтобы вы, Михаил Иванович, проверили свою лошадь и не сели бы на вороную, как вчера, вместо своей серой!
'Степан Разин'. Режиссеры О. Преображенская и И. Правов.
'Мосфильм'. 1939 год. Боярский сын Лазунка был еще одной фигурой в ряду моих 'исторических' героев
Слева, на фоне воды, высилась шведская осажденная крепость. На зубчатых стенах ходили солдаты, пушкари изредка производили выстрел из крепостного орудия, и "чугунное" ядро, пролетев метров двадцать, "хлюпалось" среди наступавших петровских пехотинцев. Через глубокий ров был перекинут цепной мост. Ворота крепости были разбиты, и, плотно заслонив узкий проход, на мосту стояли шведские солдаты, защищая вход в город. Съемки шли у ворот крепости, снимали шведов, готовившихся отразить атаку драгун. Справа, за холмистыми дюнами, спрятаны были драгуны Меншикова. Они были спокойно заняты своими делами: кто лежал прямо на песке, задрав кверху натруженные ноги, кто читал "Комсомольскую правду" (солдаты молодые) или другую газету, а кто просто покуривал, весело чему-то смеясь. Жизнь шла, как на настоящем бивуаке.
Лошади, собранные вместе, обмахивались хвостами, отгоняя оводов, слетавшихся со всего взморья. Тут же на холмах и деревьях сидели ребята, пуская от восторга слюну, и наблюдали "настоящий петровский бой". Но вот пришли гонцы с площадки от режиссера и сообщили, что после перерыва начнут снимать атаку драгун.
- Владимир Михайлович просит, чтобы вы, Михаил Иванович, проверили свою лошадь и не сели бы на вороную, как вчера, вместо своей серой!


 Человек в футляре . Режиссер И. Анненский. Советская Белорусь'. 1939 год. Вслед за чеховским 'Медведем' сняли 'Человека в футляре', где я играл учителя Коваленко
Дали отбой. Съемка прекратилась. Ко мне, лежавшему в позе поверженного Меншикова, подбежали дежурные врачи. К
счастью, все обошлось более чем благополучно. Я отделался легкой травмой, ушиб был незначительным, больше пострадала крепостная стена: от моего удара гранитные плиты, которые были искусно нарисованы на холсте, прорвались, тело мое таким образом "самортизировалось", и я тихо откатился в кучу опилок, выкрашенных в цвет травы, которые маскировали пролеты между землей и декорацией.
Испуганный Петров тихо, но беспокойно спросил у врача:
- Ну, как?
- Ох! Ох! - простонал я, наблюдая одним глазом.
- Да вот... - развел руками врач.
- Что вот?.. Сниматься не сможет?
- Думаю, что...
- Сможет! Сможет! - пропищал я совсем тоненько.
- Значит, жив! - закричал Петров. - Ну слава богу! Молодец!
- А как же! - еще громче крикнул я. И, отхлебнув из фляжки врача глоток особого "к. с.", уже важно ответил: - Вот полечимся, и в атаку.
Петров схватил меня в охапку и начал тискать и мять.
- Значит, еще дублик сделаешь!
- Сделаю, сделаю! Только отдайте мою фляжку!
Но Петров, опрокинув голову, допил ее до конца и, помахивая пустой посудиной, веселый и счастливый, сказал:
- Премия за взятие крепости за мной!
Тут же выяснилось, что можно больше не снимать. Со слов Петрова, из всех дублей этот дубль был просто великолепный:
- Особенно было эффектно, как ты ловко разделался с гранатой, - поймал, развернул и швырнул. Толстой даже присел от удовольствия!
- Как Толстой? Он ведь в Карлсбаде?..
- Был... А сегодня приехал, и прямо на съемку!
- Атаку нашу видел?
- Доволен очень! Хвалил тебя!
- Так зачем же снимать, если хорошо?
- Не ворчи, старик! Надо застраховаться.
Мы съехались опять за холм, на исходный рубеж и приготовились уже в который раз к атаке.
Раздался сигнал горна:
- Тра-та-та та-та-а! Приготовиться к атаке!..
Человек в футляре . Режиссер И. Анненский. Советская Белорусь'. 1939 год. Вслед за чеховским 'Медведем' сняли 'Человека в футляре', где я играл учителя Коваленко
Дали отбой. Съемка прекратилась. Ко мне, лежавшему в позе поверженного Меншикова, подбежали дежурные врачи. К
счастью, все обошлось более чем благополучно. Я отделался легкой травмой, ушиб был незначительным, больше пострадала крепостная стена: от моего удара гранитные плиты, которые были искусно нарисованы на холсте, прорвались, тело мое таким образом "самортизировалось", и я тихо откатился в кучу опилок, выкрашенных в цвет травы, которые маскировали пролеты между землей и декорацией.
Испуганный Петров тихо, но беспокойно спросил у врача:
- Ну, как?
- Ох! Ох! - простонал я, наблюдая одним глазом.
- Да вот... - развел руками врач.
- Что вот?.. Сниматься не сможет?
- Думаю, что...
- Сможет! Сможет! - пропищал я совсем тоненько.
- Значит, жив! - закричал Петров. - Ну слава богу! Молодец!
- А как же! - еще громче крикнул я. И, отхлебнув из фляжки врача глоток особого "к. с.", уже важно ответил: - Вот полечимся, и в атаку.
Петров схватил меня в охапку и начал тискать и мять.
- Значит, еще дублик сделаешь!
- Сделаю, сделаю! Только отдайте мою фляжку!
Но Петров, опрокинув голову, допил ее до конца и, помахивая пустой посудиной, веселый и счастливый, сказал:
- Премия за взятие крепости за мной!
Тут же выяснилось, что можно больше не снимать. Со слов Петрова, из всех дублей этот дубль был просто великолепный:
- Особенно было эффектно, как ты ловко разделался с гранатой, - поймал, развернул и швырнул. Толстой даже присел от удовольствия!
- Как Толстой? Он ведь в Карлсбаде?..
- Был... А сегодня приехал, и прямо на съемку!
- Атаку нашу видел?
- Доволен очень! Хвалил тебя!
- Так зачем же снимать, если хорошо?
- Не ворчи, старик! Надо застраховаться.
Мы съехались опять за холм, на исходный рубеж и приготовились уже в который раз к атаке.
Раздался сигнал горна:
- Тра-та-та та-та-а! Приготовиться к атаке!..
 'Человек в футляре'. Режиссер И. Анненский. 'Советская Белорусь'. 1939 год. Играя в 'Человеке с футляром' прелестную девушку, сестру Коваленко, О. Андровская замечательно пела в одной из сцен. Очень боясь испортить песню, я осторожно
подтягивал ей
"Сын полка" стал полковым горнистом и все команды знал великолепно. Ему очень хотелось надеть костюм и сниматься, но так как горнист был нужнее, его одели в драгунский мундир (он утонул в нем, как в пальто, и выглядел очень смешно), надели парик с треуголкой, Анджан приклеил ему пышные черные усы, и прикрепили к режиссеру. Гордый и довольный, без единой улыбки, стоял он рядом с Петровым и по его
команде давал сигналы: "Приготовиться!", "Атака!", "Вперед! Марш! Марш!", "Отбой!".
Кавалерийские лошади знали сигналы и выполняли их, как в цирке, точно и незамедлительно. Про всадников уж я и не говорю.
На репетициях (это было накануне съемки, когда происходило "освоение" объекта) после сигнала: "Вперед! Марш! Марш!" всадники, обогнув холм, устремлялись на дорогу. Я не участвовал во всех прогонах. Освоив трассу, я залез на вышку и оттуда смотрел на репетицию.
От долгих репетиций за поворотом, у холма, сырой песок, разбитый копытами коней, образовал кашу, мешавшую аллюру, так как лошади в ней вязли. И вот на одной из репетиций, повернув за холм, первые лошади споткнулись, упали вместе с всадниками, задние, не видя из-за поворота их падения, мчались вперед, и образовалась "куча мала".
'Человек в футляре'. Режиссер И. Анненский. 'Советская Белорусь'. 1939 год. Играя в 'Человеке с футляром' прелестную девушку, сестру Коваленко, О. Андровская замечательно пела в одной из сцен. Очень боясь испортить песню, я осторожно
подтягивал ей
"Сын полка" стал полковым горнистом и все команды знал великолепно. Ему очень хотелось надеть костюм и сниматься, но так как горнист был нужнее, его одели в драгунский мундир (он утонул в нем, как в пальто, и выглядел очень смешно), надели парик с треуголкой, Анджан приклеил ему пышные черные усы, и прикрепили к режиссеру. Гордый и довольный, без единой улыбки, стоял он рядом с Петровым и по его
команде давал сигналы: "Приготовиться!", "Атака!", "Вперед! Марш! Марш!", "Отбой!".
Кавалерийские лошади знали сигналы и выполняли их, как в цирке, точно и незамедлительно. Про всадников уж я и не говорю.
На репетициях (это было накануне съемки, когда происходило "освоение" объекта) после сигнала: "Вперед! Марш! Марш!" всадники, обогнув холм, устремлялись на дорогу. Я не участвовал во всех прогонах. Освоив трассу, я залез на вышку и оттуда смотрел на репетицию.
От долгих репетиций за поворотом, у холма, сырой песок, разбитый копытами коней, образовал кашу, мешавшую аллюру, так как лошади в ней вязли. И вот на одной из репетиций, повернув за холм, первые лошади споткнулись, упали вместе с всадниками, задние, не видя из-за поворота их падения, мчались вперед, и образовалась "куча мала".

 'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света, я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света, я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
 'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света,
я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
- Людмила! А, смотри, Меншиков-то каков? Красавец! А ну, слезай-ка на минутку.
Я спрыгнул с лошади и попал прямо в его объятья. Навалившись грудью, он крепко обнял меня, а потом, положив руки на плечи, позвал Людмилу Ильиничну и, глядя мне прямо в глаза, сказал:
- Спасибо, дорогой! Хорош... А, Людмила? Теперь уж Меншикова в следующей книге я буду писать с него! - И повернулся к гостям: - Знакомьтесь - живой Алексашка!
- Мин херц!.. А вы похудели, - вдруг, ничего умнее не придумав, сказал я прорезавшимся голосом.
Все почему-то весело рассмеялись, а Алексей Николаевич, потрепав лошадь по шее, сказал:
- Похудеешь! Промывали насквозь!
- Как насквозь? - спросил я, решив поддержать светский разговор.
- Так, литров тридцать впустят, а двадцать выпустят!
- Двадцать?.. Интересно, а куда же девались остальные?
- Рассасывались! Гы, гы, гы! - под дружный хохот закончил Толстой.
За завтраком я поделился с ним тревогами и сомнениями, которые мучили меня.
- И что же тебя беспокоит?
- Не слишком ли я современен, не окомсомолил ли я Меншикова? Какая-то у меня и лихость, и хватка... современно удалая!
- Так это хорошо! Тебя зритель будет любить за это и принимать великолепно.
Комсомол - это молодость! А молодость во все времена и у всех народов есть молодость.
'Ленинградцы'. В этой картине, которая так и не увидела света,
я играл две роли - старого рабочего и диверсанта. Оба фото
сохранились
- Людмила! А, смотри, Меншиков-то каков? Красавец! А ну, слезай-ка на минутку.
Я спрыгнул с лошади и попал прямо в его объятья. Навалившись грудью, он крепко обнял меня, а потом, положив руки на плечи, позвал Людмилу Ильиничну и, глядя мне прямо в глаза, сказал:
- Спасибо, дорогой! Хорош... А, Людмила? Теперь уж Меншикова в следующей книге я буду писать с него! - И повернулся к гостям: - Знакомьтесь - живой Алексашка!
- Мин херц!.. А вы похудели, - вдруг, ничего умнее не придумав, сказал я прорезавшимся голосом.
Все почему-то весело рассмеялись, а Алексей Николаевич, потрепав лошадь по шее, сказал:
- Похудеешь! Промывали насквозь!
- Как насквозь? - спросил я, решив поддержать светский разговор.
- Так, литров тридцать впустят, а двадцать выпустят!
- Двадцать?.. Интересно, а куда же девались остальные?
- Рассасывались! Гы, гы, гы! - под дружный хохот закончил Толстой.
За завтраком я поделился с ним тревогами и сомнениями, которые мучили меня.
- И что же тебя беспокоит?
- Не слишком ли я современен, не окомсомолил ли я Меншикова? Какая-то у меня и лихость, и хватка... современно удалая!
- Так это хорошо! Тебя зритель будет любить за это и принимать великолепно.
Комсомол - это молодость! А молодость во все времена и у всех народов есть молодость.
 Богдан Хмельницким. Режиссер И. Савченко. Киевская киностудия, 1941 год. 'Можно и отдохнуть' - так думали мы, делая перерыв в работе над фильмом. Игорь Савченко чокается со мной. Оператор Ю. Екельчик, директор картины В. Чайка, словом, весь коллектив картины собрался здесь
- Спасибо, мин херц! Я тоже так думаю, и даже, скажу вам по секрету, меня вдохновили еще и мушкетеры. Я у них позаимствовал отваги! Они ведь в одной временной горизонтали с Меншиковым - то же время и тот же возраст! Вот мне и показалось, что у них должно быть что-то общее, объединяемое эпохой, а что - я не знаю, чутьем чувствую, что должно, а "теоретическую базу" не могу подвести, и вот вы взяли да подвели - молодость! Ну, конечно! Правильно! Именно молодость!
Толстой посмотрел на меня внимательно, как никогда еще не смотрел, губы его вытянулись, глаза округлились...
Богдан Хмельницким. Режиссер И. Савченко. Киевская киностудия, 1941 год. 'Можно и отдохнуть' - так думали мы, делая перерыв в работе над фильмом. Игорь Савченко чокается со мной. Оператор Ю. Екельчик, директор картины В. Чайка, словом, весь коллектив картины собрался здесь
- Спасибо, мин херц! Я тоже так думаю, и даже, скажу вам по секрету, меня вдохновили еще и мушкетеры. Я у них позаимствовал отваги! Они ведь в одной временной горизонтали с Меншиковым - то же время и тот же возраст! Вот мне и показалось, что у них должно быть что-то общее, объединяемое эпохой, а что - я не знаю, чутьем чувствую, что должно, а "теоретическую базу" не могу подвести, и вот вы взяли да подвели - молодость! Ну, конечно! Правильно! Именно молодость!
Толстой посмотрел на меня внимательно, как никогда еще не смотрел, губы его вытянулись, глаза округлились...
 'Богдан Хмельницкий'. Режиссер И. Савченко. Киевская
киностудия, 1941 год. 'Дьяк Гаврило был свободолюбивый, жизнерадостный казак и любезный кавалер! Свой крест и
пистоль он пропил, ухаживая за хозяйкой, - говорил мне А. Корнейчук и показывал на Э. Цесарскую, которая играла
шинкарку
- Знаете, что он мне сказал, - обратился Толстой к кому-то из сидевших рядом, - что Меншиков-то похож на мушкетера. Слыхали? Да ты, оказывается, хитрый!
- Какой там хитрый. Вот износил уже два полных костюма, а аромата эпохи, которым отличается петровский молодой человек от нашего, уловить не могу. Так мне кажется...
Уже кончился перерыв, и меня звали на съемку крупного плана, а у меня еще были тысячи разных нерешенных "но", которые требовали разъяснений.
- Тебе нужен аромат петровской эпохи?
- Да!
- Чудаки, вы, рябчики! Да он кругом здесь, на каждом шагу, в каждом камне, нас окружают петровские чудеса, только успевай поворачиваться. Не умеете ловить аромат, поэтому и не ловится, - сказал он сокрушенно. - Вот поезжай сегодня, не откладывая, после съемки в Петровский дворец, что в Летнем саду, каждый день ведь мимо ездишь, да переночуй там. Вот так, как есть, в костюме, Пригласи Симонова, может, и он поедет, и проведите там вдвоем ночку... Глядь, Петр-то и приснится, аромат-то и появится, если вы еще захватите штоф!.. Гы, гы, гы! - закончил он, сочно смеясь. - А я сейчас поеду мимо и все устрою! Хорошо?
'Богдан Хмельницкий'. Режиссер И. Савченко. Киевская
киностудия, 1941 год. 'Дьяк Гаврило был свободолюбивый, жизнерадостный казак и любезный кавалер! Свой крест и
пистоль он пропил, ухаживая за хозяйкой, - говорил мне А. Корнейчук и показывал на Э. Цесарскую, которая играла
шинкарку
- Знаете, что он мне сказал, - обратился Толстой к кому-то из сидевших рядом, - что Меншиков-то похож на мушкетера. Слыхали? Да ты, оказывается, хитрый!
- Какой там хитрый. Вот износил уже два полных костюма, а аромата эпохи, которым отличается петровский молодой человек от нашего, уловить не могу. Так мне кажется...
Уже кончился перерыв, и меня звали на съемку крупного плана, а у меня еще были тысячи разных нерешенных "но", которые требовали разъяснений.
- Тебе нужен аромат петровской эпохи?
- Да!
- Чудаки, вы, рябчики! Да он кругом здесь, на каждом шагу, в каждом камне, нас окружают петровские чудеса, только успевай поворачиваться. Не умеете ловить аромат, поэтому и не ловится, - сказал он сокрушенно. - Вот поезжай сегодня, не откладывая, после съемки в Петровский дворец, что в Летнем саду, каждый день ведь мимо ездишь, да переночуй там. Вот так, как есть, в костюме, Пригласи Симонова, может, и он поедет, и проведите там вдвоем ночку... Глядь, Петр-то и приснится, аромат-то и появится, если вы еще захватите штоф!.. Гы, гы, гы! - закончил он, сочно смеясь. - А я сейчас поеду мимо и все устрою! Хорошо?




 Энтузиазм в этой сцене возникал от торопливого стремления поскорее вылезти из бассейна с водой. Ведь там пришлось
сидеть всю рабочую смену
Но, как мне показалось, я так же быстро и проснулся от солнечного луча, который бил прямо мне в лицо. Потянулся, открыл глаза... Незнакомая комната, и стены, и окна со странными переплетами рам. Старые дамы, смотрящие на меня с портретов, и я, лежащий на полу в мундире... Все показалось мне сном, и, не желая терять его, упустить, я снова крепко зажмурил глаза.
Разбудил меня стук, кто-то настойчиво и, очевидно, давно стучал. Я быстро открыл. В дверях стоял Алексей Николаевич, свежий, пахнущий утром.
Энтузиазм в этой сцене возникал от торопливого стремления поскорее вылезти из бассейна с водой. Ведь там пришлось
сидеть всю рабочую смену
Но, как мне показалось, я так же быстро и проснулся от солнечного луча, который бил прямо мне в лицо. Потянулся, открыл глаза... Незнакомая комната, и стены, и окна со странными переплетами рам. Старые дамы, смотрящие на меня с портретов, и я, лежащий на полу в мундире... Все показалось мне сном, и, не желая терять его, упустить, я снова крепко зажмурил глаза.
Разбудил меня стук, кто-то настойчиво и, очевидно, давно стучал. Я быстро открыл. В дверях стоял Алексей Николаевич, свежий, пахнущий утром.



 'Оборона Царицына'. Режиссеры С. и Г. Васильевы. Ленфильм'. 1942 год. С. и Г. Васильевы работали много и увлеченно: они добивались точности в актерском исполнении и выразительности кадра. Их ближайшим помощником был оператор А. Сигаев
И можете себе представить, что творческий рывок, который проявил весь коллектив, оказался очень плодотворным. Работали все вдохновенно, не думая о времени, работали не за страх, а за совесть. В свободную минутку кто-то отдыхал, кто-то пил горячий чай или ел вовремя поданный обед, но все продолжали работать.
Сцену сняли в трое суток при самом высоком качестве. Непостижимо, но факт! "Авось, сойдет" - в нашем лексиконе не существовало.
Снимали невиданными темпами.
'Оборона Царицына'. Режиссеры С. и Г. Васильевы. Ленфильм'. 1942 год. С. и Г. Васильевы работали много и увлеченно: они добивались точности в актерском исполнении и выразительности кадра. Их ближайшим помощником был оператор А. Сигаев
И можете себе представить, что творческий рывок, который проявил весь коллектив, оказался очень плодотворным. Работали все вдохновенно, не думая о времени, работали не за страх, а за совесть. В свободную минутку кто-то отдыхал, кто-то пил горячий чай или ел вовремя поданный обед, но все продолжали работать.
Сцену сняли в трое суток при самом высоком качестве. Непостижимо, но факт! "Авось, сойдет" - в нашем лексиконе не существовало.
Снимали невиданными темпами.


 'Оборона ЦарицынаСнимать эту сцену мы выехали в ту самую казачью станицу, где происходили исторические события
обороны Царицына
Творческий бросок и такое боевое содружество во время работы очень сблизили меня со всем коллективом.
'Оборона ЦарицынаСнимать эту сцену мы выехали в ту самую казачью станицу, где происходили исторические события
обороны Царицына
Творческий бросок и такое боевое содружество во время работы очень сблизили меня со всем коллективом.



 'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. 'Старик пошел в партизанский отряд к секретарю райкома, нацепив свои георгиевские кресты. Вот таков твой Гаврила Русое!' - сказал мне режиссер Иван Пырьев
Он создавал поток увлекательных сцен, которые в стремительном и жизненно правдивом действии, не резонируя и не поучая, раскрывали основную идею произведения. Благодаря яркости и оригинальной композиции они надолго оставались в вашем сознании.
Просмотрев с утра весь отснятый материал, он являлся на съемку как начальник штаба или главный конструктор, который знает и видит все целиком. Своим ясным и холодным взглядом он осматривал поле творческой битвы и всегда находил, где надо дописать, где перекроить, что убрать, за что драться.
Он не шел по шаблону и был противником всего старого, что подгоняли - иногда спекулятивно - под понятие "традиция". Мыслил оригинально и остро.
'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. 'Старик пошел в партизанский отряд к секретарю райкома, нацепив свои георгиевские кресты. Вот таков твой Гаврила Русое!' - сказал мне режиссер Иван Пырьев
Он создавал поток увлекательных сцен, которые в стремительном и жизненно правдивом действии, не резонируя и не поучая, раскрывали основную идею произведения. Благодаря яркости и оригинальной композиции они надолго оставались в вашем сознании.
Просмотрев с утра весь отснятый материал, он являлся на съемку как начальник штаба или главный конструктор, который знает и видит все целиком. Своим ясным и холодным взглядом он осматривал поле творческой битвы и всегда находил, где надо дописать, где перекроить, что убрать, за что драться.
Он не шел по шаблону и был противником всего старого, что подгоняли - иногда спекулятивно - под понятие "традиция". Мыслил оригинально и остро.
 'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. Дед Русов размахнулся и ударил фашистского
генерала. К сожалению, милейший М. Ф. Астангов, который играл полковника Макенау, не был подготовлен к моему удару, чем я в интересах искусства и воспользовался
Обладатель уникальной библиотеки детективных романов, которые он коллекционировал, начиная от бульварных копеечных выпусков Ника Картера, Пата Пинкертона до романов типа Коллинза и А. Конан-Дойля, включая самую новейшую западную детективную литературу.
Однажды я похвалился:
- Леонид Захарович, я достал, правда, с большим трудом, "Разбойника Чуркина" в трех частях! У вас есть?
- У меня-то есть, а вот вам зачем? - смешно хмыкнув, спросил он. Как зачем? - удивился я, не зная, что ответить на такой простой вопрос. - Читать!
- Читать? Странно... - пробурчал он ядовито. - Ведь это же "низменное чтиво"...
- А зачем же тогда вы собираете?
- Я?.. Видите ли... я считаю, что в каждом, даже самом плохом детективе есть крупица талантливой выдумки... Скажите, где можно найти такое количество занимательных, а порой и "сногсшибательных" положений, трюков, неожиданных поворотов и смертельных "подвигов", как не в этих книжицах?
'Секретарь райкома'. МА'. Режиссер И. Пырьев. ЦОКС (Алма-Ата), 1942 год. Дед Русов размахнулся и ударил фашистского
генерала. К сожалению, милейший М. Ф. Астангов, который играл полковника Макенау, не был подготовлен к моему удару, чем я в интересах искусства и воспользовался
Обладатель уникальной библиотеки детективных романов, которые он коллекционировал, начиная от бульварных копеечных выпусков Ника Картера, Пата Пинкертона до романов типа Коллинза и А. Конан-Дойля, включая самую новейшую западную детективную литературу.
Однажды я похвалился:
- Леонид Захарович, я достал, правда, с большим трудом, "Разбойника Чуркина" в трех частях! У вас есть?
- У меня-то есть, а вот вам зачем? - смешно хмыкнув, спросил он. Как зачем? - удивился я, не зная, что ответить на такой простой вопрос. - Читать!
- Читать? Странно... - пробурчал он ядовито. - Ведь это же "низменное чтиво"...
- А зачем же тогда вы собираете?
- Я?.. Видите ли... я считаю, что в каждом, даже самом плохом детективе есть крупица талантливой выдумки... Скажите, где можно найти такое количество занимательных, а порой и "сногсшибательных" положений, трюков, неожиданных поворотов и смертельных "подвигов", как не в этих книжицах?

 На съемку 'Успенского собора
'
в студию пришли гости. С.
Эйзенштейн, Н. Черкасов, М. Названов и я снялись вместе с
ними
Как же было мне приятно, когда однажды на мою просьбу разрешить пользоваться его библиотекой: "Я книголюб и сохраню все в целости!" - он, мучительно вздохнув, подошел к шкафу и достал увесистый роман "Роковое наследство".
- Только вас, Миша Иванович, первого, я пускаю в мою коллекцию, - цените! Это за вашу чудную работу в нашей картине и за ваш покладистый характер, но условимся: новая книга берется, только после того как прочитанная встала на место. Договорились?
- Зарубил на носу!
- То-то. Ключ всегда здесь.
Когда эвакуировалась из блокированного Ленинграда студия "Ленфильм", естественно, из всей этой редкостной библиотеки ему удалось спасти всего несколько книг.
На съемку 'Успенского собора
'
в студию пришли гости. С.
Эйзенштейн, Н. Черкасов, М. Названов и я снялись вместе с
ними
Как же было мне приятно, когда однажды на мою просьбу разрешить пользоваться его библиотекой: "Я книголюб и сохраню все в целости!" - он, мучительно вздохнув, подошел к шкафу и достал увесистый роман "Роковое наследство".
- Только вас, Миша Иванович, первого, я пускаю в мою коллекцию, - цените! Это за вашу чудную работу в нашей картине и за ваш покладистый характер, но условимся: новая книга берется, только после того как прочитанная встала на место. Договорились?
- Зарубил на носу!
- То-то. Ключ всегда здесь.
Когда эвакуировалась из блокированного Ленинграда студия "Ленфильм", естественно, из всей этой редкостной библиотеки ему удалось спасти всего несколько книг.

 'Васса Железнова'. Режиссер Л. Луков. Киностудия имени М.
Горького. 1953 год. Грим для Прохора (М. Жаров) был утвержден
на первой пробе
Как концы ножниц, они могли расходиться, но всегда только для того, чтобы резать с двух сторон.
Смотря сейчас работы Козинцева и Трауберга, я всегда вспоминаю Станиславского и Немировича - этот чудесный сплав, создавший в театре эпоху.
Если бы Козинцев и Трауберг не разошлись, - может быть? Кто знает? Эпохи ведь создаются и в кино!
'Васса Железнова'. Режиссер Л. Луков. Киностудия имени М.
Горького. 1953 год. Грим для Прохора (М. Жаров) был утвержден
на первой пробе
Как концы ножниц, они могли расходиться, но всегда только для того, чтобы резать с двух сторон.
Смотря сейчас работы Козинцева и Трауберга, я всегда вспоминаю Станиславского и Немировича - этот чудесный сплав, создавший в театре эпоху.
Если бы Козинцев и Трауберг не разошлись, - может быть? Кто знает? Эпохи ведь создаются и в кино!
 Леонид Луков импровизирует: в его сценарии Прохор Храпов возвращается после ночного кутежа
Такая форма, в этом можно убедиться, просмотрев всю трилогию, очень ярко, очень насыщенно и очень взволнованно давала возможность на экране, кинематографическими приемами, раскрыть и показать остроту борьбы большевика Максима с остатками контрреволюции. Неожиданные повороты и ракурсы, через которые режиссеры показывали и заставляли рассматривать эпизоды борьбы, были очень смелыми и раскрывали с новой силой внутреннее решение сцены, а стало быть, и событий.
Леонид Луков импровизирует: в его сценарии Прохор Храпов возвращается после ночного кутежа
Такая форма, в этом можно убедиться, просмотрев всю трилогию, очень ярко, очень насыщенно и очень взволнованно давала возможность на экране, кинематографическими приемами, раскрыть и показать остроту борьбы большевика Максима с остатками контрреволюции. Неожиданные повороты и ракурсы, через которые режиссеры показывали и заставляли рассматривать эпизоды борьбы, были очень смелыми и раскрывали с новой силой внутреннее решение сцены, а стало быть, и событий.


 Леонид Луков вводил в картину новые эпизоды. На репетициях с
ним всегда было интересно
Я вначале репетировал сложную, а поэтому и интересную роль - диверсанта, проникшего из-за рубежа и живущего в Ленинграде под личиной сезонного рабочего: "пилим-
стругаем, заборы починяем" этакого увальня и придурка. Роль попала в жилу, и образовался перекос в мою пользу - враг получился смекалистым, обаятельным и умным. Парнем "своим в доску". Это нас беспокоило. Обсудили, показали друзьям пробы и репетиции, и я перешел на другую центральную роль - большевика, старого рабочего путиловца. Роль меня увлекла, грим и внешний облик мы нашли сразу, он органично сочетался с моим внутренним пониманием питерского пролетария.
Моя первая съемка была сложной и по масштабу, и по содержанию - действие происходило во дворе завода после ранения Ленина.
Митинг гнева и возмущения. Старик выступает страстно - он требует охраны революции от врагов внутренних и внешних. Эта сильная, эмоциональная сцена являлась для меня после удач в комедийных ролях настоящим творческим испытанием.
Двор забит рабочими (они же и зрители моих картин), которые являются участниками митинга. Ассистенты режиссера объясняют характер и задачу снимаемого куска, а также поведение и реакцию собравшихся на митинг:
- Когда войдет артист Жаров, он играет старого рабочего вашего завода (в толпе раздались жидкие аплодисменты и смех) и произнесет речь, - все должны снять шапки и опустить головы. Ясно?
- Ясно, а скажет он что-нибудь смешное? - раздался чей-то голос.
- Нет! Он скажет, что ранен Ленин.
Меня в гриме они еще не видели. Когда все было готово (решили, что речь на народе я репетировать не буду, а скажу сразу, с ходу, в том естественном волнении, которое у меня будет), я незаметно сменил технического дублера (по которому устанавливали свет и кадр). Мой герой вышел на трибуну в рабочей спецовке, суровый и гневный. Все замерли.
Речь я говорил тихо, как бы упрекая себя: "Не сберег родного Ильича, каюсь!..". Этот прием (обратный штампованной митинговой речи, громкой и призывной), предложенный мне режиссерами, произвел на слушающих нужное впечатление. Кадры рабочих, их крупные планы, снятые во время моего выступления параллельными аппаратами, выражали все, о чем я говорил, - и скорбь, и гнев.
- Дебют на народе прошел отлично - забыли веселого Жарова, видели скорбного старика-рабочего, - пожимая руку, сказал мне главный инженер завода. - Вместе с вами все переживали и наши рабочие! Как они слушали! Обмануть их не так легко. Они подчинились прежде всего вашей правде, -вместо крика, который они ожидали, раздался стон раненого сердца. Это, вероятно, и есть переживание правдивое и высокохудожественное. Спасибо!
Леонид Луков вводил в картину новые эпизоды. На репетициях с
ним всегда было интересно
Я вначале репетировал сложную, а поэтому и интересную роль - диверсанта, проникшего из-за рубежа и живущего в Ленинграде под личиной сезонного рабочего: "пилим-
стругаем, заборы починяем" этакого увальня и придурка. Роль попала в жилу, и образовался перекос в мою пользу - враг получился смекалистым, обаятельным и умным. Парнем "своим в доску". Это нас беспокоило. Обсудили, показали друзьям пробы и репетиции, и я перешел на другую центральную роль - большевика, старого рабочего путиловца. Роль меня увлекла, грим и внешний облик мы нашли сразу, он органично сочетался с моим внутренним пониманием питерского пролетария.
Моя первая съемка была сложной и по масштабу, и по содержанию - действие происходило во дворе завода после ранения Ленина.
Митинг гнева и возмущения. Старик выступает страстно - он требует охраны революции от врагов внутренних и внешних. Эта сильная, эмоциональная сцена являлась для меня после удач в комедийных ролях настоящим творческим испытанием.
Двор забит рабочими (они же и зрители моих картин), которые являются участниками митинга. Ассистенты режиссера объясняют характер и задачу снимаемого куска, а также поведение и реакцию собравшихся на митинг:
- Когда войдет артист Жаров, он играет старого рабочего вашего завода (в толпе раздались жидкие аплодисменты и смех) и произнесет речь, - все должны снять шапки и опустить головы. Ясно?
- Ясно, а скажет он что-нибудь смешное? - раздался чей-то голос.
- Нет! Он скажет, что ранен Ленин.
Меня в гриме они еще не видели. Когда все было готово (решили, что речь на народе я репетировать не буду, а скажу сразу, с ходу, в том естественном волнении, которое у меня будет), я незаметно сменил технического дублера (по которому устанавливали свет и кадр). Мой герой вышел на трибуну в рабочей спецовке, суровый и гневный. Все замерли.
Речь я говорил тихо, как бы упрекая себя: "Не сберег родного Ильича, каюсь!..". Этот прием (обратный штампованной митинговой речи, громкой и призывной), предложенный мне режиссерами, произвел на слушающих нужное впечатление. Кадры рабочих, их крупные планы, снятые во время моего выступления параллельными аппаратами, выражали все, о чем я говорил, - и скорбь, и гнев.
- Дебют на народе прошел отлично - забыли веселого Жарова, видели скорбного старика-рабочего, - пожимая руку, сказал мне главный инженер завода. - Вместе с вами все переживали и наши рабочие! Как они слушали! Обмануть их не так легко. Они подчинились прежде всего вашей правде, -вместо крика, который они ожидали, раздался стон раненого сердца. Это, вероятно, и есть переживание правдивое и высокохудожественное. Спасибо!







 гпегдгпр имени
гпегдгпр имени
 си £3led 24.В1 26 ПРЕМЬЕРА it 23 (в 24 и 28
си £3led 24.В1 26 ПРЕМЬЕРА it 23 (в 24 и 28
