Полтава

ТАК ТЯЖКИЙ МЛАТ,
ДРОБЯ СТЕКЛО, КУЁТ БУЛАТ.
А. ПУШКИН. ПОЛТАВА
Пролог
1

тарику почудилось, будто в красном закатном мареве ожили люди, которых он уже не чаял встретить на этом свете.
Синеватый графин на столе сверкнул кровавым гранёным боком. Сосуд вскипел тосканским вином — напоминанием об угасшей юности, проведённой в далёкой Италии.
Старик почувствовал себя молодым, с чёрными кудрями на лёгкой гордой голове. А кудри давно поредели и стали белыми. Лицо обрюзгло, тело распухло, как пенное тесто.
— Пейте, гости дорогие... Пейте... А я...
Радостно человеку видеть своё утро. Но тяжело покидать милую землю.
Захотелось окликнуть ученика. Да губы только шепнули:
— Петро... Петрусь...
Взгляд набрёл на продолговатое лицо с большими глазами, на чёрную шапку в серых почему-то руках. Раздутые пальцы отыскали чужую узкую ладонь.
— Не забудь, Петрусь... Гетманову парсуну...
Красные люди, давние знакомцы, как выткались из ничего, так и растаяли без следа.
Некому было пировать, да и нечего было пить...
А через мгновение ученик содрогнулся: по скрюченным старческим пальцам растекался холод смерти.
Иван Журба, Петрусев отец, дождался гостя. В просторной светлице сидел гадячский купец Тарас Яценко — горбоносый, сизолицый, чисто выбритый, потому что не обломок хлеборобской косы скрёб ему гладкие щёки, а гуляла по ним острая заморская бритва. На загорелом лице, да ещё при свете сальных свечей, подвешенных к потолку, даже чёрные усы проступали размытою полоской.
Как вошёл — в кожухе, в сапогах, — Петрусь упал на широкую дубовую скамью. Мысленно брал из горшочков краски и клал их кистью на белый левкас. Освещённое сверху лицо гостя получалось выразительным вплоть до усов. А дальше всё съедал полумрак. В разговоры парень не вмешивался. Хоть у купца много новостей. Не с ляшскими хлопами водил он компанию за Днепром... Да сон уже мазал казацкие глаза липким мёдом.
Журбиха сунула сыну под голову подушку, а шапку-бырку с красным верхом нацепила возле двери на гвоздь, чтобы утром, проснувшись и перекрестившись, не искал он попусту крышки для головы. Потом глянула на стол. Там еды и питья — до рассвета.
— Долго будете сидеть? — спросила-таки. Поскольку ей не отвечали, так ещё прибавила: — Разбудишь наймичку, коли что, Иван... Ног под собою не чую...
И отправилась через тёмные сени в тёплый чулан.
Иван с Тарасом едва-едва начали разговор. Потому и не просили Журбиху спеть, хотя подобной певуньи не сыскать больше по всей гетманщине. Они ещё покряхтывали после крепкого мёда и горелки. Ещё обсасывали концы мокрых усов. Оба знали, что хлопца поразили похороны. Но для них самих не диво — смерть старого человека. Да и умер, он передав ремесло молодому.
Иван Журба не сушил себе головы: два года отучился сын у пришлого богомаза Опанаса, пока тот размалёвывал здешнюю церковь. Теперь хлопца приглашают в Батурин. На баских конях приезжал сюда гетманов управитель Быстрицкий... А смерть — от Бога. Они с кумом нагляделись. И в походах, на войне, и так, от болезней да заразы, сколько людей отходит в иной мир. Как говорится, там нашего брата больше, нежели здесь... Их, уже пожилых, угнетало иное...
Да и кого весною 1708 года в гетманщине, от широкого Днепра и до спокойной, с заболоченными берегами Ворсклы, за которой Слободская Украина, подвластная московскому царю, заселённая беглым людом, — кого не беспокоило понимание того, что от запада движется огромная армия? Разве одну гетманщину и Московию? Нет, вся Европа, уставленная каменными крепостями, охваченная войною за испанское наследство, то есть за владения испанского короля, умершего бездетным, зато имевшего множество родственников и наследников при монарших дворах, — те владения особенно стремился прибрать к рукам французский двор! — вся Европа с нетерпением посматривала на восток, довольная, что неугомонный шведский король нашёл себе продолжительное занятие. В Европе старались угадать, когда же он победоносно разрешит давние распри между русскою и шведскою коронами за русские же земли. Правда, что дальше предпримет король — страшно было думать.
Война продолжалась уже восьмой год. Подписав тайный договор с саксонским курфюрстом Августом, избранным шляхтой на польский престол, и с датским королём, царь Пётр осадил крепость Нарву, надеясь совершить то, чего не удалось сделать ни Ивану Грозному, ни другим царям: воссоединить с Россией старинные русские земли, во времена смут и лихолетья захваченные шведами. Однако восемнадцатилетний Карл XII перетасовал карты союзным властителям: первым делом принудил выбыть из войны Данию, затем появился под Нарвою, разбил наспех собранную и плохо обученную московскую армию и, считая главным противником польское королевство с саксонским курфюрством, двинулся от Нарвы против Августа...
Шведские войска несколько лет утюжили земли Речи Посполитой, гоняя саксонцев, пока не вступили в Саксонию и не заставили курфюрста отречься от польского престола. Для высокого сана отыскали нового кандидата — познанского воеводу Станислава Лещинского, прежде неприметного, — потому и стремился шведский властелин видеть его на престоле, что он нигде не отличился, значит, обещал стать покорным вассалом. Недовольные этой кандидатурою магнаты, ориентируясь на Россию, считали себя и впредь сторонниками Августа. Август же, подчиняясь шведской силе и выплачивая непомерные контрибуции, не терял надежды снова усесться на королевский престол и быть в союзе с русским царём. Он подавал своим сторонникам знаки одобрения даже из наследственной Саксонии. Они же хороводились вокруг коронного гетмана Адама Сенявского в тех землях, откуда ближе к русским границам. Их стали называть сандомирскими конфедератами. Именем Речи Посполитой между ними и царём был заключён договор: совместно бороться против шведов.
Карл XII не боялся сандомирских конфедератов. Не тревожило его, казалось, и то, что, пока он воевал в Польше и Саксонии, русские штурмом овладели на берегах Ладоги и Невы шведскими крепостями и вышли к морским берегам.
Слухи о силе шведской армии уже перекатывались через просторы гетманщины. В гетманщине же было достаточно разговоров и за чаркой горелки, и в поле, и в походе...
Так обстояло дело и в тот вечер. Журба торопился выспросить, что же слышно за Днепром, — оттуда ближе к лиху. Донимали его и события вокруг маленького хутора да тех земель, над которыми он имел власть и силу.
— Тяжело, — не дожидался Журба слов кума. — Собираю гетманские датки. От такого занятия люди богатели. Записывались в компут...
Яценко молча качал головою да сгребал ладонью длинный, как у Журбы, немного седоватый ус, закрученный на польский манер.
— Мало что перекинешь в свой тхорик! — горячился Журба. — Ты собирал датки, понимаешь... С этой мельницы, которую совместно с тобой содержу, только и прибыли. Сейчас хлопа не придавишь. Он копит деньги, чтобы заиметь казацкого коня да самому залезть в компут. Не платить ни даток, ни стации... А кому кормить войско и старшину? Хлопа загоняют в ярмо осторожно. Работает он на хозяина два дня в неделю. В Московии мужик отработает столько, сколько прикажет барин! Гетман лукавит. Разве нет сил? Реестровые казаки, охотные... Полк москалей под рукою... Эх, во скольких хатах, хоть бы и в Чернодубе, ружья — не спрашивай! Везде полно гультяев. По городам, возле крепостей, такого нет, как здесь...
— Эх, кум! — засверкали глаза Яценка. Даже кулаком стукнул о стол. Однако шляхетского вида не потерял. — Осмелел народ. Неудовольствие и в Московии. Шатость. С голоду — за дубины! А на Дону... Рассказывают... Сосчитай, сколько лет дерут деньги на войну. И нам, купцам гетманским, где вести торговое дело? Половина урожая пропадает. Кому продать? Гнали волов в Ригу или в Польшу, как только лето — так и закурели дороги... А сейчас? Шведу? У ляхов между собой грызня. Нет покоя за Днепром. Простой народ удирает под царскую руку. Да и богачам осточертел панский произвол... Но купцу и здесь не разжиться. Один порт у царя на море, Архангельск, чтобы возить товар за границу... Да пока доберёшься... Да и с волами ли? Вилами на воде писано, построится ли новый город при море. Отнимут его шведы, не приведи Господи, — как тогда купцам? Снова лишь в своей земле торговля? Из полка в полк везёшь товар — а полков у гетмана десять! — так и то плати эвекту, инвекту, индукту! — где и слов набралось? И каждый сотник — пан... Со стороны посмотреть — купеческий хлеб сладок. Потому что в чужих руках кот бобром чудится! Если бы моя воля — отменил бы я пошлины на товары внутри державы. Ведь царь один?.. Надежда на московских купцов. В их дело вкладываю деньги. Они подвозят товары для царской армии. Молю Бога, чтобы царь одолел врага. Скоро выстрою дом в Гадяче. Купцы будут приезжать.
Видел Журба Яценков дом. Высок, позавидует и полковник. Над Пслом, под защитой крепости. Окружён валом... Прежде чем пригласить мастеров-строителей, Яценко насмотрелся на панские строения за Днепром. «Наши деды, — говорил, — зарывали деньги в землю, не зная, что они приносят счастье... У меня дочь выросла. Если бы к деньгам зятя, потому что сыновей не имею...»
Вместе голодали и мёрзли в походах Яценко и Журба, а обскакал Яценко приятеля. Купец он.
— Так что же слышно о враге, кум? Зарится он на тот новый город при море? Или на Москву пойдёт? А не мимо ли наших хат? — спросил наконец Журба.
— Чума его знает! Чёрту душу продал шведский король... Он одновременно бывает во многих местах, между которыми сотни вёрст. Да и все шведы характерники... А «станиславчики», — так Яценко называл сторонников Станислава Лещинского, — не скоро сюда соберутся... А ещё, — возвратился он к своему, — подумай, кум. Ведь царь... Пускай ты и купец, а верно служишь — тебя и посполитыми наградит. Не спрашивает, из какого ты сам рода. Такого хозяина надо держаться. А попробуй подступиться к нашему панству... Ты с каких пор пытаешься записаться в компут? Наше панство недавнее, корни в нём хлопские, а гонору много. Но «станиславчики» наших панов могут снова хлопами сделать...
— Да, да...
Перед рассветом на скамье зашевелился Петрусь. Поднял голову — отец с купцом на прежнем месте, где уселись вечером.
— А мне снился брат Марко, — сказал парень. — Будто приехал...
Старые и ухом не повели на слова молодого.
2
Корчмарь Лейба недавно перекупил за Ослом полуразрушенную корчму, которую быстро привёл в порядок. Он уже знал всех людей по окрестным сёлам, но бравого казака с быстрым звериным взглядом и тонким горбатым носом заприметил впервые. Однако будто кто-то шепнул корчмарю, что это запорожец. И правда. Во дворе под старой вербою, вросшей в низенький земляной вал, вздымались тугие конские шеи среди рогатых мирных волов да высоких «драбчастых» возов. Один конь — под турецким расшитым седлом, на другом — тёмные дорожные саквы.
— Запорожец, бенимунис...
[1]
Корчмарь пригляделся внимательней, не оставляя своих занятий.
Казак ничего не заказывал, а лишь присел — собраться с силами. Корчмарев сын поднял лоснящийся лоб, прикрытый круглой засаленной шапочкой, тоже не отрывая взгляда от редкого гостя. Под старым и бесцветным кобеняком у того — красные шаровары из дорогого сукна и синий жупан. Сабля украшена золотом. Ружьё за плечами — гетманскому вояке такое и во сне не приснится. А подобную саблю не зазорно прицепить к боку и бравому есаулу, не то что казаку. Сапоги выбивают подковами звон, хотя запорожец и не шевелит ногами. Только шапка на голове обычная, хлопская, — чтобы не бросаться в глаза красным верхом.
Корчмарь приступил поближе, с намерением расспросить, в каком походе добывают такое богатство.
Казак наперёд:
— Когда церковь отстроили?
Корчмарёво лицо прояснилось: здешний казак! Да года два не бывал дома. К руинам рабочие люди приступили позапрошлым летом.
— Ещё там много работы, видите, — живо отозвался корчмарь. — Ещё когда это...
— Кто отстраивает?
Корчмарь даже оглянулся. Он туда стежки не топчет. Но спрашивают...
— Гетманским коштом, видите... Эконом Гузь. На освящение сам гетман приедет. Так управитель Быстрицкий обещал...
Казак не отвечал. Поспешил во двор.
Сквозь узенькое стёклышко, засиженное в прошлые летние дни мухами, корчмарь увидел уже отвязанных коней.
Возле плотины собралось много возов. Скрипит чумацкий обоз, и местные хлопы торопятся в Гадяч на ярмарку. Широкий шлях за рекою пока что пуст. Манит подсохшей землёю. Над высоким берегом поднимается круглое, как мельничное колесо, солнце и слизывает тёплыми лучами с церкви остатки ночного мрака. Видны белые, будто сметана, стены и золотые, сверкающие — глазам больно — тонкие кресты.
Люди возле воды любуются виденным.
Запорожец поит в ручье усталых коней. Ему не по нраву это людское любованье.
— Грех на душе... Потому хлопских денег не жаль!
Какой-то старикашка качает головою в изодранной шапке:
— О! Сечь... Ага... Там язык на припоне не держат... Но бережёного и Бог бережёт... Здесь полно есаулов, есаульцев, есаульчиков...
Тем временем смельчака опознали:
— Марко? Ты? Го-го!
Низенький парубок расставляет красные руки.
— Я, — отвечает Марко спокойно. — А ты — Степан...
Парубок топчется на месте. Его круглое рябое лицо краснеет. Он ожидает смеха, но никто не смеётся. Кто уже готов спуститься на плотину. У кого возы далеко — те с интересом всматриваются в Марка.
— Господи! — машет длинными руками Степан. — А мы с Петрусем...
Проезжие люди расспрашивают, чей это сын наведался домой.
Марко пробивается с конями на плотину, и нет ему супротивного слова. Запорожец.
— Мы с его братом овечек пасли, — разводит руками Степан, не веря, что запорожца не обрадовали добрые слова.
Татарской стрелою взлетел конь на высокий берег. Внизу, возле речки, он развешал на голых деревьях ошмётки чёрной грязи. А наверху, на гладком месте, копыта высекли прозрачную пыль. Там раньше всего прочего просыхает земля. Другой конь, на котором привязаны дорожные саквы, не торопился. Марко ударил его нагайкой — он взвился, как ужаленный оводом, задрожал каждою жилкою, да повод не дал воли. Тогда животное будто застеснялось и уже ни на шаг не отставало от переднего своего товарища.
А тут уже и подворье. Вот, за валом... На широком крыльце — мать. Опустила ведро с водою. Солнечные зайчики от воды прыгают по высокому очипку, по лицу, по шее. Но больше всего — по белой стене. Тревожат петухов, выведенных рукою Петруся. Петухи, раздражённые, ещё сильнее выгнули крутые яркие хвосты. Не хвосты — колёса дебелых чумацких возов.
— Сыну!.. Марко! Марко прибился!
На крик из хаты выскочила наймичка с голыми руками в чёрных пятнах сажи, и наймит с острыми вилами показался из сарая.
Выбежал старый Журба.
— В воду глядел Петрусь! — тотчас обвил он красным поясом свою широкую свитку. — Ему такой сон приснился!
— И мне, — заблестели слёзы в материнских глазах. — Мне тоже...
Марко привязал коней к обглоданной коновязи. Отец сдавил сына в объятиях, обдавая крепким запахом горелки.
На крыльце появился неизвестный Марку человек в дорогом жупане под широким адамашковым поясом.
В подворье, возле вала, — люди. Большей частью мужчины: и казаки, и голота. Как же — Иван Журба не простая птица. Многим нужен. Люди подходили с интересом...
Наконец удалось приблизиться и матери. От волнения женщина не стояла на ногах. Её поддерживали руки наймички.
— Сыну...
Отец велел наймиту поставить сыновых коней в конюшню. Затем во весь двор объявил:
— Работы не будет, добродейство! Все — к столу!
Нет надобности повторять что-либо для Журбихи.
Высокая, широкая в кости, она издали казалась матерью даже для своего мужа — немолодого уже, сказано, жилистого, но ещё тонкого телом, подвижного и вроде бы крепкого. Журбиха не только к пенью способна, но и к ворожбе. И к ней люди приходят...
В просторной светлице и без того держался запах добрых закусок. Эти запахи побеждали дух от пучков засохших трав, приткнутых под частыми иконами. Люди, входя, клали на себя крест перед ясными Божьими ликами, малёванными другим хозяйским сыном, — на многих чернодубских стенах висит Петрусева работа, — старались прихватить себе место возле окон, чтобы оттуда посматривать на коней или на волов за широким валом. Хата у Журбы на высоком холме. Из окошек видно, как жёлтые конские зубы выхватывают из мешковины сено. Или овёс. Кому что послано Богом.
Первые чарки — за Марка. Без чоканья. Разные здесь люди. Даже нищие хлопы. Они считают себя казаками, а в самом деле работают на гетмана. В компуте всего тридцать тысяч. Сколько бы охотников набралось в десяти гетманских полках? Ого-го-го!
Однако и реестровые казаки сидели. В летах. Молодых гетман увёл с собой. Собрались отцы молодых. А на них и дворы держатся...
Старые казаки покорно жевали закуски, сгребая их деревянными ложками и хлебными корками с больших белых мисок, украшенных яркими цветами, а кусочки жареного сала вылавливали пальцами, уже потом вытирая каждый суставчик отдельно о собственные усы. Краски на посуде, на вышитых рушниках, на иконах, на убранстве сливались в пёстрое коловращение, опьяняли без напитков.
За столом много пожилых — разговор не помчался быстро, как стекает с пригорка весенняя вода, а медленно: так между жёлтыми песками и зелёными лягушками движется в летнюю жару течение Пела.
— Ну, как жизнь на Сечи? — спросил Яценко, придавив к щеке палец с дорогим перстнем.
Все притихли. У кого рот забит капустой — придержали челюсти. А кто сильнее зажал в пальцах наполненную чарку — мол, допью ещё, никуда не денется. А послушать охота. Сын открыто нарекает на отца: обижает, дескать, людей, сдирая с них деньги гетману на булаву! И неспроста приехал молодец...
— На Сечи? — переспросил Марко, забрасывая ногу на ногу. Под красными штанами отозвались подковы. Запорожец уже знал, кто перед ним. — Одни сечевики! — засмеялся беззаботно. — Все равны!
— Видите! — закричал конопатый Степан, который ещё на плотине узнал Марка, а сюда поспешил вместе со своим дедом Свиридом. — Правда ваша, дедуньо! — Степан высоко выбрасывал длинные руки.
— Ну! — поднял голову дед Свирид. — Там, едят его мухи, сроду так...
Большое число назвал бы старый Свнрид, сосчитай он все свои годы. Уже сыновья его стали бы пожилыми. Только изо всего рода оставил ему Бог одного Степана, отец которого не возвратился из царского похода под Азов, а мать зарубили татары. Дед выкормил внука и теперь не наглядится на него. Лет десять тому назад рассказывал ещё старый, как служил у самого Богдана Хмельницкого. Да кто теперь этому поверит, когда дед не расстаётся с пастушьим посохом? Это твоя сабля, дед...
Пожилые посмеивались в ответ на речи старого и молодого. Зато опьянённый дармовой горелкой Панько Цыбуля поддержал Марка:
— Я тоже — на Сечь! Мне бы до Каменного брода только... Тут кривда панует! Разве у реестровых по две головы на плечах, что с них датков не требуют? Марко приехал людей увести! Степан, у тебя есть конь — дуй на Сечь! Деду очи без тебя закроют, когда Богу душу отдаст!
Марко не останавливал Цыбулю. Зато эконом Гузь вспыхнул:
— Прикуси язык, Цыбуля! Ты весь за этим столом? Или тебя ещё столько под землёю? Забыл, какие у пана гетмана подземелья? Давно сидел?
Эконом до белизны сжал кулаки, не решаясь, однако, дать себе волю за чужим столом. Бедняки зашумели. Цыбуля же вскочил, да его придержали более рассудительные. Вытолкали в сени. Кто подальше сидел — вздохнули:
— Что у трезвого на мысли — у пьяного на языке!..
Слова Цыбули, правда, лишний раз напомнили, что здесь собрались всякие люди. Кто торопился, тот и за столом ворон не ловил, наполняя чарку за чаркой, пьянел, а дальше торопился только в речах. Когда ещё придётся так пить и так закусывать? Журба и в светлицу без причины не пригласит. Не то что нарочито для тебя гонять наймичку в погреб! Вот и старались. И на богачей смотрели спокойней. Кто засмеялся. Кто пустился в пляс. Как же? Удержишь хмельные сапоги?
Цыбуля возвратился с заслонкой от печи и с большою качалкой. Застучал одним о другое — мёртвый задёргает ногами! Вот сколько нужно Цыбуле для веселья. Длинные усы — только и казацкого — подпрыгивают, будто куриные крылья на весеннем ветру! Смех.
Он уже возле Журбихи со своею музыкой:
— Спойте, Христя-сердце!
Журбиха сложила крепкие руки на высокой груди. Кто просит? Но — гость...
— Дайте на сына наглядеться, Панько!
Рассудительные казаки липли к Марку с разумными вопросами:
— Говорят, прибились к вам доносчики... А гетман вроде послал письмо с просьбами выдать их ему. Донники против царя...
Марко вспылил. Словно старики сами и предлагали выдать донских казаков царю на расправу.
— Не выдадим! Не боимся! Никому денег не платим!
Старые переглянулись. Молодой ум... Отец, может, слышит, да сам служит гетману. Только донесут люди. Здесь есть уши. По всей гетманщине полно есаулов. Экономы в поместьях. В замках — господари. Чернодубский эконом тоже не напрасно жуёт хлеб. Вон его широкое лицо лоснится... Гетман не жалует запорожцев.
— Бывают руки длинные... Головы срубали за слова.
Мол, понимаем больше, нежели молодые. Жизнь прожита. В синих рубцах тела. В живых ранах. До сих пор горят они бессонными ночами.
— Война... На войне по-всякому... Запорожцев на войну не просят?
На вопрос, который задал Яценко, подоспела Журбиха. Она вообще смотрела только на сына. Знала: сечевики без войны не сидят... Но это родной сын. Не козаченько, о котором поют девчата. Песню она сама сложила в девичестве: козаченько гуляет, пока молод.
У Марка ответ готов:
— Мы не решаем... Кто заварил кашу — пусть расхлёбывает!
— Овва! — снова Яценко. — Все равны, да кто-то решает, а кто-то кровь свою проливает. Цыбуле голову дурите! Он во дворе пляшет.
Марко опростал кружку, а мать ему на выручку:
— На Сечи полно пожилых! Все равны, да у старых ума побольше!
Яценко приумолкнул. Сизые щёки только шевельнулись. Хотелось бы услышать, как поддерживают запорожцы царя. Запорожцы — сила...
Журбиха добавила:
— Страшно на войну отпускать дитину... За чужой головой идёшь — и свою несёшь... Да ещё о шведах такое рассказывают. Пусть и далеко они...
— Где брат Петрусь? — настаивал Марко.
— Ой, про Петруся забыли! — всплеснула руками Журбиха. — Не рассвело ещё, как ушёл. Он же в церкви день и ночь. Хвалят люди... Скоро поедет под Батурин. Уж и торбы готовы. А когда нашу церковь высвятят — будет ему подарок от гетмана! Так говорил пан Быстрицкий.
3
Лицо у Петруся было белое, словно не записанная кистью церковная стена.
— Сыну, — упрекнула его Журбиха. — Ты бежал от самой церкви?
Петрусь, отдышавшись, ухватил брата за синий рукав:
— Пойдём, покажу...
Люди покидали хутор. Песен — ушам больно. И драки нет — Цыбуля спит под валом на куче жёлтой соломы, которая исходит на солнце последним прозрачным шаром. День сегодня тёплый.
— Возьмите бричку! — посоветовала мать сыновьям. — Старый! Дай бричку!
— Сам отвезу, Христя! — Журба помолодел лет на двадцать.
Наймит мигом впряг лошадей. Братья снова стояли на высоком крыльце — молодые, длиннолицые, похожие друг на друга. Как не радоваться счастливым родителям? Журбихе одно удивительно: Петрусь уже взрослый парубок, а рядом с Марком кажется ещё очень молоденьким. Тот запорожец, широк в плечах, но...
— Видишь, сияет? — указал младший брат старшему на церковь.
— А кто деньги платит?..
Известно: не любят запорожцы гетмана.
Но глаза Петруся блестели:
— Что-то особенное покажу...
Журба сам взялся за вожжи:
— Сыновей везу!
Цокот копыт о твёрдые камни — тела влипли в сиденья. А под колёсами уже шорох мелкого дорожного песка.
— Знаешь, в ясную погоду с колокольни видны кресты на гадячских церквах! — не усидеть и на возу Петрусю. — Может, и сегодня...
Отец надвинул на глаза шапку. Поделился с сыновьями:
— Где-то сейчас Денис наш? Куда этот швед направляется?
Сыновья тоже насупили брови. Средний брат Денис в гетманском войске. За Днепром. Зимой собирали на поход деньги. Люди платят датки, а на поход — отдельно. Вроде царский приказ: вести войско. Так твердили есаулы, есаульчики, господари замков. Так говорил Журба. А люди всё равно отказывались платить.
Петрусь уважает Дениса. Оба брата учили его казацкой науке. Как неутомимый зограф Опанас — малярской. Умеет Петрусь рубить саблей, уклоняться от удара. Казацкому сыну это очень пригодится...
— Давно нет вестей от Дениса, хлопцы...
Марку, видать, не по нраву, кому служит Денис.
Как и то, кому угождает отец... А вот малевание... Что скажет Марко?..
На майдане, спрыгнув на землю, отец вдруг припомнил:
— Я же кума оставил!.. Взгляну, хлопцы, и пойду!
— Берите бричку! — в один голос сыновья. — Мы пешком...
Уговорили. Отец прошёлся вдоль стен внутри церкви, что-то сказал говорливым позолотчикам, пошутил с церковным сторожем, а так — не впервые ему уже здесь любоваться. Вышел, и сразу под бричкой загудела земля.
Петрусь повёл брата от изображения к изображению. Сторож пошевеливал в жаровнях огонь, чтобы поскорее просыхали церковные стены, да высоко поднимал факел, когда хлопцы заходили в тёмные углы. Холодные прищуренные глаза Марка понемногу оттаивали от быстрой братовой речи — тот заговорил ещё уверенней, прижимая к стене руку, божился, что краски обжигают кожу. Вот, к примеру, червень... Сквозь любую иную краску просвечивает... Её очень ценил покойный зограф Опанас...
Марко наконец улыбнулся:
— Твоё малевание не отличить от богомазова... Только вот святые твои похожи на чернодубцев...
Маляр решительно потащил брата к винтовой лесенке. Остановились оба под лесами. Огромным ключом младший брат открыл незаметную дверь. Нащупал в кармане огниво. В тёмном углу зажёг изогнутую свечу. Свет потеснил упругую мглу. Петрусь скомкал на стене полотно. Из полумрака взглянули спокойные умные глаза, а запорожец отпрянул назад. Петрусь приблизил свечу — Марко снова ударил подковами.
— Мазепа?
На парсуне, поднятой вровень с глазами Петруся, горел жупан, писанный червенью. Ярко сияла облепленная драгоценными камнями булава. Шапка, брошенная на стол, просто выпирала из плоскости. Казалось, гетман отложил всё это, чтобы без суеты поговорить со зрителем... Сам Петрусь на фоне красного жупана стал бледнее лицом.
— Подмалёвок зографов... Я же на гетмана нагляделся в Гадяче...
Этот момент многое решал для молодого маляра. Старый зограф Опанас твердил ему: «В чужих землях, где я бывал, где многому сам научился, — вот хотя бы в Италии, там прежде всего, — полно человеческих парсун. Их развешивают в церквах... С гетманом Мазепой я много разговаривал. Намалевал его в виде рыцаря. Но чувствую — не так... Вот мои новые зарисовки...
Его должны знать и в других землях. А также те люди, которые будут на земле после нас... В трудное время довелось ему управлять Украиной. Не все его понимают, и я не всё в нём понимаю... Но... Любит он свою землю безмерно... Ты закончишь, сын, его парсуну...» Совсем худо стало старику, а всё равно помнил: «Сделай...» Никто до сих пор не видел этого малевания. Если парсуна поразит запорожца — она получилась. Можно показывать гетману. Но...
Марко, не говоря ни слова, спустился вниз. В жёлтом солнечном сиянии жадно втянул в себя весеннего воздуха и направился к калитке. Петрусь настиг брата за церковным валом, где стежка огибает запертую хатку. Теперь никогда не услышишь оттуда надтреснутого голоса зографа. Не скажет он своего совета...
За Пслом, в полях, под высоким небом бродили хлопы, не отваживаясь острыми ралами взрезать чёрную землю, только присматриваясь к ней да соображая своим хлеборобским разумом, когда ей приятней ощутить в себе железо, — ещё не просохла земля. И только из гетманского поместья уже вывели пару рябых волов, проложили единственную прямую борозду. Над чёрным — стаи галдящих птиц.
И по дороге домой молчали казаки. Будто и не мечтали о встрече. А надолго ли Марко приехал?.. Вот Денис гостил зимой — тот весёлый, интересуется красками, — он бы захлопал в ладони перед хорошим малеванием.
«Сечь меняет людей, — утешал себя Петрусь. — И Марко когда-то шутил...»
Неизвестно, разговорились бы братья, нет ли, пока шли домой, да над глубоким оврагом, где широкая стежка расползается на две узенькие, послышалась песня.
— Галя! — закричал Петрусь и покраснел, опасаясь, что брат прочтёт его тайные мысли об этой девушке, красивой, словно калиновая ветвь. Она живёт в перекошенной хатёнке вместе со старой бабкой. Девушка не раз наведывалась в церковь полюбоваться малеванием...
Медленно повернулся Петрусь навстречу суровому взгляду брата, но, удивлённый, замер: Марко смотрел на девушку потеплевшими влажными глазами... Галя, сидя на тёмном дубовом пне, грелась на солнце. А тут поднялась и пошла навстречу, босиком, лёгкая, опустив глаза, пальцами перебирала на шее красное монисто, перекинув через плечо длинную чёрную косу, словно ничего перед собою не видела, словно радовалась только этому весеннему дню, которого дождалась вместе с чернодубскими людьми.
Марко и Петрусь остановились.
— Галя! Стой! Я напишу твою парсуну!
Это из Петруся вырвалось само по себе.
Но старший брат сказал:
— Иди, Петро...
В каком-то тумане подчинился хлопец.
А сзади раздался девичий голос:
— Марко!
Дальше Петрусь не слушал. Он вдруг понял: Галя ждала Марка...
На мгновение пропала и гетманская парсуна, и видение чуда над глубоким оврагом, и не сразу привлекли внимание всадники, спускавшиеся с противоположного берега реки Черницы, вниз, на плотину, а как увидел их — не удивился и тогда. Казаки? Что казаки, когда Галя...
Тёмная ночь закрыла солнечное сияние.
4
Первыми приметили всадников маленькие дети.
— Казаки! Казаки!
Старшие дети дали знать взрослым. Те готовили сохи, рвались от желанной работы и выставили из калиток головы. Пригляделись повнимательней — всадников сотня. С ружьями, при саблях. На войну?
Молодицы в крик:
— Ой, татары напали! Ой, спасайтесь! Мати Божья, воля твоя!
Хлопы — по три-четыре шапки в одном месте.
Казаки возле плотины неспешно поили коней.
— Гетман посылает! — толковал дед Свирид, перебегая от одной кучки людей к другой и привычно перекладывая из руки в руку толстую палицу. — Такое время, едят его мухи! Хоть и царю прислужить... Наши запишутся в компут — их тоже будут посылать...
А казаки на глазах у Чернодуба взлетели на гору, пугая кур и дразня собак, мигом рассыпались по дворам — людям невдомёк зачем, и лишь после краткого затишья выплеснулся в небо отчаянный смертный вопль:
— Спасите! Гвалт! Свои грабят!
Шум из Чернодуба услышал на своём хуторе Иван Журба. Удивлённо взглянул на кума Тараса — того развезло от крепких напитков.
Верхом на быстром коне Журба мигом очутился в Чернодубе. В первом же подворье ему попались на глаза гетманские конные сердюки — откуда? Сердюки вытаскивают из повети свинью. Старая бабка ловит руками синие жупаны. Молодица белая-белая, окружённая детками, — словно привидение.
Журба поднял нагайку, но сердюк увернулся от удара.
Сердюков много — они свалили нападающего с коня, вырвали нагайку, самого потащили к куче навоза.
— Валяй, хлопцы! Кто таков?
Вооружённые, страшные — хоть кого напугают. Однако Журба не поддался. От его крика пьяные опешили.
— Это гетманское село! Я тут на булаву собираю!
В подворье как раз появился косоглазый сотник на сером, в яблоках, коне. Уздечка — с золотыми блестками. Взглянул Журба на свой разорванный жупан, на вонючую лужу, в которой лежал, и понял: в судьбе Чернодуба что-то резко переменилось. Неспроста так гордо глядит косоглазый сотник. И вообще что-то переменилось на земле. Не взят ли гетман Богом? Не держат ли его под стражей москали, как случалось с прежними казацкими гетманами?
Сотник между тем закричал:
— Эй ты! Услышишь универсал! Без тебя теперь обойдёмся!
Шпоры в конский бок — и уже за высоким валом.
Сердюки ни на что больше не обращали внимания. Опьянённые не столько горелкою, сколько безнаказанностью, тащили всё, что попадётся на глаза. Над Чернодубом — визг и стон. Будто здесь татары, и нет никому спасения...
Солнце прошло обеденную мету на небе, когда сердюки начали сгонять чернодубцев на майдан к церкви. Грозя нагайками, а некоторые — саблями.
Ярко сияло солнце. Тёплым паром выпускала запахи земля. Кто-то без устали колотил в било. Люди не запирали хат — пускай творится Божья воля! Всё значительное зарыто в землю, не в первый раз...
Возле села, на холмах, на валах, привидениями торчали верховые сердюки. Видели их и на ближнем берегу Пела, и на плотине. И даже вдоль борозды, проложенной гетманскими пахарями...
Медленно приплёлся на майдан старый Журба. Вторично за день. Люди уступали ему дорогу, удивлённые, почему он не торопится к высокому возу, с которого читаются гетманские универсалы. На возу — рудой сердюцкий писарь, пьяный, неповоротливые губы-поленья. Сельский казацкий атаман и хлопский войт — сгорбленные оба, как и Журба. Только эконом Гузь, реестровый казак, держится прямо. Лицо его стало вроде ещё шире.
Люди не успели перемолвиться с Журбою, как уже против весеннего солнца сверкнул сотников глаз, подмигнул рудому писарю: читай! Сотник и перед громадой не спешился. Писарь зашлёпал губами-поленьями, с усилием разрывая пальцами бумажный свиток, слежавшийся в пути. На верёвочке печать — писанина гетманская. Люди притихли, вслушиваясь в хитрое плетение слов и невольно посматривая на птиц в высоких деревьях. Поданную каким-то Гусаком суплику, получалось, с просьбою ласкового к себе респекта гетман принял и, видя Гусакову годность к воинским услугам, дал ему село Чернодуб до дальнейшей своей ласки, а с тамошних людей, кроме казаков, в реестре оставленных, разрешает ему брать всякое послушенство.
— Чернодуб? — раздался чей-то догадливый крик. — Как это?
— Это я — Гусак! — зашёлся в хохоте сотник, припадая грудью к лошадиной гриве и впиваясь одним глазом в толпу. Другой глаз направлен в небо. Не успели чернодубцы опомниться, как сотник добавил к универсалу свои требования: — Кто не заплатит чинш за этот год — будет бит! А что взяли казаки — то гетманово! Недоимки за прошлое! Гетман не себе деньги требует — на войну всё! Вот!
Майдан ахнул. Ещё не сеяли — уже чинш? Все в один крик:
— За этот год — осенью! Гетман никогда не требовал вперёд! Пусть Журба скажет!
— Такая песня не пойдёт! — поддержали и молоденькие казаки — Степан, деда Свирида внук, Петрусь Журбенко, ещё несколько.
Осмелел народ.
Дед Свирид зашёлся тонким петушиным голосом:
— Осенью! Осенью! Может, ты, пан сотник, из тех сам, кто заработал ласку лопатой, выгребая навоз из-под гетманских жеребцов? А тебе чинш уже? Дулю с маком!
Дед изобразил палицей, как помахивают на конюшне вилами.
— Га-га-га!
— Сами казаками заделаемся!
— У царя война!
Кучка реестровых чернодубцев вокруг воза начала поднимать бедарей на смех. Громче всех эконом Гузь. Ухватился рукою за брюхо:
— Войско из вас будет, если вы без штанов, зато с саблями! Га-га-га!
Известно: ворон ворону глаз не вырвет.
Но Гузевы слова — ветер на огонь.
— Совсем не заплатим! — закричал Цыбуля. Словно и не пьян он больше, только что без шапки и в волосах полно жёлтой соломы. — Хоть сегодня в компут!
И пошло...
— Чего стоим? — Это дед Свирид. — Гнать их, товариство! Наши хлопцы тоже у гетмана, пусть и в охотных казаках! Гетман...
Думалось, засверкают сердюки пятками от гнева громады, ан нет! Сабли выдернуты из глубоких ножен, ружья наставлены. Сердюцкие кони — звери!
— Вот беда! Где наши рушницы?..
— Дак мы по-казацки на раду, без оружия... А они...
Богатые реестровики, видя затруднения бедняков, пуще прежнего в хохот.
Громче всех снова Гузь:
— Ну-ка, сабли из ножен! Ну-ка, Цыбуля!
Косоглазый сотник опомнился. Струсил было перед решительностью хлопов. Теперь ещё наглее:
— Сдадите ружья, кто не в реестре! А за непослушание, казаки, врежьте деду нагаек!
Обнажённая сабля почти коснулась деда Свирида.
— Да! Да! — подпрыгнул Гузь. — И Цыбулю на лавку!
Дед ещё взмахнул палицей. К нему подбежал Цыбуля. Но сердюки всех опередили.
— Люди! Что это? — только и речи было у старого.
Палица упала на песок. Затрещала под сапогами.
Цыбуля тоже не успел пискнуть. Лишь длинные усы и красный нос мелькнули между синими спинами сердюков. Правда, на помощь деду бросился внук Степан с товарищами, да их оттолкнули лошадьми. Степана даже связали, хоть на «кобылу» не бросили. Деда швырнули на вытертую деревянную поверхность и при всём народе обнажили синеватое тело...
А в селе тем временем новый шум: сердюки отнимают оружие...
Журба пешком возвратился к себе на хутор, с опущенной низко головою.
Встревоженный Тарас Яценко уже собирался в дорогу.
— Не проси, Иван, не останусь... Меня приказчик Ягуба дожидается... Такие обозы у меня в Московии с товарами...
Говорил по привычке. Журба всегда задержит, прогости хоть неделю. Теперь не держал, а купец — своё. Через минуту шестерик коней уже долбил копытами землю. Подвыпивший кучер ударил ближнего от воза жеребца. Яценко уехал. Журба вышел вслед за ворота и воротился в хату.
Петрусь, чтобы не видеть подавленности отца, отправился к церкви. На майдане возле неё уже не было людей. В Чернодубе по-прежнему ржали лошади, заливались лаем собаки.
Долго сидел маляр перед треножником с чистою доскою, но привычного успокоения не находил.
Через какое-то время в церкви появился Степан. На его красном лице проступали белые пятна и новые конопатины.
— Моего коня взяли! — прорвало наконец Степана. — Сотник мне саблю в нос: отпустили, мол, так в погреб хочешь? Ещё твой отец не уплатил когда-то гетману на булаву, вот и коня забираем!
В глазах Степана вертелись слёзы. Огромные руки — подавай им драку! Короткое тело подпрыгивает. Да с кем драться?
— Дедуньо лежит на лавке... Гузь насмеялся... Мы с дедуньом еле-еле этого коня купили... А где Марко?
— Во, Марко — запорожец, — почти утешился Петрусь. Запорожца посадят в каменный мешок, а он вымалюет слюною на стене челнок и выплывет в нём на волю!.. И ещё подумалось: встретился Марко с Галей — недолго простояли. Побежала девушка домой, бабка ждёт... Правда, запорожца сердюки не тронут, но...
— Может, в корчме он? — припомнилось вдруг Петрусю. — Айда!
5
Корчмарь Лейба незаметно передавал выручку сыну: пусть припрячет. Кто поручится, что пьяные сердюки не ограбят и корчму? Есть чем поживиться в Чернодубе, стоит он на хороших землях, но как же не тронуть корчму, ежели нет запрета? Гетман Мазепа дал право торговать, но о защите не позаботился. А против корчмы много хлопской злости. Только здесь обязаны мужики покупать горелку. Корчмарю же известно, как переложить деньги из хлопского кошелька в свой.
— Нет его! — оглядели Петрусь и Степан полутёмное просторное помещение. И к выходу.
Да не родился на свет человек, которого бы Лейба выпустил без пользы для себя. Быстрая фигурка прошмыгнула между бочками и ткнула на стол две обгрызенные деревянные кварты.
— Запорожца ищут казаки? Был! Видна птица по полёту! Хвалил мою корчму, бенимунис! Украину проехал — не видел такой. На Сечи нет... Скоро снова придёт. Пока допьёте — будет.
— Мы не за тем! — отмахнулся Петрусь.
— Так посидите у меня, коли ваша ласка!
И тонкие корчмарёвы ноги в узеньких немецких штанах-галанцах зачастили навстречу свежему гостю — пьяному сердюку.
Вокруг, кроме наглых сердюков, сидели проезжие люди. Им неведомо, что происходит в Чернодубе. Рассуждали о ценах на ярмарке, о гультяях на дорогах — не дают проехать зажиточному человеку. Где порядок? — вздыхали.
Обитая мешковиной дверь неожиданно распахнулась так широко, что на одном столе, в углу, пламя свечки вытянулось в узенькую нитку.
— Бесова дивчина! — вскочили сердюки, ударяя по дереву саблями.
Корчмарь вскрикнул и накрыл свечу возле себя ермолкой. Запахло палёным. За грязной мешковиной, свисающей от потолка до пола, заплакали дети.
Кто-то поднёс к дверям более крупную свечу — Петрусь бросился туда:
— Мама!
То была, в самом деле, Журбиха. Она молча потащила сына к выходу мимо притихших людей и озадаченного корчмаря.
Одни сердюки орали песни.
Степан не отставал от товарища.
— Петрусь! — зашептала мать ещё в сенях. — Марко под секвестром!
Заслышав, оказывается, шум, Марко сразу очутился в Чернодубе. Но что сделаешь против вооружённой толпы? Связали его. Галя прибежала на хутор в слезах... Славную дивчину выбрал Марко. До сих пор никто об этом не знал. Уж и отец ездил заступаться. Сотник Гусак кричит, что есть гетманский универсал: запорожцы — враги! Гузь поддакивает. Ещё и пригрозил Гусак: молчи, старый, иначе и твои скарбы отыщем! Много добра припрятано на твоём хуторе. Не всё отдано в казну.
На улице Журбиха приостановилась:
— Нужно просить самого гетмана! Марко не брал с собой оружия. Саблю и ружьё я утром спрятала в чулане... Напиши, сыну, гетману...
В Петрусевой голове вихрем завертелись мысли. Гетман... Гетман... Можно не только выручить брата, но и ещё раз посмотреть на того человека. Тогда каждый, увидя парсуну, проникнется уважением к такому малеванию... Тогда и Марко...
— Поеду, мама! Громаде беда...
Степан ухватился за товарища красными руками, на которых до сих пор видны следы сердюцкой верёвки:
— Я с тобой. Дедуньо обождёт...
Приятно чувствовать себя защитником.
— Мама! Собирайте саквы! А мы посоветуемся с дедом Свиридом.
Хлопцы исчезли.
Журбиха заторопилась к хутору, размышляя
одновременно о всех своих сыновьях. Марко наслушался рассказов о Сечи. Подрос — удрал туда. В поисках правды. Денис — воин. Лишь бы в поход, конь да сабля в руках. А Петрусь... Грех сказать, к казацкому делу способен, да с малых лет отличен от братьев: заглядится, бывало, на цветок, на казака — не шевельнётся... Хотелось бы приспособить его к мирному делу — к тому же малеванию. Как они будут жить, её дети?
То был давний вопрос. Мать ворожила людям, но о сыновьях опасалась расспрашивать свои карты. И вот... Надо собирать в дорогу самого младшего сына. Вместо Батурина поедет за Днепр. В неизвестность...
Долго не мог уснуть этой ночью Чернодуб. Спали только в просторных казацких хатах. Но их мало в селе.
Хлопы украдкой нюхали табак или курили трубки, прикрывая огоньки рукавами да шапками. Молодицы покрикивали на собак, чтобы воем не пророчили новых бед. И только дети радовались ночной тревоге. Известно, дети. Как говорится, и детская могилка смеётся. Но молодицы покрикивали на них.
Некоторые хлопы спешили за советом к Журбе. На хуторе возле колодца, на чёрном пне, накрывшись кожухом, сидел старый человек с длинной трубкой под обвисшим усом. Разве это Журба, который хоть и сдирает с хлопов по семь шкур, зато может дать подходящий совет даже тогда, когда уже никто ничего не присоветует.
— Марко в руках у сердюков! — слышали хлопы неприятную новость и возвращались в свои подворья. Многим забота: чем уплатить чинш? У кого и есть деньги — тем тоже не легче: жаль отдать! А не уплатишь — Гусак при народе накажет. Как деда Свирида и Панька Цыбулю. «Кобыла» на майдане поставлена для воров, а выходит, для себя ставили? Смех. Сила у косоглазого. Гетман за Днепром. Наказной гетман Кочубей — тоже Бог весть где. И казалось бедолагам, что в недобрый час поманила надежда на волю...
Но возле Журбы оставались горячие головы, которые не хотели мириться с кривдой.
— Гетман не ведает! Мы — гетманские! На что нам новый пан?
Панько Цыбуля тоже приковылял. Не сесть ему, потому больше всех прочих кричал, бегая со стоном вокруг сидящего Журбы:
— Наши деды при Хмеле кровь проливали! Нужно требовать от царя, чтобы наши вольности подтвердил!
Молодые хлопцы — Степан громче всех! — поддерживали:
— Вольности казацкие! Пусть гетман напишет царю!
Старые, осторожные, предостерегали:
— Ходили к царю. Да где кости...
Отыскивались ещё более осторожные:
— Тише! Царь кривды не допустит, известно, только как? Наврут паны царю, ещё и вина на нас. Пусть уж нашу церковь закончат — гетман приедет, тогда...
— Э! Гузь и его свита могут ждать, их на «кобылу» не бросают!..
Но все несчастные, кажется, верили гетману. Многие из чернодубцев видели его собственными глазами. Он к простому люду ласков, лишь бы допустили... Не дураком сказано: не так паны, как подпанки...
Однако и горячие головы ничего не придумали.
Лишь после третьих петухов уснули пьяные сердюки на панском дворе да возле Гузева подворья. Больше всего их — при возах с награбленным добром.
Перед рассветом копной сухого сена вспыхнула корчма. На селе не ударили в било, никто не бросился тушить огонь, и даже Лейбиных криков не слышали — он не ожидал помощи. Только над чёрными деревьями яркими тряпками носились поджаренные птицы...
И когда всё притихло — задремали под насопленными стрехами ограбленные селяне. Месяц висел над Чернодубом чистый. Звёзды пылали таинственным светом. Жалобно выли псы.
Тогда и подкрались к хате-пустке проворные тени. Зашуршали о стены стебли сухого конского щавеля.
Завозился кто-то возле покрытых щелями дверей... Через месяц как раз переползала тучка...
Днём хата пригодилась: сотник закрыл туда связанного Марка Журбенка да ещё приставил для охраны двух дюжих сердюков. Пообещал: «За такую птицу будет гостинец от полковника Трощинского!»
Сердюки-охранники пили водку да резались в подкидного, не соблазняясь грабежом, пока измученный Чернодуб не прикрылся прыткими весенними сумерками. Из корчмы долетела песня. Стражи подумали: куда в беса денется связанный? Не колдун. А колдун — так не устеречь. Превратится в воробья и только пискнет над твоею головою. А разве вдвоём всласть напьёшься? Для попойки нужно товарищество. Двинувшись в путь, они не рассчитали сил, уснули под забором. И сотнику некогда проведать сторожей, сам упился в доме у Гузя, которого решил и дальше иметь экономом уже в своём поместье...
Звякнул замок, падая на твёрдую землю. Одна тень протиснулась внутрь, вторая — наружу. Через мгновение из хаты вышел Марко Журбенко.
— Ну, Степан, — послышался промерзший голос. — Ну, брат... И оружие моё принесли, и коней привели. Деду Свириду тоже спасибо...
Под тынами ворчали собаки, когда казаки спускались в овраг. Степан подавал голос — собаки с визгом припадали к сапогам, щедро вымазанным жирным смальцем. В овраге смутно различались привязанные к вербам кони.
— Сердюцких не прихватить? — прошептал Степан. — Я своего выкрал... А можно... Они стерегут награбленное, а коней не очень...
Степан, уже с дедовской саблей, с пистолями за поясом, — решительный.
Петрусь подбежал к коню, взятому из отцовской конюшни.
— Мы не воры!
— Придёт и наше время, хлопцы! — сказал Марко уже из седла. — Айда!
Конь под запорожцем встряхнулся. Другой, в поводу, тоже застоялся в отцовской конюшне, куда ещё не посмели заглянуть сердюки, — обрадовался и хозяйской нагайке. Потому что за её ударами — вольный бег! Марко направил коней к плотине, уверенный, что хлопцы не отстанут.
Они не отстали. Месяц над головою — как острая сталь. Хоть бы лёгкая тучка на него. При таком сиянии издали приметишь всадника. Видна даже та борозда, которую днём проложили гетманские работники. Но, к счастью, никто не встретился ни на дороге, ни на плотине.
Остановились за рекою, на высоком берегу. Вдали рисовалась церковь. В красноватом месячном свете прищуренные Марковы глаза сделались по-звериному хищными, узкими, как у природного татарина. Он всматривался туда, где оставался Чернодуб. Петрусь отгонял воспоминания о встрече брата с Галей, только в памяти упрямо сияла стежка над глубоким оврагом, краснело монисто на тонкой девичьей шее, чернела густая коса.
— Если бы товариство, — проскрежетал зубами Марко. И к хлопцам: — Едете со мною?
Петрусь, отводя взгляд, твёрдо сказал:
— Гетман не знает о беззакониях. Надо спасать громаду...
— Так вы расскажете дураку? — умерил голос Марко.
Петрусь, будто бы в благодарность за то, что брат ни словом не обмолвился о гетманской парсуне, помалкивал. Марко и сам не собирался уговаривать. Решили ехать вместе до Каменного брода...
По высокому берегу, где уже здорово подсохла земля, кони бежали легко и споро. Всадники же мучились одними и теми мыслями: скоро ли узнают в Чернодубе о бегстве? Казалось, и животные начинают проникаться хозяйскими тревогами, ни с того ни с сего, срываются на галоп...
— Самому Трощинскому собирался отдать меня проклятый Гусак! — вспоминал Марко в который раз и в который раз обжигал коня короткой нагайкой.
6
Ехали по еле приметным лесным дорогам, хорошо известным Марку.
Петрусь и Степан держались особняком. Главное для всех — надёжно оторваться от погони. Лишь бы в Миргород, а там прямой шлях на Киев — дед Свирид, постанывая от боли, рассказал, словно вымалевал. Где колодец, лесок, корчма... Конечно, не вчера всё это видел старик... Беда, если гетман ушёл из Белоцерковщины. Добраться за Днепр, имея по одному коню, трудно. Нужно бы раздобыть ещё по одному. Как у Марка. Денег на дорогу дал Петрусев отец... Да и с фуражом тяжело. На пригорках зелёная трава с каждым днём становится гуще, но животному нужен овёс, не только подножный корм...
Так раздумывая и тихонько разговаривая в те мгновения, когда лошади умеряли бег, наткнулись на лесной хутор. Небо начинало розоветь. В длинном тёмном строении за деревьями не слышалось ни единого звука. Только где-то вверху гудели под ветром высокие дубы, иногда, будто кости страшилищ, щёлкали в кронах твёрдые ветви. Петрусю казалось, что это сон, выцветший, как старое полотно.
Тишина не смущала Марка. От этого хутора, сказал он, вёрст пять до Каменного брода. Но там, дальше, не скоро отыщешь жильё.
— Люди спят, собаки спят! — позавидовал запорожец, громыхнув кулаком в широкие тёмные ворота под соломенным козырьком, которые показались сразу, стоило всадникам обогнуть кучу гудящих дубов.
Раньше всех проснулись собаки. В одном месте оконное стекло обрызгалось неярким светом. Тогда и конюшня отозвалась конским ржанием. О деревянную стенку ударило копыто. Собаки залаяли громче — Марко выставил пистоль, выхватив его из-за пояса. В хате скрипнула дверь. На крыльце появилась высокая фигура, вминая ногами певучие доски.
— Кого носит? — спросили мужским голосом.
Против освещённого окна сверкнуло длинное ружьё.
— Овёс нужен! — ответил Марко, пряча пистоль под кобеняк.
Человек убрал оружие, спустился с крыльца. После нескольких ударов огнива затеплился пузатый фонарь. Из мрака проступило усатое немолодое лицо. Вокруг царила прежняя тишина, только ещё тревожней становился верховой шум да никак не могли угомониться собаки.
От продолжительной езды болела спина. Петрусю хотелось спрыгнуть на землю, пройтись, ощущая на боку длинную саблю. Свыкся ты с мыслью, что казаку сабля — сестра родная, но самому редко приходится цеплять её к боку.
Сабля да пистоли — всё вытащил для него из тайника дед Свирид! — беспокоили и Степана. Он постоянно прикладывал к оружию свои большие руки.
Глядя на товарища, Петрусь улыбался: он и сам поступает так же!
Пока хлопцы спешивались, хозяин вынес мешок овса и решительно выставил руку, чтобы взять через калитку возле ворот деньги, — но тут собаки с лаем бросились куда-то в сторону от хозяйских ног.
— Гляньте! — вскрикнул Степан, не зная, следует ли хвататься за саблю или же первым делом надо прыгать в седло. — Сердюки!
Сердюки, наверно, заметили огонёк или услыхали собачий лай — повернули сюда. Правду молвится — беглецу одна дорога, а погоне — десять!
В утренних сумерках неярко поблескивали сбруя и оружие. Всадники пока что не замечали беглецов за высокой оградой, но уходить последним было уже поздно. Марко выстрелил не целясь, для острастки, сердюки мигом ссыпались с дороги под защиту громадных дубов. Над ними закричали птицы, потревоженные громом.
— За мною!
Марко уже был в седле и летел туда, откуда только что приехал. Сумасшедший топот копыт за ним всё усиливался, но вдруг привял. Оглянувшись, Марко увидел, что кони и люди сгрудились на затканной розовым светом лесной поляне.
— Хлопцы! Не поминайте лихом. Вам нагайки, и только, а мне...
Возвращаться запорожец не мог. Там его поджидала смерть.
Приятно журчит вода... Как хочется пить... Голову раскалывает боль... Тело мокрое, чужое... А вода наполняет рот... Как легко...
— Живой! — кричат над ухом.
Откуда-то из тумана склонился усатый человек, ночью продававший овёс. На крик торопятся любопытные.
— Тю, парубок! На эти дороги никто сейчас не ступает, кроме сердюцких лазутчиков! Вот и стукнули мы тебя... Да ты не лазутчик...
Лежит Петрусь в низенькой светличке. Сквозь маленькие разноцветные стёклышки заглядывает солнце. Лучи добрались к горшкам на деревянных полках да ещё к красным цветам, удачно выведенным чьей-то рукою на белой печке. Сначала Петрусь рассматривает нарисованное, затем переводит взгляд на порог, обмазанный красной глиной. Усатый хозяин, стоя на пороге, скалывает красное сапогом. «Не звал я этого лиха! — будто оправдывается он. — Прости уж!»
— Вы чьи люди? — спрашивает Петрусь. — Не сердюки, вижу...
— Вот ещё! — удивляется рыжий, старший среди незнакомцев. Его называют Кирилом. — Мы вольные люди! Гультяи! Слыхал? Га-га-га!
Смех подхватывают. Множество глоток угадывается в сенях да в просторном дворе. Рыжий машет растопыренными пальцами, тоже обросшими рыжими волосами.
— Прочь отсюда! А ты вставай, парень! Свяжу тебе руки, пока батько приедет! Сейчас он насыпает жару в сапоги одному пану...
Рыжий самолично отводит связанного Петруся в овин, откуда предупредительный при дневном свете хозяин выносил ночью овёс. Там лежит Степан — он со стоном поднимает голову и смотрит на товарища. Степана даже не связывали — так надёжно помяли ему бока...
К вечеру подворье загудело. Не успели пленники перемолвиться словом, как брама в овине треснула на две половины и в проёме показался громадный человек в красном жупане, на котором из оружия одна длинная сабля в чёрных кожаных ножнах. Снизу, с соломы, виднелись широкие грязные пальцы с отросшими ногтями.
«Батько!» — догадались невольники.
— Батько Голый! Расспросит, куда вы ехали и зачем стреляли! — крикнул из-за могучей спины Кирило.
Батько закрыл собою день. Его голос поднял Петруся на ноги, даже Степан со стоном уселся на соломе.
— Это они? Вижу!
На плечо Петруся легла тяжёлая рука, повернула его лицом к свету. На красном жупане висела хрупкая соломинка, и солнечный зайчик, пробившись в раскрытую браму, осыпал её золотым блеском. Петрусь ободряюще взглянул на сидящего Степана. Он где-то видел вошедшего великана.
— Узнал? — неожиданно спросил тот, сморщив крупное лицо.
Рука на плече Петруся смякла. Ломкая соломинка сорвалась с красного.
Петрусь припоминал... Мимо чернодубской церкви проходил когда-то убогий нищий-жебрак, заглянул вовнутрь — и замер перед малеванием. Торба с шумом упала на каменный разноцветный пол. Зограф Опанас не любил настырных людей. Длинная кисть, которой он расписывал потолок, иногда гуляла по чужим спинам. Но спокойных посетителей зограф не прогонял, а разговаривал с ними. Иногда собеседник оставался на стене в одеждах святого... Не прогнал зограф и жебрака. Долговязый приблудник внимательно рассмотрел всё, что писано очень высоко. Вместо хитрости и никчёмности на его лице проступил разум. С Петрусева малевания глядела Богоматерь. Тонкие женские руки держали маленького мальчика с недетскою заботой на синих глазёнках. Возле матери — святые...
«Парубок, — позвал жебрак Петруся с лесов. — Ты намалевал... Моего сына...»
Жебрак долго озирался, спускаясь по дороге к речке. Петрусь вышел на паперть. Однако он не успел поведать жебраку, что мальчика видел в жебрацкой ватаге, в Гадяче. Ватага ночевала под церковью...
Теперь в гультяйском батьке Петрусь признал того жебрака. Только он уже с постоянным умным выражением лица, с упрямством, которое крепко засело в сжатых губах, в чересчур тонком для большого лица носу, — как на иконах старинного письма! Батько разрезал на Петрусе верёвку, выхватив саблю из ножен обеими руками, и повёл хлопцев в каморку при конюшне. За небольшим столиком, врытым в красный глинобитный пол, он показался ещё громадней, чем был на самом деле. Рыжий Кирило просунул в дверь бутылку с горелкою и три обглоданные кружки. Петрусь и Степан лишь пригубили жидкость, а батько осушил свою посудину до дна... Когда обо всём было переговорено — он крякнул:
— Оце... И Марко ваш дурень, и вы — такие же... Ехать на Сечь, а тут — панам волю?
— Вот, вот, — подхватил Петрусь.
— Не вотвоткай! — остановила Петруся огромная рука. — Ты умнее придумал!.. До гетмана... Повесить его! Или он меня, или я — его... Кровопивец. Смотрите, сколько здесь вольного люда... Вот Кирило... Зарезал своего пана и теперь привязан ко мне, побратим, сабли друг другу целовали... Ещё сколько таких! Присоединяйтесь и вы! В Чернодубе на первой придорожной осине повесим сотника Гусака и эконома Тузя! Оце... Затем и про большее покумекаем... Когда и думать, если не сейчас? Швед прёт на царя и на вашего гетмана!
Громадная рука грохнула кружкой о стол. Петрусь подпрыгнул на месте:
— В гультяи? Нет!
Батько тоже поднялся. Лицо налилось кровью, тонкий нос побелел, усы напряжены по-кошачьи:
— А если зарублю? Прикажу повесить за ноги?
— Пусть! — перебил Петрусь, зная только, что ему предлагают забыть о Боге, о Чернодубе, о науке зографа Опанаса. Взволнованный Степан вдруг перестал постанывать от боли. Хлопцы даже не смотрели на огромную чёрную руку, которая уже хваталась за саблю. Они прижались друг к другу... Что ж, смерть... Надо читать молитву, а слова забылись. Господи...
И в этот миг раскрылась дверь. Батьков побратим Кирило подслушивал, наверно, за дверью. Он со злостью упрекнул:
— Борешься за волю, батько! Разве в сердюки записываем?
— Пошутил я! — расхохотался атаман. — Чтобы такого маляра... Наведаюсь в Чернодуб, в ту церковь. Где ещё увижу сына? Весь лицом в мою покойницу жену... Возвратите хлопцам оружие, коней! Выдать им двух жеребцов.
— Нет! — закричал Петрусь. — У нас свои кони... А ваши...
— Ворованные? — покачал головою атаман. — Не годится, мол, едучи в Ерусалим, заходить в шинок? В Ерусалим... К гетману Мазепе... Ха-ха-ха!.. Может, он греха боится, когда пишет универсалы с разрешением грабить? Казак! Ты помнишь того богомаза?.. Опанаса! Разумный он человек, но... Не сейчас бы ему жить... Кровью надо этот свет прополоскать. Тогда спохватятся люди... Я помню полковника Палия. Он ещё вернётся на панов!
Снова страшен сделался батько. Чёрные пальцы дрожали. Верилось: пальцы в самом деле душили людей. Много кривды перетерпел человек. В нескольких словах поведал. Но добьёшься ли вот так правды? Убивать людей, на собственное усмотрение оставлять их живыми или рубить им головы.
И возникала перед глазами парсуна мудрого человека, у которого всегда под руками законы. Перед теми законами равны все люди. Только окружён мудрец обманщиками. Батько Голый сознался, что не видел Мазепы лично. Что бы сказал он, посмотрев на парсуну?.. Петрусева рука даже потрогала привязанный к поясу ключ, которым в церковном уголке заперто малевание...
Выводя из конюшни коней, Степан, постанывая снова, очень внимательно смотрел на Петруся. Тот стоял, широко расставив ноги, тонкий против Степана, да высокий и такой решительный, что с ним не страшно идти на край света... Снова ждала обоих дорога... Где-то рядом Каменный брод... А что там, дальше? Какие приключения? Какие люди? Какая правда?.. Где сейчас идёт война?
Мгновение хлопцы маячили во дворе, а затем взмахнули нагайками.
Гультяи засвистели вслед, закричали, недовольные людьми, которые вздумали искать правды в гетманской канцелярии.
Часть первая
1

ождь, снег, мороз, наводнение — днём и ночью скачут по гетманщине всадники. Нынешней весною гонцы пересекают всю гетманщину, потому что казацкое войско во главе с гетманом ещё по льду перешло Днепр и рассыпалось по Белоцерковщине.
Земли на Правобережье вроде бы во владении польской короны. Однако после бури, прошумевшей при Богдане Хмельницком, польским панам не удержаться в поместьях. Одни хлопы ушли за Днепр, под русского царя, иные же надеются на атаманов, среди которых наибольшая слава была у хвастовского полковника Палия, — те держатся обжитых мест.
Палий собрал было значительные силы. Их как огня боялись и польские коронные войска, и татарские увёртливые шайки. Выражая волю подопечных, полковник стремился присоединить правобережные земли к России, да московский царь отвечал на просьбы уклончиво, ссылался на мир, заключённый с Речью Посполитой ещё его отцом, Алексеем Михайловичем, а потом подтверждённый как вечный мир 1686 года. Конечно же, такого соседа, вокруг которого кишат свободолюбцы, не мог терпеть Мазепа. Палий, твердил он, — бунтовщик, очень опасный для дружественных отношений двух великих держав. Воспользовавшись присутствием на Правобережье своих полков, Мазепа арестовал Палия и убедил царя сослать его в Сибирь...
Теперь земли на правом берегу Днепра кипят, может, по-прежнему, но нет уж там неугомонного атамана.
И гетман среди огромного войска чувствует себя в этих краях несколько спокойней.
Хотя это только со стороны смотреть — спокойней...
В прихожей ежедневно много народа. С супликами, с поклонами. Только на столах в апартаментах чаще всего видны письма с царскими печатками да с печатками польского коронного гетмана Адама Сенявского. В царских письмах — тревога о здоровье Мазепы, сообщения, как сдерживают врага-шведа, а Сенявский требует одного: войска! «Ты, гетман Иван, дальше не продвигайся, пришли казаков! Теснят нас шведы и станиславчики!.. И царь — за сикурс Сенявскому...»
Когда бунчуковая старшина, выпив и закусив, отодвинула хрустальные и серебряные кубки, а старые полковники начали клевать носами, не отваживаясь вытащить из карманов трубки, а кто захрапел — привычка! — над красными подушками, на тонкой сморщенной шее, поднялась белая голова. Кое-кто вздохнул: ой, не услышать с таким здоровьем весною голоса кукушки! Если бы не турецкие кривые сабли на стенах да не дорогие длинноносые пистоли — так и не поверить бы, что это гетман, обложенный подушками... Где гордая осанка? Где умное свечение очей? Даже усы — сухая трава...
— Одних казаков в Московию... Других — к ляхам...
Показалось — весь дух испущен на слова.
Но гетман разговорился, всматриваясь в царского полковника Анненкова, вместе с полком приставленного к нему самим царём. Теперь полк под Хвастовом.
— Не так шведский король, как собственная чернь... Гультяйские атаманы жгут поместья, грабят хутора... На кого детей оставляем? А придётся: приказ его царского величества.
Слова тихие, но увязают в душах. Гетман печалится о людях...
Старшины тоже заговорили. Громче всех — генеральный обозный Ломиковский.
Гетман цепко взглянул — верно ли понял сказанное им полковник Анненков. У царского полковника красное обветренное лицо, да ещё и подвыпил, — что понято, как понято?
Согнутый Франко, вечный гетманов слуга, без скрипа открыл перед старшинами дверь...
В прихожей Орлика дёрнул за рукав полковник Трощинский.
— Пан генеральный! К тебе супликую...
Не стирая с губ улыбки, Орлик выпроводил гостей и лишь тогда наклонил розовое ухо.
Кривоносый Трощинский заторопился:
— Сердюцкий сотник Онисько, пан писарь, поймал бродяг... Ну, всыпали, по обычаю, казаки... А наутро узнаю, что бродяги те из моего полка. Из того самого Чернодуба, подаренного гетманом Гусаку в ответ на мою суплику. Вот. И припёрлись, вражьи дети, уже с жалобой... Известно, Гусак жаден на деньги. Но давать его хлопам на расправу? Где это видано? Сегодня он сотник, а завтра — городовой полковник... Вишь, у царя паны дерут с мужиков сколько могут, а гетман наш всего остерегается. Гусак, вражий сын, и я тебе услугу сделаем, если совет твой...
Да, задача. Приказ известен: хлопов не дразнить. Потеряешь гетманскую ласку. Хоть ты и Трощинский, и родственник ясновельможного... А Гусак поделился награбленным. Неспроста супликовал полковник — прислужился сотник... игрою в карты!
— Где бродяги? — быстро соображал Орлик, уже поднимая к разрисованной яркими цветами двери свою лёгкую руку.
— В моём обозе. Подальше от глаз, вражьи дети...
— Гетману о том не говорить... Завтра скажу остальное...
Весь вечер диктовал гетман, пересыпая сказанное латинскими да польскими словами и сентенциями, — очень мудр в науке. Орлик бледнел — письма царю! — а гетман терпеливо ожидал, пока выводились литеры с длинными хвостами-выкрутасами, дальше сучил мудрую мысль:
— Пиши, Пилип... Не встать на ноги, не сесть на коня, не взмахнуть саблею... Tacitis senescimus annis
[2], как сказал Овидий...
Орлик припоминал: в воскресенье гетман по-казацки опростал кружку венгерского вина. От легкомысленного Бахуса заблестели глаза под косматыми бровями. Какие он шутки отпускал о молодицах да девчатах! — нет, не простая это болезнь, ясно и писарчуку. Не впустую сказано: к булаве требуется голова!
— Сенявскому нельзя посылать столько войска, — скрипел дальше гетман. — Старинные манускрипты свидетельствуют, что ляхи неверны в слове. Да и собственный мой опыт о том же говорит. Ведь я не один год провёл при дворе варшавского короля... С полудня — татарская инкурсия. Пусть только казаки отойдут от регимента... Как бы мне самому не просить сикурсу. Ежедневно множатся гультяйские кучки. А кто ещё не пристал к ним — тот обязательно сделается их адгерентом, как только державе станет тяжелей... Пиши, что один я и держу Украину в повиновении. Напомни: если не в гультяи бегут хлопы — так в запорожцы...
Орлик, не поднимая головы, почувствовал злость в слове «запорожцы».
— Сечь — болячка на теле Украины. Пора её вырезать, а Костя Гордиенка, вечного баламута, четвертовать в Москве!
Перья ломались. Орлик менял их, а видел округлое царское лицо. То красное от гнева, как кирпич в крепостной стене, то белое — как лепёшка сыра. И становилось не по себе. Казалось, самого засасывает трясина. Но и в ней — что-то заманчивое, пусть и смертельно опасное.
Всю ночь в лесу выли волки. Уставший за день Орлик утопил голову в мягкой подушке. Различил только шум весеннего дождя. Да его сразу и разбудили. Орлик скользнул сонным взглядом по большим красным печатям на гладкой вощёной поверхности — и бегом к разрисованной цветами двери.
Гетман не спал. Книжонка в красном сафьяне упала на шелестящий тонким ворсом ковёр. Поднимая её, Орлик всосал умом вбитые в сафьян золотые литеры: Horatius. Carmina
[3].
У гетмана прищурены глаза. Словно всю ночь он что-то припоминал. Что-то недоделано, а нужно обязательно доделать. Медленно взял он письмо, но пробежал его глазами торопливо, ускоряя их движение за каждым словом, и откинулся на подушки. Захрипел...
— Матерь Божья! — взвизгнул старый Франко. И стал биться перед иконами лбом о камень, шелестя сапогами по ковру.
— Лекаря! — не растерялся Орлик.
Молодые джуры привели немца-лекаря, которому вера — выше всего. Немец заворковал над кроватью, неустанно перебирая тонкими ногами. Орлик не различал слов, кроме «Ruhe», «quies»
[4]. Но больного отпустило. Гетман знаком выпроводил всех, даже Франка. В апартаменте оставил только генерального писаря. Потухшим взглядом разрешил читать письмо, присланное царским министром Головкиным. Там писалось о том, что генеральный судья Кочубей и бывший полтавский полковник Искра обвиняют гетмана в измене царю!
Орлику показалось, будто трясина накрыла его с головою.
И до утра не дал спать ясновельможный. Говорил под волчий вой:
— Везде наводнение... Сосчитай на мапе, сколько рек впереди...
Орлик считал синенькие жилки на пёстрой бумаге, разрисованной немецкими мастерами, а сам думал, что при падении владык гибнут все, кто их поддерживал, и всплывают те, кто был против. Очень важно своевременно отстать от падающих... Слушал гетмана и видел чёрные весенние воды на реках, низенькие затопленные хаты, людей в лодках-долблёнках, слышал рёв скота и ещё припоминал генерального судью Василия Кочубея, очень осмелевшего в своей Диканьке. Если царь поверит Кочубею и прикажет избрать его вместо Мазепы, то... Кому известны намерения Кочубея?
— Полковники жалуются на бескормицу коням, — твердил гетман. — Нужно идти отсюда. Говоришь, нельзя вперёд?
Орлик догадывался: гетман поведёт войско не к Польше, а назад, к Белой Церкви, где крепость. Оставит обглоданный конями Хвастов. Гетман ждёт подсказки. Ему посоветовали — он послушал.
— Лучше назад...
Не умолкая, гетман не упоминал, однако, больше о письме. Но когда за окнами растаяла ночь и послышались утренние крики, ржание коней, топот кованых копыт — лишь тогда приказал:
— Полковников!
Всполошённые ранним вызовом, полковники почёсывались со сна и вопросительно смотрели на Орлика. Орлик не первый день в канцелярии — что узнаешь в его глазах? Посматривали и на царского полковника — тот потирал красную рожу с отпечатанными на ней рубцами от подушки.
Гетман поманил вояк к кровати, прошептал, зачем званы. Не слушал ответных нареканий на Кочубея и Искру, а обратился к стародубскому полковнику Скоропадскому, называя его хозяином полкового города, как принято издавна:
— Пан Стародубский! Тебя царь уважает. Бери, пан Иван, казаков, сколько надо, поезжай к царю да расскажи на словах. Бумага не передаст горя... Вольно собаке и на владыку лаять... Стыд... Хоть бы перед смертью дали покой, quies, как говорит лекарь. Покарает Бог грешников...
Гетман с усилием крестился, еле-еле перенося руку через бледное лицо, зыркал на молчаливого, всё ещё красного Анненкова, а так смотрел в угол, где мелкими каплями истаивала высокая восковая свеча и где бледный Франко усердно молился печальной Богоматери.
Скоропадский, лысый, высокий, могучий человек, кивал огромной головою. К царю — не в корчму. Можно сгореть, как горит от свечного пламени ночная бабочка. Разве по правде загнали в Сибирь Палия, который недавно правил в Хвастове? Но с другой стороны, утешал себя полковник, лишний раз на глаза царю... Гетман при смерти... Известно, есть помоложе: черниговский Павло Полуботок, миргородский Данило Апостол... Но и самому неохота быть последним. Да и домой заедешь. Там молодая жена Настя Марковна. Повидаться сладко...
— Сделаю, пан Иван! — ответил Скоропадский.
Прочих полковников гетман отпустил сразу.
— За Мотрушо мстит Василь, — громко сказал Трощинский. — А тех подговорил... Если, мол, поталанит, так и вам хорошо...
— Искре отставка, — добавил Горленко. — Вот и...
Гетмана удовлетворило услышанное. О Мотруне, Кочубеевой дочери, и о нём, немолодом уже человеке, долго гомонили: и причаровал крестницу, и сватать её собрался — одним словом, ославил. А теперь от разговоров польза: месть за дочку! Мотруня же во всём гожая дивчина! Цвела, аж горела... Ласковая, а в ответ на казацкую речь, на казацкие песни под бандуру, на умелое кавалерское обращение — говорлива, словно воробышек. Только ума... Да на что девке ум?
Едва закрылись за полковниками двери — Мазепа пожелал книгу в красном сафьяне, читанную ночью. Орлик подал, гетман заговорил, не глядя на вытисненные на бумаге литеры:
— Felix, quern faciunt aliena pericula cautum
[5].
Прочёл и вперил взгляд в генерального писаря. Тот поднялся над лавкой. Жупан задел на столе вызолоченный каламарь. Беспокойные пальцы поймали золото у самого ковра.
— Понимаешь, Пилип... Nox abacta
[6] дала тебе возможность подумать...
Пальцы хищно перекосились в красноватом свете. Орлик, хорошо разумея латынь и зная своего хозяина, не понял, однако, намёка.
— Помни, Пилип, — толковал гетман, — мне Москва двадцать лет верит! Этот орден, — руки взяли на столе красивую ленту, на которой сверкнул орден Андрея Первозванного, — недаром ношу. Только я да самые знатнейшие царские вельможи. В Москву я приезжаю как к себе домой. Все там знают моё подворье. А эта парсуна, — он поднял над собою руку, — по царскому велению написана старым зографом Опанасом. Втроём там будем: посередине царь, а мы с фельдмаршалом Шереметевым по бокам. В большом московском соборе повесят. А сказанное... Бахус устами владел... Запомни…
И только теперь раскрылся страшный смысл вычитанных у Горация слов: гетманово могущество может быть направлено и против генерального писаря. Господи! Но ведь в самом деле мнилось при чтении письма: «Пилип! Это Бог посылает случай. Гетман, прикидываясь больным, проживёт ещё двадцать лет...»
— Пан гетман! Да я...
И на коленях пошёл Орлик селезнем, да куда селезень! — быстро, быстро, ухватил пальцами высохшую руку, стал целовать, как не целовал и отцовской:
— Пан гетман... Адские муки... Нет... Никогда...
А про себя шипел: «Замри! Жить охота — замри...
В Москве доносчиков сажают на кол! Замри! Гетман читает мысли! Характерник!»
Ясновельможный приподнялся на красных подушках. По сухому, до сих пор видать — красивому, лицу промелькнуло что-то вроде подозрения. На картине за его спиною конь под намалёванным рыцарем повёл недоверчивым красным глазом.
— О том забудь, Пилип... Буду умирать... А ты... дай тебе Бог... Бедная наша Украина...
Пришло чудесное утро. Вдоль шляха, по которому уже двигалось казацкое войско, в рыжих лесах красиво светились берёзы, отмытые весенними дождями, белые да длинные, словно панские марципаны. Ветви на каждой коричнево-тёплые. Вот-вот облепятся зелёными листочками.
У казаков под усами улыбки: дали шведам да станиславчикам перца! Шведы на севере, станиславчики на западе, а казаки — на полдень, к Белой Церкви.
Орлик понимал неуместность казацкого смеха, но не шевельнул и пальцем. После неспокойной ночи при ласковом солнышке так захотелось спать, что он пересаживался из мягкой кареты в островерхое седло. Иногда конь относил его далеко, но ощущение, что гетман следит своими бессонными глазами, не исчезало в нём ни на минуту. Хотелось поехать с поручением — гетман не посылал. Вокруг ясновельможного казаки-охранники, джуры, много генеральной старшины. Орлик пускал коня во всю прыть, достигал какого-нибудь холмика или могилы, покрытых прошлогодним коричневым тёмным будыльем, между которым, правда, уже зеленеет молодая трава, проглядывают белые корешки и откуда, напуганные конским топотом, с криками слетают чёрные огромные птицы, вечные спутники походного войска.
Конь бежал споро. В бездонном небе звенели жаворонки. Ещё выше, чем жаворонки, на белоснежном краешке тучки маленькой точкой приклеился орёл.
На одну из придорожных могил-курганов подскакал Трощинский.
— Пан генеральный писарь объезжает коня? Га-га-га!
С высоты виднелась дорога. При взгляде на весенние полупрозрачные краски человеческое сердце смягчается, как воск. Так считал Орлик, огорошенный разговором с гетманом.
— Пилип! — оглянулся Трощинский. — Так...
Казаки на шляху горланили песни, проезжали мимо высокой могилы.
— Кочубей... — вспомнил Трощинский, но Орлик прервал:
— Разреши чернодубским бродягам написать суплику. За гетманом, мол, не пропадёт... А в Белой Церкви — без лишнего шума в подземелье. Сколько их?
— Двое... Видишь, один, Журбенко Петро, вражий сын, размалёвывал церковь, что на гетманский кошт отстроена в Чернодубе. У того самого зографа учился, который намалевал гетмана в виде рыцаря.
Орлик улыбнулся, лишний раз показывая, какую силу имеет в гетманщине генеральный писарь, какие подарки следует давать ему за совет.
— Гетман — фундатор и донатор во многих церквах. Бумаги же проходят вот через эти руки, — выставил он длинные пальцы, на которых против солнца сверкнуло золото перстней. — Они и саблю держат, и перо. Ну, не выкалывать глаза, не ломать им рук и ног... Уговорите вступить в сердюцкий полк. А церковь... Правда, гетман любит посматривать на ту парсуну... Но это только мечтательные зографы полагают, будто можновладцы их помнят. Дураки...
Орлик пришпорил коня. Кто узнает о ночном разговоре? Сказал гетман: нужно обо всём забыть, — стоит, однако, подумать...
Высоко в небе плыли лёгкие белые облачка.
2
Это — тюрьма. Сырые камни, отвратительные крысы, которые сразу выползают из своих убежищ, достаточно человеку прилечь. Коварные решётки, мощные стены, за которыми угадывается жизнь, прочие, ещё такие неведомые узники...
До Днепра ехали долго. Никто не удивлялся, что молоденькие казаки догоняют войско. Пока варили кашу на треножнике, кони набирались сил. Вода постепенно уходила с низких мест, укрытых бледной травкой. Дороги и стежки обрастали густою зеленью. Чаще завиднелись путники: пешие, конные, ватаги жебраков, монахов, чумаков, торговцы с богатыми возами под воловьими окаменелыми шкурами, казацкие отряды, длинноногие, выбритые до блеска на щеках москали с белыми ремнями на зелёных узких кафтанах... В первые дни движение на шляхах казалось беспорядочным и бесцельным, пока из разговоров не стало понятно, что у каждого движущегося по шляхам человека есть своя причина для длительного путешествия.
Переправившись на пароме через широкий Днепр, на белый речной песок, издали перекрестились на киевские реденькие церкви по высоким зелёным горам. Маляр долго оглядывался, стараясь запомнить краски. Заднепровская земля пестрела тоже редкими белыми стенами. Зато на ней много лесов, и людей на шляхах там ещё добавилось. Особенно возле придорожных криничек. Наука чернодубского деда Свирида уже не удовлетворяла молодых путешественников. Они полагались на самих себя...
Тёмным вечером, по пути к хутору, о котором на шумном распутье поведал слепой кобзарь с маленьким одноглазым поводырём-мальчишкой — будто там уже и гетманская застава, — из мрака закричали в несколько голосов:
— Кто такие?
— Куда Бог несёт?
— А ну, стойте!
Оглянулись хлопцы — место глухое. А дорога хорошо протёрта колёсами и копытами. Пришлось придержать уставших коней.
— Мы к гетманской милости!
Спрашивать могли казаки. Зачем скрывать?
— Гетманской? — приблизился огромный всадник. — Гетман ждёт...
Посмеиваясь, он — по голосу молодой — начал выспрашивать обо всём поподробней. Спутники его, тоже верховые, торчали под деревьями. Наконец хлопцы услышали, что перед ними казацкая застава. Это — сотник, по имени Онисько. Завтра просители будут в генеральной канцелярии. Хорошо? Ну, хорошо...
— Тогда за мною!
Продвигаясь в окружении новых знакомых, увидели несколько пустых строений. Нет там собачьего лая, ворота отброшены. В соломенных стрехах ветровы песни. Как раз посыпался густой весенний дождь. Казаки начали привязывать коней к мокрому паркану, от которого уцелело несколько низеньких столбиков и одна-единственная жёрдочка, прикреплённая к ним лыком. В окошке, правда, сквозь осыпанные дождём стёклышка затеплился огонёк, обозначилась кружка в тонких женских пальцах. Но войти в тепло не пришлось. Казаки неожиданно схватили за руки, обезоружили. Хлопцы вздумали сопротивляться — им ещё и перепало. Всё получалось вроде бы точно так же, как и в недавней стычке с гультяями. Только там с гультяями, а это кто такие?
Следующей ночью связанных чернодубцев везли на возу неизвестно куда, потому что на вопросы сердюки — таки сердюки! — не отвечали. Петрусь не робел: гетман накажет за кривду! Пусть только прочтёт суплику, которую сотник разрешил подать! Подвыпившие сердюки — в хохот! Да, гетман читает! На то и грамотен! Подскакал и сотник Онисько. Выходит, это он так безбожно заманил в западню?
— Молчать! — закричал сотник Петрусю. — Грамотей чёртов! Здесь на всё гетманова воля! Гадай по звёздам, куда везём!
Петрусь упал духом. Степан лежал молча, безнадёжно выставив под звёздное, расчищенное от туч небо короткий толстый нос. Как и Петрусь, он был подавлен случившимся. Пускай уже в Чернодубе беззаконие, а здесь рядом генеральная канцелярия, сам гетман.
Сначала долго слышался гул войска. В лесах, в смоляной тьме, драли горло волки. Где-то ближе кричали птицы. Ещё ближе, вдоль дорог, иногда лаяли собаки. Потом звуки войска растаяли. Под скрип возов, под конский топот, плеск воды в лужах, лесной шум время от времени вспыхнет протяжная песня — вот и всё.
Разве есть на свете высокая гора с белой звонкой церковью, где запрятана незавершённая парсуна? Сердюкам малярское умение — ничто. Петрусь, как и Степан, для них — существа, которых можно убить и бросить в лесу волкам на съедение... До сих пор, до нападения на Чернодуб — иначе не назвать! — хватало понимания, что на свете есть гетман, а теперь... На сердюцком возу всё казалось безнадёжным.
На третью ночь связанных столкнули на землю и освободили им руки. От воли закружились головы. Руки чесались. Пришлось припасть спиною к спине, чтобы не свалиться. В слабом фонарном свете на фоне серых стен шевелилась многочисленная охрана. Пахло влагой, землёй. Веяло нездоровой прохладой...
Сердюки, однако, не дали постоять. Вскоре в глубоком погребе, где звонко выстреливает каждый шаг и каждое слово носится испуганным эхом, стукнула брама — сердюцкие сапоги застучали по ступенькам наверх, а узников сдавило холодное подземелье. Бесконечное движение оборвалось неожиданно. Обессилевшие тела упали на перетёртую солому. В забытье.
Из каменного мешка выводят на краткое мгновение. Вдохнёшь воздуха, посмотришь на перекосившуюся через камни веточку — и снова в темень, откуда сквозь кованую решётку виден кусочек неба, величиною с решето.
Но это не вся ещё беда. Хуже, когда под стенкой затягивает песню какой-то дед-бандурист — про степь да прытких коней, про ветер над степною травою-тырсой. Песня выматывает душу. Деда не видели ни разу, но уже угадывается само его приближение...
Отзвучит песня — в подземелье приходит огромный сотник Онисько. Его песня — без струн и без музыки:
— Сегодня, хлопцы, лошадям нашим купанье... Тёплая такая вода... Могли бы и вы... Только надо жупан на плечи...
Маленький Степан, вскакивая, каждый раз кричит так сердито, что из-под его ног вылетает солома:
— Мы казаки! Не сердюки! Свободные!
— Допустите до гетмана! — напоминает Петрусь.
Сотников ответ сердит:
— Казацкое хозяйство? Тьфу! О коне думай, о земле... А то посеять, собрать... Тьфу!
Петрусь тоже начинает кричать:
— Беззаконие! Мы писали суплику! Допустите до гетмана!
Сотник укоризненно склоняет голову:
— Вы понимаете в законах, хлопцы?.. Будете верно служить — гетман денег даст, хутор подарит, будет право на устройство плотины... Как Гусаку... Я же Гусака знаю. И я заслужу, Бог даст... Гусак человек добрый, знаю... Так что слушайте меня. Берите сабли, пока просят!
Как-то Онисько разрешил выйти во двор. Хлопцы приблизились к калитке, сотник поманил за собой:
— Видите?
Далеко, внизу, стояла карета с золотыми пятнами на широких дверцах. Кого-то осторожно подвели к ней, подняли — дверца закрылась. Завертелись колёса. Следом закачались в сёдлах казаки с голыми саблями.
— Вот его здоровье...
Хлопцы, ошарашенные, молчали. Немощная голова — гетман. В Гадяче он сидел на коне и живо разговаривал с зографом Опанасом.
Когда узников снова загнали в подземелье, то Степан, опустившись на солому, вцепился товарищу в рукав:
— Сгниём здесь...
Это говорилось не впервые.
— Гетмана не увидим, коли так болен... Лишь бы отсюда. А там...
Петрусь молчал. Сердюцкий жупан — что
хуже на свете? Но... гетман в руках сердюков. Суплика не дошла. Нужно обо всём рассказать ему на словах. Но как?
— А что это надо — Петрусь понял окончательно...
3
В Витебске, на крутых берегах могучей Двины, толпился народ. На слепящие белые льдины по чёрной мутной воде падало галдящее воронье. Весною река подхватит любую вещь — вон, к примеру, исправное колесо от мужицкого воза. Бедно одетые дети, размахивая длиннющими рукавами, швыряли вниз щепки и неудержимо визжали, глядя, как брошенное вертится в чёрной воде. Некому спасать мужицкое колесо.
Да высоченный человек в зелёной треуголке и в таком же зелёном узком кафтане, зажав руками длинную жердь, пошёл за льдиною, невольно распугивая воронье. Льдину прибило к берегу. Он запрыгнул на её ломкий край, положил жердь — и колесо, брошенное сильными руками, зарылось на берегу в липкую грязь. Ещё мгновение — человек сам на суше...
— Царь! — взвизгнул берег.
Кто замер на месте, кто наутёк. Дети, вытаращив глазёнки, притихли, вмиг опустив рукава.
Воронье закричало сильней.
— Кар-р! Кар-р!
Ветер рвал волосы на сотнях обнажённых голов — и на мужичьих, и на господских, и на детских, и на дедовских. Шапки у большинства — в опущенных руках.
Через некоторое время царь прошагал сквозь стражу, составленную из высоких солдат Преображенского полка, с которым он накануне прибыл в город, и распахнул окно в купеческой светлице.
Берегом бежала стайка длиннорукавных мальчишек.
Бревно в воде крошило мелкие льдины, а крупные притапливало.
На столе зашуршали под ветром карты, придавленные кавалерийским палашом.
Снизу, с вымощенного камнем двора, долетела пресноватая немецкая ругань:
— Verfluchte Knaben!
[7]
Ругань заглушил топот подкованных сапог. Там учат новобранцев. Они прибывают в Витебск в ободранных полотняных кафтанах. Им положен день отдыха, чтобы на ногах подсохли мозоли. Затем выдаются исправные сапоги, а слегка обученным — короткие суконные кафтаны зелёного цвета с красными обшлагами и ладунки к белым поясам. Новобранцев следует долго обучать, прежде чем отправить в полки к князю Меншикову.
Царь на рассвете обошёл цейхгаузы, осмотрел каменные строения, где хранятся кафтаны для солдат, сукна, порох, ядра, лафеты, фузеи, штыки. Не одному явному казнокраду окровянил он подлую морду. Потом с крепостного вала окинул взглядом затопленные поля, леса, дороги. А мыслью возвращался в Дзенцеловичи, в ставку в Бешенковичах, в далёкое Гродно, на самый Неман... Наконец не удержался, чтобы не запрыгнуть на лёд ради спасения ничтожного колеса — это же непорядок! Теперь шагал от стены к стене. Огромные коричневые ботфорты стучали в лад с солдатскими сапогами. Жёлтый палец расшевеливал табак в короткой массивной трубке, вырезанной гамбургскими мастерами в виде головы эллинского сатира, чувствовал сквозь толстую кожу тепло маленького костра. Впитанный дым царь выпускал охапками. Делал перерыв, не затягивался. Все эти дни почти не спал. Редко и раздевался, мало ел. Поддерживал себя только вином да трубкой.
Вдруг припомнилось, что среди донесений послов из европейских столиц вчера встретилась газетёнка, где латинскими литерами выбито, будто московский царь ежедневно пьян. Оставил на широких полях размашистый ответ: «Врёшь, собака! Не ежедневно!». Затем, остыв, подумал, что неплохо бы увидеть того писаку среди русских непорядков...
Трубка пыхала дымом, словно заморская пушечка, виденная в европейском замке.
Мысли же снова возвращались в Дзенцеловичи...
Король Карл уже где-то за рекой Березиной. А где?.. В Саксонию, в Альтранштадт, пришло к нему пополнение из природных шведов. Присоединилось умелое европейское воинство — получилась обученная силища с таким, возможно, количеством пушек и с такой кавалерией, что страшно себе и представить. В королевской казне много награбленных денег. Двинувшись из Альтранштадта в конце прошлого, 1707 года, Карл не пошёл на польские крепости, где поляки отбивались бы вместе с русскими. Нет, обошёл даже Варшаву. Царские военачальники отступали, узнав, что королём обойдено то место, которое они готовились защищать. Русские вышли из земель собственно Польши, так и не увидев всей шведской армии, не зная её числа, количества пушек, численности кавалерийских полков, а пользуясь только данными, добытыми в европейских монарших дворах. Донесения послов, различных агентов, всё, вырванное огнём и батогами из уст перебежчиков, — ничто не внушает доверия. Король и дальше ведёт полки лесами. При европейских дворах, правда, не смеются в глаза московским послам, как творилось после нарвской конфузии, однако там снова притихли в ожидании, пишут послы... О мире Карл не желает слушать...
Выехав из Москвы в армию ещё в начале года, царь задерживался только в Смоленске, в Минске, в крупных крепостях, где отдавал один и тот же приказ: готовиться к бою! На всём пространстве от Пскова до Брянска. Каждую дорогу — перегородить лесными завалами. Для проезда достаточно узеньких полосок, укреплённых люнетами и палисадами...
А ещё задерживался в Дзенцеловичах, где неказистые строения, в самом лучшем из которых остановился Александр Данилыч Меншиков, формирующий там из прибывающих рекрутов новые полки. Возле Данилыча — он в парике, в белых лосинах, красной венгерке — много красивых шляхтянок в роскошнейших платьях с бесконечными шлейфами. Данилыч похудел. Длинный нос, загнутый от худобы, сделал его похожим на орла с донских степных курганов. А носит Данилыч титул Ижорского князя и звание санкт-петербургского генерал-губернатора. Титул нужен. Возникла было надежда, что польские магнаты изберут на престол Данилыча. Вот и пущен слух о его шляхетском происхождении... Но магнаты считают избранного сеймом курфюрста Августа своим законным королём.
В Дзенцеловичах, оставшись наедине с царём, Данилыч известил, что у него содержится посланец, которому вроде бы Августом поручено передать, будто Карл пойдёт на Москву.
— На Москву? — привстал царь. — Идём!
В сыром подземелье ярко пылал огонь. Угарная вонь от раскалённого железа раздирала ноздри. Всё, что должно было произойти, казалось крайне необходимым. Человека мог подослать сам Карл.
— Начинай! — крикнул царь бледному от подвальной жизни палачу, опускаясь на тёплый, скользкий и влажный (от крови?) обрубок дерева.
— Господин полковник! — предостерёг Меншиков, ещё сильнее загибая длинный нос и оберегая блеск лосин. — Знаешь, воля твоя, но... Пусть бы передохнул. Вторая пытка... А мы с паннами-шляхтянками пожартуем...
— Давай! — не слушал Данилыча царь. Не улавливал, как затрещали в суставах кости, не ощутил запаха горелого мяса, не видел, как от напряжения бледный палач взопрел и порозовел, а смотрел только на окровавленное лицо, скорченное нечеловеческой болью, слышал вопросы из полутьмы, где блестела короткая сальная свеча:
— Кто послал?.. Кто послал?..
Мученик внятно простонал имя курфюрста Августа и притих. Данилыч, наклонившись над ним, безнадёжно махнул рукою:
— Хампа-рампа, как говорят поляки! Богу душу отдал...
Царь ударил палача трубкою в лоб, толкнул ботфортом дверь, не слушая Данилыча. У того на белых лосинах горело красное пятно.
— Неужели на Москву, Данилыч? Через Смоленск?
— Кажется, правда, господин полковник. Я уже сам допрашивал... Шляхтянки нас ждут.
В тот же день царь отправился дальше. Армию встретил в Гродно. На Немане. Напрасно надеялся задержать там противника. У всех в памяти осталась давняя осада. Царская армия и тогда с большим трудом выскользнула из гродненской крепости, скрытно перейдя реку, где начинался ледоход. Лёгкую артиллерию прихватили с собою, тяжёлую утопили и уничтожили за собой мосты. Шведский наплавной мост унесло наводнение. Шведы тогда не догнали русских...
В Гродно не удержались долго и в этот раз: шведские драгуны заняли город через несколько часов после того, как из городских ворот поспешно выкатилась царская карета....
А Двина играет. Движение воды побуждает к деятельности... Там, на Неве, на воде, возле отвоёванного моря, строится город, крайне необходимый России. За два дня солдаты-плотники сложили из брёвен небольшой домик. Пол — из широких плах, стены обшиты морской парусиной. В прорубленные оконные отверстия вставлены свинцовые рамы с небольшими стёклами. Живописцы размалевали оконницы и двери красивыми цветами по чёрному полю. Стены расписаны под красные кирпичи. А когда из царского обоза привезли столы, стулья, шкафы, кровать да ещё картины голландской работы — первую ночь царь провёл словно в сказке! Вокруг — плеск воды... Там уже проведено не одно лето. Туда согнаны многие тысячи холопов со всех русских земель. И хотя они ежедневно умирают сотнями, но на низменном Заячьем острове уже насыпана большая и мощная крепость. Пока что земляная. В болотистых лесах рубятся просеки и прокладываются улицы. И туда уже не первое лето приходят чужестранные корабли...
С бумагами под мышкой вошёл кабинет-секретарь Макаров. Остановился в солнечных лучах — тёплой волною врывались они в раскрытое окно. Солнце ещё сильнее вызолотило жёлтую голову вологодского парня. Правда, он в европейском, хорошо скроенном кафтане, со многими сверкающими пуговицами, и в европейском курчавом парике.
— Много нынче воды! — сказал царь. Ему хотелось услышать что-нибудь о северных мощных реках, возле которых секретарь вырос, откуда взят на службу, как парень шустрый, пусть и сын простых родителей. Умные люди из подлого народа, имея власть, не будут спокойно наблюдать, к примеру, как вода уносит исправное колесо.
Секретарь угадывал мысли царя.
— Воде стоять долго, господин полковник! Приметы за то.
Дальше тихо, но настойчиво, насколько разрешено и даже приказано:
— Казацкий полковник Скоропадский ждёт ответа.
Царские усы приподняли короткий нос. Припомнилась недавняя аудиенция Скоропадского в ставке в Бешенковичах. Царское лицо покраснело пуще заморского сукна, которым устлан в горнице пол.
— Це дело!
Искричался царь коротким гневом, по-прежнему шагая мимо притихшего секретаря, изгоняя из себя злость, неудовольствие, усталость, переполнявшие душу с того дня, как выехал из Москвы, отдав там приказ сыну Алексею готовиться к обороне. Немного остыв, подумал: «Напишу в Киев Голицыну... Смотреть за полковниками. Воду мутит Апостол... Хорошо, верный гетман. А умрёт... Друг дружку обливают грязью, а сами тем временем ждут привилеев. Да всё равно швед уберётся. Тогда...»
— Что на Запорожье?
Запорожье в голове, как и Дон, как и новый город на Неве, обороняемый генерал-адмиралом Фёдором Матвеевичем Апраксиным.
Макарову известно всё. К нему да к министру Гавриле Ивановичу Головкину, царскому родственнику по материнской линии, сходятся донесения. Макаров ведёт ежедневные записи обо всех событиях, как государственного значения, так и военных.
— Бунтовщик Булавин вышел из Сечи, господин полковник.
— Куда?
— Есть подозрение — собирать новые силы. На Сечи некоторых подбил.
Макаров ожидал, что царское лицо начнёт дёргать болезнь. Он наклонил голову, но стоял спокойно.
Царь выплюнул короткое бранное слово и снова зашагал. Круглое лицо в самом деле задёргалось — Макаров глядел в бумаги, но знал, как выглядит сейчас царское лицо: достаточно увидеть его однажды, искажённое неисцелимой болезнью.
В светлицу между тем с грохотом сапог ввалился высокий офицер.
— Господин полковник! Монах говорит прежнее...
Царь рубанул воздух рукою, подавая Макарову знак стоять здесь хоть бы до начала светопреставления, а сам спустился в подвал.
В подземелье, на полках, поблескивали разноцветные стеклянные сосуды.
Царь вплотную приступил к одноглазому монашку.
— Где король Карл? Где его главная квартира? Говори!
— Король в Радошковичах, пане полковнику!
Монашек прибился к Витебску ночью. О его словах доложили сразу, и царь тотчас приехал в город. Сегодня монашка разбудили, и он, под батогами только, — помнится смерть посланника курфюрста Августа! — снова повторил свои слова.
Монашек ростом царю до пояса.
— Ты сам видел короля? Говори!
— Видел! — Лицо монашка сверкало и казалось сейчас царю дорогим стеклом. — У шведа беда с едою для солдат и с кормами для коней. Он далеко рассылает своих людей, потому что там, где стоит, уже съедено всё... А народ не хочет ничего продавать. Солдаты ищут зарытое в землю. Мучают наших людей.
Вытаращенными глазами в продолжение краткого, но страшного мгновения царь обжигал монашково лицо. Тот выдержал взгляд.
— Хорошо! — оттолкнул его царь и приказал офицерам: — Наградить!
Ему очень хотелось верить услышанному. Поскольку ещё сильнее убеждался, снова поднявшись в светлицу и по-прежнему шагая из угла в угол, что прав в одном: теперь, когда Карл недалеко от русского кордона, нужно неукоснительно выполнять решение консилиума в Жолкве. За предложение позапрошлой осенью подали голоса русские военачальники. Согласилось и большинство поляков. Решено: оголожать местность! Пожарища да развалины должны встречать захватчиков! Тем временем русская армия будет пополнять свою артиллерию. Невьянские заводы на Урале, переданные из казны Демидову, умелому промышленнику, с каждым днём увеличивают количество выплавляемого металла. Готовят ружья и пушки. Каждая крепость будет в состоянии сопротивляться. Тогда враг повернёт назад. Тогда настанет время договориться о землях возле Балтийского моря... Но о генеральной баталии не может быть и речи. Нет ещё таких полков, которые выстоят в поле против шведов. Сражение с ними могут вести лишь их учителя — французы...
Макаров стоял неподвижно, там, где приказано.
Внизу засмеялись.
Остановись, царь положил руку на тёплый подоконник. Кучка гетманцев следит, как заморские офицеры муштруют русских солдат. Казаки скалят зубы, сравнивая свои широкие шаровары с узкими солдатскими штанами, приседают, придерживая бараньи шапки, длинные сабли, проверяя, наверно, ровными ли получаются ряды солдат с высоко подоткнутыми иолами коротких и без того зелёных кафтанов с красными отворотами, обмениваются впечатлениями.
Наблюдая почти детское удивление, царь почувствовал, что ему самому становится легче, что лицо его уже не так подвластно неизвестной силе, неодолимой с тех пор, как на глазах у него, мальчишки, стрельцы убивали царских родственников, и что сейчас, пока стоят весенние воды, можно немного отдохнуть. Вслух произнёс:
— Простые души...
Макаров поднял глаза на широкую царскую грудь, где из-под расстёгнутого суконного кафтана, из-под белой рубахи тонкого голландского полотна торчали короткие жёсткие волосы, побитые ранней сединою, всё ещё не осмеливаясь поднять взгляд выше, хотя бы до широкого подбородка.
А царь молча думал: «Сделаю и вас регулярными... Вы неплохо воевали под водительством Апостола... Под Варшавой. Под Эрестфером, у Шереметева. Били шведов... Но в державе должен быть один порядок, как у Макарова в бумагах. Один язык, всем понятный».
В казацкой толпе глаза выделили Скоропадского. Могучий мужчина, да казаки его тоже высокие, широкоплечие. Скоропадский что-то промолвил — казаки загляделись на муштру ещё внимательней. Скоропадский стоял с разведёнными руками. О сабле забыл. Словно гречкосей. Но всё на нём подогнано ловко — хозяин!
«А что, — подумалось царю с новым облегчением. — Старика на место старика. Сдерживать горячих. Это не миргородский Апостол, не черниговский Полуботок. Любит порядок. Как Мазепа... Женился на молодой. Ещё поживёт... А Мазепы жаль. Верой и правдой служил двадцать лет».
Вслух было сказано:
— Гетману напишу. Скажи Скоропадскому, пусть обождёт... Не дело! Предатели!
Макаров догадывался, о ком речь, но знал определённо, что плохо будет тем, о ком говорится. Макаров поднял взгляд уже до царской трубки. Она пыхала дымом, словно маленькая пушка, тоже давая знать, что царь снова закипает злостью. Однако красное сошло с лица так же быстро, как и появилось. Коричневые ботфорты снова застучали по полу из угла в угол, в лад с неутомимыми солдатскими сапогами.
— Noch ein Mai! Vorwarts!
[8] — доносилось снизу.
Царь снова мучился мыслями. Что предпримет король после спада весенних вод? Против нового города Санкт-Петербурга стоит шведский генерал Любекер, а в Риге, с войском, дожидается короля один из лучших его генералов граф Левенгаупт, тамошний генерал-губернатор. Бросится король на соединение с Левенгауптом, чтобы одним прыжком достичь Санкт-Петербурга, или воистину, как сообщил будто бы присланный Августом человек, намерен он идти на Москву? Где же выставлять против него воинские силы?..
Но после разговора с одноглазым монашком царь твёрдо решил ехать в Санкт-Петербург, вызвать туда верного Данилыча, чтобы вместе с ним да ещё с Апраксиным и Головкиным посоветоваться о дальнейших военных действиях, чтобы немного отвлечься, отдохнуть... В который раз перебирал в памяти приказы командующим дивизиями — генералу Алларту, Репнину, начальнику артиллерии генералу Брюссу, фельдмаршалу Шереметеву...
По широкой Двине по-прежнему скользили на чёрной воде белые льдины. И по-прежнему на них кричало воронье. А на берегах толпился народ.
4
Белая Церковь в безопасности. В замке над Росью — гетман, а вокруг — казацкое войско. Казаки без дела, зато у гетмана море писанины. Ещё зимой отосланы им грамоты запорожцам с уговорами выдать из кодацкой крепости забредшего с Дона казака Булавина, за что, обещано, царь озолотит Сечь. Да голытьба на Сечи разорвала грамоту. Кошевой попытался переубедить толпу — его побили, вырвали из рук «очеретину» — так называют там палицу в драгоценных камнях, знак наивысшей власти! — и накрыли шапкой на власть нового кошевого — Костя Гордиенка. Есть на Сечи древний закон: никогда не звать на помощь татар — так и его упразднили, чтобы вместе с татарами громить царские военные городки на Днепре — Новобогородицкий и Каменный затоны. Может, и дальше пойдут в великорусские земли? Булавин, разослав по Украине своих людей с письмами, вышел в степи собирать голытьбу да вести её на Дон для богопротивного дела — против царя...
Гетман обо всём написал в Москву, зная, что царь и сам пристально следит за сечевиками. Пусть Москва оценит гетманское усердие.
Вместе с тем извещено, что против бунтовщика посланы полтавский полковник Левенец и компанейский полковник Кожуховский. Они поймают его живого, если на то Божья воля. Бунт черни страшнее войны. На Дону разбиты царские войска, погиб князь Юрий Владимирович Долгорукий, посланный царём на усмирение негодяев. То пламя следует гасить нещадно. С кем угодно война — там тоже достойные люди, с ними договоришься, даже если виктория за ними... А какой разговор с чернью? И всему виною Запорожье. Чернь любит запорожцев, очень. Уничтожить бы Сечь царскими войсками... Пригодится на будущее...
И вот полковник Кожуховский в белоцерковском замке. Уставился на лежащего гетмана. Обвёл взглядом прочих полковников. А им тоже не терпится: конец Булавину? Может, Левенец везёт пленника? Левенец угождает гетману. Он недавно полковником в Полтаве.
— Рассказывай! — кивнул Мазепа.
— Прогнали на Хопёр... Не раз подсылал Булавин своих людей, да мы с Левенцом день и ночь начеку.
— На кол хлопов! — перебил Кожуховского Трощинский.
Прочие полковники тоже подали голоса. Главное — справиться с чернью.
Гетман только ёрзал затылком по красным подушкам. Когда все выкричались — перевёл разговор на другое:
— Что Булавин. Не он страшен... Знаете, кто ночью прискакал?
Никто не знал, да всем приметна успокоенность ясновельможного. Гетман попросил генерального писаря прочесть привезённые ночью бумаги.
Ловкий Горленко, завидя красные печати, шепнул о них задним. Тем вздохнулось вольнее: хорошее письмо!
— Скоропадский привёз, — пояснил гетман. — Отдыхает пан Стародубский.
Орлик читал. Добрался туда, где писано о каре Кочубею да Искре.
— Правильно, — снова первый Трощинский. — Под секвестр! Не гляди, пан гетман, что Васько Кочубей тебе кум! От черни не отбиться. А тут ещё они... Вражьи дети!
Полковники недовольно косились на Трощинского, но поддержали его. Ему стоит стараться, кривоносому: молод, а в каком почёте!
Обрадовали царские слова и о милостях всей старшине.
— Вот что, — подал голос Мазепа, и всем стало видно, как ему тяжело отважиться. — Пусть вершится царская воля. Посылаю полковников Трощинского и Кожуховского поймать клеветников!
— Пан гетман! — чуть не упал на колени Трощинский. — Разве утомлённый в дороге Кожуховский успеет? Поймаем! Привезём!
Через неделю Орлик влетел в покои:
— Беда! Пан гетман! Полковник Апостол...
Мазепа выслушал и велел позвать виновного. Удивительно спокойным оставалось лицо у старца, хотя миргородского полковника Апостола, по мнению Орлика, труднее взять, нежели турецкого султана. За ним казаки — как пчёлы за маткой. Не раз водил их на шведа.
Апостол вошёл согнувшись. Единственный глаз впился в высокую кровать. Гетманские глаза тоже внимательны, но казаки не вызваны.
— Вот это место, пан Миргородский, — подал гетман царское письмо. — При людях не читано...
Апостол только взглянул — и побледнел, кажется, до кончиков ногтей.
— За что меня... до секвестра?
— Подозрение у царя. — Мазепа спокойно взвешивал чужую растерянность. — Да ещё гонца ты посылал к Кочубею.
Орлик, готовый звать казаков, выдернул на палец свою саблю, зная, что не ему становиться на поединок с Данилом Апостолом, но всё-таки...
— Зови сердюков, пан Иван! — прохрипел наконец Апостол.
У Орлика отпустило дыхание. Умный человек не отрекается. Меньше кара. Гетман со стонами повернулся на подушке.
— Бог судит, Данило... И в походах мы вместе... И в Москву тебя брал... Иди отдыхать...
Сбитый с толку Орлик исполнил непонятный приказ. Взял полковника за вылет рукава, подвёл к дверям. То ли генеральный свихнулся, то ли гетманов ум иссяк? Апостол предупредил Кочубея об опасности, а вместо секвестра — воля... Но зачем-то именно так нужно?
В душе у генерального писаря снова шевельнулась опасная надежда.
Долго недоумевал Орлик.
Распустились листья, зацвели цветы, защебетали птицы — рай. Только нет радости в белоцерковском замке. Ясновельможный лежит среди подушек под высокими узенькими окнами. За красноватыми мелкими стёклами видится синяя речка. От цинковой решётки на старческом лице пёстрые тени. Нету мыслей в прищуренных глазах, потому и Орлику тяжело в его присутствии: может, воскресшая надежда — пустое?
— Знаешь, Пилип, — вдруг сказал гетман, — хорошо бы посидеть в садочке. Вот хоть у меня на хуторе Поросючка... Или в Батурине, в моём дворе. Нет края лучше, чем наша Украина.
— Что ж! — выгнул Орлик бровь. — Приватной персоне это нетрудно.
— Добро без власти не удержать.
Нет, гетман не отрёкся от тайных намерений. Но, если помрёт он сейчас, — прощайте, мысли о булаве. Потому что если и взять её при помощи друзей, так не удержать. Верно: богатство без власти зачем?..
Что таиться — мысль о булаве жгла генерального писаря с того дня, как стал он при гетмане простым переписчиком бумаг. А генеральному — Богом велено мечтать о власти. Оно и понятно: сможет ли Мазепа добиться того, о чём замыслено им? Не лучше ли помочь царю понять намерения нынешнего гетмана? Но когда окончательно прояснится: есть у царя подозрения? Новый владыка нужен на Украине. Доколе верить этому, если столько доносов?
Однако уверенности нет. Ещё проживёт старик. Сухое дерево скрипит сто лет. Немецкие лекари спокойны и уверены. «Ruhe» — только и слышно. А они разбираются в человеческом здоровье. Нет уверенности — так зачем совать голову в петлю? Гетман, как мифический Протей, избежит опасности. А без него надеяться сделать Украину самостийной — суета...
И ещё удивление. Полковники Трощинский и Кожуховский возвратились из Диканьки без узников. В дороге притомились казацкие кони, пришлось задержаться в Полтаве, у кузнецов. А тем временем... Полковники свесили головы на дорогие жупаны с широкими вылетами. Стояли перед гетманом, опустив беспомощно руки в золотых браслетах, как бурсаки перед суровым ректором в Киевской академии. О Кочубее да Искре сказали одно: изменники удрали за Ворсклу, на Кочубееву пасеку, а дальше — к охтырскому полковнику Осипову. Там Слобожанщина. Туда не полезешь. В Диканьке, правда, арестованы старая Кочубеиха и младшая Кочубеевна. Ещё челядь...
Гетман наперёд в крик, но Орлик понял, что крик показной. Когда же полковники сказали о Слобожанщине, гетман грозно переспросил:
— К Осипову? Не к татарам?
За Ворсклу — прежде всего к татарам. Сколько народу удирает если не на Сечь, так в татарские владения. Ищи ветра в поле...
Отпустив полковников, гетман долго раздумывал.
— Хотел спасти дураков, — признался. — Наверное, Бог так хочет, чтобы царь покарал. И вина на нём. Вот только... Не наговорят ли лишнего? Страшно...
Орлик едва не уронил перо: гетман говорит о своих намерениях так, словно генеральный писарь его явный сообщник. Когда испуг немного улёгся, наедине, после раздумья, Орлик согласился с гетманом: таки сообщник, раз никому до сих нор не рассказал. Теперь как расскажешь. Наконец утешился хоть тем, что в сетях запутываются и другие. Уже втянут Апостол. Потому спокойно воспринята весть о гонце, каком-то простом казаке, который предупредил Кочубея. Надеялся старик: удерут изменники за Ворсклу к татарам — и всё, как всегда, на том закончится. Каждому известно: удирают виноватые. Да ещё богатство их перешло бы к гетману... Но теперь беглецы под царской рукою...
Потому и не рад Орлик весне. Страх и опасение, что упустит своё время, что опередят Кочубей да Искра, что повредит падение Мазепы, — вот что допекает. Даже чужим людям приметна печаль генерального писаря. Но все уверены, что это от одной тревоги за здоровье гетмана. За долю Украины. За её будущее.
5
Настоящее тепло ещё только начиналось, а поднятая копытами пыль уже закрывала горбоносые конские морды. Казацкие шапки, усы, чубы, пусть и потные, — всё поседело от пыли. Между вытоптанными шляхами земля покрылась травою, прошитой яркими цветами. А жебраки в поисках тени таборились под вербами, осыпанными свеженькими листочками. Молодых наставляли на ум, неслухов — на покорность. Все совещались, куда податься, какие песни выводить ради добычи. Божий ты человек, коли пошёл с торбой, каждая христианская душа подаст тебе хлеба и пустит на ночлег, но всё же при хорошей песне дающая рука щедрее! Туда нужно, получалось, где нет гетманских казаков, где не пахнет ляхом, куда и татары не добираются на своих пронырливых лошадках, — где, одним словом, надёжная царская защита...
Многие оставляли опасные правобережные места. На возах и возках сякой-такой зажиток, но большей частью — детки. За возами, в пыли, на верёвочках, — скотинка. А так нет сожаления — здесь не заведёшь добра.
Жебраки тоже торопились подальше от Хвастова да от Белой Церкви. Белая Церковь пришита к древнему Чёрному шляху. Просто к городским воротам тянутся сквозь степную траву-тырсу татарские сакмы, а недалеко от городских валов до стен, в глубоких оврагах, отыщешь тайные тырлыща. Ведают о них только каменные плосколицые бабы на высоких могилах. Белоцерковцы же неустанно всматриваются, из-под чьего коника пыль закрывает небо. Если татары близко — с тревожными криками разлетаются птицы. По высокой тырсе со свистом растекаются большие и малые звери и зверюшки...
— Эх, — сказал возле кринички слепой ватажок, дед Петро. Сам с бандурою, белый-белый. Уж и пыль не пристанет к сединам, и солнце нипочём. — Хлопцы! Где защитник этого края?
Чёрная рука вырвала звук из тугой струны — будто стон подневольного люда. О ком речь — всем известно. И другой ватаге известно, которая ещё мостилась в тень. И там и здесь взгляды отчаянные — чем не казаки? Оружие бы да одежду... Возле деда — шустрый малыш, глаза слепца. Не раз уже ватага прошла Украину от края до края, а малыш не затерялся. Поднял он весёлое личико:
— Про кого вы, дедуню?
Старик взмахнул полотняной свиткой:
— Полковник Палий, хлопче, загнан в Сибирь... Пуля не пробивала, а сабля его не рубила...
Мама рассказывала о нём... Но как его взяли, такого крепкого?
— Обманом. Нужен смельчак, который расскажет царю правду... А то поставят враги коней в церквах, а попов запрягут в плуги!
Малыш свёл к худенькому затылку острые плечики. Да и не одному ему жутко. Взрослые оградили себя крестами:
— Милость над нами Божья!
— Не будем дураками — не вернётся лихо! — тут же ободрил ватажок.
Желтоголовый жебрак Мацько долбанул согнутым ногтем струны дедовой бандуры, спросил под надрывный исторгнутый звук:
— Отважитесь, вашмосць, сказать царю правду?
И на Мацько зашикали. Не только за неуместное «вашмосць».
— Орда тебя возьми! Тебе ещё ряст топтать! Вон гетманские казаки привяжут к седлу — только и видели! Гетман в Белой Церкви.
Нет Мацьку страха.
Нет и деду:
— Скажу. Сподобит Господь попасть на глаза — скажу. Царь нашу веру защищает. А Мазепа в ляшской вере.
— Паны не пустят на царские глаза! — в крик беспалый жебрак, недавно прибившийся к ватаге. — А Мазепа характерник! И не в ляшской он вере, а чёрту душу продал!
Ватажок соседней ватаги — широкоплечий да пузатый — зверем на слепого:
— На кол захотелось? Безбожники! Что о гетмане... Клевещете!
Оттуда поддержали своего ватажка, отсюда — своего. И получилась бы свалка. Особенно вскинулся Мацько. Молодой, сильный — уж и дубина в руках. Беспалый сжал зубы и задрожал. Кашевар ухватил огромную ложку. А простые жебраки — живым забором. Две ватаги — два забора... Но ватажкам ведомо, чем заканчивается такое. Не допустили драки. Слепой приказал укладывать пожитки на возок. Мацькова дубина затрещала на сухом старческом колене под Мацьковы же шутки.
Торопились жебраки на север. К Киеву. За Днепр. Тревога перекашивала лица. Оглянется человек — утрёт слезу. Неизвестно, какие воспоминания у него. Кого оставил? В живых ли? В могиле? У каждого — своё...
Через неделю, перевидев много разного люда, жебраки искали место для ночлега. Растянувшаяся ватага подставляла под ветер голые груди. Мацько тащил двухколёсный возок с выкрашенными в красное грядками, между которыми полно белых латаных торб. Под гору новенькие колёса вертелись сами, а в гору — помогали товарищи. Зимой наколядованные гостинцы таскал рябой коник, да как прижало с сеном — получились из коника колбасы. Даст Бог, снова купят животинку. Слепой ватажок лепит добытую копеечку к копеечке. Зимой снова позабавятся лицедейством. Мацько поведёт козу, беспалый оденется цыганом или медведем, Мишка оденут Божьим ангелом... Все будут петь... Снова — гостинцы...
Остановились в леваде. На пригорке, под защитою дубового леса, пасека: за плетнём вишнёвый цвет. Кашевар развёл огонь. Сразу приметил: криничка-желобянка уже исчерпана. Кашевар набрал воды в реке. Слепой ватажок пересчитал жебраков на голоса, а пересчитав, отложил бандуру и принялся отсыпать из торбы шуршащее пшено, отмерять корявыми пальцами старое сало, куда уже намертво въелась крупная серая соль — не выковырять, да и ни к чему: в котле раскипится. Рассчитывал, чтобы варева хватило как раз на ужин, но не скупился: дорога размотана длинная, а впереди ещё длиннее. К дороге нужна сила в сапогах.
Вот уж засыпано пшено, разрезано сало. Жебраки отбросили ноги на зелёную траву вокруг красногрядочного воза, накрыли лица чёрными шапками, болтают разное, словно в дороге не наболтались да не наржались. Мало печали жебраку, пока он в ватаге. Ватага в обиду не даст.
Слепой ватажок, стоя в расстёгнутой свитке, втянул носом воздух и ткнул пальцем в сторону пасеки:
— Мёд!
Мацько, прыткий на разговоры, словно и не лежал на траве. Хлоп себя ладонями по твёрдым бёдрам:
— Попросить мёда, вашмосць? Новостей заодно там послушаю...
Ватага подняла головы. Большинство — недавние хлеборобы. Неуютно им. Идут по земле, а не пашут ниву, не бросают в неё зерно. У ватажка дёрнулась голова.
— Попросить не грех, когда наносят Божьи козянки...
— Не время, — закивали жебраки.
Мацько молча дождался, когда кашевар прищурил перед огнём маленькие глазки:
— Дед! Слышите? Травою каша пахнет! Мало соли.
Деревянной ложкой, привязанной к красному поясу, зачерпнул кашевар пахучей еды — недосол, попробуйте сами!
Мацько снова хлоп себя по бёдрам:
— Придётся на пасеку!
Выставив против красного солнца мёртвые глаза, дед шевельнул усохшими ноздрями и разрешил:
— Пойдём... Там — будто в корчме...
Мацько согласен. Неслухов ватага прогоняет. Трижды целовали все тёмный крест на сморщенной дедовой шее. Один жебрак — не жебрак. Словно единственный зуб во рту — на что годен?
Дед отложил бандуру, отодвинул ногой торбу, сдавил палицу. Мацько, оглянувшись, увидел стройную фигуру. Верны слухи: дед смолоду гостил на Сечи. Мацько тоже разогнул под свиткой спину. Молод, а придавлен неудачами. Родители оставили наследство. Была и невеста, славная девушка, высокая, стройная... Мало того, что пробрался в «молодчики», то есть в подмастерья кузнечного цеха в своём городе, и в мастера собирался, в «братчики», — так и землй возле города обрабатывал кусок. Все в ватаге мечтают о хлеборобстве, да разве усидят они на земле?
Втроём пошли к пасеке: Мацько, Мишко, а позади — дед...
Вечером огней прибавилось. Спускались в леваду новые жебрацкие ватаги, остановились чумацкие валки.
К пьянящим запахам вишнёвого цвета присоединялись острые запахи дёгтя и рыбы. Чумаки выдернули из ярем занозы и пустили волов на пастбище. Развели огни. Что ж, место Богом предназначено для отдыха. Лесок, над речкой кручи. И до Днепра недалеко. Прохлада. Только воды в криничке мало.
Жебраки насытились вкусной кашей. Слепой ватажок припомнил:
— А я ещё при Хмеле воевал в этих местах...
Не одни жебраки обсели старика. И от других костров перебежали:
— Ого! Ну рассказывайте, дед Петро!
— Богдан нас к Руси затем присоединил, чтобы беспечно нам жить? Да?
У деда в голове вихрь воспоминаний:
— Был у меня отчаянный товарищ... Богдана мы видели, как вот вас! Посмотришь на него, красного, сабля в руке, булава за поясом, — сто смертей не страшны! Сам видел, как рубил он врагов.
Интересно слушать. Да кем-то брошено задиристое слово о нынешнем гетмане: не заботится о Богдановых статьях-условиях!
Покривилось лицо деда Петра:
— Сравнили...
Такое услыхали люди, что — смех! И правда.
— Он болен и стар! — нашлись защитники. — А тоже лыцарь! И болеет за Украину. Он такие песни о нашем горе сочинил.
Дед не согласен:
— Не тем воевал!
Снова смех.
А старый человек словно из книги вычитывает:
— При самом ляшском короле вырос Мазепа! С малых лет был охотник до молодиц и девчат. Снюхался с одной шляхтянкой да так подъехал: давай, мол, твоего мужа прикончим, выйдешь замуж за меня, польским паном стану... Околдовал молодицу. А слуги подслушали и доложили пану. С отрезанными полами удрал прелюбодей в гетманщину... А тут хитростью взял булаву. И не так он народ любит, как славу о себе распускает.
Желтоголовый Мацько ловко переломил бровь и упрекнул ватажка:
— Расскажите, вашмосць, что мы сегодня на пасеке слыхали!
Люди наставили уши. Может, об антихристе, который ведёт на царя неисчислимое войско? Говорят, молодой, а никому его не одолеть, потому что знается с нечистой силой. Колдунов с собой везёт. Царь отводит своих вояк подальше... На пасеке новости знают...
Нетерпеливые начали подзадоривать самого Мацька:
— Так и ты молчишь! Пчёлы мёду дали?
— Его самого на кол посадят! Вот! — не сдержался Мацько.
— Кого?
— Кого?
Люди с оглядкой друг на друга. Может, кто старшиной подсажен? Но смелые затеребили Мацька:
— Говори!
— Скоро вся Украина узнает! — петушился Мацько, видя, что дед не торопится. — Не будет его! Он хочет нас ляхам продать!
— Тише! — набросились на товарища жебраки. — Не слушайте, люди! У него не все дома! С торбой по миру идти — не нужен ум!
Дед Петро не присоединялся к осторожным.
— Говори уж, Мацько, говори...
Мацько начистоту:
— Гетманом станет Кочубей! О! Царь забрал его в Москву! А Мазепе голову срубит! О! Так на пасеке рассказывал казак...
Новость ошеломила. Мацьку и не поверили бы, так слепой подтвердил.
Беспалый жебрак сморщился, упрятываясь в ветхую свитку:
— Не впервые... Но Мазепу пули не берут. Сзади стрелять — сквозь тело проходят, а спереди — отскакивают и в тебя метят...
Дед Петро не сдавался:
— Такого не было, чтобы генеральный судья писал доносы!
— Правда! — ахнули люди. — Генеральный умеет! Голова учена.
— А сколько Мазепиного золота в земле!
Даже тем, кто считал, что гетман удерёт в Польшу, заткнули рты:
— А москали? Зачем поставлены? Они и в поход за ним!
Отыскались возле костров такие, которые давно знали новость. Теперь добавляли от себя — получалось весомо.
Короткая весенняя ночь поднялась над миром до самих звёзд.
Дед Петро, спокойно поглаживая чубчик малому Мишку, уснувшему у него на коленях, говорил:
— Царь правду любит... Теперь полегчает...
Над левадой, в запахе вишнёвого цвета, перемешанного с запахом рыбы, дёгтя, носилось множество звуков. Уже набралось без счёта людей из ближних хуторов.
Только беспалый жебрак отошёл к возку и лёг между колёсами на своей старой свитке. Не будет на свете перемен, думалось ему, зачем морочить себе голову?
Беспалого ещё мало знало товариство, потому на него не обращали особого внимания. Главное — надежда!
6
Завидев свежего коня, молодая кобылка на вытоптанном лугу, над Пслом, взбивает острыми копытами облако прозрачной пыли. Но её перестревает пастух на буланом жеребчике. По крутому лоснящемуся боку змеёй скользнул узловатый батог.
— Будешь на месте! — без злости говорит пастух. — А ну в табун!
А поля возле шляха, между лесными деревьями, — в чёрном лоске. В низинах, между синим блеском воды, — пахари в белых рубахах. В чистом воздухе — степные визгливые чайки. Земля переполнена птицами. А деревья — в густом новом листе...
Денис Журбенко, завидя цветущие сады, приостановил на бугре своего Серка. Конь понимающе вбивает в землю копыта. Раздуваются его влажные горячие ноздри.
Дикие груши над речкой Черницей словно вымочены в молоке и поставлены на прежние места. Молоко густыми хлопьями вцепилось в ветви. А пчёлы гудят!..
— Красота!
Вот, думается казаку, брату Петрусю не до сна. Заберите хлеб, оставьте краски. Ещё малышом увидел он церковное малевание, так только возвратился домой, усталый, потому что в церковь тогда ходили далеко, в соседнее село, — сразу сделал себе из конского хвоста кисточку! Вскоре и стены, и ворота — всё было окрашено. Ходил в полях за овечками, приносил оттуда много камешков, коренья, известные деду Свириду. А из того всего, переваренного в пчелином воске, получались краски. А как увидел богомазов за работой, решил: буду богомазом!..
Из ближнего двора выносит старую бабу. Она торопится, да застревает в плетне.
— Как живете, бабуня? — приподнимается казак на стременах.
— Тьфу! Сгинь, сатана!
И назад старуха. Лишь чёрная одежда мелькнула в белом цвету.
«Вот те на! Неужели я так переменился?.. Сатана... Гм...»
Хотелось казаку выманить свистом старухину внучку Галю, чтобы взглянула ясными глазами, словно приголубила! — да после такой встречи нечего уже стоять. И двор желанный белым закрыт. И пчёл здесь много...
Денис направляет Серка к отцовскому хутору.
А приехать удалось вот почему. В Хвастове подошли два есаула да именем полковника Галагана повели за собой. Остановились перед столом, за которым сидел Миргородский полковник Апостол, и с поклоном стукнули дверью, уходя.
«Скачи в Полтаву! — вывалил полковник из-под кустистой брови свой единственный глаз, потому что второй глаз выбит, пустое место заросло красным мясом. — Скажешь в Диканьке генеральному судье Кочубею, пусть немедленно едет в гости за Ворсклу... На обратном пути заверни к себе домой. И чтоб никому...»
Чужой полковник, а всё ведает... Денис и шапку не снимал с головы, чтобы зашить грамоту, — были просто слова. Садясь на коня, радовался: увидит отца, мать, брата Петруся... Да мало ли кого нужно увидеть? Галя... Красивая девушка, крепкая, смелая. Пригляделся зимой. Колядовала и щедровала с подругами. Других девок обнимал и целовал, а к ней не подступился... Баба отдаст внучку за охотного казака. Он и в реестр пролезет. Смекалистых записывают. Тут ещё и война. А встревожен Миргородский полковник Апостол — так пойми больших панов. Молодой Апостоленко, его сын, женат на Кочубеевне...
Только не шли в голову панские заботы. Присоединился Денис к казакам полковников Трощинского и Кожуховского. Они направлялись в Полтаву. Радовались, что не топчутся больше под Хвастовом, где осточертели селянам. Некоторых казаков Денис знал, с некоторыми познакомился... Зачем же обязательно обгонять Трощинского и Кожуховского? Ещё и грозился суровый Апостол: голова на плечах не удержится, казак, если не по-моему... У Апостола сила. Нужен охотный казак — Галаган дал. Нужно что иное — всё будет. Но что это за важность, наконец, доехать до Диканьки? Кони добрые, деньги в тхорике! Можно потешиться!
Приключений, однако, не случилось по дороге до Полтавы. Полтава — город велик, защищён земляным валом, обросшим бурьяном и курчавой лозою. В том валу издали виднеются раскрытые настежь деревянные ворота, через которые въезжают и выезжают подводы с набитыми чем-то мешками, с размалёванными горшками, с прошлогодним пыльным сеном. Над воротами — каменная башня. Ещё несколько башен вдали. Ворот всего пять. И под каждыми шинок или корчма: и перед валами, и за валами. Возле корчем много возов.
Полковники намеревались искать кузнецов. А куда вообще держат путь — никому ни слова! Навстречу выехал полтавский полковник Левенец. Полковники исчезли в его подворье, а
казаки рассыпались по корчемным дворам.
Денис, найдя пристанище в одной корчме, выходил подсыпать коням овёс, гладил Серку бока, будто вдалбливал ему, что ночью придётся скакать в Диканьку. Туда от Полтавы недалеко.
Перед корчмой вдруг затарахтел воз. Едва остановились кони, как двое молодцов в казацкой одежде заполнили строение своими голосами.
— Ну-ка, Охрим! — кричал низенький, с короткими, задранными кверху усами, а второй, высокий, с длинными усами, перебивал ежеминутно:
— Давай, Микита! Давай! Вприсядку! Вприсядку!
Они долго танцевали с молодицами, а когда упали на лавки и напились воды, так Охрим за своё:
— Вон моя хата, казаки! Возле дуба! Только и останется! Чтобы на Сечи никто не попрекал, будто и я с богатеями! Взял дочь богатея, но не богатство! Сравняюсь с людьми!
Микита, ёрзая на лавке, покрикивал:
— Правда! И богатых приравняем к себе! Обуем тестя в лапти!
Полтавцы смеялись, напиваясь на Охримовы деньги. Не раз слышали его споры с тестем. Микита многозначительно посматривал на товарища. Оба наслаждались знанием тайны, которую, почитай, знали и полтавцы, и мужики, и женота, потому что все поддакивали Охриму, а на гетманцев посматривали лукаво...
Денис носился в танцах, жалея, что некогда сходить к какой-нибудь молодице. Молодицы в Полтаве славные: мягкие, губастые, с ласковыми коровьими глазами. Языки — бритвы. Прислушивался, а ничего не узнал.
Всё прояснилось тогда, когда вышел во двор вместе с есаулом из свиты полковника Трощинского. Крепостные валы в сумерках показались ещё выше. В надворотной башне высвистывал ветер. Нигде ни одного огонька, кроме как в корчме. Лишь беспечная перекличка охраны. Денис постоял с есаулом за ветряком, который машет крыльями сразу за воротами, на скользком пригорке. Есаул считал себя большим паном. Ему ли входить в разговор с простым казаком? Но, поскользнувшись на грязи, да так, что, если бы не Денис, не отделался бы синяком, упав на бревно, которым поворачивают ветряк, есаул признался, что полковники ведут казаков в Диканьку ловить генерального судью Кочубея! Денису хватило духу на вопрос: «Чем-то не угодил гетману?» Есаул зашипел, как дикий кот: «Тс-с!.. Царю!.. Поклёп на гетмана!» Денису стало страшно: куда влип! Вот для чего Апостол выбрал чужого казака... А если догадаются полковники? Или гетман?
Денис отвёл пьяного есаула в корчму, да самому ему уже не до горелки. Удрать бы в тёмную ночь. На Запорожье? Там брат Марко... Видано, как срубают головы ни за что. Но, подумав под пьяные крики Охрима и Микиты, Денис оставил надежду на бегство. Апостол и на Запорожье отыщет.
В просторной корчме усталые гуляки ещё доканчивали танец, а Денис уже тихим привидением выскользнул на дорогу, что тянется вдоль Ворсклы на север, мимо церкви, что белеет на высокой горе. Скакал, пересаживался с коня на коня. Над головою выгорели звёзды, а когда взошло солнце, вдруг проступили осыпанные росою стройные тополя — Диканька! Конь, данный миргородским полковником, упал и не поднялся. Выручил Серко...
Теперь, в Чернодубе, навстречу идёт отец. Мельница рядом с хутором, на Чернице, ветви самого Пела, обведена отдельным валом. Отец не узнает сына — что удивляться Галиной бабке? — даже шагает в сторону, уступая всаднику дорогу. А дорога ведёт на хутор.
— Тату! — спрыгивает казак в траву.
Лишь тогда оживают отцовские глаза...
Серко кладёт голову на казацкое плечо. Понятно боевому товарищу, что здесь хороший корм и надёжный покой.
— Не собираю больше гетману на булаву, — жалуется отец. — Петруся нету. Яценко о мельнице не заботится. А у меня такое плохое здоровье...
В светлице не сверкают на полках дорогие кубки. Осыпались со стен — может, исчезли в погребах — старинные сабли да пистоли. Даже оконные стёкла потемнели. Только иконы, малёванные Петрусем, горят по-прежнему. Сидят за столом отец и Денис, а мать подносит еду. Наймичка отпущена, нет денег. Наймичка очень нужна.
— Удрали хлопцы, — продолжает мать свой рассказ, — так сердюки за старого взялись.
— В ту самую хатку-пустку закрыли! — соглашается отец. — А тут грабили... Думали, всё отдам... Выпустили, узнав, что ты у гетмана служишь. Но ничего не возвратили. Смеялись: мельницу не трогаем? Нет. А тронули бы — Яценко бы суплику написал. У Яценка сила...
Старик умолкает, вспоминая недавнюю встречу с гадячским купцом. Приехал к нему посоветоваться, как найти управу на Гусака, а Яценко: «Гусак сватает мою дочку... — И, не давая вставить слово, захлёбывался от счастья: — У меня деньги, у него молодая завзятость! Неспроста гетман подарил ему Чернодуб. Сердюки в силе. Замолвлю и о тебе слово. Нужно держаться гетмана и старшины, как вошь кожуха».
По блестящему полу растаптывалась белая известь — Яценко не замечал. Не помнится Журбе, что сказано дальше, не слышались кумовы слова, хоть тот орал над ухом, а в роскошном и пустом доме слова летали без преград, ударяясь о гладенькие, кое-где уже красиво разрисованные стены. Не помнится, как добрался до брички, что сказал кучеру, и лишь когда бричка, рванувшись, подпрыгнула — тогда полегчало, всё стало безразличным, пришло понимание, что в жизни проворонен важный миг... И очень заболело сердце. Не впервые...
— А где они сейчас?
Денис вылезает из-за стола.
Отец кривит лицо.
Мать — за жупан:
— Что придумал? Сиди!
— Потолкую с сотником! — отводит сын материнские руки.
Пальцы тянутся к сабле, повешенной под иконами. Мать отпускает жупан. Выпрямляется во весь рост:
— Вы все такие — галаганята, петухи? Сиди...
Никто не остановил бы казака, может, и сам полковник Галаган. А матери он покоряется. Она снимает со стены саблю и несёт её в чулан.
— Сотник сейчас в Гадяче, — вмешивается отец. — По шинкам гниёт да в карты играет!.. Сердюков при Гузе человек десять. Отдохни... Что-нибудь придумаем, если Бог даст жизни. Хоть и в большой цене сотник у гетмана, но если бы суплику в руки... А Петруся и Степана Марко сманил на Сечь, не иначе. Коль ты не видел их в войске.
Мать, возвратясь, гладит сына по голове, будто маленького. Он снова садится на лавку.
— У людей горе, — добавляет мать. — Кто без денег, тех на майдане били... Галиной бабуне — о послушенстве она никогда не знала! — и ей пять нагаек... Галя плакала, а старую в рядне понесли.
— Вот почему она меня испугалась! — вспоминает Денис старуху.
— Да! — снова перехватывает разговор отец. — Чернодуб больше остерегается сердюков, чем татар! Гусак завёл четыре дня панщины! И при ляхах-католиках такого старики не помнят! На месте сгоревшей Лейбиной корчмы поставили новую. Нужна человеку чарка на крестины или похороны — переплати сотнику, больше, чем Лейбе! Вот закон и правда. Да люди не дураки. Поедет отсюда сотник — кто смирится? А чем заслужил он ласку гетмана?
— Не знаю, — в который раз задумывается Денис. — Гетман собирает вокруг себя молодых сотников, самых ему верных, ничего для них не жалеет, говорят...
Казак покорно ложится на взбитые материнскими руками подушки. Зачем сюда ехал? Не знал бы о лихе, не ведал бы, что Галю мать называет своей будущей невесткою, только прикладывает то слово к ней применительно к Марку. А теперь... Тихо стонет на лавке отец, не в силах уснуть, так болит сердце. Бродит при свече мать...
Что ж, прощай, коли так, Галя... И не знала ты казацких мыслей о себе, так и не узнаешь. Прощай. Есть и другие красивые девчата на свете. А завтра в дорогу, к войску. Дорога, говорится, наша тётушка. И к гетману можно с супликою, коли так. Не о себе жалоба, об отце. Нет стыда. Даже большие паны жалуются...
Через мгновение казак проваливается в сон. Ему видится дорога, уставленная цветущими деревьями. Смеётся весёлая Галя — она вскачь несётся на молоденькой резвой кобыле...
В полупустой конюшне тем временем набирался сил на всё способный Серко.
7
Марко Журбенко, слоняясь без дела, жалел, что не пошёл с теми казаками, которых повёл на Дон заросший бородою Кондрат Булавин. Не нравилось казаку, что христианин поднимает саблю на христианина. А теперь, наглядевшись на неправду в гетманщине, решил: лучше делать такое, чем молча мириться с неправдой. Всё же за казацкую волю борются на Дону!
Отнесена в море ледяная Днепрова одежда. Степи устланы травами, сверху всё вышито цветами. Птицы высиживают птенчиков. Кобылицы сзывают ржанием жеребят. Телята взбрыкивают возле коров... Весна, а походом не пахнет. Для чего загнал Марко добрых коней, торопясь на Сечь?
Пропивал последний зажиток вместе с такими, как сам, молодятами — с Демьяном Копысточкой, Кирилом Вороной — и среди них выделялся мечтою о походах. Растаяли деньги, которые возил в родное село в подошвах сапог. Собирался справить Гале подарок, а то и жениться на ней, купить земли, поставить хату... Не скоро теперь в гетманщину.
Где бы ни сидели молодята, отовсюду внимательно смотрели на остров Чертомлык, куда, к кошевому, ежедневно собираются атаманы.
Высоко вздымается остров, битый зимними ветрами, подмытый весенними водами. Снуют туда-сюда дубки, челны, большие паромы. Не торопятся только в поход казацкие чайки... Будто ярмарка в этих местах, где издавна, ещё от Богдана Хмеля, избрано место для Сечи. Казацкие чайки гниют. Новых весел никто не вырезает...
Толстый Кандыба посетовал, скребя себе в пазухе.
— Братове! Москаль в море не пропустит! Боится, что мир с турком порушим! — Подумал дальше, не вынимая руки из пазухи. — Нанимайтесь ко мне в работу на лето!
Кандыба давний сидень на Сечи. Всего у него в избытке — так захотелось, чтобы на гире косички выросли! Молодята загудели. Марко выхватил саблю. Искалечил бы живоглота, если бы Демьян с Кирилом не придержали руку.
— Казаков в наймиты? Такого на Сечи не видано!
Кандыба вытащил из пазухи руку, исчез, словно нырнул в бочку с водою, которая в шинке в углу. Потом передали его слова: «Будет ещё на вас голод. Попроситесь, а не возьму!»
Это правда. Прибавляется на Сечи ртов. Удирают люди от неволи, которую заводят Мазепа да паны полковники. Мазепа написал универсалы, чтобы беглецов из его поместий бить и вешать... Но в ответ на принесённые в шинок слова молодята вскипели гневом и стали гадать, как напасть на Кандыбину пасеку, как отбить в поле табуны да загнать их в гетманщину, продать за бесценок, но чтобы Кандыбе — убыток. Ведь казаки — все равны!
Старый Петрило отговаривал:
— Суета! С Кандыбой я в один день прибился на Сечь. Он и рубахи не имел. Его солнце жарило как дикого кабана! А теперь, вишь, он со мной разговаривать не станет! А сколько таких гнездюков обсело Сечь. Суета!
И на старого кричали молодята. Да смеялся он. С голого что взять... Решили что-то делать той же ночью. Как вдруг на майдан, что напротив острова Чертомлыка, прискакали трое всадников — такие запылённые, что и не понять, кто они. Когда напились воды, сползли с коней, тогда узнали сечевики: люди с Дона! Гонцы атамана Драного!
— Драного? Что вместе с Булавиным?
Донцы ещё утирали мокрые усы, а уже загремели литавры, уже посыпались, взбивая подковами пыль, на майдан запорожцы — и зажилые, и серома. Как песка на дороге — столько шапок! Из казацких криков Марко понял, что серома порывается в поход. Даже кто вчера ещё убежал от хозяина, и те уже дерут горло:
— Кошевой! В поход!
Кошевого Костя Гордиенка привезли силой. Вывели под руки из челна, всунули в пальцы «очеретину», облепленную драгоценными камнями:
— Давай ответ, чёртов сын!
— Поход нужен! Как дальше жить?
Шумел седой Днепр, прорываясь к морю через ненасытные пороги. Далеко и могуче разливался по земле. Огромный Чертомлык среди безбрежной воды казался не таким и огромным с высоты, где собралось казацтво, уже чёрное от солнца. А так, видать, изрядно обносились казаки. Всё пропито зимой. На что надежда? Царь не шлёт жалованья. Да и много ли жалованья у простого сечевика?
«Очеретина» подпрыгивала в волосатых пальцах кошевого. Он хищно водил глазами, над которыми обе брови в одинаковых рубцах после ударов турецких сабель. Славно рубил врагов и красиво говорил, пока не стал кошевым... В старшинском кольце он, сквозь которое не пролезть и ужаке. Кольцо и дальше сжимается. Для старшины слова серомы — нож в сердце!
— Нельзя на Дон, товариство! Богопротивное дело! Обещано служить царю! Целовали крест! — крикнул сдавленным голосом кошевой, и брови с рубцами полезли на лоб в ожидании ответа.
— Пойдём! — ответ. — Пойдём! За царём побиваешься, чёртов брехун! Да не у царя отнимать, а казаков-дончиков защищать!
— Пусть не разевает царь свою пасть на нашу волю!
— И клейноды чтобы с нами!
Слова понравились Марку: где клейноды — там и пушки!
— Клейноды! — заорал он. — Клейноды!
— Не можем! — с полуслова понимали кошевого зажилые. — Не пойдём!
А тут и попы выплыли из деревянной церквушки, кое-как устроенной забредшими мастерами. Пухлые брюха вперёд, святое Евангелие, в золоте искупанное, золотом облепленное, поднялось над христианами, будто против нечистой силы:
— Православные! Нельзя присягу рушить! Богородица покарает!
— Клейноды и пушки! — не обращал внимания Марко.
Марка вмиг подхватило много рук. От его слов вскипела серома.
— В поход!
Марка недолго продержали. Подняли другого, третьего. По всему майдану каждый кричал своё, пока не началась драка.
— Царские городки уничтожим! Чтобы в море ходить.
— Богородицкий сровнять с землёй!
— Нельзя трогать! Опомнитесь!
— Можно! Вы опомнитесь!
Марко двинул кого-то кулаком, а его самого ударили в челюсть и сразу же добавили с другой стороны. В глазах потемнело от злости, не от боли. Уже не видел, куда попадает кулаками, направлялся туда, где заметил только что Кандыбу, знал, что там враги, что с ними следует расправиться прежде всего...
Рядом надрывались Демьян Копысточка, Кирило Ворона, многие молодята. Даже старый Петрило с товарищами дрался за правду...
Не пропала злость и после того, как опомнился под лозовым плетнём, в своём курене. Садилось солнце. Степь переливалась ярким светом. Готовясь к ночлегу, стонали чайки. В красном мареве носились за валами розовые кони, развевая прозрачные гривы. Любуясь лёгким бегом животных, смеялись молодые казаки. Везде было спокойно, хорошо, будто в сказке, которую в далёком Чернодубе рассказывала сыновьям Журбиха. Словно в песне, сложенной ею за работой: «Кони вороные, хлопцы молодые...»
Марко до сумерек перебирал в памяти виденное и слышанное сегодня, и прежде, и за всю свою жизнь... Разлука с Галей теперь надолго. «Дивчина-рыбчина, здорова була... Чи ж ты мене, серденько, та й не забула?..» А долго ли ждёт девушка? Спихнёт бабка замуж... Наконец казак поднялся и направился к костру.
— Ишь ты! — засмеялся потный от огня кашевар. — Доброго носа выстрогал тебе отец!
Казаки-молодята поддержали смех. Марко молча опустился на землю между Кирилом и Демьяном. Они оба с перевязанными головами. Огонь облизывал 6удыль, выброшенный Днепром на берег, пожирал каждую деревяшку, которую кашевару лень переломить. Огонь съедает дерево, как время — человека... Снова возвратились прежние мысли, но свистнул призывно кашевар — варево готово. Марко вытащил из-за голенища ложку, втиснулся в толпу, так что носки его сапог упёрлись в горячий котёл, тоже поел, а насытившись, перекрестился в сумерки и тихо сказал Демьяну и Кирилу:
— Зовите всех, кто хочет на Дон!
— Что придумал? — подняли головы молодята и казаки постарше.
Задело упоминание о раде, где верх взяли зажилые. Все угрюмо смотрели на Чертомлык. Смех и разговоры начали стихать. Вдали поднимался грозный гул. Известно, возле костров — серома. Гул усиливался, словно над Днепром зарождалась буря. Но с неба глядел на Божий свет всё тот же чистый месяц, кажется протёртый казацкой онучей. На водном просторе обозначилась узенькая золотая дорожка. И никакого дыхания ветра. Только огромная тень Чертомлыка — оттого и тревога в душах...
Когда гул приблизился, Марко выхватил из костра длинную головешку, высмотренную заранее. Испуганный кашевар отпрянул, чтобы не обжечься, сверкая белыми глазами на тёмном лице. Марко навстречу казакам:
— Пушки возьмём силой! Немедленно! Иначе сгорим, как эта головешка! Такого случая больше Бог не пошлёт!
Все забыли, что перед ними молодой казак, — правду орёт! Марко был страшен. Головешка от быстрых движений вспыхнула огнём. Демьян Копысточка и Кирило Ворона послали казаков за лошадьми в степь, чтобы класть пушки на возы, минуты не мешкая, пока не мешают зажилые.
— Возьмём! — кричал Демьян с одной стороны, а Кирило с другой подзадоривал готовую на всё толпу:
— Свою часть! Им на острове — пусть! Пусть подавятся!
— Не подавятся, а нужно! — не забывал о правде Марко, поднимая ещё выше головешку. — На Сечи без пушек нельзя! Турки нападут.
Но напрасно посылали за лошадьми. Не успели выбежать на ровное место перед укреплениями, как на валах вспыхнули огни. В дрожащем свете сверкнули медные брёвна, повёрнутые на своих людей чёрными отверстиями, а возле них закричали зажилые. Наперёд выступил кошевой с «очеретиной». Возле него Марко увидел толстого Кандыбу — снова чешется в пазухе! — ещё многих старшин, и мелких, и значительных.
— Не видеть вам пушек, как уха без верцадла! — крикнул кошевой громовым голосом. — Попробуете силой — так одни кишки останутся! Пороху подсыпано с избытком!
Вот проклятые... Никто не догадался, что кошевой здесь, не на Чертомлыке...
— Побей вас Матерь Божья!
— Христопродавцы!
— Кровопийцы!
С руганью обгоняла серома Марка, теперь уже торопясь назад и опасаясь, как бы в самом деле зажилые не выстрелили в спину. Знали бедолаги, что всё пропало. Зажилые не уснут до утра. Молча, понурившись, прошли Демьян Копысточка да Кирило Ворона...
Зато старый Петрило дёрнул Марка за рукав:
— Где дончики? Если выступать — так сейчас... Взять коней, у кого есть. Оружие, у кого какое... Иначе — суета...
Марко прислушивался к разговорам серомы. Многие согласны выступать на Дон.
Он догнал побратимов Кирила и Демьяна.
8
Кружево цифр, поставленных вместо букв, сложилось в слова:
— «Бывшие генеральный судья Василий Кочубей и полковник полтавский Искра в сопровождении подполковника Левашева привезены в город Витебск ещё 18 апреля. Вместе с ними и охтырский полковник Осипов, у которого они скрывались, пан отец полтавской церкви Иван Святайло, сотник Кованько, писари и прочие служки. Задержанных поместили близ Витебска в отдельных светлицах, окружили стражей. А на следующий день Головкин и Шафиров учинили допрос сначала Осипову, потом Кочубею и Искре. Кочубей подал новый донос, где в тридцати трёх, пунктах винит гетмана в измене. Доносчики говорили по-разному, а потому решено дать им батогов. Кочубей сознался наперёд, что писанное и говорённое им — навет на гетмана».
Орлик, читая с Мазепой письмо за толстыми стенами белоцерковской крепости, догадывался, кто писал, — Шафиров или Головкин. Много подарков получили царские вельможи от гетмана. Наконец посмотрел на кровать: старик будто стряхнул с себя болезни. На подушках сидел бодрый усатый дедок, чересчур шляхетный. Давно не видано такого Мазепы.
— Там спрашивать умеют... Давай дальше...
— «Государь не удовлетворился признанием, заподозрив вмешательство шведской стороны, а велел допрашивать здрайцев ещё раз и со всей строгостью. Кочубею дали три удара батогами. Но и под батогами здрайцы кричали, что это навет по Кочубееву желанию. Окончательного решения в деле нет».
Орлик снова взглянул на гетмана — тот уже опять больной и несчастный дедок. Снова тревога в глазах.
Гетман сказал только:
— Видишь, Пилип, как получается... Aliena pericula...
[9] Говорено... Но... Ждать...
Да если бы ждать спокойно.
Поздно ночью старый Франко пустил в светлицу человека. Лишённый сна гетман взмахнул на кровати руками, будто за ним явилась сама его смерть. Твёрдое как камень и чёрное как сажа лицо пришельца не переменилось.
То был монах, впервые встреченный гетманом в Польше. Потом он бывал и в Батурине, и на гетманском хуторе Поросючка... Получил бумаги. И вот — возвратился... С ответом? Господи!
В 1705 году царь посылал гетмана в Польшу. Казацкое войско остановилось тогда в городе Дубно. Пена весенних цветов соединялась с белизною дворцов и замков. Хоть и существовал царский приказ вредить только тем панам, которые за Станислава Лещинского, но казаки грабили поместья подряд. Беспомощные против сорокатысячной казацкой армии, паны лебезили перед гетманом, напоминали ему о его молодости, проведённой при дворе варшавского короля. Даже такие паны, как князья Вишневецкие — Януш да Михаил, тонко образованные, из древнего шляхетского рода, — и те почитали его как родного отца. А уж мать их, княгиня Ганна Дольская, хоть и немолодая, зато такой красы, что до смерти красавица, — так и она была без ума от гетмана. Вместе с сыном Янушем пожелала, чтобы гетман крестил Янушеву дочь, а крёстной матерью стала сама.
Вот там, в Янушевом замке, в Белой Кринице, на пышных крестинах панянки Ядзи, отодвинулось всё, что столько лет не давало покоя: и гетман Петро Дорошенко, татарский сообщник, при котором служил молодой Иван Мазепа, и поход против татар уже под водительством другого гетмана, левобережного, Ивана Самойловича, к которому вскоре перешёл, и Меншиков, и сам царь Пётр — всё отодвинулось. И не было больше ничего, кроме белых колонн, стрельчатых окон, пения и музыки на хорах, блестящего каменного пола, расшитого золотом убранства шляхетных гусар, припорошённых горячим блеском удлинённых глаз юных шляхтянок, согретых краковяком. И ещё рядом, совсем рядом, — лебединая шея княгини Ганны...
Потом скакал за каретой вместе с усатыми казаками, склонялся к раскрытому окошку кареты, откуда вырывались самые нежные запахи, а княгиня, направлявшаяся в Броды, всё с той же обворожительной улыбкой пропела невероятное:
— Пан Ян, шведы трактуют о вашем царе, что мыши гуляют, пока кота нет дома!
Гетман не ожидал таких суждений. Но вспомнил, что княгиня пережила двух своих мужей, которые заправляли Речью Посполитой, — значит, она хорошо разбирается в государственных делах, — и лишь тогда начал прислушиваться к словам из обворожительных женских уст.
— Пан Ян! А вы разве привязаны к царю? Разве Украина не завоевала себе самостийность? Разве вы заслужили того, чтобы вами управляли грубые московиты? Круль Станислав на сей счёт совершенно иного мнения. Панна Ядзя войдёт в лета — ей бы хотелось, чтобы крёстный её был повыше гетмана!
И дорогое вино, и ласковые глаза, и тихие слова, и свои собственные мысли — всё усилилось тогда в один всплеск. И поднялась в душе беспокойная мысль, которая и до того тайно мучила, жгла постоянно... Чтобы беспечно, достойно и в богатстве жить, нужно иметь собственную силу, а не зависеть от московского царя. Царь не допустит чужой самостоятельности. Так было до сих пор, а если царю удастся с честью выстоять против шведов... Страшно сказать. Княгиня Дольская помогла войти в доверие великих панов, а там и самого короля Станислава. И даже в доверие того, кто над королём Станиславом, — шведского короля.
Гетман отогнал воспоминания и приказал джурам выйти. Он понимал, как опасно сейчас общение с таким агентом, а тот, ещё ничего не зная, собственноручно прикрыл за джурами дверь. Острые глаза проткнули в покоях тёмные углы. Далее медленно перекрестился на иконы, наслаждаясь торжественностью мгновения. Лицо его смягчилось. Он тихо сказал:
— Omnia feci, domine!
[10]
Из-под широкой чёрной одежды быстрые руки вытащили свиток бумаги, затем ещё один, прижатый к другой половине груди, оба скреплённые печатями. Мазепа взял поданное дрожащими руками — оно ещё хранило тепло человеческого тела — и так близко поднёс к пламени свечей, что монах решительно отодвинул канделябр:
— Jam leges sunt!
[11]
За чтением лихорадка отпускала.
— Что же, — почти прошептал наконец гетман, — отдохну перед смертью...
Монах услышал и согнулся в поклоне, снова уставился на ясновельможного. Он рисковал. Побывал у значительных людей. Ему бы тоже отдохнуть под крылом у самостоятельного князя, правителя. Но он не мог знать, что думает гетман, произнося молитву.
«Царю не устоять. Король Карл пойдёт из Москвы на новую войну. Пообещаю пока присоединить Украину к Речи Посполитой, а там... Освободится Украина. Останется моё имя в памяти людей. Беспечная жизнь... О!»
Однако пока что к заботам о результатах доноса Кочубея и Искры вместе с этими свитками бумаги присоединилась ещё одна забота: как рассказать о тайных договорах и обещаниях генеральной старшине? Кому верить? Ведь даже Орлик сомневался...
Генеральный обозный Ломиковский качал лысой головою:
— Не будет нам жизни, коли так... Батогами наказного гетмана...
Присутствующая в покоях генеральная старшина нахмурилась. Всем не верилось, что вечно шутливый, толстый, с татарскими узкими глазами, уже немолодой Василь Кочубей примет смерть перед казацкими рядами. Все смотрели на гетмана. Всем помнится, что Кочубей с молодых лет считался товарищем гетмана. Старшая Кочубеевна была замужем за покойным теперь гетманским племянником Обидовским.
Царь решил обоих доносчиков казнить.
— Может, неправда? — сомневался Ломиковский. — Царь передумает?
Гетман заверил:
— Знающие люди написали. Скоро привезут... А я подчиняюсь царской воле. Пускай бы он и братом мне доводился, тот Василь.
Орлика уже не удивляли поступки ясновельможного. Водит он за нос полковников. Орлик примечал только смятение Апостола. Несколько раз министр Головкин требовал заковать Апостола в кандалы и прислать для допроса, а гетман каждый раз отбояривается: не стоит, чтобы не растревожить казаков... Да наверно же письма Головкина показаны Апостолу... Орлик понимал одно: гетман уже привязал к себе миргородского полковника.
Ломиковский словно с ножа:
— Где же казацкие вольности? Без суда, словно простых хлопов?
Всех мучило то же самое.
Гетман на подушках откликнулся:
— Придержи язык, Ломиковский! А если сюда полковника Анненкова?
— Правду говорит! — распалился и Горленко.
Вся бунчуковая старшина закричала:
— Царь не уважает наши вольности! У ляхов пан так пан! Ни одного шляхтича король не казнит своей волей! А то — батоги...
— Уже не говоря о том, что наше войско за стадо овец принимает!
— Да, никакого уважения!
— Как своих стрельцов уничтожил — так с той поры...
Куда и болезнь пропала гетманская:
— Ляшской воли хочется? Вспомните ещё о гадячских статьях, об Иване Выговском... При ляшской воле не станет государства! Варшавских королей никто не слушает! Та держава не живуча! Как если бы дети не слушали отца! Что будет?
Орлик недоумевал: о знаменитой панской воле так отзываться?
Гетман тем временем сильно разгорячился в споре. Один Апостол помалкивал.
Старшины кричали:
— Нельзя терпеть!
— Благодарите царя, что оберегает нас от черни! — отвечал гетман.
— Дак ты, пан гетман, — нашёл в криках щель Ломиковский, — тоже за то, чтобы казацкого духу на Украине не осталось?.. Хорошо же тебе нашёптывает Меншиков.
Мазепа и Ломиковскому:
— Я за крепкую власть! Чернь поставить на место! Запрячь, как запрягли её московиты!
— А москали над казаками издеваются, как тебе то? Московский солдат считает, что он повыше нашего полковника? Простому московскому солдату ничего не стоит скинуть с коня нашего полковника!
— Да! И ничего ему за то не будет!
Гетман не уступал:
— Царь издал указ: не чинить нам кривды! Мелкие слуги в том виноваты.
Орали, размахивали руками и перначами, даже плевались. Орлик следил, чтобы крики не достигали ушей простых писарей. Когда все приумолкли, Мазепа откинулся на подушки:
— Возьмите, коли так, бумаги и напишите, какие вольности, от кого...
Все присутствующие задумались.
Ломиковского дополнил лубенский полковник Горленко:
— Вот если бы король Карл замолвил слово...
Может, потому сказал эти слова Горленко, что сам не понял, какого наказания они заслуживают. Да за них ухватился Ломиковский:
— Стоит подумать! Тот король — сила. Ого-го-го!
Апостол, как и прежде, не говорил ничего, прикрывал единственный глаз огромной рукою.
Гетман улыбнулся, оборачиваясь к старшинам:
— Будто я враг Украине. Будто вы меня не знаете. Накричали мне старую голову... Пилил, дай бумаги да каламари. Лежу на Божьей постели. Расскажу скоро Богу, как заботился о людях...
Орлик разложил бумаги и собственными руками расставил каламари, раздумывая, кто отважится писать, коли вот рубят головы...
9
За Днепром, на Белоцерковщине, отцветали сады. Казаки не заботились о фураже. Травы — в пояс. От полкового города Белой Церкви дорога змеем ползла вдоль реки Рось. Зимою Рось под снегом неприметна, весной же её распирает от чёрной мутной воды. А теперь она спокойно переливается в зелёных берегах, осыпанных красноватыми камнями, лежит громадным прозрачным зеркалом, куда, кажется, стремятся заглянуть даже каменные бабы на высоких островерхих могилах. Вот только мешают заросли кудрявой лозы, плакучих верб и красноватой ольхи.
За очередной казацкой заставой — везде по три казака да по четыре коня — показались цепочки мужиков. Они то нагибались, то разгибались. Фигуры вроде бы знакомы, да только все в рубахах из серого самодельного полотна. Кто такие? Люди закричали, увидев всадника, замахали руками и косами. Денис приблизился — казаки! Под Вербами синеет от брошенных жупанов. Возглавляют косарей Мантачечка и Зусь, молодые и завзятые, на безделье — гуляки и озорники.
— Денис! Где пропадал, бес?
— Бог в помощь, братове! Гречкосеями заделались? Рассказывайте!
Много положено покосов, пересыпанных красными цветами. А в тени — воз. На грядки его склонен бочонок с холодной водой. Рядом — огонёк, возле него молодица в чистом белом платке. Поёт, стряпая, об орле, а он в самом деле висит над нею. Под тёплым небом — вжиканье кос и Жаворонкова песня...
Товариство повесило носы, усаживаясь по-татарски на обе ноги. Пальцы рук пробовали острые лезвия.
— Да... Дома хозяйство без надзора... Неудачный поход...
Рассказали, что ляхами, вернее, гетманом Сенявским прислана бумага: можешь не приходить, пан гетман... За хороший магарыч казацтво косит мужикам травы. Старшины не запрещают, пусть молодые не дуреют от безделья...
— Значит, на шведа? — Словно молоденький хлопец, Денис кувыркнулся в скошенной траве, для предосторожности придавив саблю к животу.
Казаки утирали лезвия пучками травы, большей частью красными цветами, что так и липнут к рукам. Какая-то неопределённость в старшинских разговорах о ясновельможном гетмане. Сказал Мантачечка, Зусь поддержал. Дружки остерегались говорить открыто. Но Денис всё выведает... Вскоре такого наслушался — грец тебе! Стоит ли давать гетману суплику? Да... Замелет Гусак ногами... И полковника Галагана нет, в своём поместье он. Вишь, поместье! А ведь за деньги служит. И он теперь пан...
Целый день болтался Денис. Показался сотнику на глаза — тот махнул рукою. Делай что хочешь. Сам же не пойдёшь к полковнику Апостолу. А он не зовёт. Подрал глотку в корчме Денис и побил ноги в танце. Перемигнулся с одной молодицей. Она ночью не запрет своих дверей. Но летний день долог... К вечеру усталый казак заплутал. Серко стала хватать губами за сапоги. Мол, слезай. Проспись... И вот на окраине хутора, на выгоне, увидел привидение. Синий жупан перед высоким возом, чёрная мазница в руках. Руки — в дёгте. А Серко пошёл к привидению бодро.
— Пропади, чертяка! Издеваешься над казаком? Но... на брата похож. Сейчас перекрещу... Неужели это ты, Петрусь?
Серко радостно заржал. Мать в Чернодубе вздыхала: младшенький — на Сечи. А он за полгода превратился в усатого вояку. Правда, тонок, как незасватанная девка, но руки сильные, удержат саблю. Денис первым делом глядел на человеческие руки.
— Денис! — узнал его Петрусь.
Мазница — в траву. Отброшено колесо с белыми, недавно тёсанными спицами, не в полную силу брошено на деревянную ось чёрным, разящим в ноздри дёгтем.
— Постой! Дай рассмотреть тебя, брат! Петрусь...
— Я не один здесь. Степан!
Маленький рукастый Степан треножил фыркающих коней. Подбежал, руки чистые, бросил их Денису на шею.
— Ой, как хорошо, что тебя встретили!
Денис примостил хлопцев под возом.
— Почему, — начал расспрашивать, — вы в сердюцких жупанах? Почему в обозе? Возницы?
Хлопцы умолкали с приближением сердюков. Их силой заставили влезть в сердюцкие жупаны. Есаулы здесь такие злые...
— Годилось бы выпить, хлопцы. Нищие обмениваются костылями, так и то ставится магарыч, а здесь — братья встретились!
Однако пришлось отправляться на высокий берег Роси. На небольшой поляне наговорились всласть.
— Надо удирать на Сечь! — настаивал Степан. — Да сердюки начеку днём и ночью. Вчерашние воры, базарные хапуги...
— Краски снятся, — пристально глядел в глаза Петрусь. — Говорят, на Сечи есть церковь. Знаю, не время, но краски манят...
Степан кивал головою: удерём! Дедуньо рассказывал о Сечи...
Денис присматривался, раздумывал. Наконец посоветовал не столько обоим, сколько брату, а может, себе самому:
— Не торопитесь. Может, — при этих словах все оглянулись, хоть на поляну не долетали никакие голоса, — нового гетмана получим... Говорят, новый хозяин нужен. Этот уже при смерти. Если ещё своей смертью умрёт.
Молодые сердюки слушали с опаской и недоверием, посматривали, не бросился ли искать их обозный есаул, от которого не спрятаться.
Петрусь упрямо выставлял шею:
— Нет, брат. Гетман не виновен. Он ничего не знает. Мы видели его. Издали.
Ежегодно Мазепа готовил к царским именинам пышное поздравление и дорогие подарки — известно всему войску. Но в этом году едва отослал пристойное посольство, как пришло царское повеление: вести казацкий регимент к Киеву, где и дожидаться указов.
Казакам — радость и тревога. Радость, поскольку не придётся бедствовать в чужой земле, оставив свои дома на произвол судьбы. А тревога — сюда, наверное, сунутся ляхи-станиславчики, которые одолевают Сенявского... Правда, знахари уже рассказывали, когда и как придёт враг, но каждый раз получалось, что шведы и не выходили из ляшских земель, станиславчики — тоже. Может, и на этот раз Бог отведёт беду?
Мыли в речках коней, обскрёбывали им стрекалами блестящие, выгулянные на травах бока. Кузнецам с обожжёнными руками и тёмными лицами тоже хватало работы. Крикливые есаулы следили за сборами. Медлительные и уверенные в себе пушкари отбросили кожухи и до сияния чистили речным песком стволы пушек. Обозные возницы дёгтем шмаровали вымоченные в воде колёса. Кашевары перевевали пшено да осматривали тёмные бодни с пропитанными солью кусками жёлтого сала...
Наконец всё готово. Под Борщаговку, на берега Роси, стягиваются обозы, чтобы двинуться на Белую Церковь, где в замке сам гетман. Много и селюков собралось ехать, жебраков, торговцев. От Белой Церкви до Киева добросишь шапку... Но вот прискакала к войску жучка царских гонцов с важной, знать, новостью. Кони — в мыле. Один упал, не поднялся, а конь хороший. Прибывший есаул приставил к вздыбленному конскому уху мушкет и отвернулся. Грохнул выстрел. Есаул смахнул слезу и побежал. И будто из-за этого грохота зашевелилось в гетманской канцелярии старшинство...
Ещё несколько часов спустя вдоль Роси змеёю поползла новость: в Киев привезены Кочубей и Искра! Зачем? Казнь?
Гетман приказал остановиться. По дороге на Киев бросился от Белой Церкви с сотней компанейцев генеральный бунчужный Максимович. А казацкое войско вокруг полкового города, по широким степям, по лесам, по речным долинам, да ещё возле него торговцы, селяне, жебраки! — все замерли в ожидании: неужели гетман не умолил царя? А какие слухи ходили о новой высшей власти... Удивительно...
Через несколько дней на холме возле Борщаговки появился высокий белый помост. Горячее солнце вмиг растопило на досках тёмную живицу, и она потекла, скапывая тягучими каплями. По-над Росью, по пыльным дорогам, собирались люди. Первые прибывшие облепляли ближние к помосту места, опоздавшие таборились подальше. Сердюки и компанейцы подгоняли нагайками. Вскоре люди заполнили ближайшие холмы. Мальчишки взбирались на деревья. На копнах свежескошенного сена сидели и немолодые. Всё это делать разрешалось. Сердюки даже хватали мальчишек за полотняные рубашечки и, как щенят, подбрасывали вверх — пусть цепляются за ветви. Таков приказ полковников. Казнь должны видеть как можно больше людей. А ещё сердюки присматривались и прислушивались, не убивается ли кто чересчур об изменниках. Люди под палящим солнцем прикрывали головы шапками, платками, просто кистями рук. Не хотелось видеть сердюков, не смотрели и друг на дружку. Только внутри толпы возникали вялые разговоры:
— Грызутся паны...
— Да... Мазепа увернулся, как уж из-под вил!
Сердюки пробивались на разговор. Однако он — уже в ином месте.
Гетманскому войску тоже мало радости. Там заботы о погоде, об урожае — хороший. На такое богатство приходит враг... Казаки стояли толпою, как и простой народ, только придерживались сотен. Кажется, всего двое сердюков незаметно перешли на то место, где поставлен охотный полк Гната Галагана. То Петрусь и Степан. Тяжело дожидаться казни. Вот и влекло их поближе к Денису.
У Петруся бледное лицо. Из-под чёрной шапки, закинутой по-казацки на затылок, вылезли прибитые пылью и потом кудри. Накануне вечером видел и похороны. Везли молодых хлопцев в красных жупанах, за ними вели коней... Денис успокаивал: не впервые. Чёрная болезнь косит казацкие ряды. Не хватает китайки закрывать покойникам глаза. Теперь, правда, Денис забыл о вчерашнем, а хлопцы помнили. Петрусю показалось, что его самого бьёт лихорадка. Потому и держался за Степана, а тот крепко стоял на широко расставленных ногах, словно перед дракой в чернодубской корчме. Держал в памяти кулаки обозного есаула. Петрусь не думал об обозе, лишь часто совал за пазуху руку. Старший брат спрашивал:
— Что у тебя? Сердце болит?
— Нет! — краснел Петрусь.
Денис тоже озирался. На этом лугу в день его возвращения к войску косили сено. Теперь оно в копнах... Дениса окружали товарищи: Зусь, Мантачечка, ещё несколько отчаянных голов. Ему не верилось, что Кочубею с Искрой отрубят головы.
— И позора достаточно! Богатство потеряно. Поделят его между собой гетман и царь...
На равнину тем временем выскочили компанейцы. Подо всеми одинаковые кони. Толпа раздалась, словно разрезанная острым ножом. Перед помостом — широкий проход, с обеих сторон его стены подпирают всадники. Где-то завизжали военные трубы, загрохотали барабаны. Одновременно в освобождённое пространство, сверкая оружием и белыми полосами на зелёных кафтанах и белыми чулками на крепких длинных ногах, вошли три роты царских солдат. За ними ехал верхом краснолицый полковник Анненков. Сбитые в квадратные кучки солдаты продвигались таким ровным и мощным строем в барабанном грохоте, что Денис невольно позавидовал:
— Сила, хлопцы! На чужеземный лад! Так и швед... Сила!
— Глядите! — заглушила Дениса своими воплями какая-то баба.
Крик подхватили. Народ стал напирать на конных казаков, но всадники, натянув поводья и едва-едва перекосив сверкающие лезвия сабель, конскими грудьми оттолкнули нескольких мужиков — того уже достаточно, чтобы прочие отступили назад. В проходе, за царскими солдатами, в окружении сотни верховых компанейцев, возглавляемых самим генеральным бунчужным Максимовичем, на высоком возке, что вслед за серыми волами выкатился из густой пыли, завиднелись два сгорбленных человека, седых, оба с низко опущенными головами и забранными за спины руками. На выбоинах колёса подскакивали, и сквозь грядки на землю падала золотая солома. Слышались не то стоны, не то молитвы... Волы приблизились к помосту — солдаты тем временем поставили на возвышение царского человека, и он громко стал вычитывать что-то из огромного свитка серой бумаги. В слова никто не вслушивался. Следили за несчастными, которых через несколько мгновений казнят, если не смилостивится гетман. Чтение иногда прерывалось, и тогда были слышны слова молитв. Священники в чёрных одеяниях стояли рядом с помостом.
Чтение длилось долго... Наконец человек с бумагой сам спрыгнул на землю. Двое солдат снова подняли его в седло. На помосте уже красовался в просторной красной сорочке человек без шеи, с могучими откормленными плечами и дурацким лицом, легко поигрывая блестящей секирой. Всё это было удивительно ярким, как на картинах, привезённых зографом Опанасом из далёкой Италии.
Петрусь сдавил руку брата. Денис, чувствуя дрожь тонких пальцев, шептал:
— Сейчас... Вот гетман... Что-то приказывает...
Денис и сам не мог связать в одно видение на это№ скошенном лугу фигуру несчастного человека в возке с тем гоноровитым генеральным судьёй, которому передавал в Диканьке слова полковника Апостола. Тогда занималось утро, а судья и не раздевался на ночь. В раскрытой браме конюшни виднелись осёдланные кони. Трижды переспросил генеральный судья, куда советует торопиться Апостол.
Петрусь уставился глазами в гетмана, сравнивая его, живого, с оставленною в Чернодубе парсуной и радуясь, что намалёванная гетманская фигура удачно вписана в поверхность доски. Теперь гетман сидел на белом коне, в руке — сияющая булава. Грезетовый белый жупан, красная епанча... Высокая шапка, подбитая мехом, на ней — перья. А за ясновельможным трепещет на лёгком ветру пышное знамя, распускает чёрные космы бунчук. Вокруг — дорогая старшинская одежда. Старшины несколько сотен. Что значат для гетмана, за спиной которого царская сила, двое несчастных? Сейчас прискачет всадник с царскою грамотой...
Люди с нетерпением ждали помилования, хотя преступников поставили уже перед палачом и он одним махом разорвал на обоих жупаны, затем ухватил Кочубея за связанные за спиною руки, привычно бросил беспомощное тело на высокую плаху, издали видную народу, поднял, не торопясь, страшную,
сияющую, как Божье знамение, секиру. Палач, однако, смотрел на гетмана и на царских офицеров, тупым взглядом отыскивал среди них полковника Анненкова. Палец скользил по лезвию. Слышалось, как на острой стали скрипит задубелая кожа. Сам палач, пожалуй, не верил, что ему придётся рубить голову генеральному судье.
От гетмана, в несколько прыжков белого коня, приблизился кто-то из старшин. Народ радостно закричал и замахал руками. Народ даже засмеялся из-за того, что с дерева, сомлев от страха и длительного сидения, сорвался мальчишка.
— Воды ему!
И тогда Петрусь бросился вперёд, ощущая в себе какую-то неизвестную доселе силу, которая понесла его, как ветер носит осеннюю былинку.
— Ты куда?
За ним устремились Денис и Степан. Сразу ударил в уши конский топот.
— Стой!
— Стой!
Петрусь бежал, сгорая от удовольствия, что вот он, тот миг, ради которого оставлено малевание, ради которого поехал в войско, столько раз был бит, столько всего вытерпел, оделся в сердюцкий жупан, — но теперь свободно вздохнут в Чернодубе родители, дед Свирид, Панько Цыбуля, все обиженные, и проклянёт, в кандалах, свою судьбу сотник Гусак!
— Стой! Стой!
Топот копыт, стрельба, сабельное сверкание, белые полосы на зелёных широких плечах, несколько круглых барабанов на животах у высоких солдат, их руки в белых перчатках и с длинными деревянными палочками — всё мелькало перед глазами, переливаясь неслыханными красками. Эх, увидел бы всё это зограф Опанас... Петрусь отчётливо различал гетмана, врезанного вместе с белым конём в жёлтый фон высокого помоста. Всё увеличивалось в размерах. Он уже сунул за пазуху руку, чтобы вытащить писанную украдкой суплику, на бумаге, выпрошенной за деньги у полкового писаря, оглянулся, не помешает ли Денис, но в это время новым громом ударили барабаны, а земля из-под сапог выскользнула и накрыла его с головой. Стало темно...
С плакучей вербы свисает Степаново лицо. Рядом окровавленный Денис — его держат за руки сердюки с оголёнными саблями.
Петрусь поднимает голову. Деревянный помост опустел, а по дороге медленно продвигается тот самый возок, который недавно привёз преступников. Золотой соломы теперь так много, что она переваливается через грядки. Сквозь неё просачивается и капает в песок кровь... Петрусь хочет что-то сказать, хватаясь за пазуху, но, к своему удивлению, только шевелит губами...
10
В августе казацкое войско стало табором посреди гетманщины, чтобы быть недалеко от возвещённой по приказу царя Киевско-Печерской фортеции.
Мазепа не знал, куда придётся выступать. Не знал, поскольку того не решил ещё царь, а не решил потому, что король Карл, наверное, сам раздумывал, куда вести шведов: на Москву или на Санкт-Петербург?
Русские извещали: шведы поели всё найденное в земле возле городка Радошковичи. Как только спали весенние воды, враг двинулся дальше. Русские отходили, как писал гетману царь, руководствуясь добрым воинским разумением, изматывая неприятеля, в удобных местах стремясь его поколотить. Однако на речке Бабич полки неудачно заняли оборону. В тумане противник напал на дивизию генерала Репнина, и, хоть царские солдаты положили три тысячи наступающих, всё же они отошли, оставив свои пушки. После такой баталии на генеральном консилиуме в Шилове решено переправить армию на левый берег Днепра. А через несколько дней к Могилёву приблизились шведы.
Мазепа терпеливо растолковывал старшинам, какая страшная опасность угрожает царю. К Москве свозят пушки, размещают их на кремлёвских стенах. А есть перед Кремлем большая и красивая церковь Василия Блаженного — так её сносят, чтобы за ней не укрывались перед приступом шведские воины... И ещё, виня за поражение генерала Репнина, царь сделал его простым солдатом. Да поможет ли?
Мазепа забыл о болезнях. Неустающие губы твердили одно и то же. Старшины разносили новости по войску. Добавляли от себя. Между казаками новости обрастали подробностями. Как устоять царю?
А в один из таких хороших ясных дней, когда войско казацкое держалось ещё Белой Церкви, в тамошнем замке собралось несколько полковников и старшин, тех, которые недавно написали на бумаге, что бы они хотели иметь от гетмана, от царя или там ещё от кого, кто в силе. Сидели генеральный обозный Ломиковский, генеральный есаул Гамалия, полковники Апостол, Кожуховский, Горленко, Зеленский. Всё получилось так, что даже Орлику было неведомо, созывалось ли бунчуковое товариство, или же сбежалось оно случайно. Старшины затаили дыхание, завидя знакомую бумагу в руках у гетмана. Мазепа вытащил её из-под подушки.
— Здесь кое-что исправил, — вздохнул он.
Старшины спешили увидеть исправленное, а когда гетман подал бумагу, стали рвать её к себе так упорно, что толстый Ломиковский прикрикнул:
— Держу, Панове, а вы читайте! Дёргаете, ей-богу, как неразумные бурсаки!
Пока читали, из шкатулки была вытащена ещё одна бумага, свёрнутая в тугой свиток. Орлик обомлел: на таком писан договор со шведским королём или с польским — видел он документ в Гетмановых руках. Орлику не верилось, что Мазепа прочтёт договор. Пока Орлик ходил за Евангелием да крестом, старшины ознакомились с написанным гетманом и готовились уже слушать дальше.
— Вот на что иду... Чернь врёт, будто я и не украинец вовсе.
Орлик закрыл глаза. Даже отступил за стол. Потрогал за поясом гранёный пистоль. Старшины бросятся вязать гетмана... Он, Орлик, закричит, что ни сном ни духом не ведает о тех намерениях, да свяжут обоих... А у Мазепы даже не дрогнет голос. Но он дочитал без страшных слов о том, что согласен отдать Украину под крыло ляхам. Прочёл в договоре только статьи, касающиеся шведского короля. Король, дескать, возьмёт Украину под свою протекцию...
Полковники засопели — Орлик раскрыл глаза. Полковники почтительно глядели на ясновельможного. Солнечные лучи пробивались сквозь мелкие стёкла красными кружочками, которые соединялись в длинную удивительную цепь, а уж она крепко связывала гетмана с бунчуковой старшиной.
— Хотели, Панове, — не дал времени на раздумье Мазепа. — Шведский король сам догадался и прислал. Есть Бог на свете. Видит он наши беды, которые терпим от москалей... Если согласны — присягните на Евангелии...
От клятвы не отказывались. Поклялся и Орлик. Гетман на него и не глядел. Казалось, он ни на кого не глядел. Орлик решил, что Мазепа давно ко всем пригляделся и всё обдумал, лёжа на красных подушках под своей рыцарской парсуной, писанной зографом Опанасом. Орлик вместе со всеми поверил, что с таким умом можно сделать всё. Ведь обмануты старшины разговорами о полностью самостийной Украине? Не сознался гетман, что нового покровителя ей готовит. Да и кого он дурит — королей, полковников, царя, его, наконец, Орлика? Может, Орлику тоже не всё читано? Да уж точно не всё... Иначе почему бумаги не даны в руки? Но гетман знает, как и кого дурить. Для его же пользы, обманутого. За это и заслуживает почёта. За это на него надо молиться.
— Дай Господи скорей увидеть Украину свободной от царей да от королей! — сверкнули слёзы на глазах у Ломиковского.
— Дай Господи! — подхватил Кожуховский, Горленко за ним, Трощинский и прочие молодые полковники.
Раскраснелся даже спокойный Апостол.
— Ни с кем не будем делить власть! А хлопов — в бараний рог! Своё государство!
— Верно! Верно! — шевельнулся на подушках гетман. — Нужно придавить, ой, нужно. А что могу? Сотню беглецов из моих поместий повесили, тысячу... Как убить дух, который появился в хлопских головах? Просил дать войска в Киев — царь отвечает: сами делайте резистентно... Запорожцы, турки, татары... Да страшнее всего — остаться с глазу на глаз со своей чернью. А если подумать — зачем же делиться доходами с царём? А? Своё государство... Сами...
— Правда! — радовались полковники. — Теперь всё будет хорошо! Своё государство!
А пока что гетман тщательно исполнял царские приказы: рассылал казацкие сотни и целые полки. Старшины, знавшие или догадывавшиеся о его тайной готовности присоединиться к совету полковников, удивлялись. Давно ушли на помощь Сенявскому Киевский да Белоцерковский полки — где они теперь? Сейчас вот посылаются под Смоленск Нежинский и Переяславский. А сколько казацкого войска в Литве, а под городом Пропойском? Будто бы ещё собирается двинуться в Польшу и полковник Трощинский... Кто же защитит Украину?
Тем временем привезли новый указ: приготовить конницу для нападения на вражеские обозы! Царь писал собственноручно: «Мы бы очень хотели, чтобы вы сами были с той конницей, но знаем о вашей болезни, а потому принуждать вас не можем. Следите за порядком и тишиной во всех ваших городах и сделайте необходимое, дабы люди не слушали неприятеля, если он ворвётся на Украину и начнёт распространять там свои универсалы!»
Прочитав письмо при всех старшинах, гетман смяк на подушках и начал диктовать Орлику:
— Спасайтесь, люди! Идёт на вас враг злой и вероломный... Зарывайте в землю хлеб, зарывайте глубоко своё добро, деньги, церковный скарб, потому что в ненависти к православной церкви никого и ничего не щадят лютеране-шведы!
Высохшие веки с тоненькими красными жилками закрывали слинявшие глаза, некогда очень красивые и яркие, — вот они на парсуне! При страшных словах содрогалось немощное тело.
И понеслись из церквей и монастырей по гетманщине молитвы, чтобы милосердный Бог помог скорее изгнать из русских земель супостата-шведа. Молились в каждой хате, а гетманские универсалы висели на церковных стенах, на монастырских воротах, на корчемных дверях. Грамотные читали до хрипоты, а желающих послушать собиралось всё больше и больше, хотя, кажется, не оставалось уже человека, который по нескольку раз не слушал страшного чтения. Перед универсалами думалось, что всё то, может, и враньё, будто бы гетман тянет ляшскую сторону, будто бы он сам тайный католик. Если бы католик, то уж лучшего времени ему не найти...
Часть вторая
1
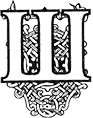
ведское войско, несколькими колоннами придвинувшись к Днепру, вступало в город Могилёв. Впереди, в блеске сбруи и оружия, скакала Gard du corps du Roy
[12] — лейб-гвардия. За нею топали сапогами пехотные полки, везли пушки. Очень долго двигались обозы с генеральским имуществом, с королевскою казною, офицерским скарбом, крытыми повозками интендантов, с шумными кёнигсбергскими купцами, торговцами, всякого рода маркитантами и маркитантками, менджунами. На многих повозках смеялись белозубые горластые женщины и размахивали чёрными ладошками ребятишки. В нескольких каретах проехали королевские любовницы, среди которых осмелилась улыбнуться лишь белошейная и белогрудая Тереза. Ещё дольше гнали табуны лошадей. Потом покрасовались медными и стальными доспехами драгуны в высоких меховых шапках. А замыкали колонну рейтары.
Король с пригорка, от перекосившейся корчмы, в окружении нескольких хмурых драбантов рассматривал армию, уверенный, что никто больше не видел её во всей полноте и силе. Армия, припоминал, создана ещё умом короля Густава-Адольфа. Теперь можно гордиться ею, как турецкий султан гордится своим гаремом. Показалось, что сравнение стоило бы передать камергеру Адлерфельду, он — premier gentil homme de la chambre
[13] — человек молодой, очень образованный, или духовнику Нордбергу (хм-хм!), чтобы они записали в свои книги, — они подробно описывают поход. Однако их не было рядом.
На корчемном дворе перед драбантами сидели в сёдлах только двое молодых генералов — Лагеркрон и Спааре. Они засмеялись, увидев королевскую улыбку. Засмеялись и другие генералы, как раз проезжавшие мимо пригорка, засмеялись и офицеры. Солдаты, как природные суровые шведы, костяк полков, так и остальное воинство — и поляки, и саксонцы, и волохи, — тоже воспринимали отзвуки королевской улыбки.
— Vivat! Vivat!
[14] — раздалось тысячеголосое.
Радоваться было чему. Вместо болот и лесов, мокрых, сплошь зелёных, открылись зеленовато-жёлтые поля. Дороги потянулись песчаные, древние, глубоко врезанные в суховатую землю, будто канавы, и в них уже не проваливались окованные железом тяжёлые колёса, и не приходилось разрывать строй, чтобы солдаты вытаскивали застрявшую телегу. Правда, кое-где виднелось много поваленных деревьев. То московиты устраивали преграды. Высланные вперёд королевские отряды поджигают завалы или прокладывают обходные пути. Над дорогами, на возвышениях, — сёла. Взяв из драбантовых рук подзорную трубу и наведя её с корчемного двора на слепящую полосу воды, король удовлетворённо разводил тонкие губы; впрочем, от него, как и всегда, редко услышишь выразительное слово...
Вечером солдаты заполнили Могилёвскую фортецию, близлежащие сёла, хутора, каждое строение, уставив высоты возле монастырских дворов бесчисленными возами, конями, палатками, заняв Днепрово побережье до самого города Шклова. Везде заслышался рёв скота, запахло свежей кровью, дымом, жареным мясом, заслышались хлопские стоны, женский визг, детский плач, собачий лай, пьяные песни, крики торговцев — солдаты заслужили себе хорошую еду и развлечения: король приказал взять с города контрибуцию! В тот же вечер за Днепром взвились красные сполохи. Из высокого замка широкая вода казалась таинственной жидкостью, которая отделяет этот мир от иного, непонятного, невидимого, а потому и страшного.
Генералы посматривали на зарево. Упившись за столами, как и солдаты возле торговых палаток, да ещё после чьего-то замечания, что за Днепром, как и до Днепра, московитские генералы принуждают население прятать в землю съедобные припасы, жечь на корню зерно, а само население будут разгонять по лесам, желая и дальше стелить пустыню, — закричали, что король выведет войско в такое место, где московиты и не думают видеть его солдат, а потому и не успеют ничего поджечь. В местечке Радошковичи он выпестовал искусные планы, дабы и впредь вести своих воинов так же умело, как вёл их до сих пор.
Никто из генералов не знал, куда пойдёт армия. В Радошковичи приезжал и долго пробыл там рижский генерал-губернатор граф Левенгаупт, которого король очень ценит, как и фельдмаршала Реншильда. Однако Левенгаупту велено лишь готовить рижские полки в поход.
На Днепре, при свете первых же дней, военачальники догадались, как манит короля противоположный берег. Так манили Александра Македонского пространства персидского царства. Подобные сравнения королю приятны. Генералы торопились направлять разговоры на похвальные аналогии. Там, за Днепром, в густых лесах, кое-где разбавленных светлыми полями, — царские войска, и в первые же дни генералы постарше стали высказывать предположения, будто московиты, а среди них и гетманские черкасы, ночью переправляются через Днепр наносить супротивнику вред. Король помалкивал. Молодые же генералы Спааре и Лагеркрон высчитывали вслух, сколько лье наберётся отсюда до старой царской границы, — вроде бы всего несколько дней пути.
Не зная, куда придётся идти дальше, многие из военачальников верили, что в Могилёве король дождётся Левенгаупта. У рижского генерал-губернатора огромный обоз, продовольствие, собранное в прибалтийских землях, порох, пушки... Наберётся тысяч шестнадцать опытных солдат. Тогда вплоть до Москвы не возникнет надобности в услугах толстяка генерал-квартирмейстера Гилленкрока, как называет его король — grand marechal des logis...
[15] Но ждать согласны граф Пипер, Гилленкрок да ещё несколько слабодушных генералов. А вот фельдмаршал Реншильд да молодые генералы Лагеркрон и Спааре — с ними король считается, если он с кем считается! — все трое убеждены, что и без Левенгаупта армия получит всё. Достаточно вступить в царские земли. Московиты, спасаясь, бросят имущество. Уже не впервые бросали они свои пушки... Итак, король пойдёт сразу за Днепр? Или подождёт Левенгаупта? Глядя на молчаливого, гордого своими победами, будто древние викинги, о которых ему каждый вечер читает саги его тафельдекер Гутман — lесteur du Roy
[16], но, как все знали, очень нетерпеливого короля-полководца, большинство генералов скоро прониклись мыслями фельдмаршала Реншильда: нужно немедленно переходить реку.
Терпение иссякло на третий день. Переплыв Днепр верхом на коне вместе с молодыми генералами да ещё с несколькими эскадронами драгун, даже не взяв достаточного количества драбантов, оглядевшись, король увидел яркие церкви и костёлы, остроконечные башни замка, обмытые ночным дождём красные стены, когда-то выщербленные ядрами. Он долго не стряхивал с бот фортов воду, любуясь их блеском. Драгунский полковник тем временем выскочил с подчинёнными на круглый холмик, облепленный светлыми камнями. Король сразу двинулся туда — полковник послал драгун ещё дальше, чтобы не рисковать спокойствием монарха. Он слышал, как отговаривали того от опасной прогулки первый министр граф Пипер и генерал-квартирмейстер Гилленкрок.
Король презирал предосторожности. Глядя на город с противоположного берега Днепра, он ещё сильнее поверил в пророчества придворного знахаря Урбана Гиарна: Лев Севера победит Орла Юга, как Александр Великий победил перса Дария. Всё получается именно так. Потому Урбан Гиарн, сопровождая войско в историческом походе, может гордиться своими пророчествами. Он часто стоит на Могилёвских крепостных стенах, завёрнутый в чёрный плащ. На лице с перебитым носом — загадочная улыбка. Никто не подходит к провидцу. А среди населения ширятся слухи, что короля поддерживают неземные силы...
Теперь, когда голодные и холодные болота позади, когда войско ест и пьёт за счёт Могилёвского поспольства, — теперь и без пророчеств понятно, что действительно стоило с презрением отбросить мирные предложения царя Петра, переданные через английских, французских и австрийских дипломатов. Король сызмальства наслушался о богатствах этих краёв. Густав-Адольф отнял у московитских властителей много земель и принудил наконец подписать в Столбове договор, по которому те земли вплетены в шведскую корону. Поступок мудрый, хоть у московитов ещё много владений. Царь задумал возвратить утерянное. С превосходящими военными силами он кое-чего достиг. Но теперь, если, конечно, возникнет необходимость, новый польский король Станислав приведёт помощь вместе с полками генерала Крассау. Полковник Понятовский, посол, сопровождает шведского короля в походе. К тому же Речь Посполитая обеспечивает тылы. Ещё дальше, в приморских фортециях, — армия генерала Стенбока. А за морем — сама Швеция. Там сестра, принцесса Ульрика. На море — сильный флот. Везде спокойно и надёжно...
Днепровский ветер приятно обдувал спину, щекотал впалые щёки — именно впалые. У короля заострился и без того длинный нос. Кожа постоянно шелушилась от славянских ветров, от славянского солнца и воды, и всем лейб-медикам, даже хирургу Нейману, ничего не поделать с такой кожей. Король — настоящий воин. Его не беспокоит, что, как говорят генералы и офицеры, армия нуждается в продовольствии, потому что местные жители зарывают свои запасы в землю, а на кёнигсбергских купцов, подвозящих товары, нападают партии московитов. С подобными разговорами не стоит бороться — король безразлично растягивает губы, каждое утро рассматривая в зеркале худое длинное лицо. На охоту берут голодных собак. Король сызмальства разбирается в охоте. Пришлось, как сказал Цезарь, multum in venationibus esse
[17]. Ещё очень молодому, ему пригоняли в дворцовый зал овец, и он с товарищами сыпал удары в мягкую шерсть. Тёплая кровь орошала каменный пол, колонны, стены, старинные тёмные портреты предков, наконец — носки ботфортов. Но все чувствовали себя превосходно, словно в настоящем сражении.
Леса, просторные неизведанные земли, богатства — всё лежало теперь перед королём. Перед ним был Восток, как и перед Александром Великим...
Вдруг от мушкетного выстрела треснула тишина. Драгунский полковник бросился наперерез монарху:
— Ваше величество! Назад! На тот берег!
Мало надеясь на свой голос, полковник закричал драгунам, которых осталось с десяток — другие в перестрелке! — переправлять полководца под защиту крепости. Ужас драгун перед королём оказался сильнее ужаса перед полковником — они опускали тяжёлые палаши. Королю во что бы то ни стало захотелось взглянуть на московитов, которые всё ещё подчиняются своим господам. Молодые генералы уже торчали на холме. Король круто повернул жеребца, едва не свалив одного драгуна, однако навстречу, высекая копытами искры из белых камней, разбросанных по холму, посыпались всадники. Полковник в отчаянье дёрнул поводья королевского жеребца и вздыбил его. Король палашом ударил жилистую руку, но полковник дёрнул поводья другой рукой и всё-таки повернул жеребца, а драгунские лошади вогнали его в воду. Посреди реки удалось оглянуться. Плотной стеною поднимался в небо загадочный славянский лес, и, если бы не дым да не пыль, и не догадаться, что там полно московитов. А что их полно, сомнений не оставалось.
За экскурсией внимательно следили из крепости. Как только кони, потеряв под копытами дно, подняли над волнами головы и поплыли с громким фырканьем, в то же мгновение на валах ожили пушки.
Возле крепостных ворот генералы подтолкнули вперёд лейб-хирурга Неймана. Граф Пипер, высокий и крепко сколоченный мужчина, в огромном рыжем парике, прикрытом широкополой шляпой с длинным выгнутым пером, в белом жабо, завидев невредимого короля, задохнулся от волнения:
— Ваше величество...
Духовник Нордберг осенил короля золотым крестом и поднял по-женски белые руки в широких чёрных рукавах. Камергер Адлерфельд, прижимая острым подбородком жабо, серебряным карандашиком записывал что-то в книжку. В словах графа, как и в словах генералов, особенно тех, что из уст Гилленкрока, чувствовалось осуждение ненужной, по их мнению, отчаянности. Воистину venatum ducere invites canes
[18]. Король отвернулся, чтобы послушать восхищение умных людей, например молодого принца Вюртембергского, своего родственника, из-за болезни не полезшего в холодную воду, или доверенного лица польского двора — полковника Понятовского, или своего секретаря Олафа Гермелина.
— Это похоже на Гранин! — послышалось оттуда. — Heroïsme!
[19]
Та сторона заслужила нескольких французских ласковых фраз. Латынь — язык государственного деятеля, «французчина», как говорится в Польше, — язык солдата. Что ж, можно смело отдаваться воинскому азарту. Короля не заденет ни одна пуля. Нейман при таком пациенте забудет эскулапову науку. Об этом было сказано громко, а Нейману разрешено осмотреть раненых драгун, чья кровь окрасила днепровские волны, волны древнего Борисфена, как называется эта река у Геродота.
— Heroïsme!
Король посмотрел вверх — на стене стоял Урбан Гиарн. Казалось, кривой нос его ещё более покривился в загадочной улыбке. Из окон, из различных щелей за провидцем неустанно следили обыватели.
Возбуждённые драгуны, похлопывая голыми ладонями мокрых коней, наперебой говорили о черкасских пиках. Фельдмаршал Реншильд неоднократно намекал, что черкасы — так называли в королевском окружении гетманских казаков — с детских лет научены владеть оружием и конём, что у них воинственны даже женщины. Если присоединить их, таких помощников, — удастся договориться об общих действиях с турками. Да будет ли надобность в турках?
Драгуны разбрелись по берегу. Лагеркрон и Спааре громко рассказывали более старым генералам о вылазке. Те почтительно переспрашивали. Драгунский полковник стоял бледный, нервно подёргивая рукою в коричневой перчатке поводья послушного коня. Полковник лишь теперь понял бездну своей вины. Его могут расстрелять под стеною, на которой стоит Урбан Гиарн... Полковник во время сражения вмешался в действия полководца. Французские наставления в таких случаях неумолимы. Но королю понравилось выражение глаз полковника. Даже припомнилась его фамилия — Фриччи.
— Вы хотели стать моим Клитом!
Неизвестно, знал ли полковник что-нибудь о Клите, спасителе Александра Македонского при переправе через реку Граник, но его лицо задрожало, глаза вспыхнули радостью, как у человека под виселицей, которого неожиданно помиловали.
Урбан Гиарн по-прежнему глядел с высоты за Днепр. Там короля ждала бессмертная слава — gloria belli atque fortitudinis
[20]. А нападают совсем не московиты, а черкасские казаки. Шведская кровь сегодня окрасила волны Борисфена, великой славянской реки...
В конце обеда король взглянул на графа Пипера — тот подал знак, и камердинер ввёл в зал седого человека с тёмным лицом и в монашеской одежде.
Генералы переводили взгляды с короля на монаха. Много людей ходит сейчас под защитой монашеской одежды.
Кивком головы король разрешил сказать, кто монах на самом деле, наблюдая, какой вес имеет всё это для полковника Понятовского. Генералы отложили ложки, отодвинули кубки, взялись за трубки. Понятовскнй поднял голову.
А монах заговорил латынью, кое-кто украдкой переспрашивал, о чём говорится. Камергер Адлерфельд и духовник Нордберг переводили слова для обскурантов. По поручению Мазепы посланный просил его королевское величество вступить с армией в гетманщину на известных обоим властителям условиях... Монах произносил слова быстро, как стихотворение. Замолчал. Присутствующим показалось, что он уснёт, как старый обозный конь. Но генералы слушали спокойно. Всё решает мудрый король.
Фельдмаршал Реншильд, изморщив и без того невероятно изуродованное лицо, похожее на плохую театральную маску, напомнил:
— Сегодня, ваше величество, вы их видели в деле. Если бы черкасы нам не сопротивлялись...
Сказал и шевельнул жёсткими волосами, коротко обрезанными над широким лбом. Король смотрел на него и не замечал дебелого графа, который задыхался от жары и не успевал утирать белым платком пот, что прозрачными каплями скатывался из-под огромного рыжего парика и вот-вот мог испачкать белоснежное жабо, такое приметное в просторном зале, где жабо ещё только у камергера Адлерфельда, а на всех остальных простые воинские кафтаны.
Секретарь Гермелин принёс чёрную шкатулку. Король быстро скользнул длинными пальцами по сверкающей лаковой крышке. Монах согнал с себя сон:
— Политика, ваше величество...
Свитки бумаги в королевских пальцах были универсалами Мазепы. Они недавно висели на корчемных дверях и призывали черкасов к решительному отпору, если бы шведы пришли на Украину.
Когда монаха увели, король стал ходить по залу, останавливаясь перед рыцарскими доспехами возле стен, словно прикидывая их к своей высокой костлявой фигуре. Присутствующие решили, что доспехи для него коротковаты. Ждали разрешения высказаться.
Первым заговорил пузатый Гилленкрок. Обкалывая взглядом королевский плотный кафтан и не осмеливаясь посмотреть в королевские глаза, с усилием ворочая пухлыми красными губами, советовал дождаться в Витебске Левенгаупта. Сила королевской армии известна Европе, а черкасский гетман, осторожно промолвил толстяк, ожидает для себя пользы. Последнее прозвучало как полувопрос, однако ответа не последовало.
Граф Пипер согласился с предложением вести войско к Витебску, о союзе с черкасами говорить воздержался.
Зато фельдмаршал Реншильд ухватился за предложение Мазепы. На Москву нужно ударить с территории Украины. Там можно воспользоваться огромными запасами продовольствия, ибо зачем шведскому солдату срезать в поле колоски, вымолачивая зерно и размалывая его в походных жерновах, если рядом богатые земли! Да ещё какую помощь подаст черкасский народ! Ведь черкасы — фельдмаршалу известно! — не любят московитов, а московитское войско очень слабо в сравнении с казацким. Фельдмаршал под конец смял, как тряпку, изрубцованный лоб, громко стукнул об пол шпагой, чем, как и своими словами, вызвал восхищение Лагеркрона.
— Браво! Vivat!
Всех интересовало, что скажет Спааре, — но тот молчал, кусая губы. Что ж, ему, безусловно, поскорее хочется в Москву. Он уже тамошний комендант...
Из нескольких королевских слов получалось, что мир у царя с турками недолговечен. А тем временем, добавил король, генерал Любекер возьмёт город возле моря, заложенный царём на шведских землях и названный городом святого Петра. В московитской земле разгораются восстания. Например — на Дону. Царь рубит головы непокорным подданным. Нужно использовать и недовольство запорожских казаков.
Хотя король не сказал ничего определённого, однако почти все поняли, что он жаждет генеральной баталии, чтобы в один день уничтожить армию супротивника.
Генералам оставалось ждать.
Все верили, что после сегодняшней прогулки король недолго усидит в Могилёве. Кровь на днепровских волнах упомянута неспроста.
2
— Пить! Пить!
И круторогие волы, и чумаки в тёмных длиннющих рубахах, и встречные люди — все, измученные жаждой, смотрели на возы, окутанные воловьими кожами, наполненными прозрачной водою.
— Пить... Пить... — только и раздавалось, однако никто не прикасался к питью.
Чумацкий ватажок в который раз твердил голосом купца Яценка:
— Здесь одна соль... Басаринка для гетманских прислужников...
Сквозь переплетение чумацких рогов иногда проглядывала мать. Бежала, не останавливаясь, Галя с ярким монистом на шее. Яценко снова говорил о басаринке, а мать зачерпнула кружкою солёной воды и коснулась деревянным краешком истомлённых губ:
— Пей, сынок!
Все мгновенно оглянулись. Остановились возы.
— Выпил? Выпил!
Вода пахла рыбой и дёгтем. Он пил и пил, но не напивался. Тошнота разрывала тело. Голову окутывал розовый туман. И всё начиналось сначала.
Отчётливо завиднелись чьи-то там ноги с длинными тонкими пальцами и бледными ногтями. Слева — окно. Рама немножко приподнята — в отверстие просовывается вишнёвая ветвь. На ней упругие вишни. Солнце, ласковый ветерок. Вишни исчезли. И снова появились. А ещё на стене чьи-то глаза. Да это же малеванье... Это же Божья Матерь.
— Так и ноги мои! — кричит Петрусь.
Он спускает ноги с широкой дубовой скамьи, на которой лежал. Земляной пол греет только в тех пятнах, которые вымалевало на нём горячее солнце. Петрусь раскрывает дверь, и то, что видит за ней, прогоняет сомнения: это же светлица в отцовской хате! Вот до мельчайшего мазка знакомые иконы... Но почему такой лёгкой кажется голова? Проводит по темени рукою — и останавливается там, где шёл. Затем бросается к зеркалу, вмурованному в стену светлицы между двумя окнами.
— Господи! Кто это?
Со сверкающей поверхности смотрит большеглазое привидение. Однако даже без намёка на то, что присуще каждому человеческому лицу: без бровей, без волос надо лбом, даже без век. Голая, как паляница хлеба, голова. Он проводит снова рукою по тому месту, где всегда были кудри, и его снова одолевают сомнения: это сон? Содрогается, завидев чьи-то сверкающие глаза и розовые ленты.
— Петрусь! Сердце моё! Уже поднялся? Босой...
Его обвивают ласковые руки. Так не снятся. Он не спит.
— Галя... А где я?
— Ой, обожди... Сапоги подам... И матушке твоей скажу...
Солнечные лучи уже вылепили на пороге замершую женскую фигуру с тёмным, в тени, лицом, с почти чёрными морщинами.
— Выздоровел, сыну!
Мать припадает к его плечу, а он, уже в сапогах, принесённых Галей, вдруг ощущает в ногах и руках страшную слабость.
— Ничего не помнишь, Петрусь?
Глаза в морщинах — мать очень состарилась.
— Сыну, люди советовали приготовить тебе на смерть рубаху. Такого немощного привезли тебя чумаки. А мы с Галей поили тебя травами.
Знакомая кружка и вправду на столе. Она не снилась.
— Кудри отрастут! — утешает Галя. — Брови тоже... Такая уж болезнь.
— Мне лучше... Зачем слёзы, мама?
— Вот и слёзы, что выздоровел. Смилостивился Бог... Выплакалась я за отцом твоим, так теперь от радости...
— Тато умер? — перехватило Петрусю дыхание.
— Умер, — становится каменным лицо матери. — Уже у Бога он был, когда тебя привезли. Сырая земля ему дверь залегла, окошки залепила...
Петрусь опустился на скамью. Навалилось тёмное липкое забытье. И когда мрак развеивается — снова чувствует на себе нежные руки Гали.
— Петрусь, братику... Полежи ещё.
Отец казался вечным. Пусть уж зограф Опанас... Два года тот хирел. А отец усадил однажды малого сына на коня, без седла, приказал крепко держаться за гриву, послал отвезти в поле деду Свириду капщук с табаком. За первым же оврагом на маленького всадника завистливо глянул пастушок Степан, который уже помогал деду в работе. Хлопцы с тех пор и подружились.
И вот они все на крыльце: мать, Петрусь, Галя... Галя принесла шапку-бырку — под шапкой голова приобретает какую-то весомость.
— А брови дай тебе намалюю! — шутит Галя.
По двору бегает наймит. То к сараям, то к конюшне, то с вилами, то с топором. Посматривает и на мушкет, прислонённый к белой стене.
— Вот, сыну! — вспоминает мать. — Галина бабуня умерла в один день с нашим отцом. Не вынесла позора. Когда-нибудь да возвратится Марко. Я же бабе крест целовала, что за внучкой её пригляжу.
Девушка смотрит на казака. Не видно в её глазах прежнего, почти дикого веселья.
— Петрусь, — подносит мать к глазам вышитый чёрным по красному рукав. — Поп в церкви такое говорил! Швед наступает...
Петрусь вдруг припоминает, что за Днепром оставлены товарищ, брат. Они, может, и врага уже встретили. Дениса били сердюки... Нужно повидать деда Свирида. Он уже пасёт в степи овец. Что посоветует старый?.. А есть и над гетманом власть! Правду говорили знающие люди. Если не пробиться к гетману ни за какую басаринку, то можно ведь пожаловаться царю!
Неожиданная мысль бодрит. Казак смотрит веселей. А в ответ разводит губы Галя. Улыбается и мать сквозь скупые слёзы. Она ещё не догадывается, что сын решил снова уехать. Вот только взглянет на своё малевание в церкви да на ту хатёнку, где столько переговорено с зографом Опанасом... Грешно думать о красках, когда казаку следует браться за саблю.
Мать вздыхает в предчувствии:
— Чернодубцев теперь на панские работы гоняют. Одних нас не трогают. А вот, видишь, мушкет на глазах. Приказываю наймиту не пускать Гузевых слуг во двор. Хвалится Гузь, что силой возьмёт Галю в усадьбу.
Девичьи глаза вспыхивают гневом:
— Сама возьму и выстрелю, пусть только придут! Я казацкая дочь!
— Верно, Галя! — говорит Петрусь, чувствуя, что перед ним прежняя девушка, которую он помнит с малых лет.
Под шум мельничного колеса в голове роятся лёгкие мысли. С одной стороны плотины нет никакого движения, полно густой тины, а с другой — плеск воды, работа, белая пена.
За валами, в полях, видны золотые снопы. Где-то там и мать с Галей да с нанятыми на жатву работниками.
Петрусь тоже собирался в поле, но мать отговорила: выздоравливай...
Медленно двинулся казак по тропинке, намереваясь пройти к отцовской могиле и к могиле зографа Опанаса. Но когда из-за высокой ржи с тугими колосьями показалась белая церковь — не удержал ног, побежал, споткнулся, упал... Поднял глаза — между золотыми крестами носятся острокрылые ласточки, роняя вниз серебряное щебетанье, сверкая ослепительными подкрыльями; совсем низко порхают воробьи; по белой стене ползают чёрные, с синим отливом мухи... И всё это купается в жёлтом свете, всё, как может, радуется ясному солнечному дню!
Поднявшись на ноги, Петрусь повернул не на кладбище, а побежал к браме — не заперто! Прошмыгнул внутрь мимо старого удивлённого сторожа с длинным ключом в руках — уже собирался запирать церковь.
— Петро! — обуяла старика радость. — Так ты уже на ногах? Вот так казак! Хвалю!
За брамой вмиг отрезало толстыми стенами все окружающие звуки. Угасла радость тёплого дня. Темень, краски на стенах, что уже начали проступать в горящем свете, влитом сквозь небольшие зарешеченные окошки... Петрусю, однако, хотелось соединить виденное снаружи с красотою внутреннего убранства церкви. Обрадовавшийся сторож между тем, забыв о ключах, опустился на каменный пол и стал вроде бы хвастаться:
— Стоят твои краски в горшочках, как оставил ты их! А хату маляра Опанаса занимает теперь рабочий люд. Так велит управитель Гузь. Он и над церковью теперь голова. А ты хоть до гетмана достучался, га?
— Нет, дедуню.
— Э, не достучался! То уж такое дело...
— Ничего, добьюсь своего.
В церкви ещё много деревянных лесов. Минуя неприметную дверь, Петрусь невольно нащупал на своём поясе ключ — никто не снял его и во время болезни, — хотел посмотреть на парсуну гетмана, но опомнился.
— Несите краски, дедуню! — крикнул.
Крикнул, а сердце ёкнуло: как можно... Краски...
Разве что попробовать?
На лесах, под самым потолком, в огромном пятне солнечного света, удалось пробыть довольно долго. Первые мазки получились короткими, они не сливались, но кисть и не старалась добиться этого, вопреки наставлениям зографа Опанаса. Нет, парубок малевал иначе. Так, как научился в воображении за последние месяцы. От первого мазка уже что-то задрожало внутри.
Новое малевание утешало и удивляло. Стоит отклонить голову — положенные полоски сливаются в сплошное плетение, очень красивое, без чётких линий. Всё колеблется, меняется, как и живая жизнь. И вот уже из струящихся красок проступают под святыми одеждами до того знакомые тёплые глаза — не то глаза матери, не то Гали, — что рука с кистью останавливается.
Старик снизу прокричал:
— Го-го-го! Живые люди... Обожди-ка... Пришли к тебе...
Двое мальчишек в одинаковых полотняных рубашечках с реденькой вышивкой были подпоясаны красными поясками. Оба казались такими красивыми на тёмном фоне, что захотелось их намалевать. Но они, отдышавшись, в крик:
— Петрусь! А Галю украли! Петрусь!
Вскоре парубок, уже верхом на коне, торчал на дороге за Чернодубом и не знал, куда направиться: то ли домой, то ли на хутор, или в поле, искать возле отар деда Свирида, или в Гадяч, просить помощи у старого Яценка. То, что получилось, показалось невероятным даже после приключений за Днепром. Управитель Гузь сказал с высокого крыльца, положив руку на изогнутую саблю:
— Девка будет работать во дворе. Есть гетманский универсал. А что мирно разговариваю с тобою — так это из уважения к твоему покойному отцу, земля ему пухом. И для тебя полно работы. Иди и подумай.
Сердюки да надворные казаки — те же самые, наверно, которые схватили Галю в овраге, куда она направилась набрать воды, только на миг оторвавшись от Журбихи, — вытолкали гостя из чисто подметённого двора, заставленного возами, возвратили недавно отобранного коня:
— Езжай... Смотри, ты такой худой — ветер свалит... Ха-ха-ха!
Ну, что делать? Если бы рядом Степан, Денис, Марко... Нужно попросить Яценко, пусть напишет царю. Решено!
Конь уже двинулся к гадячскому битому шляху, но в Чернодубе ударили в било. Петрусь оглянулся. С полей бегут к хатам люди, сверкают косы да серпы, мелькают дубины. Над панским поместьем поднимается чёрный дым...
В панском подворье как раз сцепились двое всадников: широкоплечий сердюк и незнакомый рыжий человек, подстриженный под макитру, будто где-то уже виденный, как и этот сердюк. Сердюк, конечно, из тех, кто недавно смеялся и поддакивал Гузго.
— Вот тебе, подлиза! — кричал рыжий, до ушей раскрывая свой рот.
— А это тебе, голодранец! — хрипел сердюк, брызгая слюною.
На выручку рыжему бросился огромный всадник в красном жупане. После удачного сабельного удара сердюк мешком свалился на песок. Освобождённый конь его вздыбился на задние ноги, будто ослеплённый, — отбросил сумасшедшим движением в сторону Петрусева коня.
— Оце! Держите коня!
Огромного всадника узнает каждый: батько Голый! Журбиха говорила, что недалеко от Чернодуба замечены гультяи. Правда. Рыжий — это же гультяй Кирило...
— Эх, вражий сын!
От батька Голого Петруся отделила кучка всадников, но через несколько мгновений он всё-таки приблизился к знакомому крыльцу — там снова стоял управитель, только уже покорный гультяям. Кирило, батьков побратим, содрал с управителя смушковую шапку, смял её в ладонях и со свистом швырнул в толпу.
— Поклонись громаде!
— Обижал людей? — снова обратил на себя всеобщее внимание батько Голый.
— Зверь! — завизжал из толпы Панько Цыбуля. Он дрожал, приближаясь с вилами к своему давнему врагу, а тот закрыл руками бледное лицо, прячась за Кирилову спину. — За все обиды его стоит убить! На кол! День и ночь заставлял работать на Гусака!
— На кол! — ярился народ.
— На кол! На кол!
Цыбуля убил бы управителя, да ему дорогу преградил батько Голый.
— Обожди! И так Мазепа пишет о нас царю, будто беззаконие чиним! А мы людей защищаем. Оце... Знаю этого управителя. Перед всеми говорю: будет ещё кривда — повешу на дереве! А сейчас берите, люди, что только видите! Это ваше добро! Замки все сбиты!
Народ с радостью бросился исполнять приказ.
Петрусь предстал перед атаманом:
— Батько! Прикажите отпустить сироту!
— Ого! — удивился батько. — Маляр? Да узнаю, узнаю, подходи! Сироту? Кто запер?
— Он! Ей-богу, он, маляр! — заорал рыжий Кирило, тоже бросаясь с объятиями.
— Сироту Галю отпустите! — еле слышно промолвил Петрусь уже в крепких батьковых объятиях.
Гузь, не дожидаясь приказа, кивнул старой наймичке, стоявшей на крыльце со связкою громыхающих ключей, — она куда-то сходила, раскачиваясь на толстых ногах, и возвратилась с Галей.
— Петрусь! — Галя прижалась к нему, словно к брату. Он не успел ответить и на батьков вопрос: «Твоя невеста? Славная дивчина!» Он смотрел в девичьи глаза. И Галя ничего не сумела поведать, потому что над панским двором раздался крик рыжего Кирила:
— Сердюки на дороге из Гадяча! Полк!..
Чернодубцы посыпались из панского двора, таща за собою всё, что успели прихватить. Хотелось понадёжней спрятать.
Батько Голый не испугался. Не впервые встречаться с врагами. Но если целый полк... Властно крикнул:
— Хлопцы! В дорогу!
Потом Петрусю:
— И тебе надо с нами! Ничего не добился у гетмана... Девушку бери с собою, не обидим! А здесь может случиться по-всякому.
Гультяи выводили из конюшен коней, сбивая их в табун. На возы
укладывали барахло, которое не успели унести чернодубцы.
Гузь зловеще глядел на всё происходящее с высокого крыльца, однако не сказал ни слова, помня предупреждения атамана.
Петрусь сдавил Гале руку. Бросился выбирать для неё коня.
3
Где-то уже пробовали голоса молодые петухи. Где-то ревел скот.
Выйдя из мужицкой избы, царь послал драгунские разъезды с приказом сержантам узнать, тщательно ли исполняют жители указ об оголожении местности.
Разъезды растаяли в тумане.
Перегоняют ли там скот, или же хозяевам безразлично то, что вот-вот приблизятся шведы?
Не один хлоп отдал под батогами Богу душу... Сколько их умерло в болотах на берегах Невы? Сколько, дураков, порублено и повешено за непокорность? Хоть бы и на Дону, где Булавин таки поднял новый бунт! На Дону теперь войска во главе с князем Василием Долгоруким, родным братом убитого бунтовщиками князя Юрия Долгорукого. Смута продолжается, хотя Булавина уже нет на свете. Даст Бог — родятся новые хлопы. Ценен среди них только тот, который научен военному делу. А ещё жаль утраченных пушек. Жаль больше прочего. Выплавить металл. Изготовить стволы. Изготовить новые ружья. Пушек мало вообще. Никите Демидову каждый день посылаются депеши: давай металл... Но где тонко — там и рвётся. Строго наказан генерал Репнин — будет другим наука. За плохое взаимодействие и взаимовыручку под Головчином, на реке Бабич, получил порицание и генерал Алларт.
Царь немного постоял в крестьянском дворе, убеждаясь, что здешние жители заранее оставили обжитые места. Огороды вытоптаны, поля сжаты. Везде кучи пепла. Много лошадиных и коровьих следов. Всё угнано в лес. В этом селе надёжный войт.
Между деревьями запылали полосы солнечного света. Лес просыпался. Свет добрался до пушек. Сверкающие стволы слепили глаза. Солдаты спали в пустых избах, во дворах, под заборами, на брёвнах, на траве. Пока нет команды — будут спать. Пусть день на дворе, пусть ночь.
Выйдя за ворота, сделанные из таких могучих брёвен, что за ними можно выдержать осаду, царь заранее подавал предупредительные знаки, чтобы часовые не драли понапрасну горло. Колонна, пробираясь лесами и болотами, не потеряла ни одной пушки и ни одного солдата. А в колонне три полка из дивизии фельдмаршала Шереметева. Они счастливо оторвались даже от конных разъездов супротивника. Солдатам — отдых.
Но куда направляется король?
Пока шведы стояли в Могилёве, царь следил за их действиями из городка Горки. Войско, заслоняя дороги на Москву, готово ежечасно выступить туда, куда направится супротивник. Шведы в первых числах августа, неожиданно переправившись через Днепр, двинулись на юго-восток, к городу Черикову. Избранное направление свидетельствовало, что умершего на допросе в Дзенцеловичах человека воистину прислал курфюрст Август: король Карл рвётся к Москве! Царь тотчас же двинул главные силы к городу Мстиславлю, одновременно опасаясь, что король каким-то образом очутился позади русских, как уже не раз получалось в Польше. Отряды лёгкой кавалерии, вместе с гетманскими казаками, рассыпались на огромных просторах, тревожа шведов на марше, поджигая строения, что служат им убежищами, мешая продвигаться вперёд, особенно на переправах. Вскоре стало известно, что король от Черикова повернул снова на север, пробует форсировать реку Сож. Однако шведская армия так растянулась по лесам, что никто достоверно не скажет, где её основные силы. Куда всё-таки рвётся король?
Гонцы привозят от кабинет-секретаря Макарова много бумаг, и на все содержащиеся в них вопросы необходимо дать ответы. А вести безрадостные. Из Санкт-Петербурга от Апраксина: шведский генерал Любекер, выступив из города-фортеции Выборга, дошёл до Невы, переправился на левый берег. Царская армия из-за своей малочисленности ожидает для битвы подходящего момента. Длинный путь преодолел корпус рижского генерал-губернатора Левенгаупта. Но если ударить неожиданно, с большими силами... Нужен перевес в силе, если вступаешь пусть и в незначительную стычку. Особенно теперь. Потому и даются приказы Макарову внимательно собирать самые ничтожные данные о корпусе Левенгаупта. И ещё гонцы привезли много бумаг. Царь отвечал собственноручно, иногда просто сбоку писал указание Макарову или Головкину да Шафирову, что следует отвечать. Теперь годилось бы поспать. Стоит лишь отведать дыма от крепкого турецкого табака...
В Санкт-Петербурге царь окреп, хотя долго болел: била лихорадка, прихваченная в болотистых лесах. Сил придавали встречи и беседы с Апраксиным, Шереметевым, но более всего — с Данилычем. Много морских миль пройдено с ними на военном корабле, построенном на санкт-петербургской верфи. В море шведскому флоту закрывает дорогу к новому городу фортеция на острове Котлин!
Ненароком задетое яблоко упало на носок ботфорта, и за расстёгнутый ворот рубахи посыпалась роса. Царь стряхнул капли движением головы, шевельнул короткими усами. Яблоко положил в карман, чтобы не досталось шведскому солдату. За селом, в лесу, раздался топот копыт. Солнце, такое весёлое вначале, уже окуталось тучами. Царь остановился. Неужели так быстро добрались сюда шведы? Топот привял за избами. Ещё через несколько тяжёлых мгновений из-за деревьев, высоко поднимая колени, выбежал дежурный офицер в больших для его ног ботфортах.
— Господин полковник! Гонцы... Князь Михайло Михайлович Голицын вступил в баталию с генералом Россом!
У царя дрогнуло колено, словно он зацепился каблуком за острый сук.
— Не дело! Нет... Поменяй ботфорты. Эти тебе велики.
Офицер испуганно смотрел, как корчит царя болезнь. Царь будто даже забыл, что лично приказывал Голицыну и всем генералам бить любую шведскую колонну, как только она отделится от главных сил. А теперь... Страшно потерять самого зряшного солдата. Страшно потерять пушку. А более того опасался поражений новой армии. Поражения плохо влияют на войско. Да сумеет ли Голицын добиться виктории? Выдержат ли его солдаты напор железных шведских колонн? С усилием переставляя сведённую болью ногу, царь прошептал:
— Поднимать колонну!
Через полчаса колонна заполнила лесную дорогу. Солдаты хмуро ругались в усы. Где приостановится телега с пушкой, провалившись колёсами в грязь, — там уже царь. Крикнет громогласно, спрыгнет с седла, вопьётся в колесо — и вот оно катится по сухому!
— Вперёд! Вперёд!
Послышался пушечный рёв. Были среди солдат такие, кто уже прошёл с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым Ингрию, а были и новенькие, хорошо подмуштрованные, но настоящего боя не нюхавшие.
— Швед, братишки, дубасит!
— С нами Бог!
Молодые солдаты настороженно прислушивались к выстрелам, ловили слова бывалых, следили, рядом ли царь. Что говорить, издревле крепка солдатская вера в то, что смерть держится подальше от царя, — а вот и он в расстёгнутом кафтане, в надвинутой на глаза треуголке.
— Не трусь! Вперёд! С нами Бог!
Он повторял слова старых солдат. И это ещё больше придавало духу новобранцам. Не один человек упал, сбитый с ног царской нагайкой, но никто не жалел падающих. Всем понятно: наказанные поднимутся и пойдут, а наука запомнится им навсегда: не трусь!
Адъютанты доложили, что встретили драгунский разъезд, посланный на рассвете. Мигом привели жилистого сержанта. Он вытянулся:
— Порядок, господин полковник! Скот загоняют в лес!
— А
там ты был?
— Был, господин полковник! — Сержанту понятно где. — Наши держатся! Хоть пушек у них маловато.
— Князь Голицын как?
— Весёлый, господин полковник!
Пушечные залпы вдали стали более редкими. Царь заволновался ещё сильней. Дорога вывела на высокий холм. Прыткие адъютанты подали подзорную трубу. Солдаты не знали, что в неё можно увидеть, когда везде густые деревья. К тому же ещё дождь. Всё перемешалось под копытами и сапогами. Черной кашей пролегла тягучая дорога.
— Остановить колонну!
Царь что-то увидел. Куда-то послал с полсотни черкасских казаков, а сам раскраснелся, словно головня, усы ощетинились, и, когда казаки снова показались на дороге, пришпорил навстречу коня. За казаками сунулась стена войска, по мундирам видно — нашего, слышался гомон, ржание коней, сверкали влажными боками пушки, — нет, так не идут после поражения...
Царь снова оказался на холме, на ходу, под присмиревшим дождём, читая бумагу, вручённую гонцом на белом от пены коне. За чтением круглое лицо светлело. Наконец царь затанцевал на коне перед колонной солдат.
— Это дело! — закричал во всю мощь голоса, выворачивая нижнюю челюсть. — Виктория! Князь Михайло Михайлович Голицын под селом Доброе, пока прибыл король, убил ему три тысячи солдат! Взято шесть боевых знамён! Три пушки! Виктория!
Все забыли солдаты — бессонную ночь, непроходимые болота, тёмные леса, наполненные волками, и страшную усталость. Вдруг нарушился строй шеренг.
— Ура! Ура! Ура!
А царь своё:
— Дело! Можем бить шведов! Если бы здесь ещё артиллерия наша — и не такая была бы виктория!
Он хвалил, кажется, князя Голицына, но присутствующие понимали крик как похвалу и тем солдатам, которые под командованием князя добились виктории, без пушек, — быть может, тот боялся их брать с собою, чтобы не потерять! — хвалу тем, кто торопился на помощь, исполняя приказ, делая всё, заради чего существует на свете солдат, защитник отечества!
— Какую тебе награду? — вспомнил царь о гонце, молодом офицере с веснушчатым лицом и светлыми добрыми глазами.
— Пить! — ответил тот и покраснел до ушей.
Сверкнуло яблоко, недавно поднятое в лесном саду.
— На. Ешь.
На яблоко упали капли дождя. Оно заиграло красками. Офицер не отваживался есть подарок.
— Ешь! — повторил царь, уже видя, как белые молодые зубы жадно вгрызаются в красное.
Тем временем под радостные крики он рассуждал: «Вот так и нужно. Отрывать живые куски. Нападать среди болот. Чтобы они не использовали свою мощь и выучку». Он ещё ничего не решил, но уже окончательно удостоверился: Карл рвётся к Москве. Мысли вертелись вокруг корпуса Левенгаупта.
4
После Могилёва генералы с надеждой посматривали на карету с гербами на дверцах и с литерой «Р» на передней стенке. Граф Пипер может напомнить королю, что не стоит рисковать его драгоценной жизнью. Однако граф понимал бесплодность подобных предостережений. Его тёмная шляпа с высоким колышущимся пером и тёмный широкий плащ выделялись на фоне затянутого в синие узкие кафтаны воинства, потому что даже ближайшие его подчинённые, всякие помощники, писари, все, кто в походной государственной канцелярии, в государственном архиве, зажаты в полувоенную или даже военную одежду, имея за образец не своего начальника, пусть и первого королевского министра, а офицеров да самого короля. Граф особняком сидел на коне, одиноко торчала его голова из окошек кареты, щедро осыпанной золотом. Он по-разному обдумывал, какие последствия может иметь переход армии через Днепр. На Москву, как точно известно ещё от Гилленкрока, ведут три дороги: одна через Смоленск, славянскую твердыню, древнюю мечту викингов, а две другие пролегают где-то на юге, за лесами и реками. Пипер настаивал зимою и весною, что необходимо принять предложения московитского царя и дать правильное государственное устройство завоёванным землям. Он не разделяет королевской мысли, будто бы у Лещинского достаточно сил для объединения Речи Посполитой. Какие там силы, если король зевает при одном перечислении польских магнатов, имеющих собственные войска! Его величество надеется решить все проблемы в московском Кремле, как Александр Великий — одним ударом разрубить гордиев узел. Что же... Монарху не прикажешь... Граф теперь редко видел короля и редко слышал от него даже короткие фразы.
Но и Карл XII не мог удовлетвориться нынешней войной. Добравшись с войском до того места, где сливаются реки Вихра и Городня, полагая, что главные силы противника оказались от него на юге, бросился форсировать Вихру, но всё-таки наткнулся на сильное сопротивление и остановился. Того, что делал король в польских землях, повторить не удалось... Его не смущали отдельные просчёты генералов и даже потери, как под селом Добрым. Он никому о том не говорил, но именно на Вихре в горячей и смелой атаке со своими эскадронами он наткнулся на такой мощный огонь зеленоватых колонн, что эскадроны повернули назад. Короля оставили в чистом поле, на него уже бросились чужие всадники — отчётливо виднелись черкасские глаза под бараньими шапками! Неизвестно, знали ли царские слуги, кто перед ними, но в спешке они сбились в кучу. Он воспользовался неумелыми действиями противника и направил коня в противоположную сторону, под густые деревья, рискуя, правда, наткнуться на новых врагов, но всё обошлось хорошо. Бог привёл его к своим эскадронам. Офицеры и солдаты не увидели и признаков монаршего гнева. Король — воин. Удивило сопротивление московитов. Как если бы человек, нырнув в воду, наткнулся на твёрдый камень. Тогда подумалось ещё, что царь приготовил отборные войска. Много у него таких войск? Наверняка они сражались и возле села с непонятным названием — «Доброе».
Отдав коня драбантам, король какое-то время ходил по широкой тропинке, заложив руки за спину, и гонцы сбивались в толпу, ожидая, когда же их подведут к его величеству. Через полчаса король решил, что там были переодетые в московитские мундиры черкасы... К тому же фельдмаршал Реншильд, спрыгнув с мокрого от бега коня, начал рассказывать, как московиты удирали за Вихру в ином месте, как удалось захватить неповреждённый мост! Завтра его величество увидит сооружение, ведя армию на штурм укрепления на противоположном берегу... Король из-под высокого раскидистого дуба долго смотрел в подзорную трубу на дразнящие дымки, как уже привык глядеть на них ежедневно, как еженощно привык видеть зарева, всё сильнее и сильнее убеждаясь, что московиты в отчаянье не щадят и своей собственной земли.
Начинались сильные дожди. Болотистые места наполнялись водой. Не успевали высыхать мундиры. А зарева не унимались. Везде горело сухое, выстоянное, высушенное летним солнцем, — дерево и солома.
За речками Вихра и Городня светились на солнце рыжими боками свеженасыпанные редуты. В фортециях королю известно! — московиты обороняются упорно.
Укрепления в состоянии задержать наступающих. Задержать, когда следует как можно быстрее поразить врага в сердце.
С холма виднелся деревянный мост, о котором рассказывал фельдмаршал. Там толпились войска. Но почему-то не хватало уверенности, что их надо переправлять через реку. Из-за того, что за нею редуты?..
Под защитой дубовой кроны поставили королевскую белую палатку. Внизу слышался гул войска, дымили костры, а под огромным пологом о чём-то говорили генералы. Король не вслушивался. Дело генералов — исполнять приказы! Против своей воли он вслушивался только в слова фельдмаршала. Высокий и сухощавый, со страшным лицом, к которому никак не привыкнуть окружающим, хотя это лицо настоящего воина, Реншильд внимательно всматривался в такого же высокого, как и сам, короля, долго не начинал разговора, а если уж начинал, то всегда получалось, что он прочитал сокровенные королевские намерения. Теперь, когда у большинства генералов, наверно, готов совет поджидать всё-таки Левенгаупта — тот уже на Днепре, в Шилове! — особенно это советуют толстый Гилленкрок и дебелый Пипер, Реншильд решительно рубанул по-французски:
— Движение — наша сила! Манёвр — победа. Левенгаупт чересчур медлителен!
О захваченном мосте через Вихру фельдмаршал больше не упомянул. Генералы догадывались, что фельдмаршал не хочет видеть рядом с королём Левенгаупта. С военным авторитетом фельдмаршала может соревноваться только авторитет Левенгаупта. А монаршия благосклонность к молодым Лагеркрону и Спааре ему не угрожает: они исполнители, и только.
Слова Реншильда поразили короля тем, что он, король, произносил их мысленно уже тысячи раз. Реншильд говорил. Молодые генералы глядели на него восхищённо. Его величество удовлетворённо кивнул и вдруг промолвил, следя, как всегда, внимательно ли записывает слова своим серебряным карандашиком камергер Адлерфельд, сминающий острым подбородком белоснежное жабо, и хорошо ли слышит их пухлый духовник Нордберг, завёрнутый в чёрную сутану, на которой выделяются лишь узенький белый воротничок да большой золотой крест.
— Московиты кое-что перенимают. Но не им брать меня в плен. На этом направлении у них все войска. Пусть сторожат мосты.
Король не нуждался в советах, но генералов угнетала собственная неуверенность. Противник отступает в бескрайние леса да болота, а король по-мальчишески бросается в атаки. Ему не хватает развлечений. Ему осточертели любовницы. Некоторые из них уже раздарены генералам. В королевской постели теперь царит роскошноволосая Тереза. В её объятиях он забывает о самой могучей в Европе армии.
Граф Пипер, имея возможность отдохнуть от езды в карете и снова побыть возле короля, пальцем потирал толстый нос. Он много о чём догадывается, думали генералы. Через его руки проходят все государственные документы. Ему и легче думать. Он, цивильный человек, трижды на день меняющий белоснежное жабо, словно и не несёт в походе никакой ответственности перед короной за боевые действия шведской армии. А какими-либо гражданскими делами король пока что не занят.
Граф примечал, что после битвы на реке Вихре в королевской палатке ночами начали подолгу пылать свечи. Граф имел представление о высочайших заботах. Московиты так научились выставлять свои войска, что без упорного боя нет возможности продвинуться вперёд ни на шаг. Это здесь, а впереди фортеции. За лесами — город Смоленск... Граф опасался, что король может направить армию на Украину, как когда-то повернул её из Полыни в Саксонию.
Как-то король с утра пристально посмотрел на Спааре.
— Вам недолго ждать, — сказал он, внимательно рассматривая из-за полога палатки дрожащий утренний туман над зелёным болотом, по которому, не опасаясь вооружённых людей, бродили красноногие аисты.
Лагеркрон и Спааре первыми получили по королевской любовнице. А те привезены из Польши и Саксонии — красавицы.
Присутствующие поняли услышанное как заверение, что Москве недолго оставаться без шведского коменданта. Неспроста у короля от бессонницы раскраснелись глаза и стали слегка дрожать белые длинные пальцы. Не случайно сказано: пусть московиты стерегут мосты...
Перед обедом его величество в самом деле решительно обратился к Лагеркрону, неотступно, вместе со Спааре, следовавшему за ним:
— Завидую вам. Завтра выступаете. Во Мглине и в Почепе подготовите квартиры для моей армии.
Генералы облегчённо вздохнули. Нордберг и Адлерфельд склонились над записными книжками. У Понятовского сверкнули под кудрями глаза. Мглин и Почеп — города во владениях гетмана Мазепы! Значит, в армии не будет больше голода! Не будет и этой неспокойной жизни. Когда днём и ночью остерегаешься нерыцарских нападений московитских вояк.
— Vivat! — не выдержал генерал Спааре, выбрасывая вверх шпагу.
Спааре был поддержан Понятовским, принцем Вюртембергским, потом всеми генералами. Только граф Пипер недовольно поморщился. Король поднял руку — он уже объяснял задание. Все стали прислушиваться, стараясь не думать о том, что Лагеркрон очень молод, очень гоноровит и самоуверен, в военном деле не одарён, а выдвинулся благодаря своей готовности любой ценой исполнить приказ. А впрочем, решили генералы, с таким поручением, как захват городов, где мало московитов, справится и Лагеркрон. Гетманские казаки с радостью передадут города в руки королевского генерала. Главное, король мудро решил зайти в Украину — вон о ней рассказывает неутомимый в разговорах красавец Понятовский... А дальше, вынуждены были снова гадать военачальники, глядя на карту, в которую тыкалась длинная королевская шпага, хоть король и не рассказывает о главнейших планах, армия пойдёт через Мглин и Почеп на Брянск, Калугу, выйдет на Москву за спиной у супротивника. И пусть дуется первый министр Пипер — он когда-то уже не советовал вступать в Саксонию. А что получилось? Триумф!
Лагеркрон чувствовал себя героем. Хлопал генералов по плечам.
Весть быстро распространилась по войску, в обозах, между маркитантами. И хотя простые солдаты мало интересовались, куда их ведут, мало и понимали куда, но радовались и они: впереди богатые земли.
5
Генерал Лагеркрон ехал в первых воинских рядах и мурлыкал в усы песенку о лесных гномиках, слышанную в детстве от матери. Он надеялся на большую награду. Отпуская его, король повторил: «Завидую...» Его величество очень любит новые места.
Ночью, перед дорогой, генерал натешился с Брунгильдой. Что за девушки в королевских каретах, если королю не жаль такой... Воспоминания радовали долго. Генерал устал от опасений наткнуться на острый сучок, кривую изломанную ветвь или ободрать о них блестящие ботфорты. Он пропустил вперёд драгун, чтобы они лошадиными гривами, палашами, кирасами, даже головами ломали ветви да прокладывали более широкую дорогу. Битых дорог в лесу мало, но, казалось ему, попасть во Мглин и Почеп просто. Нужно лишь посматривать на солнце да на часы и выбирать направление. В захваченный город вместе с королевским войском прибудет и карета с Брунгильдой.
К вечеру начался дождь. Влага приятно струилась по одежде и кирасам, проникая вплоть до разгорячённых тел. Но дождь быстро переполнил ручьи, которые сделались речками и перерезали лесные дороги. Перед ними настороженно прижимались конские уши. Мокрые драгуны вскоре почувствовали холод, а костров развести уже не могли: огонь шипел и сникал, даже не облизав мокрое дерево. Они жевали раскисший хлеб. Немного согрела водка, выданная на дорогу по распоряжению Гилленкрока. Отдыхали кто на пне, кто на поваленном дереве, кто под тёплым конским животом. Дождь не унимался ни на минуту. А когда осела набухшая влагой темень и по генеральскому приказу колонна двинулась дальше — уже не одни только лошади опасливо посматривали на целое море холодной воды, в котором часто приходилось пускаться вплавь.
Генерал нахмурился. Об этой экспедиции ведают маркитанты в королевском войске. Может, знают и московиты? Может, противнику известна более удобная дорога? Правда, расстояние от главных царских сил, сказал король, намного длиннее, нежели расстояние от королевского лагеря, но... Вскоре показалось, что потеряно нужное направление, и генерал представил страшное зрелище: четыре тысячи драгун прибывают назад в лагерь, так и не побывав во Мглине да в Почепе! Прощайте, королевские милости... Генерал приказал остановить драгун, офицеров — созвать к четырём пушкам, выделенным для похода повелением короля.
Чёрт возьми, думалось, пускай бы кто-нибудь из генералов очутился в этом сплошном болоте, в бесконечных лесах, где четыре тысячи воинов затерялись котятами в просторном крестьянском подворье!
Офицеры ждали приказа. Да от кого ждать его генералу? Он кипел и уже готов был выплеснуть гнев на того, кто подаст повод. Однако офицеры не один год провели в походе и умели беречь себя от опасностей. Пожаловался лишь лейтенант Штром, вступивший в войско с прошлогодним пополнением.
— Мой вахмистр твердит, что можно забрести в такое место, откуда уже нет дороги назад.
Лейтенантов голос негодовал. Верхняя губа с жиденькими упрямыми усиками подрагивала. Офицеры посочувствовали бедному вахмистру, которого неосторожно продал лейтенант и которому вскоре, может быть, придётся качаться на мокрой ветке, но радовались неожиданной развязке. Лагеркрон ничего ещё не ответил, как лейтенант снова:
— Мой генерал! Слышите...
Ветер сник. В лесу веселились люди, не обращавшие внимания на раннее время, на закрытое тучами небо и непрерывный дождь. Это показалось невероятным. Лагеркрон забыл о вахмистре и о самом лейтенанте Штроме, очень старательном, на его взгляд, молодом офицере. На пути уже встречались селения, рядом с лесными гутами и руднями, — но все пустые, как и прежде, до Днепра. Генерал повелел бы солдатам жечь строения, если бы не высочайший приказ ничему здесь не вредить. Его величество король говорил об особой дружбе с черкасским гетманом. Генерал от поджогов воздерживался. Лишь когда на глаза попала чёрная кошка с маленькими котятами, он выстрелом из пистоля уложил её на месте, а с шипящими котятами шутя управились драгуны. Смеху и шуток было достаточно.
— Люди...
Генерал снова вспомнил о лейтенанте Штроме. Приказал ему окружить село драгунами и привести пленных — хоть одного, двоих.
И вот среди драгун мелькнула хлопская одежда. Драгуны даже не связывали пленникам руки, а смеялись, глядя на их пьяные движения и вслушиваясь в непонятные певучие слова. Пленники о чём-то рассказывали, размахивая руками. Толмач хлопал их по широким плечам.
— Знают дорогу на Мглин? — остановил Лагеркрон коня и сделал лейтенанту знак, что доволен его стараниями.
Толмач быстро добился ответа.
— Знают, ваше превосходительство! Доведут!
Подобная готовность показалась бы подозрительной, если бы не личное приказание короля. К тому же гетманов посланец недавно приглашал королевское войско в гетманщину. А что жители оставили село — не удивительно. Мирные люди боятся выстрелов. Так было и в Саксонии, в польских землях. Лагеркрон вытащил из кармана золотую монету.
— Скажи, — велел толмачу, — во Мглине погуляют на эти деньги.
Перед блеском золота глаза простолюдинов округлились, как сама монета. Но это тоже не удивило: за такие деньги купишь крестьянский двор...
— Дать им коней!
Хорошее настроение снова и очень быстро овладело Лагеркроном. Сквозь белый туман засияло солнце, высвечивая на деревьях каждый золотой и красный листочек, пригрело, а дорога уже не извивалась между болотами, но тянулась по высоким мостам. Генерал подозвал проводника со сросшимися над переносицей бровями, желая поинтересоваться, как его имя, но вдруг не понравились колючие глаза пленного, хотя тот и старался отводить взгляд, — итак, генерал не стал расспрашивать относительно расстояния до Мглина. Уже раздумывал, какие письма писать черкасам и разослать по близким сёлам и местечкам. Таково повеление короля. Пока что придётся попотеть писарям. В обозе есть походная типография. Там универсалы будут печататься на черкасском языке.
Да, король, готовясь к походу, позаботился обо всём. Ничего не стоят нашёптывания, будто он без надобности рисковал собственной жизнью и жизнью воинов во время прогулки за Днепр из Могилёвской крепости. У короля, как вот и у генерала, много тайных недругов. А хорошо бы под старость получить в управление большую область вместе с титулом графа или маркиза да спокойно вспоминать о походах во главе с самим королём, о славе шведского оружия. Тафельдекер Гутман недаром читает монарху саги о древних викингах. Что ж, настанет пора...
Прошло уже две недели, погода наладилась, а Мглин не показывался. Генерал покачивался в седле да посматривал на дорогу, остерегаясь, как бы окончательно не ободрать о деревья ещё совсем недавно сверкавшие ботфорты. Как в таком случае въехать во Мглин? Треуголку свою пришлось заменить солдатской шапкой, а ботфорты не заменишь... Ночевали на срубленных ветвях. Ночами всё чаще и всё соблазнительней снилась Брунгильда... И вот на очередном привале к генералу приблизился лейтенант Штром. Волнуясь, оглянулся, будто снова уловил в лесном шуме что-то особенное, вроде присутствия на затерянном хуторе нынешних проводников.
— Мой генерал, — обратился он на французский лад, зная, что Лагеркрону, как и самому монарху, нравятся подобные обращения. Сказал тихо: — Мон парни возвратились. За несколько лье отсюда видели город.
Лагеркрон мигом оказался в ботфортах, от которых недавно освободил усталые ноги, завизжал:
— Немедленно... Проводников!
Лейтенант пулей бросился исполнять приказ. Садясь в седло, генерал уже придумывал наказание для обманщиков, как вдруг раздались выстрелы, ударил в уши и откатился в лесную глушь топот конских копыт.
Лейтенант возвратился через полчаса. По лицу было понятно: хлопов не настигли. Генерал еле сдерживался:
— Где?
— Один удрал, мой генерал! В городские ворота. Двоих убили. Из города стреляли... Вахмистр ранен в руку. А город этот — Стародуб!
Генерал увидел перед собою короля... В Почепе и Мглине уже московиты. И среди черкасов есть обманщики.
— Стародуб? — переспросил, ища на карте чужое слово, долго не находил от злости, а завидев, понял, как далеко поставлено оно от того места, куда следует попасть.
— Наши драгуны поймали старика, мой генерал.
Лагеркрон заторопился вместе с лейтенантом навстречу драгунам и остановился над двумя трупами, напрасно стараясь узнать в одном из них молодого, со сросшимися над переносицей бровями. Вахмистр с перевязанной рукою швырнул на землю старика. Седой пленник в длинной полотняной одежде почему-то не торопился стаскивать с головы шапку. Генерала переполнила злость. Не целясь, выстрелил он в трупы врагов, выхватил ещё один пистоль, тоже разрядил в ненавистных мертвецов, а старика затоптал конём. Крикнул:
— Город возьмём! Трупы повесим на площади!
И быстро, собираясь отдавать приказ на штурм, бросил замершему лейтенанту:
— Вахмистра — в крепость с предложением немедленно сдаться на милость короля!
Лейтенант побледнел, удивляясь генеральской злой памяти. Генерал удовлетворился хоть этим: уцелеет вахмистр — жизнь, нет — Божья воля. Voluntas Dei
[21], как говорит король... Сомневаться в приказах не позволено никому.
6
Чернобровым горбоносым казаком, что вместе с товарищами спутал планы генерала Лагеркрона, был Денис Журбенко.
А началось всё вроде бы просто. Его долго допрашивали после казни Кочубея да Искры. Есаулы опасались, не задумал ли плохого его брат Петрусь. Сам Петрусь лежал без сознания... Есаулы поверили, что хлопец торопился отдать гетману в руки суплику, — вот она, измятая, зажатая в пальцах, — читайте. Читали, ругались. Голота! Суплики, жалобы на старшину...
Больного осмотрели издали и разрешили отправить с попутной чумацкой валкой к матери. Пускай там делают гроб. Там закапывают. Безопаснее для войска.
А Денису с товарищами Зусем и Мантачечкой приказали ехать за Десну, под руку полковника Скоропадского.
Все трое решили, что не стоит искать защиты у полковника Балагана: за Десною враг, а казак — для войны! Зусь хохотал. Он сирота — некому плакать, если что. Pie печалился и Мантачечка. Тоже мало родни на свете. Дениса жгла мысль о брате: доехал тот? Выздоровел?
За Десною, на покрытой непролазными лесами Стародубщине, собралось много охотных казаков, городовых, даже сердюков. Ходили слухи, что полковники нарочно присылают туда провинившихся. Там ближе к Божьему суду: к шведским пулям. Там ежедневные стычки. Денис не знал за собой вины, кроме поездки в Диканьку, а с Кочубеем вот что — не хочется Апостолу беречь нежелательного свидетеля. А тут ещё и Петрусева суплика...
Ходил казак на глазах у смерти. Пощипывал с товарищами и с москалями шведов. На речке Вихре даже гнался за королём. И чуть не взяли того в плен да не привели в подарок царю. Зусь уже и верёвку шёлковую отвязал от седла! — но характерник-король отвёл преследователям глаза.
Чего же добился Апостол? Хорошо скакать под жужжание пуль, зная, что завтра ждут новые приключения! Но вот после одной вылазки не успел расседлать коня, как послышался сотников крик:
— Иди к полковнику!
Такие вызовы часто не случаются. Казак стреножил Серка, пустил на траву. Сам отряхнулся, теснее затянул на жупане пояс, поправил саблю.
Стародубский полковник Иван Ильич Скоропадский кутался в зелёный жупан, подбитый дорогим мехом. Длинные вылеты, обшитые золотом, — ой, богатый человек! — устилали тёмный пол в низенькой мужицкой хате. То ли от холода из маленького окошка без стёкол кутался полковник, то ли от тревог — неизвестно. В печке бушевал огонь, стрелял искрами. Рядом с зелёным жупаном торчал москаль в длинных волосах, красиво закрученных в ровненькие кудряшки. Одежда — в блестящих штучках. Но всё испачкано грязью. Очень торопился пан офицер. Приглядевшись, как обращается к нему Скоропадский, Денис и пришедшие с ним Зусь и Мантачечка — их тоже позвали — поняли, что это даже не офицер, а генерал!
Казаки топтались у дверей. Паны говорили между собой на чужом языке, время от времени выставляли к печке холёные руки, остерегаясь прыгающих искр. Так продолжалось долго. Лёгкий сквозняк качал в оконном проёме остатки паутины. Жужжание уцелевшей мухи в ней смахивало на панскую речь.
— Подойдите!
Полковник прижал к усам толстый волосатый палец, желая предупредить, что разговор секретен. Говорить принялся царский генерал. Он так цепко глядел на казаков и на полковника, что у последнего от напряжения проступил на лысине пот. Задача опасная. Выполнят ли казаки?..
У казаков же всё получалось неплохо. Они долго расспрашивали старого еврея, который прибыл к москалям из королевского лагеря, где всё высмотрел, обо всём узнал, а затем три дня просидели в лесном селе, прикинувшись местными мужиками. Наконец повели врагов. Между собою говорили мало. Больше всего опасались молодого остроносого офицерика. Из-за него и лихо... Тогда Зусь перегородил лесную дорогу своим конём. Пока его одолели, Денис и Мантачечка успели проскакать изрядное расстояние. Да обоим не удрать — Мантачечка проделал то же самое, что и Зусь...
Среди глубоких оврагов и непроходимых лесов на высоком холме неожиданно засверкали золотые церковные кресты и засияли синие свинцовые крыши высоких домов. Денис из последних сил взбежал на вал, на котором ещё от ворот приметил зелёный жупан полковника Скоропадского.
— Аж сюда привели? — выставил на казака волосатый палец полковник, одновременно обращаясь и к женщине, которая стояла рядом и пристально смотрела на прибывшего. — Ещё и долго вели... Я сам сюда успел.
Женщина молодая, с яркими чёрными глазами. По годам — полковнику дочь. Но это же полковничиха Настя Марковна, вдова покойного генерального бунчужного Голуба. В войске слухи, что она больше правит казаками, нежели сам старый полковник.
— А где твои товарищи, казак? — спросил полковник.
Денис снял шапку и перекрестился на церковь.
— Воля Божья! — Скоропадский обнажил голову. — А ты отдохни. Молодец.
Джура отвёл Дениса в какое-то жилище — и словно вода накрыла казака... А проснулся — вокруг дым. Хатёнка небольшая, рука на красном глиняном полу. Запах татарского зелья. Под головой — шапка. Где-то рядом ударили пушки. Закричало много голосов...
Всё это произошло в одно мгновение, но его хватило, чтобы всунуть в рукава руки, ухватить с полу шапку и выскочить во двор. Хата притулилась к городскому валу, укрытому бурьяном. Возле неё, на валу, — задымлённые пушкари. Кожухи долой, рукава рубах засучены или оторваны. Пушкари больше не стреляют, только приставляют к шапкам чёрные ладони, закрываясь от яркого солнца:
— Дали перцу, трясця его матери!
Стародуб — город большой. Божьих церквей восемнадцать — разве ж Бог допустит сюда супостата? А сколько богатых купеческих домов под свинцовыми синими крышами, а какой пышный полковничий дворец! Какие подворья у значного казачества... Всё видно с вала. Можно сосчитать лавки, ятки, как раз там, где ярмарки и базары. Деревья и кусты перед укреплениями вырублены но приказу царя. Во всех городах расчищены пространства на расстоянии тридцати саженей от вала, чтобы шведы, идя на приступ, не имели от пуль защиты.
Денис понял, что, пока он спал в хатёнке, перед фортецией произошла стычка. На вспаханной копытами земле валяются синекафтанники... Но почему так быстро отступили шведы? Ведь казаков здесь не густо, царских солдат — и того меньше. С такими силами в поле не выйдешь.
Пушкари же, покрываясь дымом из коротеньких трубок, рассказывали:
— Ты, брат, из тех, кто дурачил врагов? Бог не забудет... Наш полковник вчера прискакал, так жупан бросил внизу, быстрей к нам, готовы ли пушки... А тут Настя Марковна времени не теряла. Ей гетманшей быть... А вот враги подослали двоих, у одного голова перевязана, а второй по-нашему чешет. Пустите, мол, в город... Ваш гетман друг нашему королю... Тьфу, молол, чёртов сын. Друг нашёлся!
Денис чётко представил толмача, который разговаривал с ним в лесу на искалеченном московском языке. Видел толстый красный нос, поклёванный оспинками, и красиво подкрученные рыжие усики.
— А наш полковник, — продолжал самый бойкий пушкарь, — имеет приказ от гетмана и царя. Как ударили пушки! Казаки бросили галушек из рушниц! Вон сколько положили... Может, они и подобрали бы своих, может, и на приступ пошли бы, потому что характерники, но Бог послал конных москалей. Вот вместе с казаками и погнали врагов.
Денис злился на самого себя: проспал! Если бы Серко... Но Серко остался при войске... Не посчастливилось встретиться с врагом в бою. Да, может... Может, швед повернёт сюда?..
Так думал казак, стоя на стародубском валу и чувствуя, что руки снова удержат оружие. Ему не верилось, что уже нет на свете давних товарищей — Мантачечки и Зуся, что придётся выпить за их добрые души. Не верил — и всё.
7
Вдруг повеяло свежестью. Потрескавшиеся от жажды лошадиные губы охотно набрасывались на зелёную траву. Веселее заскрипели пересохшие оси расшатанных возов. Живыми искрами засветились у раненых глубоко запавшие страждущие глаза... Правда, обозы и прежде придерживались степных, еле приметных речек, где время от времени можно напоить коней, освежить раненых. Да настоящую влагу почуяли лишь теперь.
— Днепр, братове!
Никто не улежал на возу. Раненые поднимались с новыми силами. Обнимались бурлаки, голодранцы, гультяи, серома. Распрямлялись на тёмных лицах морщины.
— Пробьёмся к матери-Сечи! Уже недалеко наши паланки!
Смеялись, плакали, скакали гопака.
Ой, гоп, метелиця,
Чого старий не женится?
Словно и не было усталости от бесконечных степей, где многие навеки остались под еле приметными холмиками, оплаканные криками чаек да жалостливым конским ржанием. Товарищи выстрелят из рушниц в полинявшее небо, на котором не отыскать ни облачка, затем бросят в горло по капле оковитой — и дальше вздымают тучи безнадёжной пыли...
Так и Марко. Похоронил побратима Кирила — Ворону. Да не было уже в посудине ни капли горелки. Баклагу с мутной водой положил в могилу. Получается, и на том свете бедняку сосать солёную жижу? Печален шёл после того казак. Без коня. Без шапки. Повязывал голову сопрелой рубахой, спасаясь от палящего солнца. Увидела бы мать рубаху, вышитую её руками, — не признала бы там ни единого цветочка... А Галя подала бы копеечку. Донской казак предлагал исправную одежду и коня. Но хотел взять взамен оружие. Марко и слушать не стал. Без оружия — смерть. «Бери коня и спасайся, — издевался редкоусый дончик. — Бог новой души не даст. Долгорукий перевешает в Черкасске голодранцев — за вами бросится! Зачем приходили на помощь голодранцам?»
Прыткий конь был под проклятым донником. А то лежать бы ему с раскроенным черепом...
Тогда ещё был жив побратим Кирило. Мучился на возу.
«Почему не устояли? — спросил его Марко. — Нас было больше».
«Мало воинов, — скрежетал зубами Кирило. — Люди от плуга...»
До булавинского атамана Драного тогда пробилось из Сечи тысячи полторы голоты. Они упорно дрались против войска царского приспешника, изюмского полковника Шидловского. Повели за собой прочих обездоленных. Да неожиданно погиб атаман Драный. Босоногое войско затопталось на месте. Казаки Шидловского нажали. Голота падала покосами. Только густая ночь, мгновенно накинутая Богом на широкие степи, да глубокие овраги спасли множество жизней...
Где силой, где хитростью, а победили восставших. Как и самого Кондрата Булавина.
Но теперь, вдохнув Днепровой влаги, ожил Марко.
Ой, гоп, метелиця,
Чого старий не женится?
Песня вцепилась и в него. Теперь недалеко Чертомлыцкая Сечь. Теперь не страшен Шидловский. Не страшны Долгорукий, сам царь Пётр. Недалеко сечевая паланка, обнесённая палисадом, — надёжное степное укрепление. Да царь и не воюет с сечевиками. У него шведы в голове...
Возы сворачивали к балке. Люди выпрягали коней и пускали их на зелёную траву. Разводили костры, снимали с возов немощных и укладывали их вокруг огней.
Марко нырнул в прохладную речку — много их, веток Днепровых, извивается по широким степям. Вода закипела от человеческих тел. Затем Марко выполз на тёплую траву и уснул крепким сладким сном...
— Вставай, Марко!
Дёргали повелительно, он вскочил на ноги. Ухватил оружие. Затем продрал глаза. На зелёной примятой траве спали сечевики, бурлаки, донские казаки, просто бородатые русские мужики — теперь все побратимы.
— Что такое?
Его вели на высокий берег балки, куда уже от соседней ватаги поднимались старый Петрило и ещё воины, из тех, кому верит товариство. Перед пришедшими с Дона торчали настоящие казаки, несущие в паланках службу, — они выехали навстречу. Марко хотел броситься с радостным криком, да кто-то придержал его за рукав. Нет, не радость привезли сечевики, хотя против него самого стоял его давний побратим Демьян Копысточка. Когда товариство трогалось на Дон — Демьян неожиданно заболел. Его била лихорадка. Марко и Кирило Ворона попрощались с больным, а сами не отрывались от товариства. «Выздоровеешь — догоняй!» — приказывали. Выздоровел, а почему-то не догнал...
— Не пробирайтесь на Сечь! Коменданту Новобогородицкой крепости известно, — заторопился Демьян, отводя замутнённый взгляд, — что среди вас много московских людей, которые стояли за бунтовщика Булавина! По ним виселица плачет!
Марку не верилось, что это говорит Копысточка. Покидали Демьяна бедняком. А вот на нём какая одежда — и названия тканям не придумаешь. Словно возвратился Демьян из похода, где набил саквы добром. Конь под ним горяч, стройными ногами в белых чулках перебирает.
— На Сечи всех принимают! — попробовал возразить старый Петрило, во время перехода в степях дававший хорошие советы. — На то
она Сечь...
— Будет как сказано! — оборвал старика Демьян.
Всегда спокойный Петрило разозлился:
— Ты ещё под стол пешком ходил, а мы уже на Сечи хозяйничали! Не от всего товариства говоришь!
Взвился Копысточкин конь. Сверкнул на белом пальце золотой перстень. Посредине золота — красный, как кровь, камешек. Гордый крик ударил старого и всю ободранную голоту, уже столпившуюся на берегу:
— Было, да не будет! Не пустим на Сечь!
И дал знак своим безголосым запорожцам — ускакали за ним, будто и не стояли вот только что.
Надолго хватило казакам раздумий. Как сказать об услышанном людям в балке?
Марко посоветовал:
— Не оставим никого. Ни казаков, ни русских хлопов. Раненых — на зимовники да на пасеки, а сами — поодиночке, небольшими кучками — пробиваемся на Сечь... Посмотрим, чья там правда.
Казаки согласно закивали головами:
— Расскажем про царские кары... Ведь так он и Сечь задавит...
— Пойдём прогонять царских солдат с наших земель.
Перед глазами у Марка снова выплыл перстень на Демьяновом пальце... Э, ещё когда говорил Демьян, что у Кандыбы славная дочь. Вот и женился, и забыл сечевые обычаи. Говорил Петрило... Старый брешет-городит, а на правду выходит. Без золота — один человек, а с золотом он уже иной... Такие Сечь поганят.
8
Лето — ненадёжное. Да и его тепло уходит. Поля покрылись спасовыми бородами: жнецы связывают красными ленточками несколько несжатых колосьев на меже, как подарок полевым богам! Над опустевшими просторами аисты уже открутили свои бесчисленные «колёса». Отлетели в тёплые края острокрылые ласточки. Неустанными ручейками стекает с деревьев жёлтая листва...
Гетману становится хуже. Правда, и умирая, остаётся он верен государю: по-прежнему движутся в северные города обозы с зерном, и отары, направляясь туда, вытаптывают увядшую траву при разбитых дорогах. Всё это — продовольствие для царских войск, если война загремит поблизости. В северных городах — более всего в Стародубе и в Чернигове, сказывано, и даже в более южных — в Гадяче, в Ромнах — подсыпаны валы, вычищены старые пушки. Туда подвозят порох. От гетманских универсалов на монастырских да церковных стенах народ присмирел. Не угомониться лишь гультяям...
А вскоре громом ударила новая весть: враг на украинской земле! Очень лют. Сразу меч и огонь на непокорные головы. И твой зажиток — не твой. Возле Стародуба супостаты набросились на обозы торговых людей. Многие изрублены: и торговцы, и мирные жители. Город Кричев, говорят, залит горячей кровью.
Слухи долетают до гетмана, стоящего с региментом между Черниговом и Батуриной, — и к царю недалеко, и вся гетманщина под боком. А царь в письме приказал ему идти на соединение с генералом Инфлянтом, посланным с конницей на Стародубщину. Долго думает гетман, лёжа на постели. Наконец приказывает Орлику:
— Приведи, Пилип, сотников... Есть работа... Пора.
Сотники из сердюцких полков. Их зазывают поодиночке. Немного успокоившись, они слушают ясновельможного. А когда по его знаку генеральный писарь подносит для клятвы крест и Евангелие — глаза сотников вспыхивают огнём. Отчаянные головы грезят полковничьими перначами. И так много подарков получено — вот хотя бы сотником Гусаком или Ониськом... Орлик припоминает весенний разговор об этом Гусаке с полковником Трощинским. Добрый совет дан Трощинскому. Всё обошлось. Ни разу не вспомнил гетман о чернодубской церкви... Текут денежки с того поместья. А Трощинский передал от него в подарок генеральному писарю пару жеребцов — черти, не кони. И сотник Онисько тоже ходит гоголем... А за эту службу сотники надеются получить более щедрую награду. Гетман так и говорит каждому:
— Хочешь видеть Украину свободной? Надёжно взбунтуешь поспольство — быстрей победим. Сейчас ожидаем царского приказа, как вол обуха. Что это за жизнь?
Орлик видит: гетман не боится предательства. Кто поверит сотникам, коли не было веры Кочубею? Сотники быстро уходят. Торопятся.
А только исчезает последний из них — гетман велит подготовить бумагу и каламарь и плотно закрыть дверь. Орлику всегда приятно гадать, что же ляжет по приказу властелина на белую поверхность.
Предчувствие не обманывает. После обыкновенных приветствий царю, умело скомпонованных, надо писать: как только народ узнал о приближении шведа, так все подняли головы. У всех одна мечта — отойти от его царского величества! К тому же известно, что здрайца Лещинский уже ведёт польские и шведские полки на Волынь, а турки с татарами вот-вот сделают инкурсию. На запорожцев надежды нет. Все жалобы заканчиваются просьбой как можно быстрее слать сюда регулярные войска, чтобы эти земли окончательно не выскользнули из рук его царского величества...
Очень довольный, хоть и усталый, Мазепа откидывается телом на подушки, закрывает глаза. За ним нечётко виднеются стены, обитые алтабасом и увешанные дорогим оружием. Такое же оружие и на гетманской парсуне, написанной зографом Опанасом. Такой же блеск.
— Пускай почешет царь затылок, — не открывает гетман глаз. — А должен прислать войско. Сотники раздуют среди гультяев огонь. А пришлёт войско — все увидят, какой почёт нашим вольностям... Нет статьи в договоре Богдана с царём Алексеем Михайловичем, чтобы царские полки стояли на Украине. Пусть царь дерётся с гультяями. Расчищает нам дорогу.
Орлик улыбается: теперь ясновельможный не оставит замышленного. Он твёрдо решил отделить Украину от Руси. А там...
Проходит две недели. Широкая Десна несёт краснобокие яблоки, жёлтые груши. Плывут тыквы, луковицы. Вода подхватывает всё. Придеснянские хлопы, собирая позднюю гречиху, оставляют работу и подходят к воде. По левому берегу продвигается на север гетманское войско. Впереди полковники, старшины, музыканты. На ветру — хоругви. Только кто не видал гетманского войска? На речном плёсе среди бесчисленных дубков, лёгких челнов, плотов, всего того, на чём плавает человек, покачивается огромный паром. Против течения, вслед за войском, его тащат бредущие берегом медлительные волы. Десять пар. На пароме в красивой палатке, говорят интересующимся, находится гетман. Хочется ему исповедаться у Киевского митрополита, когда тот будет возвращаться из Москвы. А доплывёт ли?
— И за что человек так тяжело страдает? — кладут на себя крест старые женщины, собирая в нитку сморщенные губы. — Во скольких сражениях уцелел... Богатства всякого вдоволь, а здоровья за него не купишь.
Простые казаки приостанавливаются, чтобы испить воды да съесть яблоко, — хлопы расспрашивают, не собираются ли они допустить врага к Десне. Казаки отвечают не сразу. Да, то сила огромная. Но и скупые слова язвят хлопские души. Многим жаль, что гетман заболел в такое опасное время.
Паром частенько пристаёт к берегу. На жёлтые доски сходят старшины с докладами, как продвигается войско. Ясновельможный тоже рассказывает безразличным голосом: царские министры Головкин и Шафиров извещают, что после совещания с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым решено прислать киевскому воеводе князю Димитрию Михайловичу Голицыну указ, чтобы он с царскими людьми и с добрым числом пушек направлялся на Украину и не допускал среди малорусского народа шатости. А гетман пусть отойдёт с казацким войском к Новгороду-Северскому, расставит там полки над Десною и приезжает на совет в главную царскую армию. Рассказывает ясновельможный, а сам цветёт от хорошего предчувствия и даже злится на тех, кто не сразу схватывает, что приход царского войска означает нарушение статей. Кто не понимает — тем растолковывает. Добавляет:
— Царя при войске нет. Удалось, видите, немного потеснить под Лесной шведского генерала Левенгаупта, так празднует победу в Смоленске. Пороха для фейерверков не жаль. А для нас пороха — нет...
— Под Лесной? Это далеко?
— Не очень.
Известие о победе над шведами тревожит старшину. В гетманской палатке появился генеральный обозный Ломиковский.
— Пан Иван... Нет ли опасности?.. Царь побил шведа...
Гетман вздыхает, снизу, с кровати, глядя на высокого Ломиковского.
— Овва! Ещё сильней захочется королю иметь с нами союз. Испугались: горсть шведов побеждена тучей войска... А чернь?
Напоминание о черни донимает Ломиковского. Не с его умом давать советы мудрецу. Поняв то, пан обозный краснеет и низко склоняет голову:
— Прости, пан Иван... Мы саблями, если что... Мы за Украину...
— Бог простит, — отвечает гетман, а про себя думает: «Рады бы меня продать, да моё золото мне служит опорой. Я Украину освобожу, а вы...»
Ломиковский собирается уходить, и тогда гетман припоминает:
— Пан обозный! Детей у меня нет, а для тебя оно — находка.
Круто поворачивается гость. Гетман открытым ртом ловит воздух, однако глаза его следят за генеральным обозным. Да, жаден...
— Дарю тебе село. Респектуя на заслуги... И право на посыпание плотины. Орлик составит универсал...
Ломиковский уже задыхается в благодарности:
— Да за твои милости, пан гетман...
— Иди, иди. Я устал. Много дел... Власть пока царская... Ради Украины только...
На пороге дожидается аудиенции генеральный бунчужный Максимович. Он привозил из Киева к войску Кочубея с Искрой. Максимовичу тоже сейчас достанется подарок, думается Ломиковскому. Очень внимательны сегодня в этой палатке ко всем адгерентам...
Гетман в самом деле ждёт Максимовича, чтобы отправить его к царю с просьбой дать указ на отделение земель помещиков Рыльского уезда. Недавно купленные поместья нужно заселить пришлыми людьми. Пусть не сомневается царь: земли куплены в русских воеводствах — нет у покупателя плохих намерений. И ещё собирается гетман послать в подарок три тысячи червонцев... Но в первую очередь намерен приказать Максимовичу вручить его царскому величеству поздравление с огромной викторией над супостатом. Пусть порадуется царь — сжимаются бледные губы. На мёд, а не на желчь ловят мух. Известно...
Максимович, оглядев Ломиковского, уже входит в палатку.
9
В просторной светлице, хорошо знакомой Петрусю, рыжий Кирило развёл неуклюжие руки:
— Малюй, казак! Всё для тебя здесь приготовлено!
Он стукнул о стол горшочками с красками, изготовленными Петрусем уже на этом хуторе между высокими дубами, куда батько Голый добрался с большими потерями после посещения Чернодуба: погибли товарищи, пропали возы.
Но батько, бодр: здесь надёжное пристанище! Выбрал себе самую прочную хату, хоть их тут всего несколько, а товариство построило курени, вырыло землянки — придётся зимовать?
Батько запретил высовываться на большие дороги. Обещает, что казацкое войско скоро уйдёт из гетманщины. Тогда настанет его время.
Пока что приказано пропивать панское добро, какое кому удалось прихватить. Усатый хозяин хутора превратил свои владения в торговый двор. Подсыпал валы. Гультяйские возы — перед корчмой, чтобы недалеко переносить добро в погреба. Сам хозяин растолстел, словно бочка из-под горелки. А так — шустрый.
— Удивительно, — покачал головой Кирило, рассматривая, как Петрусь кладёт на белую стену краски при помощи кисти, сделанной из лошадиного хвоста. — Умеешь, казак! А мог бы ты, примером, меня изобразить? Чтобы вроде казака Мамая, как в корчме намалёвано? Чтобы усы не рудые, а чёрные, сабля вот эта, оседлец аж за ухо и коник вдали чтобы виднелся?
Петрусь при помощи какого-то неопределённого звука дал понять, что не сможет такого сделать. Ведь достаточно кивнуть головой — и Кирило не отстанет. Да разве время браться за краски? Вот вынужден намалевать на стене петухов...
— Бог не вразумил, — согласился Кирило. — А у моего пана был маляр, так живых людей вгонял в парсуну.
И с теми словами Кирило исчез.
Из-под кисти вышло всего два петуха, как уже в светлицу ввалился батько Голый. Шапку — на лавку под иконы. Туда приземлился и сам атаман. Э, да он уже не молод, лыс, сед... Глаза из-под косматых бровей зырили на малеванье — брови прогнулись, ладонь — бах о стол.
— Оце... Лучше не сделаешь, чем в чернодубской церкви. Послушай... Говорят, твоя мать нас благословляла?
— Моя.
Журбиха перехватила гультяев на развилке дорог в Чернодубе, где стоит свежевыстроенная корчма. Выставленная рука торопливо осенила крестом весь гультяйский люд, который для безопасности пропустил вперёд свои обозы. За то благословение, спрыгнув в пыль, поклонился женщине атаман Голый.
Петрусь не знал, продолжать ли работу, нет ли.
— Сядь за стол! — приказал атаман, сделавшись вмиг каким-то необычно важным. — Оце... Уважаю маляров да певцов. Чистая у тебя душа. Не рассказываешь о гетмане... А я так скажу: разве может Бог поставить над людьми человека, который не подпускает к себе своих подчинённых? Нет! Он хитростью пролез. Только я хитрить не думаю. Я решил сам стать гетманом!
— Как так? — удивился Петрусь. — Гетмана выбирает рада!
— Неправду говорят. Подпаивают, выбирают. Батько Палий уже не возвратится... Хочу иметь силу над всей Украиной! Освободить людей от панов!
— А царь? — даже приподнялся Петрусь на лавке, держась за стол побелевшими пальцами.
— Сиди... Речь Посполитая сейчас ослабла. Освободим и Правобережье наше. Царь поддержит сильного гетмана.
Кто измерил царёв ум? Помочь настоящему гетману — дело, а здесь... Как только Петрусь попал на этот хутор, неспокойно стало у него на душе. Как же так? Гультяи вокруг... Галя, живя среди гультяйских женщин в хатёнке возле вала, завела себе казацкую одежду, выпросила у гультяев саблю. Она ежедневно спрашивает: «Петрусю-сердце! Когда же поход? Людей жалко...»
Батько вдруг захохотал, словно обращая всё сказанное им в весёлую шутку:
— Малюй, казак!
А сам снова уставился в окно. Огромный, хмурый, умный.
За окном шумят деревья. Там, во дворе, варят кашу гультяи, слушая Галино пение. Её песни переполнены печалью о Чернодубе, о суженом. Похожая печаль и в гультяйских думах. Но здесь все убеждены, что жених её — Петрусь. Как усадил Петрусь девушку на коня из Гусаковой конюшни — так и не слезала она вплоть до этого хутора... Зачем собрались? Бездельничать?
— Ты вот что, — напомнил батько. — Держи пока язык за зубами. А я своего времени не прозеваю. Скажу — люди поддержат.
Ничегонеделанье оборвалось неожиданно. К корчме, закрытой тёмным лесом и обставленной высокими дубами, прискакал весёлый всадник. Привязал коня к воротам с навесом и всех поднял на ноги зычным криком:
— Казаки! Гетман увёл войско на помощь царю! Шведы бьют царских солдат, а те грабят наших людей! А ещё — убивают насмерть! Шведы нам не вредят! Только просят продавать хлеб.
— Враньё! — закричали гультяи. Кто-то — в морду приблудника. — Твои шведы нашу веру топчут!
Весёлый всадник утёр рукавом яркую кровь под носом и выхватил из-за пазухи бумагу:
— Пусть грамотеи читают!
Петруся нашли возле горшочков с красками. Втащили в корчму. Он только глянул на бумагу — чудо! Огромными битыми литерами, по-нашему: король шведов, готтов и вандалов, Карл XII!
Высокие слова заткнули гультяям пасти. Даже толстый корчмарь замер — с раскрытым ртом и огромным жбаном в руках. Кружки, кубки, макитры — всё отодвинуто.
— Ну что там?
— Король пишет: шведы не трогают мирных жителей.
— Ты кто такой? — спросили гультяи; среди них громче всех рыжий Кирило. — Кто дал цидулку?
Но больше не совали в морду кулаками. Приблудник насмешливо повёл отчаянными глазами. Сам высок, крепок, словно пан, — откормлен, хоть одевайте сотником или полковником. Он и сознался:
— Я служил в гетманском войске. Кто признает? Ну?
Петрусю достаточно взглянуть на толстую шею да широкое лицо:
— Сотник Онисько!
Человек и глазом не моргнул:
— Этого казака мне приказывали вязать! Да разве мог я оставаться там? Царь окружил старого гетмана своими солдатами. Ступи не так — на кол! А гетманово войско разбегается. Не на нас идут шведы. Вырвем наши вольности! Будет Украина свободной! А то царские офицеры казаков за наймитов считают!
Его заглушили крики:
— Значит, швед сюда идёт?
— Пусть батько ведёт! Ляшских панов прогнали — и своих прогоним к чёртовой матери!
Атаман Голый спал в сарае на сене — его разбудили. Для верности рыжий Кирило плеснул на огромную голову ведро холодной воды. И как был, в мокром красном жупане, усадили атамана на коня.
— Веди! Народ просит!
— Гетман уже повёл казаков на шведа!
— Веди! Веди!
Ой как много люда вокруг хутора! Далеко разнеслась молва о смелом атамане. Ржут кони, блестят сабли — не удержать гультяйского моря. Взмахнул батько саблей, вытащенной из ножен:
— Слуша-ай! На панское кодло!
— На панское кодло! — полетело по лесу.
Солнце ещё дарило теплом. Деревья в жёлтых листьях. Следы на песке такие торопливые, колёса погружались глубоко — везли паны добро!
— На Гадяч! — закричали. — Свою старшину над собой поставим!
Атаман Голый хотел показать, что не раздумывает ни минуты, разрешает брать и Гадяч. Словно есть у него сила сдержать люд.
Петрусь — со всеми. В жёлтом лесу осталась размалёванная хата. Смоют дожди со стен яркие цветы и кичливых петухов... Галя снова в седле, рядом. Прыткая, потому что с малых лет ездила с хлопцами на конях без седла, держась только за гриву, а здесь — в седле! Одетая в синий казацкий жупан, в казацкие красные штаны на широком очкуре, в шапке-бырке, она похожа на молоденького безусого казака. Никто не догадывается, что у казака под шапкой копна густых чёрных волос.
— А в Чернодубе будем, Петрусь?
— Не знаю, Галя.
Петрусь не ругал себя больше за то, что не отвёз девку под Киев, к её троюродной тётке, как обещал. Зачем? Коли здесь — буря...
— На Гадяч! — не утихало. — На Гадяч!
Только шумело под низкими тучами. До них доставала пыль, поднятая неисчислимыми копытами.
Онисько-приблудник стал у батька правой рукою. Батько, опытный рубака, ещё и не взмахнул саблей, как Онисько уже сбил конём сердюка и компанейца, вздумавших защищаться.
Ветром ворвались в Гадяч. Хотели проскочить сквозь высокие ворота да изрубить казацкую залогу. Только замковый господарь знал службу. Ворота своевременно закрылись. Залога выкатила пушки, они плюнули с вала огнём — обезумевшие кони еле унесли отчаянных подальше от смерти.
Зато предместья клокочут.
Петрусь с Галей тоже на майдане. Чернодуб не так и далеко от Гадяча, но Галя о селе не вспоминает. Девушку покорила езда. Её сабля сверкала над лошадиной гривой, однако Галя в ужасе отводила взгляд от пролитой крови...
На майдане высокие дикие груши с мелкими редкими листочками. Трава по его краям зеленеет по-весеннему. На зелёном подаёт голос забытая кем-то коза...
Когда Петрусь с Галей пробираются к высокому крыльцу, на котором творится суд, на крыльцо вдруг выводят нового узника в богатой одежде. Человека поворачивают лицом к толпе. Батько Голый спрашивает:
— Оце... Кто скажет? Га?
— Купец Яценко! — ревёт в ответ толпа. — Дворец выстроил! Знаем!
Издали сверкает железо на башне в том месте, куда указывают сотни рук. Даже Псёл под осенним солнцем не может так сверкать.
— И Яценка на дуб!
— Его за что? Отпустите! Торговлей занимается...
Многие голоса оправдывают купца. Яценко же смотрит на людей, но глаза его ничего не видят от страха.
— Галя! Постой здесь!
Петрусь бросается к крыльцу. Нужно подсказать атаману... Но пока пробирается, бывший сотник Онисько уже что-то шепнул атаману и обращается к толпе:
— Люди! Казаки! С купцом поговорю сам! Скажет, где деньги!
— Бери! — отвечают хохотом. — С твоею мордой катом быть!
Яценка заталкивают в дом. Под рёв толпы да гул церковных звонов выводят других. Толпа уже кричит, что народ взялся за оружие и в соседних городах да местечках, — вся гетманщина бьёт проклятых. Вот бы запорожцам подать весть!
Батько Голый глядит на человеческое море очень внимательно, и Петрусю, таки пробившему дорогу к крыльцу, кажется, что атаман сегодня обязательно раскроет перед всеми людьми свои тайные намерения.
10
Киевский митрополит Иоасаф Кроковский, возвращаясь из Москвы, заехал на гетманов зов в Борзну. В сильной печали выходил старик из покоев дома, перед которым толпилось казацтво, кареты, кони. Жёлтый отблеск свечей струился по чёрно-седой бороде, а сосредоточивался он в сердцевине золотого креста. На крупных ласковых глазах стояли слёзы. На пороге митрополиту встретился стольник Протасьев, присланный царём. Склонившись для благословения под митрополичью руку в пышном рукаве, стольник с немым вопросом взглянул на святого отца, но вместо ответа услышал тяжёлый вздох. И так понятно: смятенная душа вот-вот оставит иссохшее тело.
— Не спит. Еды не принимает, — прошептал Протасьеву в полутьме покоев генеральный писарь Орлик.
Полковники со всех сторон стояли молча. На шляхетном лице умирающего проступила прозрачная благостность.
— Помогла молитва, — раздался шёпот.
Гетман вдруг шевельнул серыми устами:
— Поеду... За мной везут мою домовину...
Говорил умирающий чётко. Протасьеву припомнились рассказы о крепких стариках, которые до смерти сохраняют понимание и речь, и он почтительно сунул в жёлтые руки указ с большими красными печатями.
— Писано, что вашей милости не надобно ехать. И на словах велено передать, чтобы вы с обозом оставались на этом берегу. За Десну посылайте лёгкое войско.
— Прочти, — кивнул гетман Орлику, сверкая глазами. — Да простит его царское величество: его письма следует читать как молитву, а я...
Старшины отворачивались, как слабые женщины. Протасьев должен был смотреть, чтобы обо всём досконально доложить царю.
Протасьев уехал на следующий день, почти одновременно с митрополитом. А только исчезли важные гости — к гетману без зова сбежалась генеральная старшина. Орлик всех впустил.
— Говорите, — подбодрил тихим голосом ясновельможный.
— Заварил, пан гетман, кашу, — начал Ломиковский, — а сам...
И отступил с опущенной головой. Толковал с гетманом недавно. Теперь... Старшина требует...
Стоило начать, как все обступили постель.
— Поманил калачом, а где калач?
— Страшно! Как теперь назад?
Правда, лишь приметили, что гетман хочет говорить, — притихли. Молчание продолжалось долго, пока старец, поддержанный Орликом, не поднялся над подушками:
— Шишка по дереву, а медведь уже ревёт!
Старшины заулыбались. Перед ними почти привычный гетман. Ему полегчало после вчерашнего соборования.
— А где Быстрицкий? — спросил гетман Орлика. — Зови.
Быстрицкий — управитель поместий в Шептаковской волости, данной на гетманскую кухню. У гетмана поместий — будто звёзд на ясном небе. Но среди его управителей Быстрицкий — месяц среди простых звёзд. Он и деньгами ведает, и церкви строит, и с малярами да строителями ведёт дело, разъезжая по всей гетманщине... Быстрицкий вошёл прытко. Высокий, стройный. Немного смутился перед генеральной старшиной, да не забыл и подрагивающими пальцами подкрутить тонкий ус, а когда гетман заставил поклясться, что он, Быстрицкий, не выдаст большой тайны, и когда при всех доверился ему, — рука Быстрицкого свесилась вдоль тела, как на вербе после сильной бури свешивается сломанная ветвь.
Орлик пододвинул гетмана поближе к свету.
— Он едет к королю, — указал гетман глазами на Быстрицкого. — Дай инструкцию, пан генеральный писарь!
Всё делалось настолько поспешно — Быстрицкий уже зашивал в жупан инструкцию! — что собравшиеся в светлице растерялись: не простое дело, Господи. Против самого царя!.. А к царю, к единоверному русскому народу, — ой как липнет чернь. Уже пробовал Иван Выговский... Чернь так просто не оторвать от Руси...
— Чернь что скажет? — хрипло спросил Апостол.
Мазепа боялся вопроса, но ждал его:
— Кто её спрашивает? Ты в Миргороде, Горленко в Лубнах, Скоропадского в Стародубе припряжём, Полуботка в Чернигове, Левенца в Полтаве. В Батурине — полковник Чечель. Ещё сердюцкие полковники... Для этой черни всё и делается. Разве ж они сами на что способны? А потом спасибо скажут, когда поймут.
Когда все ушли — на гетманский двор слуги подвели для Быстрицкого коня, он уехал в ночь, — гетман сказал Орлику:
— Alea jacta est
[22], Пилип?
Орлик, возбуждённый, радостно кивнул головой:
— Sic, domine!
[23]
Лёжа на постели, Мазепа думал, что ничего ещё и не начиналось. Если не туда попадёт Быстрицкий, так нет в инструкции подписи. Жребий ещё не брошен... Не так просто жечь за собой мосты, urere pontes
[24]. Упадёт с плеч усатая голова Быстрицкого, вот и всё. А пискнет кто среди старшин — и его голова... Вот и Орлик. Думает, общая беда. Не понимает, что над пропастью ходит. Как не стать тебе, Пилип, рядом с гетманом, который изображён на парсуне, так и не станешь рядом с живым. А ради такого великого дела нельзя кого-то щадить.
Быстрицкий возвратился через несколько дней, ночью, смертельно усталый, приятно возбуждённый. Захлёбывался, рассказывая, как принимал его шведский король.
— Матка Боска!
[25] На чистом золоте ел и пил! Слово гонору!
«Не пронюхал ли он о договоре с королём Станиславом? — подумал Мазепа. — Не потревожит ли он этих дураков?»
— Пока я доехал сюда, пан гетман, король уже, без сомнения, с армией на Десне!
— На Десне? Зачем ему сюда?
Гетман задумался. Предполагалось: взяв продовольствие и порох на украинских землях, король потянет за собою царское войско на Москву. Здесь останется один властелин — гетман Мазепа. Пока что гетман... Будут его почитать как избавителя от москалей. Если он ещё, конечно, всех бунтовщиков сумеет свернуть в бараний рог...
О возвращении Быстрицкого не говорили никому. Орлик усадил его в закрытую карету и проводил за борзенские ворота. Верным слугам приказано отвезти управителя в Батурин, под надзор полковника Чечеля, верного Мазепе.
А гетману начинало казаться, что теперь в самом деле alea jacta est. Хоть и не сделано ничего такого, чтобы нельзя было повернуть назад, но если уж придётся — прольётся много крови. Так устроен мир — или ты кого ешь, или тебя. Простому человеку легче. Покорись сильному, живи его умом... А ещё московский царь слишком молод, чтобы иметь Мазепу на посылках, чтобы отдать его в подчинение сомнительному шляхтичу Меншикову, который и не таится с тем, что он ни во что ставит казацкое войско, что готов сам сделаться казацким властелином.
Мысли прервал приезд Войнаровского. Войнаровский находился при князе Меншикове будто бы для особых поручений, а действительно — он заложник. У Войнаровского в глазах одно почтение, как у людей при королевских дворах. Это могло означать, что племянник сейчас попросит денег или скажет, что вздумал — в который раз скажет! — жениться. Он — надежда бездетного гетмана.
Войнаровский одним духом:
— Дорогой мой дядя... Я удрал от князя...
— Почему? — ещё спокойно спросил гетман.
Племянник ответил, но дядя не вслушивался. Он сокрушённо подумал о том, что вот придётся писать Меншикову извинительное послание и поразмышлять, какой ценный подарок следует отправить светлейшему. Племянник же подсел к большому зеркалу, всему в золоте, дорогому — себе бы такое! — острым ногтем поскрёб тонкий ус и уже безразлично улыбнулся:
— Забыл... Царь приказал ему вас проведать. Драгуны готовятся.
Разве намеревался племянник нагонять ужас на своего родного дядю? Немощный человек вмиг спрыгнул с кровати, весь в длинном, белом, тонком.
— Франко!
Франко застрял в дверях, словно громом прибитый, завидев гетмана на ногах. Перекрестился, упал на колени.
— Ясновельможный пан! — И молодого служку, сильного, громоздкого, поставил рядом с собой. — Молись, сыну! Матерь Божья чудо творит!
А гетман собственноручно затягивал на сухом животе очкур, искал сапоги, наклонялся — на ночь собирался в дорогу?
— Будите полковников.
Полковники тоже остолбенели, застав Мазепу стоящим в окружении растерянных слуг, с насупленными белыми бровями, с чёрной, прежде неприметной, а теперь набухшей родинкой на лбу.
— Готовьтесь к великому! — крикнул он.
Ломиковский вздумал его поддержать, но гетман решительно отвёл руки генерального обозного.
Орлик, войдя в светлицу, нисколько не удивился, только побледнел, услыхав слова:
— Войнаровский еле вырвался... С огромной силой идёт Меншиков! На возах кандалы. На всех нас! Спасение для нас у короля!
Войнаровский хотел что-то возразить, но Мазепа остановил его движением костлявой руки. Полковникам приказал:
— Сейчас же выступать... На Батурин! Сейчас!
11
Князь Меншиков торопился битым шляхом из Чернигова к Борзне, часто забывая о вместительной карете, куда мог бы при желании пересесть в любое время. Царь сражается с Ивашкой Хмельницким, то есть пьёт от радости, на здоровье себе и на погибель врагам, — нечего остерегаться. У князя было задание не допустить соединения армии Лещинского с королевской. Лещинский, по сообщениям Мазепы, недалеко. Поэтому сразу после битвы при Лесной Меншиков зашёл с кавалерией шведам в тыл, встретился в Чернигове с полковником казацким Павлом Полуботком. Корпуса Левенгаупта, можно сказать, не существует. Обременённые обозами с продовольствием и боеприпасами, шведы понесли поражение от меньших русских сил, объединённых в летучий отряд — корволант.
Гетманские земли, уставленные золотыми, ещё необмолоченными стогами, скирдами и кучами соломы, зеленовато-жёлтыми копнами пахучего сена, дышали покоем. На синие воды падали красные и жёлтые листья. В сёлах звучали песни, ухали бубны, звенела медь. Несколько раз встречались многолюдные свадьбы, и каждый раз жилистая княжеская рука швыряла в нарядную толпу звонкие деньги. Меншиков озорно подмигивал жениху в белой нарядной свитке и в серой смушковой шапке и невесте в красивом веночке из живых цветов, ловя себя на мысли, что неплохо бы самому заделаться хозяином пускай небольшого куска здешней плодоносной земли, если уж нельзя добиться большего. Приедешь, а тебя встречает полногрудая экономка, табунчик хорошеньких горничных... Ведь когда-то, когда сообща с царём одолевали Ивашку Хмельницкого, зашёл было осторожный разговор. Если что не так — это шутка.
«Мне бы гетманом... После Ивана Степановича... Хампа-рампа, как говорят в Варшаве. Мы бы эти земли навечно... Ты бы не печалился. Если уж польского короля из меня не получилось...»
Царь посмотрел округлившимися красными глазами — пришлось переводить всё на шутку:
«Постригся бы под горшок. А парик этот дьявольский — воронам!»
«Не дело! — побагровел царь. — Не время!»
И всё. И заикаться опасно. Кого-кого, а царя Александр Данилович изучил. Друг, брат, а что не так — забудет, как пили-гуляли. Учил в Москве на балу перед дамами. Рожу окровянил... Да... На всё своя пора... Теперь приказано поговорить с умирающим Мазепой о планах на войну с Карлом. Царь почитает старика. А кого изберут казаки? Кто сумеет держать их в покорности? Вопрос. Правда, царь надеется, что гетман успеет посоветовать, кого... Может, подсказать себя?.. Хе-хе... Но попробовать ещё можно.
Драгуны продвигались ровными рядами, а казаки, посланные для почёта черниговским полковником Полуботком, тоже будто бы в одинаковых жупанах, но в разных шапках — и высоких, и низких, в разных сапогах — и красных, и чёрных, и даже в зелёных, — ехали свободными кучками, весело перебрасывались с драгунами шутками, большей частью о молодицах да девчатах, первые ржали, припадая усатыми лицами к густым конским гривам. Меншиков нагляделся на казаков. Почитай, во всей войне, начиная от тяжёлой для воспоминаний Нарвы, — везде рядом с царскими полками стояли казаки. Что и говорить, если бы их обучить на европейский лад — получилось бы чудное войско. Ведь и стрелецкие полки не сравнить с новыми. Нерегулярным войском не победить европейские армии. Это убеждение царя. Им проникся и князь. Был намёк гетману, при царе. Гетман жалостливо улыбнулся, поднимая голову от шахмат, в которые он хорошо играет, на своих полковников. У царя один ответ: «Не торопи, Данилыч!» Таки правда, хампа-рампа...
В Мене, небольшом местечке недалеко от Десны, Меншикову встретился краснорожий полковник Анненков, командир полка, приданного Мазепе. Полковник доложил, что послан гетманом с пакетом к князю. На словах ему велено просить извинения за Войнаровского.
Александр Данилович, не вылезая из кареты, разорвал пакет. Гетман почтительно заступался за молодого шалопая. Конечно, если бы это не гетманов племянник, так можно было бы содрать мешок денег. Меншиков бросил пакет адъютанту. Полковнику сказал:
— Я к гетману... Застану?
Анненков не понял:
— Гетман прискакал с казаками в Батурин в хорошем здравии.
— Прискакал? — приподнялся на подушках Меншиков, одновременно жалея, что не будет рекомендаций относительно нового гетмана. — Гм-гм... Быстрей возвращайся. Пусть встречает в Батурине. Погощу...
Анненков приложил пальцы к треуголке. За ним — многочисленный конвой.
Меншиков подкузьмил:
— Полк, братец, за собою водишь?
— Гетман посоветовал! — пуще покраснел полковник. — Шведы...
— Где они? У меня конвой поменьше.
Сам князь не торопился — пусть готовится старик. В Макошине, над Десной, выставив усиленные караулы — действительно недалеко шведы! — он засел в корчме за широкий дубовый стол, густо изрезанный ножами проезжих. Из маленьких окошек, засиженных мухами, падал скуповатый свет. Наполненная военными людьми, корчма казалась сказочным вертепом. Князь, большой любитель игры в шахматы, приказал подать из кареты эту заморскую забаву, но вдруг вопросительно поднял палец перед длинным носом:
— Как нынче урожай? Хорош?
Полногрудая черкасская корчмарка, привыкшая к разным мужским шуткам, густо всё же покраснела под насмешливым взглядом, перед блеском одежды и пышным париком, не зная, зачем такому богатому человеку ведать про урожай на здешних нивах. Князь ущипнул её за тугой бок под красной корсеткой — она вскрикнула, еле удержалась, чтобы не ударить по бесстыжей руке, да передумала в последнее мгновение, встретив властный взгляд обжигающих её глаз.
— Хороший. Пудов по пятьдесят с десятины.
— А ты в шахматы играешь?
Офицеры захохотали. Корчмарка поняла, что произвела на князя приятное впечатление. Заворковала по-голубиному. Князь же поднял руку — наверное, чтобы удалить всех из корчмы, — да во дворе как раз остановилась ещё одна карета — в упряжке белые лошади.
— Князь Голицын! — достаточно было глянуть в окошко адъютанту.
Князя Димитрия Михайловича Голицына царь поставил киевским воеводою, а теперь, снисходя к просьбам гетмана, ему дано много царского войска, и он должен следить, чтобы среди малорусского народа не получилось шатости.
Меншиков знал, что княжеский род Голицыных известен на Руси, у царя — в почёте. Особенно после того стал он кичиться, когда брату князя, Михайлу Михайловичу, удалось под селом Добрым побить шведа... У братьев дружба между собой. Чувствуя в киевском воеводе интерес к казацкой булаве, Меншиков заговорил с ним сдержанно, однако они вдвоём славно выпили, наслушались в корчме жалостливых казацких песен. Хозяйка там уже ни с кого не требовала денег — ей заплатили князья.
Корчмарку Александр Данилович взял с собой в дом макошинского казацкого атамана, отпустил только утром. Молодым офицерам потом сказал, что она понимает толк в шахматах. Офицеры хохотали.
Наутро князья вдвоём направились к Мазепе. О супротивнике упоминаний не было. Шведов удерживали царские войска, гетманские казаки, леса, болота. Кто знает, как далеко намерены шведы проникнуть в гетманщину? Пробовали взять Стародуб, ан нет... Князья знали, что в армию собирается приехать царь.
Сразу за Десной, на краю хутора из трёх хат, карету неожиданно остановили. Меншиков дремал на мягких подушках. Парик, свалившись с головы, лежал рядом, словно жирный казацкий баран. В щели проникал ветер, охлаждая белый голый лоб.
— Что там? — сердито выставил князь на ветер длинный нос.
Адъютант же подтолкнул к карете человека в казацкой одежде. Тот шепнул несколько слов — и князь забыл про сон:
— На кол хочешь?
Человек, дрожа, твердил одно:
— Слово и дело! Детьми клянусь!
Драгуны отвели человека в ближайшую к дороге хату. Меншиков закрылся с ним вдвоём. Разговор был тихим, но человек вышел с красным и распухшим лицом. Хозяйка подворья, дрожавшая с детьми возле криницы с высоким журавлём, подала ему кусок мокрого небелёного полотна.
Меншиков был уверен, что после его удара самый упрямый преступник скажет правду, а человек повторил ему всё слово в слово.
Голицын вылез из кареты. Александр Данилович отогнал всех, прошептал Голицыну:
— Мазепа вроде у шведов...
— Да? — нервно хохотнул Голицын, меняясь в лице. — Едем в Батурин.
Принёсшему новость связали руки и ноги, бросили в карету под княжеские ботфорты.
Драгуны и казаки хмурились.
Приближалась гроза. На западе клубились красные облака, тяжёлые, будто кованные из железа. Ветер подхватывал колючий песок и бросал его в глаза...
Батурин, расположенный на левом берегу Сейма, на высокой горе, в золоте деревьев, выглядел сказочно красивым. Даже стволы пушек на его зелёных ещё валах казались сверкающими игрушками. Сердюцкий полковник в красных широких шароварах и в красном жупане презрительно сплёвывал вниз, глядя в пространство.
Голицын назвал фамилию полковника — Чечель.
— Хотелось бы мне с ним поговорить! — тоже сплюнул себе под ноги Меншиков.
В предместье, в лачугах, стоял с полком Анненков — и его не пускали в фортечные ворота, хотя с неба начал сыпаться осенний дождь. Анненков почернел лицом от плохих предчувствий. Где теперь Мазепа? Вроде бы торопился к царю...
Взяв Анненкова, князья бросились вслед за гетманом, да на битом шляху какой-то человек сообщил им, что тот с казаками уже за Десной.
Анненков, услышав это, сгорбился.
А князья, возвращаясь назад, внимательно присматривались к встречным черкасам...
В Макошине Меншиков понял, что о предательстве говорят уже открыто — на улицах, на ярмарках. Он приказал подвести свои полки ближе к Десне, а офицерам — следить за казаками да за всеми черкасскими обывателями и нескольких человек отослать в Чернигов для разведки, что же делает там Полуботок. С Голицыным так и не договорились — писать царю, нет ли. Голицын торопился к своим полкам.
Когда солнце поднялось высоко, Меншиков заслышал в подворье шум. Он затолкал за вышитый пояс пистоль, чувствуя приятное возбуждение.
«Удержим черкасов от предательства — может, стану гетманом?»
Стриженные под горшок люди, узрев князя, с криком пали на колени, одновременно подталкивая вперёд седого человека. На миске, обрамленной вышитым полотенцем, затанцевала белая паляница да рыжий комочек соли в деревянной сольничке.
— Заступись, княже, перед царём! — выставил старик хлеб-соль. — Мы непричетны! Не отойдём от русских братьев! Не отступимся от православной веры! Наши деды за неё терпели, а не отступились!
Меншиков понял, что черкасы вроде бы отрекаются от гетмана. Ещё не доверяя своим ушам, он подошёл к старику, намереваясь всё же демонстративно его обнять, выставил руки, да старик приложился сухими губами к княжеским пальцам. Князь выбросил из головы намерение обниматься, догадываясь, что черкасы ещё на том берегу Десны хотели остановить его ради просьбы о защите.
Во двор вступали новые толпы. Коней оставляли на широком лугу. Приближались, заранее снимая шапки, и князь, слыша просьбы, снова и снова появлялся на крыльце, перегибаясь через широкие тёмные перекладины, крича, что пишет письмо царю.
Однако пришлось-таки спуститься с высокого крыльца.
— Мы привели сынов! — толкали перед собою двух молодых казаков в синих жупанах седоусые старики. На лицах молодых — испуг.
— Откуда? — ухватил князь за рукав одного молодца.
Они оба упали на колени. Их заслонили родители.
— Не своей волей, княже! Спаси!
Толпа поддержала стариков:
— Принудили! Ты заступись! Службой вину спокутуют!
— Откуда вы? — начал что-то понимать Меншиков.
— Из гетманского войска они удрали! — крикнул старик.
— Встаньте! — приказал князь, просияв лицом. — Сбежали? Хорошо. Расскажите об измене. Чтобы мне подробно написать его царскому величеству!
Меншиков так широко зашагал к крыльцу, что молодые не поспевали за ним.
«Не все черкасы пойдут за Мазепой! — думалось князю. — А коли так... Новый гетман нужен. Пусть и не я, а поживиться можно».
Через полчаса, слушая сбивчивые ответы обманутых, Меншиков узнал, что в Чернигове Полуботок держит сторону царя и ждёт от него, Меншикова, указаний. Теперь можно писать царю, утешить его. И Меншиков, горя́ от нетерпения, посвистывая, смотрел на жёлтые деревья, на синюю воду Десны...
12
Тёмной ночью полк Гната Галагана подняли на ноги.
— Седлайте коней! — закричали есаулы. — Выступаем!
— Это дело! — Денис Журбенко толкнул Степана — тот во сне шлёпал мокрыми губами, — выбежал под жиденькую морось.
Огни с трудом раздвигали густую темень.
— Быстрей! Быстрей! — только и слышалось. — Трясця вашей матери!
Гомон рождался и на соседних хуторах. Пробовали голоса медные трубы.
— Поход? — спросил уже выбежавший во двор Степан.
— Поход! Дождались...
Денис, отпущенный из Старо дуба полковником Скоропадским, надеялся отыскать в войске брата Петруся, но встретился ему здесь один Степан. Денис упросил полковника Галагана взять хлопца в свой полк. Нет больше побратимов Зуся и Мантачечки — зато есть Степан...
Трубы затрубили где-то рядом.
— Стройся! — От напряжения есаулы припадали к конским гривам.
Выехали на рассвете. Темень расползалась на куски, как изношенная в походах казацкая бурка-гуня. Холод бодрил людей и зверей. Полк, ощетинившись острыми пиками, продвигался мощным ходом. Чувствовалось, что следом идёт всё войско.
— Гетман впереди! И старшины с ним! И музыканты!
Дорога
привела к Десне. Седой перевозчик, согнутый годами, осенял войсковой люд чёрной рукою. На берегу, несмотря на раннее время, уже теснились женщины и дети. Из тумана показалось бледное солнце, пуская по воде лучи. На свет, как на поживу, выпрыгивала рыба, разрывая поставленные с вечера сети. Старому будто и не было дела до всего этого... Возле берега ещё много челнов и несколько паромов. Простые казаки, помоложе, переправлялись так, как прилично воину, — держась за лошадиную гриву. А старшины да и просто люди постарше всходили на влажные доски. Некоторые вели коней. Вода холодная, жаль рисковать дорогим конём.
Гетман не спешился и на пароме, а переправясь, замер в ожидании. Кони взбирались на берег, фыркали, стряхивали гривами и хвостами щекочущие капли. За рекой, на оставленной земле, ударили в медные колокола. Сама церковь не видна, из белой сумятицы торчит лишь острый крест. Всё загадочное, тревожное... Война.
Гетман подал знак булавою.
Казацтво двинулось.
Небо задрожало от песни:
Гей, та ми ж за тую Украiну йдемо!
Ми ж ii як рiдну матiр бережемо!
Песню, говорят, придумал сам гетман.
Поправляя за спиною пику, Степан следил за Денисовыми движениями, чтобы не прозевать чего-то такого, что умеет делать старший товарищ, не раз побывавший в сражениях. Многие казаки тоже посматривали на горбоносого Журбенка. Таких казаков, которые уже воевали со шведами, рядом было достаточно, но лишь один Денис твердил — шведов можно бить! И по гетману видно: можно! Он спокоен, лицо в улыбке...
— Где швед? — гудел вопрос.
Взмахом руки гетман остановил войско на огромном гречишном поле. Гречиха скошена. Почерневшие от влаги копны окутались белым паром. Гетман натянул поводья возле одной из них. Войско окружило его со всех сторон. Ближе прочих — старшина. Среди неё, рядом с полковником Апостолом, Денис увидел своего полковника Галагана — молодцеватого, крепкого, с перебитым в сражении носом. Галаганов глаз кому-то подмигивал.
— Шведы — это не скоро! — Денис уловил в гетманском поведении хорошие приметы.
Булава тем временем поднялась, во все стороны стреляя искрами от драгоценных камней. Властный голос не вязался с суховатой фигурой, да и казаки отвыкли от голоса ясновельможного — потому замерли. И вдруг завертели головами: это он говорит? Он, так долго не встававший с кровати? И говорит
такое?
— Шведский король нам не враг! — неслось над гречишным полем. — Он покровитель и защитник от московского царя! Царь вознамерился отнять наши вольности! А мы потому когда-то присоединялись к Великой Руси, чтобы не потерять их! Я отговаривал царя, да лишь беды накликал! Идёт на нас Меншиков! Меня чтобы заковать в железо! Вас сделают солдатами... За святую волю, братове! За святую правду! За Украину, свободную от всяких покровителей!
Побелел от волнения старик. И старшины возле него напряжены.
— Так мы к шведу? — шептал Степан. — Или я не расслышал?
Денис видел, что белые пальцы полковника Галагана не могут нащупать саблю... А гетман уже охвачен плотным кольцом: писарь Орлик, обозный Ломиковский, полковники Апостол, Кожуховский, ещё генеральная старшина, ещё есаулы, писари, бунчужные. Все с оголёнными саблями, готовые к чему угодно! Денис толкнул Степана, дожидаясь момента, когда Галаган таки выхватит саблю. Как же отделяться от Москвы? С которой общая вера? Кто подаст помощь?.. Так думали отец, дед Свирид, мать, почти каждый человек в Чернодубе, в войске... Денис оглянулся, но с удивлением застыл на месте: казаки недоверчиво посматривали друг на друга. Степан рядом — словно пришибленный, разинул рот и вытаращил глаза. Веснушки на лице проступили вплоть до мельчайшего пятнышка...
— Это — гетман?
Денис ещё взглянул на Галагана. Того оттолкнула конями старшина... Оттеснили и Апостола. Старшинское кольцо возле ясновельможного рявкнуло: «Слава!» И хоть казаки молчали, да утренняя тишина умножала крики. Казалось — кричит всё войско. Даже кони ударили копытами.
Денис решил дождаться вечера.
Но бежать не удалось и вечером. Из-за купания в холодной воде заболел Степан. Утром следующего дня на шведские полки, ставшие с обеих сторон от казацкого лагеря, налетели царские драгуны. Казаки, которые оказались поближе к месту стычки, к ним присоединились. Но Денис был далеко. А уж после такого случая шведы плотно окружили казацкий лагерь. За самим Мазепой ходили высокие драгуны в огромных, с раструбами, сапогах и в белых рукавицах, положенных на рукоятки длинных шпаг. Есаулы твердили, что в королевском лагере готовятся к торжественному приёму.
Мазепа между тем что-то придумал. Едва начал заниматься осенний рассвет, как в хату-пустку, куда на ночь набивалось много людей, ворвались сердюки.
— Выходи!
Сонных людей поднимали с соломы кулаки и нагайки.
— Что случилось? — оскалился Денис.
— Не твоё дело! — свистнула рядом нагайка. — Все выходите!
Лица сердюков укрыты рубцами да ссадинами. Не воины — разбойники из тёмного леса. Да не успели, кажется, эти уйти за порог, как черти принесли других.
— Бегом! Бегом! И чтобы кони играли!
У Степана не было сил подняться. Есаулы же вдруг пустили хлопцу кровь изо рта и носа! Особенно старался громадина с выбитым зубом.
— Ишь, развалился! Как пан в Варшаве...
— Болен он! — бросился на выручку товарищу Денис.
Хотели толкнуть и Дениса, да он сам отбросил кулаком есаула с выбитым зубом и подбежал к Степану. Но тут уж сверху навалилось двое, ударили по голове. Пришёл Денис в сознание — Степан на ногах.
— Вставай! — закричал Денису новый сердюк. — Гетман приказал, чтобы и мёртвые сидели в сёдлах! Га-га-га!
Когда всех построили, стало понятно, почему надрывались сердюки: от войска остались небольшие кучки вооружённых людей. На конях хмуро сидели те, кто верой и правдой стремился заслужить гетманскую ласку, кто верит ясновельможному, да ещё пьяное сердюцтво — вчерашние воры, волоцюги, конокрады.
— Зачем нас?
Никто не знал. За деревьями рядами синеют шведы. Бьют барабаны, сверкают пушки — где уж тут думать о побеге...
Однако Денис подмигнул Степану — тот улыбнулся бескровными, увядшими губами. Денис плотно прижал Серка к коню товарища, опасаясь, что Степан свалится на землю.
В сопровождении старшин показался Мазепа. Вертит головою, будто считает воинов, поднимается на стременах, расспрашивает старшин. Денис заметил, что смертельная бледность, которая появилась у старого ещё на гречишном поле, так и не сходит с его лица.
«Привёл войско! — уже насмешливо подумал Денис. — За такой подарок король похвалит! Ещё и эти разбегутся!»
Когда гетман на холме поднял булаву и все притихли, помолодевший, счастливый писарь Орлик заорал весёлым голосом:
— Товариство! Казаки! Примем присягу! Вступаем в союз с королём Карлом Двенадцатым!
Он говорил и говорил, сияя лицом, но многие казаки в неуверенности опускали головы, слушая его речь...
13
Гадяч ограбили и оставили. Что делать в пустом городе? Деньги истрачены. Панское добро — тоже. А с бедного люда что возьмёшь? С высоких валов постреливают защитники, приберегая ядра и порох. Но те валы не закрыть осадой. Гультяй способен лишь на скорый импет. Коли так, то осаждённые будут делать ночные вылазки и смогут обороняться хоть до второго пришествия Христа. Взбаламученный люд растёкся по сёлам да хуторам, как растекается водою осенний снег. Отомстил он панам. Кого поймали — те покачались в петлях. Уцелевшие — дрожат.
Батька Голого подбивали занять Яценков дом, но он облюбовал хутор полковника Трощинского. Сам полковник с Гадячским полком ещё в августе послан на помощь Сенявскому: нападения не будет. Пока где-то там соберутся сердюки... На хуторе большой дом под уже зелёной соломенной крышей, тёмные возовни, пропахшие навозом, конюшни, жёлтые скирды не обмолоченного ещё хлеба, работящая мельница на реке. Экономы ключей не прячут. А вокруг, как и в других панских поместьях в гетманщине, высокий вал — можно держаться против сердюков. Гультяев полно и здесь, и на ближних хуторах, в сёлах, просто в оставленных человеческих жилищах. Теперь в эти места отовсюду стекались смелые ватаги.
Замковая залога в Гадяче усидела недолго. В оставленные укрепления вступил небольшой отряд царских солдат, присланных от киевского воеводы Голицына. Они вели себя тихо. Да и как задеть взбаламученное море? Гультяи тоже не трогали солдат, хотя бывший сотник Онисько с пеной у рта призывал уничтожать каждый царский гарнизон. Нужно, мол, раз и навсегда изгнать москалей. На Ониськову речь батько вяло двигал заросшими щеками. Это знак смеха. Изгонишь москалей, многозначительно предостерегали старики, а где оборона от татарина да ляха, коль у гетмана нету сил? Снова враг станет издеваться над нашей верой? То-то же... Не поганьте дружбу с Москвой. С ней у нас одна вера!
Гультяи молотили хлеб, перевевали зерно. Кузнецы ковали железо — получалось оружие. Казалось, батько Голый собирается в поход...
И вдруг до хутора докатилась чёрная весть: Мазепа отошёл от царя! Есть доказательства, никто не сомневается — правда! Одни гонцы, с белыми полосами через плечи, поцепили на церковных стенах царские манифесты. Вслед за ними — иные гонцы, в смушковых шапках и в жупанах, с универсалами Мазепы. В одних церквах попы с дьяками читали одни указы, в соседних — иные попы да дьяки вычитывали ещё худшее...
И гультяи, и казаки, и весь народ в Гадяче и в ближних к нему хуторах да сёлах, да, наверное, и по всей гетманщине, ломали себе головы: не антихрист ли морочит лукавыми словами? Чёрными битыми литерами писано и там, и там... Где правда? Батько слушал каждого, понимая, что антихрист всё это пишет. Но, видать, не знал, что следует говорить людям, чего-то ждал...
Далёкие события очень волновали бывшего сотника Ониська:
— Пора посылать людей в помощь гетману! Теперь всё переменилось! Теперь гетман ощутил свою силу!
При всём гультяйском товаристве Онисько такого не говорил, только при батьке Голом да при его помощниках, пока в один хмурый день люд не оставил работы в поместье и не пристал к горлу с ножом: выходи, атаман! Говори свои мысли! Нету сил больше терпеть!
С длинной саблей, на которой дорогие украшения, в чёрной шапке, бледный и помолодевший, медленно, поскрипывая каждой ступенькой и держась за красные столбики, взобрался атаман на высокое крыльцо.
— Оце... Оце...
И больше ни слова.
Петрусь Журбенко с Галей стояли рядом. Мокрая человеческая одежда исходила паром. Петрусь видел, как запали под бровями атамановы глаза. Шутил он недавно об гетманстве или в самом деле надеялся? Почему же молчит?
Гультяи притихли. Полагали, что атаман требует полной тишины. Гул откатился за голые вербы и за возы. В подворье воцарилась тишина. Только где-то подальше менджуны расхваливают товары и в конюшне горячий батьков жеребец бьёт копытом деревянную стену.
— Говори! — настаивали передние.
Он откашлялся в усы. Потом сгрёб их пальцами. В другой руке — сабля. Вдруг взмахнул ею:
— Что говорить! Слать гонцов!
— Верно! — поддержали отдельные голоса тех казаков, которые мало думают, но много орут. — Всё уже послали! Одни мы...
Онисько стал выше ростом:
— Я говорил! Слава гетману Мазепе!
Ониська поддержали уже более дружные голоса. Но с вала заорали иное. Гул прокатился подворьем. Гетмановых адгерентов перекрыл рёв:
— Предательство!
Пистоль непроизвольно выстрелил в небо — Онисько обратился за помощью на крыльцо:
— Говори, батько!
Люд замер. Батько быстро отрезал:
— Посылать к царю! Не по пути с Мазепой! Так думаю... Оце...
Раздался гул одобрения. На валу полетели вверх шапки. Кто-то заплясал. Приумолкли многочисленные гультяи, только что кричавшие славу гетману Мазепе.
Подмигнув нескольким окружавшим его товарищам, рыжий Кирило заревел в один голос с ними:
— Новый гетман нужен!
Закричали не малыши — прислушаешься. Крик дошёл до валов, возвратился:
— То рада скажет!
У Кирила всё продумано наперёд:
— Разве в раде с медными лбами? И там люди. Батько Голый — наш гетман! Слава!
После кратковременного недоумения захохотали:
— Наш атаман? Га-га-га!
Петрусь видел, как батько на крыльце наигранно вздрогнул, словно впервые услышал о возможности своего гетманства.
— Слава! Слава! — надрывались единомышленники Кирила.
Атаман замахал руками:
— Нет! Нет! Оце... Братове... Какой я гетман?
Товариство воодушевилось. Ах вот как! Ну что ж...
Отмахивается батько — таков обычай.
— Не прибедняйся! Не мешком из-за угла пришиблен! Есть ум!
— А где клейноды? Где попы? — засомневался немолодой богобоязненный человек, хватая соседей за рукава, да Кирило и ему:
— Будет сила — всё будет! Слава гетману! Слава!
Такое мощное «слава» наполнило весь двор и выскочило за валы, что батько Голый поднял саблю:
— Оце... Добре, товариство! Пока что держу саблю, а возьму и булаву с вашей ласки! А перед Богом целую саблю!
— Пусть тебе и с росы, и с травы идёт! — закричал Кирило.
Пожелание поддержали все. Только Онисько спрятался за чьей-то спиной. Снова сгорбился. О нём сразу забыли.
— Мы против шведа! Царю суплику! — взял уже дело в свои руки батько Голый.
И никто не осмелился возразить.
Стали избирать людей, кому везти прошение, чтобы гультяев не считали отступниками от христианской веры дедов и прадедов. Криками решили послать рыжего Кирила да Петра Журавля, а с ними — молодого товарища Петруся Журбенка.
Заслышав своё имя, Петрусь вздрогнул. Галя испуганно шепнула:
— А я?..
Петру сю стало страшно и стыдно: он вдруг понял, что о невесте брата думает как о своей будущей жене. Петрусь смутился. Гультяи и казаки считали его своим писарем.
— Вот он! Ну, иди!
Начали передавать хлопца из рук в руки, пока он не оказался рядом с батьком да с выбранными казаками. Галю несло следом.
— Это его невеста!
Девушка оказалась возле крыльца. Глядела на Петруся снизу.
А люди не унимались:
— Кончится всё для Мазепы!
Некоторые смеялись:
— Как же! Царь за своих панов горой! Не станет и наших обижать! Нет!
Выбранные казаки поклонились народу на все четыре стороны. Гнули и Петрусю молодую курчавую голову — эге, после болезни голова обросла ещё более густыми кудрями.
Из-за тучи выглянуло солнце, осветило двор, отчего гультяйские лица засияли такой надеждой, что Кирило торопливо пообещал:
— Всё напишем, товариство! Наш писарь сложит!
С письмом управились быстро, Петрусь старался.
Правда, казалось, пишет самому Богу. Неужели царь возьмёт в руки бумагу, лежащую пока что на тёмном дубовом столе? Нет. Прочтут слуги... Петрусь имел возможность изложить наконец свои мысли перед царём, пусть и на бумаге, но от волнения мысли туманились, писал только то, что говорили старые умные гультяи, более всего — батько Голый. А получалось хорошо, будто в самом деле излагал своё, сокровенное. Правды, правды мало на земле. Пусть царь её установит.
Письмо прочитали с того самого высокого крыльца. Толпа криком подтвердила, что писано славно. Кое-кто, вскочив на крыльцо, совал в бумагу нос... Потом письмо при всём народе зашили Кирилу в жупан. Кто-то сказал, что жупан уже ношен полковником Трощинским. Кирило хоть и невысок ростом, но плотен. Жупан на нём в облипку. Только внизу подрезали. Пригляделся Петрусь — э, да и Кирило поседел, одни брови рыжие, потому и весь он кажется рыжим. Теперь получается — напрасно тратил жизнь, пока не встретил батька Голого да не поцеловали они друг другу в залог побратимства сабли. Петра Журавля утешало то, что Мазепа раскрыл свои предательские планы.
Петрусь отвёл Галю подальше от толпы, взял её за тонкую руку.
— Поклянись, что сейчас же поедешь к моей матери!
— Петрусь, сердце моё! Мы с твоей мамой, тётей Христей, будем за тебя молиться!
Стояла печальная, не убирала из казацких ладоней свою тонкую кисть... А он запоминал и так до мельчайших чёрточек знакомое лицо. Эх, Галя, Галя...
Посланцам дали самых быстрых коней из конюшни полковника Трощинского. Отправились втроём. Так проскользнёшь везде. А толпой — кто его знает. На дорогах полно мазепинцев. За два дня отъехали далеко.
На свете последние дни догуливала осень. До полудня стояли густые туманы. Солнечные лучи скользили по уцелевшим жёлтым листикам, а листики не выдерживали прикосновения солнечного луча, падали вниз.
Петрусь был весел от понимания того, что едет к царю, хотя никто не знал, где сейчас царь. Но хватало и забот. Как доберётся Галя в Чернодуб? Он с товарищами направился на эту дорогу, а она, такая одинокая, — на гадячскую.
— Петро! — обратился вдруг Кирило, подмигивая рыжей бровью. — Говорил тебе батько, что сделает тебя генеральным писарем?
Петрусь зарделся.
Кирила оборвал Журавель:
— Не говори гоп... С таким едем... Можно и не вернуться.
— Грец тебе на язык! — засмеялся Кирило. — Испугался петли? Парубок... Его к нам судьба гонит. Ему надо жить. У него такая славная невеста. Будет побиваться.
О многом успели поговорить. Мечтали, какая настанет жизнь без панов... Дороги пролегали в стороне от городов и больших сёл. Как переплыли холодный Сейм, Журавель сказал, что недалеко Глухов. В городе, наверно, знают, где сейчас царь.
Солнце цеплялось за ветви деревьев, когда всадники спускались в глубокий овраг, на дне которого чёрными волками шевелилась тьма. Кое-где поблескивала вода. С обеих сторон от дороги под высокими дубами птицы доклёвывали кроваво-красную калину. Было тихо, спокойно. Нигде не слышалось человеческого голоса, хотя на подсохшей земле уже несколько раз примечены были конские следы. А потому невероятными показались выстрелы из-за густой калины. Кирило удивлённо поднял кустистые брови и мешком свалился в высокую жёлтую траву, взмахнув полами дорогого полковничьего жупана. Петро Журавель со стоном ухватился за широкую грудь, закрыл глаза, тоже начал запрокидываться на спину вздыбившегося коня, который в испуге бросился по узенькой тропинке, и всадник, зацепившись одной ногой за стремя, тащился за ним шагов десять, с треском ломая кусты, пока не ударился глухо о ствол дуба и не упал на землю.
— Ой! Ой!
Это произошло в одно мгновение. Петрусь успел выстрелить из пистоля, увидел, как свалилась срезанная кровавая гроздь. Может, лучше было бы дать коню волю, исчезнуть в зарослях? Может, удалось бы удрать, чтобы затем помочь как-то товарищам? Но как оставить спутников?.. Торчал под пулями короткое, как просверк молнии, мгновение, однако достаточно долгое, потому что оно отняло у товарищей жизнь. Наконец самому обожгло левое плечо, и какая-то сила сбросила с коня — он прикинулся мёртвым...
Люди, вышедшие из зарослей, лишь толкнули его сапогом в голову и сразу устремились к Кирилу, стали вытаскивать из жупана письмо, написанное царю, — знали, где зашито. Петрусь различил голос бывшего сотника Ониська:
— Голодранцы! Нового гетмана им подавай... Еле догнали.
Злодеи ещё долго ловили коней. Наконец всё утихло.
Петрусево тело становилось чужим. И вдруг он увидел, как из-за красной калины выходит легконогая Галя с ярко горящим монистом на белой шее. Заслышал он её песню, но без слов. Уже потянулся к краскам, которые лежали рядом, чтобы её наконец намалевать, усилием воли тряхнул головою — Галя исчезла, и стало понятно, что всё это грезится, — он терял сознание...
14
После большой радости приходит беда. Из донесений генерала Инфлянта да фельдмаршала Шереметева царь понял, что шведам не удался прорыв в направлении Брянска. А когда узнал, что полковник Скоропадский надёжно защитил Стародуб — король и не пытался взять его на приступ, — то успокоился ещё надёжнее. Настораживало, правда, то, что шведы, миновав Стародуб, продолжали углубляться дальше в гетманские владения. И вот — новая беда.
Сначала был гнев: гонцы с такими пустяками? Пропал гетман. Хочется Данилычу, до одури хочется стать малорусским гетманом... Дурак...
Кабинет-секретарь Макаров поднимал белую бровь, гладил пальцами бумагу, готовясь писать светлейшему князю самое нелицеприятное письмо.
Головкин и Шафиров тоже недовольны Данилычем.
Да беспокоило одно: Данилыч не обнаружил гетмана и в Батурине.
Взвесив всё, царь вечером составил манифест к малорусскому народу, призывая его и впредь оставаться верным престолу, и одновременно извещал о таинственном исчезновении гетмана. В этих акциях, напоминал, заподозрено коварство — враги хотят поссорить малорусский народ с великорусским. Потому малорусский народ пусть утроит бдительность.
Но в душе оставалась надежда, что всё это — недоразумение. Мазепа ещё будет иметь повод для шуток.
Однако в обед в Погребки, в царскую ставку, прискакал гетманский канцелярист, вырвавшийся из Батурина. Царь лично допросил его и оглядел отобранные у него бумаги — и сомнения пропали. Мазепа действительно превратил Батурин в мощный опорный пункт. Там почти вся казацкая артиллерия! Там верховодит полковник Чечель. Он лишь перед шведами откроет ворота. Сам Мазепа уже у Карла. Вот и бумаги с подписями Чечеля...
Царь не находил слов, какие можно было бы приложить к Мазепе.
Короткий осенний день сгорел, как щепоть табака в трубке. Тёмной ночью в лесу закричали две птицы. Царь уловил в птичьих криках огромную тревогу, какой не ощущал даже после Нарвы. На хуторах неустанно лаяли собаки. Перекликались часовые. В оврагах не знали отдыха волки. Время от времени сыпало дождём. Едкие капли клевали соломенную стреху где-то над головою, насквозь пронизывали голые деревья, а в землю, раскисшую от влаги, вонзались с клёкотом. Царь любил вздремнуть под говор дождя, уткнувшись головою в подушки, и после короткого крепкого сна сразу набрасывался на дела. Но уснуть сегодня не давала мысль о Батурине. Виднелся мордатый высокий Чечель, на которого прежде не обращалось никакого внимания и о котором Мазепа почти никогда не заводил речи.
Пришлось составлять новый манифест. Открыто называя Мазепу иудой, царь созывал православных старшин на раду в город Глухов для избрания нового гетмана.
Писари торопливо перебеливали и размножали манифест. Гонцы бросались в сёдла, не дожидаясь хмурого рассвета.
Той же ночью был послан приказ Меншикову спешить в Погребки. Царь не мог решить, что делать с Батурином, только знал, что его следует непременно и срочно обезвредить. Если шведы выйдут в степи — сражаться с ними станет ещё тяжелее.
Миновало ещё несколько дней — и не узнать неприметный дотоле Глухов. Бесчисленные копыта размесили улочки — не пройти. А ведь известно: осенью от ложки воды ведро грязи!
На царский зов откликнулся в Стародубе полковник Скоропадский, в Чернигове — Полуботок, в Персяславе — Томара, а в Нежине — Жураховскйй. Поджидали также людей из прочих полковых городов. За полковниками следовали старшины тех полков, где главные хозяева — у предателя. Приставали все верные царю люди.
От царской ставки в Погребках до Глухова ехали в сопровождении драгунского Белозерского полка. Шведы с мазепинцами были далеко, за Десной, и царь, посылая полк, демонстрировал своё уважение казацким военачальникам и казацким вольностям. Он и сам направился в Глухов.
Новые и новые перебежчики рассказывали о Мазепе подробности. В Горках его принял король. Они долго говорили по-латыни. Мазепа положил к королевским ногам булаву и бунчук, признавая зависимость Украины от короля, и то особенно возмущало глуховскую толпу. Казаки намеревались просить царя скорее посылать их в бой против безбожного предателя. В Глухове врага не боялись: теперь в бой пойдут все. Теперь ликвидированы аренды на корчмы, отменены многие налоги. Каждому видно, что гетман с панами заботился прежде всего о себе...
Особенно взбодрил слух, что Меншиков на приступ взял Батурин. В это сначала не верили. Свою столицу Мазепа укрепил надёжно, и её взяли? Но москали вывесили реляции. Гонцы собственными глазами видели победу, рассказывали охотникам послушать. Да, в Батурине среди казаков нашлись люди, которые показали потайную калитку в стене. Москали ночью проникли в крепость, за несколько часов взяли её на шпагу. Захвачена вся артиллерия, весь порох!
— А защитники? — спрашивали.
— Защитники... Известно... Война...
— Вот-вот в Глухов приедет сам Меншиков! Он первый вошёл в ту калитку! Он привезёт захваченных для казни! — ширились слухи.
Людей на майдане — не пробить пушечным ядром. И все жмутся к свежетёсаным доскам. С неба сочится мелкий дождь. Мир потемнел, а доски — единственное светлое место. Из досок сколочен помост. На нём отрубят головы преступникам — известно каждому. Рядом — новенькие виселицы.
— Батуринцев повесят! — пальцами указывают на виселицы вёрткие люди. — Меншиков привёз Чечеля! Самого матерого мазепинца!
— Поймали! Переоделся казаком — и на печку к хлопу. Да хлоп не дурак, хлопу своей головы жальче! Позвал москалей.
— Чечеля под топор положат! — клялись другие. — Вон и кат с топором! Тот, мордатый, в красной льоле! А виселица — для Мазепы...
— Опомнись! Где он?
— Поймают! А ты не знаешь — не ври! Чечеля тоже повесят!
— Всё может быть! Меншиков из-под земли достанет! На возах точно кого-то везли. Близко не подпускали. Сказывано — Чечеля!
— Смотрите — Чечель! Вот, в красном жупане... Снова полковником его переодели. Чтобы перед Богом ответ держал.
Ещё выше стали высовываться из толпы головы любопытных. Все громко кричали — на голых деревьях притихли мокрые птицы.
— Здрайца! Мазепа!
В самом деле — солдаты ведут на помост Мазепу. Голова запрокинута, усы длинные, жупан красный, гетманский, с бесконечными вылетами! И пояс на жупане густо украшен золотом. Шайка с длинными перьями. Сапоги дорогие, красные, с блестящими подковами! И глаза его... Только очень уж вытаращены... Кое-кому из женщин не понять, что там да кто там, — стали креститься, зарыдали. Кто-то заухал, засвистел, будто на хищного волка. А затем многие в хохот: да ведь предателем одето чучело — ему срубят голову? Или как? Так всё это — шутка?
Двое солдат ставят чучело перед народом, придерживают за руки. Глазастая голова свалилась на грудь — так один солдат её кулаком. Народ взревел — то ли от страха, то ли от восторга! Но кое-кто удивился: на чучеле красивая лента. На такой Мазепа носил царскую награду, орден... Как же... Всё становится понятным после того, как на помост поднимается Меншиков с царским министром Головкиным.
— Меншиков! Меншиков! — давится толпа криком.
Носатый и очень надменный, от чего нос сгорбился, как орлиный клюв, Меншиков не произносит ни слова. Вдвоём с Головкиным, улыбаясь, они рвут бумагу и клочки её бросают в грязь. Глашатай извещает людей, что была то царская грамота на звание кавалера. Затем толстый писарь читает письмо, где расписаны благодеяния царя у гетмана, — и лишь тогда Меншиков и Головкин срывают с «кавалера» орденскую ленту. Палач умело подхватывает чучело. На красных сапогах золотом сияют подковы. Народ ещё не опомнился, а чучело уже в петле.
— Ой! Будто собаку! — раздаётся чей-то смелый и молодой женский голос. — Ну как же так? Божий ведь человек!
Меншиков смеялся, описывая казни на глуховской площади.
— Ну, хоть с Чечелем я поговорил! Рассказал, как следует уважать генералов, господин полковник! Митрополит Иоасаф огласил анафему в церкви. Разгневался святой отец...
Царские ноздри раздувались. На широком красном лице кровянились круглые глаза. Меншикову делалось страшно. Таким он видел царя в Москве, когда рубили стрелецкие головы. Царь собственноручно опускал окровавленный топор и принуждал делать то же знатнейших вельмож. Ни у какого палача не бывает на лице такой звериной ненависти к своей жертве — прости, Господи, недозволенные сравнения! В царских глазах она беспредельна. Он бы и сейчас собственной рукою казнил батуринцев, только... Не отрекутся ли тогда в отчаянье прочие черкасы?
Меншиков уже и сам чувствовал, что не время просить награды за подвиг в Батурине. Всё сделано там чисто, дерзко, ловко, беспощадно. Никому из бунтовщиков не было прощения. А царь неожиданно развёл сведённые гневом губы. Табак в трубке озарился огоньком. Из едкого дыма долго не показывалась голова поганского сатира. Но от сдавленного смеха его величества все облегчённо вздохнули.
— Дело... Так и надо. Испугались. Запомнят. И внукам передадут.
Царя успокаивало и то, что малорусские города по-прежнему присылают посольства с клятвами о верности. Челобитные поступают оттуда, где регулярным войском и не пахло, — значит, люди остались верными не только страха ради? Припомнились названия: Прилуки, Дубны, Лохвица, Ичня, Миргород... А Мазепа уповает на шведскую силу? Или задумал иную хитрость? Кто ведает...
Пока что в дом Меншикова, где остановился царь, призвали князя Долгорукого. Ему поручено провести казацкую выборную раду. Царь известил, что влиятельным старшинам малорусским объявлена его воля: казацким гетманом избрать Ивана Скоропадского. Царь укрепился в мысли, что гетманом должен стать старик. Скоропадский примечен ещё весной.
Меншиков следил за повелителем быстрым взглядом. Сердце его веселило ожидание награды в виде новых черкасских поместий, обширных земель, драгоценностей, денег.
Много казаков собралось в Глухове. Кричали на майдане за Павла Полубочка, черниговского полковника, да большинство, заранее подпоенное, прокричало имя Скоропадского.
— Слава! Слава! Пусть ему и с росы, и с травы!
Скоропадский, глядя на казацкое море, радовался, что оно безбрежное. По обычаю отказывался от чести, но казацкий выбор сводил на нет его сомнения. Дело в том, что накануне полковнику привезли письмо от Мазепы. Старик звал к шведам. И в письме чувствовалась уверенность: Иван Ильич присоединится! Настя Марковна, читая письмо вместе с мужем, вспоминала кавалерское поведение Ивана Степановича: «Ивасик! Послушай меня. Гетман всё хорошенечко рассчитал. Он так любит Украину, знаю». В её глазах играли чертенята.
Иван Ильич знал, как мало людей последовало за старым гетманом. Хоть Мазепа и семь раз отмерил, всё же с этого дива не будет пива. У него не вся генеральная старшина. Не все полковники. Дух захватывает, конечно, от мысли, какие бы награды можно было получить от благодарного гетмана. Тогда бы Настя Марковна оделась царицей... Но... Теперь pontes usti sunt
[26], как сказал бы Мазепа...
Когда князь Долгорукий, известный на Руси своим родом, поднёс гетманские клейноды и Скоропадский коснулся их дрожащими руками, взял булаву, изготовленную в Москве, точно такую же, как и виденная в руках у Мазепы, когда старшина с майдана тронулась в церковь и там, где службу правил Киевский митрополит Иоасаф Кроковский, новый гетман поклялся в верности царю, лишь тогда внутри у него запело и лишь тогда он понял, что ничего уже не отменит и Настя Марковна, умная молодица. Что ж, Настя Марковна, ты уже гетманша. Не жалей, что вышла замуж за старого вдовца. Не жалей и об Иване Степановиче, о его кавалерском обращении, которого ты больше и не увидишь от наших казаков... Зато одену царицей, сердце моё!
Скоропадский спокойно смотрел на присягу полковников и полковых старшин.
Потом были поклоны царю. От царя несло табаком и заморскими винами. Он сидел. Любимая трубка с поганской мордой заради такого события была положена на стол. На мгновение, когда Скоропадский приблизился, ему показалось, что от въедливого монаршего взгляда не утаить ничего.
Колёса утопали в грязи, однако шестёрка лошадей тащила царскую карету как пёрышко. Рядом с новым гетманом, в честь которого грохотали пушки, в ней сверкал лосинами и кафтаном князь Долгорукий. От гетманского имени в городе разбрасывались деньги. Народ бросался на них с дикими криками. Пьяные не очень вслушивались в новости, но кто пропил не весь ум, те уже знали: только что к царю прилетели новые гонцы. Они известили: шведы переправились на этот берег Десны. Их не удалось задержать и на переправах.
Враг целился в сердце гетманщины...
Часть третья
1

щё недавно в гетманщине считалось, будто бы полтавцам всё равно, где там водит войско грозный шведский король. Им скорее можно ожидать прихода турок с татарами или даже ляхов. И ещё там опасность от внутреннего огня. Не поможет, в случае чего, и то, что в Полтаве — крепость, которую в 1608 году благоустроил польский коронный гетман Станислав Жолкевский для своего зятя Станислава Конецпольского. Высокие земляные валы, пять надёжных ворот: Подольские, Куриловские, Спасские, Киевские и Мазуровские. Предместья обросли хуторами, сёлами, чистыми прудами, густыми вишнёвыми садами да рощами. Они так и потянулись по-над Ворсклой, за Крестовоздвиженский монастырь, дальше, дальше, вдоль Диканьского шляха, и на юг — тоже. Но когда шведы вступили в гетманщину, умный человек не мог больше завидовать безопасности отдалённого города.
Сотник Зеленейский галопом пролетел через Куриловские ворота ко двору полковника Ивана Прокоповича Левенца. Стоя на крыльце между резными деревянными столбиками, выкрашенными в красный и синий цвета, сотник ещё весело смеялся, подрагивая толстым животом, чтобы каждый приметил весёлость и беззаботность на усатом широком лице, припорошённом дорожной пылью. Но стоило сотнику зайти в светлицу — сразу утишился мощный голос. Посеревшие губы испустили шёпот:
— Гетман у короля...
Полковник замер под окном на дубовой лавке, провалившейся в земляной пол многочисленными круглыми ножками и покрытой дорогим красным сукном.
— Погоди! — поднял полковник руку — знак джурам исчезнуть. — У короля, говоришь?.. Да...
Мыслей у Левенца и без того достаточно. Нелегко было столкнуть прежнего полковника Искру. Тот не угомонился, пока не потерял голову. Конечно, нового полковника избрали на раде криком казацтва, да что это значит: гетманов ум и деньги сделают так, что на пост изберут и чёрную ворону, не только человека! Подумать, то и самого гетмана... Так уж повелось на этом свете. Где золото — там и правда. А за полковником с тех пор следит столько гетманских глаз, что ему приходится вертеться мухой в кипятке. Вот и сейчас полковым писарем — Чуйкевич, брат генерального судьи Чуйкевича. А генеральный судья — верный слуга гетмана. Скажи что не так...
— Да... Да... Никому! Слышишь? — посоветовал хозяин гостю, немного придя в себя. — Ой, что начнётся!
Гость тоже опасался — у самого полно добра, на которое зарится голота.
— Обождём, — добавил хозяин. — Да... Да... Что скажет Сечь?
— Запорожцы в нашей корчме сидели. Поскакали, разведаем.
Полтавские полковники всегда оглядывались на соседнее Запорожье. Левенец посетовал в душе, что новость не залежалась в пути. Дошла бы, когда уже станет видно, кто прилепился к Мазепе. Получается, не очень верит гетман полтавскому полковнику, если доселе не намекал ему о союзе со шведами. А не сегодня задумано, нет... Возможно, на полтавское полковничество охота ясновельможному посадить иного человека.
Левенец хлопнул вспотевшими ладонями и приказал вбежавшему джуре пригласить полкового писаря да ещё своего зятя, сына бывшего, ещё до Искры, полтавского полковника — Герцыка.
К вечеру вся старшина знала, какие вести привезены сотником Зеленейским. На следующее утро к полковому городу стали собираться взбудораженные хлопы и казаки из окрестных сёл и хуторов. Сначала они заполнили предместье, корчемные дворы — с такими криками, что слышно было в крепости, — а затем ворвались в главные, Спасские ворота, открытые днём и ночью. Стража не получала приказа кого-либо не пускать. В крепости ворвавшиеся помяли кости нескольким казакам надворной хоругви, стали толпиться вокруг внутренних корчем. Раздались угрозы. Засверкало оружие. Поэтому полковник приказал Зеленейскому собрать казаков полтавской сотни, и выставил на своих воротах пушку. Давно снятая с городских валов, она до сих пор лежала в дальнем овине, старенькая, повреждённая во время последнего прихода турок; её годилось бы переплавить, но уцелела — хорошо. Не очень настреляет, зато напугать ещё в состоянии: не против татар выставлены. Против голоты.
Сотник понимал мысли полковника. Он расхаживал перед пушкой, размахивая саблей и хмуро глядя в сторону своего двора. Разнесу, если что... Казаки покрякивали и украдкой осеняли себя крестом, поворачиваясь лицом к золотым куполам Крестовоздвиженского монастыря.
Всё оказалось сделанным своевременно, потому что люд кипел возле корчем, ярился, взвинчивал себя, кружился вокруг церкви Святого Спаса, а в обеденную пору его уже ничто не удержало. Люд бросился к подворьям богачей так неожиданно, как бросается из чёрного горшка белое молоко, если посудину очень близко придвинуть к пламени... Полковник вместе с зятем Герцыком глядел на разъярённую толпу с душного и пыльного чердака своего дома, припадая лицом к маленькому окошку, где одни рамы, стёкол нет. Зятя приходилось сдерживать.
— Я возьму казаков и разгоню эту сволочь! — шипел тот.
— А если казаки не подчинятся?
Впереди толпы виднелись двое дебелых громил — Охрим и Микита.
— Их уничтожить первыми! — по-прежнему шипел зять, уже впиваясь пальцами в рукоять сабли.
С угрозами, но остерегаясь, баламуты миновали полковничье подворье, приумолкая перед пушкой на воротах. Левенец подумал, что богатым не удержаться в своих дворах. Спрятались — пусть уж лучше бегут в сторону Днепра. Оттуда, как с огромного перекрёстка, видно, куда подаваться дальше. А так, может, и ему, полковнику, не усидеть на дворе, если вздумает чинить народу преграды... Да... Да...
Он перекрестился, думая о душах знакомых богачей, и решил, что пусть деется с ними Божья воля, он им спасения подать не в силах. Кто знает, что будет завтра? Богачи просятся в подземелья, туда в старину полтавцы прятались от татар, но ведь там всё завалено камнями, чтобы не собиралась туда разная сволочь.
С чердака полковник с зятем спустился в светлицу, сел на лавку. Оглядел в окно крепостные валы. Чёрными во́ронами расхаживали там несколько казаков... Что валы, если в самом городе враг страшнее шведа?
Зять от бессилия закрывал глаза. Голоту надо бить. А чем?
Ещё через день, когда в городе примолк гул взбудораженного народа, к полковнику Левенцу гонец привёз с Диканьского шляха царское приглашение ехать со старшиной в город Глухов избирать там нового гетмана. У полковника же лежало письмо, доставленное щербатым сердюком на гнедом конике с перерубленным саблею ухом. В том письме Мазепа писал, куда следует вести Полтавский полк на соединение со шведами... Полковник, закрывшись в светлице, совещался с писарем Чуйкевичем, тоже нашедшим пристанище в его дворе, с сотником Зеленейским да со своим зятем Герцыком. Мазепино письмо лежало на сукне рядом с царским. Левенец брал поочерёдно одну бумагу, другую, передавал их в руки писарю и сотнику; сам то поднимался с места, то снова садился. Наконец решили подождать. Царю же отписать, будто в сотни посланы гонцы, а как только сотники соберутся — тогда и полковник отправится в Глухов.
— Я ждать не буду! — оскалился вдруг Герцык. — Возьму своих казаков — и к гетману!.. Я не буду дрожать перед чернью!
Левенец развёл руками, словно у него уже во дворе осёдлан конь.
А Полтава гудела.
Получалось — для её успокоения нужна сила.
2
Рядом с запорожским кошевым — Костем Гордиенком — торчит несколько значных войсковых товарищей да ещё те старшины, кому товариство дало на головы шапки и в руки палки. Сечь оказывает большую честь двоим царским стольникам: ради них на валах палят пушки, трещат самопалы, стреляют мушкеты.
— Слава! Слава!
Стольники с высокого воза читают грамоту, в которой царь уговаривает сечевое товариство покориться новому гетману — Ивану Скоропадскому — и ни на кончик мизинца не верить Мазепе. Ещё следить за турками и татарами, чтобы прежний гетман не подбил их к нападению на Сечь, равно и на пограничные царские городки.
Товариство терпеливо слушает.
Внизу, на разбитой до грязи земле, — кучка запорожцев, некогда захваченных Мазепой и отданных царю, а теперь освобождённых по его монаршему приказу, чтобы показать уважение к казацкому войску. Одежда на них исправна, лица выбриты, усы — в порядке. О них говорят стольники, на них казаки указывают пальцами. А сами они сгибаются под взглядами братьев-сечевиков.
Хоть и не ездил никто из Сечи на Глуховскую раду — а приглашение было! — да царь, получается, не злится, послы привезли годовое жалованье — двенадцать тысяч рублей, а кошевому и старшине сверх того ещё семь тысяч червонцев да разные подарки. Возы с деньгами под воловьими шкурами окружены царскими солдатами. Но они у всех перед глазами. Коли так — никто из голоты не потерпит о царе плохого слова, — то понимает Кость Гордиенко, потому и внимательно слушает речи стольников, следя, чтобы кто-нибудь из зажилых не крикнул сдуру непотребного: голота прибьёт на месте. Голота опасается, как бы стольники не увезли доставленное золото назад.
Гордиенко пришивает взглядом к земле самых прытких, одновременно побаиваясь, не шепнул ли кто царским слугам, что уже который день сидит у кошевого в светлице Мазепин посланец. Мазепа призывает товариство заплатить Москве за кривды. Позавчера при чтении его универсала зажилые по знаку кошевого взревели от восторга. Голота тоже не очень противилась. Только не вся голота была на месте, а когда её примкнуло побольше — ничего так и не решили. Очень много крика против Мазепы.
— Пора раздать царское жалованье! — подаёт голос кошевой, высоко поднимая исполосованные рубцами брови, как только кончаются слова в грамоте и стольники старательно свёртывают бумагу, не зная, вручать ли её кошевому, нет ли.
Кошевой, однако, не чувствует в руках веса царских слов.
Куренные атаманы стоят возле возов наготове.
Стольники, освободившись от грамоты, что-то говорят казначеям. Те рубят саблями просмолённые шнурки. Воловьи шкуры свёртываются, словно змеиные сорочки.
С царскими деньгами сечевики управляются быстро. Пустые возы на высоких колёсах уже не мозолят ничьих
глаз.
И тогда с дальнего конца начинается:
— Городки с Днепра убрать! Пускай нашей воли царь не задевает!
— Каменный Затон — бельмо в глазах! В море не выйти!
— Байдаки сгнили! Молодые и не знают, как плавать!
— Доколе нас на верёвочке держать? Теперь поторгуемся!
Громче всех кричат остатки голоты, ходившей на Дон против воли кошевого и против его же воли сумевшей возвратиться на Сечь.
Царские стольники снова пожелали держать речь — им не дают, а кошевой поморщился: он не в силах унять сечевиков. Послов стаскивают с возов за долгополую немецкую одежду:
— Всё расскажите царю, бесовы дети, что тут видели и слышали!
— Если ещё живы останетесь! Если в Днепре не утопим к лихой матери!
Самые горячие, из кого никак не выходит хмель, норовят вцепиться послам в длинные волосы, на чужеземный манер свисающие с голов. Да Гордиенко не разрешает такого: выхватив из воза оглоблю — давай лупить дураков по рукам и по головам!
Однако как ни стараются зажилые подговорить пьяных своих наймитов — от московских посланцев не утаить, что добрая половина казаков не присоединяется к крикам против царя. Те казаки хотят вставить в письмо свои слова, но им не дают говорить. Они берут обидчиков за оселедцы, кому-то уже дали в морду, а зажилые в ответ пошли с кулаками...
Одним словом, видят посланцы раскол у сечевиков. Они только стараются запомнить каждое услышанное слово, чтобы поподробней рассказать обо всём в царской ставке. Уже ведают, что на Сечи сидит Мазепин посол, знают, что и от Скоропадского едут сюда верные его слуги...
Гордиенко тем временем не забывает говорить царским послам сякие-такие вежливые слова, чтобы приусыпить их бдительность. Знает, от кого казакам деньги и подарки старшине.
О городках Гордиенко знает и твёрдо верит: царь не станет оголять днепровские берега, когда в гетманщине шведы. Какая тогда защита от татар да турок при малейшей смуте в Запорожье? А останутся городки — удастся не раз взбаламутить запорожское войско, указывая на угрозу самому существованию Сечи...
Добрые надежды греет в душе Гордиенко, дожидаясь своей поры.
3
Церковь на высокой горе ещё не освящена, но уже манит она к себе христианский люд. От её белых стен видно далеко: и человеческие жилища, и широкий Псёл, и извилистую Черницу, и ручьи, ручейки, дороги, стежки, рощи... А ещё на её стенах — бумаги. В воскресенье обязательно сыщутся люди, наученные вязать литеры в интересные слова. Из панской экономии наведывается к церкви управитель Гузь в сопровождении одного-двух всадников. Посмотрит, что новенького налеплено, — и только вихрь за его конём. Притих управитель с тех пор, как погостили на экономии гультяи. Галя-сирота снова у Журбихи в хате, но не трогает её Гузь. Гультяи гнездятся недалеко от Гадяча...
Есть среди бумаг на церковных стенах и Мазепины универсалы, и Скоропадского, и царские манифесты. Но ничего толком не понять. Как быть человеку? Придут сюда враги? Скоро? Зарывать добро в землю и бежать в леса, унося с собою всё до мельчайшей частицы? Или же оставаться на месте?
В воскресенье мимо церкви двигалась ватага жебраков.
Чорнi вуса, чорнi вуса, чорнi вуса маю!
Одростуть на три аршини — тодi пiдрубаю!
Песню тянули в несколько голосов. Звенела бандура. Рябенький коник тащил небольшой воз с красными грядками. Сколько таких ватаг проходит через Чернодуб?.. Однако, поравнявшись с бумагами, желтоголовый жебрак, молодой ещё да быстроногий, закричал во всё горло:
— Грамоте учитесь, люди добрые?
Мальчишка с белыми кудрями, который вёл за руку слепого деда, звонко расхохотался:
— Х-хи-хи! Это не школяры! У них седые бороды!
Собравшиеся перед бумагами ответили жебраку сердито:
— Не смейся! Эти универсалы для молодых глаз. А где наши сыны? Молодиц же мы сроду не учим грамоте!
— Так я вам пробекаю. Не бейте меня.
Жебрак — шутник и приветлив.
Сгрудились все вокруг него. Даже дед Свирид, сидевший поодаль на чёрных досках, вытащил сморщенное ухо из-под косматой шапки:
— Внук Степан, едят его мухи, читал... Битые ему литеры, писаные... Словно дьяк какой!
Люди мах-мах на деда руками. К жебраку — просьба:
— Вот это большое прочитай, хлопец, как там тебя! Третьего дня гонцы прилепили. Не наслушались мы ещё. Царское...
— Могу! — Жебрак оглянулся на своих. А те, приостановив коника, говорят с людом. Будет подано, что Бог послал, а Бог кое-что послал — осень. Наполнятся в возке красные грядки. И монет дадут...
— Можем без стыда сказать, — пел жебрак царские слова, — что нет народа под солнцем, который бы похвалился такой волей и такими привилегиями, как народ малорусский!
Хлопы вспоминали всех чертей и надвигали на глаза шапки:
— Воля... В компут запишешься?.. Как же... А без компута... Целое лето Гузь гонял на панщину.
— Драли по три шкуры, получается — не на царя, а гетману! Ещё полковникам! Царь отменил аренды на корчмы. Налоги на купцов — гоже. Эвекту, инвекту...
— Добро наше не возвратится к нам!
— Зато неправды не будет! Царь пишет! На то и царь! От Бога он.
— От Бога... Сейчас он всего напишет. А про церковь — вроде правда! Молись...
Дед Свирид за спиной жебрака размахивал палицей:
— Дальше слушайте, едят его мухи...
Известно, что дальше. Но читать не мешали.
— За приведённого шведского генерала — две тысячи! За полковника — тысяча...
Кто помоложе, те не могли молчать:
— Озолотиться можно! Только подумать: простого шведа кокнешь — и то три рубля...
Более старые покачивали головами:
— Три рубля — ой, большие деньги! Нелегко убить шведа, видать, коль таких денег царю не жалко!
— Может, у них лбы какие железные? Шведы — колдуны! А король, говорят, антихриста за собою ведёт! Да! Как станет, проклятый, на валу, так покуда видит глазом — человек там рукой не шевельнёт.
— Пуля пробьёт... А колдуна наша Журбиха может заговорить. У неё у самой сыны воюют...
Задумывались охотники до скорого богатства. Больше всех — Панько Цыбуля.
— Разве ж до Чернодуба доберётся что путное? Э... — морщилось его лицо. Хотелось бы Цыбуле разбогатеть. Сорок лет на Спаса исполнилось, а нет у сорокалетнего зажитку — не будет.
Жебраки располагались на ночлег в маленькой хатёнке, построенной ещё для богомаза Опанаса. Разбежались оттуда работные люди. Управитель Гузь приказал закрыть хатёнку, не заботясь о церкви. Теперь жебрацкий коник жевал сено рядом с возом с красными грядками и почёсывался об оглоблю. Желтоголового своего товарища жебраки называли Мацьком — он и дальше перечитывал поблекшие бумаги, вылавливая из них, словно крючками, каждую литеру.
Ещё один жебрак, с отрубленными пальцами, высовывал из кожуха страшные обрубки:
— Не думайте, люди, о деньгах! Бейте врага! Это шведы сделали! Когда я в плен попал... Товарищи мои перебиты, а меня отпустили пугать людей своим увечьем. С голоду бы умер, если бы не причислили к ватаге!
Ватажок под церковью советовал:
— Деньги — полова... Держать союз с московитами!
— Деньги не помешают! — не унимался дед Свирид, внимательно всматриваясь в ватажка. А только заслышал обращение «дед Петро» — закричал:
— Петро? Петро!.. Я же Свирид! Едят его мухи...
Ватажок споткнулся на коротком слове. Чернодубцы оторвали взгляды от желтоголового Мацька, посмотрели на стариков. Жебрак всхлипнул, делая шаг навстречу чернодубскому пастуху...
Только и добра у деда Свирида, что эта хатёнка в Чернодубе, небольшой сарайчик при ней, забор, садочек, ещё Рябко при том при всём — и больше ничего. Здесь и помирать старику. Внук проживёт на своём хлебе.
Зато на соломе в хате сегодня отдыхает твой давний побратим, с которым ты воевал ещё при Хмеле! С ним проговорили всю ночь. Со слепым ватажком пришёл жебрак Мацько и, конечно, мальчик-поводырь. Наговорившись о давнем, старики заспорили с Мацьком. Молодой насмешливый голос твердил своё. Вы, мол, деды, потеряли здоровье в битвах, а ваши товарищи — саму жизнь, да чего вы заслужили? Лучше пересидеть в тихом месте, а не искать лиха... Ругали старики дурака. Мальчишка Мишко уснул на тёплой печке под непрерывные споры. Ведь если бы каждый искал тихого места — враги давно забрали бы казацкие земли... Однако старые не убедили Мацька... Или он просто морочил им седые головы? Потом прояснится.
Дед Свирид, как всегда, поднялся до восхода солнца и вышел за ворота. Мысли всё время цеплялись за внука. Может, заедет? Летом дед просил подпасков, чтобы посматривали на шлях. Теперь же овцы в тёплых хлевах — смотри, пастух, на шлях со двора. Степан — не Мацько. Возвращался в село Петрусь Журбенко, да пока старый узнал о том в поле — хлопец снова исчез. Журбиха говорит, что не успела как следует расспросить сына, но ей известно: Степан жив-здоров...
Солнце, поднявшись, залило блеском дорогу. Где вечером сияли сплошные лужи — теперь прозрачное стекло. Ночью ударил мороз. Дедовы глаза наполнились слезами. Он возвратился во дворик. Оттуда и глядел на битый шлях, но которому, глухо говорят люди, уже продвигаются на Гадяч шведы. Их ведёт будто бы сам Мазепа.
Передавая новость, люди опускают глаза. Эх, если бы молодые лета! Пошёл бы дед с дружками на любого супостата!
Правда, сейчас нечего ждать внука. Он — не с врагами.
На блестящей дороге, далеко, зашевелилось с десяток горошинок. Они быстро скатились в долину. Значит — всадники. Дед знал, что путешественники проедут плотину и вступят на чернодубскую улицу. Он посмотрел на село. Люди высовывались из укромных мест, дожидаясь, кто же там едет.
Вторично всадники показались всё-таки неожиданно. На передних — сердюцкие жупаны. Пусть и гетманцы, а всё же пришлые. Только и гетманцы бывают всякие. Вот и Степан... На нём такая же одежда...
Старик приметил вдруг за синежупанниками высоких всадников, прямых, как жерди в заборе, с выставленными ногами в широких сапогах. И кони под ними огромные, толстоногие, с глазастыми головами и крутыми шеями.
— Да это ж... Едят его мухи!
Дед поспешил в хату. Испуганный Рябко растревожил лаем всех чернодубских собак. Из-за валов кое-где выткнулись чёрные бараньи шапки.
Всадники остановились напротив дедова дворика. Странные вояки что-то объясняли сердюкам знаками — те на два голоса:
— Люди! Казаки! Собирайтесь к церкви-и!
Странные всадники — шведы. Каких только врагов не повидал на своём веку дед — а шведов не приходилось.
Сердюки направились от двора ко двору в сопровождении двоих чужаков. Остальные шведы двинулись к церкви. Дед успел их рассмотреть. В самом деле очень высокие, с длинными и белыми волосами, заплетёнными, как у женщин, в косички. Косички уложены под шапки, шапки — челноки. Дед, пожалуй, носил бы такую шапку, если бы Господь Бог повелел, острым концом вперёд, но у чужинцев те концы торчат над ушами. Все шведы родились горбоносыми. Что-то хищное в их глазах и в хмурых лицах.
Вослед за врагами к церкви двинулись люди. Старые, малые, но из молодых — большей частью женщины. Хатенные двери плотно заперты. Калитки и ворота подпирали кольями, будто враги не в силах отбросить колья или просто перескочить на конях через невысокий вал. А во дворах — необмолоченный хлеб. На всю зиму цепам работы... А ещё скот в сараях, выгулянный на травах... Собак спускали с цепей, пусть хотя бы лаем дадут знать, когда всё уже начнётся...
Дед, оставив дворик на попечение Рябка, ухватил палку и побежал за слепым Петром, которого повёл мальчишка. Мацько бросился к своей ватаге сразу, как только заслышал конский топот, — ввязываться в драку не хочется, посмотреть разве...
Под церковью высокие кони втаптывают в грязь золотистый овёс. Не жаль приблудникам чужого добра. Чернодубцам к ним подойти опасно: у врагов наготове тяжёлые короткие рушницы, а на бёдрах — шпаги. Не каждый выдержит удар такого оружия.
Дед завидел Журбиху и Галю. Суровое у девки лицо. Глаза — настороженные. Движения — скупые... Хотел подойти, услышать что-нибудь о Степане, но вот уже прискакали сердюки с двумя шведами — они сгоняли людей, — обменялись с чужинцами знаками. Один сердюк закричал:
— Казаки и хлопы! Завтра приедет ваш пан, сотник Гусак, с гетманским универсалом! Там написано, сколько и чего надо сдать! Сейчас у гетмана война с православным царём! Гетман даёт нам волю, потому и вы подарите шведам пятьдесят волов! Мы их погоним в Гадяч.
Гул прошёл по майдану:
— Какую волю?
— Снова Гусак! Ещё старые раны у нас не затянулись!
Шведы плотнее упёрлись ногами в землю. Наставили рушницы.
— Нет волов! — ответил дед Свирид. — На панском дворе ищите! Гузь ведает! Чьи гости, тому и угощать!
Гузь стоял молча. Сабля на боку. То побелеет он, то покраснеет. Казаков-охранников не взял с собою ни одного. Зато к нему,, как всегда, липнут реестровики. Все знают, к чему клонится дело.
— Не дразнили бы гусей, — пожалел кто-то деда. — Батогов снова захотелось?
Однако большинство горой за дедовы слова:
— Нет у нас!
— Отыщутся! — подмигнул сердюк. — Приведёт сотник стаю шведов, дадут каждому нагаек — и пятьсот волов отыщете! Шведы дрожат при виде мяса! Разве за лето вы не припасли мяса да сала?
Чужинцы поняли — удовлетворённо кивнули головами. Наймит смеётся — хозяин в безопасности. Тяжёлые рушницы стукнули прикладами о мёрзлую землю.
Сердюкова речь для людей загадка.
Дед Свирид всё понял:
— Казак... Да ты сам не веришь своим словам?
Жебраки вместе с людом. Возок с красными грядками остановился рядом. Перед ним ватажок. Чёрная рука гладит белую мальчишечью голову. Мальчишка так и стрижёт глазёнками.
— Натешился этот казак своею службою, — заметил слепой. — Чую...
Желтоголовый Мацько глядел в землю.
Жебрак без пальцев сердито шипел:
— Мне бы руки... Мне бы только руки...
Люди тоже на сердюка:
— Зачем врагов привёл?
Шведам ничего не понять: толпа злится, а сердюк улыбается. Сердюки же обменялись между собой тихими словами. Снова первый:
— Не своей волею! Привёл гетман...
В толпе смех:
— Заплачь, Матвейка, дам копейку! Кто хотел — удрал!
Уже второй сердюк:
— Шведы и самого Мазепу стерегут, как добрая мать незасватанную девку!
— Раскаиваетесь? — немного отмякли людские сердца.
Весёлый всадник не скрывал мыслей. Шведам подмигнул, а к людям:
— Помогите этих бесов побить! Мы — на волю, и вам хорошо! Кто узнает?
Это было очень смело сказано. Люд затаил дыхание, раздумывая. Беспалый жебрак не верил услышанному. Сердюк не дал успокоиться:
— Кто с края — колья в руки! Ещё горелки и сала с мясом несите! Они любят. Я растолкую, что вы за гостинцами побежали!
— Пойдём! — готов бежать дед Свирид. Дедов крик подтолкнул и Панька Цыбулю. Прочие тоже зашевелились.
— И мне кол! — умолял беспалый.
Кто-то среди реестровиков вздумал перечить — его оттолкнул с бранью сам Гузь. Реестровики притихли.
Через мгновение чернодубцы стали уже возвращаться. Молодицы несли на рушниках хлеб и в горшочках мясо. Принесли и горилки в больших синих бутылках — генсюрах. Хлопы прятали под длинными свитками не то топоры, не то короткие палки. Жебраки копались в своём возке. Некоторые, по наущению беспалого, выдёргивали из подмерзшей земли острые колья либо искали нужного оснащения среди мусора, оставленного возле церкви работными людьми. Шведы рвали мясо зубами, цедили горелку, благодарно посматривая на весёлого сердюка. Он что-то показывал им знаками — наверно, что село согласно на всё.
— Товариство! — успевал подсказывать сердюк людям. — Я дам знак!
— Хорошо! — приседал от нетерпения беспалый.
Жебраки перемешивались с сельчанами. Даже Мацько вместе со всеми.
Вышло будто бы так, как советовал сердюк. Градом упали на чужаков, сбили с ног, связали.
— Го-го-го! Мы ещё казаки! Победа!
Да Гузь, о котором забыл даже Цыбуля, рубанул его же первого по голове, чтобы пробиться к ближайшему шведскому коню под церковью, ударил и Мацька по руке — и уже верхом перемахнул через вал. Вослед несколько раз выстрелили из шведских рушниц, а когда вспомнили о погоне — и думать поздно! Гонкий конь под проклятым!
— Вот беда! — опустились у многих руки. — Приведёт шведов...
Весёлый сердюк сгорбился. Нет радости.
Дед Свирид напомнил:
— Казаки! По три рубля за каждого шведа! Вот они.
— Это... Девять и девять рублей! — живо отозвался Мацько. Он уже оправился от удара — раны нет, только боль. Раскраснелся, рассердился. Жёлтая чуприна взялась красным огнём. — Царь деньги даст — так и жебраков не обделите!
— Выпьем вместе!
Женщины жалели окровавленного Панька Цыбулю:
— Не дождался магарыча...
— Умер.
— Жизнь — нитка... Разорвали...
Жена Цыбули билась о землю лицом:
— На кого детей оставляешь, Паньку! Опомнись! Не закрывай глаза! Откуда тебя ждать?
Детишки взялись за тонкие ручонки. В глазах — ужас.
Дед Свирид да дед Петро ведали, что делать:
— Ищите оружие! Сметайте порох, у кого где завалялся! Женщин, детей, добро — отправляйте в лес! А казакам не личит прятаться!
Галя — не то Журбихина невестка, не то просто сирота, нашедшая у старухи убежище, — уже рядом с дедами:
— Шведов нужно везти к царскому войску! А самим защищаться!
Не девке советовать казакам. Только ж эта девка и саблей годна махать.
Собрались казаки в кучку, сосчитались, сколько всего вояцких голов.
— Как же! — отозвались одновременно. — Прежнее недолго вспомнить!
Беспалый обеими руками прижимал к себе кол:
— И я одного ударил! Вот этого, самого длинного, рушником связанного! Помните, люди: они очень жестокие... Видите, побелели от злости!
Жалостливые женщины несли солому и совали её шведам под головы, а те отбивались ногами в огромных сапогах, ругались, наверно, страшными словами.
Даже реестровики рассердились:
— На нас надейтесь, чернодубцы! Гузь нам не указ!
Слепой ватажок подбивал ватагу:
— И мы люди. Снимайте торбы и берите в руки что потяжелее... А ты, Мацько, иди... В лесу обожди. Пересиди. Коника только побереги.
Мацько лишь улыбнулся. Он не из тех, кого бьют. Он уже схватил тяжёлую шведскую рушницу. Сел на неё, чтобы надёжней, а в руках бандура, как у казака Мамая:
Чорнi вуса, чорнi вуса, чорнi вуса маю!
Одростуть на три аршини — тодi пiдрубаю!
Ватажок держал свою дубину будто саблю. Мальчишка возле него тоже ухватил деревяшку и следил, как хлопы укладывают связанных шведов на длинный воз.
4
Батько Голый ждал ответа от самого царя, не понимая, пришлёт ли тот грамоту, что делать, или же указ — куда идти. А посланные не возвращались. Гультяйство теряло время. Снова брал верх бывший мазепинский сотник Онисько. Он не оставлял батька, теперь будто бы тоже провозглашённого бедняцким гетманом. Многие прислушивались к Ониськовым словам.
— Те головы на колах! — говорил Онисько везде, где случалось. — Зачем было посылать? Меншиков уничтожил Батурин! И старому и малому сабли головы снимали! Как от татарина! Теперь нет возврата... Мы с царём теперь враги до гроба!
Продовольствие для гультяев и фураж для коней на хуторе полковника Трощинского таяли. Гультяйство искало новых мест. Онисько с ближайшими друзьями обосновался на другом хуторе, вёрст за пять.
Однажды утром, в цепких морозных сумерках, Онисько вскочил на воз, взмахнул скомканной бумагой с тёмными чернильными пятнами:
— Товариство! Универсал! Казаки привезли! Гетмана Мазепы! Царь приказал дать булаву Скоропадскому, так пусть сам царь его и слушает! Гетман Мазепа со шведами идёт на Гадяч. Москали удирают! Мы должны присоединиться к законному володарю! Он и нашего батька сделает полковником! Спорило гультяйство с гетманом из-за царя! Кто хочет — на коня! Уговаривать не стану. Смотрите не опоздайте!
Врал Онисько, говоря это. Верные слуги сразу начали строить гультяев возле батькова хутора, на плоском холме, у подножия разбитого молнией дуба. Батовы пересчитывались вдоль и поперёк. Привезли вместительную бочку горелки — пей. Шинкарка наливает, а деньги платит сотник. Каждого привлекали. А встречать Мазепу в Гадяче не торопились. Горелка, разговоры дёргали гультяев. Поднялось солнце. Подмерзшая земля покрылась паром. Чёрный дуб заблестел, будто старательно выкрашенный. Заклубился пар над конскими боками. Гультяйство загудело. Но и при солнце не определить, увеличивается ли число людей возле Ониська или уменьшается. Батько молчит... И неизвестно, как бы всё пошло дальше, если бы на холме не показался всадник на усталом коне. За ним от батькова хутора поднялась пыль — не падает. Вгляделись — это давняя знакомая, дивчина Галя. Снова она в казацком убранстве. Красивая, вражья личина!
— Тю! Откуда... Соскучилась?
— Песню давай!
Один одно подбросил, другой — своё. Известно — перед девушой-певуньей выкаблучиваются.
А она:
— Товариство! Помогите Чернодубу! Уже из батькового хутора поехали на выручку! Там уже шведы, наверно, убивают людей!
— Шведы? Уже шведы?
— Проклятье! Мазепа привёл! Далеко Чернодуб?
— Двадцать вёрст!
Среди гультяев нашлись и чернодубцы. И в батьковой половине, и в Ониськовой. Они и взбили пыль в сторону Чернодуба. За ними поспешили прочие.
Онисько, под чёрным дубом, на возу, обрадовавшись возможности выступить в дорогу, вывалил красные глаза и закричал тем, кто недоверчиво слушал Галю:
— То москали вымещают злость за свои неудачи! Глупая девка не поняла!
Но уже посыпалось с холма верховое казацтво. За ним — пешее. Галю больше не слушали.
Сообразив, что в Глухове рада избрала нового гетмана — не успели, значит, посланные к царю! — поехал и батько Голый, лелея какую-то свою мечту...
Ещё с холма, из-за леса, приметили чёрный дым, услышали стрельбу, крики. Выстрелы редкие. Там лес подходит к самому Чернодубу. Между дубами годилось бы дать коням отдых, но как остановить грозовую тучу? В гуле и выстрелах влетели в село без помех, если не считать сердюцкий отряд, попробовавший было задержать товариство, да только и он юркнул в овраг, даже не предоставив саблям кровавой работы. В том направлении исчез с друзьями и сотник Онисько — отгонял сердюков, что ли?.. Возле первой хаты на краю села батько рубанул на скаку вояку в дивной одежде, выставившего перед собою тяжёлую рушницу, — она не успела даже сверкнуть огнём, легла поперёк трупа. Ветром отнесло дым на широкой улице, которая тянется между хатами вверх до самой церкви, — и гультяи завидели воинов в синих мундирах, не царских солдат — шведы! Вот наврал Онисько-приблудник! Разве шведа так просто бить? Да возвращаться — поздно...
По улице раздались крики на чужом языке. Враги сомкнули ряды. Передних гультяев обожгли пули. В руках тех шведов, которые под заборами, на высоких конях, засверкали сабли.
— Казаки! — закричала Галя, опасаясь, что гультяйские батовы повернут. — Нас много!
Однако передних подпирали задние, не ведая, сколько врагов, какие они. Из синей сплошной стены, в которую превратились враги, ударил такой адский огонь, что через мгновение кони задних уже не могли пробиваться через кучи людей, коней, ещё живых, покалеченных, уже убитых...
А шведы стреляли и стреляли сквозь дым и крики о помощи.
Какая-то неведомая сила вырвала Галю из седла и швырнула на землю... А когда девушка очнулась и попыталась высвободить свою ногу из-под убитого коня, её тело пронзила неодолимая тошнота. Перед глазами колыхнулись мрачные круги, и каждый выстрел в отдалении стал отдаваться в висках колючей болью.
Короткий осенний день между тем угасал.
Галя всё же нашла в себе силы высвободить ногу и от рывка скатилась в холодную воду. Это её взбодрило. Отползла к невысокому земляному валу, а под его защитой даже побежала. Голову распирала всего одна мысль: если попаду врагам в руки — спасения не жди! Увидев казацкую одежду, шведы застрелят.
Ноги съезжали в заполненный тьмою овраг. Дым разъедал глаза. Цеплялась за острые камни и твёрдые корни подвернувшихся деревьев. Огнём горели разодранные до крови пальцы. Галя бежала и бежала, пока не закончился вдруг овраг и она не оказалась на холме, таком знакомом, что заныло сердце: вот на этом месте ещё вчера стояла родная хата... вот остатки порога... вот завалинка... Здесь бабуня рассказывала о давнем прошлом... Теперь одни головешки исходят едким дымом...
И на холме, тяжело дыша, девушка остерегалась поднять голову. Однако заметила под уцелевшими тополями чью-то высокую фигуру. Фигура приблизилась — то была Журбиха. Старую, видать, не посмели задеть пули. Ей удалось вырваться из ада — ведь была с чернодубцами на валах...
Девушка замешкалась. Журбиха вступила на то место, где на неё упали отблески недалёкого пожара. И тут показались всадники. Сверкнула занесённая сабля. Не в силах чем-то помочь, девушка с новым стоном закрыла глаза, но сразу же раскрыла их, заслышав твёрдый Журбихин голос:
— Нехристь! Какая тебя мать родила... Мои сыновья сломают тебе шею!
Журбиха стояла с гордо поднятой головою, и её вид подействовал на врагов. Сотник Гусак — Галя узнала его сразу — перехватил Ониськову руку — и того супостата Галя тотчас узнала, — указал саблей куда-то в сторону, где раздавались резкие крики. И вдруг оба всадника ускакали.
Галя тут же окликнула:
— Мама! Ой, мама моя!
Шли, поддерживая друг дружку, к хутору. Чернодуба уже не существовало. Кое-где дотлевали огни. В красноватых волнах мелькали быстрые тени — наверно, там носились коты. Несколько стволов давно усохших деревьев догорали стоя, как поникшие церковные свечи, но большинство здоровых деревьев огонь успел только опалить и пополз дальше в ненасытной своей жадности. Тихонько шумели мельничные колёса. В нос било запахами обгорелого зерна. Старуха и девушка, перебравшись через вал, наткнулись на кучи камней, каких-то брёвен — казалось, только это и осталось от большого сооружения. И оттуда, где стоял хутор, тоже доносилось дыхание тепла.
Журбиха выпрямилась и замерла. Гале же вдруг припомнился летний день. Тогда, после болезни, в саду появился Петрусь. Он клал себе в рот спелые вишни... Где же парубок сейчас? Чует сердце — жив... И ещё подумала с удивлением: привиделся Петрусь, а не давний наречённый — Марко. Почему?.. Помнится, словно вчерашнее, встреча на Пеле. И монисто сейчас возле сердца. А его держали руки Марка... Правда, Петрусь вывел из погреба, но...
— Люди! — послышалось где-то рядом.
Обе прилипли к тёплому дереву.
Из темени снова:
— Не бойтесь! Я вас знаю...
— Кто там? — подала голос Журбиха.
— Я — Мацько... Мы с вашими сельчанами на валах стояли.
Из темноты через светлый вал скользнула прихрамывающая тень.
— А вы, тётка, — продолжал Мацько, — ещё пули заговаривали. Пробивали мы шведские лбы, да только вражья конница рубила уцелевших наших товарищей. Наш слепой ватажок стоял под пулями, взявшись за руки с вашим дедом Свиридом. И беспалого нашего пуля уложила... Меня стоптали конём. А с нашим дедом был мальчишка Мишко... Он-то где?
— Много людей сейчас в лесу, — предположила Журбиха. — Спасаются.
Галя слушала разговор с замиранием сердца. В памяти снова возникал прежний Чернодуб. А теперь, в густом мраке, одни пепелища, трупы...
— Буду пробираться туда, где стоят царские войска, вдруг сказала Галя, ощупывая глазами еле различимую дорогу.
Журбиха проводила взглядом жебракову фигуру. Тот, словно кошка, легко перепрыгнул через освещённый зыбким пламенем вал и пропал в темноте. Журбиха крепко обняла девушку. В её глазах Галя увидела отражения далёких пожаров, потому что в Чернодубе уже нечему было гореть. Лишь на панской экономии ещё дотлевали огоньки и горланили песни победители.
— Иди, доню... Встретишь моих хлопцев. Если бы мне мои лета молодые чарами прикликать — пошла бы и я с тобою.
Журбиха вдруг запела песню, дотоле не слышанную в Чернодубе, печальную и протяжную, но одновременно грозную. Наверно, мелодия только что родилась в её душе. Но если бы ту песню заслышали сердюки — они бы призадумались. Столько было там жгучей ненависти.
5
Денис Журбенко отчётливо видел, как наливается кровью длинный нос с красноватым рубцом от острой стали и как напрягается вся фигура полковника Галагана, уже готовая к действию, когда, сдерживая высоких коней, к нему приближаются гордые шведские офицеры и не отъезжают до тех пор, пока полковник не подзовёт молодцеватого есаула. Денису всё видно. В такие мгновения он толкает Степана. Дорогу придётся пробивать... Смотри, казак, в царском манифесте — месяц сроку. Бумаги развешаны на многих церквах. Их срывают шведы и гетманские есаулы, однако смелые люди лепят снова.
Степану не дождаться решительных действий. Длинная сабля — в руках. Дед Свирид побывал с нею в молодости на Запорожье. Невыносимо подчас становилось старику в Чернодубе, но не променял её на хлеб. А внук?
Мыслями о сроке полны и полковничьи головы, и старшинские, и простых казаков. Да царские обещания известны и шведам. И тс — начеку. Среди казаков — тайные разговоры. Сбежал даже полковник Апостол. Верен был Мазепе, и всё же... Бродил задумчив, хмур, часто разговаривал с Мазепой, уединяясь с ним.
Вот если бы и Балаган... Балаган из простых людей. Зачем ему дружба с большими панами? Или, может, потому он держится шведов, что сам стремится в большое панство? Б1отому угождает Мазепе? Говорят, его поместья уничтожены гультяйством, а которые уцелели — будут уничтожены. Должен понимать...
Мысли о бегстве не оставляли ни днём ни ночью. Словно в тумане ехал-ехал казак по родной земле после страшного гречишного поля, где, как он полагал, открылось предательство, впервые поняв, что казакованье казакованьем, да не врагам же служить... Надо головою думать.
В окружении шведов остатки гетманского войска переправились через Десну, потом через Сейм. Неделю спустя захватчики стояли уже в Ромнах, сделав этот город главной королевской квартирой. А вообще шведские полки разместились от Ромен до Прилук на западе и до Гадяча над Пслом — на востоке. Из-под королевского крыла Мазепа рассылает универсалы, требуя для новых союзников волов, муки, всякой живности. Немногие универсалы доходят по назначению, да и там, куда доходят, никто не подчиняется. Король из Ромен грозит наказанием гетманским подданным, не признающим своего повелителя, как он говорит, поставленного самим Господом Богом. Королевские угрозы не только на бумаге. Уничтожены многие местечки и сёла. Однако Украина не подчиняется...
Мазепа с огромными шведскими силами проехал к Гадячу и возвратился назад в Ромны. Теперь снова не показывается казацтву на глаза, снова пишет универсалы, и уже с теми универсалами шведы отнимают в сёлах живность. Берут с собою и мазепинцев, чтобы доказать законность своих действий.
Именно с такой целью шведский отряд пригнал в полупустое село остатки Галаганова полка. В оставленном панском поместье нашли пшеницу. Отыскалось и несколько десятков сердитых хлопов. Шведские шпаги принудили ссыпать зерно в большие мешки, мешки класть на возы, которых достаточно в панском подворье. Круторогие волы — тоже с панской воловни — вывозили пшеницу на шлях. Хлопы не остерегались шпаг, посматривали на чужаков и на мазепинцев сердито, считая тех и других своими смертельными врагами.
— Черти бы вас побрали! Христопродавцы!
Денис не выдерживал колючих взглядов, уходил за длинный овин. Село, которое грабили шведы, лежало над речкой, чем-то напоминало Чернодуб. Прохладный ветер обрывал с деревьев последние листья и топил их в воде. Между голыми деревьями качались волны лёгкого прозрачного тумана. Вдруг казак приметил длинного шведа, подъехавшего со стороны шляха на разгорячённом коне. Никто не обратил внимания на нового всадника. Он же смахнул белой рукавицей пот с красного лица, спешился перед офицером, подавая пакет, и, не дожидаясь, когда тот вникнет в написанное, принялся что-то рассказывать. Офицер тем временем пробежал глазами поданное, подозвал товарищей. Все шведы сдержанно, но решительно замахали шпагами.
«Припекло! — злорадствовал Денис. — Обождите ещё...»
Хотелось, чтобы и Степан стал свидетелем чужого переполоха. Степан вместе с казаками грелся на осеннем солнце. У всех одинаковые мысли. Они между двух огней. Где-то там дети, жёны... Чёрные, обросшие лица, будто и не казацкие...
Но вот враги снова зовут полковника. Не слезая с коня, он выслушал толмача, который долго подыскивал слова, а когда находил — кричал. Денису становилось слышным каждое слово.
— Пан капитан, — по-глупому смеялся толмач, — поручает вам, пан полковник, следить за порядком, пока он с солдатами наведается в другое село. О вас так славно говорил королю ясновельможный гетман.
Толмач собирался что-то добавить от себя, да офицер осыпал его новыми словами. Толмачево лицо покрылось потом.
В глазах Галагана появились огоньки. Денис хотел даже предостеречь полковника: враги догадаются...
Когда последний швед исчез за холмом, полковник что-то шепнул молодцеватому есаулу. Денис уже рядом.
Не все казаки заметили, что шведы уехали. По-прежнему выставлены к солнцу небритые щёки. Полковник цепко посмотрел на Дениса, затем есаулу:
— Строй!
Хлопы удивлялись: шведы оставили мазепинцев, мазепинцы же направляются в противоположную сторону, на прощание сказав:
— Развозите да разносите пшеницу! Чтобы снова враги не нашли!
Хлопы почёсывали затылки.
Продвигались казаки быстро. В других сёлах, на хуторах, издали завидев мазепинские жупаны, люди привычно прятались. Где враги, где безопасней проехать? Некого расспросить. Перед маленьким хуторком, за которым темнел осенний Псёл, а на нём ярко сиял под солнце новый паром, полковник остановил коня.
— Узнай, Денис, много ли там шведов?
Денис и Степан быстро приблизились к холму. Тёмный ветряк с натугой шевелил заплатанными громоздкими крыльями. К столбикам, за которые заводят бревно, предназначенное для вращения ветряка, привязаны три коня. Казаки не успели спешиться, как из дверей ветряка в сёдла упали люди и поскакали к лесу. То, без сомнения, были гультяи. В мазепинцах они видят врагов. Бросишься — получишь пулю. И нечему удивляться. Им неизвестны намерения полковника Галагана.
— Кого искать? — безнадёжно махнул нагайкой Степан. — Ударим!
Денис вбежал в небольшой курень, сложенный из веток и соломы, и там, возле узкого отверстия в тёмной стене, различил согнутую старческую фигуру, Дед даже не поднял головы на Денисов кашель.
— Дедуню! — подступил казак. — Мы сейчас удрали от шведа...
В полумраке стало видно, как бегает по дереву обломок косы. Вот и черенок трубки готов.
— Не угодил Мазепа? Так, так, — недоверчиво поднялись косматые брови. Голосок тоненький, чистый, почти мальчишеский. Такой далёкий-далёкий.
— Крест святой, правда! Нам проехать бы...
Денис так истово перекрестился, что дед умерил блеск своей вёрткой стали.
— Гляди, казак! За брехню Бог карает... Один грешник Мазепа не боится Божьей кары... Да ему самому перед Богом оправдываться...
В тёмном углу проступили глаза — там старенькая икона. Денис истово перекрестился и на Божье подобие.
Тогда старик вывел его наружу и направился на самое высокое место возле ветряка.
— На перевозе их сотня. Стерегут, добра бы не видели, чтобы никто не смел туда, да и сюда. Но вот там, за три версты, где вербы — видишь? — есть брод. Даже голенищем не зачерпнёшь. Таких бедолаг, как вы, много уже переправилось на тот берег. Показываю дорогу. Я тоже помогу, когда станут удирать враги. Смолоду я ветер в поле обгонял!
Старик перекрестил казаков. Они поспешно возвратились к полковнику. Насилу сдерживая себя, чтобы не броситься на дорогу, Денис прокричал услышанное от деда. Засветились казацкие лица. Натянуты поводья. Да полковник не торопится к броду. О чём-то думает — когда дорого каждое мгновение! — и только затем объявляет нетерпеливым:
— Товариство! Нас пятьдесят человек... Можем обойти опасность, но кто тогда поверит, что мы в самом деле хотим бить врага?
Полковниковы глаза бегали по воинскому строю. На длинном носу, переполовиненном шрамом, раздувались ноздри. А казаки, выдерживая острый взгляд, силились вычитать, искренен ли полковник. Зачем, кажется, идти на чужинское оружие? Было бы по одному врагу на каждого, а то ведь по два, да ещё известные вояки — шведы!
— Пан полковник! придвинулся со своим конём Степан, такой решительный, что никто не ожидал подобной решительности: бледный, конопатинки не заметны, глаза горят. — Пан полковник! На паром ударим!
— Мы, — продолжал полковник, согласно кивая Степану, — должны искупить вину. Ведь разрешили повести себя против своего народа. К нам присоединятся и те, кто прячется в лесах. Присоединиться к русскому войску не легко. А погибнем — позора не будет на наших детях!
Никогда ещё, кажется, не говорил так долго перед казаками ни один полковник. Оглашался приказ — и всё. А сейчас... Сейчас приказа мало.
Конь от удара нагайки взвился на задние ноги. Было видно, что полковник в одиночку бросится на врага, если даже никто из казаков не двинется вслед. Потому что и в самом деле: как показаться на глаза царю? Где доказательства, что врага ненавидишь? Что дорога к нему отрезана?
Казацкие брови тяжёлыми камнями ложились над прищуренными глазами. Руки хватались за сабли и пики. Первым рядом с Галаганом очутился Степан, за ним — Денис, а дальше — все казаки.
— Веди нас, полковник!
6
Во дворе человек опускает глаза, чтобы ничего не видеть и ни о чём не обмолвиться. Сердюки молча проводят узника между высокими сапогами да огромными лошадиными копытами. Взгляд его наталкивается на кучи раздавленного красного кирпича, белых камней, обломков досок, которые не успели сжечь гости, — вот какие костры перед домом! — а дальше в подземелье врезаются крутые узенькие ступеньки, ещё не стёртые сапогами, усыпанные бликами трескучих факелов, — кажется, что ты в аду. Ощущение усиливает красное пламя в каменной печи и коренастая тень перед жадным огнём с длинными клещами в узловатых руках.
Человека неизменно ставят на освещённое место. Он водит глазами по сторонам. На голой кирпичной стене повешен блестящий медный таз. На круглом дне посудины, словно в зеркале, прорезается измождённое небритое лицо с обвисшими усами. Человеку не хочется их подкручивать. Чем измученней выглядишь ты и страшней, тем лучше. На стол, сколоченный из трёх сосновых досок, направлен свет сальных свечей. Он выхватывает из полумрака руки — чаще одну пару, а то и две. То руки сотников Ониська и Гусака. Гусак может отсутствовать. Онисько сидит всегда. Он ведёт допросы. По его знаку приближается коренастый человек. От запаха поджаренного мяса становятся вялыми ноги, а тело тяжелеет и опускается на каменный пол.
Яценко приходит в себя уже в хатёнке, на широкой лавке. Ему хочется умереть, чтобы спастись от боли. Но боль притупляется. То ли вследствие молитвы старой прислужницы, то ли просто пан Бог посылает милость... Затем — море времени. Обо всём передумаешь. Нажил такую прорву денег, что она никому и не приснится, — горе из-за богатства. Сперва у хозяина сжималось сердце, когда чужинские ботфорты, забрызганные грязью, топтали сверкающий каменный пол. Мощных лошадей вояки привязывают к покрытым золотом дверным ручкам, за которые плачены огромные деньги заграничным купцам, потому что деланы они мастерами даже не в Польше, а где-то ещё дальше. А сейчас... Дай, Господи, пожить на свете, не укороти жизни. Воля Твоя...
В хатёнке прежде жили работные люди. Они разбрелись по миру, не закончив пышного малевания, не сделав много какой работы. Ой, подумать, какую правду говорил Иван Журба, отбивая от намерения строить дом. Хозяин заперт. Не заметил, как в Гадяч вступили шведы и мазепинцы. Оказалось, Онисько — сам ярый мазепинец. Как и его приятель Гусак. Онисько троекратно усилил стражу — в ней вечно пьяные сердюки. Узнику можно только ходить по двору. Таков приказ. Когда Мазепа приезжал в Гадяч, то в этом дворе Онисько давал обед. Двор наполняли сердюки. Среди многочисленных карет была и покрытая гербами — гетманская... Двумя рядами теснились шведские всадники. Думалось, Мазепа вспомнит о хозяине подворья. Или кто из купцов. Старая служанка рассказывает, что в город наехало много неизвестных гендляров. Всё торговое дело в их руках. Значит, нет и теперь у гетмана доброй силы?
Сердюки живут в лачуге, рядом.
— И сегодня не пустите, харцизяки? — спокойно молвил Яценко, уже в который раз показываясь на маленьком крыльце.
Сердюки на лавках взмахнули непослушными руками:
— Ступайте, пан! Отдыхайте...
— Чтобы вы навеки почили, — повернулся к ним спиною Яценко.
Горе. Утешайся тем, что жена с дочерью на богомолье в Киеве. Дорога, правда, далёкая, много на ней лихих людей. Да что ж. Он перемучится здесь, зато они в надёжной крепости, где воевода Голицын с царскими войсками.
Рождались, правда, слухи, будто к Киеву приближается с поляками король Станислав. О том рассказывал приказчик Ягуба. Но слухи сменялись новыми. А король Карл брал город за городом. Приближался к Гадячу.
Радуйся, что не выдал дочку за Гусака. Пропали бы деньги, вложенные в гендель с московскими купцами. А до свадьбы было недалеко.
Да нет, любит Яценка Бог. Петля уже давила адамово яблоко. Онисько, отведя смерть, привёз в этот дом. Пришлось отсыпать спасителю польских злотых, храня надежду, что он поможет исчезнуть из города. Онисько же, распалённый золотом, сводил к переносице вытаращенные глаза, с пеной у рта шептал одно и то же: «Здесь нужно прятаться, пан! Я своих людей приставлю!»
И приставил... Уже тогда зарился на всё добро...
Куда податься человеку? Словно в давние времена — сиди возле спрятанного в земле? Здесь, в Гадяче, зарыто не всё золото, известно. Но на него больше всего надежд. А как доберёшься до московских купцов? Самое главное теперь — не быть заподозренным в предательстве.
А дальше будет видно. Гусак огорчён: зачем сожгли ему Чернодуб? Просил ведь только проучить хлопов. Да кто надеялся, что
чернодубцы будут так отчаянно сопротивляться? И нет у Гусака больше речи о свадьбе. Постоянно пьяный, одни мысли, словно у сумасшедшего, — золото! Раньше, кажется, незаметно было косоглазие, а теперь... Припрутся вдвоём пьяные, а слуги ещё и здесь устраивают для них банкеты. Пока что достаточно награбленного, а не будет этого — живьём в огонь. Каждый вечер хвастают, сколько пропито в шинке.
Как удрать, где найти верных людей?
А есть слухи, будто недалеко отсюда, в Веприке, стоят царские драгуны и казаки. По всем сёлам там полно московского войска... Эх, Ягуба подсказал бы. Да с Ягубой больше не увидеться на этом свете.
— Пан! — вошла в хатёнку старая служанка, которая без слёз не может смотреть на Яценка. — Снова пришли.
Служанка упала перед маленькими старинными иконами.
А в небольшое окошко действительно виден уже Ониськов конь.
Могут и сейчас потащить в подземелье. Опять поставят на освещённое место. Палач будет угрожать раскалёнными клещами.
— Вижу... Мучения мне...
7
Вот и зима. Но скупо выпавший снег неустанно сметается сердитым ветром. Белое удерживается только возле кустов да на древесных стволах. Где-то на гутах, на лесных руднях, на пасеках, рядом с которыми всегда отыщутся две-три хатёнки, скрываются чуткие люди. А так одно воронье кружит над украинской землёй да высоко в хмуром небе прощально кричат шибко запоздалые птахи, пробираясь в дальние края, где вечное лето, где, может быть, и человеческого горя не встречается, кто ведает.
Посмотришь вокруг — тяжело поверить, что на свете война и вот-вот на дороге могут появиться вооружённые люди. Выскочат они отсюда, а навстречу им — такие же. Умрёт тишина. Затрещат противные природе звуки.
Кто-то станет добычей хищному воронью. Кто упадёт ещё живым, захлёбываясь кровью и тщетно умоляя о глотке воды. Кто-нибудь прошепчет: «Мама...» А мать не услышит. Кого-то возьмут в полон, потащат арканом на позор и муки...
Но везде своя жизнь. Крестиками впечатаны в белые пятна птичьи следы, а звериные лапы оставили разновеликие вмятины. Вот выскользнул из кустов ребятёнок в косматой шапке. Прыгая по заячьему следу, оглянулся — сам как пушистый зайчишка. Засмеялся звонким смехом. Воронье скосило острые взгляды, но без тревоги. Вслед продвигается дедок с топориком за красным поясом, грозит кривым пальцем, приказывая не отрываться от укрытия — от густых кустов, на которых краснобокие птицы склёвывают коричневые зёрнышки.
— Следи!
И только отзвучало стариково предостережение, как уже вдали, от другого леса, отделились три пятнышка: всадники. Старый и малый исчезают, распугивая пирующих птиц.
Проходит немного времени. В чаще колышутся ветки. Не унимается на опушке вороний крик. И на том месте, на дороге, где исчезли люди, — уже топот копыт. Показываются шапки. Затем — плечи. У всадников рушницы и пороховницы, за сёдлами — саквы, за поясами — пистоли. У каждого на боку сабля. Шапки заснежены, как и лошадиные гривы. Кони усталые, с усилием перебирают ногами.
Передний всадник, чернявый и горбоносый, втянул ноздрями холодный воздух и почуял, наверное, запах дыма. Он присматривается к следам на снегу. Указывает товарищам на светлый столбик в хмуром небе — те, оба светловолосые и ясноглазые, лица опушены мягкими бородками, к которым ещё не прикасались бритвенные лезвия, приостанавливают коней. От коней исходит белый пар. Один из всадников прояснел голубыми глазами:
— Посмотрим?
Чернявый, не раздумывая, бросает коня в галоп.
— Потом! Если люди — значит, надолго обосновались.
Не успевают всадники отъехать несколько саженей, а из чащи вырывается крик:
— Петрусь!
Чернявый дёргает поводья, чуть не вылетает из седла.
— Кто там? Выходите!
На зов выскакивает мальчишка в косматой шапке. За ним — дед.
— Дед Свирид! — срывается чернявый с коня.
— Петрусь! Петро! — радостно морщится старик. — Правда ты, голубь мой? Мать трижды тебя хоронила, а ты жив! Мишко узнал... Едят его мухи!
Мальчишка, кроме косматой шапки, имеет на себе примечательную длиннополую свитку, очень знакомую всаднику.
— Бабуня Христя каждый день рассказывали, какой он! — прыгает мальчишка перед конской мордой, смешно размахивая рукавами свитки, которую теперь можно окончательно признать: принадлежит Петрусевой матери.
От дедова кожуха — запах дыма, сырой земли, гнилых листьев.
Петрусь ничего не понимает:
— Что за работа сейчас в лесу? Чей это хлопец? Я его видел...
— Степан за тобой не едет? — спрашивает старик вместо ответа.
Петрусь отводит взгляд:
— Я сейчас не из тех краёв.
— Так, так, — опускается у старика голова. — Нет теперь и Чернодуба нашего... Камень мельничный цел. Мелем. Живём аж здесь, в землянках. Лесные люди мы стали.
— Где же моя мать? — срывается казаков голос.
— Говорю, глаза выплакала, — спохватывается дед. — На картах у неё — будто жив... И вот радость, едят его мухи!
Дед не интересуется, что за хлопцы на конях. Сам он, кажется, еле-еле передвигает ноги. Топор за поясом — тяжесть. Подсаженный в седло мальчишка радуется. Петрусь признает, что эти глазёнки он видел когда-то в жебрацкой ватаге. Они и нарисованы им в чернодубской церкви на лике Сына Божьего.
Светлолицые всадники тоже спешиваются, готовые уступить место в седле, но старик не принимает предложения.
Если бы не запах дыма, так и не угадать бы, что тут человеческое жилище, — везде густая хвоя. А впрочем, Петрусь ничего и не различил, пока дед не остановился.
— Христя! Твой сын прибился! Вот. Едят его мухи...
Петрусь ещё не верит. Густая хвоя дрожит — оттуда выходит мать, не похожая на себя, но одновременно и похожая, с красными глазами, седая.
— Сыну!
Словно из-под земли вылезают осенённые рыжей хвоей старухи.
Вскоре хлопцы сидят в маленькой землянке, еле вмещаются. Сабли и рушницы — в углу. Журбиха возле входа принимает гостинцы, хотя у всех приходящих одно и то же: пропахшие дымом коржики и мясо. Когда все насыщаются расспросами о мужьях, сыновьях, братьях, Журбиха спрашивает, где был сын, как добрался сюда.
— Галя мне рассказывала. Видала я и на картах: живы мои сыновья, а дальше страшно заглядывать...
— Не доехал, мама, куда надо было. Люди помогли выжить.
При этом Петрусь смотрит на товарищей — и мать низко склоняется перед хлопцами. Они, оба раскрасневшиеся, Олексей да Демьян по именам, одновременно встряхивают кудрями, приглаживают руками бородки.
— Наши матери пошли в лес за грибами, дак принесли его...
— И матерям вашим мой поклон! — ещё раз благодарит старуха. — А кто вы сами, люди добрые? Крещёные, но крест кладёте на себя не по-нашему.
Олексей с Демьяном краснеют ещё плотнее.
Петрусь торопится им на помощь:
— Это московские староверы. У них все мужики обросли бородами. Но они такие же христиане, как и мы. Царь послал благодарность всему ихнему селу. Много шведов убили они возле своих лесных хат. Теперь целый отряд староверов направляется к царскому войску.
— У тебя на плече рана! — вдруг говорит мать, расстёгивая сыну кожух. — Вижу, как ужимаешься.
Руки умело прикасаются к больному месту. Боль отражается на материнском лице. Она глядит на мешочки, развешанные в полумраке возле неказистой печки. Кое-чего нового насобирала в зимнем лесу, а что уцелело в глубоком погребе на оставленном сожжённом хуторе.
— За две недели долечу!
Петрусь не согласен:
— Мама... Мы — в дорогу! Только вот кони отдохнут.
Мать, смахнув слёзы, отворачивается. Перебирая руками мешочки, отвечает:
— Дам на дорогу... Материнское лекарство — Божье снадобье.
Дед Свирид уже за столом:
— Твоя мать, Петро, — великая знахарка! Меня нашли между трупами, а она меня на ноги поставила!
— Дед теперь вместо войта, — гнёт своё Журбиха. — Разве женщины всё это сделали бы? И землянки копать, и зерно молоть... Люди зарыли зерно в лесу. Швед сюда и не сунется. Мазепинцы только на экономии. Здесь одни старики. У кого дети маленькие — те на сёла дальние подались. А нам тяжело срываться с родных мест.
Набивая мазью маленький горшочек, спелёнутый по венчику верёвочкой, мать ещё добавляет:
— Деды по-казацки дрались с врагом. Ой, сыну! Гультяйские сабли и пули мало его брали, пики гнулись. Дед своего побратима, жебрацкого ватажка, схоронил рядом с могилой нашего батька.
Мишка держит на коленях Олексей. Петрусь гладит малыша по кудрям:
— Это сын гультяйского атамана...
Он рассказывает о батьке Голом.
Женщины за порогом всхлипывают:
— Рядом были, а не виделись.
Даже Журбиха мрачнеет лицом. Перегнувшись через стол, она тоже проводит ладонью по мальчишечьей голове. А Мишко радуется, заслышав об отце:
— Тато — атаман... Бабуню! Дедуню!
Дед говорит ласковое слово и снова переводит речь на прежнее:
— Когда супостата прогоните?
Журбиха наперёд:
— К лету... Так на картах получается.
— Правда, мама! Зима придёт — и раньше выгоним! — обещает Петрусь.
Товарищи поддерживают:
— У царя много сил!
— Да куда вы сейчас? — замирает мать в ожидании. — Где согреетесь?
— К Скоропадскому.
Не удалось увидеть гетманом батька Голого — а какие были надежды! Но вслух Петрусь ничего не говорит. Может, жив ещё батько?
— Ближе к царю? А запорожцы не придут на выручку, сыну?
— Не слышно...
Провожать вояк высыпают все. Далеко отодвигается толпа от лесного укрытия. Петрусь понимает, что лесовики верят в его силу и в силу его товарищей. С высокого холма, прижав стремена к конским бокам, он машет на прощание нагайкой. Мать в ответ поднимает полотняный платочек.
А маленький Мишко долго семенит за всадниками. Ещё возле землянок он было ухватил Петруся за руку:
— Скажи царю, чтобы полковника Палия выпустил из Сибири. Про Палия мне рассказывал дедуньо Петро.
Малыш даже всхлипнул, вспоминая о неведомом Петрусю старике. Да разве о неведомом? О жебрацком ватажке рассказывали и ему.
На подмороженную землю, под конские копыта, падают белые снежинки.
Отъехали вроде бы изрядно. В небо набилось много туч. Пока что они прикрыли землю тоненькой снежной рябью, да в любое мгновение могли расщедриться и на толстое покрывало, которому лежать уже до весны.
Из-за туч, в узенькие щели, временами проглядывало исчахшее солнышко. Под его лучами вспыхивали на деревьях последние листья и ещё ярче сверкало на церкви золото — за лесом той церкви не видели, а теперь, различив крест, Петрусь остановил коня:
— Туда!
Вскоре лошади поднялись на высокий холм. Солнце уже спряталось, снегопад усиливался. Но и сквозь седую пелену проступали белые стены, ярче сиял огромный крест.
— Туда смотрите! — указал Петрусь взглядом на другое зрелище.
Хлопцы приблизились — за холмом, между деревьями, опалёнными огнём, торчат печные трубы, виднеются кучи обгорелых камней, глины.
— Это твой Чернодуб?
Петрусь погнал коня прямо к церкви.
— Что придумал? — закричали Демьян и Олексей, приближаясь вслед за ним к крутому валу.
Строение поднималось в небо, красивое, что и говорить, но оставалось для молодых староверов чужим. От таких церквей удирали с Руси их отцы прятаться в том месте, которое между двумя державами: между Речью Посполитой и Московским царством, хотя там и древние русские земли. Там мало дорог, лишь тёмные леса, болота. Пахали землю, разводили скотину, гнали дёготь, курили угли. Затем разбредались дальше в украинские земли. А теперь, когда враги навалились на Русь, они вышли с топорами и рушницами на защиту Родины, хотя она много лет не признавала их. Да разве она? Не принимали люди...
Петрусь спешился возле высокой резной брамы. Взглянул на замок — сорван. Встревожившись, он толкнул обеими руками тяжёлые скрипучие половинки и исчез в сумерках.
Внутри пробыл недолго. Выскочил назад:
— Украли... Нет её!
Хлопцы не поняли, но тоже всполошились:
— Кого украли?
— Парсуну! — выдохнул Петрусь с болью.
— Парсуну? — переспросили хлопцы. — Это Божье лицо?
— Нет... Мазепино.
Хлопцы засмеялись:
— И тебе жаль? Радуйся!
Они знали, что Петрусь маляр. Окрепнув, он просил разрешения малевать иконы. Старики в староверском селе ведали, что такое иконы, только они и слушать не стали: как можно человеку малевать Бога? Нет, нет! Парень размалёвывал стены и печки.
— Радуйся! — ещё настаивали оба брата.
Петрусь разозлился:
— Я хотел её уничтожить... Что наделал... Кто-то будет смотреть на парсуну и думать, будто Мазепа — очень хороший человек! Я ж его, дурень, таким и малевал...
— Может, сгорело? — согревал надежду Олексей.
— Нет, украли! Взломали двери... Вот.
Петрусь далеко отбросил ненужный уже ключ, носимый на поясе, и заторопился к коню.
С неба уже сыпался густой снег, плотно укрывая звонкую чёрную землю, — делал её надолго тихой и красивой, закрывал каждую ямочку, ручеёк, закрывал чернодубское пепелище, безжизненную пустыню... Лишь там, где панская экономия, светилось чьё-то окошко.
8
Вести о шведах теперь доставлялись в город Лебедин, на монастырское подворье, к самому царю. Русская армия и дальше продвигалась параллельно шведской, по-прежнему преграждая дороги на Москву, совершая это даже более тщательно, нежели прежде, хотя обе массы войска не приближались к древней столице, а, наоборот, уже значительно отклонились в движении к югу, то есть оказались от неё ещё дальше.
Монастырское подворье перед тем пустовало. Кое-кто из монашеской братии, встревоженный войною, не возвратился после летних скитаний, связанных со сбором подаяний на храм, а некоторые насовсем покинули келью, чтобы взяться за оружие, — дело богоугодное, и царь поддерживает. Так что большую часть просторного двора седобородый настоятель в чёрном клобуке и в длинной, чёрной же, одежде, на которую трудно не наступить при общении с ним — такая широкая, — уступил войскам, неустанно, однако, следя за порядком. В самом лучшем доме теперь находился царь с ближайшими своими помощниками: Макаровым, Головкиным, Шафировым. Ещё возле того дома частенько вертелись шумные свиты Шереметева, Меншикова, Алларта, Ренне, прочих царских генералов и черкасских полковников. Воронью, привыкшему к спокойному монашескому житью, никак было не понять, отчего разительно преобразилось поросшее старыми деревьями место. Воронье вздымало крик до восхода солнца и умолкало только в сумерках, да и то не знало покоя от ночных костров.
У царя немного разгладилась глубокая морщина, залёгшая под твёрдым широким лбом, а затем незаметно распространившаяся на обе щеки. Своими концами она исчезала под щетинистыми усами, словно переходила даже на трубку и на тёмное лицо эллинского сатира. И уже не забрасывало царскую ногу во время ходьбы, как забрасывало её от страшных известий о непостижимых манёврах противника. Шведская армия казалась ему свёрнутою в кольцо змеёй, готовой мгновенно устремиться неизвестно куда. Конечно, самым невероятным оставался прыжок в направлении Москвы, потому что кольцами змея теперь упиралась в Ромны, Прилуки и Гадяч и шведы при огромных запасах продовольствия набирались ещё больших сил. Мало утешало царя и осеннее бездорожье. Вырываясь за город, можно было видеть, как глубоко проваливаются в выбоины колёса тяжёлых возов, как надрываются и гибнут лошади и как только привычные ко всему русские солдаты в состоянии вытаскивать сапоги из повсеместной грязи, спасая подводы, пушки, хлеб. Мало было радостей и от ночных морозов: они скуют грязь, а тогда шведы снова рванутся вперёд. Об этом было страшно и думать. Однако все приметили, что в Лебедине царь вроде повеселел. Но не все поняли отчего.
А его не удивило бегство из шведского лагеря полковника Апостола. Он и сейчас был уверен, что Апостол и Мазепа между собою враги, что при первой возможности Апостол оказался у себя в Сорочинцах, откуда написал новому гетману Скоропадскому — просил замолвить слово перед царём.
Из рассуждений царя получалось, что Апостол и должен был возвратиться. Со всего Миргородского полка казаки и посполитые привозили просьбы не уступать их другим властителям — хотят оставаться под православным владыкой. К просьбам прикладывали руки старшины, казаки, сельские войты, атаманы, есаулы... Прогуливаясь по монастырскому двору, царь припоминал, как он возвратил Апостолу чин и поместья. Полковника чтит казацкое войско. Итак, шведам и Мазепе причинен значительный ущерб.
Не было удивления и от прихода охотного полковника Гната Галагана. Этот не имел поместий — теперь ждёт наград. Пригляделся, как встречают шведов малороссы. Понял, что ничего хорошего там не получит. Поэтому вчера, признавая свою огромную вину и опасаясь, будет ли ему прощение, ведь не Апостол, — упал Галаган вот здесь, на монастырском дворе, под вороний крик, на колени. Ещё возле ворог сорвал с себя саблю, со слезами на глазах умолял простить его и казаков.
— Но ты присягал шведу? — спросил царь, вдруг почувствовав, как его самого корчит от одного упоминания о предательстве, как ему хочется со всей силой ударить ботфортом опущенную лохматую голову. — Присягал перед Богом! Военная фортуна оставит нас — снова переметнёшься к королю? Говори!
— Нет, ваше величество! — Галаган неожиданно приподнялся, расправляя полы жупана. — Ни меня, ни казаков король назад не примет.
— Почему?
— А гляньте, ваше величество!
Он подал громкую команду, будто уже получил прощение, и казаки ввели в просторный двор... пленных. Те, ободранные, обросшие, почерневшие от холода, тупыми взглядами упирались в бугристую подмороженную землю. Царь не мог поверить, что перед ним так много воинов короля. Пересчитал — шесть десятков. Большинство — природные шведы. Лишь несколько синелицых и большеносых волохов. Неужели их воинскою силою взяли казаки Галагана?
— Вот, ваше величество! А ещё сколько положили на месте...
Не помня себя от радости и припадая на ту ногу, которой чуть-чуть было не раскроил повинную голову, царь поцеловал полковника в губы:
— Молодец! Дело!
Но ещё более важное ждало впереди. Когда Галагана, уже прощённого, ответили в Посольский походный приказ и стали расспрашивать, он повторил сказанное недавно Апостолом: Мазепа хочет предать короля Карла!
Да, именно Мазепа устроил так, что Галагана послали собирать продовольствие, что ему полностью доверились шведы. И всё ради того, чтобы Галаган передал пропозицию.
Заслышав о пропозиции ещё от Апостола, царь не придавал ей значения, желая письменных подтверждений. Повторная пропозиция означала, что Мазепа уже не верит по-прежнему в шведскую силу. Даже после невероятного предательства царь всё же очень высоко ценил ум своего недавнего союзника. Сознание того, что Мазепа пошёл на попятную, и разгладило морщину на царском лбу...
Наблюдая, как офицеры учат молодых пушкарей возле сверкающих под монастырской стеною пушек, царь прикидывал в уме: «У Мазепы поубавилось богатств. Казаки и холопы отыскивают припрятанное им добро. В последнее время не только Левобережье уверяет меня в своей преданности, но и Правобережье — Белая Церковь, Чигирин, Корсунь, Богуслав... А мазепинских посланцев приводят со связанными руками в Посольский приказ».
И царь, удовлетворённый солдатской учёбой возле недавно привезённых пушек, направился к Посольскому походному приказу. Молча миновал молодцеватых часовых, отыскал в пропитанной табаком келье Головкина и приказал ему, уже осоловевшему от бесконечной писанины:
— Мы согласны. Пусть шлёт кондиции. Дело! Тайная цифирь есть?
Головкин вскочил из-за стола, одной рукою придерживая парик, а другой стараясь обернуть вокруг шеи тёплый заморский платок:
— Сохранилась, господин полковник!
Головкин не скрывал удовлетворения. Он напишет бывшему гетману, дружба с которым ещё недавно вызывала царские поощрения.
— Пиши! А там увидим...
Царь больше ничего не сказал, лишь подумал, что такою акцией можно поразить опаснейшую змею в её маленькую голову. Хотя можно ли, позволительно ли сравнивать августейшую королевскую особу с головою змеи?
Через неделю на монастырском подворье собралось так много саней, возов и карет, что монахи от необычной тесноты жались чёрными свитками к белым стенам и горбились под цепкими взглядами длинноногих солдат. Солдаты наполнили криками вымощенный двор, наполнили его грохотом подкованных сапог, звоном оружия, ржанием лошадей — даже чёрное воронье, что всегда держится густых деревьев, теперь куда-то исчезло.
В трапезной сидели фельдмаршал Шереметев, князь Михайло Михайлович Голицын, генералы Алларт, Инфлянт, Ренне, Брюс, Волконский. Они посматривали в узенькие окна, похожие на крепостные амбразуры. За окнами видели царя, разговаривающего с гетманом Скоропадским и светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым. Шереметев раздувал толстые щёки, недовольный тем, что его не позвали на совет перед этим консилиумом.
Трапезная вдруг стала ниже, разрезанная пополам высокой фигурой. Царь быстро достиг освещённого места. От белого снега и чистого неба за маленькими стёклами длинные свечи под потолком казались лишними. Царь сипло и тихо произнёс, вытаскивая изо рта короткую трубку и расшевеливая речью битые ветрами и затвердевшие от мороза красные щёки:
— Господа военный консилиум!
Все подтянулись и замерли. У Шереметева скукожились щёки и привял совсем не воинственный живот.
Царь взмахнул красной рукою, чтобы все садились, а сам согнутым пальцем размешивал дымящийся табак. На карте, повешенной на стене, он видел, что шведы поглотили уже кольцо с надписью «ГАДЯЧ», нанизанной на длинную нитку — речку Псёл. Взгляд коснулся другой тонкой нитки с таким же тёмным кольцом, над которым написано: «ПОЛТАВА».
Даже в карете царь приказывал вытаскивать из ларца нарисованную немцами карту, намереваясь угадать, что видит во всём этом король Карл. В ставку не раз приходили известия о шведских намерениях прорываться к Москве. Муравский шлях, начинаясь у крымского Перекопа, тянется мимо Полтавы и Харькова до Белгорода, до города Дивны, который уже в Орловской земле, — шляхом можно выйти на Москву. Шлях — нитка, за которую уцепится крымский хан, если... Если у султана появится договор с Карлом. В таком случае король возьмёт Полтаву. Тем временем и охтырский полковник Осипов, и изомский полковник Шидловский извещают, будто в Полтаве неопределённое положение. Как бы она не закрыла ворота до подхода шведов, подобно Батурину. Левенец пишет весьма любезные послания, да известно, что его сотники на раде говорили о своём желании по-прежнему оставаться под царской рукою, он же только промычал: кто к нам первый придёт, тот и будет паном! Итак, полтавский полковник надеется на шведов. Неспроста Мазепа поставил его во главе полка и окружил своими людьми, которые, правда, разбежались. Говорят, удрал даже полковников зять. Теперь он у Мазепы.
Утром, направляясь на консилиум, царь окончательно решил: в Полтаву надобно послать гарнизон.
Первым делом следовало выслушать генералов. Они докладывали, глядя на царя, однако не забывали посматривать и на Шереметева, который сидел, вобрав живот, а то и на всемогущего Данилыча, следившего за всем и за всеми орлиным взглядом. В трапезной держалась жара. Из-под генеральских густых париков просачивался пот, капельками стекая по выбритым сизым щекам. Генералы устали подносить платочки. Их шпаги показывали на карте размещение сил противника.
— Вот здесь так... А здесь — вот так...
Меншиков, который держал кавалерию в местечке Хоружевка, щурил хитрые глаза и кусал тонкие губы. Большой хищный нос, прихваченный морозом, отливал синим цветом. Светлейший старался заглянуть в царские глаза. Не передумал ли царь делать то, о чём условились перед консилиумом? Скоропадский разомлел от тепла. Лысая голова, такая необычная среди париков, нет-нет и склонялась. Гетман клевал носом. Конечно, он согласен с любой пропозицией царя, был уверен Меншиков и уже глядел на нового гетмана почти по-приятельски, надеясь, что с таким человеком договорится обо всём. Настанет время делить поместья мазепинцев... Будет замок с пышногрудыми экономками... Эх, хампа-рампа! Куда Скоропадскому столько? Пусть и молодая у него жёнка! А то, о чём договорились перед консилиумом, обещало большую добычу...
Царские глаза оставались непроницаемыми. Трубка пыхала дымом.
— Вот это село супротивник отнял.
Генералы твердили, что малорусские хлопы прячутся от шведа в лесах, а при первой возможности нападают на него. Меншиков громко подтвердил, что местные жители охотно ходят в разведку... Особенно, повторяли все, швед задумался в лютые морозы. В этом году ожидается тяжёлая зима.
Царь кивал головой:
— Дело... Дальше!
Кое-кто из генералов с тревогою напоминал, что черкасские хлопы часто не различают, которые старшины за царя, которые за Мазепу. Грабят всех подряд. Царь прекратил нарекания коротким жестом. Затем взглянул на гетмана. Сказал вслух:
— Гетман Скоропадский наводит порядок собственными силами! Но я не допущу обид людям, которые служат Российской державе. Позарившийся на имущество своего законного господина сам умрёт на виселице! Дело. Грабить разрешается лишь поместья мазепинцев и Мазепы!
При упоминании о Мазепе царское лицо передёрнуло. Иуда — всегда иуда. Вчера принесли перехваченное письмо, где старик просит Станислава Лещинского как можно быстрее торопиться с войском на Украину, дабы взять её опять под своё крыло. Он тысячи раз припадает к королевской руке... Значит, существует договор и с Лещинским?..
— Дальше, господа консилиум!
Что бы там ни было, решил царь, шагая перед генералами, а письмо следует использовать в манифесте к малорусскому народу. Доселе о намерениях отдать Украину полякам говорилось лишь на основании подозрений. Теперь — документ! В Польшу, на помощь Сенявскому, ушло уже восемь драгунских полков. Они нужны здесь, что говорить, но там, в Польше, шведский генерал Крассау по-прежнему готовится к походу. Необходимо помешать его выступлению из Центральной Польши. Армия короля на Украине должна уменьшаться. Шведский змеиный узел следует как можно дальше отодвинуть оттуда, куда к нему может подойти помощь.
Когда все высказались, царь приблизился к карте.
— Господа консилиум! Значит, противник окружён? Дело. Так и держать. Пока не исчерпает запасы продовольствия и пороха. И не давать покоя. — Царь выдержал паузу. — Предлагаем подвести к Гадячу достаточно войска, создать впечатление, будто мы намерены отбивать Гадяч. Норов короля известен: прискачет из Ромен. А мы тем временем их возьмём и таким образом отгоним врага дальше от того места, где к нему могут присоединиться подкрепления.
Меншиков первый захохотал, утирая лицо париком. Успел сказать своё «хампа-рампа», будто бы услышанное в Польше, но непонятное присутствующим. Светлейшему известно, когда следует смеяться. Однако он доволен: в Ромнах — королевская казна...
Гетман Скоропадский тоже забыл про сон. Посмеивался в длинный ус. Повеселели и генералы. Даже Шереметев, всегда сердитый, улыбался краешком губ. Следуя царскому приглашению, снова начали говорить по очереди...
Царь радовался вместе с генералами. Однако было достаточно и забот, известных лишь ему: есть донесение посла Толстого, что сторонники Лещинского упорно подталкивают турок на войну с Россией. Если Карл добьётся явного успеха — султан перестанет колебаться. Что ему тридцатилетний мир... А появись на Украине турецкая армия вместе с крымчаками — что запоют запорожцы? Взяли жалованье, а помощи нет. Рассуждая об опасностях, как не вспомнить о давнем совете Мазепы? Сидели бы, дескать, на Днепре в фортециях царские полки — что тогда опасаться поражения от шведов? Да можно ли было ставить полки на Днепре? Тогда бы вся Сечь двинулась на Дон, на помощь Булавину! Значит, и тогда уже лукавил Мазепа?
О «южных» заботах царь не заикнулся перед генералами. Не мешал тщательно обдумывать, как объехать на кривой кобыле шведского короля. А ещё соображал, кого послать с войском к Полтаве. Кто при деле, а у кого нет должных заслуг. Выбор, однако, падал на кавалериста генерала Волконского.
9
В начале декабря к Полтаве со стороны Диканьки уже приближался генерал князь Волконский с Ингерманландским полком. За солдатскими колоннами по мёрзлой земле тарахтели колёса телег, на которых лежали в соломе захваченные в Батурине пушки, большей частью чугунные, тёмные, но некоторые и медные, посветлее.
Войско остановилось возле Крестовоздвиженского монастыря, на высокой горе.
Несколько верховых офицеров с кавалерийским эскортом отделились от войска и во весь дух помчались к крепости.
Князь осматривал пушки, словно собирался отдавать приказ палить немедленно. Офицеры неотрывно следили за ним. Поднесли подзорную трубу и положили её на плечо огромного кавалериста с кривыми ногами. Генерал сдвинул трубки — в стёклышках прорезались высокие валы, башни, ворота. Посланные офицеры, наверно, уже за ними — страшного не предвидится.
Стоя на почтительном расстоянии, монастырские монахи в несколько голосов напомнили, что из Полтавы давно удрали полковой писарь, сотник Зеленейский, полковников зять Герцык, а с ними много зажиточных казаков. Сейчас, наверно, возле Мазепы, не иначе. Но полковник на месте. Царское войско встретят любезно.
— Любезно?
— Да, ваше превосходительство!
Князь имел приказ действовать без пролития крови. Да ещё стараться, чтобы о подходе царского войска как можно позже узнали запорожцы.
— Любезно? — переспросил ещё раз.
Монахи молча перекрестились.
Спустя какое-то время в трубу стало видно, как из ворот крепости выскакивают всадники. Среди них князь еле различил своих офицеров — так плотно окружены они полтавцами. На гору вылетел молоденький казак, предупредил:
— Ваше превосходительство! Навстречу едет полковник Левенец!
Ингерманландский полк начал спускаться вниз, и князь вскоре отдал Левенцу бумагу, составленную царём для всего полтавского люда.
— Сейчас оглашу. Вслух... Да... Да...
Левенец прочитал для всех присутствующих, шевеля усами и напрягаясь при каждом слове круглым телом. Князь внимательно следил за ним, опасаясь козней. Следил и за полтавскими казаками. А они смотрели действительно любезно. По тому, как предупредительно и открыто поведал Левенец о ночном отъезде из города адгерентов Мазепы, князь сделал вывод, что полковник рад прибытию царских войск. Значит, не стоит ждать от него козней. Довольны и полтавцы.
— Милости просим, ваше превосходительство!
Через час солдаты вступили в город. Они разместились во дворах обывателей.
На следующий день генерал лично осмотрел укрепления — валы везде в плохом состоянии. Он сразу же приказал их подсыпать — и казакам, и мещанам, и своим солдатам. Ещё велел незамедлительно втаскивать наверх привезённые пушки. В Полтаве своих пушек восемь штук — вместе с той, которая при полковничьем доме на воротах. Город вроде и не очень опасался врагов. Со всех сторон было кому его защищать. Ещё через несколько дней пушки стояли над всеми пятью воротами и на валах, где легче приблизиться врагам.
— Полтава встретит гостей огнём! — засмеялся Волконский, а Левенец поддержал:
— Непременно! Теперь снова будем служить хозяину!
После этого стало легче на сердце не только у генерала, который ежедневно отправлял царю письма, но и у всех полтавцев. Левенец с высоты валов видел, что даже отчаянные гуляки — Охрим и Микита, которых стоило взять под секвестр, если бы не такие времена, — и те неустанно ходят подсыпать укрепления, — они вроде забыли, что именно по их наущениям гультяйский люд громил дворы значных старшин.
Левенец внимательно присматривался к царскому генералу, разгадывая, какие инструкции дал царь относительно полтавского полковника: оставить ли на месте или же взять под секвестр за неосторожные слова? Всё известно царю, да... Но пусть уж делается что угодно, зато от хлопской руки теперь не погибнешь — полковник не опасался хоть этого.
10
Белая полоска снега пересекала блестящий пол. Другая — на столе с вызолоченными краями и с розовыми личиками амуров. Взяв золотой канделябр, король поднёс его поближе к искрящемуся снегу, рассмотрел и пожалел, что генералы не видят говорящие за себя полосы в его спальне. Их даже не видала Тереза — отослал её в полночь...
Граф Пипер и генералы пробуют нашёптывать, будто морозы вредят солдатам, а черкасы от холода становятся ещё злее, и против них необходимо выставлять усиленные караулы... Да зачем слушать нашёптывания? Пусть бы посмотрели, боится ли холода король! Генералы пробуют возражать: напрасно гибнут участники походов по землям Дании, Польши, Саксонии! Солдат называют поимённо. Того не стоит слушать.
Король рывком выскочил из-под одеяла, хранящего запахи парижских парфюмов, как и густые волосы Терезы. Напяливая на ноги задубевшие ботфорты с бесконечными голенищами, остерегался задеть ими белую полосу — камердинеры, знал, не сметут снег, он растает лишь от тепла...
Камердинеры действительно восхищённо смотрели на красноречивые доказательства выносливости короля. Смотрел и секретарь Олаф Гермелин. О них следует сделать записи в своих книжках Нордбергу и Адлерфельду.
Король, как всегда, легко одетый, очутился во дворе.
Предупредительный Мазепа недавно подарил ему шубу. Она влезла под суконный кафтан. Такие тёплые меха под жупанами у черкасов. Но через секретаря Гермелина дошли смешки молодых офицеров: король растолстел на черкасских обедах! Не торопится в Москву! Шубы под кафтаном уже нет... А генералы, офицеры, даже некоторые солдаты носят меха.
Во дворе показалось, что мороз за ночь усилился. Драгуны, выводя коней на водопой, посинели и сгорбились, словно под тяжестью. Усы их покрылись льдинками. Король оглянулся на генералов — те дрожали и под мехами. Он напряг жилистое тело, не допуская даже мысли, что и на него вот так же может подействовать черкасский холод.
Но мороз свирепствовал. Возвратясь в тёплые покои с холодными напряжёнными щеками, король разрешил секретарю с утра написать приказ и разослать его в полки: пусть командиры собирают с населения в виде контрибуции тёплую одежду.
Генерал-квартирмейстер Гилленкрок, синий от стужи, под двумя шубами — тоже подарками Мазепы, — такой толстый в одежде, что еле пролез в дверь, был рад приказу. Сказал, растирая нос, что у него теперь нет прежнего страха перед морозами.
Гилленкроков смех показался неуместным, как и тёплые меха да разбухшая фигура. В таких мехах до Москвы добираться долго. Королю захотелось, чтобы генералы непременно увидели снег в спальне. Он прикидывал, как их туда заманить, сомневался, знают ли уже о том Адлерфельд и Нордберг. Однако ничего не приметил и ничего не придумал. Оставалась надежда на секретаря и камердинеров. Он задал привычный утренний вопрос:
— Сегодня не удастся встретиться с главными силами?
Это уже напоминает Польшу. Курфюрста Августа одолел в Саксонии, после инклинации в неё. А как догнать на черкасских пространствах московитскую армию? Стоило войскам приблизиться в Саксонии к любому городу — навстречу несли ключи от крепостных ворот. Городские власти платили какую угодно контрибуцию. А здесь казаки не повинуются своему верховному властителю. Будто бы послушны царю. Да, правду молвил граф Пипер: они не подчинились бы и царю, прикажи он им покориться шведам. Но что может быть хуже непокорного простолюдина?
А в голове с утра до вечера одна мысль: затми, Господи, ум царю, чтобы он сам себе представлялся непобедимым. Чтобы в обольстительном тумане вывел войска на битву. А дальше всё сделает королевское оружие.
Генералы, сгрудившись в тёплом просторном помещении и глядя на замурованные морозом окна, отводили глаза. Молодой и тонконогий принц Вюртембергский, королевский родственник, отправившийся в поход с мечтами о приключениях, по-мальчишечьи опустил глаза на блестящие ботфорты, играл палашом, не желая, чтобы кто-то подтрунивал над его преждевременным восторгом. Красавец Понятовский взглянул на Лагеркрона, а Лагеркрон заторопился:
— Я только что от гетмана. Московиты намерены взять Гадяч! У полковника Дальдорфа там мало сил, ваше величество!
Король заметил, как искоса и неодобрительно посмотрели на говорящего генералы. Лагеркрон долго молчал после неудачи под Стародубом. Один Левенгаупт, на которого король не смотрел, поскольку тот ещё больший неудачник после Лесной, чем Лагеркрон после Мглина или там Стародуба, не шевельнул ни единой мышцей на огромном лице, не встряхнул львиной гривой. Генералы знали новость, да испугались морозов?
Король, отворачиваясь от замурованных морозом окон, где солнечные лучи так красиво просвечивали сквозь стекло и лёд, презрительно сложил тонкие губы:
— Господа! Воины должны, как сказал великий Цезарь, frigora atque aestus tolerare
[27].
На последующие раздумья не ушло и мгновения:
— Полки — на гадячскую дорогу! Гетман Мазепа остаётся здесь!
И когда генералы, путаясь ногами в шпагах, вышли из помещения, снова пряча носы в мехах, — быстрее всех выскочили Лагеркрон и Спааре, поскольку оба в кафтанах, как и его величество, — король вроде бы посоветовался с Пипером:
-г Мазепе можно доверить Ромны? Здесь наши полки.
Граф, уже в шубе, с укоризной покачал головою, которая утонула в меховом воротнике:
— Ваше величество! Ему недолго осталось жить.
— Вы не так меня поняли, — заметил король. — Просто я хочу напомнить, что я не Лагеркрон. Меня не обмануть... Но казну берём с собою.
Что-то похожее на улыбку прорезалось на тонких монарших губах. Он уже хотел свести невольные подозрения на шутку, так как верил старику, а сейчас собирался на интересное дело, был весел, как никогда. Три полка Дальдорфа, отведённые Мазепой в Гадяч, станут для московитов приманкою. Царь хочет получить новую Лесную, а получит новую Нарву... Да что рассуждать с Пипером, если уже видится долина Пела. Она тянется на север. Манёвр... А там... Русь будет расчленена на княжества. Царевич Алексей станет верным вассалом. Совершатся пророчества древних книг, вычитанные Гиарном. Лев Севера победит московитского Орла. Европа хочет видеть Москву загнанною в логово. Европа остерегается дикой силы. Король потому и отпустил Урбана Гиарна, что будущее известно. Отпустил с богатыми подарками, как только направился в земли Мазепы. Впрочем, можно оставить на службе и царя Петра. И чтобы Русь не имела современного войска...
Граф тяжело вздохнул, глядя уже в спину удалявшемуся королю. Против своей воли очутившись в гетманщине, он готовился встретить Новый год в черкасском городе, который своею заснеженностью напоминает далёкую Швецию, надеялся получить от жены подарки, если, конечно, отряды пробьются из-за Днепра к королевскому лагерю. И вот взамен ожидаемого придётся давать указания, что брать с собою в опасную дорогу, давать инструкции относительно государственной канцелярии и государственной казны, государственного архива...
Король продвигается всё дальше и дальше, будто стремясь раздразнить какие-то ещё неизвестные московитские силы. Отрадно, что в Стокгольме — энергичная принцесса Ульрика, надёжные советники, по всей Швеции — генералы, крепости... Вместо того чтобы отодвинуть армию назад к Днепру и дождаться там весны, король всё значительней отрывается от шведской метрополии. Правду говорят: он проходит по завоёванным землям словно корабль по воде, без следов... Но ещё не поздно принять пропозиции мира. За территорию, где строится Санкт-Петербург, предложена компенсация землями в иных местах. Правда, России нельзя давать выхода к морю — это её усилит. Да только необходимо оставаться реалистом.
До Гадяча кони почти летели — так подгонял мороз! Король несколько раз подносил к лицу перчатку, а драгуны — и даже генералы Лагеркрон и Спааре! — открыто и долго растирали побелевшие носы и уши. Стоило полкам, высекая гром из земли, приблизиться к городу — Гадяч вспыхнул сухою щепкой. Небо заволокло чёрным дымом. В дыму исчезли генералы Лагеркрон и Спааре. С пронзительными криками закружились поджаренные в пламени птицы.
— Шведы! Сегодня сделаем всё! Это речка Псёл!
Драгун бодрили голос и само присутствие монарха.
В окружении всадников, с обнажённым палашом, он миновал Гадяч, пересёк широкую речку, несказанно радуясь, что всё получается так, как задумано: стоит начать, а там подоспеют пехотные полки, посаженные в Ромнах на сани, а там... Вот она, речная долина, ведущая на север! Это наилучшая дорога в зимней Московии!.. Ещё долго скакал по укатанным дорогам, на которых всадники рассыпались в беспорядке, и вдруг на высоком холме завиднелись спутанные ряды драгун, и оттуда отделился, как оказалось через несколько секунд, шустрый молодой лейтенант.
— Ваше величество! Мне приказано оставаться здесь до вашего прибытия! За ними бросился мой генерал Лагеркрон!
Король удивился, что его сумел опередить Лагеркрон. Впереди, на лесной поляне, с треском разваливались в огне строения. Тонкими голосами кричали женщины и дети. Невдалеке от гигантского костра застыли в напряжении всадники, готовые, кажется, ежеминутно раствориться в густом таинственном тумане, даже не тумане — смеси дыма и тумана.
— Много московитов удрало за реку! — хотел надоумить лейтенант, но король не слушал, потому что небо укрывалось плотными тучами, которые могли поглотить весь мир. Кто отыщет за тучами московитов?
Король приказал их преследовать. Дороги растекались по лесу и в метели. Но больше не встретилось ни единой славянской души. Направление кое-где указывали засыпанные снегом кучки конского помёта. Встречались драгуны, но они не ведали, где противник.
Король начал удивляться, как могли московиты так быстро отвести войска, сосредоточенные для взятия Гадяча.
Тучи вдруг распались на миллиарды снежинок. За несколько шагов не стало видно всадников. В этом король уловил весомый небесный знак, предупреждение, — приказал остановить войско, позвать генерал-квартирмейстера Гилленкрока, чтобы
услышать его слова о погоде и дороге.
Где-то там, впереди, может и недалеко, был царь с ядром своей армии, с генералами, фельдмаршалом Шереметевым, о котором теперь ничего не слышно, хотя он, как известно, умеет воевать большими силами против незначительных, — о нём говорили в Европе. Не слышно и о Меншикове, а он тоже у московитов известный военачальник.
Гилленкрок, да и другие генералы, особенно Лагеркрон и Спааре, так неожиданно исчезнувшие, должны были вот-вот появиться, но король понял, что на месте ему не устоять, — ветер сыпал за воротник колючий снег, набивал его в пазуху. Плотный кафтан не защищал тело. Более того, привыкший к морозам шведский конь против воли хозяина отодвигался к затишью. Драгуны покрывались синими пятнами. Они, конечно, видели перед собою короля-полководца, но он впервые подумал, глядя на них, что воинский подвиг — это не только умелое размахивание саблей или шпагой, не только геройский поединок с врагом, но и достойное поведение перед угрозами стихии.
Снег заметал драгун. Кони с напряжением вытаскивали ноги.
— Ваше величество! Разрешите строить шалаши!
Молодой лейтенант, теперь уже не отстававший, поскольку рядом не было других офицеров, успел превратиться в седое привидение. Король отрицательно покачал головою. Однако этого никто не заметил. Драгуны бросились собирать ветви, кто-то уже пробовал добыть огня, развести костёр, но ни у кого не было веры, что огонь может удержаться на таком ветру.
— Ваше величество! — немного согрелся отчаянными движениями лейтенант. — Место для вас! Бог не допустит лиха! Генерал Лагеркрон умрёт, а поможет! Ваше величество! Если погибну — запомните фамилию: лейтенант Штром!
За такие слова стоило бы расстрелять. Однако слов никто не расслышал. Они были сказаны королю на ухо. Задубевшая кожа ощутила прикосновение жёстких усов. Никто не расслышал бы и королевского приказа, да и сам лейтенант не понимал, какой ужас посеяли бы его слова среди драгун, которые никогда ничего не боялись! Позор!
Король отвернулся. К укрытию не пошёл, но приблизился к нему, чтобы умерить страдания коня. Уши и нос делались чужими. Он стал прикладывать к оголённой коже свои белые перчатки.
Кто знает, сколько времени пришлось простоять. Ветер натолкал под коня столько снега, что животное опустилось на него животом. Король сполз вниз уже в сумерках. О генералах не было слуху. Король полагал, что многих солдат непогода застигла в поле, кое-кто обморозился. А завтра снова нужно догонять московитов. Удирать — тяжелее!
Мысль утешила. Показалось, что ветер унимается. Король пешком попробовал пересечь поляну, с усилием таща за собою коня.
Тучи вдруг разомкнулись. За краем одной блеснула рогатая луна. В коротком блеске завиднелись лошадиные гривы и высокие драгунские шапки. А навстречу кто-то двигался. При лунном свете короля узнавали.
— Ваше величество! Донесение на словах! Московиты взяли Ромны!
Фигура остановилась, даже отступила, в опасении, наверно, что разгневанный полководец ударит. Он же отвернулся и тихо произнёс:
— Ромны не нужны. Мы на Пеле. Долина этой реки ведёт на север.
А в голове уже проклёвывалась новая мысль, будто московитам начинает помогать неизвестная сила...
11
Казалось, в Гадяче уже негде прилечь, отдохнуть, поставить коня, постоять солдату (разве что на одной ноге), некуда опустить приклад ружья. Но с Роменского битого шляха двигались и двигались в Гадяч сани, телеги, все переполненные обмороженными людьми, искалеченными; торопились всадники, повязанные бабьими платками, старыми пёстрыми тряпками, клетчатыми юбками, покрытые кожухами; иногда измученные лошади пахали снег колёсами под тяжёлыми пушками с блестящими длинными стволами — и всё это каким-то чудом втискивалось за валы.
Жителей в городе почти не осталось. Кто своевременно не исчез, те сейчас увязывали барахлишко в узелки, зная, что на заставе чужаки путное отнимут, а в непутном будут долго ковыряться, не веря, чтобы человек отправился в неизвестность безо всего, таща за руки одних напуганных детишек.
На заставах из-за тесноты в городе никого не задерживали.
А на предместье шведу надеяться нечего. Оно и прежде не раз горело, а накануне, во время русского наступления, там уцелело лишь несколько невзрачных строений, ещё, правда, Яценков дворец над Пслом, потому что он за отдельным высоким валом. Теперь там остановился шведский король. А предместье и сейчас курилось дымами. Возле домов отогревались солдаты, часто не замечая, что на них уже тлеет одежда, а заодно выискивая еду; кое-что находили. Что могли — то ели сырым, а нельзя, так недолго и поджарить, если оно не поджарилось от повсеместного огня.
На синие солдатские лица ложились чёрные пятна. Копоть, дым, порывы ветра от обгоревших стен делали их страшными, будто они и не человеческие образы вовсе, а лики страшилищ, выходцев из могил, или уже настал конец света и сюда собралось воинство сатаны.
В ту пору на улицу выполз придурковатый жебрак — он улыбался, глядя на горе. Тонкий нос горбился ещё сильнее, и сросшиеся брови касались друг друга. Следом бежали такие же, как и он, бездомные собаки, пугливые, прыткие, словно ящерицы. Он бросался с одной стороны улицы на противоположную, а они десятки раз успевали перебежать туда и сюда. Некоторые, неосторожные, попадали лапами под тяжёлые копыта драгунских коней, потом жалобно подвывали, втискивались дрожащими хребтами в какие-то щели. Из их глаз льдинками спадали слёзы, как и у людей. Жебрак приостанавливался, гладил несчастных, не боялся, что его самого притопчут кони, придавят полозья или колёса. Он только ниже надвигал на лицо косматую шапку. Лицо покрывалось сажей — он тоже делался похожим на чудище.
Шведы могли бы приметить в поведении жебрака что-то необычное, однако они принимали его почти за животное, и если бы он попал под колёса — раздавили бы, да он каждый раз успевал отскочить, прижаться к стене, к уцелевшему заборчику. Он торопился к майдану перед Яценковым домом. Там пылали костры, грелись солдаты, дожидавшиеся своей очереди вползти в жилище, согреться, забыться в коротком тяжёлом сне, потому что на снегу по-настоящему не уснуть.
Из уцелевших домов, превращённых в лазареты, доносились пронзительные стоны — жебрак внимательно вслушивался. Возле тех домов ржали лошади. Поравнявшись с лошадиными копытами, собаки, следовавшие за жебраком, судорожно взвывали.
А жебрак падал на колени и крестился, когда из домов выносили трупы и складывали их в длинные кучи. У многих трупов были открыты глаза, очень огромные на стянутых морозом лицах, уже заиндевелых. Иней дробился, рассыпая искры и синеватые тени.
Наконец жебрак прижался к валу перед домом Яценка. Собаки отступили назад. Никем не замеченный, он дождался мгновения, когда на крыльцо вышел король. Сделал несколько шагов вперёд, молча опустился на колени — и только тогда на безумца обратили внимание и, хоть он лежал саженях в двадцати от крыльца, хотели ударить шпагой, но его уже заметил король и велел подвести к себе.
Жебрак и перед крыльцом упал на снег, не понимая, чего от него хотят. Тогда король что-то крикнул офицерам, они — солдатам. Солдаты подвели несчастного к ступенькам, и король, в очень лёгкой для таких морозов одежде и в огромных сверкающих ботфортах, прикладывая руку в белой перчатке к распухшему носу, снова что-то промолвил и бросил на снег большую монету, по его приказу только что вынесенную из дома.
Никого не нашлось рядом, кто бы растолковал жебраку, что сказал король. Когда же солдаты ухватили несчастного, подводя к королю, то собаки на холме забеспокоились. Жебрака так же быстро, как и подвели к ступенькам, вытолкали за вал, всунув в руку подаренную монету.
Поздно вечером в Веприке генерал Ренне расспрашивал Дениса Журбенка, что тому удалось разузнать в захваченном шведами Гадяче. Царь требует, дескать, от генералов ведомостей о намерениях короля, приказывает посылать к шведам разведчиков. С того времени, как в Гадяче сам король, требования сильно ужесточены.
Рядом с генералом, белобрысым немцем, медленно подбирающим русские слова, сидел, вертя чёрный ус под перерубленным когда-то носом, полковник Галаган — он взглядом ободрял своего сотника, которого и не собирался посылать во вражеский стан, но который уж так порывался туда — пришлось разрешить.
Генерал Ренне казался Денису переодетым шведом. Полковник Галаган в соседстве с ним смахивал почти на простолюдина. Денис ведал, однако, что Галаган смолоду набрался на Сечи казацкой науки. Сечевики ценили его уменье — о том достаточно разговоров в войске. Денис запомнил, как умело рубил полковник врагов на пароме. Генерал всматривался в монету, данную Денису королём Карлом. В тонких пальцах золото сияло раскалённым углём.
— Молодец! — похвалил он казака, смешно произнося слова. — Будет тебе награда... Но зачем подходил к королю? Понимаешь по-шведски?
Денис засмеялся:
— Куда мне!.. Интересно. Сроду не видел такого... Правда, в бою... Так то в бою... А здесь — как вот вас. Рядом с ним стоял генерал, которого мы водили по лесу.
— Вот как? Лагеркрон. Браво! Не узнал тебя?
— Нет. Он не глядел вниз.
— А куда дальше пойдёт король?
Денис вопросительно взглянул на Балагана. Полковник советовал быть откровенным.
— Сюда, ваше превосходительство!
— Что заметил? — прищурил глаз генерал.
— Там всего полно, ваше превосходительство!.. Но если подумать, так куда ему подаваться? Мазепинцы говорят, что король очень обозлён. И я видел: сердит. Только он уже не так уверен в своей силе.
— Почему?
— На Бога уповает. Не пожалел монеты для жебрака.
Генерал хмыкнул, склоняясь над картой. Полковник Галаган показал знаками, чтобы казак уходил.
Складывалось впечатление, будто генерал рассуждает по-своему насчёт того, куда подастся король, а полковник не торопится его переубеждать, — жаль, не поспоришь. Да чего расстраиваться? Каждый делает то, что ему назначено Богом.
Казак успокоился. Ещё и теперь чувствовал приятное возбуждение после удачного посещения вражеского стана. Будет ему и награда. Да что награда — за королевскую монету вдоволь погуляешь...
12
Ещё в Польше, в старинном тёмном костёле над высоким обрывом, где с каждой стены смотрят суровые узколицые святые, на холодном полу, мастерски выложенном из красноватых каменных квадратиков, лейтенант Штром поднял небольшую книжонку в красной яркой коже. Среди повсеместного беспорядка она привлекла внимание чистотой и своим ярким цветом.
Он собирался выбросить находку под хохот солдат как вещь, нужную разве что монаху, но случайно развернул — внутри белая бумага, лишь одна страница покрыта густо уставленными стройными литерами, которые сложились в латинские слова. Он старательно вырвал и выбросил ненужное, поскольку латынь понимает плохо, прокумекал всего лишь несколько слов, вышло: Procul, о procul este, profani!
[28]— кажется, Вергилий? А вместительную книжку спрятал за пазуху, за твёрдый офицерский кафтан, ещё долго не решаясь, на что использовать трофей. Вскоре о нём забыл.
Когда же король двинулся в этот поход, у лейтенанта, сына бедных помещиков, недавнего сельского учителя, неожиданно родилось решительное намерение: запечатлеть на бумаге историческое событие. Желание смелое и... неблагодарное. Ведь славу короля опишут его историографы, такие как камергер Адлерфельд, человек весьма образованный, или секретарь Гермелин, или Нордберг, королевский духовник, или поляк Понятовский, которого король, считая послом Речи Посполитой, очень уж любит слушать, а иногда и сам скажет ему короткое весомое слово, или лейб-хирург Нейман, не имеющий работы при крепком и счастливом монархе. Да, они станут новыми Ксенофонтами, тацитами. Он, лейтенант, желал писать только для себя. Со временем, возвратясь на родину, состарившись, слушая, как женщины сзывают в хлевы коров, как могучие вечерние звуки разбиваются о каменные скалы и носятся между горами, смешиваясь с позвякиванием колокольчиков на шеях пёстрых коров и в руках невидимых лесных гномиков, — вот тогда он станет рассказывать внукам о своих молодых летах, покажет им короткие записи.
Конечно, внуки будут сообразительнее в писаниях. Да и останутся ли они в горах? Зачем же он, Штром, воевал? Правда, королевские чиновники не спрашивали сельского учителя, хочется ли ему в армию. Но он сам торопился приобщиться к воинской славе. За тем и пробирался с генералом Лагеркроном бесконечными страшными лесами к черкасскому городу Мглину, чуть-чуть не утонул в болотах, не погиб от злодейской пули. Разве не за то, чтобы внуки жили по-барски? В роскошных замках, на этих широких просторах? И чтобы на них, вельможных, работали покорённые люди? Внуки будут приезжать к деду только в гости. И не он один завоюет такую жизнь, но и вахмистр Линрот, и простые солдаты, знакомые ему с малых лет и тоже взятые на войну.
Штром писал и писал в красной книжке, которую часто задвигал то за раструб грубого ботфорта, то в пазуху, то в широкий и глубокий карман, набитый разными вещами, захваченными на дорогах войны и доселе не сданными в военный обоз.
В Гадяче, в каком-то большом доме, уцелевшем от пожара, ставшем теперь лазаретом, он перечитывал написанное.
Сколько уже пройдено стран, но такой богатой земли я ещё не видел. Люди здесь живут в белых домиках, между густыми лесами. Возле их жилищ насажены сады и выстроены сараи для скота. В садах ещё и сейчас достаточно фруктов. Поля уставлены повсеместными скирдами, в некоторых зерно ещё в колосках. На реках — мельницы. Рыбу мы добываем копьями с берега. Born только местные жители прячутся от нас в лесах.
После голодной весны и не очень сытого лета мы наелись сами и накормили бедных наших лошадей. Местные жители, которых мы уже видим, не хотят ничего продавать, — таков им приказ от их нового властителя, верного царю. Черкасские казаки не дают нам возможности сойти с большой дороги. Даже рыбу ловим под охраной бдящих товарищей. Черкасы превыше всего ценят волю. Вахмистр Линрот уже залечил свою рану, полученную под Стародубом. Со мною же спорит по-прежнему. Сказал, что король ошибся, войдя в эту землю. В ответ я назвал Линрота ослом.
Теперь лейтенант Штром изрядно обморозил лицо, ноги. Пострадали и руки. Как раз те пальцы, которыми нужно писать. Зато у него было много свободного от службы времени. Он вытащил из мешка походный глиняный каламарь, которым разжился в гадячском доме, длинное перо, ещё из саксонского гуся — его прикончили втроём, — и стал писать такими неуклюжими буквами, что сам удивлялся, как они смеют выскакивать из-под пера учителя, недавно обучавшего каллиграфии шведских школьников!
Господи! Помоги сохранить в тайне то, что доверяю бумаге. Велик Твой гнев! Но на кого? Как попять глупому? Кто виноват? Дай знак. Неведение пугает. Мы неожиданно оставили тёплые квартиры. Кто бы мог подумать, что прислужусь монарху не шпагой, а помогу ему спасаться от стужи? Многие солдаты погибли от мороза. Теперь отогреваемся в этом городе, где мало строений. А город, где квартировали прежде, — у противника. Получается, он выманил нас на мороз. Что пишу? Кто обманет короля? Вахмистр Линрот отморозил уши. Он ходит в тёплом платке, как нищая старуха. Но вахмистру ещё повезло. А что говорить о мертвецах? Мы с вахмистром спорим ещё упорней... Господи, разуверь его! А есть слухи, что король собирается вести нас вперёд.
13
Редко приходилось видеть Дениса таким весёлым. Он не умолкает:
— Жаль, не увидели мы твоего малевания! Да уж и не увидим, коль украли. Но почему ты таился от нас?
Галя, как всегда, не могла не посочувствовать:
— Петрусь, сердце моё! Не убивайся ты так! Всё в Божьих руках. Пропадёт и та парсуна, если так надо. Жаль твоего труда. Да.
Гале всё-таки радостно — они все четверо в Веприке. В маленькой светёлке.
А старая хозяйка приютившего их дома сетует на судьбу:
— Вам бы, молодята, сейчас свадьбы играть! А вы пристанища не имеете.
Степан твердит одно:
— Я рублю всё, что пахнет Мазепой! Лишь бы попалось.
Петрусь заглядывает далеко вперёд:
— Галя! Хлопцы!.. Прогоним шведов, прогоним Мазепу, коль он таким оказался, а парсуна, допустим, уцелеет... Будут глядеть на малевание люди и думать: хороший был человек. А вина моя!
— Да ты в неё чары вложил, что ли? — уже не до смеха Денису, потому что брат окончательно измучился из-за того приключения с парсуной.
— Душу вложил. Свой прежний ум. И ум зографа Опанаса. А вышло... Земля теперь давит зографа Опанаса... А я... должен отыскать и уничтожить её.
— Овва! — приподнимается Денис. — Такое малевание... Да пусть тешит людям глаза! Столько труда...
— Ищите и вы, — не слушает Петрусь брата. — Гетман там в красном жупане. В окошке, слева над ним, — наша чернодубская церковь. Он донатор. Денег не пожалел. Спрашиваешь, Денис, зачем я таился? Правда, зачем? Бес попутал. Одним умом не понять людей, которые над нами. Здесь, в Веприке, я видел царя. А там, в лесу, возле матери, есть мальчишка Мишко. Он умолял меня сказать царю о полковнике Палие. Я бы много о чём поведал, да... За ним столько генералов! И сейчас в глазах. И через десять лет намалевал бы его... А что я значу? Он проткнул меня взглядом. А Палия вроде бы выпустил, говорят.
— Э, так ты и царя намалюешь? И не страшно? А вдруг снова что не так? — предостерегает Денис, сам не зная почему.
— Нет, брат, сейчас надо воевать, — вздохнул Петрусь. — Не время для малевания.
— То-то же. Царя и я видел. Хвалил нас, кто от шведов вместе с Галаганом удрал. А отличил одного Галагана. Простые казаки ему все на одно лицо, — не унывает Денис.
— Всё изрублю, что пахнет Мазепой! — повторяет Степан.
Братья встретились в Веприке неожиданно. Денис приехал со своим сотенным кашеваром, потому что в местечке теперь ежедневно собираются базары. Хлопы из окрестных сёл привозят продовольствие, и ещё не добираются они до заснеженных валов, а уже всё продано. Веприк так же переполнен православным людом, как Гадяч — шведами. Для многих, кто лишился крова, дорога пролегает через Веприк, и много кто, особенно беженцы с маленькими зарёванными ребятишками, одетыми в длиннополые свитки, с узлами на санках, где вперемешку одежда и прочее барахло, переживают под стрехами морозы, полагая, что шведы сейчас не выступят из Гадяча, пока дороги завалены снегом, а если и попробуют, так здесь достаточно средств для отражения войск.
Сам Веприк на высоком месте, подпоясан двумя речками. В центре — каменная церковь, перед ней — широкая базарная площадь, корчмы, далее — хаты под заснеженными крышами. Славно в местечке.
А зима суровая. Снегу полно. Даже кавалеристы генерала Ренне не рискуют искать у супротивника слабого места. Кавалеристы подкармливают усталых животных, а сами греются горелкой. Вообще, вокруг Веприка полно царских драгун и казаков Скоропадского. Надо всеми драгунами здесь власть генерала Инфлянта, а над казаками — полковника Галагана. И те и другие нападают на шведские обозы, уничтожают небольшие отряды, ловят гонцов с письмами и пакетами.
За хорошую службу полковник Галаган сделал Дениса сотником — вот и у Дениса теперь полно забот.
Шведы, захватив Гадяч, протянули было руки и к Веприку. Да веприковцы кликнули на помощь царских солдат и вместе с ними оказали доброе сопротивление. Потому и сейчас в Веприке набралось немного солдат, достаточно — хлопов.
Братья — частые гости в Галиной хатёнке, в человеческой кутерьме, где всегда полно беженцев, как и во всяком веприкском строении. Слушают песни, припоминают, до чего хорошо было в родном селе.
— Черевички мои, черевиченьки, — выводит певунья Галя.
Эта песня звучит здесь часто. Привыкла девушка к казацкому убранству, привыкает теперь и к тому, что, когда она нахлобучивает на голову косматую шапку, убирая под неё длинные густые волосы, старая хозяйка хатёнки, что бы ни делала, всплёскивает руками и опускается на скамейку. Толкает хлопцев, беженцев:
— Чистый казаченько! Ей-богу!
Вообще-то, в казацкой одежде Галю не узнают даже чернодубцы, такие, правда, нечастые на веприкских улицах. А в Веприке первый встречный хлоп сам по себе кажется настоящим казаком. Никто здесь не спрашивает о компуте. У каждого если не сабля на боку, так острый топор за поясом или в руке пика. Каждому чудится, будто он теперь и есть самый надёжный защитник своей земли.
Дениса не волнует утраченная парсуна — он её не видал. Денис уже пропил монету шведского короля, но его по-прежнему все знакомые расспрашивают о тон невероятной встрече.
— Припрётся король сюда — вот увидите! Я так и генералу Ренне сказал! — повторяет часто Денис.
— Пускай! — охотно поддерживает этот разговор Петрусь, забывая о своей беде. — Лишь бы конницу здесь не заперли. Нет фуража. А что людей много, так еды хватит. И оружие у многих...
Галя, припевая, тоже посматривает на саблю, подарок Петруся, теперь повешенную под тёмными иконами среди моря вышитых рушников. Мысленно снова примеряется к сражению. Старая хозяйка поощрительно кивает головой:
— Смолоду и я носила казацкий строй. Такая наша бабья доля на Украине. Сейчас зельем помогу, раны вылечу. От хаты к хате ходила и собирала полотняные тряпки на корпию.
Олексей и Демьян тоже наведываются послушать Галиных песен. Расспрашивают Петруся, не наткнулся ли где на гетманскую парсуну. Староверский отряд занимает немалый дом над самой речкой, за валом. Хозяин его, богатый есаул, удрал к Мазепе. Демьян и Олексей дожидаются, когда встретятся с врагом. Но Степану в помещении не усидеть. Он торопливо выведывает всё возможное о короле.
— Я бы его задушил! Мне смерть не страшна.
— Не успеть! — прерывает Денис. — Охрана.
Из окошка видны три чугунные пушки, направленные с вала стволами на лес, в сторону Гадяча. Возле них — никого. Пушкари держатся возле хат, тёплых шинков да корчем. Пушкаря греет стрельба, известно.
Степан, изучив в крепости каждый уголок, морщится, наведываясь ежевечерне в хатёнку:
— Даже охраны нет! Денис, скажи хоть ты! Кое-где солдаты на валах. Я сам ночую возле пушек. А куда смотрит полковник?
Полковник Фермор, командир Переяславского царского полка, недавно присланного в помощь, назначен комендантом крепости. Получается, он так беспечен? Или уверен... Солдаты ночью отдыхают.
Денис только руками разводит. Фермор — полный здесь хозяин.
За валами, покрытыми снегом и потому вроде бы ещё более низкими, чем в самом деле, — бесконечные неведомые леса. Никто не пробивает след на Гадяч или пусть даже в том направлении, где враг. А зима подсыпает и подсыпает белого пуху. Пути протоптаны лишь в другом направлении: на Бобрик, на Каменное. За теми сёлами, где-то в Лебедине да в Сумах, — главное царское войско.
А получилось всё так.
Сначала был выстрел, резкий крик. Потом отозвались на церкви колокола — тогда уже беспорядочно застучали ружья. Степан первый взглянул на гадячскую дорогу: из лесу пробивают след всадники... Выстрелил. И закричал.
Пока церковный звон растревожил мёрзлый воздух, шведы уже начали охватывать крепость быстрой конницей, чтобы пробиться на бобрикскую дорогу, отрезать отступающих, однако из местечка раздались команды. Царская конница, опережая нападающих, в снежной пыли, в криках да в конском ржании, уже подминала копытами дорогу.
На валах мелькнула прыткая фигура полковника Фермора. Он в огромной шапке с пёрышком. Стеной выросли солдаты.
— Стреляйте из пушек! — бросился к полковнику Степан. — Быстрей!
Полковник даже не взглянул на малорослого казака, однако оттолкнул пушкарей в широких кожухах с длинными рукавами и собственноручно навёл тёмные стволы. Затем махнул рукой. Всё исчезло в чёрном дыму. Пушки вскоре ещё послали огонь, и крик замер у врагов в горле. Они уклонились как можно дальше в лес, не оставляя тем не менее своего намерения угнаться за русской конницей, которой командует сам генерал Ренне. Однако кавалеристы генерала Ренне вовремя просочились из местечка, а в крепость сбежались те, кому в ней оставаться...
— Заваливай ворота! — закричал полковник.
Степан первый исполнял приказы коменданта. Опасное место торопливо забили мешками с землёй, забросали старыми возами, брёвнами — всё это заранее приготовили, ожидая осады. Степан осмотрел результаты — надёжно! Казаки и солдаты следили с валов, что намерены предпринимать враги.
Из лесной глуши, где шведские колонны прятались от пушечного огня, вырвалось несколько всадников с белым длинным полотнищем. Сдерживая высоких коней — уже пробиты следы! — всадники медленно приблизились. На вал прилетела бумага, привязанная к увесистому камню. Кто опередит Степана? Полковник Фермор взял цидулку из его рук. За чтением тугие щёки и тонкая шея наливались кровью, на шапке колыхалось пёрышко, пока глаза не упёрлись в подпись. Полковник будто привял, но, косясь на подпись, крикнул:
— У меня царский приказ, господа супротивники!
Шведы отъехали. Полковник заговорил с офицерами на чужом языке. Один среди них, русский, пояснил собравшимся людям:
— Супротивник требует сдать фортецию. Если возьмёт её сам, так всех расстреляет. Господина полковника, грозит, повесит на воротах!
— Так почему не берёт? — снова первый засмеялся Степан.
Дальше веселились все. Даже офицеры.
Смех скользнул по крутой улочке на ярмарочную площадь.
Петрусь и Галя тоже стояли на валу. Галя в казацкой одежде, с саблей в руках, снятой из-под хозяйкиных икон. Казак толкнул девушку в бок, словно боевого побратима:
— Слышишь? Возьмут! Как же...
Вслед шведам свистели. Те отъехали уже изрядно, но всё равно пришпорили своих высоких коней.
— Продержимся, пока подоспеет помощь! — верили защитники.
Неделю спустя Петрусь сидел на валу возле костра, поворачиваясь к огню то боком, то спиной. Поверхность вала отражала огненные языки. Вал уже несколько дней поливали водою, доставляя её из колодцев и от реки вёдрами, корытами, цибарками. Вода стекала, ров становился глубже, а вал, наоборот, делался выше от ледяной коры, — казалось, по скользкой поверхности наверх не взобраться, пусть и не пытаются враги нести свои лестницы.
В предстоящий штурм верили уже все.
Ещё в первый день, как только шведские всадники привезли пропозицию о сдаче и получили решительный отказ всего гарнизона, в лесу стали вырастать снежные валы и за ними вспыхнули костры. Правда, главные силы король повёл было вслед за конницей Ренне, но никого не настиг — помешали снега и морозы. Под Веприком он тоже задержался недолго и отправился в другом направлении. Перебежчики говорили — под Зеньков. Тамошние хлопы не пускают солдат к себе обогреться.
Кто знает Зеньков, те уверяли, что там низенький вал, а войска нет, ни казацкого, ни царского. Только мурованные купеческие погреба. Да в погребах не отсидишься. Долго ли продержатся хлопы?
По приказу рыжего есаула Петрусю пришлось вместе со Степаном да ещё со многими дозорными, и казаками, и солдатами, следить за шведами. Вокруг крепости горели костры. А как выше поднялось солнце — пришло много людей, и за каждым движением во вражеском стане стали наблюдать сотни глаз. Там — тихо. Только дымы до неба.
— Эх, и злится враг! Ночь на морозе! — подытоживал Степан, мостясь возле костра так, чтобы и тепло веяло в бок, и полежать можно было, и лес видеть. Он нарочно отпросился у своего сотника Дениса, надеясь, что здесь скорее встретится с врагом, нежели в поле, в лесу. Его тревожило каждое слово о том, что швед, может быть, удержится от приступа.
— Но и там есть хаты?
— Известно, — отвечали Степану. — Но не все поместятся. Старшины у них в тепле. Старшины — везде старшины. Простому человеку — мороз!
— Враг сердит! — поддержал Петрусь Степана. — А мазепинцы ещё злее. Разорвут на куски, если попадёшь им в руки!
— Зачем такого дожидаться, хлопцы? — заслышал разговор рыжий есаул, Петрусев теперешний старшина. Голос сладок. Только охрип на морозе.
— Как это — дожидаться? — встрепенулся Степан, поднимаясь с земли.
Есаул положил ему на плечо руку, оскаливая под рыжими усами острые зубы:
— Драться надо, а не ждать плена! Не то шкуру сдерут... Надо кумекать.
Есаул цепко всматривался в лица маленькими прыткими глазами. Хотел заглянуть в душу. Хлопы же следили за лесом.
— Как вон то железо ударит, что на холме, — сказал один, — земля тогда содрогнётся!
— А чего? — отыскался среди хлопов шутник. — Ударит — скользко будет. Вода потечёт! А то испугались: швед... Пускай лезет.
Хлопы прибывали и прибывали. В красных от мороза руках — длинные пики с чёрными острыми наконечниками, только что из кузницы. День и ночь не умолкают там молоты. Ещё не всем хватает острого оружия.
От таких разговоров становилось легче. Хотелось взглянуть на холм, где на солнце сверкают медью пушки, уже давно сосчитанные, — двадцать! Что против них три чугунные пукалки? Пока не было шведов — и они казались силой. А теперь?
Враги перебрасывали с места на место снег, добрались уже, пожалуй, до земли. И так каждый Божий день, с утра до вечера. Будто дети, будто согреваются.
— Чего-то ждут! — догадывались на валах.
Мороз немного унялся. Нет вчерашнего ветра. Солнце, поднимаясь за оледеневшими островерхими тополями, над глубоким снегом, испещрёнными синеватыми тенями, уже по-весеннему слепит глаза, обещая тепло.
— Не помешала бы оттепель! — запророчил кто-то.
На него ощерились:
— Тепло от Бога! Захочет Милосердный — всё растает! Да зачем Богу нас подводить? Вон за него дерут горло попы!
Над базарной площадью неслись церковное пение, переливы колокольного звона и вороньи крики... Всё сливалось в мощный гул вместе с уханьем молотов.
— Может, и шведы дожидаются, чтобы король забрал их отсюда! — рассуждал ободранный хлоп, который больше всех говорил. — На что им зариться? Здесь и башни нет, как по другим фортециям.
Степановы кулаки рассекали морозный воздух. Синяя тень от короткого тела спадала в глубокий ров, добиралась до противоположного его берега, будто от огромного человека.
— Нет, пойдут на приступ! — крикнул Степан ободранцу.
Степана понимали старые вояки, сидевшие ближе всех к костру и гревшие не только потрескавшиеся чёрные пальцы, но и укрытые морщинами лица:
— Руки чешутся? Казак...
Вдруг в лесу показались всадники. Острые копыта глубоко погружались в свежий снег. Кони приближались медленно, а с вала уже наставлено оружие. Хлопам хорошо видно — мазепинцы!
— Не стреляйте! — закричали всадники.
Есаул-мазепинец выследил на валу русского офицера.
— Пан! — прохрипел он, откашливаясь. Затем прокричал, почти не закрывая рта: — Генерал Штакельберг ещё раз предлагает сдаться! Король уничтожил Зеньков, а завтра прибудет сюда! Сделает и здесь то же самое!
С вала одновременно выстрелило несколько рушниц. Под одним мазепинцем вздрогнул и свалился конь. Задёргались копыта с блестящими подковами, порозовел синеватый снег. Изменник вывернулся из седла и побежал, ухватившись за стремя товарища обеими руками и припадая на одну ногу.
— С такими мира не жди, — сказал рыжий есаул. — Вишь, Зеньков недолго продержался... А такие там погреба!
— А со шведами будет мир? — снова привязались к есаулу.
Тот выставил руки со скрюченными от холода пальцами в рыжей грязной шерсти.
— Тю на вас! — возмутился он. — Что я, возом вас зацепил? И со шведами не будет.
— То-то же. Возом... Если бы возом.
Ободранный хлоп — на кожухе рак не удержится —
мудрил вслух:
— Может, брешут? Может, и не помышляет король идти сюда? Пугают... Почему бы в первый день не послать на приступ?
— Придёт, дядько, — был уверен и уже спокоен Степан. — Только придёт настричь шерсти, а уйдёт сам стриженый, как говорит вон тот человек.
Чернявый солдат с коротенькими усиками под красным носом с готовностью приблизился, заслышав речь о себе:
— А чаво, гаспада казаки... Не страшна... Послушайте, что у нас было...
Степан слушал солдатов рассказ и радовался, уверенный, что после предстоящего боя будет о чём договорить с дедом в недалёком отсюда Чернодубе. Теперь дедова сабля получит настоящую работу. Не сдадут врагу крепости. Не пропустят его на север, где царская армия не успела подготовиться к отпору... А дедова сабля и так поработала, но до сих пор все схватки получались коротенькие: Денисова сотня большей частью быстрым импетом наскакивала на обозы, на партии интендантов да фуражиров. Ну, рубанёшь одного-другого — и ходу. А теперь...
— Если так, — развеселясь от солдатской шутки, почёсывали затылки хлопы, — то придётся готовиться. Эх, рушницу бы каждому...
Ночью Веприк не смыкал глаз. Везде — огни. На укрытых инеем деревьях тени голов, рук, оружия — никто не выпускает его из рук ни на минуту. На валах клёкот смолы и бульканье вскипающей воды. Будто муравьи, цепляются люди за тяжёлые брёвна, втаскивая их на высокие места и складывая так, чтобы и одному человеку было под силу сбросить тяжесть на проклятые головы захватчиков. К пушкам сносят лозовые корзины с чёрными чугунными ядрами, подкатывают пузатые бочки с порохом, присыпают их пока снегом, но устраивают всё так, чтобы всё было под рукою и всего было в достатке, поскольку приготовленного загодя могло и не хватить. Всё, что есть в городе из воинских припасов, доставлено сюда.
Комендант — на валу. Он слушал донесения, уверенно посылал солдат туда, сюда. Возле него — спокойствие.
Петрусь потому и держался поближе к высокому воинскому начальнику, хотя самому ему пришлось побывать во всех уголках крепости. Степан уже несколько раз выстрелил в подозрительные в сумерках тени, невзирая на суровый наказ беречь порох. Может, и перепало бы ему от полковника, но в крепости много горячих голов, тоже постреливали, — разве за всеми уследить есаулам да московским офицерам?
Шведы не отвечали. Пламя в лесу вздымалось выше, чем обычно, однако за снеговыми насыпями шевелились только головы часовых. Правда, накануне с вала заметили большое движение. Шведы снова предложили сдать крепость. Посланные сказали кратко: прибыл король. Привёл главные силы. Прибытие полководца, безусловно, означало штурм.
Костры в лесу погасли перед рассветом. На небе ещё отчётливей проступили колючие звёзды, едва-едва освещая землю, и в том слабом седом сиянии шведское войско неимоверно быстро, как бесчисленная нечистая сила, оставив ночной приют, приблизилось ко рвам и остановилось так близко, что Петрусь, притаясь за горой мешков с землёю, мог различить отдельных людей. Казалось, он видит, как горят глаза наступающих, словно на лицах упырей. Неужели они все до одного водятся с нечистой силой?
Полковнику Фермору солдаты и казаки приносили одинаковые известия: враги охватили всю крепость, окружили её стеною, выставили лестницы.
Лестницы отчётливо видел и Петрусь. Отсветы костров в укреплении облизывали кровавым светом высоких воинов, которые держали сероватые в ночи знамёна.
Полковник Фермор, гордо неся на длинной шее небольшую голову в шапке с пёрышком, отвечал уверенно и громко:
— Ждут рассвета. Не давайте рубить ворота!
Солдат, сидевший рядом, — это он днём рассказывал о весёлых приключениях, — повторил тревожным скрипучим голосом:
— Не трусь, братишки. Не трусь, хорошие мои.
Шведы не дождались настоящего рассвета. Взлетела, шипя, зелёная ракета, и какое-то мгновение не было слышно ничего, кроме её шипения. Все вокруг замерли при виде красиво изогнутого зелёного хвоста. А стоило ему ещё сильнее изогнуться — застучали шведские барабаны, вмиг закричали тысячи глоток, о вал ударился сплошной гром голосов.
— А-а-а-а-а-а!
Крепость ответила в то же мгновение, только звонче, потому что в мужские голоса вплелись и женские, и детские.
— И-и-и-и-и! Бей!
— Бей!
В море звуков родились новые, ещё более мощные, — это с вала отозвались три пушки, а им ответили шведские, много, без числа. Петрусь почувствовал, как под ногами задрожала земля, но выстрелил в тёмную живую волну и непроизвольно ухватился за толстое обледенелое бревно, о которое споткнулся и к которому со всех сторон уже были выставлены руки, и увидел, как над тёмной бездной люди с перекошенными криком лицами силятся наклонить огромный котёл с кипящей смолою.
— А-а-а! Бе-ей!
— Ой-ой!
К полковнику, в кровавом пляшущем свете, подбежал Степан. Петрусь понял, что где-то случилась беда, если даже спокойный полковник со всех ног бросился за Степаном, придерживая одной рукою на боку шпагу, а другой — шапку с пёрышком. Сам Петрусь снова глядел туда, откуда в грохоте барабанов накатывались чёрные страшные волны и где уже к скользкому валу приставляли длинную лестницу. Он выпустил навстречу бревно, но передняя волна наступавших и без того, на его глазах, вдруг потеряла силу и напор, начала откатываться, будто от одного страха перед неудержимым бревном, густо покрывая снег длинными чёрными телами. Он удивился, но тут же сообразил, что это так плотно и быстро стреляют с вала русские солдаты.
— Не поможет и нечистая сила, проклятые!
Солдаты с длинными ружьями казались вырезанными из самого твёрдого камня. Первым от Петруся стоял чернявый бравый шутник, ещё недавно говоривший «Не трусь!». Его лицо, осенённое красным пламенем, сияло какой-то отчаянной радостью.
Петрусь тоже ухватил рушницу, выстрелил раз, ещё. Всё удавалось делать быстро, легко. После третьего выстрела он различил лицо человека, в которого попал. Того освещало яркое колышущееся пламя. Он дотащил лестницу до самого вала, но натолкнулся на пулю, впился пальцами рук в жгучее место, наверное, закричал. А лестницу, им уроненную, снова подобрали, уже его сообщники из следующей волны, которая подпирала первую, таки успели приставить её к скользкой поверхности правее сажени на три. Над валом уже показались головы и шпаги, потому что в новой волне были ещё более отчаянные люди. Но с вала полилась горячая смола и полетели тяжёлые мешки — наступающие снова замешкались.
И ещё Петрусь понял, что вал содрогается от шведских ядер. Ядра не пробивали толстого льда, не впивались в него, а отскакивали в тьму. Три веприкские хлопушки бахкали по-прежнему непрестанно...
14
Все опасались поднять глаза. Его величество не мог поверить в то, что случилось в его присутствии.
В начале штурма король сидел на куче брёвен возле пушек и даже не примечал соседствующей скверной вони: брёвна служили солдатам природным отхожим местом. Он видел, как стремглав бросились к воротам солдаты полковника Альбедила, уже почувствовал разочарование, что всё так просто закончилось, что штурм не разогреет и не раззадорит солдат перед решительным походом. Он окончательно решил делать то, что пришло ему на ум в Ромнах. Войско поведёт вдоль реки Псёл, возьмёт города, которые на карте обозначены словами Лебедин и Сумы. Мало кто догадается, что можно избрать именно это направление. Все думают о Муравском шляхе... Он всё же хотел приблизиться к невидимым ещё воротам, чтобы насладиться ощущением боя. Прямо перед ним драгуны полковника Фриччи, наполнив ров телами своих павших товарищей, уже приставляли к обледеневшему валу лестницы, презирая стрельбу сверху. Король заметил, что ядра, отскакивая ото льда, вредят своим. Рационально было бы перенести огонь за валы, но там, в крепости, под ядра попадут солдаты полковника Альбедила, ведь они уже ворвались в ворота, — поэтому король приказал пушкам замолчать.
Драгуны полковника Фриччи, успевшие тем временем вскарабкаться на вал и начать там схватку, вдруг на глазах государя оказались внизу, удирали назад, неся на руках окровавленного своего командира.
Король выбежал навстречу:
— Стойте!
На мёртвом лице полковника закаменела решительность. Вот здесь, перед валом, несколько минут назад он с такой же решительностью слушал приказ. Он добился того, что именно его драгунам разрешено штурмовать в этом месте. Король скользнул взглядом по вытаращенным безумным глазам и слегка пожалел мертвеца. Погибнуть возле незначительного городка, счастливо пройдя все битвы. Когда-то, под Могилёвом, полковник принудил государя возвратиться в крепость, хотел стать для него новым Клитом. Сегодня, после удачного штурма, имел бы патент на чин генерала. Он чем-то похож на Лагеркрона и Спааре. Так же, кстати, как и они, получил любовницу из королевских карет.
И ещё король припомнил, что сам он решил не принимать личного участия в штурме. Что бы сказали в Европе, если бы его здесь ранили? Святую правду пророчит старинное писание. Но если победу суждено одержать кому-то иному? По спине прошёл холод. Если бы рядом был Урбан Гиарн. Да ещё раз растолковал пророчества...
Однако раздумывать о будущем было некогда. Остатки полка Фриччи, покрывая снег кровью, прихватили в беспорядочном движении и самого короля. Он надеялся, что это место легко будет взято через несколько минут, когда в ворота, вслед за полком Альбедила, ворвутся другие полки. Драгунам и не стоило поручать такого дела. Если бы не просьбы Фриччи...
Король оглядывался, надеясь увидеть белый флаг — знак, что осаждённые запоздало сдаются на милость победителя. Для них достаточно места в зеньковских каменных погребах, где уже сидят уцелевшие тамошние холопы.
Вдруг подбежал и упал, споткнувшись о маленький комочек смёрзшегося снега, лейтенант в опалённом мундире:
— Ваше величество... Полк Альбедила... Удирает к лесу... Генерал Лагеркрон просит помощи.
— Удирает?
Король узнал лейтенанта Штрома. Неприятное воспоминание шевельнулось в душе. Он закричал, чтобы пушки непрестанно били по валу, а сам бросился вслед за лейтенантом к генералу Лагеркрону.
Трижды, со всё большими и большими силами, со всё возрастающей злостью, ходили шведы на приступы — и каждый раз были вынуждены отходить с неимоверно огромными потерями. Среди имён убитых называли молодых графов Шперлингов, подполковников Мернера и Лилиенгрена — людей, известных всему войску. Ранен генерал Штакельберг, контужены фельдмаршал Реншильд и принц Вортембергский. Обожжено лицо у Лагеркрона. Прихрамывает Спааре... От жары сбросил одну шубу толстый Гилленкрок, а Пипер
побледнел от волнения. Сколько капитанов и лейтенантов изрублено, застрелено, сброшено с вала! Это капитаны и лейтенанты, победителями прошедшие по Европе... О многих воинах никто ничего и не знает. Куда девались? Как погибли? Из горы трупов перед крепостью вырываются стоны. Оттуда выползают искалеченные. За лесом уже садится ярко-красное солнце, будто и оно упилось за день горячей шведскою кровью. По всему полю, истоптанному тысячами сапог, расползаются синевато-красные тени...
А крепость стояла. На низком блестящем валу торчали её защитники. За ними угадывались чугунные пушки, всего три, — король знал точно, их не могло быть больше. И шведские генералы не взяли такую ничтожную крепостишку? Солдаты ходили под командой полковников, их водили Лагеркрон, Спааре на глазах у полководца. Из-за неё нельзя начинать manoeuvre du Roy
[29].
Все жаловались на зверское упорство осаждённых. Все будто оправдывались. Солдаты обороняются — понятно. Приказ, присяга. Или казаки... Но там упорнее всех защищаются холопы в грязных длинных одеяниях из самодельного полотна. Те холопы, что собрались из окрестных сёл...
Этого никто не понимал. Кто разрешил холопу воевать? Что за порядки в этой дикарской стране?
Больше всех визжал полковник Альбедил, забрызганный кровью, в разорванном пулею ботфорте. Одного вида такого воина должен испугаться холоп.
— Они бросаются на моих солдат как хищные звери! Они не знают правил войны! Голыми руками вырывают оружие! На моих глазах убиты два солдата их же мушкетами!
Альбедила поддерживал Лагеркрон, утирая разорванной рукавицей разгорячённое и грязное лицо, опалённое с правой стороны огнём, отчего оно казалось беспомощным.
— Женщины швыряли горячую кашу! Многие солдаты ползают с выжженными глазами! Их перевязывает хирург Нейман! Цирульникам не справиться!
— Да! — кричали все. — У них нет страха перед смертью!
Далеко в лесу тем временем показался гетман Мазепа. Король не желал встречаться со стариком, хотя знал, что тот, видя неудачу, приготовил утешительное латинское изречение. Король поехал в противоположную сторону, чтобы раствориться в сумерках, однако гетман сумел выехать ему навстречу. Драгуны-охранники расступились перед государем. Король знал, что в опасные минуты глаза гетмана загораются внутренним огнём, что сам он выпрямляется и молодеет.
— Ваше величество! — начал Мазепа без комплиментов. — Полковник Фермор, комендант фортеции, шотландец, шляхетный воин. Если бы ему дать гарантии относительно жизни и имущества, а ещё относительно награды, так он отыскал бы вескую причину не защищать более фортецию. Главное — позаботиться, чтобы туда не проникли известия о подходе русских.
Не было и тени галантной шутки на сухом гетманском лице, а только неподдельная забота об исходе осады. Король встряхнулся и велел позвать генерал-квартирмейстера вместе с казначеем.
15
Шведы притихли, и Петрусь поспешил к знакомой хатёнке. Галя бросилась ему на шею, будто родному человеку, не виденному много лет. В глазах у неё слёзы, зрачки расширены от чужой боли и наполнены страхом. Руки окровавлены, пальцы в корпии.
— Господи! Жив... Такой у вас гром... А Степан станет полковником! Говорят, погиб есаул, так казаки крикнули есаулом Степана. Деду Свириду утеха, если бы видел!
Старуха-хозяйка подняла голову от чужих ран:
— Только и слышу что о Степане! Вот молодец!
Вся крепость знала невысокую, крепкую Степанову фигуру. Староверские хлопы, Олексей да Демьян, забежав в хатёнку, тоже кивали головами:
— Вашему земляку от царя награда! Все здесь молодцы. Только шведские лестницы отлетали!
Вокруг дворика стоял стон. Раненых приводили, отводили, относили, приносили. Между заснеженными деревьями в маленьком садике с плачем сновали женщины. Кого-то успокаивали, на кого-то кричали:
— Ой, не умирай! Ой, душа полетела!
Старая хозяйка действовала уверенно:
— Не торопись! Сейчас уйдёшь! Вот здесь ещё перевяжу!
Петрусь возвратился на вал.
К ночи снова усилился мороз, да защитники не чувствовали холода.
— Хо, земляк!
Петрусь не узнал задымлённого Степана: голова у парубка обмотана окровавленным рушником, перевязана и рука. А пику всё равно он не выпускает ни на минуту. За ним кучками казаки и хлопы, тоже в повязках из женских платков, из кусков рушников, обожжённые, окровавленные, но с таким отчаянным блеском в глазах и с такой уверенностью в своей силе, будто Степанова отвага перешла на каждого и в каждого влилась частичка его силы.
— Ночью будет приступ! Сколько их мёрзнет! Приготовьтесь!
Старые казаки возле огня были спокойны. Словно хлеборобы после трудового дня.
— Может, наши ночью подоспеют...
Разговор перехватывал рыжий есаул. Как и накануне, он цепко всматривался в казацкие глаза:
— Здесь сам король... Нужно подойти всей царской армии. А это уже генеральная баталия. Да как вся армия сюда придёт, если такие снега?
Степан, готовя казаков, беспокоился, что не все осаждённые имеют оружие. Раненых отводил к Гале, некоторых силой укладывал в тёплой хатёнке, а сам снова возвращался на вал.
Петрусь верил:
— Ночью... Ночью не видно, сколько у кого сил! А мы отсюда поддержим.
Мельничным колесом вертелось в голове у парубка виденное и пережитое за день. В воображении он до сих пор швырял вниз брёвна, мешки с землёю, колол пикой ненавистные лица с бесовскими глазами, ощущая рядом скалу из солдатских тел, правда уже не такую плотную: многие из неё выщербились, корчились в муках, а то и вовсе затихли, успев отползти и свернуться комочком, до последнего дыхания не выпуская из рук оружия. Теперь, привалившись возле костра к старым казакам, Петрусь напрасно стремился удержать свои руки. Они мелко подрагивали. Куда-то хотелось бежать.
— Первая битва у молодца! — слышались голоса старых вояк. — Такое запомнится на всю жизнь.
— Мало пороху! — ныл рыжий есаул. — Один приступ отразить!
— Человече! — сказал Степан. — Руками справимся! Задушим. Мой дедуньо рассказывал, как прежде воевали. Одними саблями. Заедешь в Чернодуб послушать деда. Село сожгли, да оживёт оно!
После невероятной стойкости всей крепости и удальства своего товарища Петрусь проникся уверенностью: выстоим!
В сумерках громче застонали раненые. Тоненько, словно из-под земли, заныла труба. Все на валах поднялись на ноги — поднялся и Петрусь. А там, внизу, в свете костров, сами с пылающими факелами, воистину будто привидения, приближаются к крепости шведские всадники с новым письмом.
— Брошу камень! Чтобы не шастали! — оторвался от костра Степан.
— Но-но! — неожиданно огрызнулся рыжий есаул, хватаясь за саблю. — Хорошему учишь ты казаков! То послы. Послов не трогать. Закон!
— Какие послы? — не поддавался рыжему Степан. — Враги! У них закон такой, чтобы идти войною на наши земли? Пика и сабля — вот ответ!
Однако царский офицер уже подхватил брошенное письмо. Полковник, проходя по валу, взял его, долго и внимательно читал, наклонившись к костру, старательно свернул бумагу и сбежал вниз, приказывая впустить послов через небольшую калитку возле ворот — там, снаружи, шведы привязали коней.
С полчаса проторчали враги в доме полковника, а когда вышли и влипли в сёдла, то по крепости пошли слухи, будто они повезли ответ. Что написано — неизвестно. Полковник больше не показывался.
— Немец что-то надумает, хлопцы! Хитрая лиса! — сатанел от недоброго предчувствия Степан и рубил воздух кулаками. — Шведы успокоились!
Степан ещё недавно с готовностью исполнял самый незначительный приказ полковника Фермора, но сейчас он уловил в комендантовом поведении что-то зловещее. Шведы в самом деле вроде бы больше не зарились на Веприк.
— Просили разрешения забрать раненых! — догадался Олексей.
— Пускай, — был согласен Степан. — Мы не звери, мы христиане.
По синему снегу перед валами, где не утихал стон, бесшумно бродили тени, надрываясь под страшной ношей.
Крепости снова не до сна. Шведское ядро увязло в церковном куполе, крест качался на ветру, грозя падением, однако священники не прекращали молитв за души убиенных. Женщины в хатах заканчивали перевязывать раненых. В лесах выли волки, чувствуя невиданную доселе добычу, которая уже дразнила своим запахом, только до неё не могли пока добраться острые зубы.
Петрусь примостился возле костра между мешками. Уловил запах мёрзлой земли. Ею набиты мешки. Сон налёг тяжёлый, но вскоре пришлось проснуться. Казалось, идут шведы. Он уже привычно подбежал к краю вала — а там тихо и спокойно. Кричат внутри крепости.
Возле комендантского каменного дома пылали костры. Там громче всех трубил Степан:
— Солдаты! Братья! Это предательство! И без пороха управимся! Наши идут на помощь! Мы с вами дружно воевали! Солдаты!
Рыжий есаул с Олексеем и Демьяном хватали Степана за руки. Есаул тоже что-то кричал. Кричали всё одновременно.
Солдаты отвечали:
— Отойдите!
— Он предатель! — вырывался Степан из сплетения рук.
— Отойди, брат! — успокаивали солдаты.
На крик выскочил на крыльцо полковник. Степан бросился навстречу. Никто не удержал чернодубца, да полковник выхватил из-за пояса пистоль. Степан упал вместе с выстрелом...
— Пушки выданы шведу...
В ясный морозный день чёрный дым казался ещё более чёрным.
Мазепиицы улыбались:
— Король приказал, чтобы и названия Веприк не осталось!
Казаков выводили отдельно от солдат. Среди солдат выделялись тёмными кожухами староверы. Петрусь сразу же узнал Олексея и Демьяна. Солдатские лица каменели от мороза, от мук, а более всего, наверно, от незаслуженного позора. Знакомый чернявый шутник, уже с перевязанной головою, в разорванном кафтане, обращался к товарищам с вопросами, а они молчали. Плотным забором окружали пленников верховые шведы, гордые, словно они и здесь победители. Глумясь, пропускали сквозь свои ряды. Царские офицеры, почти все израненные, сидели на возах с опущенными го ловами.
Предательство понятно всем. Враги возвратили Фермору шпагу. Он сидел на коне, болтая со шведскими офицерами, забыв о недавней своей принадлежности к царской армии. Над маленькой головою в огромной шапке с пёрышком колыхалось синевато-зелёное знамя с тремя коронами, вышитыми золотыми нитками. Всё равно кому служить, лишь бы деньги.
— Ещё встретимся, хлопцы! Даст Бог!
Хлопцы, шевеля окровавленными губами, тоже махали в ответ. Помахал и чернявый знакомец.
Жителей Веприка и казаков шведы согнали к крепостному валу, окружили мазепинцами.
Рыжий есаул теперь был готов исполнить самый суровый приказ новых хозяев. Особенно внимательно всматривался он в Мазепу. А заботился, проклятый, о порохе, о том, что не подоспеет подмога: сеял неуверенность... Мазепа тоже на коне, одет в тёплый жупан, подбитый мехом. Лицо одеревенело от мороза и старости. Он не отдавал никаких приказов, никто к нему не обращался, но все проходили или проезжали мимо него с опаской, как проходят мимо стеклянных сосудов.
Мазепинцы, кажется, разграбили город ещё до того, как шведы подожгли его, но награбленного им мало: присматривались к пленным, надеясь увидеть ценный перстень, монисто или же серьги, а если попадало что на глаза, то готовы были вырвать с душою.
Верховые мазепинцы лошадьми сжимали людей в ещё более плотную кучку. Женщины кричали. Кого-то свалили с ног, кого-то топтали, кто-то перед смертью стонал, и его не могли вытащить из живой толпы — Мазепа ни на что вроде бы не откликался. Петрусь подумал, что лицо Мазепы сейчас напоминает застывшие лица мертвецов. Сколько лет дурил он людей. Даже таких мудрых, как зограф Опанас!.. Но есть где-то на свете его парсуна... Господи, помоги искупить грех... Зато, если удастся вырваться из ада, если кисти... Сколько виденных людей поместится на белых церковных стенах... Лишь бы выжить... А краски снятся... Иногда так ярко, что, уже проснувшись и взяв в руки саблю, всё ещё чувствуешь желанный запах...
Вперёд выехал стройный генеральный писарь Орлик. Взглянув без одобрения на сгорбленного, посиневшего Мазепу, развернул бумагу и заговорил, изредка заглядывая в свиток:
— Его величество король шведский велел отдать вас на волю законного властителя вашего, ясновельможного пана гетмана!
Впрочем, заметил Петрусь, нет уже и в Орлике прежней его весёлости. Лицо отекло, под глазами мешки...
Галя, хоть и в казацкой одежде, невольно вжималась в женскую и детскую толпу. Петруся жгли мысли о том, что первым делом следует освободить девушку. Теперь, когда Степан погиб, когда его тело мазепинцы зароют в общей могиле-побиванке, когда Олексей с Демьяном вместе с пленными солдатами, — как решиться на что-то рискованное? Старая Галина хозяйка ударила поленом мазепинского есаула — её тут же зарубили саблей, а раненых кого прикончили на месте, кого прогнали пинками и только небольшую часть разрешили уложить на сани. Вон они, за мазепинским обозом. Но к ним не подпускают. Как же спасти Галю?
— В Зеньков! — загудели люди, и этот гул болью отозвался в казацкой голове. Не в битве свалили, а в предательстве. — Там запрут в погреба! Как же! Непременно!
— И в кандалы!
Мазепинцы разрывали толпу на куски, гнали вслед за солдатами.
Над Веприком небо закрывалось дымом. Петрусь поворачивал голову, но ничего не видел, не различал валов, где ещё вчера стоял за волю и правду.
Часть четвёртая
1

Петруся подкосились ноги: это же сотник Онисько сплёвывает тягучую слюну, вытаращив глаза. Он растолстел, глаза поблекли, широкое лицо распухло — много горелки выпил верный Мазепин слуга. Однако на нём дорогой жупан и дорогое оружие. Он у хозяина в большом почёте.
— Ещё не все передохли? — лениво сказал Онисько. — Га! Нам погреба нужны! Добра бы вам не было!
— Ещё живы! — отрезал Петрусь.
Он желал когда-то встречи с Ониськом, да не такой.
Онисько тоже узнал Петруся. Побледнел. Выхватил саблю и выругался:
— В Веприке пойман, гультяйская морда?
Ониськов ужас так же быстро развеялся, как и появился. Он уже ничего не боится на этом свете. Однако не хватило духу ударить узника даже нагайкою, хотя она тоже при нём.
Галя также всё это видела. К счастью, Онисько не узнал девушку в женской толпе. На весь погреб — один фонарь. Ещё один принёс с собой Онисько и поставил у входа.
— Крепкие стены... Зеньковские купцы знали, чего хотят...
Как только мазепинец отошёл, повторяя эти слова и присматриваясь к прочим узникам, — явно приплёлся из-за Яценка, не раскаялся ли тот, не поведает ли сегодня, где же скарб? — Петрусь прошептал Гале:
— Удирать надо.
Онисько с минуту простоял возле Яценка. Тот лежал словно покойник, с заострённым побелевшим носом. Сотник затопал сапогами но каменным ступеням, снова закрывая нос рукою и сплёвывая прямо на людей.
— Петрусь, — не могла оторвать Галя взгляда от страшного гостя. — У него же Степанова сабля.
Петрусь молчал.
Смерть казаку не страшна. Но враг снял оружие с убитого в Веприке Степана... Подарок деда Свирида.
Уже две недели мучаются в погребах веприкские пленные — и казаки, и хлопы, и женщины, и дети. Отощавших людей принуждают чистить конюшни, поить коней, рубить дрова. От голода и холода некоторым всё безразлично. Кое-кто и не поднимается по утрам. Особенно среди тех, у кого место возле печки. Раненые умирают ежедневно. Мертвецы лежат во дворе, пока пожилые мазепинцы не бросят на сани лязгающие, словно дровишки, обмёрзлые трупы. Детвора спрашивает, скоро ли домой, а матери — в плач. Куда податься? Если бы и выпустили — так всё в родном дворе сгорело.
Журбенко опасался, как бы общее безразличие не одолело и его или Галю, — тогда никак уже не вырваться из ада. В кандалы, правда, никого не заковывали — где набрать железа на всю Украину? — но удрать было нельзя. Мазепинцы не распинались на службе, однако город заполнен чужаками. Где-то рядом сам король... Если бы и вырвался кто за высокую стену, что окружает двор, — куда дальше?
Петрусь просился на работу, надеясь отыскать в ограде щель. За стеною увидел глубокий овраг. В таком месте обязательно есть подземный ход. Начинается он где-то здесь, а выходит на поверхность уже на воле. Зеньковские купцы — люди предусмотрительные. Петрусь вслушивался в разговоры мазепинцев, подбивал на то и Галю — да всё впустую.
Как-то его внимание привлёк полуживой, обросший бородою человек. Наверно, зеньковец. Из тех, которые не пускали к себе «гостей». Женщины подносили несчастному еду — раз в день мазепинцы втаскивают в погреб чёрный пузатый котёл с жиденькой юшкой, кое-какую поживу доставляют люди, кто выходит на работу, — человек причащался к еде, чтобы не умереть. Когда же Петрусь проходил мимо него, он следил потухшими полузакрытыми глазами. Однажды прошептал:
— Не узнаешь, Петро?
Только и осталось от прежнего, что голос. Но то был Яценко. Он взмахнул тёмными, словно бедняковы подошвы, ладонями, приглушил парубков крик. Щёки у него провалились, чёрные. В тёмных когда-то волосах много белой паутины. Плечи сузились вдвое, грудь усохла. Наверно, по всему телу обвисла кожа, как обвисает она на тёмных руках.
— Почему вы здесь, дядько Тарас?
Задыхаясь от собственной речи, Яценко рассказал о милостях сотника Ониська. Жизни на этом свете уже нет. Надо только известить падежных людей о скарбе, чтобы попал он в царские руки, а не достался Мазепе. Останется хоть купеческое имя... Есть ещё у него жена и дочка. Может, царь их не забудет. Купец порывался поведать тайну, но сдерживался.
— Можно вырваться, — сказал наконец.
— Как? — Петрусь так крепко ухватил иссохшую слабую руку, что Яценко вздохнул. Затем Яценко решительно произнёс:
— Стаскивай правый сапог...
Украдкою, будто старому человеку просто меняют сопрелую онучу, Петрусь взялся за вонючий сапог, сшитый из некогда весьма и весьма дорогой кожи. Сам Яценко окончательно высох, а ноги отёкшие, обувь не сходит. Наконец на солому вывалился ключ. Старик вздохнул, а казак быстрым движением бросил ключ себе за пазуху.
— Служанка пособила, — шептал Яценко. — Но я не дойду, Петро...
Бежать договорились сразу, как только в погребе окажутся санки — есть во дворе. Петрусь отправился предупредить Галю, чтобы готовилась в дорогу, чтобы подговаривала других людей...
И вот черти принесли Ониська... Как бы он не помешал.
Петрусь вздремнул на соломе, даже не снимая шапки, и ему приснилась воля. Будто он верхом, дорога перед ним без конца, такая манящая, над ней вдали чернодубская церковь, и нужно торопить коня, чтобы добраться туда, где находятся краски и кисти. Но церковь не приближается. Всадник поднимает нагайку, а в глаза ему бьёт солнце. Он просыпается.
В тёмном погребе в чьих-то руках качался фонарь и возле него стучали сапоги. В печи пылал огонь. Его расшевеливала кочергой сгорбленная женщина. Плакали дети. Во сне стонали люди. С каменного потолка неспешно капала вода.
— Выходи, крестник! — захохотал Онисько, щуря глаза. — Не будешь жаловаться на том свете, что я тогда промахнулся! Вставай, москальский прихвостень! Пришлось бы возвращаться из-под Москвы по твою душу! А так все соберётесь вместе на том свете! Ха-ха-ха!
Фонарь плясал в руках другого, пьяного, мазепинца. Огромные тени метались по потолку и но скошенным каменным ступенькам. Сам Онисько, кажется, упал бы, если бы не стены... Крики поднимали людей. Толкая Петруся к выходу, Онисько хвастался:
— Король идёт на Москву! О! Выгоним русских — тогда и не пискнете, быдло!.. У меня уже три поместья. Буду как и мой приятель Гусак! О, то человек... Он подарил гетману его парсуну. Такое малевание! Чудо!
— Парсуну? — оглянулся Петрусь на Галю. — Какую? Где взял?
Онисько не обращал внимания на вопрос, толкал в спину.
Петрусь понял, что вместе с сотником в погреб приковылял всего один мазепинец, — кого остерегаться наглецу, если во дворе вооружённые сообщники? От спёртого воздуха у Ониськова помощника закружилась голова. Он ткнул фонарь на пол и прилепился к каменной печке, вспугнув там сонных детей.
Галя следила за всем широко раскрытыми глазами, не зная, чем помочь Петрусю. Молодицы у неё за спиной стонали при каждом ударе Ониськова кулака, прижимая к себе плачущих детей.
Онисько взял фонарь, но вдруг, споткнувшись о чьи-то ноги, так стремительно свалился, что живой огонь враз пропал, и в просторном погребе воцарилась бы полная ночь, если бы не огонь в печке.
А тем воспользовался Петрусь. Дебелая спина врага захрустела после его прыжка. Кто-то ещё бросился на помощь... Галя заслышала борьбу многих узников. Шагнула тоже... Там кто-то вскрикнул, захрапел... Тем временем в большом фонаре зажгли свечку. Все расступились — Онисько лежит с вытаращенными глазами. А мазепинец возле печки уснул на соломе, словно на постели.
— Что наделали, Господи?
Возле бледного Петруся толпилось с десяток человек.
— Казак! Что будем делать?
Вчерашние хлопы храбро защищали Веприк, защищали свою волю, — а сейчас убит христианин, вот он, без дыхания, сотник... Грех перед Богом. От содеянного не отречёшься. Отсюда не удрать. Где спасение?
Под косматыми шапками, как мыши под соломенными стогами, бегают и прячутся глаза. Дрожащие руки сами лезут в карманы — их нет и не было здесь!
Женщины мигом прекратили визг. Надежда — Петрусь. В отблесках света он сам себе снова показался крепким и умным, кровь начала возвращаться на остывшее лицо. Он снял с убитого врага саблю, всем объяснил, что это оружие погибшего товарища. Дальше скомандовал:
— Михайло! Надевай сотников жупан! Уходим!
Приказ относился к высокому узнику, первым бросившемуся на помощь. Тот быстро переоделся мазепинцем.
— Сюда! Сюда! — Немощный Яценко скатился со своего места. Его глаза заблестели жизнью. — Разгребайте солому!
Под слоем соломы такие же каменные плахи, как и везде. Но достаточно было их только сдвинуть — обнажилась ржавая тяжёлая крышка.
— Ключ! — не терпелось купцу. — Не знают мазепинцы...
Под крышкой — узенькие каменные ступени, одному человеку впору пролезть. Петрусь бросил камень — звук пронизал неизвестно какое пространство.
— Меня не забудьте!
Яценко опасался, что его оставят здесь. Сам поднялся на ноги, но не устоял. Его опустили первым. За ним полезли другие...
Собрались в том глубоком овраге, который виден со двора. Вверху, в огнях факелов, шевелился заснеженный Зеньков: ржали лошади, скрипели на снегу сани. Весело, хоть и тревожно, перекликались пешие и конные шведы, — получалось, не врал Онисько, враги отправляются в поход. О том нужно было кого-то предупредить.
— Петрусь! — лезла в глаза Галя. — Мы же на воле. На воле!
В овраге, где полно снега, беглецов набралось человек тридцать. Были и женщины, и дети. Не все в погребе отважились бежать, даже кто в силе. Некоторые надеялись, что шведы выпустят и так, коль они сами отсюда уходят. Однако и эти несколько отважившихся смельчаков еле докопались до ближнего тёмного леса и стали совещаться под засыпанными снегом дубами. Что делать с женщинами и с детьми? Истощённые, немощные... Самый сильный хлопец — Михайло, что в сотниковой одежде, который тащил Яценка, — и тот лежит на снегу, ловит ртом воздух. А Яценко, кажется, и не человек, а щепочка, одни сапоги что-то там весят.
— Женщин и детей, кроме Гали, устроим вон в том селе! — подал совет Петрусь, завидев невдалеке чью-то усадьбу. — Свои люди приютят.
Яценко так решительно дёрнулся под дубом, что с ним не поспоришь.
— Петро!.. Сделай из веток волокушу... Я должен быть там!
Дальше продвигалось всего семеро человек. Они держались лесных чащ и радовались, что слежавшийся снег не проваливается. Сожжённые сёла обходили стороной, потому что как и шведов, которые заполнили все шляхи, так же остерегались и волков — те стаями рыскали на повсеместных пепелищах.
Только к вечеру, неожиданно наткнувшись на глухой дороге на конницу, припали к снегу. Уже выбирали, куда уползать, где спрятать купца. А Петрусь вдруг вскочил на ноги:
— Погодите! Не надо!
В переднем всаднике, каком-то неповоротливом на вид и громадном, он узнал знакомого человека и замахал ему обеими руками.
Вскоре беглецы сидели в большой тёплой корчме и корчмарёва жена подносила каждому по миске горячего борща. Даже Яценко уплетал вкусную еду. Корчмариха, пожилая женщина в тёплой сивой свитке, стонала, глядя, какой перед ней человек:
— Будто дрова рубит... Вспотел! Долго ему отхаживать те ноги...
Батько Голый — именно его узнал Петрусь впереди неизвестного войска — рассказывал о себе. Он исхудал. На висках густая седина. Рубцов стало больше. Веки вздрагивают.
— Оце... На том нашем хуторе отлежался. Где ты, Петро, малевал петухов. Так и красуются они... Там и товариство собрал. Кто после Чернодуба уцелел, а кто — новички. Сейчас у меня бывшие мазепинцы, хлопы, русские мужики и даже солдаты, удравшие от царской муштры. Оце.. Спасли меня хлопцы, так я уже везде шведской крови пролил! Бьём мазепинцев и скоропадчиков не милуем. Ведь прежнее у нас деется... Скажи, Мацько!
Рядом с батьком сидел желтоголовый молодой человек с хитрым быстрым взглядом. Он еле сдерживался, чтобы не прерывать речь старого атамана. Теперь выдохнул:
— Так, батьку, вашмосць! У мазепинцев царь отнимает, а скоропадчикам даёт! То же горе простому человеку, что царь, что король!
Галя шепнула Петрусю, что она знает желтоголового: бывший жебрак.
— Это мой побратим! — указал батько на молодого человека. — Правду режет! Мазепинское поместье, скажем, передали Галагану. Галаган искал выгоды у короля, а завидел, что у царя всё понадёжней, — так туда... А мы сегодня его добро раздали людям, а строения пустили с огнём! Не будет у нас панов, пускай знает! Ездил ты к царю, Петро, да не читал он нашу бумагу. Говоришь, Онисько... Ониська на том свете спрошу. Жаль. Если бы мне к царю... Поговорить...
Яценко чуть не подавился борщом. Отодвинул миску так решительно, что корчмариха с Галей испугались, не повредила ли несчастному еда. Он же отёкшими ногами упёрся в пол:
— Поедем! Такое у меня дело, что царь и вам ласку окажет! И расскажем, что шведы уже в походе.
Батько ударил по столу кулаком. Борщ забрызгал купцу лоб.
— Не мне нужна, купец, царская ласка, а несчастным нашим людям! С русским народом у нас одна вера — так пусть и дорога одна будет! Оце... И пусть меня гетманом сделают, а не пана! Гнули спины на Мазепу, теперь на Скоропадского, на Галагана, Апостола! Тьфу!.. А выгоню панов, будут одни казаки на Украине — все как один разбогатеют! И царю хорошо... Вот война — так если бы не тридцать тысяч казаков, а триста тысяч? Что бы осталось тогда от шведа?
Батько долго рассуждал, потирая щёки, будто с мороза, чесал спину, пока снова не вмешался Мацько:
— Чего думать, вашмосць? Поедем! Скажем: не годится Скоропадский под гетманскую шапку! В морду царь не даст...
— В морду не даст, — рассуждал дальше батько, — но в каменнице сгноит. Как Палия.
Петрусь вспомнил:
— Слыхал я в Веприке ещё, будто царь возвратил Палия из Сибири... А почему вспомнилось: мальчишка один просил сказать царю про Палия.
— Что? — обрадовался батько, заслышав дорогое ему имя. — Так бы и говорил, казак! Едем, Мацько, коли так! Пусть Палия ставят гетманом! Согласен!
Петрусь ещё усилил атаманову радость:
— Хлопец, что за Палия болеет, — то ваш сын, Мишко. Живёт у моей матери.
— В Чернодубе? — вспомнил Мацько, пока батько сидел с раскрытым ртом. — Так эта дивчина — Галя! Казаком переоделась, а взгляд девичий! — И к атаману: — Батьку! Вашмосць! Это твой сын в нашем жебрацком гурте ходил! Господи... Он рассказывал, будто батько у Палия, да оно мне и не под шапку... Господи!
По широкому сморщенному лицу батька, по твёрдым рубцам текли слёзы:
— Вишь, как получается... Сынок... Как только возвращусь — так сразу поеду к нему. А то так и погибну, его не увидев...
Он уже приказывал, как и кому собираться в дорогу, что брать с собою, кто остаётся в войске старшим, как помочь людям в Зенькове.
Выехали, однако, поздно. Атаман всю ночь совещался, под утро свалился на лавку, где сидел, и его не осмеливались будить.
Петрусь поднялся рано. Галя спала в чулане у корчмарихи. Сама хозяйка уже гоняла наймичек, но двери в чулан были плотно закрыты. Петрусю спать не хотелось. Во сне постоянно чудится, будто ты снова в зеньковских погребах, снова тебя давит мрак, и только где-то в уголке теплится огонёк. И знаешь, где тайный ход, а никак не отыскать ключа...
Корчмарь, видя, как мается между сонным товариством молодой хлопец (даже Яценко высвистывает порозовевшим носом, тоже дождался успокоительного сна, нет и речи о смерти, а лишь о встрече с царём), — хвать парубка за рукав:
— Слушай! Батько хвалился, будто ты маляр?
— Да, малевал. Через то теперь и нет покоя.
Петрусю снова припомнилось, что проклятый Онисько говорил о парсуне, подаренной Мазепе Гусаком. Что за парсуна? Может... Надо бы поговорить с батьком Голым.
— Намалюй мне что-нибудь на этой стене, — не выпускал рукава корчмарь. — Чтобы при входе! Люд повалит! Мне это очень сгодится!
— Дядько! Не язвите душу... Где краски? Знаете, откуда удираем. Да и не время. Война.
— Война? Ну и что? — удивился корчмарь. — Разве тем, кому суждено погибнуть, не хочется полюбоваться малеванием? Подумай, казак!
Петрусь замолчал.
Корчмарь хотел его успокоить:
— Голубь мой! Какие только прохожие здесь не побывали, а маляров... Один пропил заморские краски, божился, что заморские. Лишь бы сил тебе хватило... Жена, краски!
Корчмариха ждала этого приказа. Принесённые краски в самом деле оказались чудесными. Петрусь только взглянул — засмеялся, потом окинул взглядом стену и принялся малевать на ней хозяинов сад. В окнах виднелись яблони — под толстым слоем снега, осыпанные солнечным светом, а на стене получались те же деревья уже в розовом цветении... И между ними — девичья фигурка.
Лица не видать, одни красивые ленты и красное монисто... Галя?
За работой застал батько Голый.
— Во умеет! — стонал корчмарь, призывая и атамана похвалить увиденное, но атаман лишь скользнул по малеванью взглядом и сел на скамейку.
— Вот что, Петро, — сказал он задумчиво. — Если мой хлопец у твоей матери, то... Мало ли что со мною случится... Понимаешь, не до кума едем в гости... Будь тогда ему за старшего брата... А я буду молиться за тебя Богу... Лишь бы Палия воротить... Лишь бы допустили до царя...
Под батьковы речи проснулся весь двор. Желтоголовый Мацько ругал корчмаря за старое сало, которое тот подсунул на дорогу, и гонял гультяев. Беспрерывно скрипел над колодцем журавль. Запрягали коней.
Кое-кто, едва раскрыв глаза на цветущий сад, не знал, укорять ли себя, что до чёртиков допился, или это в самом деле так намалёвано; потому что все глядели не только на стену, но и на парубка, вырвавшегося из мазепинского плена...
Мацько ударил по струнам новой бандуры:
Чорнi вуса, чорнi вуса, чорнi вуса маю...
Батько Голый поддержал его мощным голосом, но не пел, кажется, а приказывал. На прощанье он крепко обнял Петруся, отвернулся и тяжело вскочил в сани.
Галя махала отъезжающим рукою.
Петрусь сжимал рукоять Степановой сабли.
2
Мазепа ехал по Слободской Украине. Он был доволен. Во главе кавалерии — сам король. Старика воодушевили рассказы королевских офицеров: русские действуют палашами как саблями. От этого мало толку. Правда, Гусак и Герцык — зять полковника Левенца, свояк генерального писаря Орлика, силой пробился сюда из Полтавы, — оба напоминают, что шведы остерегаются драгунских пик.
А ещё недавно Мазепу беспокоил граф Пипер. Он, граф, советовал дождаться короля Станислава за Днепром, на Волыни, а тем временем договориться с турками и татарами. У графа, понимал Мазепа, за спиною государственный шведский совет, богатейшие люди, которых тревожит неуёмная смелость молодого властителя. Но вельможи далеко. Здесь же, в походе, никто не уговорит повернуть армию назад — разве что граф Пипер, да и то при помощи каких-нибудь уловок!
Упоминая при шведах об Александре Македонском, Мазепа с удивлением узнавал, что король слабо знает историю, а ещё слабее — географию. Оправдывал королевское невежество тем, что воину некогда думать о давнем, и рассказывал, как, совсем недавно, недалеко от Украины найден камень с эллинскими письменами. Здесь проходил Александр Македонский. Камень теперь в Москве. После путешествий по Европе царь собирает всё диковинное. Король в ответ кивал удлинённой головою: да, генерал Спааре отдаст необходимый приказ. Спааре — комендант Москвы.
Огромные королевские ботфорты при разговоре натыкаются на оружие и мебель. Он мог наступить и на ноги, потому Мазепа как можно старательней поджимал их под себя.
В Зенькове, королевской резиденции, ещё неотступнее ходил шведский караул. Даже сидя в королевских апартаментах, Мазепа видел за окнами красные затылки над синими мундирами — стража торчала на большом морозе, растирая уши и носы, дышала на руки, а торчать вынуждена. К королю каждое утро собирались генералы и полковники. Надеялись, что он станет более осторожным. Молчаливый, как и прежде, он никому не говорил даже о тех намерениях, которые не имеют уже никакого значения. A manoeuvre du Roy, который следовало начинать от Веприка, уже потерял своё значение. Войско неожиданно замешкалось возле того местечка.
Его величество, как всегда, не интересовался мнениями генералов, но вдруг он приостановился, наступив на ногу Лагеркрону.
— Кто в Европе поверит, что нас не прогнали за Днепр?
Взгляда побелевших глаз присутствующие не выдерживали. Однако и Мазепа, и граф Пипер, и даже генералы с полковниками — все поняли: король снова, как сказано кем-то из молодых остроумных офицеров, будет искать шпагой слабое место на теле московитского медведя.
Мазепа с адским наслаждением посмотрел на Пипера — граф в ответ вежливо улыбнулся. Мазепа тоже выдавил улыбку. Лагеркрон даже застонал — то ли от удовольствия, то ли просто потому, что король убрал с его ноги ботфорт. Фельдмаршал Реншильд не скрывал удовлетворения. Генерал-квартирмейстер Гилленкрок превратился в олицетворение забот. Только принц Вюртембергский радовался открыто и неподдельно: он уже выздоровел после веприкской контузии и снова бредил военными приключениями.
— Генерал Крейц в Лохвице дождётся короля Станислава, — закончил король. — Гетман...
— Возле вас, ваше величество, — по-молодецки насторожился Мазепа. — У нас говорят: старый конь борозды не искривит!
Он беззаботно засмеялся, побаиваясь в душе, что король способен догадаться, как страшно оставаться в тылу у шведский войск. Какая польза от генерала Крейца? Или от присутствия в черкасских городах и сёлах отдельных гарнизонов, от собственных казацких полков, собранных к тому же в большинстве своём из всякого сброда? Надёжная защита — молодой король-рыцарь.
Его величество секунду глядел на своего престарелого союзника. Королевские мысли устремлялись вдаль арабскими скакунами...
А через несколько дней, январской ночью, король во главе двухтысячного кавалерийского авангарда так неожиданно свалился на город Опошню, что захватил там обед, приготовленный для князя Меншикова, а драгуны даже погнались было за самим царским другом, только напрасно: у русских были свежие кони. Затем король с драгунами поскакал прямо к Ворскле. За Ворсклой крепости Охтырка, Красный Кут. И никто не знал, что именно собирается он делать с укреплениями.
Мазепа всегда благоговейно рассматривает удлинённое лицо с тонким, слегка горбатым носом, тоже удлинённым, белые жиденькие волосы — король не любит париков, — всегда прикрытые широкой надёжной шляпой. Не то чтобы Мазепа не нагляделся на королей с малых лет. Как только отец, украинский пан, отдал хлопца к варшавскому двору Яна-Казимира, где ещё очень долго снился родной дом, он видел коронованных людей почти ежедневно. Впрочем, видел их и в остальной Европе, куда был отправлен уже Яном-Казимиром для ознакомления с чужими землями. Но это — король-воин, от которого веет суровостью предков-викингов, способных покорить мир. Препятствием может стать только королевская молодость. К ней следует присоединить мудрость зрелого мужа.
Известно, король правильно поступает, наказывая непокорных. Но с Веприком получилось скверно. Укреплённый Батурин, где был такой чудесный гетманский дворец, где была собрана одна из лучших на Украине библиотек, Меншиков взял в одну ночь, а Веприк, пустячок в сравнении с Батуриной, шведская армия купила за королевское золото. Самый тёмный хлоп теперь задумается: действительно ли шведы так сильны? Можно ли им довериться? А они просто не привыкли ещё брать крепостей. Как если бы в дверях стал сердитый мужик с дубиной в руках — не пройдёт и десяток храбрецов... Но здесь, в Слободской Украине, шведы за меньшее сопротивление выгоняют людей из домов, отнимают скот, продовольствие, а в сёлах оставляют вместо строений одну золу.
У себя в гетманщине Мазепа почти не видел хлопов с тех пор, как пришли шведы. А вот недавно встретились ему слобожане, пожилые, женщины, ребятишки на чёрном от копоти снегу, многие босиком и в страшном рванье. Шли в слезах, а шведы подгоняли ударами шпаг. И вдруг он встретился взглядом со взглядом старухи. Не скрывая своей ненависти, та прижимала к себе ребёнка, кажущегося мёртвым. Сотник Гусак — с недавнего времени, вместе с Герцыком, не отходивший от Мазепы — взмахнул саблей. Старуха упала от одного этого движения. Мазепа даже разозлился на себя самого. Зачем смотрел на старуху — её глаза по-прежнему пронизывали ему душу. Конечно же, баба мелькнула только, но привидение обвиняло, будто бы он накликал беду. Будто бы он желал лиха родной земле. Нужно было оправдываться. Это напомнило споры с Орликом, который, если точнее сказать, и не спорит вовсе, но вечно напивается и многозначительно молчит, всем своим видом показывая, что он, Мазепа, в чём-то крепко виноват.
Захватив на Слобожанщине значительные города и сёла, шведские полки длительное время кружили вокруг Охтырской крепости, где русские посадили гарнизон, а предместье выжгли. Король не замыкал крепость в осаду. Мазепа с ним соглашался: пустая задержка, если русские удирают, если их косят болезни. Может, вымрут и так. Крепости упадут, как падает созревшее яблоко.
Так рассуждая, Мазепа избегал думать о Веприке. Избегал оставаться с Орликом наедине.
Король торопился вперёд. На разбитой дороге офицеры доложили Мазепе, что его величество направился к Красному Куту, где с драгунскими полками обретается царский генерал Ренне. Мазепе захотелось собственными глазами увидеть триумф короля. Посмотреть после этого открыто в глаза Орлику. Шведская кавалерия — вот сила, которой доступна окончательная победа! Мазепа заторопился вперёд и к вечеру увидел речку Мерлу.
Часть сердюков рысила в королевском авангарде, часть ом держал при себе, в арьергарде, — так по-французски называются передовые и замыкающие войска. Утоптанный снег, трупы русских и шведов давали понять, что где-то недалеко гремит упорное сражение. Мазепа отдал полковнику Горленку нужные приказы, а тот — есаулам. Войско пошло со всеми предосторожностями. За рекой в густые тучи садилось красное солнце. Закатные столбы пронизывали тучи и предвещали мороз. Вдруг из-за Мерлы, из-под красных столбов, выскочила конница, к удивлению — шведская!
— Берегись!
Горленко еле успел отвести казаков в овраг. Мазепе в душу закралось плохое предчувствие. Через мгновение в том же овраге он узнал от хмурого шведского полковника с перевязанной головою, который съехал вниз и заговорил по-немецки, что шведы оставили в осаде короля.
— Короля?
— Мы атаковали московитов вплоть до городских валов. Король вырвался вперёд. Да кто-то из шведов не выдержал отпора московитских пик... Король теперь на речке, на мельнице. — Полковник поморщился от боли. — Посланы гонцы к генералу Крузе. Он приведёт свои полки.
Выбравшись снова на шлях и осматривая сердюков, Мазепа готовился услышать о смерти короля, о пленении. Полагал, сойдёт с ума, если получит такое известие, или сразу же умрёт. На холодном ветру затекли руки и ноги. Не мог сидеть в седле, был уверен, что свалится под копыта. Потому указал Гусаку на строения за кучами взъерошенных ветром деревьев. Шведские драгуны отнесли его и положили на обугленные доски. Он лежал и шептал молитвы, одновременно вслушивался в долетавшие звуки. Упала ночь. Землю сковал мороз. В голове тягостной болью отдавался каждый удар копыт о твёрдый снег и каждый недалёкий шаг. Однако ночь принесла желанную весть, её поведал Гусак: мрак и полки генерала Крузе выручили короля. Или, может, донеслась до Бога молитва? Ещё спустя какой-нибудь час уже сотник Герцык восхищённо рассказывал, как он летел в авангарде рядом с королём!
— Русские умирают от заразы, пан гетман! Трупы вдоль дорог лежат кучами. Путь на Москву открыт!
Мазепа слушал лежа, силился заверить себя, что услышанное оправдывает его в глазах Орлика, в глазах тех, кто засомневался в силе Карла XII, — но в голове стучало: король погонит московитов, а здесь... Где взять силы против черни?
Невзирая на позднее время, он отправился к королю и поздравил его с успехом: изрублено столько московитов!
— Отсюда недалеко до того места, ваше величество, где прошёл с фалангами Александр Великий!
То была неправда, но король повеселел.
— Через день начну наступление большими силами! — сказал он доверительно. — Генерал Крузе пойдёт в авангарде. Наконец найдено место, в которое можно проникнуть с войском без потерь. Муравский шлях ведёт к Москве!
Король впервые намекнул гетману и генералам о своих намерениях. Он снова был Богом — Мазепа возле него утешился.
Для Мазепы в сожжённом селе отыскали полусгоревший сарай. Он там заночевал.
А наутро ему показалось, что загремели царские пушки. Старика вынесло во двор. Сквозь косой ливень глаза ослепило сверкание сломанной в нескольких местах тоненькой трещины. В блеске испуганно присели шведские
огромные кони, уже припомнившие летние грозы и знающие, что за таким слепящим блеском обязательно раздаётся вселенский грохот. Диво — зимой ударил гром! И сердюки, и шведы, дрожа от холода, с ужасом всматривались в небо.
Под дождём, тоже измокший и согнутый в пояснице, на пепелище появился в сопровождении небольшого эскорта генерал-квартирмейстер Гилленкрок. Уже под соломенной стрехой, отводя встревоженные глаза, выдавил из себя не торжественной латынью и не праздничным французским, а тихо, словно бы подобострастно, по-немецки:
— Ваша светлость! Будьте осторожны в разговорах с его королевским величеством. Не раззадоривайте Азией. И так у него богатая фантазия. Шведская корона будет благодарна за сдержанность. Это слова и графа Пипера. Мы с вами люди образованные. Мы...
Мазепа покраснел. Гилленкрок намекает на последний ночной разговор?
Гилленкрок, забыв о гоноре, попросил уже на латыни:
— Вы один в состоянии, ваша светлость, убедить его королевское величество повернуть армию назад в гетманщину.
У Мазепы запело на душе. И это — слова графа Пипера?
— Да... Можем...
Ему показалось, что неспроста перед глазами до сих пор стоит образ старухи, у которой в руках мёртвый ребёнок, неспроста посреди зимы загрохотал гром, и он подумал, что король, человек богобоязненный, тоже должен правильно толковать Божье знамение: сейчас не стоит испытывать судьбу, чтобы не попасть в западню на старинном Муравском шляхе.
К вечеру от ливня и растаявшего снега вздулись реки. Низкие места начали исчезать под водою. Всё переменилось, будто это были иные, незнакомые земли. Шведы с ужасом озирались вокруг, не зная, куда придётся двигаться завтра. А Мазепа со смущением соображал, как приступить к королю с предложением, на которое не отважился даже граф Пипер.
3
Никто из адъютантов и высоченных ростом преображенцев не знал, скольких лошадей из обоза могли поглотить весенние воды. Но за Белгородом неожиданно побежали твёрдые широкие дороги, и кони уже не пробивали чёрную поверхность своими острыми подковами, а летели и летели, преодолевая вёрсты, будто догадывались, что от их стараний зависит судьба всего русского государства. Царь с ещё большим нетерпением торопил ямщиков. На речках, правда, снег темнел и оседал. Кое-где настоящими озёрами проступала чёрная вода. Можно было надеяться, что и Дон готовится сбросить с себя свой зимний панцирь. Над землёй уже колыхалось марево, чудились громадные подобия кораблей под белыми грозными ветрилами, с рядами пушек — от такого дива царь забывал о сне, еде, а на последних вёрстах неожиданно вырвал из рук ямщика ремённые вожжи и врезал кнутом по спинам взмыленных коней: «Но! Но!» — да ещё с такими страшными ругательствами, что они по уму и не всякому ямщику.
Преображенцы на санях казались спокойными гордыми орлами. Адъютанты передёргивали острыми плечами. Кабинет-секретарь Макаров сидел нахохлившись, будто сыч. А на возникшем перед городом Воронежем первом земляном валу — всего один хромой капрал. Он завидел высокого человека, завертел головою, продирает глаза. Привидение? Царь?.. А кнут?.. Коней подгонял?
— Где команда?
— Там... там...
Капрал тыкал рукою в сторону полосатого сооружения, откуда доносилось весёлое пение. Царю понадобился десяток шагов, чтобы вытащить оттуда молодого синеглазого офицера. Тащил он его за густые волосы, а тот в бреду отмахивался, словно от назойливых мух, разевал слюнявый рот, а сказать ничего не мог. Только в глазах, по-детски, — крупные, как добрые горошины, слёзы.
— Где команда? — прохрипел царь, швыряя офицера в песок под ноги хромому капралу.
— Отдыхает! — неожиданно громко пропел офицер, не поднимаясь, однако вытянувшись в струну и в лежачем положении.
— Отдыхает? А швед? Кто встретит?
Офицер не знал, куда бежать. А был готов драться даже со шведами.
— Поднимай команду на вал!
Разбрасывая копытами снег, из-за невысокого леска вырвалось несколько троек. Кони ещё и не остановились, а снег уже покрылся роскошно одетыми людьми, половина — в партикулярном платье, половина — в военных мундирах. Это те, кто отвечает за постройку и оборону кораблей. Узнавали Макарова в санях — вихрем на вал.
— Господин полковник! Государь!
— Наши головы к твоим ногам!
— Ну-ну, — оглянулся царь, на миг оставив без внимания офицера. — Я сейчас просто бас, корабельный мастер! А где оборона? Это — оборона? Да швед возьмёт вас как мокрых котят!
— Государь! — прозвучало тревожно. — Неужели швед за тобою прёт?
— Указ был? — снова побурело царёво лицо. — Где оборона? Где пушки?
— Государь! — выступил наперёд флотский командир, плотный, в простой моряцкой одежде. — Мы как один встанем!
Он указал рукою на человеческие массы, занятые работой. Царь тоже смотрел туда.
— Шведа пока сдерживают, — ответил царь. — Он хочет захватить эти корабли. А султан придерживается мира, пока здесь корабли.
Царь не мог высказать все свои беспокойства. В войске — зараза. Умирают как новобранцы, так и вымуштрованные солдаты. Кавалеристы Меншикова отступают под ударами очень сильной шведской драгунии. Уязвимые места собственных конников царю известны. Кричал Данилычу и Ренне — почему их конники рубят палашами, будто саблями, а не колют? Воюют по-казацки, по-татарски, тогда как шведы напирают сплошною массою, выставив палаши. Надеялся, что Карл начнёт штурмовать какую-либо крепость, можно будет подготовиться к обороне здесь, на Дону. А ещё Карла способно придержать наводнение... Однако видел голые просторы: на пути королевской армии после Красного Кута да Охтырки нет хороших крепостей. Ими преимущественно заслоняли Москву с запада. Торопясь, отдавал приказы: держаться до последнего солдата. Правда, обнаруживалось, что во многих местах нет гарнизонов, мало пушек, беда с порохом. Иногда, в пути, чудилось, что впереди снова Нарва... Под Нарвой некогда оставил армию и бросился к Пскову... Впоследствии европейские газеты глумливо напечатали, что русский царь испугался неизбежного плена. Нет, не плена, просто не оценил по-достойному шведскую силу. Но теперь... Возле войска Данилыч и Шереметев. Главное командование у сына Алексея... А сам царь должен, обязан спасать будущую славу России — флот. Должен не допустить заключения турками договора со шведом. В том — спасение...
Заиграли трубы. На валы выкатывали пушки. Строились команды ещё сонных солдат. Преображенцы, приехавшие с царём, наводили порядки. На них смотрели как на генералов, хотя они рядовые.
В тот же день на берегах большой реки солдаты и работные люди начали насыпать новые валы. Где ещё не оттаяла земля — долбили её ломами и кирками. А на валах устраивали пушки, кое-где снимая их с кораблей, с той стороны, откуда ожидается враг. К верфи срочно подтягивались солдатские команды с противоположного берега реки. Работа кипела...
Вслед за царским обозом к Воронежу примчали гонцы с неплохой весточкой под вощёной бумагой да красными печатями: король повернул назад! Он очень зол. Приказывает всё сжигать. А людей угоняет с собой и расстреливает тех, кто не подчиняется!
А ещё прискакал гонец от Бориса Петровича Шереметева. Фельдмаршал извещал, что он со своим ташементом пробрался в тыл королю и захватил там местечко Рашевку, которое на речке Псёл. В плен сдался комендант полковник Альбедил. Этот полковник отчаянно штурмовал Веприк. Захвачено ещё много пленных. Взяты три тысячи коней из конюшни фельдмаршала Реншильда. Взят весь фельдмаршальский багаж вместе с имуществом королевских генералов. Затем Шереметев писал, что подумывает напасть на полки генерала Крейца, который в Лохвице дожидается Станислава Лещинского. Если удастся разбить Крейца, то между Лещинским и Карлом проляжет огромное расстояние. А ещё фельдмаршал добавлял, будто огромную поддержку, как и прежде, имеет он от верных царскому величеству казаков и малорусских холопов. Особенно много хвалы перепадало гетману Скоропадскому и полковникам Апостолу и Галагану.
В ознаменование желанной победы царь приказал трижды стрелять в Воронеже изо всех пушек, уже выставленных на валах и обращённых стволами в ту сторону, откуда мог появиться неприятель — теперь пока не появится! — и стрелять изо всех корабельных пушек.
Ночное небо раскалывали невиданные в этих местах огненные сполохи. Толпы на берегах бурлили. Люди гуляли по шинкам и корчемным дворам, во всех харчевнях. Царь лично, прямо с корабля, пропахший смолою и продутый весенними ветрами, забежал в первую попавшуюся харчевню:
— Водки!
Опростал кружку, грохнул по столу кулаком:
— Плясать! Всем плясать!
Подхватил грудастую статную молодицу, наступил ей на ноги, обутые в огромные сапоги, засмеялся, снова же наступил, пошёл вприсядку в сумасшедшей пляске, не то мужицкой, не то европейской. Молодица вмиг раскраснелась, закричала что-то подзадоривающее-бесстыжее, отчего мужики вокруг загудели быками:
— Ну-ка! Ну-ка!
— Даёт Маша!
Царский танец продолжался недолго. Зато долго били каблуками преображенцы и адъютанты. Даже Макаров гордо проплыл, словно лебедь.
Перед царскими глазами возникла на миг зазноба Екатерина, взятая на шпагу солдатами во время штурма шведской фортеции. Простая девушка, но какая... Припомнились большие глаза, горячие губы... Она теперь в Харькове. Родила дочь и ещё родит многих детей, может — и сына! Хоть и есть наследник престола, Алексей, от первой жены, какой-то сонной, будто корова, — теперь она в дальнем монастыре. Кому ведома судьба человека? Да и Алескей толчётся по кельям московских святых отцов, а им не по нраву перемены в государстве.
— На! Выпей за моё здоровье! И за нашу победу!
Царь дал молодице золотую монету, отчего она, ещё не опомнившись, с кем отплясывает, поцеловала его не в руку, а в губы, обдав волнующим запахом женского тела.
— Пусть тебе Бог пошлёт большую победу! — сказала женщина.
После салюта царь собственноручно написал фельдмаршалу благодарность за смелые и умные действия. Но то была ложка мёда перед горькой пилюлей, потому что вслед за тем на бумагу легли иные строки: теперь нужны действия уже не отдельных военных партий, а всего ташемента, взятого за Ворсклу фельдмаршалом, и с этим следует торопиться.
Написав письмо, царь раскрыл окно, задумался, глядя на широкую тёмную реку, где и в ночи угадывались высокие мачты. Как всегда, неудовольствие вызвала неторопливость фельдмаршала. Такого военачальника лучше бы заменить более достойным, но Борис Петрович сам из старинного рода. Его присутствие при армии придаёт иной вид царским делам. Получается, будто всё делается вместе со старинным знатным дворянством, а не только с безродными людьми, как вот Данилыч, Шафиров, Макаров. Которые зато имеют изрядный ум.
По Дону гулял ветер, гнал с верховий воду. Он освободит путь для больших судов. Правда, только два из них вскоре будут готовы... Но в Азове дожидаются весны ещё восемь судов более ранней постройки. Так что будет с чем выйти в море.
4
Весенние воды разливались всё шире и шире, а сотник Денис Журбенко на лесном заброшенном хуторе получил от полковника Галагана ответственное задание: бить шведов на переправе возле села Волчий Яр.
— Шведов вывел из Лохвицы генерал Крейц, — толковал полковник. — Они, значит, оторвались от фельдмаршала Шереметева. С тем генералом — Мазепина казна. И ещё жёны мазепинских старшин, взятые заложницами за своих мужей. Король теперь стоит с главным войском между Лютенькой, Петровкой, Решетиловкой да Опошней. Вот куда порывается Крейц!
На кривом носу полковника забелел длинный рубец. Полковник сыпал предвидениями, будто шведам далеко не удрать.
— Ты только ввяжись в драку! Помощь подоспеет! — обещал он сотнику. — Это же казна! Я приведу казацтво! Посланы гонцы по сёлам и местечкам. Да, видишь, шведские гарнизоны везде покидают свои места...
При слове «казна» в глазах полковника загорались золотые огни. Он стал важным паном, имеет охотный чин, но сам уже будто городовой полковник — властелин полковых земель и поместий. Воистину — поместий у него достаточно. Скоропадский, да и царь, не желают мазепинских богатств. Между есаулами слышатся разговоры, будто Галаган действительно сядет городовым полковником.
Сотня очень быстро добралась до Волчьего Яра. На холме замаячили высокие тополя — будто ряд выбежавших из села любопытных молодиц. Разбухший Псёл вертел чёрными пенистыми волнами. Денис догадывался, что шведы отыщут для переправы более надёжное место.
Петрусь уже несколько дней провёл в сотне брата. Зеньковские погреба вспоминались страшным сном. Галю отвёз к матери. Там, в лесу, вроде бы всем безопасней: и матери, и малому Мишку, и деду Свириду. Шведы окончательно оставили Гадяч... Вот лишь неспокойно на душе за батька Голого. Донимает мысль о парсуне... Да кого расспросить?
Тем временем из лесов и оврагов, из уцелевших хуторских хат навстречу вылезали хлопы. Кто садился на коня, кто пешком, но все, как один, двигались туда, где, считалось, будет переправляться враг.
— Где швед? — спросил Денис старого дедка, который, кажется, торопился не так быстро, как молодые его спутники.
Дедок не остановился для ответа, лишь крикнул, дёргая плечом под огромным блестящим топором.
— Под Савинцами! Все знают, а вы не знаете! Казаки, лихо мне!
Петрусь попытался подначить старика:
— Не страшно, дедуньо, с одним топором против шведа?
Строго и внимательно сверкнул взгляд из-под надвинутой на лоб бараньей шапки:
— Балакай, казак! Вон нас сколько! Мне лишь бы коника... Сеять пора, а они моего коня в обоз забрали. Бить их буду. У меня не вырвутся. И хату сожгли, сам в лесу ночую, как волк! А они в церквах сидят, будто в шинках! То уж вы там отнимайте мазепинское золото!
Денис узнал старика. Это же он показывал брод, когда охотные казаки удирали с Балаганом из шведского лагеря...
Сотник хотел напомнить о встрече, но старик побежал за товарищами, упрямо неся на врага топор. Среди торопящихся людей многократно слышалось слово «казна». Золото не давало покоя.
Денис — сотник бывалый. Но посоветовался с казаками. Все закричали, что следует торопиться под Савинцы.
— Возле Волчьего Яра не выстоишь ничего! А там — казна!
Денис всё-таки колебался: вдруг полковник знает, что шведы придут именно сюда, а их здесь никто не задержит. Если же они возле Савинцев, а ты с сотнею здесь — что тогда скажет полковник? Но Денис отважился на риск.
Сотня ещё раз обогнала деда с топором. Старик хватался за сердце, на казаков и не посмотрел, только хрипло крикнул:
— Быстрей, сынки! Когда я был таким, как вы, так ветер в поле обгонял!
Ещё на подходе к Савинцам заслышали стрельбу. Денис, выхватив из ножен саблю, облегчённо вздохнул:
— Здесь...
Умерив бег, сотня обогнула невысокий холм с малой церковью между голыми деревьями. Казаки напряглись в сёдлах, не зная, за что хвататься: за пики, за сабли? Завидели, как бегут хлопы, чтобы спрятаться в овраге между красными камнями да за большими редкими деревьями. Дальше хлопы не отступали. Многочисленный шведский отряд на холме, окутавшись синим дымом, не подпускал их к броду. «Так-так», — прикидывал в уме Денис.
Взглянули на речку — берега низкие, но и здесь вода движется по льду. Местами в водоворотах исчезают колёса возов. Кони, пускаясь вплавь, отчаянно ржут. На берегу возы, сани, коровы, свиньи — всё то, что чужинцы награбили и теперь собираются забрать с собой. А что не в силах забрать, то жгут, бросают в бурную воду, уничтожают, лишь бы ничего не оставить настоящим хозяевам. Над берегом — невероятный гул. От церкви — звон. Там уцелели колокола.
— Эй! Эгей! — выскочили из оврагов хлопы, завидев сотню. — Добро погибает! Казна уже на том берегу! Казаки, помогите!
Шведов с холма столкнуть нелегко. Попробовала сотня, выхватив пики и страшно гикнув, напугать их — да с десяток казаков от меткого огня свалилось в грязь. Кровавя землю, сотня скатилась в овраг, к хлопам.
— Эх вы! — застонали хлопы, ругая казаков наихудшими словами. — Добро гибнет, а вы чешетесь! Мазепинцы вы!
Казаки приуныли.
Вдруг кто-то закричал:
— Что такое-е? Глядите! На реке...
Петрусь, возбуждённый неудачным налётом, посмотрел — и ему не просто уразуметь, что там такое. Чёрная высокая вода несёт огромный плот. Он, натыкаясь на льдины, останавливается, и тогда волны начинают взбивать вокруг брёвен белую пену, а сам плот начинает вращаться. На нём — столбы с перекладинами и с двумя, повешенными... Один висельник при жизни был очень мощным мужиком. Огромная голова перевесилась в петле, будто и сейчас покойник желает заглянуть куда-то мёртвыми уже глазами.
— Господи! — взмолились хлопы. — Враг проклятый. Что делает...
Петрусь пришпорил коня, подскакал к воде. Страшное зрелище — за несколько десятков саженей от берега. Это же... Ему сдавило горло. Он стащил с головы шапку и перекрестился:
— Батько...
Он узнал батька Голого. Лицо распухшее, иссиня-чёрное, усы перекошены, будто кто-то таскал батька за них перед смертью. А другой человек, тонкий телом, с золотыми окровавленными волосами, — жебрак Мацько. На белой доске чёрным цветом жирно выведено: «ГОСУДАРЕВЫ ПРЕСТУПНИКИ».
Петруся давили крик и слёзы... Вот чем всё завершилось... Вот какое гетманство судилось, какая воля простому народу.
— Так это шведы сделали? — слышалось позади.
— Куда там, — отвечали. — Вишь, государевы-ы преступники...
Денис тем временем понял, что атака в лоб не поможет. Пока хлопы кричали и молились перед мёртвыми людьми, которых медленно и торжественно проносила перед ними могучая река, пока они постреливали из оврага, отвлекая внимание врагов, сотня незаметно спешилась в лесу и с одними саблями да пистолями исчезла в овраге. Шведы на броде тоже приметили, что на них движется страшный плот, — закричали, забахали из оружия, тоже будоража свою заставу. Казаки приблизились на такое расстояние, что супротивнику уже нет возможности стрелять.
— Бей! — рявкнул Денис.
Обе стороны сошлись врукопашную. На земле в отчаянной борьбе завертелись живые клубки...
Петрусь бежал вместе со всеми. Выскакивая из оврага, зацепился сапогом за камень, а когда вылетел наверх — на Дениса уже наседали двое высоких врагов, стремясь прижать его к большим камням, ударить сбоку. Всё ещё в растерянности и злости, Петрусь обрушил на вражеское плечо саблю, а с другим врагом, он надеялся, брат разделается сам. Оглядевшись, Петрусь впервые за войну встретился глазами в глаза с новым нападающим, выскочившим из-за камней. Перед ним был молодой хлопец с обычными, даже добрыми глазами. Он глядел устало, измученно, будто просительно, а потому казак замешкался перед человеческим взглядом, лишь внимательно следил за каждым движением его руки, в которой была зажата шпага. Вдруг противник отбросил шпагу и поднял руки вверх, выворачивая их вперёд красными, распухшими от холода ладонями.
— Сдаёшься, гад? — не мог поверить Петрусь.
Другие враги, свирепые, крепкие, не думали поддаваться. Их набралось намного больше, нежели казаков. Под конец к нападающим присоединились ещё и те казаки, которые выбегали из лесу, да из оврага ударили осмелевшие хлопы. Шведов разбили в несколько минут. Недобитых собрали в одну толпу, окружили всадниками. Их намеревались гнать к фельдмаршалу Шереметеву, поскольку тот, без сомнения, уже торопится сюда со своими войсками.
Петрусь заметил, что из толпы пленных помахивает рукой спасённый им молодой швед — благодарит за спасение. Сам Петрусь отвёл его и сдал хлопам, окружившим пленных отнятыми у них же возами. Уже из седла Петрусь улыбнулся пленному в ответ и покраснел, опасаясь, не заметил ли этого Денис или какой хлоп, вот хоть бы и дедок с топором, который уже держит небольшого коника под уздцы, гладит его усталой рукою, а топор весь в крови: задел-таки шведа! Петрусь искал для врагов оправданий вроде того, что не по своей воле пришёл сюда молодой швед, а пригнали его силой, задурили молодую голову, а вот теперь он с радостью расстался со шпагой. Да кто ведает обо всём? Из чужой земли люди...
И на берегу Пела всё закончилось очень быстро. Какой швед удрал на противоположный берег, переправившись в ледяной воде, кто утонул, кого поймали и присоединили к пёстрой толпе пленных. Победители же набивали добычей захваченные возы, саквы, дорожные сумки, а некоторые сумели, кажется, прихватить и по целому возу добра. Никто уже не помышлял о преследовании: вода шла слишком высоко. За добычу дрались, рвали её друг у друга из рук. Только старый дедок в косматой шапке по-прежнему удовлетворённо гладил рукою гриву неказистого коника: добился своего! Этого достаточно!
За лесом, по чёрной воде надо льдом, давно скрылся плот с виселицами.
Всем интересно было посмотреть и на пленных мазепинцев: на берегу захватили генерального есаула Гамалию и сына бывшего прилукского полковника Горленко вместе с его молодой женой, дочкой полковника Апостола. Гамалия сидел на возке. Руки, верно, связали. Под толстым кожухом не различить — кожух наброшен плечи. Голова опущена, на длинном усе повисла слеза. Так и надо тебе, читалось в казацких взглядах. Однако никто не приближался к пану. Горленко сидел верхом на коне, обезоруженный, правда, но не связанный, только в окружении всадников с саблями наголо. Полковник Апостол издали, с коня, сверкнул единственным глазом на свою дочь, показывающую красивое заплаканное лицо из раскрытой дверцы дорогой кареты, что-то промолвил полковнику Галагану, отвернулся, махнул рукой, сгорбился и отъехал. Галаган, однако, цепко глядел на молодого Горленка. Казаки уже распускали слухи, что прилукским полковником станет Галаган — вместо старого Горленка, который до сих пор при Мазепе.
Петрусь, подъехав к Галагану вслед за Денисом, слышал, как полковник несколько раз повторил слова «мазепинская казна». Потом Галаган развеселился от чего-то утешительного, что шепнул ему на ухо вёрткий есаул. Переспросил:
— Где она? Ага, стерегите!
Петрусю всё ещё не верилось, что батька Голого казнили. Он спешился, снял шапку и приблизился к Галагану вплотную:
— Пан полковник! А где сейчас царь?
— Далеко! — Галаган удивлённо поднял бровь над длинным разрубленным носом: — Тебе-то зачем?
Петрусь опустил глаза. Тогда полковник обратился к Денису, который с не меньшим удивлением слушал брата, готовый ему помочь. Разве давно бросался Петрусь с супликой к самому Мазепе? Денис заспешил:
— Пан полковник! Мой брат — маляр... Намалевал когда-то Мазепу, а теперь хочет отыскать ту парсуну и уничтожить её.
Полковник в ответ махнул рукою и захохотал:
— И Мазепа пропадёт, казак, и парсуна его пропадёт! Сколько мазепинскнх парсун выбросили уже люди. А он много церквей настроил, это правда, больно Бога боялся. — И уже к Денису: — Видал, какого гультяйского атамана казнил Шереметев? Того самого, что мой маеток сжёг, собака! Я писал Шереметеву суплику. Пусть видят хлопы. И ты присматривайся, Денис. Скоро и у тебя будет маеток. Станешь городовым сотником. Славно ты докумекал, где ловить врага. Я прискакал к Волчьему Яру — нет. Ну... И для твоего брата что-то придумаем. Всё теперь в наших руках! А парсуну ту уничтожим! Не будет у нас и следа от предателя.
Полковник снова захохотал, погладил сотника по плечу. Распалённый недавним сражением, Денис тоже всхохотнул. Перед Петрусем возникло страшное зрелище на чёрной воде. Навсегда теперь осиротел Мишко.
Уже наедине Денис шепнул брату:
— Те два воза с добром — то для нас. Я поставил там казаков.
Петрусь понял, что на свете по-прежнему совершается кривда, а не ведал, знает ли о ней царь. Царь всё-таки далеко.
5
На коше немного утихло. Не каждый Божий день драки. Притихло же всё с того момента, как только хитроумный кошевой избавился от неугомонных голодранцев, послав их в кодацкую крепость, чтобы готовились там при первой возможности соединиться с царскими войсками.
Сам кошевой не торопился на помощь царю, а подбивал товариство требовать немедленного уничтожения днепровских городков. В слезах на большом красном лице с двумя одинаковыми рубцами посреди бровей просил послушать его совета. Просил, стоя и на высоком возу, и на земле. Казаки орали по-своему, как привыкли. Общего не получалось. Те казаки, кого старшина подпоила с вечера, к утру пели по-старому. За их вчерашние слова теперь цеплялись другие, кого старшина подпоила заново.
Марко не рвался в битву, пусть и против шведов, против врагов православной веры. Помнилось, как ветер раскачивал хлопские трупы, а воронье, срываясь с одной виселицы, тут же обседало соседние. Широкий Дон проносил плоты, уставленные такими же виселицами. Потому и драл Марко на Майдане горло, заглушая жилистых довбышей с короткими пальцами, которые в состоянии барабанить хоть целый день.
— Укрепляемся, братове! Чтобы не случилось с нами такого, как с несчастными донниками! Чтобы не резали нам носы и уши! Не втыкали задницами на колы! Не насаживали на колы наших голов! Царь пана не обидит! Нет!
Кровные товарищи поддерживали криками. И хоть Марко ходил теперь голодранцем, на него обратил внимание сам кошевой. Кошевой старался доказать, будто бы он и не знал, как не пускали запорожцев на Сечь.
Когда охотники к войне против шведа оставили кош, зажилые уговорили Марка ходить по соседним куреням и рассказывать, что творилось на Дону. Пускай, мол, товарищи знают чистую правду, которая открылась лишь теперь. Теперь все здесь: и бурлаки, и русские мужики, что поднимали руку на царя.
Вслушивались казаки в Марковы слова. А отправленные в Кодак слали назад гонцов и письма с вопросами, когда же их выпустят против шведа. Чего стоять? По Украине людской стон, хлопов и казацтва, над которыми издеваются безбожные захватчики. Церкви превращены в конюшни. Хаты и целые сёла, даже города — обращены в пепел.
И снова бушевала Сечь, слушая письма. Кошевому на майдане не дали и говорить. За полы длинного жупана перекинули через грядки воза прямо на снег.
— В воду его! Пускай Днепро-батько несёт к морю собачье тело!
— Пускай!
— Немедленно веди войско на соединение с православными москалями!
Мало кто отваживался кричать против царя. Кто отваживался — того нещадно били.
Гордиенко, измученный мыслями, простонал на земле возле воза:
— Завтра... Беру кошевого судью, писаря, девять пушек...
Атамановы слова остудили казацкие головы. Не все могли так просто отправляться, но никто не возражал против скорого выступления.
— Так бы и говорил! Слава кошевому!
Наутро стало известно, что кошевой берёт тысячу казаков. Остальные — догонят.
Марко не собирался ехать. Столько казаков наберётся и без него. Однако ему сказали, что ехать должен — отобран кошевым. А казацкое снаряжение не его забота. Поможет кошевой...
До самой Переволочной гуляли казаки. Зажиточные угощали бедных. Будто возродилось казацкое братство. Каждого взяла за сердце судьба Украины.
Марко начинал верить: пусть и развелось на свете кандыб, но Бог видит кривду. Возвратятся на кош запорожцы, которые будут воевать против шведа, — то ли будет значить Кандыба? Гё... А Марко... Вчера был гол, а кошевой выделил из своих табунов доброго коня, из войсковой казны отсчитал золотых монет — справил себе казак всё нужное. И душа умершего побратима Кирила Вороны гоже помянута.
Казаки говорили, что не одному Марку дан конь. Удивлялись и даже хвалили доселе скупого кошевого.
Кандыбин зять, Демьян Копысточка, сам напомнил о прежней дружбе. Распрю залили крепкой горелкой.
— Мир! Мир!
— Мир! Чего ругаться в лихое время? — обнял Демьян Марка. — Вот бы не прозевать казацтву удачного мига.
Одинаково думали Марко и Демьян, потому и обнимались...
В Переволочной казацтво гуляло ещё два дня. А на третий туда прибыли те казаки, которые беседовали в Кодаке. Зажилые не пожалели горелки и для прибывших. А затем все узнали: есть в Переволочной и послы от Мазепы. Если же здесь кошевой с клейнодами, если с ним пушки — так и казацкой раде вставать в Переволочной...
Радовалась голота, долго просидевшая в Кодаке.
У Марка с похмелья болела голова. Сначала он не вслушивался в слова мазепинских послов и не всматривался в подарки, хоть и без прежней злости глядел на них и молча терпел высловленную им устами Копысточки хвалу. Послами приехали генеральный судья Чуйкевич и бунчужный Мирович, а с ним и бывший киевский полковник Мокиевский.
Наконец Марко наставил ухо на посольскую речь. Чуйкевич говорил медленно, будто советовался с казаками. Умолкала даже шумная голота.
— Товариство! — журчали его слова. — Не уберёт царь городков. Нет... Уничтожит казацтво... Лишь только сил наберётся...
Мокиевский и Мирович кивали головами. Знать, заранее условились с Чуйкевичем.
Кто-то в толпе не выдержал:
— Как же быть?
Чуйкевич качал головой, будто перемешивая в ней мысли, и оттого наверх всплыло самое весомое:
— Силой надо принудить забрать городки!
— Слыхали! — в ответ много голосов. — А как?
Чуйкевич поднял руку с полусогнутым пальцем:
— Думаете, царь охраняет православную веру, а король против неё. А того не ведаете, что царь, побывав на чужбине, вздумал уничтожить православную веру, а всех вас сделать не только солдатами, но и латинянами! Уже папёж римский прислал ему благодарность за такие намерения. И в жёны царь выбрал себе женщину не нашей веры!
Мокиевский и Мирович облегчённо вздохнули, видя, как притихли запорожцы, хотя сами хорошо знали, что врёт, ой, врёт умница Чуйкевич.
После короткого затишья долго надрывалось товариство в крике:
— Царь — антихрист!
— Нет! Православную веру защищает!
— Зато его паны нас съедят!
— И жена уговорит его перейти в чужую веру!
Стонал майдан. Церковного звона не слышно. Только довбыши стуком перебивают гул. А когда немного угомонились казаки, Чуйкевич, подняв руку, где все красные пальцы сжаты в огромный кулак, успел посоветовать:
— Попробуем присоединиться к королю шведскому. Ведь Богдан Хмель когда-то об этом думал. Грозил московитам...
Новый гул прервал его совет. Но многие кричали утвердительно. Марко тоже неожиданно подумал, что Чуйкевич хоть и приехал от Мазепы, а говорит правду: от царя всего жди... Антихрист! Будет как на Дону. Поплывут и по Днепру плоты с казацкими трупами.
— Выгоним царя с московскими панами! — закричал Марко. — Волю гетманщине! Самостийну Украину!
— Волю! — поддержал Копысточка. — Царь — антихрист!
И началась свалка, после которой казаки снова пили и мирились, снова собирались на совет.
А на следующий день творилось то же самое. Уже в третий раз собралась рада, Нестулей, атаман переволочинский, охрип от криков, поскольку угождал кошевому и побаивался казацтва, однако, казалось, и сегодня ничего не будет решено, а только ещё сильнее вздуются кулаки. Гордиенко притих, загадочно вслушивался.
— Нельзя вступать в союз со шведами! — кричали одни.
Иные настаивали на своём:
— Как уберечься? Сила солому ломит!
Майдан ждал, что скажет Гордиенко. Ведь он посылал товариство на соединение с царскими войсками. Они отсюда недалеко, за Ворсклой. Вжались между шведами, чтобы ближе к запорожцам, к Днепру, к своим городкам на нём. Чтобы помешать шведам укрепить связь с татарами.
Неизвестность длилась долго. И наконец, когда вечернее солнце положило на широкий Днепр красные длинные тени, заговорил Гордиенко.
— Товариство! — прорезался неожиданно мощный голос. — Мы — сила. Доколе же нам терпеть позорные издевательства? Деды наши, наши отцы в земле зубами скрежещут, догадываясь о нашем безделье! Я правду говорю?
— Правду! Правду! — поддержали Гордиенка нарочито поставленные им казаки, так перемешивая снег с грязью, что она во все стороны летела брызгами. — Правда, батько! Нужно боронить Украину! Царь — антихрист!
Гордиенко ещё громче:
— Царь загонит украинцев за Волгу, а сюда пригонит своих бородатых кацапов да узкоглазых татар! Получается, правду говорят послы гетмана Мазепы — что хочет царь, то и делает. Получается, святую правду пишет гетман в своих письменах! Вот посмотрите на его парсуну, присланную нам в подарок!
Молодые казаки быстро подняли над возом что-то большое, яркое, красное — у Марка и глаза на лоб. Он уже видел эту парсуну. В Чернодубе! Это же её малевал брат Петрусь! Марко стал пробиваться поближе к возу. Это нелёгкая работа. На широкой плоскости живой человек в красном жупане! Глаза — многомудрые... Как же мог Марко не рассмотреть всего этого тогда, в церкви, когда показывал Петрусь эту парсуну, перед которой вмиг приумолкло всё товариство... Кто заслепил тогда глаза? Гордость заполнила Марка. Хорошо бы рассказать кому-нибудь о брате, да кому?
Гордиенко был доволен поведением казаков.
— Видите? Он строит церкви по всей гетманщине! Он нашу веру защищает! Он хочет видеть нашу Украину самостийной!
— Шведы отсюда недалеко! — пробивался сквозь голоса бас кошевого. — Ударим с нашей стороны. Прогоним царских вояк. Пойдут на них турки и татары. Не до нас будет царю.
Вот на что вывернул хитрец. Пусть и прежде нападал на православного царя, но это же — предательство! Что можно плести языком простому казарлюге, то грешно говорить кошевому.
Замолчали казаки надолго, как только замолчал кошевой. Наконец кого-то прорвало:
— Не пристанем!
— На православного царя напускать безбожного басурмана! Измена!
— Покажи то письмо, что от Мазепы приватно имеешь! Покажи!
Гордиенко взревел:
— Враки! Все слушали письмо! А теперь уже поздно назад оглобли поворачивать! Этой ночью наши товарищи за все кривды поубивали многих царских солдат, многих связали! Загляните в наши подземелья!
Он обращался к Нестулею. Нестулей поглаживал на пузе здоровенный ключ:
— Как же... Вот... Сидят...
И гетманские послы сегодня вдруг сделались более спокойными. Стали с обеих сторон от гетманской парсуны. Мазепа глядит с неё мудро... Чуйкевич разглаживает усы, Мокиевский и Мирович улыбаются.
— Измена! — закричали казаки, забыв о Мазепиной парсуне, и полезли на расправу.
Да кошевой недаром окружён верными сторонниками, есть кому дать отпор слишком быстрым, чтобы забыли о своих речах, чтобы поняли — все запорожцы подняли руку на царских солдат! Всем теперь одна отплата, все связаны одной верёвкой! Среди верных гордиенковцев упорнее прочих вымахивал кулаками Демьян Копысточка, кровавя носы сероме...
А уж прочие зажилые дружными криками поддержали самых верных гордиенковцев. Писарь, стоя возле Мазепиной парсуны, читал письмо, заранее приготовленное старшиной для шведского короля.
— А посему войско запорожское...
Марко не слушал писаря, смотрел на работу брата, ждал, что решит товариство. Когда же вокруг заорали, что следует посылать это письмо шведскому королю, тогда и он понял, что его речь и его действия сейчас уже ничего не значат. Он смотрел на братово малевание, на которое уже никто больше не обращал внимания, и снова видел родной Чернодуб... Как там сейчас — в самом красивом селе?
В тот же вечер многие запорожцы из Переволочной, из местечек и сёл вблизи неё тайно направились за Днепр, в полковой город Чигирин, куда прибыл с казацким войском полковник Галаган. Уже расползались слухи, что он привёл против запорожцев охотных казаков. Многие пробовали пробиваться на Голтву, к самому фельдмаршалу Шереметеву. Подавались в те места, где русские войска и верные царю казаки.
В казацких толпах, что, приостановившись, поили коней, о Гордиенке твердили одно: продался, проклятый, как ещё до него продался Мазепа. И многих сечевиков продал, собака. Горелкой залил глаза, улестил хитрыми речами, обманул подлой изменой — потому что нападение произведено на сонных солдат, те же считали запорожцев своими союзниками. Одним словом — продал.
Как бы там ни было, говорили беглецы, искать правды нужно вместе с русским православным людом, а не считать, будто чужинцы-шведы помогут найти её. Будто они ради того и пришли сюда. У них своё на уме.
6
Голова у Мазепы ежедневно переполнена нехорошими мыслями.
Весенним водам — убыль. На пригорках — шильца молодой гонкой травы. С гамом и весёлым криком возвращаются из тёплых краёв отощавшие птицы. Вскоре выбьют лист ожившие деревья. А тогда каждый овраг и самый неказистый лесочек спрячут гультяя вместе с конём. И опять пойдёт нестроение...
После возвращения из-за Ворсклы король приказал оставить Гадяч, Зеньков. Шведские гарнизоны занимают теперь земли от Лютеньки до Петровки и Решетиловки, а дальше — до Новых Санжар. На севере граница шведского регимента пролегла за Опошней. Правда, после присоединения Гордиенка с запорожцами для шведов снова открывается Муравский шлях на полдень, на Сечь, и далее, до Крымского Перекопа. Но на нём — Полтава, занятая русским гарнизоном. Не будь её или сиди там покорный гетману полковник — намного легче дышалось бы королю, спокойнее спал бы и Мазепа. Если бы малодушный Левенец не отдался в руки нахрапистому Меншикову... Теперь, говорят, Левенец под арестом. А зять его — здесь.
Ещё зимой, за Ворсклой, в Слободской Украине, король спросил, почему Полтава так интересует царя? Что это за город? Царь посылал туда Меншикова. Мазепа шутя ответил, что о том лучше рассказал бы Меншиков, если бы с Божьей помощью не удрал. Но король торопился к Москве.
Теперь король остановился в Великих Будищах. Мазепа облюбовал для себя Диканьку. В имении недоброй памяти Василия Кочубея думал найти отдых. В самой просторной светлице приказал повесить свою парсуну. Да не ту, где он верхом, в доспехах, которая была предназначена для размещения рядом с царской, а новую, неизвестно кем и доставленную, где он в красном жупане, мудрый, добрый. Была надежда, что весенний разлив воды остепенит казаков Скоропадского. Да и хлопы, надеялся, надолго залягут в своих убежищах. Каждый день теперь неприятные новости: где-то украден сонный швед, там зарезаны трое, ночью, в хате, а там с водопоя отбит целый конский табун.
От вечных мыслей Мазепа не спит ночами и только утром забывается в старческом сне. Всю ночь в светлице тлеют чуткие свечи. В углу клюёт носом старый Франко, а в предпокоях постукивает сапогами охрана, возглавляемая сердюцким полковником Гусаком. Всё меньше и меньше вокруг надёжных людей. Кто по доброй воле удирает к царю, а кого взяли в плен — тем ещё хуже. Потому и ценит Мазепа таких, как Гусак, Герцык. Верные сотники стали уже полковниками, полковникам обещаны княжеские титулы. По милости самого короля.
Но больше всего ценит Мазепа Орлика. Пробежала было между ними чёрная кошка после того, как Меншиковым был взят Батурин, напивался Орлик с отчаянья, но после присоединения запорожцев к шведам снова ожил.
Верных людей не отпускает Мазепа до утра. Орлика держит и после того. Выпроваживая гостей, Мазепа непременно выходит с ними на крыльцо, удовлетворённо глядя на широкую Гусакову спину и в сиянии фонарей, и при Божьем свете всматривается в глаза шведских драгун, опасаясь, не задушили ли казаки драгуна, не переодели ли в чужой мундир своего сорвиголову да не присоединили ли его к караулу, чтобы хитростью захватить гетмана и передать его в руки царю. А уж там...
Волосы встают дыбом на старой голове при одном упоминании о грозном царе. Нет и надежды, что тог теперь поверит в лукавое обещание помочь взять в плен короля Карла, чтобы скорее договориться о мире, — на это подбивал Орлик и прочие старшины...
Лица шведов словно из камня. Смеётся лишь Гусак, и разительно обнаруживается его косоглазие.
Гусак остаётся в предпокоях, а Орлик ждёт в покоях. Он уже привык спать днём, при солнце. Он всё чаще и чаще заговаривает о будущем.
— Вот и запорожцы с нами, — припомнил однажды утром Мазепа, мостясь в глубокое кресло под своей парсуной. — Гордиенко привязан к королю. Ему и назад нельзя: убьют его на Сечи те, кто там остался. А Гордиенко мечтает о большой власти. Помни...
Мазепа посмотрел на Орлика многозначительно, вроде бы подсказал: тебе, Пилип, морочиться с Гордиенком. Он тянется к булаве. Остерегайся.
А между ними обоими всё сказано. Умрёт Мазепа — дело его продолжит Орлик, независимо от того, кто станет гетманом: Мазепин ли племянник Андрей Войнаровский, или же Орлик, или... За то и перед королём Карлом замолвлено слово. И королю Станиславу будет написано. Или сказано лично.
Однако Мазепа не собирался умирать. Орлик понимал, но не показывал виду. Достаточно его поддержки каждому гетманскому намерению. Сколько пришлось потрудиться, чтобы Гордиенко привёл сюда запорожцев. Не всех, но привёл. Сколько гетманского золота ушло! И парсуну послал гетман в подарок. Зато принёс Гордиенко присягу королю. Теперь сечевников нужно толкнуть в огонь. Пока не остыли — полезут. Будут драться отчаянно.
— Король должен брать Полтаву! — сказал Орлик и вроде застеснялся совета.
Мазепа внимательно посмотрел на генерального писаря: неужели тог снова верит, что гетман при смерти? Значит, полагает, ему самому пора браться за государственные дела? Орликово лицо было непроницаемо.
За далёким лесом поднялось солнце. На шведских штыках за окнами вспыхивали искры. Лучи добирались до гетманской парсуны, засвечивали краски — глаз не оторвать. Особенно от красной. Добирались и до Орликова лица. Но там — никаких перемен. Вот только следы непомерных выпивок врезались в кожу не на один день.
— А если осада затянется?
Мало кому верил Мазепа. Было уже под Веприком... Но Орлик действительно осмелел при свете ясного дня. Он верил королю.
— Его величество быстро возьмёт Полтаву. А это значит...
Орлик, как всегда, угадывал желания старика. Вот только бы не помешали граф Пипер да квартирмейстер Гилленкрок. Сейчас, после прихода запорожцев, король забыл, как тяжело брать казацкие крепости. Нужно подтолкнуть его величество, напомнить, что к войску присоединились смелые воины. Лишь бы начать... А там навалятся крымские татары, которых султан еле сдерживает, будто злых цепных собак, и европейские государи иначе посмотрят на эту часть Европы.
— Едем к королю! — решился Мазепа с таким видом,
будто он сам не мог додуматься, будто ему это подсказал Орлик, а откладывать дело никак нельзя. — Придумано мудро. Полтаву следует брать обязательно.
Он кликнул слугу и приказал:
— Снимайте парсуну!
Завидев же вопрос на Орликовом лице, пояснил:
— Подарок его величеству! Ничего не жалею.
Полностью показалось из-за леса солнце. Его лучи посеребрили притихшие уже весенние воды... Да, весна полная. Не время сидеть в мягком кресле.
Полковник Гусак во дворе строил казаков.
Когда они в сопровождении многочисленного эскорта во главе с самим полковником Гусаком — шведы держались отдельно — прискакали в Великие Будища, в королевскую ставку, что в доме посреди старого вишнёвого сада, окружённого высокими тополями, застали там удивительное зрелище: король, в кресле, обшитом красной тканью и поставленном возле огромного стола, накрытого такой же красной тканью, при генералах, — слушал Гордиенка!
Выражение лица Мазепы ещё у порога стало олицетворением уважения. Орлик вроде немного смутился. Из этого король наверняка заключил, что Мазепа приехал советовать то же самое, что уже советует Гордиенко. Гилленкрок и Пипер посматривали на новых гостей с еле заметным неудовольствием. Оба, того не замечая, были заняты париками: Гилленкрок жевал кудри зубами, а Пипер накручивал их на большой белый палец.
Гордиенко громко. настаивал:
— Вашему величеству достаточно лишь приказать! Мы возьмём за день! Но моим казакам нужна награда. Они народ смелый и умелый!
Говорил Гордиенко латынью складно, гоноровито отбрасывал назад длинный оселедец на такой крупной голове. Король не перебивал, рассматривал Гордиенка, а сам чего-то ждал, поскольку время от времени скашивал на дверь беловатый суровый глаз.
Мазепа с королевского разрешения опустился в кресло, пододвинутое высоким секретарём Гермелином, и подумал про Гордиенка, что шведы уже дали ему большие деньги, а ещё большие обещаны, вот и выслуживается. Вместе с тем в глубине его души начинала ворочаться давняя вражда и неприязнь к Гордиенку, хотя, если подумать, так что теперь делить, пока здесь король, пока здесь московское войско? Не лучше ли забыть о вражде? Где теперь найти такого союзника? Когда-то Мазепа желал Гордиенку смерти, а недавно выставил всех своих сердюков, встречая его, лишь бы напустить в глаза туману, лишь бы тому подумалось, что большая часть Украины теперь за короля Карла! И Гордиенко поверил. Только если уйдут отсюда русские, когда шведы окончательно победят, нужно будет сразу убрать Гордиенка с дороги.
Во дворе заслышался конский топот. Король за красным столом нетерпеливо повёл белой бровью, но и дальше не перебивал Гордиенка. Когда же, через некоторое время, в зал вошёл офицер и что-то тихо поведал королю на ухо, а король ещё раз переспросил, лишь тогда он торжественно обратился к присутствующим, подав перед тем знак Гордиенку:
— Благодарю за намерения, господа, но мои солдаты сегодня уже не в первый раз поехали к крепости, чтобы иметь о ней полное представление. Мы возьмём Полтаву. Но и вы можете себя показать.
От таких слов Мазепа, Гордиенко, Орлик и все, кто с ними допущен на королевские глаза, хоть и склонили низко головы, но были довольны: славно решил король! Будет нетрудная экзерциция.
Мазепа дождался нужного мгновения, почти незаметно взмахнул рукою, и молодые джуры, которые стояли за его креслом, внесли в светлицу что-то завёрнутое в белую ткань. Они сняли покрывало — в светлице вспыхнуло новое сияние, то так ярко заискрилась гетманская парсуна.
— О! — сказал граф Пипер. — Chef-d’oeuvre!
[30] Какого мастера работа? Как имя?
Мазепа поклонился сначала королю:
— Меа dona
[31], ваше величество!
Затем еле-еле обратился к Пиперу, так, чтобы ответ всё-таки прозвучал для короля:
— Мастер учился в Италии. Зограф Опанас. Писал это для новой церкви.
Король удивлённо рассматривал изображение.
— И вам не жаль, ваша светлость? Здесь вы так величественны! — сказал он после долгого молчания.
Мазепа снова склонил голову:
— Для вас, государь, не жаль.
Гусак из-за спины гетмана смотрел на всё с радостью, а Гордиенко поднял только одну бровь и еле заметно улыбался. Орлик понимающе промолчал.
7
— Дождались, — сказал полковник Келин, человек высокий ростом, как и большинство царских офицеров, стройный, сухопарый и всегда напряжённый, присланный в Полтаву комендантом в начале нового, 1709 года. Его не удивило тихое лошадиное ржание, заслышанное в синеватых сумерках из ближнего леса среди сплошного птичьего крика.
— Будет приступ? — почтительно спросил казацкий есаул.
— Обязательно.
Есаул враз перестал зевать.
— Сколько же их там?
Полковник не ответил. Нападения он ждал на протяжении многих дней. Именно ради этого в спешке и по последнему слову военной техники приказывал подсыпать земляные украшения, усиливая их при помощи камней и брёвен. Уже накануне вражеские разведывательные отряды дважды пробовали приблизиться к крепости, чтобы взять «языков». Правда, шведы дважды и спасались от солдатского огня, оставив на открытом пространстве несколько драгунских трупов, которые даже не смогли подобрать, — значит, имели намерение возвратиться для решительных действий. Полковника утешало то, что разведчики видели на валах только горсть его солдат.
Теперь шведов окутывал густой туман. В долинах да в глубоких оврагах ещё сохранялся холодный спрессованный снег, обглоданный солнечными лучами, а враги приближались как раз с той стороны, где больше всего деревьев, где в землю врезано много оврагов, — оттого и туман. Спешившись в лесу, они прокрадывались садами, в густых зарослях. Некоторые деревья уже начали распускать листья, укрытий — в избытке. Но полковник — опытный воин. Такому достаточно звуков для определения численности войска.
— Тысячи полторы! — сказал он наконец есаулу.
Тот кивнул головою, оглянулся на город. Город спал.
— Итак, — размышлял полковник, — разведчики не узнали, сколько здесь защитников, если шведы пришли с незначительными силами.
Полковник не боялся штурма, но и не мог поверить, что шведы настроены на лёгкую победу. Что они до сих пор живут воспоминаниями о Нарве. Сам Келин запомнил холодную далёкую осень, когда солдатские сапоги проваливались в липкую грязь, а над головою бушевала снежная метель. Он тогда был сержантом. Враги тогда тоже подошли скрыто и ударили мощно... С тех пор миновали годы учёбы не на плацах, но в сражениях. Неужели же шведы в самом деле продолжают считать русского человека к войне неспособным? Полковник скрипел зубами.
Чтобы держать врага в неведении, большая часть войска с вечера была отведена на отдых. Обороняться предстояло лишь Тверскому полку, с. которым полковник прибыл в крепость по приказу самого царя. Здесь уже кое-что было сделано под командованием генерала Волконского, заменившего полковника Левенца. Левенец, говорят, не укреплял фортецию. Да и Волконский — кавалерист, плохо разбирался в фортификации. Теперь Полтаве есть чем встретить врага. Имеются пушки, люди... Ещё один полк будет защищать противоположную часть зала. Оттуда, считал полковник, можно ожидать удара в разгаре боя. Одному Богу ведомо, нет ли ещё на подходе значительных вражеских сил.
Что же, на штурм крепостей шведы бросаются стремительно. И после Нарвы полковник не раз отбивал их атаки, а потому полагал главным для себя не предоставлять возможности хотя бы одному атакующему пересечь невидимую линию перед укреплениями, за которой сила атаки удваивается, а то и утраивается. Он верил в выучку своих солдат. Если же последует осада, то в резерве не только третий, вечером отведённый отсюда полк, но и вооружённые полтавские обыватели, которых наберётся несколько тысяч. Обыватели, полковник знал, не спят и сейчас. Он, как и есаул, взглянул на город и острым глазом приметил, что там, в больших и малых строениях, во дворах, на площади перед церковью, сверкают предрассветные огоньки. По улицам снуют быстрые тени. Тревожно, хоть и тихо, перекликаются ночные патрули... Немою спокойною массой высились на валу, за земляными выступами, солдаты. Весенняя ночь была прохладна. Полковник, перебирая пуговицы на кафтане, ощущал под пальцами как бы комочки льда и горбился, как в зимнюю стужу.
— Главное, — поучал есаула, — не дать им прорваться. Дальше тех вон кустов!
Он по нескольку раз на день обходил валы и намечал ориентиры, за которые не следовало пропускать нападающих.
Полковнику удалось рассчитать всё верно и предусмотрительно. Шведы, выбравшись из леса, построились, ударили в барабаны и бросились вперёд так быстро, что в глазах полковника зарябило. Но в ответ на треск барабанов с вала грохнули пушки, одновременно окутались дымом солдатские шеренги. Фортеция заглушила барабаны наступающих и короткие крики их командиров. Штурм утонул в пушечном громе.
Всё кончилось очень быстро. Кто добежал до вала — того на дне рва уложили меткие пули. Передовые шведы лишь приставили к земляным стенам свежесделанные лестницы. Одну такую лестницу солдаты втащили к себе наверх. И уже замелькали в розовом тумане быстрые синие спины. Никто не взобрался по лестнице на верную смерть. От неё одно спасение — бегство...
— Ура! Ура! — ожила без команды солдатская масса.
Громко закричали вразнобой казаки, которым что-то весело говорил есаул, отбежавший от полковника Келина.
На дне рва, освещённый отражёнными солнечными лучами, вытянувшись во весь огромный рост и задрав к синему небу мёртвое белое лицо, остался лежать молодцеватый барабанщик. Яркий красный барабан с синими, тоже яркими, флямами, откатился шагов на десять, попал под солнечные лучи, и сверху стало хорошо видно, что он не повреждён. Ловкий казак уже спускался вниз за притягательным трофеем.
— Подступай! Не укусит!
— Саблю держи! А то вдруг живой...
— Ишь, здоровенный шведюга вырос! А не страшен теперь! — морщил личико вооружённый одною пикой полтавский житель, заглядевшись на мёртвого барабанщика. Сразу, как только солдаты отбили приступ, полковник разрешил защитникам выйти на вал и разглядеть убитых, чтобы убедиться: шведов можно бить. — Такое, слышите, о них трубили, — продолжал полтавец, — что и характерники они, и черти, а они вон какие. Столько и на него свинца полагается, сколько и на всякого!
— Пули и колдунов бьют! В пулях вся сила!
Все загомонили, обрадовавшись, как хорошо и просто обошлось первое боевое дело. Все кричали молодому казаку внизу — то был Охрим, его узнали! — давали советы, что делать, а он уже и без того нёс барабан.
— Добыча! — сказал он. — Хоть бы и в шинок!
Сверху кричал его низенький товарищ Микита:
— Не сломай! Давай мне в руки!
В ров спускались многие казаки и солдаты, чтобы хорошенько оглядеть каждого убитого, собрать оружие, деньги. Спускались и с лопатами, чтобы зарыть убитых в глухом, укромном месте.
— Всё ещё только начинается, дед! — объясняли старому полтавцу с маленьким личиком, на что следует надеяться. — Кто знает, сколько времени придётся здесь сидеть! Швед не отстанет!
Полковник Келин, согревшись и успокоившись, расстегнув на кафтане все пуговицы, улыбался. Он тоже был уверен, что для Полтавы всё только начинается. Он прикидывал, сколько пороху истрачено сегодня и на сколько его хватит вообще. Враг не примется вторично штурмовать фортецию с такими незначительными силами. Враг придвинет их в три раза больше. Или кто знает сколько.
8
В Великих Будищах, в королевской ставке, в неказистом доме с просторным, однако, крыльцом, посреди вишнёвого голого сада, уже прогретого весенним солнцем и вот-вот готового распустить на деревьях нежные зелёные листья, а может быть, прежде всего обсыпаться белым цветом, никого не удивило известие, что драгунами не взята полтавская крепость. В головах у шведского генералитета в тот день возникло много надежд. Все поняли, что турки, побаиваясь московитских кораблей на волнах Азовского моря, вооружённых пушками, наполненных солдатами, воздерживаются посылать королевской армии даже нужную амуницию, хотя об этом шведы просили в Стамбуле и через польских сенаторов, сторонников Лещинского, и даже через посла такой всесильной державы, как Франция, — но шведские генералы сходились на том, что после взятия Полтавы всё переменится. Турки сами предложат если не совместные действия, то хотя бы амуницию. Кто помешает объединить свои усилия двум державам, если в Полтаве будет стоять шведский гарнизон? Значит, Полтаву надо брать непременно.
Ещё до начала штурма и даже до первых рекогносцировок король в присутствии генералов заговорил о своих планах. А если он ничего не скрывает — значит, считает дело пустяковым.
— У таких валов, господа, мы не надорвёмся. Знаю. А слава...
Генералам хватило и этого, чтобы рассказывать о королевских намерениях гордиенковцам и мазепинцам. Гордиенковцы и мазепинцы относительно полтавской крепости лелеяли собственные, правда не так далеко идущие планы.
Теперь на просторном крыльце панского дома, хоть и покрытого соломой, но со множеством колонн, вырезанных забредшими мастерами из толстых брёвен в виде грудастых и бедрастых кариатид, большинство генералов уже примирилось с мыслью: нужно дождаться пополнений. Правда, морозы, наводнения, боевые акции, а главное, смерть от болезней — всё это очень обессилило и московитские войска. Но у царя есть откуда брать пополнения, а в королевской армии уже давно не видели ни одного новенького солдата. Пополнения, если можно так сказать, были только за счёт мазепинских да гордиенковских казаков. Нет, шведам обязательно надо дождаться короля Станислава. Дожидаться удобнее в большой крепости, известно. Полковник Понятовский многозначительно кивает кудрявой головою. У него имеются вести из самой Варшавы. К нему добираются посланцы от Станислава Лещинского — большей частью под видом жебраков да монахов.
Итак, генералы лишь по-разному рассуждали, где лучше ждать подкреплений. Тем, кто советовал отойти, возражали с пеной у рта, словно простолюдины. А потом, перед новым походом, снова форсировать Днепр? Мы уже форсировали его в сравнительно узком месте, а попробуй перейти через такую реку возле Киева! Попробуй обмануть московитов манёврами! Они уже разгадывают даже самый сложный manoeuvre du Roy.
Король давал выговориться. Он сам немного переменился. Генералы понимали его желание найти в их спорах какой-то намёк на правильное решение. Их словесные схватки становились ещё более упорными.
Лагеркрон и Спааре вроде бы породнились: выяснилось, что любовницы, подаренные им, между собою родные сёстры. Они из обедневшего саксонского дворянского рода.
Генералы поддержали в один голос:
— В Полтаве, ваше величество, есть порох! Там много продовольствия, говорит гетман Мазепа. Там дождёмся короля Станислава.
Король недовольно повёл бровью, не желая слушать, что армии нужна польская помощь. Он, как и граф Пипер, знал, что Станислав Лещинский не может сейчас привести вспомогательное войско, поскольку должен сражаться с враждебными ему поляками, которые надеются на московитского царя и на саксонского курфюрста Августа. Не в состоянии это сделать и генерал Крассау: он наблюдает за положением в прибалтийских землях и за настроением в соседних европейских державах. В Европе уже догорает война за испанское наследство.
Но в этот раз в Великих Будищах на королевские устремления среагировал даже генерал Левенгаупт. Громко хлопая рукою в кожаной перчатке по острому плечу деревянной кариатиды, на что обратила внимание густо расставленная вокруг сада и двора стража, он сказал:
— После взятия полтавского арсенала и отдыха может получиться так, что и без пополнения двинемся на Москву!
И многозначительно поглядел на всех.
Реншильд проскрипел зубами. Он впервые не сориентировался своевременно в королевских планах: Москва Москвой, а здесь...
Король почти не разговаривал с Левенгауптом. Лесная не забывается. Левенгаупт клялся страшными клятвами, что было сделано всё, чтобы привести армию к королю, да... Voluntas Dei. Хоть и приходится делать вид, будто поражения никто не потерпел, было просто нападение превосходящих московитских сил, — да ведь обоз пропал. Левенгаупт, понимая свою вину, избегал разговоров. У него лишь чаще обычного подёргивалась правая щека. Его мучили воспоминания. От подёргивания содрогалась могучая грива — она с молодых лет напоминает львиную. Воистину — Левенгаупт
[32]!
Все генералы, заслышав голос рижского губернатора, замолчали. Пипер и Гилленкрок даже обменялись взглядами. Дело в том, что однажды, ещё до Гадяча, они вели с Левенгауптом серьёзный разговор. Генерал тогда остерегался, чтобы никто не вошёл в просторную крестьянскую хату, в которой они сидели на широкой дубовой скамейке за широким, дубовым же, столом. Перед глазами, в простом зелёном сосуде черкасской работы, качалось, ломая желтоватые лучики, красноватое старое вино, подарок Мазепы из хуторских погребов.
«Знаете, господа, — неожиданно сознался тогда Левенгаупт, — они многому научились за эти годы...»
Оба собеседника напрягли слух.
«Конечно, под Лесную царь привёл лучшие войска. Но дрались они с нашими наравне. Пока что у царя мало пушек, и те он легкомысленно теряет. Мало офицеров. Но у него такие резервы, такие пространства... Наш разговор должен здесь умереть, — наполнял генерал новый бокал, — но, верьте, они нас заманивают. Они могли бы уже состязаться с нашей армией».
«Царь боится генеральной баталии!» — вскрикнул Гилленкрок, тогда ещё очень уверенный в военной гениальности короля.
«До поры», — прохрипел Левенгаупт, сдерживая подрагивание гривы.
Затем Левенгаупт замолчал. В хату вошёл духовник Нордберг.
Теперь Левенгаупт демонстративно поддержал королевский план. Возможно, это очень разумный план? Или рижский генерал-губернатор хочет добиться монаршей ласки своими умелыми действиями при взятии крепости? Его не принимали в расчёт под Веприком.
Король отреагировал на слова Левенгаупта:
— Да.
Он тоже хлопнул по выпуклому бедру кариатиды и заторопился внутрь строения, мимо вытянувшихся и взволнованных генералов, которые вмиг поднялись из кресел, мимо духовника Нордберга, заторопился глядеть в свои бумаги, готовить новые приказы, а за ним побежал секретарь Гермелин, побуждённый даже не словами, а движением бровей.
Реншильд стоял, глядя вдаль сквозь садовые деревья.
А уж после того Гилленкрок шепнул Пиперу:
— Возьмём Полтаву, минет неделя — что дальше? Новая крепость...
Граф пожал плечами:
— В Стокгольме спросят, если нас ждёт неудача. Король неосторожен. Поражения приведут к переменам в политике европейских государств.
Он поглядел на Реншильда — тот почуял взгляд, оценил сочувствие, но не приблизился, по-прежнему глядел вдаль. Невзирая на утверждения Левенгаупта, и граф, и фельдмаршал были согласны с Гилленкроком — Полтаву брать не стоит. Реншильд, понятно, потому не согласился с Левенгауптом, что ему не понравилась такая готовность прислужиться королю. Получается, Левенгаупт снова хочет стать королевским советником, как и прежде. Король же хочет доказать, что его армия доныне не знала поражений. Если Левенгаупт захватит Полтаву, то, может, и он станет фельдмаршалом? А уж два фельдмаршала... Вперёд, на Москву, — вот что знает Реншильд...
— Брать Полтаву начнёт Спааре, — добавил Гилленкрок Пиперу. — А не возьмёт — будут брать более опытные.
Граф поморщился. Гилленкрок желал и дальше издеваться над Спааре. Ещё из Польши, даже из Саксонии, от Альтранштадта, король платит Спааре жалованье как настоящему коменданту большого города.
Король вынырнул из невысоких дверей, в которых должен был наклонить голову, и пошёл на Гилленкрока. Гермелин, ростом ещё выше короля, перегнулся в поясе, неся под мышкой бумажные свитки. Гилленкрок заметил весёлый блеск в суженных королевских глазах. Возможно, короля взбодрил взгляд, брошенный на удачно написанный портрет Мазепы, который висит теперь в королевском кабинете?
— Вы наш маленький Вобан, генерал, — сказал король, обводя глазами толстую фигуру квартирмейстера, где на животе последняя снизу пуговица грозила разорвать петлю. — Grand mardchal des logis. Вы обеспечите войско всем нужным для осады. В случае надобности.
Сравнение с Вобаном не могло не польстить Гилленкроку. Именно французы выработали большое военное искусство... Этим искусством прекрасно овладели и шведы.
— Ваше величество, — задумался Гилленкрок, взвесив свои возможности и поняв, что здесь мало надежд стать вторым Вобаном, пусть и маленьким. — Под руками нету того, чего требует Вобанова наука.
Король пропустил замечание мимо ушей.
— Московиты сдадутся, как только поймут, что мы действительно хотим взять крепость. Пока была лишь разведка. А войска на штурм поведёт генерал Спааре, — добавил он, обращая к генералу своё лицо.
Гилленкроку припомнился штурм маленького Веприка, однако он должен был сдержать свои слова. Напротив, стал соображать, как лучше начать земляные работы, потому что войска так сразу не возьмут крепости.
А через несколько дней змеистые апроши ползли уже к крепостному валу с западной и южной сторон — Спааре не взял крепости, и ни у кого не оставалось сомнений, что московиты успели хорошо закрепиться.
От речки Ворсклы, от оврагов к высоким валам не стоило и приближаться, а со степной стороны на высоком месте стояло много пушек. И ещё частым боем били оттуда царские солдаты. Даже какие-то обывательского вида люди встречали штурмующих отчаянным огнём. Нужно было их тоже принимать в расчёт.
Ещё в первый день, как только защитники Полтавы завидели апроши перед Куриловскими воротами, они, дождавшись, когда шведы уйдут в свой ретраншемент обедать, сделали вылазку и перебили охрану, а шанцевый инструмент прихватили с собою — потом хвастались с валов, что захваченное пригодится им для подсыпания собственных укреплений.
Гилленкрок посылал проклятия как осаждённым, так и королевским офицерам. Ему снова пришлось морочить себе голову в поисках нужного количества лопат и кирок.
Однако апроши приближались неумолимо. Вскоре шведские пушкари начали вкатывать в глубокие шанцы блестящие пушки. Бодрило само присутствие пушек. Оно явно волновало осаждённых.
Король приезжал из Великих Будищ порассуждать, как легче и быстрее взять город. Каждый раз он долго торчал в ретраншементе, построенном рядом с Полтавой, внимательно вслушивался, сколько московитского войска в осаде, внимательно расспрашивал Мазепу, который его сопровождал. А сам долго размышлял — и там, и в дороге до своей ставки. А когда в Великих Будищах в неказистом панском доме поднимался на просторное крыльцо с деревянными кариатидами, то улыбался виду расцветающего старого вишнёвого сада, милостиво слушал лестные речи полковника Понятовского, замечания духовника Нордберга, нашёптывания секретаря Гермелина. Входил в кабинет — со стены смотрел Мазепа. Потом, вечером, возле раскрытого в сад окна король сидел рядом с длинноногой и белокурой Терезой — она одна осталась при нём из женщин, вывезенных из Саксонии, — всех прочих он раздарил.
Да, у короля начиналась интересная жизнь.
9
Как только шведы подступили к Полтаве, гордиенковцы, ставшие недалеко от неё большим лагерем, узнали, что князь Меншиков переходит к королю Карлу. Привёз новость Мазепин есаул. Прокричал хриплым голосом, будто об окончательной победе, да и поскакал назад в густой пыли, а многих гордиенковцев, кажется, услышанное подбодрило. Скоро здесь не увидишь русского и шведа — король поведёт войско на Москву.
Однако ободрённые вскоре опустили руки: шведам так быстро не взять Полтаву, как говорил о том Гордиенко. После неудачных приступов под командой генералов король лично повёл на штурм три тысячи солдат. Они таки взобрались на валы, но на помощь царским солдатам высыпали почти все полтавцы, способные держать оружие, и сбросили их вниз. В тот же день был объявлен королевский приказ замкнуть крепость в кольцо.
Лёгкой весенней пылью закурили над тихой Ворсклой широкие шляхи. О подсохшую землю застучали солдатские сапоги. Заржали высокие кони. А всё живое по близким сёлам должно было спасаться или за валами или подальше искать себе безопасного места. С болью в сердце оставляли землю хлеборобы, зная, что этой весною им не брести за плугом, подгоняя волов и вдыхая резкие запахи вспаханной нивы. Вернут ли хоть то, что посеяно осенью, если сюда начала собираться вся шведская армия?
Среди шведов шустрее прочих зашевелились немолодые степенные люди, приказывающие солдатам забивать в землю белые колья. Они иногда задирали кверху головы, слушали, как заливаются в синем небе жаворонки, и размахивали при том руками. И ещё возле них ходило много солдат с лопатами. Немолодые люди держали перед собою огромные бумаги, что-то там царапали перьями, а солдаты лопатами копали землю. Крепость на работу супротивника посматривала с огромным интересом, потом бахнула из ружья — убит один человек, упал, а бумагу отнесло шагов на десять! Тогда людей с бумагами закрыли шеренги драгун. Достаточно кому-нибудь появиться на крепостных валах — его прижимают пулями к земле. А крепость бережёт порох. Отмалчивается.
Для осады, как обычно, приходится перемещать горы земли, насыпая контрвалы, делать апроши, мины, как это все называют опытные французы. Эго работа для простых мужиков. Денег у короля достаточно. Однако деревенских жителей удалось набрать горсточку — так что король после совещания с генерал-квартирмейстером Гилленкроком обратился через него к гордиенковским старшинам, чтобы они призвали рыть землю своих вояк. Сначала, собираясь в гурты в своём лагере, казаки не желали и слушать королевскую пропозицию. Казаку прилична сабля, а не лопата... Гурты хороводились несколько дней, отпуская шутки, от которых у короля заскребло бы в носу, услышь он то и пойми. Однако казаку нужно что-то жевать. А что? Всё надо подвозить неизвестно откуда. И денег где взять, если не у богатого шведа? А так генерал-квартирмейстер обещает плату за рытье. Вон его люди уже всё вокруг измерили, вбили колья — копай! Да и долго ли придётся надрываться с лопатой, если уж Меншиков с войском переходит к королю? Царь Пётр уехал на Дон и не возвращается, есть слух — сядет на корабль, поплывёт с верными людьми за море. Вот что придумал царь, узнав о намерениях запорожцев! И у Шереметева, слышали надёжные товарищи, тоже загвоздка: что делать? Шереметев находится с другой стороны от шведов, возле Днепра, а Меншиков отсюда недалеко, в слободском городе Харькове. Если уж такие близкие к царю люди покидают его — только и осталось ему кораблём плыть на чужую сторону.
Многие запорожцы пошли копать землю вынужденно, но будто своей волей, остальных же принудили силой. Таким способом, побитый нагайками, и Марко Журбенко корпел теперь в глубоких ямах против Полтавы. Швырял сырую землю, стоя по колена в холодной воде. Когда же на небо набегали густые тучи — на душе легчало. Никто тогда не видел, что делают казаки для шведов. Уже зазеленели леса, сады, уже изрядным листом и густой травою принарядилась земля — появилось укрытие. Зато в ясную погоду на валы высыпали полтавские люди — они обзывали сечевиков здрайцами, показывали им верёвочные петли, в которых им и качаться. Марко избегал глядеть на полтавцев, но от въедливых взглядов нигде не спрячешься, да ещё он побаивался, не глядит ли на него оттуда родной брат Денис. Брат обязательно должен быть там, где битва. Вот уж посмеётся, как встретятся. А может, и наименьшего брата, Петруся, подхватило военной волною.
Однажды, выйдя из крепости, солдаты хорошенько поколошматили шведов. Гордиенковцы разбежались при нападении, но есаулы снова согнали их на прежние места, принудили искать разбросанные инструменты и снова рыть землю. Тогда Марко не выдержал. Как ударит лопатой о твёрдое дно в выдолбленной яме — и железо лопнуло.
— Казаки мы или грабари, трясця его матери! Вон они похаживают!
Шведы стояли на холмах со всех сторон, в несколько рядов. Ружья наготове, хоть и опущены прикладами к земле.
Марков крик для запорожцев стал желанным знаком. Все плюнули на осточертелую работу, стали сползаться в кучки, получился шум. На шум сбежались есаулы. Да и шведы наставили уши и оторвали от земли ружья.
Однако запорожцы уже потянулись к своим куреням, виднеющимся за версту, над оврагом, густо обставленным возами с поднятыми в небо длинными сверкающими оглоблями. Шведы, выстроившись вдоль дороги, продвижению не мешали.
А там, в лагере, с самого высокого места размахивал руками старый Петрило:
— Товариство! Нас называют здрайцами! Моё старое сердце болит от таких слов! Всего наслушался за жизнь, а этого не вынесу! Хотя мне уже всё равно и никто на земле не будет терзаться моим стыдом! А среди вас много молодых, у кого есть дети да родственники! Спокон веку запорожцы защищали Украину, а теперь? Думали мы с людьми быть, а получается, много нашего люда воюет против захватчиков, да не мы! Как же так вышло, что лихие люди нас обманули?
Частые слёзы оросили исхудавшее лицо старика, до этого времени всегда спокойное. Ударил шапкой о землю, упал на неё...
Отыскались ещё говоруны. Показывали в сторону Днепра, за синий лесок. Туда... От таких слов за спиной у каждого вырастали крылья.
— Товариство! — крикнул и свои слова Марко с высокого воза на высоком месте. — И мы для своей земли хотели что-то сделать. Ещё не поздно, сечевики!
Есаулы находились невдалеке от крикунов, кто на коне, а кто на земле, какие-то растерянные, сабли и нагайки в руках без движения.
Тем временем доносчики дали знать Гордиенку. Он прискакал без охраны. Хитрый атаман сразу смекнул, на что решаются казаки, чем всё это пахнет для него лично, поэтому не горячился, слушал, поддакивал и пускал слезу, а сам оглядывался, как загнанный волк, окружённый на овчарне мужиками с кольями. Некоторые сечевики начинали его понимать. Он здесь, а Сечь избирает нового кошевого, хитрющего казака Сорочинского. И того Сорочинского поддерживает Меншиков — не без царского указа. Не отстал Меншиков от царя. То поклёпы одни на него.
— Идём отсюда! — завопил кто-то. — На Сечь! Там, на нашей матери, всё решим! Там Сорочинский посоветует!
— Идём! — поддержали мигом, бросились неизвестно куда, лишь бы что-то ухватить на дорогу, а более всего — оружие. Примчались к возам. Собирали обозы, запрягали коней. Демьян Копысточка стремился поставить свой воз первым. Но пока собирались, на холмах завиделось очень много шведского войска. И на холмах, и на лесных полянах, на дорогах — везде.
Правда, горячие головы не заботились о том — пусть! Что запорожцам шведы? Запорожцы — люди вольные. Захотели — пришли. Захотели — прочь! Так всегда было.
Многозначительно посматривали казаки друг на друга, помалкивали, лишь бы швед не узнал о тайных надеждах.
Из-за шведских рядов тем временем в окружении генеральной старшины вынырнул Мазепа. Вокруг — пузатые музыканты. Развёрнуты знамёна, которые так красиво раскачиваются на тёплом весеннем ветру.
Да запорожцы и перед Мазепой не станут таиться.
— Не враги мы нашей земле! — вновь на возу Петрило. Таким его и не примечали раньше. Рука не отрывается от сабли. — Пан гетман! Мы уходим!
— Уходим! — закричали запорожцы. — Силой прорвёмся! Нашей земле — горе!
Есаулы сняли Мазепу с коня и поставили на запорожский воз. Он долго откашливался. Марко стоял рядом и видел, как шевелится острый сухой подбородок.
Удивительно, до чего не похож гетман на того мудреца, которого намалевал Петрусь. Вроде бы это отец намалёванному, к тому же очень хитрый и злой.
Мазепа долго утирал вышитым платочком усы, потом заговорил взволнованным голосом. Все притихли. Рядом с Мазепой нет даже сердюков. Если бы сердюки, кто бы слушал? А так, может, и разумное что насоветует? Старый человек.
Речь получилась хоть недлинная, но медленная.
— Товариство! И я не враг нашей великой мученице — нашей родной земле, нашей Украине! — И слезу пустил, и снова утирал её вышитым платочком, долго прятал платочек в карман красного жупана. — Потерпите, умоляю вас! Вот возьмут шведы Полтаву — король вас щедро наградит!
— Пусть! А мы поедем! Враки! У царя будем солдатами, а здесь — быдлом!
— Враки! — закричал и Марко. — Враки всё!
Есаулы уговаривали, щёлкая нагайками:
— Опомнитесь, дураки! Оглянитесь!
Вот оно что. Пока Мазепа говорил — шведы поставили на холмах пушки. Шведская драгуния сверкает саблями, только подай ей знак!
Дождались. Остывали горячие головы от Мазепиных хитростей да прыткости.
Гордиенко уже переиначил голос — тоже умеет пустить слезу, как и Мазепа. Теперь он оттеснил Мазепу, зычно командуя:
— Расходитесь! По своим куреням! Быстрее!
Шведские драгуны окружили каждый курень. Так, в окружении, должны были отправиться казаки на свои места, копать снова землю.
Марко, от виденного, сгорбился. Не время было говорить. Он покосился на Мазепу — и от злости и беспомощности плюнул на землю.
А казаки, бредя в пыли, которую вздымали нарочно, перешёптывались, что враги успели схватить самых горячих. Уже связаны руки старому Петрилу. Во многих сражениях побывал старик, во стольких походах, возвратился с Дона, а вот... Демьян Копысточка — тот первый побежал с лопатой. У шведов сила сейчас. Нужно было раньше думать своими головами. Разрешили изменникам продать такую силу захватчикам...
Один Марко в запылённой толпе, кажется, ещё не совсем упал духом. Приключение будто лишь усилило в нём веру, что ещё можно чем-то помочь себе и товарищам. Пока живёшь — надейся.
10
Вслед за шведами к Полтаве стягивались русские войска. Они заняли за Ворсклой всю низменность, гуще всего сосредоточившись возле села Крутой Берег. Королевским войскам, что хозяйничали на землях вдоль правого берега, стремясь не подпускать супротивника к своим укреплениям, была на руку заболоченность речной долины. Ворскла и Коломак, сливающийся с ней, наделали столько веток, что среди них заплутает даже местный житель, а уж провести там войско с обозом да с тяжёлыми пушками, пока ещё не спали весенние воды, — задание чрезвычайное. С высоты будет сразу замечено усиленное передвижение.
Однако земля с каждым днём подсыхала. Речки начинали входить в свои пределы, и за Ворсклу от русских посылались партии казаков и хлопов. Небольшие отряды украдкой пересекали воду, пробирались кустами, лозами, приречными зарослями. Еженощно на высоком берегу вспыхивали пожары и слышался шальной топот копыт, после чего взрывалась долгая перестрелка. Не было покоя даже в местечке Великие Будища, где король держал возле себя своих самых значительных генералов.
Денис, а с ним и Петрусь часто переправлялись на шведский берег, иногда оставались там на несколько ночей — днём прятались в густой зелени, в оврагах; возвращаясь назад, каждый раз жадно всматривались туда, где за лесом, за чёткими башнями Крестовоздвиженского монастыря прорезалась Полтава. Петрусь представлял, какие чудесные дали открываются с монастырского подворья. Когда-то хлопца пьянили мысли о монастырской жизни — можно спокойно малевать! Но теперь подобные мысли не волновали.
Полтава стояла прочно. Приступы шведов каждый раз получались неудачными, и наконец король приказал вгрызаться под крепостные валы, чтобы засыпать в подкоп порох. После взрыва в прорыв проникнут королевские войска. Защитникам никак не определить, где именно производится подкоп. Люди, сумевшие выйти из крепости, передавали просьбы коменданта любой ценой узнать о месте подземных работ. Тогда из крепости поведут встречный подкоп. Ночами к звукам в шведском стане прислушивались многие уши, но всё напрасно: с такими делами тщательно таятся.
А в начале мая царские войска переправились через Ворсклу в нескольких местах и ударили на город Опошно. Там долго гремели бои. Денис Журбенко надеялся, что и его сотню перебросят в те места, но на неё, оказалось, возлагали иное, ответственное и нелёгкое дело.
В июне на берегах Ворсклы обнажился белый песок. Ожило остроконечное «татарское зелье». Повыбивал трубочки зелёный камыш. Ночью над водою рождались лёгкие туманы. Кричали изредка птицы, и совсем не было покоя лягушкам. Прогретая за день вода уже не успевала остыть за ночь. Лето начиналось жарою, подтверждая убеждения старых людей: как зимой намёрзнешься, так летом пропотеешь.
Царские солдаты, переодетые в шведские мундиры, неторопливо и молча входили в тёплую воду, держались на одинаковом расстоянии, будто их разделял невидимый аршин. Потрусь, тоже закованный в тесную чужинскую одежду, шёл впереди. Днём ему сказали, что на нём мундир пленного шведского вахмистра, добровольно сдавшегося в плен. Шведские солдаты, мол, приложат к шапке пальцы, завидев такую одежду. Петрусю чудилось, будто этот мундир носил молодой хлопец, что сдался ему в плен на переправе через Псёл. Кто знает... Не один швед попал в плен.
Рядом, низко надвинув на головы огромные шапки и цепко всматриваясь в белесоватый туман, тихо переговаривались между собой двое полтавцев — Охрим и Микита. Они уже несколько раз приносили рапорты от полтавского коменданта. Они хорошо знали речку, поскольку рыбачили на ней с малых лет, но, как и большинство соседей, совершенно не умели плавать. Потому бригадир Головин, начальник воинского отряда, решил взять за проводника ещё кого-нибудь из казаков, умеющих плавать, — взяли Петруся.
А вся Денисова сотня тоже переправлялась двумя частями, правее и левее от людей Головина. Казаки бесшумно вели коней, потому что конские копыта, по давнему обычаю, обмотаны тряпками. Петрусь воспринимал происходящее как сновидение. Казаки лишь ступили на твёрдую землю — сразу в сёдла, только мелькнули. На прощанье старший брат напомнил:
— Там гляди... Как условились...
Денис узнал Охрима и Микиту, спросил, не сравнялись ли они своими зажитками с бедняками. Охрим захохотал в ответ. Денис просил обоих полтавцев присматривать за братом — те кивали головами. Петрусь не сердился на брата, хотя не впервые ему слышать высвистывание пуль.
Перейдя через Ворсклу, высокие ростом солдаты и далее ступали осторожно. У передних — ружья наизготовку. Задние привязывали оружие к мешкам, что у них на головах, лишь бы не замочила вода. Петрусь знал: в мешках порох! Пороха в Полтаве мало, рассказывают Охрим и Микита. Сколько же понадобится таких мешков, чтобы выдержать напор всей шведской армии?
На берегу Головин приказал отдохнуть. Солдаты так и припали к земле. Бригадир подозвал Петруся. Сухощавое лицо командира скрывала тень от высокой шапки, да глаза его и в тени отсвечивали тревогой. Ведь провести в Полтаву помощь поручил сам Меншиков.
— Не подведёте, казаки?
— Пан, — опередил Петруся Охрим. — Мы не раз пробирались!
— Может случиться всякое, — перебил бригадир и махнул рукой. Идите, мол, отдохните. Сам же чего-то дожидался, всматриваясь в молочно-серую завесу. Сонные крупные птицы, потревоженные присутствием людей, с криками падали в густые загадочные заросли.
Петрусь присел на остывший белый песок. Солдаты неподалёку выливали из сапог воду. Звуков не слышалось. Только виднелись синеватые серебристые дуги. Небо над деревьями было прошито пушистыми звёздами. И тишина стояла такая, что даже не верилось, будто возле Опошни сегодня днём гремели бои, что туда на выручку, говорят, поспешил из-под Полтавы шведский король.
Петрусь имел от Дениса задание дойти с отрядом до валов и сразу же возвращаться. Что говорить, хотелось побыть рядом с защитниками города. Однако у Дениса из бывшей сотни, оставленной при царском войске полковником Галаганом, когда он сам отправлялся с прочими казаками в город Чигирин, чтобы придержать там ненадёжных запорожцев, теперь уцелело, ну, может, с десяток человек, остальные — все люди новые.
Выплеснув из сапог воду, Петрусь примостился под ольховым кустом так, чтобы видеть бригадира Головина. Никто, кажется, не чувствовал страха, хоть опасность подстерегала на каждом шагу. Набежали мысли о матери в лесу, о Гале, о старом деде Свириде, малом Мишке, а потом мысли переметнулись на брата Марка — давно нет новостей. Много сечевиков-гордиенковцев стоит против Полтавы. Но нет там Марка. Да и запорожцы те — пьяные приблудники...
Дождётся ли Галя своего суженого...
Петрусь вздохнул. Дорого заплатил бы человек, лишь бы заглянуть в свою будущую жизнь. Иногда она видится: ты возле красок, работа... А тут маленький мальчишка вымалёвывает кистью цветное пятно, и рядом улыбается Галя... Казак встрепенулся, и в то же мгновение где-то далеко раздались выстрелы. Шведов уже тревожили казаки Дениса. Всё делалось так, как задумано.
Бригадир Головин вскочил на длинные тонкие ноги:
— С Богом!
Охрим и Микита уже готовы. Нет у них ноши, а в руках — длинные жерди, чтобы измерять глубину реки.
Отряд без помех добрался почти до самой крепости. Солдаты пробирались между кустами и деревьями, во тьме натыкались на кучи земли — это уже возле шведских окопов, вырытых запорожцами. Солдаты ругали и шведов, и запорожцев. Некоторые сваливались в ямы, но их ловко оттуда выуживали.
Снизу валы казались ещё выше и неприступней. Где-то за крепостью круто загибалось ночное небо со светлыми полосами, с мигающими влажными звёздами, между которыми плыли лёгкие облачка, иногда их закрывая, но они просвечивали даже сквозь облачка и сквозь молочный туман.
Ни одного шведа пока что не встретил отряд. Наверное, враги опасались, не возникнет ли перепалка поблизости от их лагеря. Возле костров зашевелились огромные тени. А там, где разразилась стрельба, вспыхнуло зарево. Уже всё вокруг окуталось дрожащей пеленою, каждое дерево, каждый кустик, кучка земли. Звёзды в небе поблекли. В лагере дробились и пропадали тени, будто исчезали и сами костры.
За окопами раздались команды. Петрусь, как и весь отряд Головина, оказался на открытом месте. Головин прокричал непонятное слово, знать, шведское, и поскольку повсюду в том направлении зарева продвигались длинные колонны, то шведы ничего подозрительного не усмотрели в ещё
одной торопливой колонне, которая, не таясь, спешила в том же направлении.
— Вперёд! — передал Головин новую команду, сообразив, что к чему.
В спешке враги не обратили внимания и на зелёную ракету, скользнувшую по ночному небу за их спинами. Ракету выпустили в голове колонны, уже приближающейся к крепостным воротам. В садах возле крепости залаяли одичавшие собаки. После условного свиста и света ракеты заскрипели брёвна ворот, над ними зашевелились тени.
Головин указал рукою на овраг, о котором говорил с Петрусем (Охрим и Микита сдавили на прощание товарищу плечо, они оба пока что оставались в крепости), да неожиданно из того оврага, куда уже собирался было рвануть Петрусь, ударил ружейный огонь.
— Назад! — закричал Головин, а солдатам скомандовал: — Бегом!
Шведы наконец оценили свою неосмотрительность. От наседающих на хвост колонны врагов отбивались предназначенные для того солдаты. Огонь из оврага был плотен и разителен. Кое-кто не уберёгся, некоторых солдат понесли на руках их товарищи.
Денису стало известно, что солдаты во главе с Головиным вошли в крепость, однако он не знал, куда девался Петрусь: тоже прошёл за крепостные валы или же его захватили в плен, когда торопился к условленному месту, где ждали казаки?
Денис той ночью несколько раз оставлял условленное место, йотом снова возвращался, надеясь, что брат отыщется. Страшно было думать о беде, ещё страшнее — о матери, которую сведёт в могилу горькая весть.
Уже поднялось утро, и казаки силой забрали с собою своего сотника. Шведы завидели всадников в утреннем тумане, бросились в погоню на своих хорошо отдохнувших конях, наверное, и настигли бы, да казаков спасли русские пушкари — картечь отрезала преследователей.
Денису ещё не раз удалось побывать на уговорённом месте. Он искал брата в кустах, полагал — тот ранен, на войне по-всякому случается, но каждый раз возвращался на свой берег ни с чем. Правда, вскоре узнал, что из утраченного и снова отбитого у врага Крестовоздвиженского монастыря в осаждённую Полтаву пушкари перебрасывают полые ядра. В ядрах — письма. Так же поступают и полтавцы. Можно было бы узнать, есть ли в крепости Петрусь, — но таким способом переписывается с комендантом Полтавы сам Меншиков. Будет ли князь сушить себе голову судьбою простого казака?
Однако Денис не терял надежды. Пусть уж про Марка ничего нельзя узнать, зато младший брат где-то недалеко.
11
Царь вроде бы и не торопился к своему сухопутному войску, и работа, продолжавшаяся день и ночь на воронежских верфях под его надзором, давала результаты.
Десять боевых кораблей с высокими просмолёнными боками в сопровождении многих судёнышек и челнов спускались вскоре по чёрной весенней воде от Азова к Троицкому городку. Закрытый белым морским туманом, из которого проглядывали лишь стены красных солдатских казарм, обведённых незаметными издали валами, городок трижды приветствовал корабли гулкой пушечной стрельбой, при каждом залпе всё плотнее окутываясь густым чёрным дымом. Корабли под раздутыми парусами продвигались послушно. Обученные за зиму экипажи, одетые в приятную царскому глазу морскую одежду, умело исполняли приказы усатых и краснолицых чужеземцев в тёплых шерстяных шапках. Пушкари стреляли прицельно. Молодые дворянские сынки, как только наступали сумерки, припадали к приборам, соображая что-то по звёздам. На границах с Портой появился флот.
Посол турецкого визиря Кападжи-паша, сам в белой чалме и в такого же цвета длинной одежде, завидел корабли уже на жёлтых морских волнах. Великий визирь Чорлолу-Али-паша слал запросы, не забыт ли русскими соседями мир, на страже которого теперь стоит сам Аллах?
От турецкой посудины под широкими и низкими полосатыми ветрилами, бросившей якоря напротив жёлтого песчаного берега, посла доставили на царский флагманский корабль в длинной лодке, гонимой тощими, словно голодранцы, многочисленными гребцами. Царь слушал турка стоя на палубе. В его глазах отражался пушечный блеск в деревянных жёлтых оснастках и сверкали белые ветрила. Он думал, что не так уж страшны тайные намерения короля Карла. О константинопольских же страхах пишет посол Пётр Андреевич Толстой. Там уже готовят корабли и пушки. Получается, предпринято именно то, что и следовало предпринять. Царь внимательно следил за всеми интригами в Константинополе, засыпая — через Макарова — своего посла бесчисленными вопросами. Толстой обо всём расписывает, и Макаров, сидя при царе и в Воронеже, и на кораблях, тщательно выуживает из бумаг каждый пустяк.
Посол прикладывал длинные белые пальцы с рыжеватыми закурчавленными волосами к сердцу и ко лбу, вернее — к огромной чалме. Потом бился черепом о твёрдую деревянную палубу, до блеска вылизанную матросами. Стук твёрдого лба был неприятен царю, но было приятно знать, что русский посол не будет вести себя подобным образом перед владыками чужих земель. Во время аудиенции, пока худой, как и гребцы, толмач подыскивал слова, продолговатые посольские глаза опасливо и внимательно косились на царские корабли, на вспученные ветрила, вздрагивали от пушечного блеска. По приказу визиря посол клялся Кораном и пророком Магометом, что султан и не помышляет разрывать мир с царём, а просил как можно скорее отпустить его назад в Константинополь с доброй вестью, — тогда султан сможет прислать новое подтверждение мира.
— А крымский хан Девлет-Гирей? — зловеще спрашивал царь.
Он покорный слуга султана! — торопливо отвечал посол.
На посудину под полосатыми ветрилами посла повезли без ответа. Царские матросы, облепляя своими телами высокие мачты, с открытыми улыбками посматривали на заморских гостей.
Два новопостроенных корабля после того целый день ходили по Азовскому морю под лёгким ветром, будто породистые кони по степным просторам, исполняя разнообразные манёвры. Царь на флагманском мостике, положив руку на прогретые солнцем перекладины и держа в другой длинную подзорную трубу, забывал, что у него под Полтавой стоят иные, непрошеные гости. Но это продолжалось лишь мгновение, и снова царский взгляд скользил по волнам, непроизвольно следя, не торопится ли к флагманскому кораблю прыткий длинный ялик, на котором гоняются посланцы с важными донесениями. Они приезжают чаще всего из гетманщины, но во всех бумагах пока что стоит одно и то же: Полтава держится!
Тем временем матросы, продолжая учение, в больших и малых челнах, бросились к берегу, обсыпали его, «штурмуя» высокий холм недалеко от того места, где на якоре пришпилена посольская посудина, и так мощно закричали «Ура!», что у посла, наверно, остановилось сердце. Царь наблюдал за манёвром в подзорную трубу, сожалея, что сам уже не может быть среди матросов. Но он знал, что два новых корабля — восемь старых не в счёт — ничего не значат. Итак, надо было думать об ином.
На следующий день турецкому послу вручили бумагу, где было сказано, что русские не намерены разрывать мира, если турки не будут помогать шведам. В противном случае эти корабли могут добраться и до Константинополя... Перед тем послу вручили такие царские подарки, что их можно было расценить как подкуп. Турок подарки принял.
Три недели спустя после отъезда турецкого посла царь имел копию султанского указа, разосланного в Крым, на Кубань и в Белгородскую Орду. Султан приказывал подчинённым держать с царём мир и не подавать никакой помощи ни королю Карлу, ни королю Станиславу, ни гетману Мазепе. Ещё велел следить, чтобы никто из татар не шёл на службу к упомянутым властителям.
После этого можно было отправляться в армию.
Ночной порою царь сел в коляску. Высунув голову под звёздное небо, так что шею его обвевал откуда-то налетевший прохладный ветерок, он рассматривал корабли. Из другой коляски, сняв шляпу, выглядывал сосредоточенный кабинет-секретарь Макаров.
Коляска двинулась, и только тогда царь вытащил из кармана трубку, наполнил её табаком из подаренного женой Катериной вышитого кисета и удовлетворённо закрыл глаза: возле кораблей он несколько месяцев не брался за трубку...
Четвёртого июня царский обоз остановился недалеко от Полтавы, в расположении главной армии.
12
Петрусь неожиданно оказался за валами, неожиданно там и задержался. Среди неутомимых полтавских воинов его теперь беспокоило только то, что уже нет никакой возможности подать о себе весточку брату Денису.
Бригадира Головина с отрядом полтавцы встретили как Бога. Бравого офицера несли до ворот от площади перед церковью Святого Спаса. В Полтаве ценят самую малую горсть пороха, а он привёл солдат — почти тысячу! — да ещё доставил много пороха. День спустя Головин собирался отправить Петруся с Охримом да с Микитой назад в царское войско, чтобы отнести рапорт, но из того ничего не получилось. Сам бригадир после удачного прохода пренебрёг опасностью. Дав солдатам отдых, он после этого, во время ночной вылазки, необдуманно бросился с ними на окопы, облегающие крепостные ворота, имея намерение неожиданным манёвром разведать, где именно производится подкоп. Шведы, уже и ночью оставаясь в окопах, ударили в ответ большими силами. Многие русские храбрецы погибли, а Головина с оставшимися в живых шведы взяли в плен.
Тогда комендант крепости полковник Келин, которого Петрусь сразу же, как только вошёл, увидел за полтавскими воротами, приказал никого больше не выпускать за укрепления: погибло много людей, а отбивать приступы с каждым днём всё труднее. Донесения в царскую армию, как и прежде, можно перебрасывать в пустотелых ядрах, совершенно не рискуя людьми.
Ещё в первое утро, до восхода солнца, когда оно только упёрлось лучами о краешек влажной земли, чтобы сразу подпрыгнуть вверх раскалённой головней, Петрусь уже торчал на валах. Увиденное его поразило, хотя он представлял всё именно так, как оно перед ним и предстало. Сразу за неглубоким оврагом — изуродованные сады, захламлённые поваленными стволами деревьев да камнями из-под недавних больших и малых строений. Кое-где разрушенные хатки, сарайчики, остатки плетней с уцелевшими кольями. За крутыми оврагами, на горе, видны высокие башни, облепленные красными солнечными лучами, отчего кажется, будто они совсем рядом. То Крестовоздвиженский монастырь, видный издали и отовсюду. Правее, за валом, — обрыв. Там, внизу, болото. Ещё дальше, между широкими болотами, между кудрявыми вербами с птичьим пением, — блеск тихой, остепенившейся сейчас Ворсклы. Ближе, рядом с воротами, — жёлтые кучи земли. Удивительно: ночью между шведскими окопами прошёл большой отряд — и никто своевременно не поднял тревоги...
В самом городе тоже чернело и даже дымилось много пожарищ и на каждом шагу виднелись руины. Но люди, которые сразу, как только поднялось солнце, наполнили дворы и улицы, были озабочены и заняты работой.
Петрусь спустился вниз и пошёл по улице. Там каждый находил для себя занятие, и старый и малый. Даже раненые в хатах да в овинах или же под седыми полотняными ятками, расставленными когда-то торговцами вокруг площади как кому хотелось, под голым небом, просили работы: то ли наточить сабли, то ли привести в порядок повреждённые ружья — на что у кого хватало си)1ы и умения. Петрусь стеснялся отрывать людей от работы, но ему очень хотелось заглянуть в каждое лицо, в каждую пару глаз. Сам он до сих пор, как только случалась свободная минута, выведывал о Полтаве только у брата Дениса. Однако и Денис мало что знал об осаждённом городе, поскольку бывал там давно. Денис рассказывал о корчме перед полтавскими воротами, где познакомился с Охримом и Микитой. Вместо строений там чернело пепелище, но люди всё же называли место «корчмой».
Перед отражением очередного приступа Петрусь спросил Охрима, когда тот оказался рядом, не его ли хата стояла возле корчмы. Охрим плюнул в сторону шведов: «Моя... Видишь, жонка и дочка живут теперь в погребе...» Но не опечалился, ударил пикой землю: «Новая хата будет! И новая корчма!»
Еды в Полтаве пока хватало. Вокруг площади ввинчивались в небо пахучие дымки. Это кашевары готовили варево, и народ собирался к общему завтраку... А вот с порохом... О военной нужде полтавцев, безусловно, ведали и шведы, старались то использовать. Старый казак, неустанно вжикая по топору камнем, рассказал, не поднимая головы, что от короля полтавскому коменданту привезено уже с десяток писем: сдавайтесь, крепость обязательно будет взята! А тогда спасения не ждите! Ребятишки, стариковы внучата, тоже обмозговывали положение, будто взрослые.
На следующий день Петрусь стал свидетелем того, как полковник Келин читал шведское письмо с высокого воза, поставленного возле низенькой церковной паперти. Сухощавое лицо полковника темнело от гнева, короткий ус нервно подёргивался.
— Это одно хвастовство, полтавцы! — потрясал он в воздухе смятой бумагой. — Ров засмердел от их трупов... А хотят нас убить — так и мы умеем защищаться! Если бы и ворвались они сюда!
— В горло вцепимся! — подхватывали люди.
За каждым словом — звон оружия. Одно здесь мнение в каждой хатёнке с белыми стенами, накрытой жёлтой соломой. Только в этом году все строения потемнели от дыма, жёлтая солома почернела, задымлённые, изувеченные сады и огороды выставили к небу острые обглоданные ядрами ветки да колышки — не узнать ничего. Вертели головами старые полтавцы: что осталось от нашей белостенной Полтавы! И каждый раз, не успевал барабанщик, который приносил королевские письма, так и не дождавшись ответа, спрятаться за деревьями, как уже шведы лезли на валы и снова всё вокруг окутывалось пушечным дымом. Так получилось и на этот раз.
Через несколько дней Петрусь уже различал среди защитников знакомые лица. Однако больше радовался, когда слышал Охримов либо Микитин голос, поскольку от присутствия этих упрямцев все люди вокруг становились бодрее.
Во время штурмов Петрусю удалось увидеть вблизи даже шведского короля. Был он в высокой шапке с огромным пером, раскрасневшийся, долговязый, сердито кричал. Длинная шпага грозила упасть на голову каждого, у кого лицо обращено не к крепости. Кажется, он лично ничего не остерегался.
Полтавцы были уверены, что врагу не взять крепости, а всё-таки слухи о нехватке пороха — словно уж в густой удачной ржи — влезет и от его движений качаются вверху колосья, хоть его самого уже не видать! — так и от этих слухов пошли по городу нехорошие волны: доколе сможем отбивать штурмы без пороха? Вон царь, говорят, возвратился к армии, однако не обещает нас вызволить. Говорят, много свежего войска прибыло из Московии, много привезено пороха, ядер, пушек — почему не торопится?
Вроде никто открыто не говорил, что город долго не продержится, и всё же кто-то, без сомнения, нашёптывал подобное. Очищена вроде Полтава от предателей, даже от нерешительных людей, как вот полковник Левенец, да кто-то остался, кого-то сломала продолжительная осада. Как узнать? А узнали...
Царь вскоре прислал полтавцам письмо. Для верности приказал перебросить его в нескольких образцах. Петрусь сам видел, как полые бомбы падали в небольшой овражек сразу за церковью. Тугие свёртки желтоватой бумаги, испещрённой литерами, читали и офицеры, и солдаты, но долее всего и тщательнее — простые полтавские обыватели. Петрусю тоже удалось заглянуть в бумагу — всё правда. Вчерашние гречкосеи, на чьих полях теперь выпасаются вражеские табуны, ремесленники, которые вынуждены отложить дело и взяться за оружие, гендляры, которым перекрыты гендлярские пути, — все гордились тем, что за военные подвиги их похвалил сам царь. Он обещает вскоре освободить город известным ему способом.
Читали письмо на майдане возле церкви Спаса. Читали в который раз и в который раз радовались, смеялись и плакали, уверяя друг друга:
— Теперь нет сомнения! Выдержим!
Рядом с Петрусем торчал дебелый Охрим. В огромной руке у него ружьё. Напористостью полтавец напоминал погибшего в Веприке Степана: лицо обожжено, губы распухли.
— Победим! — кричал. — И на Сечи сделаем порядок! Гордиенка повесим! Если бы я там был...
В то же мгновение немолодой человек с отросшей рыжей бородою, с прищуренными глазами пожелал растолковать своё.
— Люди! — обратил он на себя внимание. — Рано ещё радоваться! Кончится порох — кого умолим смилостивиться над нами? Детки маленькие, женота слабая... За что мучаются? Когда ещё царю удастся подвести войско. А если и подведёт... Шведам только того и нужно. Послушайте ночью, добродии, как гудит земля. Под нами роют не одну нору, вот-вот покажутся. Разве не знаете, что под Полтавой пещеры? Это мы забыли... А ворвутся, так вырежут! Вся Швеция собралась! Да ещё у Мазепы сколько народу.
Несколько молодых казаков вокруг рыжебородого закивали головами, словно подтверждая сказанное, но сами ничего не говорили. Петрусю показалось, что он знает рыжебородого. А к тому уже приступили те, кто поближе:
— Так что советуешь? Говори!
Приступили так решительно, что человек побледнел. Глаза округлились. Туда-сюда ими — никто не поддерживает. Завершил:
— Просить царя, чтобы разрешил оставить город! Со шведами договоримся... Возьмём пушки, выйдем победителями... А к царю — Охрима! Он проберётся... Правда, Охрим?
— Ге! — промычал Охрим. — Не испугаюсь... Да не то говоришь!
Охрим ухватил мужика за воротник. Тому не дали больше вымолвить ни слова. Некогда спрашивать, с кем он такое придумал. Петрусь уже и не увидел в свалке рыжей бороды. Люди кричали в сотни голосов. Громче всех Охрим:
— Ведите попа! Исповедует перед смертью!
— Он мазепинским духом провонялся!
За попом бросились молодые, кучка детей. Хотя в церкви правилась служба, а уже сверкнула на ступеньках длинная риза, уже выстрелил золотыми искрами Божий крест...
И тогда Петрусю припомнилось, что предательский голос принадлежит тому есаулу, который зимою подбивал сдать Веприк. Отрастил, проклятый, бороду, баламутит люд. А тут остались человечишки с достатками. Им жаль, что их добро гибнет в огне. Прислушивались к его словам.
Полковник Келин с высокого вала отлично видел, что делается на площади перед церковью, но оставался неподвижным, хотя перед ним торчал его адъютант: не прикажет ли полковник остановить самосуд? Нет. Полтавский люд решил правильно. Пусть казнит слабого духом. Это не самосуд. Это самый справедливый суд. А крепость сдавать нельзя.
Только большую озабоченность приметил Петрусь в глазах полковника, когда снова оказался вблизи от него, на валах, и тоже подумал, что Полтаве грозит ещё невиданная опасность. Неужели шведы в самом деле ведут несколько подкопов? Неужели не врал рыжий есаул, только что повешенный на майдане перед церковью?
За валами шумело вражеское войско.
Лейтенант Штром записывал то, что настырно лезло в голову.
Вся армия не может взять крепость. Едим конину. А настоящим вином здесь удаётся полакомиться только генералам да самому королю. А в торговых палатках продают сивую черкасскую водку, деланную из зерна. Однако и та водка стоит так дорого, что её могут покупать только очень богатые офицеры. Мы уже отогнали от одного мяса. К тому же ещё и обносились. Я вынужден поджимать пальцы, лишь бы солдаты не видели, как они выглядывают из разорванных сапог, будто у нищего, который встречается возле лагеря. Припоминаю наши разговоры с вахмистром Линротом. Говорят, пленных свозят в Москву. Линрот в плену, наверно, имеет еду, не дрожит во сне от боязни, что его украдут или прирежут сонного. Ходят слухи, будто московиты вообще люди приветливые, а непримиримы только к врагам. Наши закалённые воины не обращают внимания на трудности, а молодым тяжело. Вот хоть бы мне. В эти тёплые душные ночи снятся наши просторные хлевы в горах, в которых полно скота. Кажется, ревут коровы, молоко брызжет в вёдра, красные материнские руки в белой пенс. И ещё копны сена на нашем лугу у Красного леса, где я любил сидеть с книгой, взятой из библиотеки нашего пастора. А потом на лугу стучит воз... Просыпаюсь — и каждый раз оказывается: то стреляют московиты. Я когда-то полагал, что меня одели в мундир для великой миссии, а получается... Нет, не придётся читать внукам об этом походе, если и останусь жив. Как там без меня управляются с хозяйством старые родители? Брат тоже служит королю, только он где-то в крепости. Хоть не так бедствует. А что случилось с невестой Астой? Я о ней почти не вспоминал. Она же, может быть, дожидается меня? Эх, если бы возвратиться живым.
Лейтенант каждый раз медленно складывал книжонку, изрядно уже потёртую от постоянного ношения за голенищами и за пазухой. Не знал, когда ещё удастся записать туда что-нибудь новое, да и не знал, стоит ли писать. За неосторожное слово, случалось уже, и расстреливали.
13
Запорожцы не в силах глядеть друг другу в глаза. От шведского короля выпадает хорошая плата — они покупают у мазепинцев горелку, дурных денег не жаль, напиваются изрядно, поскольку только так и можно существовать на свете. А хлеба почти не видят. Всё, что можно отыскать в окрестных оставленных жителями сёлах, во всех укрытиях, отыскали и съели шведы. Теперь чужинцы кормятся больше всего кониной, будто настоящие степняки. Потому, знать, так осатанело лезут они на полтавские валы, надеясь раздобыть за ними хлеба. Среди шведов полно слухов, распространяемых офицерами, будто в Полтаве от хлеба ломятся сусеки.
Запорожцы, тёмные, грязные, с пучками полыни за пазухой и в шароварах — давнее спасение от блох и вшей! — противны сами себе. В тёмном сивушном дурмане горланят отчаянные песни. Поднятая сапогами и широкими шароварами пыль, раздуваемая вихрем, долго висит над табором. Запорожцы хоть на короткое время стараются забыть, кем они стали в шведской неволе.
Но не всем удаётся забыть о шведчине да о своём позоре даже в пьяном угаре.
— Братове! — ноют под возами неудачники, растирая слёзы на чёрных щеках. — Пропали мы навеки!
Обманули нас! Наши хлопы считают нас врагами... Стоило бы Гордиенке голову отрубить!
Не утирают слёз, лишь перемешивают их с потом да грязью. Гордиенка теперь не достанешь. Теперь его и его старшин шведы сторожат надёжней, чем своего короля.
Страшно видеть глупые пьяные глаза. Но Марка не пьянит горелка. Он лелеет одну и ту же надежду, что бы он ни делал, куда бы ни шёл, ни ехал. А мало куда приходится уезжать — лишь коней сводить к водопою.
Хоть и окружены запорожцы шведами, хоть и пугают их старшины теми карами, которые ждут у русских, если попадут им в руки, но при первой малейшей возможности запорожцы удирают. Особенно удаётся бегство к осаждённым во время их вылазок. Неожиданно открываются крепостные ворота, мигом выскакивают солдаты и казаки. В дыму перебежать легче...
Марко твёрдо решился на бегство. Возле своих людей правды больше. Лишь там сохранилась сила, способная освободить родную землю от врагов да от страшной кривды. Марко подобрал надёжных товарищей. Нужно дождаться поры.
Король не пропускает ни одной воскресной службы в походной церкви. Его солдаты в то время, все как один, уподобляются монахам и молятся вокруг неё. В воскресные дни, на глазах у шведов, запорожцы даже не пробуют удирать, разве что на воскресенье приходятся удачные вылазки из Полтавы. А Марко с товарищами отважился удирать в воскресенье, среди бела дня. Сабли заранее припрятаны в кустах на берегу озера. Сделано всё незаметно, когда водили коней к водопою.
Теперь оставалось дожидаться.
Вот и воскресенье. Кони привычно перебирают копытами, приближаясь к широкой водной полосе. На берегу табун рассыпается, как сухие горошинки из спелых стручков. Спешиваются безоружные казаки, спешиваются и вооружённые шведы-конвоиры. Все радостно щурятся перед блеском воды и в предчувствии хорошего отдыха.
Брызгая друг на друга, голые казаки с шутками удаляются от песчаного берега, дальше, дальше, дальше. Вода, оказывается, только издали слепит глаза, а вблизи, под конскими копытами, — одно белое кипение. Будто в огромном котле. Шведы-конвоиры возле оставленной казацкой одежды спокойно греются на солнце, уверенные, что в таком виде люди не осмелятся удирать. Сказано: голодный перейдёт через село, а голый — нет.
Но у казаков своё на мысли... Противоположный берег приближается быстро. За озером нужно ещё пересечь неширокую в этом месте и неглубокую Ворсклу, ну да то пустяки. А там — воля! Воля!
На оставленном берегу озера один швед уже свистнул в пальцы и взмахнул рукою, потом замахал шпагой, шапкой, поднявшись во весь огромный рост, чтобы запорожцы возвращались назад. Но запорожцы вдруг оказываются на конских спинах — вода уже доходит коням только до бабок! — и, изо всех сил колотя голыми ногами по конским бокам, стремительно летят на низкий заболоченный берег, ломая роскошное «татарское зелье», кудрявые пышные кусты верболоза, распугивая прыгучих зелёных лягушек. В их руках сверкают сабли, и хотя шведы на далёком берегу уже забахали из ружей, окутываясь облачками дыма, однако врагам уже ничего не сделать с беглецами — запорожцы торопятся навстречу освобождению!
— Вперёд!
— Братцы! Воля!
Да если бы всё предвидеть... Сначала в лесу свистят иные пули, не шведские, сбивают тонкие зелёные ветви, устилают ими притоптанные стежки. Затем на лесную дорожку, к которой следует торопиться голым всадникам, выскакивают казаки Скоропадского. Скоропадчики, наверно, подумали, что запорожцы хотят перерезать им дорогу, что запорожцев выслали вперёд шведы, тогда как сами шведы наседают сзади.
Скоропадчики решают принять бой. В их руках угрожающе сверкают сабли. Под ними ещё злее рвутся-мечутся бешеные кони.
— Стой! Стой! — кричит своим товарищам Марко, да напрасно. Уже из чьего-то голого тела брызнула кровь, кто-то упал, стонет, и на самого Марка наскакивает такой напористый казак, что он еле увёртывается от удара его сабли. Видя, что спасения не будет, если промедлить ещё хоть мгновение, Марко размахивается, чтобы оглушить настырного дурака ударом плашмя, но в это же время позади, между деревьями, слышится зловещий цокот многочисленных копыт, и при первых выстрелах Марко чувствует, что его рука в бессилии опускает занесённую саблю, видит, что и всадник перед ним с криком хватается за грудь, а между тонкими пальцами у него струится кровь. Марко успевает шепнуть, свалившись с коня:
— Денис... Брат... Это ты...
Передовые шведы, вырвавшись на лесную дорогу, с мистическим ужасом замечают, как похожи между собою оба убитых ими молодых черкаса, один из которых наг, с ошмётками зелёных водорослей на теле, как одинаково разлетаются у них чёрные брови над широко раскрытыми уже мёртвыми глазами...
Часть пятая
1

ороль теперь лишь наведывался в панский дом в Великих Будищах, где оставались белошейная Тереза, духовник Нордберг, тафельдекер Гутман и прочие высокопоставленные придворные. Там он вдоволь мог насмотреться в глаза старого гетмана на парсуне, повешенной на самом видном месте. А так он жил в палатке на горячем берегу Ворсклы. Возможно, именно от духоты в палатке кто-то отважился намекнуть, что следует отойти к Днепру. Мысль высказывали почти открыто: теперь уже нет того абсолютного перевеса над противником, с которым король ворвался в царские земли... Когда это случилось? Как могло случиться?
Генерал Левенгаупт недавно настаивал на взятии Полтавы — теперь умолк, своим молчанием будто поддерживая слабых духом. А они заверяли, что позади не меньше московитского войска, нежели впереди: возле Сорочинцев Скоропадский держит черкасские полки; рядом с ним генерал Волконский с царской кавалерией; за Днепром посланный генерал Гольц уже соединился с враждебными королю поляками. Поляки прежде переходили к Станиславу Лещинскому, а теперь устремляются к Сенявскому. Если бы ещё царь решился на генеральную баталию, напоминали слабодушные, а то его войска лишь отсиживаются в казацких крепостях. Королевская армия уничтожит преграды на своём пути, соединится с войсками короля Станислава. Упованье не на польскую силу. Но где порох, ядра, снаряжение и обмундирование? Гендлярские ятки пусты.
Гендляры сидят в ожидании полтавских трофеев... Кто молчал, те тоже кивали головами: полное лето, а Москва далеко...
Короля выводило из себя упоминание о Москве. А вообще на консилиуме он был весь в мыслях. Все знали, что завтра день его рождения, поэтому торопились прислужиться, но почти всем, кроме фельдмаршала Реншильда, хотелось сказать одно и то же: нужно отойти. Правда, открыто высказался лишь Пипер. Ещё о том красноречиво свидетельствовало и поведение генерала Левенгаупта, глядевшего спокойно, но слова произносившего без надежды в голосе, вяло. Так же безнадёжно мотал головою пузатый Гилленкрок.
Лишь фельдмаршал Реншильд твердил о победе здесь, под Полтавой. К своим давним рубцам в этом походе фельдмаршал добавил несколько новых, достаточно значительных, на щеках и на лбу.
До сих пор на консилиумах советовали, куда наступать, а сегодня посоветовали, куда отступать. Король прежде срока отпустил советников. Но и после того не находил себе покоя. Сначала думал отправиться в Великие Будища, к белошейной Терезе, представлял, как она раскинет ароматные руки, на которых, возле остреньких локтей, видны синеватые прожилки, твёрдыми губами коснётся его губ, не забыв перед тем заглянуть в глаза... Потом будет гладить лоб, остерегаясь задеть поредевшие волосы, зная, что он не терпит касания к тем местам, где волосы у него растут без особой охоты. Но не поехал. До сих пор стоило ему появиться возле осаждённой крепости — и она сдавалась на волю победителя. А здесь несколько раз лично командовал штурмом — и Полтава ещё не сдалась. Под нею полегли солдаты и офицеры, на неё истрачено столько времени и пороха... Её начали блокировать так, как учит великий Вобан. И... Вот хотя бы подкоп. Войска уже ринулись на штурм — взрыва не получилось. Вскоре выяснилось, что в крепости стало известно направление подкопа, оттуда повели встречный ход, попали как раз, в последнее мгновение выбрали порох...
Просто так осаждённым не угадать, куда направлять контрподкоп. Узнали от перебежчика из шведского лагеря. И хотя достаточно заверений, что это дело подлого мазепинца, но после сегодняшнего консилиума можно сделать вывод, что на такой поступок способен и природный швед.
Король попробовал читать, полагая, что за строчками Плутарха забудутся неприятности, но читанное проходило мимо внимания, как степной ветерок мимо конских напряжённых ушей. Он даже посмотрел на обложку, на золотые буквы, чтобы убедиться, действительно ли то Плутарх. То был в самом деле Плутарх, переведённый на латынь. Шатались в глазах выкованные из меди слова, спокойные, как и в тех сагах о викингах, которые каждый вечер читает красивый тафельдекер Гутман, еле пошевеливая тонким горбатым носом. В Великих Будищах его голос звучал только в те вечера, когда в королевской постели нежилась Тереза. Иногда слушает и она, сидя в глубоком кресле. И тогда кажется, что она как-то по-особому глядит на красиво очерченные Гутмановы губы, немного приспущенные углами книзу. Впрочем, пустяки. Lecteur du Roy Гутман там, в Великих Будшцах... Слова Плутарха, далёкие от сегодняшнего дня, — такие величественные, что всё окружающее, нынешнее кажется мизерным.
Он отбросил книжку на высокий столик с вызолоченными краями, с розовыми личиками амуров между блестящим золотом и вдруг почувствовал, что всё это происходит неспроста. А что, если... Бросило в холодный пот. А что, если Лев Полуночи одолеет Орла Полдня не под его руководством? Похожие мысли прежде можно было чем-то заслонить, а сегодня... Если бы под рукою был Урбан Гиарн...
Сомнения мучили до вечера. Никто не принёс ничего утешительного. Доложили, что московиты вроде бы готовятся переправляться через Ворсклу. До сих пор главные их силы стояли в окопах на противоположном берегу, а на этом им удалось после боев под Опошней захватить монастырь на горе, там закрепиться, несмотря на обещания Лагеркрона выбить их оттуда. С того берега они ежедневно осыпают этот берег ядрами, но до сих пор не проявляли намерения переводить через речку и болота свои главные силы. Более того, перейди король с войсками на их берег — они отведут главные свои силы кто знает куда...
Вечерело. Король долго шагал внутри шатра, переставлял на столике безделушки. И вдруг понял, что стоит всё-таки убедиться, правильно он думает, нет ли... Он сегодня, сейчас станет на видном месте перед московитскими солдатами, пусть стреляют! Если кому-то иному суждено быть Львом Севера, то... Солдат стреляет, а пули носит Бог! Лучше умереть, чем отступить... Он не проиграл ни одной битвы... Если не убьют — не отрёкся Бог. Именно его избрала судьба на роль победителя.
Только нужно было, чтобы кто-нибудь из генералов увидел славную смерть или ощутил всё величие короля. На такую роль не годились ни Лагеркрон, ни Спааре, ни Реншильд. Из генералов можно было взять с собою Левенгаупта. Если убьют — поверят только словам Левенгаупта, поскольку он не станет напрасно хвалить великого полководца: король открыто и долго подчёркивал своё неуважение к этому военачальнику после Лесной. Но Левенгаупт не станет и врать — в том не может быть сомнения.
Правда, король и прежде никогда не прятался от пуль да ядер, но завтра — день его рождения. Завтра исполнится двадцать семь лет. В такие дни человек на особой заметке у своей судьбы.
Он разбудил разомлевшего от жары Левенгаупта и предложил ему удостовериться, действительно ли московиты собираются переходить речку Ворсклу. Генерал, опуская маленькие глазки на припухшем ото сна и без того огромном и будто бы даже отёкшем лице, не выразил восхищения, не показал удивления, а быстро оказался в седле. Они молча ехали берегом речки. Полтаву проглотили сумерки. На горе сверкнули огоньки монастыря, где теперь сидели московиты. Оттуда долетала протяжная песня. Похожее пение слышалось и на противоположном берегу. А ещё где-то там громко и заливисто лаяла псина, пылало много костров. Король и генерал остановились над водою. Отряд драбантов — на расстоянии. С московитского берега, от ближайшего костра, засвистели пули. Конь под Левенгауптом стал нервно бить копытом землю, бросая песок на королевского жеребца и на самого короля. Генерал не мог его успокоить, но не мог и терпеть проявлений неуважения к монарху пусть даже и от животного — немного отъехал. У короля же под свист пуль начала униматься тревога. Он спокойно ездил в сумерках. Внизу, под серыми во тьме копытами, белели пески. Королевский конь сохранил спокойствие. Можно было видеть, как на противоположном берегу шевелятся возле костров люди, как возле них раз за разом появляются короткие вспышки, и король уже мысленно издевался над царскими солдатами, которые не знают, в кого целятся, иначе делали бы это тщательней, их много, они действительно будто бы готовы переправляться через речку: там сереют на воде паромы, а на песке чернеют челны.
Генерал позади вдруг вскрикнул. Что-то тяжело упало на песок. Король не оглянулся. По-другому и быть не могло. Столько пуль, пролетая, могут миновать лишь человека, которому не суждено умереть.
Но генерал остался жив. Под ним убили коня. Животное скатилось с высокого берега, пропахав телом широкую и глубокую траншею.
— Ваше величество! — бежал по песку Левенгаупт, держа в руках тёмную шляпу. — Едем! Всё понятно! Убиты три драбанта. Сохрани Бог... Как без вас армия?
«Убьют? — мысленно завершил король. — Зачем тогда армия? Нужно до конца положиться на Всевышнего...»
Король не отвечал генералу, лишь крикнул уцелевшим охранникам подвести генералу другого коня, а сам начал спускаться ещё ниже, к краю переливающейся блеском при звёздах воды, раздумывая, как подать московитским солдатам знак, что перед ними сидит на коне король!
Генерала не было слышно, не было слышно и драбантов. Никто не приближался к королю. Пули пролетали уже плотнее — над головой, возле ушей. Он направил жеребца наверх, по песку, и хотя не подгонял, но уже верил, что никакая пуля не заденет шведского властителя, что он сейчас же поедет к Терезе, да, да, а на рассвете возвратится и сразу же прикажет штурмовать Полтаву. Её нужно взять. А царь пускай переправляет войска!
И в это мгновение огонь ожёг королю пятку. Он еле сдержал в себе животный крик, но сразу, хотя и понял, что это пуля пробила пятку и застряла в пальцах, поскольку их распирала невероятной силы боль, король заставил себя забыть о боли: он будет Львом Севера! А пуля в пятку — это просто знак, что за ним внимательно следит Бог!
2
Небольшой двор возле панского домика в селе Крутой Берег не вмещал карет и колясок. Их ставили вдоль извилистой улицы, сбегающей к оврагу.
Царь приказал генералам расположиться в яблоневом саду. Он быстро спустился с крыльца, и все, поднявшись, притихли, дивясь, что его тяжёлые ботфорты так тихо ступают по садовой земле. Царь открыто радовался, что крепость приковывает к себе силы врага, давая возможность стягивать к Крутому Берегу артиллерию и пехоту, которые прибывают из глубинных городов государства, но одновременно высказал и свои опасения: от заразы очень поредели все полки.
— Как удержать город? Что делать дальше?
Вопрос ставился ребром. Головкин, Шафиров, даже кабинет-секретарь Макаров, тулившийся в стороне, под яблоней, и что-то старательно записывавший в большую книгу, — все они чувствовали себя сейчас несколько спокойней, пока решалось воинское, а не гражданское дело, а уж военные люди сидели напряжённо, кроме разве гетмана Скоропадского, войска которого имеют задание от князя Меншикова не пускать шведов к Днепру, а потому и стоят они подальше от Полтавы.
Генералы увяли под пристальным взглядом, стремясь не попадать под солнечные лучи, прятались в тень. Когда же царь приказал высказываться — в генеральских речах сразу закипели не очень скрытые укоры: противник под самым носом штурмует нашу крепость, достаточно выйти из сада — её видать... Генералы избегали смотреть в царские глаза, даже сам Данилыч. Почёсывая длинный нос, одним пальцем поднимая парик, чтобы в щель проникал ветер, Меншиков украдкой посматривал в пространство между яблонями, где поблескивает Ворскла. А уж Шереметев — надутый, как сыч, и парик съехал почти что на брови. В летнюю жару, за эти два месяца, пока царь его не видел, Шереметев похудел, и в похудевшем теле появилась решительность. Что же, много чему научился Шереметев, действуя с войском в королевском тылу.
Царь, вышагивая, слушал внимательно. Собственно, у него за несколько предыдущих дней созрел план. Остановившись, чтобы видеть всех, царь приказал переправлять полки за Ворсклу. Он тыкал трубкой в генеральские груди, каждому поручал, что делать, и все записывали, не удивляясь, что он лично даёт конкретные указания, хотя прежде это делал обычно Шереметев, или Алларт, или Меншиков, командиры дивизий, а он раздавал указания разве что им — нет, теперь все понимали важность момента. Первым получил задание кавалерист Ренне, потом генерал Алларт, потом Шереметев. Данилыч, когда настала его очередь, вскочил с места, засмеялся, посмотрел царю прямо в глаза.
Шереметев тоже дёрнулся, чуть ли не вырвался вперёд, уже держа парик в руке и не побаиваясь царского гнева, — так торопился дать войскам приказы, за ним Алларт, Репнин, которому за добрую службу снова возвращён генеральский чин, — побежали все, будто молодые парни. Лишь гетман Скоропадский глядел на пуговицы царского кафтана, утирая лысую голову вышитым платком, подарком Насти Марковны.
— Вам, господин гетман, — начал царь, и гетман осмелился посмотреть ему в глаза, — нужно подводить казацкие полки к селу Жуки!
— Славно! — радостно кивнул Скоропадский, опасавшийся перед тем, наверно, как бы не пришлось ему издали смотреть на подвиги других, — что бы сказала тогда Настя Марковна, она же при войске! — и заспешил к своей карете.
Первыми перешли Ворсклу полки генерала Ренне. Возле села Петриковка, вёрстах в десяти к северу от Полтавы, они насыпали на высоком берегу редут и тем подготовили позиции для главных сил. Правда, в наступление на них пошёл фельдмаршал Реншильд, имея намерение столкнуть смельчаков в реку, но к вечеру фельдмаршал неожиданно отвёл войска к селу Жуки — гуда со стороны Днепра уже подходили казаки Скоропадского, — возможно, фельдмаршал намеревался помешать им приблизиться к русским главным силам? Это казалось резонным, но царь заподозрил, что шведы приготовили сюрприз. Царь решил оглядеть переправу на Ворскле, куда уже подтягивалась дивизия Алларта.
Смеркалось, когда в сопровождении Данилыча и небольшого эскорта драгун царь приблизился к мельнице, где остановился Алларт. Данилыч был возбуждён мыслями о будущей баталии на высоком противоположном берегу.
— Господин полковник! Твою цидулку перебросили! У меня такой артиллерист... Не артиллерист — дамский цирюльник!
Царь молчал. Возле мельницы было пусто, все толпились на переправе. Алларт одиноко сидел в низком сыром помещении, примостясь на куче наполненных зерном мешков. На тёмном столе колыхалось пламя сальной свечи, выгнутой, будто сабля. В высоком бокале искрилось красноватое вино. Вместительные ботфорты, как две собаки, лежали на деревянном полу, и генерал не успел их напялить на свои толстые волосатые ноги, стоял перед царём в белых шерстяных носках, лишь кратко отрапортовал, что всё делается так, как и предвиделось. Полки начали переправляться. В авангарде — опытные офицеры. Видя спокойствие царя, генерал рассказал, что король ранен в ногу, известно точно. Позавчера вечером на чужом берегу вертелись какие-то всадники, наши солдаты стреляли — известно точно.
— Это он! Он! Пусть не вертится, хампа-рампа! — захохотал Данилыч, а подзадориваемый вниманием Алларт продолжал:
— Именно в пятку, ваше величество! Не хотел признаваться, что ранен, да разве утаишь? Наши уже знают.
Весть огорошила. Царь молчал, обдумывая услышанное, а Меншиков заговорил о королевской казне, привезённой из Саксонии. Хищные, знакомые царю огоньки вспыхнули в глазах светлейшего.
— Ваше величество! — заметил Данилыч. — Пока король не может сесть на коня — мы бы генеральную...
Но сразу и прикусил язык светлейший — достаточно царского взгляда. Генерал, уже справившись с ботфортами, наставил было уши, а Меншиков снова заговорил о короле,
припоминал подробности, слышанные от своих офицеров.
Царь в задумчивости вышел из мельницы, разрешив Данилычу и Алларту посидеть за столом. Неизвестно зачем вертелось скрипучее мельничное колесо. Хозяина нет, а так никто и не догадывается, что его нужно остановить. Для военных нужд используются иные мельницы, большей же частью муку доставляют из далёких отсюда городов. Колесо ещё какое-то время вертелось и после того, как царь быстрыми шагами приблизился к плотине и поднял заставки, но движение его замедлилось, наконец угасло. Этому колесу ещё хватит полезной работы.
На низкий берег накатывались короткие говорливые волны. Через речку перевозились пушки. Под тяжёлыми колёсами чутко отзывалось дерево, скрипели отдельные брёвна. На противоположном берегу в сумерках пылали костры, шевелились маленькие проворные тени, ржали лошади — там надёжно держались полки генерала Ренне, иногда постреливая и выстрелами прерывая бесконечное скрежетание лягушек.
О генеральной баталии царю намекали многие генералы, но кто среди них мог понять в полной мере, что случится, если бы королю улыбнулась, как говорят, виктория? Карлу сейчас, как никогда, нужна победа. У него с каждым днём тают силы, а число русских войск, невзирая на болезни, увеличивается. Если же удастся дождаться сорока тысяч калмыков — их вот-вот приведёт дружественный хан Аюка... Но всё-таки генеральная баталия — ещё очень опасное дело.
На переправе стоял шум. Царь и не сразу заслышал, приближаясь незаметно, о чём толкуют за кустами молодые голоса. Говорили очень близко, очень чёткими голосами и как раз о том, о чём хотелось слушать, что не давало покоя ни на минуту — ни днём ни ночью.
— Теперь бы и ударить, коли сам Бог пособляет! — продолжал разговор молодой голос, по выговору — простого солдата.
Второй голос принадлежал черкасскому казаку. Казак говорил напевно:
— Царь подвёл свежие силы, говорят... А пороху, еды — много...
Солдат дальше:
— Пора! Разреши только воинам стать на битву!
— А кто не разрешает? — удивился казак.
Солдат захохотал. Многие засмеялись за густыми кустами.
— Молод ты, брат, — наставительно заговорил солдат. — Ровно гусёк... Вишь, царь наш любит всё чужеземное. Ему, знать, и не верится, что мы побьём чужинца! Бают, когда он был за морем, так, сказывают, даже гроб привёз оттуда в Москву, чтобы и мы себе такие же делали!
Царь засмеялся. Какое-то новое решение, ещё непонятное для него самого, родилось в голове, и он, встретив на плотине бодрых Алларта и Данилыча, отозвал Данилыча и сказал ему, что надо готовиться...
Меншиков так громко хлопнул в ладони, что над водою понеслось эхо, и Алларт понял: это неспроста.
— Ваше величество! — прошептал, однако, Данилыч. — Неужели... надумал?
— Молчи! — придержал царь шитый золотом княжеский рукав. И тихо добавил: — Пора... Дело...
На переправе — бесконечное движение. Вброд и по длинным деревянным мосткам, шатким, свежетёсаным, красивым, ехали, двигались пешком солдаты и офицеры. Стучали сапоги, грохотали конские копыта, разбрызгивая воду, пробивавшуюся струями сквозь щели между досками, отзывались густым звоном пушки, доставленные с далёких Невьянских заводов, стучали в тугие барабаны усатые молодцеватые барабанщики, весело смеялись и сердито поругивались сержанты — и они казались весёлыми.
Царю почудилось, что никто среди нижних чинов и не думал переходить реку тихо, украдкой, тайком от врага, — все торопились вперёд с ощущением своей силы и уверенности; даже молодые солдаты, которых лишь недавно сюда привели, которые и одеты в кафтаны из грубого серого сукна, шагали как-то бодро; даже их подхватило всеобщее движение, ощущение, что и от них зависит исход будущей битвы, радость освобождения или же предстоящее большое горе, которое отсюда расползётся по всей русской земле, доползёт и до их далёких деревушек, до родных задымлённых хат, как вот сейчас оно гуляет по несчастной черкасской земле, — одна судьба теперь у черкасов и московских людей.
3
Как только войско перешло на правый берег Ворсклы, царь ощутил в себе такое напряжение, что забыл о сне, еде, обо всём на свете, кроме решительной встречи двух армий. Мысли сосредоточились на зелёном поле возле села Яковцы, где теперь стояла его армия, уже окружённая валами — в так называемом ретраншементе, — и пехота, и конница, и артиллерия. Царь оглядел эту местность во время рекогносцировки, когда армия, переправившись через Ворсклу, ещё возводила укрепления вокруг первого своего лагеря возле села Семёновка, на позициях, захваченных конницею Ренне. Здесь, на новом месте, возле Яковцев, природа даёт возможность в полную силу использовать артиллерию, а шведов лишает манёвра. Позади позиций берега Ворсклы круто обрываются — безопасно для тыла. Слева стеною возносится Яковецкий лес. Атаковать ретраншемент можно только с одной стороны — с прохода между Будищанским и Яковецким лесами.
Яковецкий лес начинается рядом с укреплениями, а за ним, за Крестовоздвиженским монастырём на высокой горе, усталая от осады Полтава. Через лес, мимо монастырских ворот к крепости ведёт широкая дорога. Она исчезает между шведскими окопами, обнимающими даже монастырские стены: враг до недавнего времени намеревался захватить святую обитель. Из монастырского двора царь в подзорную трубу осматривал шведские позиции, размышляя о предстоящем.
Теперь он шагал по шатру, поставленному на природном возвышении в центре расположившегося здесь войска. Перед ретраншементом насыпали шесть редутов, перегородив ими широкое поле. Полог шатра был поднят, и царь видел чистое зелёное поле с жёлтыми полосками свеженасыпанной земли, которые примут на себя первые удары, но уже не ощущал вчерашнего удовлетворения от удачно избранной позиции.
Вышагивая по шатру, царь слушал донесения с передовых редутов да ещё от самого Данилыча, которому поручено следить, чтобы горячий король не напал врасплох, чтобы войско встретило его достойно.
Наконец царь, уже в который раз за этот день, выехал из ретраншемента. Ещё издали заметил, что в редутах кипит работа, что там стоит бесконечный стук кирок и лопат, а воздух перенасыщен пылью и лёгкими мелкими опилками, поскольку туда до сих пор свозят брёвна, там их рубят и пилят, зарывают и вколачивают в землю, чтоб те преграды придержали вражескую конницу.
Шесть редутов на широком, с полторы версты, пространстве между Яковецким и Будищанским лесами были почти готовы. Они ощетинивались в шведскую сторону стволами пушек. Пушки весело сверкали на солнце. Царь, минуя валы, ощутил, что ему хотелось бы лично оглядеть каждую пушку, но взгляд мимо воли устремлялся туда, где маячили кавалеристы Данилыча. Сегодня, когда уже поднялось солнце, будто и не стоило ожидать шведского нападения, но за редутами, в окружении многочисленного кавалерийского эскорта, виднелись Данилыч и Шереметев. Они, заметив царя, приблизились, вопросительно заглядывая ему в глаза. Царская тревога перешла и на них, исхудавших, особенно в последние дни. Правда, в словах Меншикова звенела привычная уверенность в себе и в своих поступках.
Царь всматривался в густые леса, переполненные звонким птичьим пением — а ведь вокруг столько человеческого шума! — израненные глубокими оврагами, и на свои редуты, силясь увидеть всё это глазами шведского короля, который, хоть и ранен, обязательно, возможно даже сегодня ещё, увидит их, хорошенько рассмотрит, и кто знает, какая хитрость родится в его сумасшедше-отчаянной голове? Возможно, он увидит что-то вот здесь, где Яковецкий лес слегка прикрывает левые редуты, давая возможность наступающим приблизиться всё-таки незаметно... Но... От неожиданной мысли царь остановил коня, потом круто повернул его и сказал обоим спутникам, следовавшим за ним:
— Ещё одна линия редутов... Перпендикулярно к этой... Один, два, три, четыре... Выступом вперёд, в одну линию... Чтобы разрезать наступающих.
Царь пальцем указывал места, где быть редутам, но даже Меншиков своим острым умом не сразу проник в замысел, поскольку ничего подобного не встречал в сражениях, и хитрый француз Вобан, которого царь любил поминать, ничего такого не советует. Шереметев маленькими глазками уколол царский выставленный в пространство палец и засветился широким лицом:
— Славно!
Меншиков взглянул на фельдмаршала и ударил себя по лбу белой перчаткой, хохоча и щуря глаза, морща длинный нос:
— Вот так! Хорошо придумал, ваше величество! Ей-богу! Тебе уже следовало бы дать чин генерала! На две части разрежет, а тем временем пушкари в хвост и в гриву!
— Вот-вот! — Довольный поддержкой Данилыча и Шереметева, царь уже махнул в направлении будущих редутов вытащенной изо рта трубкой с лицом эллинского сатира. — Сюрприз! Дело! Знаете, из скольких мест полетят ядра?
— Ад будет! — хохотал Меншиков.
Шереметев, загораживая крупом своего коня дорогу царскому жеребцу, тоже вмешался:
— Король сушит голову, как прорвать поперечные редуты, а здесь... Нужно немедленно строить, ваше величество. Но главное — чтобы никто не предупредил!
Вяло слушая Шереметева, царь поморщился:
— А не придумает ли он чего-нибудь? Лес прикрывает наше крыло...
Только некогда было разговаривать с Меншиковым и Шереметевым. Царь сразу послал с адъютантами приказ строить укрепления. Меншикову же велел выдвинуть кавалерию ещё далее вперёд, чтобы ни одна живая душа из шведского лагеря не увидела, что происходит в этом месте.
Царь возвратился в шатёр уже после того, как все четыре новых редута были обведены валами и там были поставлены пушки под наблюдением самого командующего артиллерией генерала Брюса. Правда, там предстояло трудиться ещё всю ночь, чтобы к рассвету укрепления встретили врага хотя бы вполсилы, но в них уже вошли гарнизоны, готовые к бою.
В ретраншементе пылали костры, пахло свежевскопанной землёю, тёсаным деревом, опилками. Громко и протяжно перекликались часовые. Солдатского гомона не слышалось, утомлённое работой войско спало — царь приказал дать ему хороший отдых, полагая, что к бою придётся приступить утром.
Конечно, в такую ночь чутко спали и во всех недостроенных редутах, а в новых не спал никто. Ещё совершенно не знали сна кавалеристы князя Меншикова, выведенные за новую передовую линию.
Усталость налегла и на царя, и он, взглянув, как красиво бредёт между прозрачными облаками плоская луна, вступил в свой шатёр, присел в кресло, успел подумать, что, наверно, в самом деле большим сюрпризом станет для Карла новая перпендикулярная линия. А ещё, подумалось, совсем не догадывается швед о том, что сегодня, вернее, вчера вечером Новгородский полк, давно закалённый в сражениях, поменялся мундирами с полком новобранцев. Пускай догадывается король, где новобранцы. Пускай ударят...
Это было последнее, что успел подумать царь, и уснул в кресле, так и не раздеваясь и не снимая даже ботфорт, а протянув куда-то во тьму свои очень длинные ноги...
4
Королевские войска в свете трескучих факелов, на все стороны разбрасывающих от себя длинные колючие искры, выходили из-за серых во тьме валов такого огромного сейчас ретраншемента и строились в гулком ночном поле. С неба засиял чистый месяц. Факельный свет потускнел, но на месяц начали налезать коротенькие тучки, и в моменты их появления огонь в солдатских руках становился ярче и снова победно рассыпал свои длинные колючие искры, вырывая из полумрака суровые решительные лица, горбоносые лошадиные морды, длинные фузеи, сверкающие штыки.
Тяжёлой поступью, вздымая пыль, в приглушённых гортанных командах, вышла и остановилась там, где ей приказано остановиться, непобедимая доселе лейб-гвардия. За ней выступали Юнкепинский полк, Вестербоцкий, Далкарский, Ивермолянский, затем почти все пехотные полки. За ними на конях выехали драгунские — Гильдерштернский, Гельмский, Вертенбергский, Вернерштетский, — постепенно вышли почти все полки, а потом заторопились уже рейтарские: Ниландский, Зидершонский, Лифляндский, Остергоцкий и другие. Черкасская степь наполнилась незнакомыми ей мощными звуками. Везде слышались топот сапог, стук копыт, звон оружия, и эти выразительные звуки приглушали слова коротких хриплых команд.
Конечно, какие-то полки оставались под Полтавой и в самом ретраншементе, некоторые — в гарнизонах по сёлам да местечкам вокруг Полтавы. Точно никто не знал, кому выпало удерживаться от сражения, кто ещё должен был появиться в поле, но тем, кто оставался, сочувствовали все: они не пойдут в решительное сражение, которое покроет новой славой храброго короля и его полки, если, конечно, московиты не удерут, заслышав поступь королевской армии. Все знали, что к московитам должны подойти полчища диких калмыков, но король решил ударить сегодня ночью, и уже никакая сила не поможет разбитому и так никто не сомневался, что наконец Богом даётся возможность разбить в генеральной баталии армию московитского царя... Так говорили солдатам младшие офицеры, а младшим офицерам — полковники и генералы.
Король слышал разговоры полулежа-полусидя в кресле-носилках, за одну ночь изготовленном для него мастерами из обоза. Он часто пробовал шевелить изувеченной ногою, надеясь, что конечность станет послушной и лёгкой, с неё можно будет сорвать всё, что туда навертел лейб-хирург Нейман, однако нога по-прежнему болела и оставалась непослушной. Он дождался, когда из ретраншемента выйдут последние войска, и подал знак рукой. Драбанты понесли носилки от полка к полку.
Перед каждым полком кресло-носилки опускалось на землю. Король глядел на лица в касаниях факельного света и силился узнать хотя бы одного солдата, но не узнавал никого. Хотел о чём-то напомнить, но не был уверен, эти ли солдаты участвовали в той битве, о которой хотелось говорить, или же они пришли с более поздними пополнениями. Сначала призывал некоторые полки воевать так, как положено воевать за своего короля, а потом ощутил на зубах потрескивание пылинок и лишь глядел на всех проникновенно и бодро махал драбантам рукою.
Когда носилки пронесли перед всеми полками, короля охватила вдруг зависть: все эти солдаты на рассвете встретятся с врагом, грудь в грудь, а он не сядет на коня и не бросится в водоворот сражения! Правда, они могут и погибнуть, на то солдаты, не короли, а его оберегает сам Бог. Только Всевышний одновременно и предостерегает от чего-то, но от чего? Чепуха те разговоры, будто король не заботится о тылах. Александр Великий перед походом вообще раздал имущество своим друзьям... Завтра наконец московитский царь увидит большую часть шведской армии!
Драбанты поставили носилки на свежескошенное сено, привядшее под солнцем. Оно приятно пахло. Фельдмаршал Реншильд, граф Пипер, генералы Лагеркрон, Спааре тоже прилегли на природном ковре, а немного поодаль был слышен приглушённый бас Левенгаупта, хриплый голос Росса, тонкий и скрипучий — Шлиппенбаха, весёлый — Штакельберга.
Где-то далеко на холмах пылали костры. Их было достаточно и позади, там, где в осаде осталась Полтава, непокорённая ещё и сегодня, да что она предпримет завтра, если в ней так мало пороха, как сказал перебежчик из царского лагеря?
И впереди, над лесом, куда клонился за тучами месяц, где царский ретраншемент, тоже вроде бы возносилось сияние. Лес вздымался отвесным утёсом. Там ничего не разглядеть. Это одна из азиатских загадок, которую приятно разгадывать и которую обязательно разгадает король.
Фельдмаршал Реншильд говорил возбуждённо, даже торжественно, будто на военном консилиуме, и король воображал, как шевелятся отдельные части его толстокожего, совершенно изуродованного рубцами лица, как ходят на нём колючие седоватые усы. Голос фельдмаршала изменился с того момента, когда король позвал его к себе и приказал вступить в командование армией. Правда, не дал ещё никакой диспозиции на генеральное сражение, но она будет дана на месте. Надоумит Бог... Главное — натиск!
Фельдмаршал из мрака спросил:
— Ваше величество! Полагаю, вам припомнилась встреча персидского царя Ксеркса с его воинами. О ней рассказано у Геродота. Ксеркс заплакал: через сто лет, мол, никого из молодых воинов уже не будет на свете!
Граф Пипер почувствовал праздность вопроса. Безусловно, об этой ночи, как и о завтрашнем дне, всё будет записано Нордбергом, Адлерфельдом, Понятовским — они где-то здесь, возможно, прислушиваются к королевским словам. Эта ночь войдёт в историю. Фельдмаршал тоже надеется войти в историю; хочется предстать перед потомками образованным и осмотрительным человеком — вот и ссылка на Геродота... Но королю вопрос понравился. Он ответил, что отлично помнит это место у Геродота.
Фельдмаршал продолжал приятный разговор:
— Ваше величество! После сражения нам достаточно будет победить лишь те шесть сотен пленных саксонцев, которые поставлены царём для защиты Кремля!
Фельдмаршал громко захохотал. Граф догадывался, что и его величество немного растянул тонкие напряжённые губы. Накануне они все долго и нервно смеялись в королевском шатре над принесённой перебежчиком новостью: Кремль в Москве защищают пленные саксонцы! Все царские солдаты собраны здесь, под Полтавой.
— Конечно! — хохотал и сейчас фельдмаршал. — Прижмём их к речке. Будут прыгать в утреннюю холодную воду! Бр-р-р!
Граф начинал злиться. Несколько дней тому назад Реншильд уже склонялся к мысли, что стоит отойти за Днепр, выждать там, когда крымские татары начнут раздирать царские земли. Реншильд хмурил лицо, надвигая на глаза потную шляпу, но сегодня, получив почётное назначение, разогнал на лице рубцы. И как возразить, если все хотят генерального сражения? Действительно — поздно отступать... А победа подвигнет на действия крымского хана.
— Ваше величество! — заговорил Пипер. Зная, что сейчас можно заслужить благодарность, если провести параллель между Александром Македонским и Карлом XII, граф не стал этого делать, хоть отлично запомнил произведения древнего писателя. — Наверно, у нас так же тепло. Принцесса Ульрика, ваша сестра, возможно, глядит на этот самый месяц.
Следуя за королевскими носилками, граф видел освещаемых факелами шведских воинов. При колеблющемся освещении они казались древними духами, о которых ему, ещё маленькому мальчику, рассказывала мать, старая крестьянка. Он помнил её голос, даже когда разбогател и стал графом — всё благодаря личным заслугам перед государством, которые и сейчас высоко ценятся при дворе. Граф увидел свой замок недалеко от Стокгольма, свою молодую жену. Ему хотелось, чтобы и король припомнил родину, подумал наконец, какая ответственность ляжет на него, короля, завтра. Пусть ещё внимательней присматривается и прислушивается он к распоряжениям Реншильда. Пускай поскорее даёт диспозицию к баталии. Пусть использует при разработке её и такого опытного воина, как Левенгаупт.
Король не отвечал. Воцарилось продолжительное молчание. Стало слышно дыхание солдатских рядов. Солдатам разрешено было присесть на землю, но не разрешалось оставлять своих мест. Тишину разорвал голос фельдмаршала. Его поддержали Лагеркрон и Спааре. Даже Гилленкрок произнёс что-то льстивое сдавленным ото сна голосом. И тогда граф Пипер как-то неожиданно для себя самого, под этими чужими звёздами, совсем не похожими на шведские, на те, под которыми, возможно, стоит сейчас принцесса Ульрика, подумал, что именно льстивые разговоры и привели короля к сегодняшней непонятной ночи, за которой — загадочное утро. Что принесёт наступающий день королевским полкам? Победу — хорошо, а если... Ведь король, не имея пороха, взял из ретраншемента лишь четыре пушки. А сколько пушек выставят московиты? Правда, король возлагает надежды на неожиданность нападения. Но если московцы не прозевают? Ведь здесь их земля. Кто знает, не следят ли они и сейчас за каждым королевским передвижением? Что тогда скажут в Швеции первому министру графу Пиперу? Но что может изменить первый министр? На всё королевская воля. Если же будет пиррова победа... Московиты соберут новое войско, а король... А если поражение? Как тогда пробиваться к своим крепостям? Это будет похоже на анабазис, исход греков, так ярко описанный Ксенофонтом, когда десять тысяч эллинов после неудачного сражения пробирались на родину. Что ж, и это даст королю возможность помериться славою с героями античности.
Мысли графа растекались, вскоре ему стало страшно от них, однако он не мог укротить их потока, думал и думал.
Что, наконец, связывает со Швецией этого молодого человека, который уже девять лет не видел своей родины, который ушёл от неё восемнадцати летним с мечтою о славе Александра Великого? Возможно, он в самом деле отличный полководец. Это привычно для Швеции, давшей миру таких выдающихся полководцев, как Густав-Адольф. Если бы молодому королю довелось воевать против достойных противников... Король и теперь считает, что московитская армия точно такая же, какою она была под Нарвой.
Мо совсем иначе говорил о противнике Левенгаупт. Видно будет завтра... Тем временем судьба Швеции в руках молодого и беззаботного человека и его закалённых в сражениях воинов.
Во втором часу ночи, когда месяц спрятался за лесом, когда стало темно и жутко, король приказал вести полки. Первыми двинулись рейтары.
5
Кто-то во тьме тронул царя за плечо:
— Ваше величество...
На свечах качались слабенькие огоньки. Лицо фельдмаршала, в глубоких морщинах, очень старое и испуганное, показалось незнакомым.
— Шведы?
Царь с усилием подтянул затёкшие ноги.
— Ваше величество! — задохнулся Шереметев. — Гонец от Меншикова!
В одно мгновение царь выскочил из шатра. Правда, и в шатре слышались выстрелы, ещё ружейные, далёкие. Шведы должны были находиться на приличном расстоянии, поскольку пушки в редутах молчали, и хоть царь не допускал мысли, что шведы во мраке подкрались незаметно, обойдя конницу, что их приближение проворонил верный Данилыч, но тревога фельдмаршала овладела им, показалось, что всё вокруг, до мельчайшего стебелька на земле, в зареве пылающих с новой силой костров, в мощных сержантских криках, — всё уже находится в страшном напряжении, в том самом, какое он чувствовал в себе на протяжении нескольких дней.
Где-то за лесом поднималось солнце. Непрерывно гремела артиллерия. Уже стало известно, что шведы штурмом взяли два первых, ещё недостроенных редута, что их конница при поддержке пехоты отбросила русскую, — это не беда, кто не знает силы шведской конницы? Против неё не устоять Данилычу. Царь уже вторично посылал светлейшему приказ немедленно отводить полки на правый фланг ретраншемента, считая, что конница выполнила свою задачу, дала возможность полкам основного войска выстроиться к бою под защитой высоких валов.
Главное войско стояло ровными рядами, и солнечные лучи, переваливаясь через горы насыпанной земли, высекали на штыках ослепительные искры. Но светлейший не торопился возвращаться, а требовал поддержки, стремясь доказать, что конница при поддержке пехоты сломит шведскую и перейдёт в наступление. Как доказательство в царский шатёр внесли присланные Данилычем шведские знамёна. Однако царь не мог рисковать судьбою государства. Он принудил Данилыча отвести конницу под защиту артиллерии, поскольку знал, что светлейший в своей несдержанности похож на шведского короля. Принудить удалось таким способом, в котором Меншиков не заподозрил принуждения...
Быстро поднялось солнце, и при его свете царь заметил в подзорную трубу, что основные шведские силы сгрудились правее, возле Будищанского леса, а какая-то их часть, пробиваясь вдоль Яковецкого леса, под мощным огнём артиллерии начала прижиматься к опушке — конечно же, их отрезала продольная линия редутов! В круглом стёклышке подзорной трубы кружились, словно муравьи в муравейнике, синие мундиры, сверкали штыки. Царь с облегчением выслушивал донесения гонцов — всё подтверждало его предвидения. Тогда он продиктовал Макарову новый приказ, чтобы Меншиков с пятью кавалерийскими полками и пятью пехотными батальонами поспешил против отрезанных шведских колонн. В подзорную трубу какое-то время виделось отчаянно-весёлое лицо светлейшего, лица его молодцеватых офицеров и рядовых солдат. Потом всё исчезло в облаке плотной пыли.
А ещё какое-то время спустя из пыли вынырнул новый гонец:
— Ваше величество! Князь Меншиков взял в плен генерала Шлиппенбаха! Недобитые шведы ищут спасения в ретраншементе под Полтавой! За ними бросился генерал Ренцель. Князь возвратился назад и поставил свои полки на левом крыле ретраншемента!
«Там и стой! — подумал царь. — Дело! Всё решится именно сегодня!»
Царь наблюдал за полем сражения с высокого вала. Фельдмаршал Шереметев подъехал весь в пыли. Красный чепрак на коне превратился в серый, но даже из пыли глядели весёлые маленькие глаза на широком лице:
— Ваше величество! Ждём...
Царь не дал произнести ни слова, но резко и быстро приказал выводить полки из укреплений в поле. И ещё, глотая скупые слова донесений из разных концов огромного поля, вдруг понял, что необходимо срочно вселить в солдат уверенность, поскольку настало время, решающее исключительно всё.
Уже припекало солнце. Ровные ряды батальонов отливали блеском штыков. Солдаты еле заметно щурили глаза от сияния мундиров — за царём двигалось много генералов, прислушивающихся к его разговорам с главнокомандующим Шереметевым. Солдаты, в ожидании царских слов, посматривали на лес, на поля, будто старались угадать, под каким кустом, в каком месте придётся им встретиться с врагом.
И царь, не останавливая коня, крикнул:
— Воины русские! Не за меня сражение, но за державу, которую поручил мне Бог! Помните и сражайтесь достойно!
Речь получалась короткой. Он повторил её в нескольких местах, каждый раз взвешивая слова. И везде в ответ грохотало такое отчаянное «Ура!», что конь рвался вперёд. Немного дольше, нежели нужно, царь задержался против Новгородского полка, против солдат, одетых не в зелёные кафтаны пехотинцев, а в серые, снятые с новобранцев. Подумалось: «Выстоят? Молодые...» Но лишь подумал, как показалось, что солдаты едят его глазами, вот хотя бы этот белобрысый великан с могучими плечами и длинными мощными руками.
«Выстоят! — заверил царь сам себя. — Здесь новгородцы да псковичи. Они всегда воевали со шведскими захватчиками за свои земли!»
Русская армия медленно, ровными рядами двинулась на врага, выставляя перед собою ряды сверкающих штыков. Сверху, уже снова от шатра, царю было видно, как бросились навстречу шведские колонны. В подзорной трубе мелькнули белые носилки. Они плыли в передних рядах наступающих, можно было догадаться, что там король. Царь хотел рассмотреть своего главного противника, которого никогда не видел, но с которым провоевал уже почти девять лет, да от обоих войск вдруг поднялась такая густая пыль, что она мешала что-либо рассмотреть, а тут ещё ударила русская артиллерия. Показалось, пыль поглотила носилки, однако царь заметил, что шведы ударили в левый фланг его войска, как раз в первый батальон Новгородского полка. Там всё перемешалось. Ещё через мгновение под напором шведов серые кафтаны дрогнули и бросились назад — в прорыв всасывались синие фигуры.
— Коня!
Конь уже рядом. Это случилось так быстро, что царь толком ничего потом не мог припомнить, лишь помнилось, как взял несколько батальонов из второй линии, как рядом высоко взметнулось тёмно-коричневое знамя преображенцев с косым крестом Андрея Первозванного, и бросился с батальонами в тот ад, куда напирали шведы, помнил, что именно в то же мгновение везде взорвалось неправдоподобно громкое «Ура!». А некоторое время спустя он увидел, что шведы повернулись к нему синими спинами.
Высокий новгородец уцелел под пулями. Царь узнал его, завидев, как он вымахивает ружьём, словно крестьянскими вилами. Хотел подбодрить молодца, да того сразу же завертело в кровавом водовороте. От могучего «Ура!» царю стало легко, исчезло напряжение последних дней, и, когда мимо него, вслед за отступающими шведами, пронеслась конница, оказался рядом со всеми, ловил свист молодецкого ветра, свист пуль, и какой-то простой драгун в порыве больно задел его своим палашом, но не остановился, не смутился — это для него сейчас был просто свой, родной ему русский воин. Драгун лишь хлопнул ресницами и, не закрывая рта, полетел вперёд, взглядом приобщая царя к своему быстрому, как ветер, полёту.
Шальная пуля ударила в чёрную царскую шляпу, сорвала с головы, но не задела кожи, только резким холодом обвеяла вспотевший лоб.
Никто, однако, ничего не заметил. Всё по-прежнему неслось вперёд. Передние драгуны уже сшиблись со шведскими, начали схватку смело, молодцы. Всё снова окуталось пылью, дымом. В этом хаосе засверкали сабли, как в тучах сверкает солнце. И ещё откуда-то — навстречу или сбоку, не понять — посыпались с шипением ядра. Несколько драгун упало вместе с конями. И царь подумал, что если бы и он так же свалился, то не оглянулись бы и на него, что теперь всё зависит от воли и желания этих людей. И он, царь, должен быть доволен тем, что ему удалось много сделать для этой великой и близкой уже победы.
6
Мазепа не слышал, как шведы уходили на битву, а ждал в их ретраншементе знака для собственного бегства, ещё точно даже не зная куда. Знал, что дорога открыта лишь на Перевалочную, и мучился мыслью, что царь неспроста оставил свободной только эту дорогу, а все прочие уставил войсками Скоропадского да своими кавалерийскими полками — готовил царь западню, надеясь на свою победу? В Перевалочной, Мазепа ведал, недавно похозяйничали царский полковник Яковлев да охотный полковник Гнат Галаган, когда вели на Сечь полки для её захвата и уничтожения в ответ на акции гордиенковцев...
Орлик тоже забыл, что такое сон. Коней не отпускали от возов, хотя вслух никто и не заикался о бегстве, поражении, а все наперебой хвалили королевские мудрые распоряжения. Король долго молился в походной церкви. Его лицо прояснилось, он по-отечески улыбался солдатам — Бог показал ему хорошие знаки именно тогда, когда длинные пальцы сжали белое распятие... Обо всём этом громко рассказывал Орлик, прислушиваясь к звукам сражения. Мазепа понимал, что Орлик прячет свою смертельную тревогу. Но гляньте и на короля без короны, горько смеялся сам над собою Мазепа. Зачем старание, коли придётся так же лечь в землю, как ложится в неё простой казак, которого не сжигают заботы о короне, о безграничной силе над людьми, которому зато можно спокойно посидеть часок-другой возле жужжащих пчёлок...
Эх, всех провёл, казалось, Мазепа. Начал с тонко образованного на европейский манер Василия Васильевича Голицына, которого ценила и лелеяла тогдашняя московская правительница Софья. Начал с опаской, но добился, что гетмана Самойловича увезли в Сибирь. А затем пошло... И соперника Палия — туда же. Да что с того? На пути стали хлопы. Думалось: старшины, богатый люд погонят хлопскую отару туда, куда прикажет гетман. Богатый люд и послушался бы, да испугался страшной московитской силы. Где теперь сотники Ониско, Деркаченко, Макогон? Или хлопы убили, или в плену московитском... А полковники, генеральные старшины... Кто здесь остался? И пальцев на одной руке для них много. Войнаровский, Горленко, ну, Быстрицкий... И Франка, получается, гетман не перехитрил. Дурак.
— Франко! — позвал.
Франко сполз с воза на землю, приблизился. В глазах — уважение к хозяину. На протяжении двадцати лет ничего не меняется в старом человеке. И такого не обмануть — для его же пользы, Господи! — подобного Франка, Петра, Ивана? Тьфу!
— Иди! — бессильно опустилась рука. — Кажется, время трогаться.
На лице старого слуги прорисовался испуг. Что-то собирался он сказать, да не смог. Отошёл молча.
Да, далеко глядел проклятый Хмель, присоединяя Украину к Московии. Теперь их не разделить огнём. Одна вера — это сила.
В Московии выросла мощь. Они, в Европе, не знают... Шведский король ещё и сейчас не знает... Когда-то, когда московское и казацкое войска под командованием Василия Васильевича Голицына шли на Крым, Голицын говорил, что он мечтает провести в Московии большие перемены, они превратят армию и государство в огромную силу. Мазепа в душе потешался. Василию ли Васильевичу поднять безграничную Русь? Но царь Пётр... Да нет, не в том дело. Просто в подходящее время он стал царём.
Внимательно всматривался Мазепа в Орлика. Догадывается ли тот, где бербеницы с золотом? Да и самому страшновато, как бы в спешке не перепутать возы, потому что хотя везде верные возницы, из надёжных сердюков, но начнись заваруха... Что значит Мазепа для короля без своего золота?.. А Орлик? Гонор, гонор у него, безумная вера в себя, а и он будет ходить возле золота как собака на цепи. Главное — не дать ему ничего в руки. Вон как шастает глазами.
А как не почувствовать благодарности к шведскому королю хотя бы за то, что для защиты обоза выделены им две тысячи воинов, когда они вон как нужны на поле битвы. То ли о своём добре больше заботился король — и его казна ведь на возах, — то ли он по-прежнему верит в свою победу? Верит, кажется.
Полковник Гусак с есаулом Гузем отпросились на битву. Будут делить, говорит, после сражения царские обозы. Пусть! И Герцык, оказалось, тоже жаден, тоже отправился с ними.
А ещё обеспокоен Мазепа своей чудесной парсуной. Иногда ему кажется, что какая-то часть его самого перешла в малеванье. Он смеётся над теми, кому подарил в знак большого уважения своё изображение. Всем говорено: вот это оригинал, написанный зографом Опанасом, но в самом деле то все копии, сделанные в ближних отсюда монастырях искусными мастерами. Доски же, на которых выполнено привезённое когда-то Гусаком изображение, Мазепа время от времени приказывает Франку поворачивать тыльною стороною, чтобы убедиться: перед ним настоящая работа, взятая из какой-то там чернодубской церкви. Он, Мазепа, уже решил, что никогда, до смерти, не расстанется с дорогою парсуной.
Светел чуб и блестящ Орликов ус — видел то и Мазепа из своей кареты, — да всё то потемнело от пыли, жена и дети не узнают, приближаясь.
Орлик не глядел на карету Мазепы. Орлик стал похожим на искалеченного петуха, не на орла, как прежде, ещё недавно, — сам понимал. До конца дней своих не простит он старику, что тот до сих пор не сел на престол. Пусть сначала под шведскою рукою, даже под польскою. А всё же был бы сам себе паном. Иначе зачем отрывал Украину от русских? А умирая — сколько там ему ещё жить? — кому бы оставил власть и богатство? Разве пришелеповатому Войнаровскому? Или глуповатому Трощинскому? Слава Богу, Трощинский не показывает сюда носа. Как только возвратился он из Польши, царь приказал взять его до секвестра. Так что всё досталось бы Орлику. По элекции стал бы гетманом. А Войнаровский болтается между возами — дурак дураком. Нет и мыслей о булаве гетманской. Лишь девчата в голове — этим похож на своего дядю в молодости. Правда, есть ещё Горленко, ещё недавние сотники, а теперь полковники — Гусак, Герцык... Но последним достаточно полковничьих перначей. Полковниками потому и стали, что мало возле гетмана прежних полковников. А Горленко тоже к булаве не рвётся.
Отчаяние запускало Орлику в душу острые когти. Чёрное, как воронье. Жизнь потратил Мазепа, а ничего не достиг. Не создал своего государства. Так что сколько Орликовых жизней уйдёт... Зачем же манил, старое пугало?..
Потому и напивался снова в последние дни Орлик. Потому и жене своей ничего не советовал, так и ушла к карете, готовая к бегству. А он ещё плакал когда-то перед Мазепой, плакал больше от восторга, вместо того чтобы скорее взять старое пугало за хилое горло... Так хитрил, что, когда правду захотел сказать, когда захотел открыться, никто уже ему и не поверил. Не сумел удержать тогда Батурин. Не переманил нерешительных старшин... Дурак!
Только помогло бы? Если бы и всю старшину переманил? Ой, нет! Без хлопской силы... Нет! А коли так — не стоило и начинать пока! Суета сует. Таки дурак Мазепа... Теперь надо будет всё начинать сначала. Только уже не Мазепе.
Они и не опомнились, как на ретраншемент, на обозы с крикливыми маркитантами надвинулось облако пыли. И хотя Мазепа ещё не различал, кто именно несётся в пыли, однако запричитал:
— Трогай! Где Гусак? Взяли мою парсуну?
В пыли начали различаться конные гордиенковцы. Они указывали шведам дорогу.
Мазепа успел подумать, что сейчас и у Гордиенка, проклятого, тяжело на сердце, но сам уже не мог дожидаться короля — тому и в плену королевская честь и обращение, а с Мазепой...
— Трога-ай!
Старый Франко упал на колени и вскинул руки, словно перед иконой:
— Пан гетман! Позволь умереть на родной земле!
Кони вздымали над стариком копыта. Возница сидел бледный. Дрожащие серые губы не могли произнести ни одного слова.
— Трогай! — взвизгнул Мазепа. Вырвал у возницы вожжи и направил коней в высокую рожь, посеянную осенью каким-то простодушным хлеборобом, который надеялся собрать урожай. В другой карете на какое-то мгновение бледным пятном мелькнуло Орликово лицо. От страха или от боли, но у него опустилась нижняя челюсть. Он не мог даже сидеть, голова его заваливалась... Ему уже не было никакого дела до воза с золотом, хотя тот воз повернул следом за его каретой.
На бербеницах с золотом торчал верный Мазепин слуга. Торопились на баских конях Войнаровский, Горленко, Быстрицкий, Гусак с есаулом Гузем, Герцык вот и всё, что оставалось от гетманства, от хитрых замыслов, если не считать великого множества простых перепуганных казаков да ещё гетманской парсуны в красном жупане...
7
В то утро полтавские люди укрыли собою крепостные валы, истоптанные, кажется, до самой ничтожной былинки. За Яковецким лесом, за Крестовоздвиженским монастырём не унимались пушки. Везде сновали всадники, исчезая между деревьями, а из лесов вырывались дымы, клубились над землёю, и за ними ничего нельзя было различить, кроме того, что внизу за валами в своих шанцах неспокойно вертят головами долговязые шведы. Врагов возле крепости кишело так много, что идти на них означало бы большой риск: в Полтаве почти не осталось пороха. Сколько его ещё можно наскрести, знал разве что полковник Келин — он тоже стоял на валу, весь напряжённый и сгорбленный, припадавший к старинной подзорной трубе, упёртой одним концом в кучу мешков с землёю. По окаменевшему лицу полковника пробегали выразительные судороги.
Не сразу полтавцы поняли, что шведы начали удирать. Но над шанцами поднялся жёлтый дым, смешиваясь с чёрной пылью, которая валила от битвы.
Заржали кони, заскрипели возы. И тот дым и пыль, смешавшись, тучами потянулись в сторону Днепра, свидетельствуя, что враги начали оставлять укрепления.
— Открывайте ворота! — первый опомнился Охрим, криком давая толчок людям. — Наша победа! Догонять!
Охрим с Микитой не сбежали, а скатились с вала.
Полковник в подзорную трубу видел больше, нежели люди своими глазами. Он подал команду, ещё сильнее сгорбившись, согнувшись в дугу, будто и теперь не верил, что пришла победа. Солдаты внизу открыли дубовые ворота, отбросив перед тем от них брёвна, каменные плиты, старые изломанные возы, — и все полтавские защитники с таким порывом высыпали на дорогу, по которой не приходилось ходить и ездить столько дней, так уверенно бросились догонять врага, что для Петруся этот день превратился в длиннейший счастливый год, а не день. Он не запомнил, где взял коня, — счастье отшибло память, и хотелось лишь встретить братьев, друзей, поделиться с ними радостью, потому что какая это радость для Дениса, для Марка, для братьев-староверов, для первого встречного казака или русского. В памяти у Петруся уцелело лишь то, что он на коне влетел в лагерь Мазепы и сразу же возле глубокой канавы увидел там гетманскую парсуну, лишь немного повреждённую конским копытом, и успел подивиться, что никто больше не обратил на неё внимания. Он спрыгнул с коня и начал остервенело рубить изображение саблей, будто живого врага. Солдаты вокруг посмеивались, что-то говорили, вроде подбадривали, а он пинал и пинал её сапогами, пока наконец не понял, что перед ним вовсе не то, о чём думалось.
— О Господи! — вырвался из него крик.
Под белым левкасовым подмалёвком на доске открылся слой красной краски, а он туда такого не клал. Повернул ещё уцелевшие остатки досок — не то. На своих досках он запоминал каждый сучочек, каждый изгиб древесного естества...
— О Господи!
Да, вспомнилось, старый зограф Опанас говорил не раз, что удачные парсуны вельможам размножают придворные зографы. Петрусю стало страшно: Мазепа мог приказать сделать сотни изображений, и теперь они гуляют по свету, разносят его, Петрусевы, ошибки, его грех умножают среди людей...
От бессилия казак опустил саблю.
И тут кто-то явственно сказал за его спиною:
— Понимал бы ты, казак, что делаешь. Тебе ли судить такого человека?
Петрусь быстро оглянулся — ему показалось, что между зелёными кафтанами русских мелькнули чьи-то длинные красные рукава, мелькнули и быстро пропали.
— Господи! — снова перекрестился Петрусь. — Дай мне разумения...
А тем временем мимо полтавских валов в недавние шведские укрепления солдаты и казаки сгоняли пленных. Вели гордых высоких генералов в пышных париках — поодиночке и кучками, вели офицеров, вели людей в роскошном панском одеянии, безоружных, невоенных, или даже простых людей — тоже невоенных, всяких маркитантов, гендляров; рассказывали, что ищут самого короля, поскольку царь приказал привести его побыстрей, чтобы заставить подписать мирное соглашение. Шведская толпа от бесчисленных мундиров переливалась живой радугой.
На следующий день после баталии царь в сопровождении генералов и гвардии въезжал в Полтаву, сидя верхом на том же коне, на котором накануне вёл солдат на врага.
Снова занялся горячий солнечный день. Полковник Келин, худой и длинный, переодетый в новый мундир с блестящими железками и шнурками, который оказался ему очень просторным, ровными цепочками выстроил своих подчинённых, тоже принаряженных, со сверкающими штыками на ружьях, а полтавцев поставил по обеим сторонам дороги, по которой приближался царь.
Поравнявшись с полковником, царь, бледный, с запавшими глазами, спрыгнул с коня, подбежал к побледневшему пуще прежнего полковнику и, не слушая его рапорта, трижды,
по-русски, поцеловал его в губы, после чего полковниково лицо стало наливаться кровью, сурово сжатые губы обмякли и расползлись в улыбке. Царь поднял над головой шляпу, замахал ею перед полтавцами, словно собирался обнять всех защитников, как только что обнимал и целовал полковника, что-то кричал, благодаря за верность и мужество, да его слова уже терялись в рёве толпы, в конском топоте и в гуле церковных колоколов...
Петрусь, торчавший в рядах полтавцев, неожиданно приметил среди царской свиты старого Яценка, к удивлению здорового, даже румяного, — не поверишь, что полгода назад этот человек казался трупом. Казак шагнул вперёд, надеясь обратить на себя внимание купца, отозвать его и расспросить о батьке Голом — что-то должен знать старик, поскольку зимой они уехали в одних санях... Где же разлучились?.. Но Яценко, заметив Петруся, вдруг отвернулся, делая вид, что не узнал казака.
«Запанел дядько Тарас, что ли?!» — не мог сообразить Петрусь.
Удручённый тем, что произошло вчера с парсуной Мазепы, смущённый таинственным голосом, который вчера вроде бы укорял его за то, что он старается уничтожить гетманскую парсуну, Петрусь провёл ночь под расщеплённой ядром дикой грушей, стоящей на краю небольшого сада. Проснулся совсем недавно, под птичье пение. Солнце поднялось уже высоко. Он побежал было поесть каши, заранее вытаскивая из-за голенища деревянную ложку, однако на привычном месте завтрака не обнаружил. Нет, пузатые котлы по-прежнему выставляли напоказ чёрные бока, в которых отражалось солнце, да возле них не топтались задымлённые кашевары. Старый жебрак, копавшийся в остатках обсыпанной мухами еды, — вчера он с дубиной торчал на валах, помогал отбивать шведов! — прошуршал беззубым ртом, что кашевары больше не будут здесь ничего варить, теперь войны нет, пускай каждый сам заботится о своём животе. Петрусь не хотел верить старику, настолько уже чувствовал себя объединённым со всеми полтавцами, но услышанное было похоже на правду.
Теперь у казака урчало в животе. Накануне пришлось лечь без ужина, тогда не хотелось идти к кашеварам — такая навалилась усталость. К тому месту, где Петруся зажала полтавская толпа, докатилась новая волна пышных всадников, а когда наконец дорога освободилась настолько, что можно было пробиваться дальше, подскочил очень ловкий молодой казак, из тех, которые вертятся возле больших панов, — чистенький, выбрит, усы кверху, одежда — что надо!
— Тебя кличет мой пан!
Закричал громко — на обоих обратили внимание.
— Какой пан? — безразлично ещё переспросил Петрусь, полагая, что молодчик просто обознался.
— Ты Журбенко Петро? — уже тащил казак за рукав. — А мой пан — Яценко. Вот... Пошли... Теперь он возле самого царя... Ты его слушай!
Сидя верхом на красивом коне, покрытом красной попоной, Яценко силился сделать вид, что вовсе не собирался вести разговор с простым казаком в обожжённой одежде, ведь рядом с ним самим важные паны, царские генералы — они вот-вот обратятся с вопросом. И сам Яценко одет роскошно. Бёдра обтянуты белыми плотными штанами, сапоги с раструбами, а кафтан украшен золотом. На голове широкополая шляпа с выгнутыми, как у петуха на хвосте, перьями, из-под шляпы на щёки, снова пухлые, как и прежде, сизые от доброго бритья, свисают длинные волосы — не его, тёмные, правда, хоть и подбитые сединой, а чужие, рыжеватые, нарочито туда примощённые и закрученные по-пански, у панов это называется «парик». И усы подрезаны плотно, словно намалёваны скуповатой кистью... Пан перед тобою — и всё.
— Казак, — процедил сквозь зубы Яценко, посматривая на пышные мундиры, за которыми сам царь размахивает шляпой и громко кричит от счастья. — Успел я прислужиться его царскому величеству своим скарбом и умением в негоции. Про скарб ты знаешь... Царь посылал туда большой отряд драгун. А за хорошую службу подарил мне Чернодуб. Там моя мельница, знаешь. Сегодня гетман Скоропадский напишет универсал на вечное послушенство тамошнего люда.
Петрусь не мог поверить, что всё это говорит дядько Тарас, которого он знает с малых своих лет, который держал его на руках. А теперь...
— Как же?.. Чернодубцы хорошо воевали... Компут...
Яценко по-своему понял замешательство казака, собирался утешить, поворачивая коня к нему уже чёрным блестящим боком.
— Мало там людей — так новых пригоню. А ты не падай духом, запишу тебя в компут. Ты мне помог. Отца твоего помню... И братьев твоих запишу, если не навредили себе. Особенно про Марка сомнения... А тебе сразу занятие. Знаешь, царю принесли Мазепину парсуну, сказали — из чернодубской церкви, — такой славной работы, что царь, при всей своей ненависти к Мазепе, приказал её беречь. То не твоё малевание? А пока я должен строить в Киеве арку — такие ворота, где народ будет встречать победителей... Так хочу угодить царю. Ты намалюешь там людей. Вот хоть бы Палия. Царь хочет его утешить. Теперь у нас будет новая жизнь. Дураками не будем.
Петрусь отвернулся, не слушая. Яценко сначала говорил спокойно, затем его хриплый голос возвысился. Услышанное никак не вязалось с сегодняшним весёлым днём... Нет сотника Гусака, думал Петрусь, нет Ониська, эконома Гузя, нет самого Мазепы — так неужели будут новые кровопийцы и среди них даже дядько Яценко? Что сказал бы он своему побратиму Ивану Журбе, вместе с которым когда-то воевал? Неужели сознался бы, что теперь будет хозяином над казацким Чернодубом — вольным селом?
Люди весело кричали и махали руками в ответ на царские обещания всяких привилеев для полтавцев и для всех казаков, которые верно служили отчизне, которые потрудились для большой победы, а Петрусю очень захотелось броситься в лес, бежать, лететь на крыльях вплоть до Чернодуба, чтобы встретиться там с Галей, рассказать девушке об опасности, которая ждёт и её: она же должна стать собственностью пана Яценка, быть у него в вечном послушенстве! Нет, этому не бывать!
Пешком до Чернодуба не добраться. Нужно искать брата Дениса, взять у него коня. Он где-то здесь, возможно, среди тех вояк, кто преследует врагов. Но с другой стороны посмотреть: Денису, хвастался, тоже обещан универсал на хутор... Брат заслужил награду, но те люди, которые пойдут в послушенство, разве они сидели сложа руки? Как же так? И как могли появиться в голове надежды на спокойную жизнь где-то на монастырском подворье? Как можно думать о красках, когда на земле начинается новая беда для близких людей?
Правда, от слов Яценка про малевание перед глазами возникла белая левкасная стена. Бери кистью краски из маленьких глиняных горшочков и твори. А малевать есть что. Как живой помнится зограф Опанас... Но... Казак собирался отойти подальше от бойкого места, как вдруг его взяли за рукав. Оглянулся — два солдата с белыми полосами через широкие плечи. За ними — старшой в высокой шапке, начальник с железкой на груди и шпагой на боку.
— Журбенко Пётр? — спросил начальник, выставив длинный палец в белой перчатке.
В толпе мелькнуло лицо щеголеватого казака, который недавно водил к Яценку, — понятно, чья работа. А взгляд у старшого не то чтобы сердит, но в нём, как и в жесте длинного вытянутого пальца, настоящий металл.
— Следуй за нами! И не трусь! Ты взят для малеванья.
Один солдат уже отцепил казацкую саблю, другой выставил перед собою своё ружьё, будто пленили шведа или мазепинца.
— Иди! Иди! Не трусь.
Вели сквозь толпы людей. Те не обратили внимания. Однако если обращали, то ругали, иногда с подчёркнутой ненавистью: такой молодой, а уже продался?
Одного солдата Петрусь знал: был в крепости. Защитников Полтавы легко узнать хотя бы по тёмному цвету лица, по ранам, не успевшим затянуться... Вглядевшись внимательней, он сделал вывод, что и второго солдата видел на валах, что они оба не раз сражались рядом. Как же теперь... Сопровождавшие молчали.
Сначала Петрусь намеревался юркнуть в кусты, в толпу, может, и не будет погони, не злодей, а чтобы стрелять — разве станут? В такой день? Но постепенно подобное намерение исчезло.
— Куда ведёте? — спросил.
Вместо ответа начальник махнул рукою в белой перчатке.
Вывели из крепости. Чудом уцелевшая хатёнка за холмом, с разорванной соломенной стрехой, уже превратилась в шинок. Там торговали горелкой. Прыткая шинкарка, выскочив на перекосившееся крыльцо, замахала навстречу обеими руками, приглашая гостей.
— Кто это? — спросила с тревогою в голосе, указывая глазами на Петруся.
Старшой, не отвечая, взял из её рук чарку и кусок хлеба, затем разрешил своим подчинённым тоже войти в шинок. Там собралось немного людей, но они уже наполнили помещение своими голосами. Стража усадила пленника на скамейку между своими оголёнными саблями.
— Бери чарку! — почти силой втолкнули в пальцы синеватую стеклянную посудину. — Выпьем за нашу победу!
И Петрусь впервые в жизни влил в себя целую чарку жгучей жидкости.
Солдаты, их начальник, снявший белые перчатки, кричали: «Молодцы! Выдержали! Выстояли!» — и все трое, вместе с подвыпившими на радостях казаками, затянули песню о сизом орле над чистой степью — так, что и Петрусь, у которого сразу зашумело в голове, запел вместе со всеми, удовлетворённо вслушиваясь в свой голос, вплетающийся в чужие голоса, будто там белый голубок трепещет крыльями между сизыми голубями. И вдруг подумал: нет, нужно ехать в Киев, намалевать на тех будущих воротах подвиги казаков и солдат, всех людей, чтобы все надолго, навек запомнили, как били вместе врагов.
Один солдат, наклонившись лицом к Петрусевым глазам, возвратил ему саблю — память о товарище Степане, — ласково обнял, не переставая петь песню... Что ж, Петрусь поставит в своём малеванье именно этих молодых и пригожих парней, молодых, пригожих, но с обожжёнными огнём лицами, с рубцами, намалюет именно этих казаков в полотняных сорочках, и молодых, и немолодых, рассевшихся, обнявшихся за тёмным дубовым столом, пока что единственным в хатёнке, зато густо уставленным напитками. Он видел их ещё вчера на валу. Намалюет шинкарку с лоснящимися, словно блинчики из печки, щеками и какими-то искрящимися глазищами. Намалюет и полковника Палия... Намалюет множество виденного-перевиденного люда... А ещё постарается совсем по-иному изобразить Мазепу.
Петрусь встал со скамейки, вышел из шинка — поющие не останавливали. А когда он возвращался, на крыльце его встретила шинкарка.
— Ой, голубь мой! — зашептала она. — Я уже подумала, что и тебя на муки ведут.. Тут одного бандуриста — только что увели его — били, били...
— Били?
Шинкарка с опаской глядела на прикрытую дверь.
— За то, что Мазепу хвалил... И не отрёкся, завзятый, от своих слов, так и увели...
Шинкарка ещё что-то нашёптывала, хлопая огромными глазами, а Петрусю снова припомнился тот голос, который он услышал вчера за своей спиною, когда хотел уничтожить гетманскую парсуну... Да, нужно торопиться к краскам, а не прятаться от них, завертелось в голове. Нужно пользоваться наукой старого зографа Опанаса, вместе с людьми думать о будущем, искать спасения, как то всегда неутомимо делал батько Голый! Тогда и придёт новое понимание, что делать дальше, поскольку хоть и много чего перевидел казак за этот год, много передумал, а жизнь понять — ой, как много ещё нужно знать, ой, ой... Умно говорил зограф Опанас. Господи, помоги, чтобы снова не ошибиться.
8
С тех пор как царское войско вышло из своего ретраншемента, чем очень удивило короля, и выстроилось перед укреплениями, готовое к сражению, и как только король на лесной поляне под высоким дубом, ещё не веря в своё везение, приказал фельдмаршалу Реншильду бросить шведскую армию от леса, куда она попятилась после тяжёлого продвижения между редутами, — бросить её вперёд, хотя и граф Пипер, и генерал Левенгаупт, и генерал-квартирмейстер Гилленкрок умоляли возвратиться к Полтаве, не ввязываться сегодня в сражение, ведь так много солдат полегло перед редутами, которых никто не надеялся здесь увидеть, и значительная часть войска, отрезанная на правом фланге, под командованием генералов Росса и Шлиппенбаха затерялась в лесу, примыкающем к огромному полю, — с того времени сумасшедшая лихорадка начала трепать короля и уже не отпускала ни на мгновение, и всё последующее, что происходило с тех пор, было окутано красной густою дымкой, будто творилось во сне, и он, опомнившись, напрасно старался столкнуть с себя густой туман, разорвать его путы — ничего не получалось...
Правда, чётко помнилось, как полки из долины натужно двинулись вперёд, как уже в который раз побледнел от плохого предчувствия граф Пипер, как навстречу пошли московитские полки, как упорно били чужие пушки. Рядом падали драбанты, пока одно ядро со скрежетом не подбросило носилки. После того король упал на груду тел, поскольку некому было его держать. Свалившись, приказал вырвавшимся из кровавого месива поднять носилки на скрещённых пиках, чтобы все видели незадетого сейчас полководца... Затем будто провалился в тёмную яму...
Опомнился в карете графа Пипера. Самого графа не увидел. Волосатые и окровавленные руки хирурга Неймана придерживали ногу. Карету подбрасывало. Везде стоял шум.
— Ваше величество! — умолял испуганный Нейман. — Спокойно, ради Бога!
Нейман напомнил о ране.
В клубах пыли с обеих сторон от кареты двигалось войско. Грязные незнакомые солдаты... Гнули головы высокие усталые лошади... А солнце торчало почти там же, где висело тогда, когда короля поглотил мрак. Он ещё ничего не понимал.
— Где враг?
Наклонился бледный и невероятно исхудавший Лагеркрон. Под кожей выпирали острые скулы.
— Всё будет хорошо, ваше величество...
Это сказал Нейман, а сказанного Лагеркроном не было слышно. Король оттолкнул волосатые руки Неймана, кулаком ударил дверцу. Пыль ударила в нос, запершило в горле.
— Что всё это значит?
Со злостью в голосе ответил Гилленкрок, приставив к дверце своё измятое и чёрное от пыли лицо:
— Отступаем! В плену генералы, фельдмаршал Реншильд... Там и камергер Адлерфельд, ваш духовник, граф Пипер... Там казна, государственный архив... Гутман, говорят, удрал ночью с Терезой... Господи! Нас преследуют московиты!
Король хотел ударить ненавистное скомканное лицо. Гутман и Тереза... Неужели? Подозрения — не без оснований? Что она нашла в этом человеке с красивым лицом и красиво читающем латинские стихи Проперция и Горация?.. Пришлось пожалеть, что Гилленкрок происходит из древнего шведского рода, который известен почти всей Швеции.
Король должен был сдержать себя. Решительно, будто ничего и не случилось, приказал:
— Обратите полки против московитов! У нас достаточно свежего войска. Оно устало отдыхать в гарнизонах. Теперь пришло его время.
Сказал и припал к дну кареты. Никто из генералов ничего не ответил. Заслышав слова, сердито загомонили где-то рядом солдаты, да никто среди генералов не обратил на них внимания.
Один лейтенант с отчаянными, почти сумасшедшими глазами громко засмеялся и осмелился отрицательно покачать головою. Лейтенант прижимал к груди небольшую книжку в красном кожаном переплёте. Что-то припомнилось об этом лейтенанте. Какой-то красный снег...
— Где Гермелин? — Король запамятовал, что ему уже сказано о его секретаре.
— Ваше величество! — шептал на ухо Нейман и хватал за кафтан. Даже сквозь ткань чувствовались его холодные руки. — Ваше величество! Господь смилуется... Voluntas Dei nostri...
[33]
Король отвернулся к бархатной каретной стенке, прижался к ней лицом, чтобы ничего не видеть и не слышать. В горле стало сухо и горько. Тонкие губы содрогались. Он не мог их удержать. Как не имел сил лично повести армию туда, куда следовало. Не мог казнить Гутмана и Терезу... Ему осмелился не покориться лейтенант! Полководцу, который никогда не терялся перед опасностями. Хотя бы в этом сражении, когда полки неожиданно завидели перед собою такую линию редутов, которой! доселе никто ещё и никогда не встречал! Даже изрубцованное лицо Реншильда вмиг стало серым, как и его коротко постриженные жёсткие волосы. А король, не раздумывая, приказал сомкнуть ряды и пройти мимо редутов стремительным маршем. Только в том и заключалось спасение.
И вдруг припомнилось, что лейтенант, который сумасшедше захохотал в ответ на приказ, когда-то — за Гадячем, перед Веприком, встретясь в лесу, — рвался исполнять даже ещё не высказанное королевское желание. Что же случилось? Когда?.. Фельдмаршал проиграл сражение?.. Припомнилась и фамилия лейтенанта — Штром! Тогда, в опасности, он просил запомнить фамилию — она запомнилась... Этот лейтенант приносил и приносит плохие известия. За Гадячем он сказал, что московиты исчезли в лесу. Под Веприком известил, что драгуны Альбедила бегством спасаются от огня осаждённых... Его немедленно следует расстрелять! Король приподнялся, но не стал ничего говорить. Рядом нет даже драбантов, одни лейб-гвардейцы... Всё повторяется, всё совершенно такое, как и тогда, за Гадячем. Лишь тогда выла непогода, а сейчас припекает солнце.
Наконец повеяло прохладой. Карета остановилась на берегу какой-то реки. Король лишь выглянул — сразу догадался: могучая масса воды — это Днепр! Однако вынужден был дожидаться, что последует дальше, уверенный уже, что офицеры и сейчас найдут тысячи причин не вести армию в новое сражение, а он... И вмиг захотелось отделиться от этого немощного сейчас, без него, войска, от тех людей, вдруг ставших трусами... Даже удовлетворённо подумал о пленении фельдмаршала Реншильда, бездари, который с такою армией не добился победы над московитами, пожалел, что не в плену сейчас Гилленкрок, не там этот полусумасшедший лейтенант, все прочие ничтожества...
Он умолял Бога, чтобы быстрей удалось исчезнуть отсюда, и очень обрадовался, когда генералы, немного посоветовавшись и поразмахивав руками, будто кашевары возле котлов, приблизились кучкой и, волнуясь, вытолкали вперёд Лагеркрона. Лагеркрон, не поднимая глаз, сказал желанные для короля слова:
— Ваше величество! Просим вас переправиться через Днепр. Найдётся чёлн. Для гетмана нашли. Он со своим генеральным писарем и с верной старшиною уже на том берегу... Гордиенко тоже отплыл.
Нужно было сказать что-то весомое, лишь бы трусы не причислили его к своим родственникам, но в голове не отыскивалось мыслей, кроме ненависти к московитам, к Гутману и Терезе, кроме желания быть как можно дальше отсюда, смотреть и на своих генералов как на врагов. Пустяки, что пропала казна. Мазепа уже на том берегу — у него есть золото. Он даст взаймы... А солдаты... Что же... Кого Бог пожелает спасти — спасёт.
Король, не забывая, что каждое его слово теперь может стать находкой для истории, хотя рядом не было видно ни Адлерфельда, ни Нордберга, ни Понятовского, промолвил:
— Я не оставлю своих солдат.
Сказал и встревожился, полагая, что словам поверят, ухватятся за них, пожелают идти в бой не под его руководством, и стал умолять Бога, чтобы никто не проникся такой верой, чтобы все по-прежнему настаивали каждый на своём.
Бог смилостивился. Из толпы вынырнул удивительно свежий лицом Понятовский с чистыми кудрявыми волосами, галантно поклонился:
— Ваше величество! Сделайте это ради Швеции! Ради короны. Армия выполнит все ваши приказы, зная, что вы в безопасности. Отдавайте приказы. Московиты вот-вот появятся на холмах. Уже замечены разведчики. Царь Пётр захочет, пожалуй, использовать свой временный успех. Конечно, сейчас он пьёт водку.
Король, силясь сдерживать свой голос, чтобы никто не заметил, как он дрожит от радости и нетерпения, сказал, ни на кого не глядя:
— Во главе армии останется генерал Левенгаупт. Армию жду в Очакове... Со мною едут иностранные послы...
Сказанное относилось к Понятовскому. Никаких иных послов рядом не было и быть не могло.
Левенгаупт покорно склонил голову. Львиная грива стала ещё внушительней за эти несколько дней после поражения, поскольку в ней засели пыль, грязь, копоть, листья. Король пробормотал что-то относительно необходимости переправляться за Ворсклу немедленно, в татарские владения, куда не полезут московиты, но в том, как покорно склонилась голова Левенгаупта, как молча и хмуро глядели генералы, ему почудилось, что они все ждут, когда же он окажется на противоположном берегу Днепра, чтобы самим иметь возможность начать переговоры с московитами...
Короля поспешно спустили к воде. Рядом сопели генералы Спааре и Лагеркрон — они поплывут тоже. Левенгаупт всё время спотыкался на ровном месте. Он не приведёт армию под Очаков — уже окончательно был уверен король. За новое поражение или неудачные переговоры вина падёт на Левенгаупта, как за поражение под Полтавой — на Реншильда. Левенгаупт потерпел поражение под Лесной, что теперь говорить, — большое. Теперь уже нечего таиться...
Король смирился с мыслью, что эта армия для него потеряна, ещё раз повторил слова о переходе Ворсклы, но сам уже думал лишь о том, что скажут в Европе, прикидывал, как помешать, чтобы плохие известия слишком быстро не долетели до европейских столиц, — о том, пожалуй, может позаботиться умелый Понятовский. Он ободряюще кивнул Понятовскому, который уже садился в маленький челнок. Что ж, Понятовский сразу должен послать гонцов, пока московиты пьют на радостях водку. Нужно срочно написать письмо и в Стокгольм, успокоить принцессу Ульрику. У него лишь царапина на ноге, неудобно ездить верхом...
На днепровском берегу ещё никто не знал, что на далёком холме на усталом коне уже появился князь Меншиков. Глядя в подзорную трубу, Данилыч озадаченно присвистнул. Он привёл с собой всего лишь девять тысяч кавалеристов, всех исключительно на таких же усталых конях, голодных, злых, тогда как шведов он завидел... тысяч двадцать, не менее... От обильной выпивки и неоднократного уже похмелья у Меншикова болела голова, но он был возбуждён тем, что в шведском ретраншементе удалось захватить королевскую казну. Его действиями под Полтавой очень доволен царь. Отправляя в погоню за шведами, царь нетерпеливо скрежетал зубами: «Мазепу, Данилыч, привези мне! Иуду этого... У!»
Итак, не долго раздумывая и хитро прищуривая глаз, Данилыч решил расставить своих всадников жиденькими рядами на всех холмах, чтобы создать впечатление, будто здесь много русского войска, как и под Полтавой, а сам уже мысленно сочинял ультиматум...
Действительно, минет совсем немного времени — и шведское войско, оставленное своим королём, без боя сложит оружие.
Этого, конечно, не мог знать шведский король. Это должно было случиться через несколько часов. А его и на днепровской воде била неумолимая лихорадка.
СЛОВА, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЯСНЕНИЙ
АДГЕРЕНТ — сторонник.
БАСАРИНКА — взятка.
БАТОВЫ — казацкие боевые ряды.
БЕРБЕНИЦА – бочка.
ВОЛОЦЮГА — бродяга.
ГЕНДЕЛЬ — торговля.
ГЕНДЛЯР — торговец.
ДЖУРА — слуга, оруженосец.
ДОВБЫШ — литаврист.
ДОНАТОР — попечитель, предоставивший средства.
ЗДРАЙЦА — предатель.
ЗАЖИЛЫЙ — зажиточный.
ЗАЛОГА — здесь: гарнизон, застава.
ИМПЕТ — натиск, атака.
ИНКЛИНАЦИЯ — вторжение.
КАЛАМАРЬ — чернильница.
КЛЕЙНОДЫ — знаки власти.
КОМПУТ — казацкие регулярные войска, воины которых внесены в реестр.
МЕНДЖУН — здесь: торговец.
ОСЕЛЕДЕЦ — здесь: чуб запорожца, длинная прядь волос на голове.
ПЕРНАЧ — знак власти казацкого полковника.
ПРОПОЗИЦИЯ — предложение.
РЕГИМЕНТ — здесь: территория гетманских полков, а также войско, базирующееся на этой территории.
РЕЕСТР — здесь: список воинов казацкого войска.
СЕКВЕСТР — здесь: арест.
СЕРОМА — беднейшие слои населения, неимущие.
СУПЛИКА — здесь: жалоба.
СПОКУТИРОВАТЬ — добиться, добиваться прощения.
ТАШЕМЕНТ — отряд, войсковое соединение.
ТХОРИК — здесь: кошелёк.
УНИВЕРСАЛ — гетманский указ.
ХАРЦИЗЯКА — негодяй, преступник.
ЦИДУЛКА — записка.
ЭЛЕКЦИЯ — выборы.
ЯТКА — палатка.
Примечания
1
Клянусь Богом!
(евр.)
(обратно)
2
Старимся вместе с молчаливыми годами
(лат.).
(обратно)
3
Гораций. Стихи
(лат.).
(обратно)
4
Покой (нем., лат.).
(обратно)
5
Счастлив, кого делает осторожным чужая беда
(лат.).
(обратно)
6
Ушедшая ночь
(лат.).
(обратно)
7
Проклятые хлопы!
(нем.).
(обратно)
8
Ещё раз! Вперёд!
(нем.).
(обратно)
9
Чужая беда
(лат.).
(обратно)
10
Я уже всё сделал, господин!
(лат.).
(обратно)
11
Это уже законы!
(лат.).
(обратно)
12
Королевская лейб-гвардия
(фр.).
(обратно)
13
Камердинер короля
(фр.).
(обратно)
14
Да здравствует!
(лат.)
(обратно)
15
Генерал-квартирмейстер
(фр.).
(обратно)
16
Королевский чтец
(фр.).
(обратно)
17
Много охотиться
(лат.).
(обратно)
18
Вести на охоту не желающих того собак
(лат.).
(обратно)
19
Героизм!
(фр.)
(обратно)
20
Слава войны и мужества
(лат.).
(обратно)
21
Божья воля
(лат.).
(обратно)
22
Жребий брошен
(лат.).
(обратно)
23
Да, господин!
(лат.).
(обратно)
24
Жечь мосты
(лат.).
(обратно)
25
Матерь Божья!
(польск.).
(обратно)
26
Мосты сожжены
(лат.).
(обратно)
27
Сносить холод и жару
(лат.).
(обратно)
28
Дальше, о дальше будьте, непосвящённые!
(лат.)
(обратно)
29
Королевский манёвр
(фр.).
(обратно)
30
Шедевр
(фр.).
(обратно)
31
Мой дар
(лат.).
(обратно)
32
Левенгаупт — букв, «львиная голова»
(нем.).
(обратно)
33
Воля нашего Бога
(лат.).
(обратно)
Оглавление
Пролог
1
2
3
4
5
6
Часть первая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Часть вторая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Часть третья
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Часть четвёртая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Часть пятая
1
2
3
4
5
6
7
8
СЛОВА, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЯСНЕНИЙ
*** Примечания ***


 тарику почудилось, будто в красном закатном мареве ожили люди, которых он уже не чаял встретить на этом свете.
Синеватый графин на столе сверкнул кровавым гранёным боком. Сосуд вскипел тосканским вином — напоминанием об угасшей юности, проведённой в далёкой Италии.
Старик почувствовал себя молодым, с чёрными кудрями на лёгкой гордой голове. А кудри давно поредели и стали белыми. Лицо обрюзгло, тело распухло, как пенное тесто.
— Пейте, гости дорогие... Пейте... А я...
Радостно человеку видеть своё утро. Но тяжело покидать милую землю.
Захотелось окликнуть ученика. Да губы только шепнули:
— Петро... Петрусь...
Взгляд набрёл на продолговатое лицо с большими глазами, на чёрную шапку в серых почему-то руках. Раздутые пальцы отыскали чужую узкую ладонь.
— Не забудь, Петрусь... Гетманову парсуну...
Красные люди, давние знакомцы, как выткались из ничего, так и растаяли без следа.
Некому было пировать, да и нечего было пить...
А через мгновение ученик содрогнулся: по скрюченным старческим пальцам растекался холод смерти.
тарику почудилось, будто в красном закатном мареве ожили люди, которых он уже не чаял встретить на этом свете.
Синеватый графин на столе сверкнул кровавым гранёным боком. Сосуд вскипел тосканским вином — напоминанием об угасшей юности, проведённой в далёкой Италии.
Старик почувствовал себя молодым, с чёрными кудрями на лёгкой гордой голове. А кудри давно поредели и стали белыми. Лицо обрюзгло, тело распухло, как пенное тесто.
— Пейте, гости дорогие... Пейте... А я...
Радостно человеку видеть своё утро. Но тяжело покидать милую землю.
Захотелось окликнуть ученика. Да губы только шепнули:
— Петро... Петрусь...
Взгляд набрёл на продолговатое лицо с большими глазами, на чёрную шапку в серых почему-то руках. Раздутые пальцы отыскали чужую узкую ладонь.
— Не забудь, Петрусь... Гетманову парсуну...
Красные люди, давние знакомцы, как выткались из ничего, так и растаяли без следа.
Некому было пировать, да и нечего было пить...
А через мгновение ученик содрогнулся: по скрюченным старческим пальцам растекался холод смерти.
 ождь, снег, мороз, наводнение — днём и ночью скачут по гетманщине всадники. Нынешней весною гонцы пересекают всю гетманщину, потому что казацкое войско во главе с гетманом ещё по льду перешло Днепр и рассыпалось по Белоцерковщине.
Земли на Правобережье вроде бы во владении польской короны. Однако после бури, прошумевшей при Богдане Хмельницком, польским панам не удержаться в поместьях. Одни хлопы ушли за Днепр, под русского царя, иные же надеются на атаманов, среди которых наибольшая слава была у хвастовского полковника Палия, — те держатся обжитых мест.
Палий собрал было значительные силы. Их как огня боялись и польские коронные войска, и татарские увёртливые шайки. Выражая волю подопечных, полковник стремился присоединить правобережные земли к России, да московский царь отвечал на просьбы уклончиво, ссылался на мир, заключённый с Речью Посполитой ещё его отцом, Алексеем Михайловичем, а потом подтверждённый как вечный мир 1686 года. Конечно же, такого соседа, вокруг которого кишат свободолюбцы, не мог терпеть Мазепа. Палий, твердил он, — бунтовщик, очень опасный для дружественных отношений двух великих держав. Воспользовавшись присутствием на Правобережье своих полков, Мазепа арестовал Палия и убедил царя сослать его в Сибирь...
Теперь земли на правом берегу Днепра кипят, может, по-прежнему, но нет уж там неугомонного атамана.
И гетман среди огромного войска чувствует себя в этих краях несколько спокойней.
Хотя это только со стороны смотреть — спокойней...
ождь, снег, мороз, наводнение — днём и ночью скачут по гетманщине всадники. Нынешней весною гонцы пересекают всю гетманщину, потому что казацкое войско во главе с гетманом ещё по льду перешло Днепр и рассыпалось по Белоцерковщине.
Земли на Правобережье вроде бы во владении польской короны. Однако после бури, прошумевшей при Богдане Хмельницком, польским панам не удержаться в поместьях. Одни хлопы ушли за Днепр, под русского царя, иные же надеются на атаманов, среди которых наибольшая слава была у хвастовского полковника Палия, — те держатся обжитых мест.
Палий собрал было значительные силы. Их как огня боялись и польские коронные войска, и татарские увёртливые шайки. Выражая волю подопечных, полковник стремился присоединить правобережные земли к России, да московский царь отвечал на просьбы уклончиво, ссылался на мир, заключённый с Речью Посполитой ещё его отцом, Алексеем Михайловичем, а потом подтверждённый как вечный мир 1686 года. Конечно же, такого соседа, вокруг которого кишат свободолюбцы, не мог терпеть Мазепа. Палий, твердил он, — бунтовщик, очень опасный для дружественных отношений двух великих держав. Воспользовавшись присутствием на Правобережье своих полков, Мазепа арестовал Палия и убедил царя сослать его в Сибирь...
Теперь земли на правом берегу Днепра кипят, может, по-прежнему, но нет уж там неугомонного атамана.
И гетман среди огромного войска чувствует себя в этих краях несколько спокойней.
Хотя это только со стороны смотреть — спокойней...
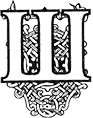 ведское войско, несколькими колоннами придвинувшись к Днепру, вступало в город Могилёв. Впереди, в блеске сбруи и оружия, скакала Gard du corps du Roy[12] — лейб-гвардия. За нею топали сапогами пехотные полки, везли пушки. Очень долго двигались обозы с генеральским имуществом, с королевскою казною, офицерским скарбом, крытыми повозками интендантов, с шумными кёнигсбергскими купцами, торговцами, всякого рода маркитантами и маркитантками, менджунами. На многих повозках смеялись белозубые горластые женщины и размахивали чёрными ладошками ребятишки. В нескольких каретах проехали королевские любовницы, среди которых осмелилась улыбнуться лишь белошейная и белогрудая Тереза. Ещё дольше гнали табуны лошадей. Потом покрасовались медными и стальными доспехами драгуны в высоких меховых шапках. А замыкали колонну рейтары.
Король с пригорка, от перекосившейся корчмы, в окружении нескольких хмурых драбантов рассматривал армию, уверенный, что никто больше не видел её во всей полноте и силе. Армия, припоминал, создана ещё умом короля Густава-Адольфа. Теперь можно гордиться ею, как турецкий султан гордится своим гаремом. Показалось, что сравнение стоило бы передать камергеру Адлерфельду, он — premier gentil homme de la chambre[13] — человек молодой, очень образованный, или духовнику Нордбергу (хм-хм!), чтобы они записали в свои книги, — они подробно описывают поход. Однако их не было рядом.
На корчемном дворе перед драбантами сидели в сёдлах только двое молодых генералов — Лагеркрон и Спааре. Они засмеялись, увидев королевскую улыбку. Засмеялись и другие генералы, как раз проезжавшие мимо пригорка, засмеялись и офицеры. Солдаты, как природные суровые шведы, костяк полков, так и остальное воинство — и поляки, и саксонцы, и волохи, — тоже воспринимали отзвуки королевской улыбки.
— Vivat! Vivat![14] — раздалось тысячеголосое.
Радоваться было чему. Вместо болот и лесов, мокрых, сплошь зелёных, открылись зеленовато-жёлтые поля. Дороги потянулись песчаные, древние, глубоко врезанные в суховатую землю, будто канавы, и в них уже не проваливались окованные железом тяжёлые колёса, и не приходилось разрывать строй, чтобы солдаты вытаскивали застрявшую телегу. Правда, кое-где виднелось много поваленных деревьев. То московиты устраивали преграды. Высланные вперёд королевские отряды поджигают завалы или прокладывают обходные пути. Над дорогами, на возвышениях, — сёла. Взяв из драбантовых рук подзорную трубу и наведя её с корчемного двора на слепящую полосу воды, король удовлетворённо разводил тонкие губы; впрочем, от него, как и всегда, редко услышишь выразительное слово...
ведское войско, несколькими колоннами придвинувшись к Днепру, вступало в город Могилёв. Впереди, в блеске сбруи и оружия, скакала Gard du corps du Roy[12] — лейб-гвардия. За нею топали сапогами пехотные полки, везли пушки. Очень долго двигались обозы с генеральским имуществом, с королевскою казною, офицерским скарбом, крытыми повозками интендантов, с шумными кёнигсбергскими купцами, торговцами, всякого рода маркитантами и маркитантками, менджунами. На многих повозках смеялись белозубые горластые женщины и размахивали чёрными ладошками ребятишки. В нескольких каретах проехали королевские любовницы, среди которых осмелилась улыбнуться лишь белошейная и белогрудая Тереза. Ещё дольше гнали табуны лошадей. Потом покрасовались медными и стальными доспехами драгуны в высоких меховых шапках. А замыкали колонну рейтары.
Король с пригорка, от перекосившейся корчмы, в окружении нескольких хмурых драбантов рассматривал армию, уверенный, что никто больше не видел её во всей полноте и силе. Армия, припоминал, создана ещё умом короля Густава-Адольфа. Теперь можно гордиться ею, как турецкий султан гордится своим гаремом. Показалось, что сравнение стоило бы передать камергеру Адлерфельду, он — premier gentil homme de la chambre[13] — человек молодой, очень образованный, или духовнику Нордбергу (хм-хм!), чтобы они записали в свои книги, — они подробно описывают поход. Однако их не было рядом.
На корчемном дворе перед драбантами сидели в сёдлах только двое молодых генералов — Лагеркрон и Спааре. Они засмеялись, увидев королевскую улыбку. Засмеялись и другие генералы, как раз проезжавшие мимо пригорка, засмеялись и офицеры. Солдаты, как природные суровые шведы, костяк полков, так и остальное воинство — и поляки, и саксонцы, и волохи, — тоже воспринимали отзвуки королевской улыбки.
— Vivat! Vivat![14] — раздалось тысячеголосое.
Радоваться было чему. Вместо болот и лесов, мокрых, сплошь зелёных, открылись зеленовато-жёлтые поля. Дороги потянулись песчаные, древние, глубоко врезанные в суховатую землю, будто канавы, и в них уже не проваливались окованные железом тяжёлые колёса, и не приходилось разрывать строй, чтобы солдаты вытаскивали застрявшую телегу. Правда, кое-где виднелось много поваленных деревьев. То московиты устраивали преграды. Высланные вперёд королевские отряды поджигают завалы или прокладывают обходные пути. Над дорогами, на возвышениях, — сёла. Взяв из драбантовых рук подзорную трубу и наведя её с корчемного двора на слепящую полосу воды, король удовлетворённо разводил тонкие губы; впрочем, от него, как и всегда, редко услышишь выразительное слово...
 щё недавно в гетманщине считалось, будто бы полтавцам всё равно, где там водит войско грозный шведский король. Им скорее можно ожидать прихода турок с татарами или даже ляхов. И ещё там опасность от внутреннего огня. Не поможет, в случае чего, и то, что в Полтаве — крепость, которую в 1608 году благоустроил польский коронный гетман Станислав Жолкевский для своего зятя Станислава Конецпольского. Высокие земляные валы, пять надёжных ворот: Подольские, Куриловские, Спасские, Киевские и Мазуровские. Предместья обросли хуторами, сёлами, чистыми прудами, густыми вишнёвыми садами да рощами. Они так и потянулись по-над Ворсклой, за Крестовоздвиженский монастырь, дальше, дальше, вдоль Диканьского шляха, и на юг — тоже. Но когда шведы вступили в гетманщину, умный человек не мог больше завидовать безопасности отдалённого города.
Сотник Зеленейский галопом пролетел через Куриловские ворота ко двору полковника Ивана Прокоповича Левенца. Стоя на крыльце между резными деревянными столбиками, выкрашенными в красный и синий цвета, сотник ещё весело смеялся, подрагивая толстым животом, чтобы каждый приметил весёлость и беззаботность на усатом широком лице, припорошённом дорожной пылью. Но стоило сотнику зайти в светлицу — сразу утишился мощный голос. Посеревшие губы испустили шёпот:
— Гетман у короля...
Полковник замер под окном на дубовой лавке, провалившейся в земляной пол многочисленными круглыми ножками и покрытой дорогим красным сукном.
— Погоди! — поднял полковник руку — знак джурам исчезнуть. — У короля, говоришь?.. Да...
Мыслей у Левенца и без того достаточно. Нелегко было столкнуть прежнего полковника Искру. Тот не угомонился, пока не потерял голову. Конечно, нового полковника избрали на раде криком казацтва, да что это значит: гетманов ум и деньги сделают так, что на пост изберут и чёрную ворону, не только человека! Подумать, то и самого гетмана... Так уж повелось на этом свете. Где золото — там и правда. А за полковником с тех пор следит столько гетманских глаз, что ему приходится вертеться мухой в кипятке. Вот и сейчас полковым писарем — Чуйкевич, брат генерального судьи Чуйкевича. А генеральный судья — верный слуга гетмана. Скажи что не так...
— Да... Да... Никому! Слышишь? — посоветовал хозяин гостю, немного придя в себя. — Ой, что начнётся!
Гость тоже опасался — у самого полно добра, на которое зарится голота.
— Обождём, — добавил хозяин. — Да... Да... Что скажет Сечь?
— Запорожцы в нашей корчме сидели. Поскакали, разведаем.
Полтавские полковники всегда оглядывались на соседнее Запорожье. Левенец посетовал в душе, что новость не залежалась в пути. Дошла бы, когда уже станет видно, кто прилепился к Мазепе. Получается, не очень верит гетман полтавскому полковнику, если доселе не намекал ему о союзе со шведами. А не сегодня задумано, нет... Возможно, на полтавское полковничество охота ясновельможному посадить иного человека.
Левенец хлопнул вспотевшими ладонями и приказал вбежавшему джуре пригласить полкового писаря да ещё своего зятя, сына бывшего, ещё до Искры, полтавского полковника — Герцыка.
К вечеру вся старшина знала, какие вести привезены сотником Зеленейским. На следующее утро к полковому городу стали собираться взбудораженные хлопы и казаки из окрестных сёл и хуторов. Сначала они заполнили предместье, корчемные дворы — с такими криками, что слышно было в крепости, — а затем ворвались в главные, Спасские ворота, открытые днём и ночью. Стража не получала приказа кого-либо не пускать. В крепости ворвавшиеся помяли кости нескольким казакам надворной хоругви, стали толпиться вокруг внутренних корчем. Раздались угрозы. Засверкало оружие. Поэтому полковник приказал Зеленейскому собрать казаков полтавской сотни, и выставил на своих воротах пушку. Давно снятая с городских валов, она до сих пор лежала в дальнем овине, старенькая, повреждённая во время последнего прихода турок; её годилось бы переплавить, но уцелела — хорошо. Не очень настреляет, зато напугать ещё в состоянии: не против татар выставлены. Против голоты.
Сотник понимал мысли полковника. Он расхаживал перед пушкой, размахивая саблей и хмуро глядя в сторону своего двора. Разнесу, если что... Казаки покрякивали и украдкой осеняли себя крестом, поворачиваясь лицом к золотым куполам Крестовоздвиженского монастыря.
Всё оказалось сделанным своевременно, потому что люд кипел возле корчем, ярился, взвинчивал себя, кружился вокруг церкви Святого Спаса, а в обеденную пору его уже ничто не удержало. Люд бросился к подворьям богачей так неожиданно, как бросается из чёрного горшка белое молоко, если посудину очень близко придвинуть к пламени... Полковник вместе с зятем Герцыком глядел на разъярённую толпу с душного и пыльного чердака своего дома, припадая лицом к маленькому окошку, где одни рамы, стёкол нет. Зятя приходилось сдерживать.
— Я возьму казаков и разгоню эту сволочь! — шипел тот.
— А если казаки не подчинятся?
Впереди толпы виднелись двое дебелых громил — Охрим и Микита.
— Их уничтожить первыми! — по-прежнему шипел зять, уже впиваясь пальцами в рукоять сабли.
С угрозами, но остерегаясь, баламуты миновали полковничье подворье, приумолкая перед пушкой на воротах. Левенец подумал, что богатым не удержаться в своих дворах. Спрятались — пусть уж лучше бегут в сторону Днепра. Оттуда, как с огромного перекрёстка, видно, куда подаваться дальше. А так, может, и ему, полковнику, не усидеть на дворе, если вздумает чинить народу преграды... Да... Да...
Он перекрестился, думая о душах знакомых богачей, и решил, что пусть деется с ними Божья воля, он им спасения подать не в силах. Кто знает, что будет завтра? Богачи просятся в подземелья, туда в старину полтавцы прятались от татар, но ведь там всё завалено камнями, чтобы не собиралась туда разная сволочь.
С чердака полковник с зятем спустился в светлицу, сел на лавку. Оглядел в окно крепостные валы. Чёрными во́ронами расхаживали там несколько казаков... Что валы, если в самом городе враг страшнее шведа?
Зять от бессилия закрывал глаза. Голоту надо бить. А чем?
щё недавно в гетманщине считалось, будто бы полтавцам всё равно, где там водит войско грозный шведский король. Им скорее можно ожидать прихода турок с татарами или даже ляхов. И ещё там опасность от внутреннего огня. Не поможет, в случае чего, и то, что в Полтаве — крепость, которую в 1608 году благоустроил польский коронный гетман Станислав Жолкевский для своего зятя Станислава Конецпольского. Высокие земляные валы, пять надёжных ворот: Подольские, Куриловские, Спасские, Киевские и Мазуровские. Предместья обросли хуторами, сёлами, чистыми прудами, густыми вишнёвыми садами да рощами. Они так и потянулись по-над Ворсклой, за Крестовоздвиженский монастырь, дальше, дальше, вдоль Диканьского шляха, и на юг — тоже. Но когда шведы вступили в гетманщину, умный человек не мог больше завидовать безопасности отдалённого города.
Сотник Зеленейский галопом пролетел через Куриловские ворота ко двору полковника Ивана Прокоповича Левенца. Стоя на крыльце между резными деревянными столбиками, выкрашенными в красный и синий цвета, сотник ещё весело смеялся, подрагивая толстым животом, чтобы каждый приметил весёлость и беззаботность на усатом широком лице, припорошённом дорожной пылью. Но стоило сотнику зайти в светлицу — сразу утишился мощный голос. Посеревшие губы испустили шёпот:
— Гетман у короля...
Полковник замер под окном на дубовой лавке, провалившейся в земляной пол многочисленными круглыми ножками и покрытой дорогим красным сукном.
— Погоди! — поднял полковник руку — знак джурам исчезнуть. — У короля, говоришь?.. Да...
Мыслей у Левенца и без того достаточно. Нелегко было столкнуть прежнего полковника Искру. Тот не угомонился, пока не потерял голову. Конечно, нового полковника избрали на раде криком казацтва, да что это значит: гетманов ум и деньги сделают так, что на пост изберут и чёрную ворону, не только человека! Подумать, то и самого гетмана... Так уж повелось на этом свете. Где золото — там и правда. А за полковником с тех пор следит столько гетманских глаз, что ему приходится вертеться мухой в кипятке. Вот и сейчас полковым писарем — Чуйкевич, брат генерального судьи Чуйкевича. А генеральный судья — верный слуга гетмана. Скажи что не так...
— Да... Да... Никому! Слышишь? — посоветовал хозяин гостю, немного придя в себя. — Ой, что начнётся!
Гость тоже опасался — у самого полно добра, на которое зарится голота.
— Обождём, — добавил хозяин. — Да... Да... Что скажет Сечь?
— Запорожцы в нашей корчме сидели. Поскакали, разведаем.
Полтавские полковники всегда оглядывались на соседнее Запорожье. Левенец посетовал в душе, что новость не залежалась в пути. Дошла бы, когда уже станет видно, кто прилепился к Мазепе. Получается, не очень верит гетман полтавскому полковнику, если доселе не намекал ему о союзе со шведами. А не сегодня задумано, нет... Возможно, на полтавское полковничество охота ясновельможному посадить иного человека.
Левенец хлопнул вспотевшими ладонями и приказал вбежавшему джуре пригласить полкового писаря да ещё своего зятя, сына бывшего, ещё до Искры, полтавского полковника — Герцыка.
К вечеру вся старшина знала, какие вести привезены сотником Зеленейским. На следующее утро к полковому городу стали собираться взбудораженные хлопы и казаки из окрестных сёл и хуторов. Сначала они заполнили предместье, корчемные дворы — с такими криками, что слышно было в крепости, — а затем ворвались в главные, Спасские ворота, открытые днём и ночью. Стража не получала приказа кого-либо не пускать. В крепости ворвавшиеся помяли кости нескольким казакам надворной хоругви, стали толпиться вокруг внутренних корчем. Раздались угрозы. Засверкало оружие. Поэтому полковник приказал Зеленейскому собрать казаков полтавской сотни, и выставил на своих воротах пушку. Давно снятая с городских валов, она до сих пор лежала в дальнем овине, старенькая, повреждённая во время последнего прихода турок; её годилось бы переплавить, но уцелела — хорошо. Не очень настреляет, зато напугать ещё в состоянии: не против татар выставлены. Против голоты.
Сотник понимал мысли полковника. Он расхаживал перед пушкой, размахивая саблей и хмуро глядя в сторону своего двора. Разнесу, если что... Казаки покрякивали и украдкой осеняли себя крестом, поворачиваясь лицом к золотым куполам Крестовоздвиженского монастыря.
Всё оказалось сделанным своевременно, потому что люд кипел возле корчем, ярился, взвинчивал себя, кружился вокруг церкви Святого Спаса, а в обеденную пору его уже ничто не удержало. Люд бросился к подворьям богачей так неожиданно, как бросается из чёрного горшка белое молоко, если посудину очень близко придвинуть к пламени... Полковник вместе с зятем Герцыком глядел на разъярённую толпу с душного и пыльного чердака своего дома, припадая лицом к маленькому окошку, где одни рамы, стёкол нет. Зятя приходилось сдерживать.
— Я возьму казаков и разгоню эту сволочь! — шипел тот.
— А если казаки не подчинятся?
Впереди толпы виднелись двое дебелых громил — Охрим и Микита.
— Их уничтожить первыми! — по-прежнему шипел зять, уже впиваясь пальцами в рукоять сабли.
С угрозами, но остерегаясь, баламуты миновали полковничье подворье, приумолкая перед пушкой на воротах. Левенец подумал, что богатым не удержаться в своих дворах. Спрятались — пусть уж лучше бегут в сторону Днепра. Оттуда, как с огромного перекрёстка, видно, куда подаваться дальше. А так, может, и ему, полковнику, не усидеть на дворе, если вздумает чинить народу преграды... Да... Да...
Он перекрестился, думая о душах знакомых богачей, и решил, что пусть деется с ними Божья воля, он им спасения подать не в силах. Кто знает, что будет завтра? Богачи просятся в подземелья, туда в старину полтавцы прятались от татар, но ведь там всё завалено камнями, чтобы не собиралась туда разная сволочь.
С чердака полковник с зятем спустился в светлицу, сел на лавку. Оглядел в окно крепостные валы. Чёрными во́ронами расхаживали там несколько казаков... Что валы, если в самом городе враг страшнее шведа?
Зять от бессилия закрывал глаза. Голоту надо бить. А чем?
 Петруся подкосились ноги: это же сотник Онисько сплёвывает тягучую слюну, вытаращив глаза. Он растолстел, глаза поблекли, широкое лицо распухло — много горелки выпил верный Мазепин слуга. Однако на нём дорогой жупан и дорогое оружие. Он у хозяина в большом почёте.
— Ещё не все передохли? — лениво сказал Онисько. — Га! Нам погреба нужны! Добра бы вам не было!
— Ещё живы! — отрезал Петрусь.
Он желал когда-то встречи с Ониськом, да не такой.
Онисько тоже узнал Петруся. Побледнел. Выхватил саблю и выругался:
— В Веприке пойман, гультяйская морда?
Ониськов ужас так же быстро развеялся, как и появился. Он уже ничего не боится на этом свете. Однако не хватило духу ударить узника даже нагайкою, хотя она тоже при нём.
Галя также всё это видела. К счастью, Онисько не узнал девушку в женской толпе. На весь погреб — один фонарь. Ещё один принёс с собой Онисько и поставил у входа.
— Крепкие стены... Зеньковские купцы знали, чего хотят...
Как только мазепинец отошёл, повторяя эти слова и присматриваясь к прочим узникам, — явно приплёлся из-за Яценка, не раскаялся ли тот, не поведает ли сегодня, где же скарб? — Петрусь прошептал Гале:
— Удирать надо.
Онисько с минуту простоял возле Яценка. Тот лежал словно покойник, с заострённым побелевшим носом. Сотник затопал сапогами но каменным ступеням, снова закрывая нос рукою и сплёвывая прямо на людей.
— Петрусь, — не могла оторвать Галя взгляда от страшного гостя. — У него же Степанова сабля.
Петрусь молчал.
Петруся подкосились ноги: это же сотник Онисько сплёвывает тягучую слюну, вытаращив глаза. Он растолстел, глаза поблекли, широкое лицо распухло — много горелки выпил верный Мазепин слуга. Однако на нём дорогой жупан и дорогое оружие. Он у хозяина в большом почёте.
— Ещё не все передохли? — лениво сказал Онисько. — Га! Нам погреба нужны! Добра бы вам не было!
— Ещё живы! — отрезал Петрусь.
Он желал когда-то встречи с Ониськом, да не такой.
Онисько тоже узнал Петруся. Побледнел. Выхватил саблю и выругался:
— В Веприке пойман, гультяйская морда?
Ониськов ужас так же быстро развеялся, как и появился. Он уже ничего не боится на этом свете. Однако не хватило духу ударить узника даже нагайкою, хотя она тоже при нём.
Галя также всё это видела. К счастью, Онисько не узнал девушку в женской толпе. На весь погреб — один фонарь. Ещё один принёс с собой Онисько и поставил у входа.
— Крепкие стены... Зеньковские купцы знали, чего хотят...
Как только мазепинец отошёл, повторяя эти слова и присматриваясь к прочим узникам, — явно приплёлся из-за Яценка, не раскаялся ли тот, не поведает ли сегодня, где же скарб? — Петрусь прошептал Гале:
— Удирать надо.
Онисько с минуту простоял возле Яценка. Тот лежал словно покойник, с заострённым побелевшим носом. Сотник затопал сапогами но каменным ступеням, снова закрывая нос рукою и сплёвывая прямо на людей.
— Петрусь, — не могла оторвать Галя взгляда от страшного гостя. — У него же Степанова сабля.
Петрусь молчал.
 ороль теперь лишь наведывался в панский дом в Великих Будищах, где оставались белошейная Тереза, духовник Нордберг, тафельдекер Гутман и прочие высокопоставленные придворные. Там он вдоволь мог насмотреться в глаза старого гетмана на парсуне, повешенной на самом видном месте. А так он жил в палатке на горячем берегу Ворсклы. Возможно, именно от духоты в палатке кто-то отважился намекнуть, что следует отойти к Днепру. Мысль высказывали почти открыто: теперь уже нет того абсолютного перевеса над противником, с которым король ворвался в царские земли... Когда это случилось? Как могло случиться?
Генерал Левенгаупт недавно настаивал на взятии Полтавы — теперь умолк, своим молчанием будто поддерживая слабых духом. А они заверяли, что позади не меньше московитского войска, нежели впереди: возле Сорочинцев Скоропадский держит черкасские полки; рядом с ним генерал Волконский с царской кавалерией; за Днепром посланный генерал Гольц уже соединился с враждебными королю поляками. Поляки прежде переходили к Станиславу Лещинскому, а теперь устремляются к Сенявскому. Если бы ещё царь решился на генеральную баталию, напоминали слабодушные, а то его войска лишь отсиживаются в казацких крепостях. Королевская армия уничтожит преграды на своём пути, соединится с войсками короля Станислава. Упованье не на польскую силу. Но где порох, ядра, снаряжение и обмундирование? Гендлярские ятки пусты.
Гендляры сидят в ожидании полтавских трофеев... Кто молчал, те тоже кивали головами: полное лето, а Москва далеко...
Короля выводило из себя упоминание о Москве. А вообще на консилиуме он был весь в мыслях. Все знали, что завтра день его рождения, поэтому торопились прислужиться, но почти всем, кроме фельдмаршала Реншильда, хотелось сказать одно и то же: нужно отойти. Правда, открыто высказался лишь Пипер. Ещё о том красноречиво свидетельствовало и поведение генерала Левенгаупта, глядевшего спокойно, но слова произносившего без надежды в голосе, вяло. Так же безнадёжно мотал головою пузатый Гилленкрок.
Лишь фельдмаршал Реншильд твердил о победе здесь, под Полтавой. К своим давним рубцам в этом походе фельдмаршал добавил несколько новых, достаточно значительных, на щеках и на лбу.
До сих пор на консилиумах советовали, куда наступать, а сегодня посоветовали, куда отступать. Король прежде срока отпустил советников. Но и после того не находил себе покоя. Сначала думал отправиться в Великие Будища, к белошейной Терезе, представлял, как она раскинет ароматные руки, на которых, возле остреньких локтей, видны синеватые прожилки, твёрдыми губами коснётся его губ, не забыв перед тем заглянуть в глаза... Потом будет гладить лоб, остерегаясь задеть поредевшие волосы, зная, что он не терпит касания к тем местам, где волосы у него растут без особой охоты. Но не поехал. До сих пор стоило ему появиться возле осаждённой крепости — и она сдавалась на волю победителя. А здесь несколько раз лично командовал штурмом — и Полтава ещё не сдалась. Под нею полегли солдаты и офицеры, на неё истрачено столько времени и пороха... Её начали блокировать так, как учит великий Вобан. И... Вот хотя бы подкоп. Войска уже ринулись на штурм — взрыва не получилось. Вскоре выяснилось, что в крепости стало известно направление подкопа, оттуда повели встречный ход, попали как раз, в последнее мгновение выбрали порох...
Просто так осаждённым не угадать, куда направлять контрподкоп. Узнали от перебежчика из шведского лагеря. И хотя достаточно заверений, что это дело подлого мазепинца, но после сегодняшнего консилиума можно сделать вывод, что на такой поступок способен и природный швед.
Король попробовал читать, полагая, что за строчками Плутарха забудутся неприятности, но читанное проходило мимо внимания, как степной ветерок мимо конских напряжённых ушей. Он даже посмотрел на обложку, на золотые буквы, чтобы убедиться, действительно ли то Плутарх. То был в самом деле Плутарх, переведённый на латынь. Шатались в глазах выкованные из меди слова, спокойные, как и в тех сагах о викингах, которые каждый вечер читает красивый тафельдекер Гутман, еле пошевеливая тонким горбатым носом. В Великих Будищах его голос звучал только в те вечера, когда в королевской постели нежилась Тереза. Иногда слушает и она, сидя в глубоком кресле. И тогда кажется, что она как-то по-особому глядит на красиво очерченные Гутмановы губы, немного приспущенные углами книзу. Впрочем, пустяки. Lecteur du Roy Гутман там, в Великих Будшцах... Слова Плутарха, далёкие от сегодняшнего дня, — такие величественные, что всё окружающее, нынешнее кажется мизерным.
Он отбросил книжку на высокий столик с вызолоченными краями, с розовыми личиками амуров между блестящим золотом и вдруг почувствовал, что всё это происходит неспроста. А что, если... Бросило в холодный пот. А что, если Лев Полуночи одолеет Орла Полдня не под его руководством? Похожие мысли прежде можно было чем-то заслонить, а сегодня... Если бы под рукою был Урбан Гиарн...
Сомнения мучили до вечера. Никто не принёс ничего утешительного. Доложили, что московиты вроде бы готовятся переправляться через Ворсклу. До сих пор главные их силы стояли в окопах на противоположном берегу, а на этом им удалось после боев под Опошней захватить монастырь на горе, там закрепиться, несмотря на обещания Лагеркрона выбить их оттуда. С того берега они ежедневно осыпают этот берег ядрами, но до сих пор не проявляли намерения переводить через речку и болота свои главные силы. Более того, перейди король с войсками на их берег — они отведут главные свои силы кто знает куда...
Вечерело. Король долго шагал внутри шатра, переставлял на столике безделушки. И вдруг понял, что стоит всё-таки убедиться, правильно он думает, нет ли... Он сегодня, сейчас станет на видном месте перед московитскими солдатами, пусть стреляют! Если кому-то иному суждено быть Львом Севера, то... Солдат стреляет, а пули носит Бог! Лучше умереть, чем отступить... Он не проиграл ни одной битвы... Если не убьют — не отрёкся Бог. Именно его избрала судьба на роль победителя.
Только нужно было, чтобы кто-нибудь из генералов увидел славную смерть или ощутил всё величие короля. На такую роль не годились ни Лагеркрон, ни Спааре, ни Реншильд. Из генералов можно было взять с собою Левенгаупта. Если убьют — поверят только словам Левенгаупта, поскольку он не станет напрасно хвалить великого полководца: король открыто и долго подчёркивал своё неуважение к этому военачальнику после Лесной. Но Левенгаупт не станет и врать — в том не может быть сомнения.
Правда, король и прежде никогда не прятался от пуль да ядер, но завтра — день его рождения. Завтра исполнится двадцать семь лет. В такие дни человек на особой заметке у своей судьбы.
Он разбудил разомлевшего от жары Левенгаупта и предложил ему удостовериться, действительно ли московиты собираются переходить речку Ворсклу. Генерал, опуская маленькие глазки на припухшем ото сна и без того огромном и будто бы даже отёкшем лице, не выразил восхищения, не показал удивления, а быстро оказался в седле. Они молча ехали берегом речки. Полтаву проглотили сумерки. На горе сверкнули огоньки монастыря, где теперь сидели московиты. Оттуда долетала протяжная песня. Похожее пение слышалось и на противоположном берегу. А ещё где-то там громко и заливисто лаяла псина, пылало много костров. Король и генерал остановились над водою. Отряд драбантов — на расстоянии. С московитского берега, от ближайшего костра, засвистели пули. Конь под Левенгауптом стал нервно бить копытом землю, бросая песок на королевского жеребца и на самого короля. Генерал не мог его успокоить, но не мог и терпеть проявлений неуважения к монарху пусть даже и от животного — немного отъехал. У короля же под свист пуль начала униматься тревога. Он спокойно ездил в сумерках. Внизу, под серыми во тьме копытами, белели пески. Королевский конь сохранил спокойствие. Можно было видеть, как на противоположном берегу шевелятся возле костров люди, как возле них раз за разом появляются короткие вспышки, и король уже мысленно издевался над царскими солдатами, которые не знают, в кого целятся, иначе делали бы это тщательней, их много, они действительно будто бы готовы переправляться через речку: там сереют на воде паромы, а на песке чернеют челны.
Генерал позади вдруг вскрикнул. Что-то тяжело упало на песок. Король не оглянулся. По-другому и быть не могло. Столько пуль, пролетая, могут миновать лишь человека, которому не суждено умереть.
Но генерал остался жив. Под ним убили коня. Животное скатилось с высокого берега, пропахав телом широкую и глубокую траншею.
— Ваше величество! — бежал по песку Левенгаупт, держа в руках тёмную шляпу. — Едем! Всё понятно! Убиты три драбанта. Сохрани Бог... Как без вас армия?
«Убьют? — мысленно завершил король. — Зачем тогда армия? Нужно до конца положиться на Всевышнего...»
Король не отвечал генералу, лишь крикнул уцелевшим охранникам подвести генералу другого коня, а сам начал спускаться ещё ниже, к краю переливающейся блеском при звёздах воды, раздумывая, как подать московитским солдатам знак, что перед ними сидит на коне король!
Генерала не было слышно, не было слышно и драбантов. Никто не приближался к королю. Пули пролетали уже плотнее — над головой, возле ушей. Он направил жеребца наверх, по песку, и хотя не подгонял, но уже верил, что никакая пуля не заденет шведского властителя, что он сейчас же поедет к Терезе, да, да, а на рассвете возвратится и сразу же прикажет штурмовать Полтаву. Её нужно взять. А царь пускай переправляет войска!
И в это мгновение огонь ожёг королю пятку. Он еле сдержал в себе животный крик, но сразу, хотя и понял, что это пуля пробила пятку и застряла в пальцах, поскольку их распирала невероятной силы боль, король заставил себя забыть о боли: он будет Львом Севера! А пуля в пятку — это просто знак, что за ним внимательно следит Бог!
ороль теперь лишь наведывался в панский дом в Великих Будищах, где оставались белошейная Тереза, духовник Нордберг, тафельдекер Гутман и прочие высокопоставленные придворные. Там он вдоволь мог насмотреться в глаза старого гетмана на парсуне, повешенной на самом видном месте. А так он жил в палатке на горячем берегу Ворсклы. Возможно, именно от духоты в палатке кто-то отважился намекнуть, что следует отойти к Днепру. Мысль высказывали почти открыто: теперь уже нет того абсолютного перевеса над противником, с которым король ворвался в царские земли... Когда это случилось? Как могло случиться?
Генерал Левенгаупт недавно настаивал на взятии Полтавы — теперь умолк, своим молчанием будто поддерживая слабых духом. А они заверяли, что позади не меньше московитского войска, нежели впереди: возле Сорочинцев Скоропадский держит черкасские полки; рядом с ним генерал Волконский с царской кавалерией; за Днепром посланный генерал Гольц уже соединился с враждебными королю поляками. Поляки прежде переходили к Станиславу Лещинскому, а теперь устремляются к Сенявскому. Если бы ещё царь решился на генеральную баталию, напоминали слабодушные, а то его войска лишь отсиживаются в казацких крепостях. Королевская армия уничтожит преграды на своём пути, соединится с войсками короля Станислава. Упованье не на польскую силу. Но где порох, ядра, снаряжение и обмундирование? Гендлярские ятки пусты.
Гендляры сидят в ожидании полтавских трофеев... Кто молчал, те тоже кивали головами: полное лето, а Москва далеко...
Короля выводило из себя упоминание о Москве. А вообще на консилиуме он был весь в мыслях. Все знали, что завтра день его рождения, поэтому торопились прислужиться, но почти всем, кроме фельдмаршала Реншильда, хотелось сказать одно и то же: нужно отойти. Правда, открыто высказался лишь Пипер. Ещё о том красноречиво свидетельствовало и поведение генерала Левенгаупта, глядевшего спокойно, но слова произносившего без надежды в голосе, вяло. Так же безнадёжно мотал головою пузатый Гилленкрок.
Лишь фельдмаршал Реншильд твердил о победе здесь, под Полтавой. К своим давним рубцам в этом походе фельдмаршал добавил несколько новых, достаточно значительных, на щеках и на лбу.
До сих пор на консилиумах советовали, куда наступать, а сегодня посоветовали, куда отступать. Король прежде срока отпустил советников. Но и после того не находил себе покоя. Сначала думал отправиться в Великие Будища, к белошейной Терезе, представлял, как она раскинет ароматные руки, на которых, возле остреньких локтей, видны синеватые прожилки, твёрдыми губами коснётся его губ, не забыв перед тем заглянуть в глаза... Потом будет гладить лоб, остерегаясь задеть поредевшие волосы, зная, что он не терпит касания к тем местам, где волосы у него растут без особой охоты. Но не поехал. До сих пор стоило ему появиться возле осаждённой крепости — и она сдавалась на волю победителя. А здесь несколько раз лично командовал штурмом — и Полтава ещё не сдалась. Под нею полегли солдаты и офицеры, на неё истрачено столько времени и пороха... Её начали блокировать так, как учит великий Вобан. И... Вот хотя бы подкоп. Войска уже ринулись на штурм — взрыва не получилось. Вскоре выяснилось, что в крепости стало известно направление подкопа, оттуда повели встречный ход, попали как раз, в последнее мгновение выбрали порох...
Просто так осаждённым не угадать, куда направлять контрподкоп. Узнали от перебежчика из шведского лагеря. И хотя достаточно заверений, что это дело подлого мазепинца, но после сегодняшнего консилиума можно сделать вывод, что на такой поступок способен и природный швед.
Король попробовал читать, полагая, что за строчками Плутарха забудутся неприятности, но читанное проходило мимо внимания, как степной ветерок мимо конских напряжённых ушей. Он даже посмотрел на обложку, на золотые буквы, чтобы убедиться, действительно ли то Плутарх. То был в самом деле Плутарх, переведённый на латынь. Шатались в глазах выкованные из меди слова, спокойные, как и в тех сагах о викингах, которые каждый вечер читает красивый тафельдекер Гутман, еле пошевеливая тонким горбатым носом. В Великих Будищах его голос звучал только в те вечера, когда в королевской постели нежилась Тереза. Иногда слушает и она, сидя в глубоком кресле. И тогда кажется, что она как-то по-особому глядит на красиво очерченные Гутмановы губы, немного приспущенные углами книзу. Впрочем, пустяки. Lecteur du Roy Гутман там, в Великих Будшцах... Слова Плутарха, далёкие от сегодняшнего дня, — такие величественные, что всё окружающее, нынешнее кажется мизерным.
Он отбросил книжку на высокий столик с вызолоченными краями, с розовыми личиками амуров между блестящим золотом и вдруг почувствовал, что всё это происходит неспроста. А что, если... Бросило в холодный пот. А что, если Лев Полуночи одолеет Орла Полдня не под его руководством? Похожие мысли прежде можно было чем-то заслонить, а сегодня... Если бы под рукою был Урбан Гиарн...
Сомнения мучили до вечера. Никто не принёс ничего утешительного. Доложили, что московиты вроде бы готовятся переправляться через Ворсклу. До сих пор главные их силы стояли в окопах на противоположном берегу, а на этом им удалось после боев под Опошней захватить монастырь на горе, там закрепиться, несмотря на обещания Лагеркрона выбить их оттуда. С того берега они ежедневно осыпают этот берег ядрами, но до сих пор не проявляли намерения переводить через речку и болота свои главные силы. Более того, перейди король с войсками на их берег — они отведут главные свои силы кто знает куда...
Вечерело. Король долго шагал внутри шатра, переставлял на столике безделушки. И вдруг понял, что стоит всё-таки убедиться, правильно он думает, нет ли... Он сегодня, сейчас станет на видном месте перед московитскими солдатами, пусть стреляют! Если кому-то иному суждено быть Львом Севера, то... Солдат стреляет, а пули носит Бог! Лучше умереть, чем отступить... Он не проиграл ни одной битвы... Если не убьют — не отрёкся Бог. Именно его избрала судьба на роль победителя.
Только нужно было, чтобы кто-нибудь из генералов увидел славную смерть или ощутил всё величие короля. На такую роль не годились ни Лагеркрон, ни Спааре, ни Реншильд. Из генералов можно было взять с собою Левенгаупта. Если убьют — поверят только словам Левенгаупта, поскольку он не станет напрасно хвалить великого полководца: король открыто и долго подчёркивал своё неуважение к этому военачальнику после Лесной. Но Левенгаупт не станет и врать — в том не может быть сомнения.
Правда, король и прежде никогда не прятался от пуль да ядер, но завтра — день его рождения. Завтра исполнится двадцать семь лет. В такие дни человек на особой заметке у своей судьбы.
Он разбудил разомлевшего от жары Левенгаупта и предложил ему удостовериться, действительно ли московиты собираются переходить речку Ворсклу. Генерал, опуская маленькие глазки на припухшем ото сна и без того огромном и будто бы даже отёкшем лице, не выразил восхищения, не показал удивления, а быстро оказался в седле. Они молча ехали берегом речки. Полтаву проглотили сумерки. На горе сверкнули огоньки монастыря, где теперь сидели московиты. Оттуда долетала протяжная песня. Похожее пение слышалось и на противоположном берегу. А ещё где-то там громко и заливисто лаяла псина, пылало много костров. Король и генерал остановились над водою. Отряд драбантов — на расстоянии. С московитского берега, от ближайшего костра, засвистели пули. Конь под Левенгауптом стал нервно бить копытом землю, бросая песок на королевского жеребца и на самого короля. Генерал не мог его успокоить, но не мог и терпеть проявлений неуважения к монарху пусть даже и от животного — немного отъехал. У короля же под свист пуль начала униматься тревога. Он спокойно ездил в сумерках. Внизу, под серыми во тьме копытами, белели пески. Королевский конь сохранил спокойствие. Можно было видеть, как на противоположном берегу шевелятся возле костров люди, как возле них раз за разом появляются короткие вспышки, и король уже мысленно издевался над царскими солдатами, которые не знают, в кого целятся, иначе делали бы это тщательней, их много, они действительно будто бы готовы переправляться через речку: там сереют на воде паромы, а на песке чернеют челны.
Генерал позади вдруг вскрикнул. Что-то тяжело упало на песок. Король не оглянулся. По-другому и быть не могло. Столько пуль, пролетая, могут миновать лишь человека, которому не суждено умереть.
Но генерал остался жив. Под ним убили коня. Животное скатилось с высокого берега, пропахав телом широкую и глубокую траншею.
— Ваше величество! — бежал по песку Левенгаупт, держа в руках тёмную шляпу. — Едем! Всё понятно! Убиты три драбанта. Сохрани Бог... Как без вас армия?
«Убьют? — мысленно завершил король. — Зачем тогда армия? Нужно до конца положиться на Всевышнего...»
Король не отвечал генералу, лишь крикнул уцелевшим охранникам подвести генералу другого коня, а сам начал спускаться ещё ниже, к краю переливающейся блеском при звёздах воды, раздумывая, как подать московитским солдатам знак, что перед ними сидит на коне король!
Генерала не было слышно, не было слышно и драбантов. Никто не приближался к королю. Пули пролетали уже плотнее — над головой, возле ушей. Он направил жеребца наверх, по песку, и хотя не подгонял, но уже верил, что никакая пуля не заденет шведского властителя, что он сейчас же поедет к Терезе, да, да, а на рассвете возвратится и сразу же прикажет штурмовать Полтаву. Её нужно взять. А царь пускай переправляет войска!
И в это мгновение огонь ожёг королю пятку. Он еле сдержал в себе животный крик, но сразу, хотя и понял, что это пуля пробила пятку и застряла в пальцах, поскольку их распирала невероятной силы боль, король заставил себя забыть о боли: он будет Львом Севера! А пуля в пятку — это просто знак, что за ним внимательно следит Бог!