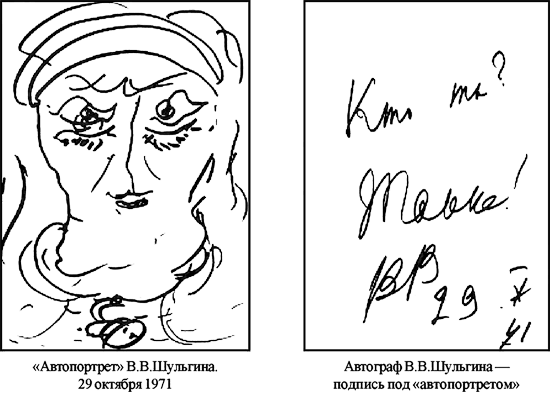Василий Шульгин
Тени, которые проходят
 Благодарная Молдавия братскому народу России
Программа книгоиздания
Благодарная Молдавия братскому народу России
Программа книгоиздания
 Благотворители:
Благотворители:
Бизнес-Элитa, SRL (директор С. В. Марар)
Март, IMSA (директор Ю. О. Дерид)
Инициаторы программы:
Бизнес-Элита, SRL (директор С. В. Марар)
Нестор-История, ООО (директор С. Е. Эрлих)
Участники программы:
Бюро межэтнических отношений при правительстве Республики Молдова
(директор Е. М. Белякова)
Высшая антропологическая школа (ректор Р. А. Рабинович)
Международная федерация национального стиля единоборств «Воевод»
(президент П. И. Паскару)
Международная федерация русскоязычных писателей
(председатель О. Е. Воловик)
Общественная благотворительная организация «Единодушие»
(президент И. В. Мельник)
Союз коммерсантов «Est-Vest Moldova» (председатель С. М. Цуркан)
Издания, вышедшие в рамках программы «Кантемир»
Тематические номера журнала «Нестор»
Нестор № 10. Финноугорские народы России: проблемы истории и культуры / отв. ред. В. И. Мусаев, 2007.
Нестор № 11. Смена парадигм: современная русистика / отв. ред. Б. Н. Миронов, 2007.
Нестор № 12. Русская жизнь в мемуарах / отв. ред. А. И. Купайгородская, 2008.
Нестор № 13. Мир детства: семья, среда, школа / отв. ред. Е. М. Балашов, 2009.
Нестор № 14. Технология власти-2 / отв. ред. И. В. Лукоянов, С. Е. Эрлих, 2010.
Библиотека журнала «Нестор»
14 декабря 1825 года. Вып. VIII / отв. ред. О. И. Киянская, 2010.
Ганелин Р. Ш. Советские историки: о чем они говорили между собой. Страницы воспоминаний о 1940–1970-х годах. 2-е изд., 2006.
Ганелин Р. Ш. «Что вы делаете со мной!» Как подводили под расстрел. Документы о жизни и гибели В. Н. Кашина, 2006.
Гордин Я. А. Дороги, которые мы выбираем, или Бег по кругу, 2006.
Киянская Г. М., Киянский И. А. Воспоминания, 2007.
Щербатов А. Г. Мои воспоминания / под ред. О. И. Киянской, 2006.
Серия «Настоящее прошедшее»
Баевский В. С. Роман одной жизни, 2007.
Галицкий П. К. «Этого забыть нельзя!», 2007.
Галицкий П. К. «Почти сто лет жизни…». Воспоминания пережившего сталинские репрессии, 2009.
Клейн Л. С. Трудно быть Клейном, 2009.
Лотман Л. М. Воспоминания, 2007.
Несерийные издания
Анти-Эрлих. Pro-Moldova, 2006.
Готовцева А. Г., Киянская О. И. Правитель дел. К истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности К. Ф. Рылеева, 2010.
Дергачев В. А. О скипетрах, о лошадях, о войне: Этюды в защиту миграционной концепции М. Гимбутас, 2007.
Исмаил-Заде Д. И. И. И. Воронцов-Дашков — администратор, реформатор, 2007.
Кантемир Дмитрий. Описание Молдовы: Факсимиле, латинский текст и русский перевод Стурдзовского списка / сост. и общая ред. Н. Л. Сухачева; 2011.
Лапин В. В. Полтава — российская слава: Россия в Северной войне 1700–1721 гг., 2009.
Печерин В. С. APOLOGIA PRO VITA МЕА: Жизнь и приключения русского католика, рассказанные им самим / публ. и коммент. С. Л. Чернова, 2011.
Русская семья «Dans la tourmente déchaînée…» / Письма О. А. Толстой-Воейковой 1927–1930 гг. / публ. и коммент. В. Жобер. Изд. 2-е, 2009.
Русское будущее: сб. ст. / ред. — сост. В. В. Штепа, 2008.
Цвиркун В. И. Димитрий Кантемир. Страницы жизни в письмах и документах, 2010.
Эрлих С. Е. История мифа. Декабристская легенда. Герцена, 2006.
Эрлих С. Е. Россия колдунов, 2006.
Эрлих С. Е. Метафора мятежа, 2009.
Эрлих С. Е. Бес утопии, 2012.
Эрлих С. Е. Утопия бесов, 2012.
Обложка настоящего издания выполнена по эскизу С. Р. Красюкова

© Р. Г. Красюков, предисловие, составление, публикация текста, 2012
© Издательство «Нестор-История, 2012
ПРЕДИСЛОВИЕ
Судьба литературного наследия Василия Витальевича Шульгина (1878–1976) по-своему драматична и может явиться сюжетом своеобразной детективной истории.
В основном все, что он создал на чужбине, в том числе мемуары о Первой мировой войне, хранилось в Русском Доме в Белграде, который был центральным архивохранилищем русской эмиграции в Югославии. В ноябре 1944 года, после освобождения города от немецких войск, весь архив Русского Дома был вывезен в СССР. Тогда же, в декабре, был арестован и В. В. Шульгин в г. Сремски Карловцы, препровожден в Москву и заключен на период следствия во внутренней тюрьме НКВД на Лубянке. Как один из бывших лидеров Белого движения он был осужден в 1947 году на 25 лет за контрреволюционную деятельность и заключен во Владимирскую тюрьму.
Во время заключения (1947–1956) он вновь начал создавать свой литературный архив, который разделил судьбу первого архива после амнистии автора Н. С. Хрущевым.
Воспоминания В. В. Шульгина под названием «Интервенция» хранились отдельно на квартире у его соратника по Белому движению генерала А. А. фон Лампе и сгорели во время одной из бомбардировок Берлина вместе с другими архивами, о чем А.А. фон Лампе оповестил всех заинтересованных лиц через одну из газет между 1942 и 1944 гг.
Впоследствии, проживая «на поселении» в г. Владимире, В. В. Шульгин начал создавать третий архив. Одну его часть, в основном воспоминания о детских и юношеских годах, он пытался сдать в ЦГАЛИ
[1] (Москва), однако она почему-то не подошла этому архиву, и ее там приняли лишь на временное хранение. По-видимому, из жалости к старому и немощному человеку, который был просто не в силах везти этот груз обратно домой.
Другую часть своего архива этого периода («некоторые мои литературные произведения в виде рукописей и кое-какие документы») он попросил меня «принять к себе на хранение» в конце сентября 1968 года. Чтобы понять причину такого решения В. В. Шульгина, необходимо рассказать предысторию этого события. Я познакомился с ним в феврале 1967 года по рекомендации моего знакомого А. М. Кучумова, бывшего в те годы главным хранителем Павловского дворца-музея под Ленинградом. Последний участвовал в качестве консультанта в создании кинофильма «Перед судом истории»
[2] по части воссоздания внутреннего убранства салона-вагона, в котором происходило отречение императора Николая II (А. И. Гучков и В. В. Шульгин как представители Государственной Думы принимали акт отречения). Во время съемок они познакомились и изредка переписывались. Кинофильм произвел на меня большое впечатление, и я, как и многие в те годы, хотел познакомиться с В. В. Шульгиным. А. М. Кучумов, узнав о моем желании, рекомендовал меня ему. Так вскоре и состоялось наше знакомство.
Нельзя сказать, что в то время В. В. Шульгин был обделен вниманием. Вокруг него всегда было много людей. Одни поддерживали с ним длительные дружеские отношения, регулярно навещая его и приглашая пожить к себе в гости. Другие удовлетворяли свое любопытство одним посещением «Деда», как многие называли его за глаза. И со всеми он был ровно любезен и дружелюбен. Ко времени нашего знакомства его жизнь сопровождалась трагическим дота него процессом потери зрения: это означало конец его творческой деятельности. Сознавая тяжесть его положения и значение для него работы, я предложил ему свои услуги в качестве секретаря. Я был искренен. По-видимому, это и покорило его.
Летом 1968 года В. В. Шульгин потерял жену и остался совершенно одиноким. Поэтому, когда я приехал к нему осенью того же года, он уже связал свою будущую работу со мною, и это определило судьбу той части архива, которая находилась у него. Однако и ее постигла незавидная участь. После того, как я доставил ее в Ленинград, обстоятельства сложились так, что я вынужден был с нею расстаться. Меня пригласил к себе представитель спецслужб при месте моей работы и поинтересовался, правда ли, что я привез архив В. В. Шульгина. Я ответил утвердительно. «А что вы собираетесь с ним делать?» — последовал вопрос. Обычно я теряюсь в таких ситуациях, но тут вдруг нашелся и ответил как само собою разумеющееся: «Чтобы сдать в архив». Мое намерение было одобрено, и мне было предложено сдать бумаги в ЦГИА
[3].
Когда я приехал в ЦГИА, меня провели к его тогдашнему директору И. Н. Фирсову. По всему было видно, что он был предупрежден о моем приезде и ожидал меня. Я наивно полагал, что будет создана комиссия по приему архива, которая станет разбирать и описывать бумаги. Но все оказалось гораздо проще. И. Н. Фирсов пригласил секретаршу и стал диктовать ей текст о приеме бумаг. Когда он дошел до слов «общим объемом…», то взял опоясанный веревками пакет в руку, встряхнул его слегка и сказал: «Пятнадцать килограмм».
Впоследствии я выяснил, что никаких следов этой части архива в ЦГИА не сохранилось. Много лет спустя, в начале девяностых годов, я увидел, как по телевизору показывали бумаги В. В. Шульгина, переданные КГБ одному из московских архивов. Показ длился минуту-две, не более, но по форме блокнотов и тетрадей мне показалось, что это была как раз та часть архива.
Итак, все нужно было начинать с нуля. В четвертый раз В. В. Шульгин начал создавать свои мемуары в 1970 году. Он приехал ко мне в Ленинград в середине мая с уже готовыми замыслами и сразу же приступил к работе. Я тоже готовился к встрече и предложил ему начать работу над воспоминаниями с момента ареста его в Югославии в декабре 1944 года. Меня наиболее интересовал период его пребывания в советской тюрьме. Но «Дед» был непреклонен, в первую очередь он хотел работать над воспоминаниями о Гражданской войне. Диктуя мне за два года до этого «Программу “великих” дел на грядущее десятилетие», первым пунктом он поставил «Интервенцию 1919 года», которую «надо восстановить по памяти». Ко времени начала нашей работы он решил расширить рамки темы, не ограничивая ее лишь событиями на юге Украины в 1919 году. Решено было заполнить хронологический разрыв между ранее написанными и опубликованными мемуарными книгами — «Днями», заканчивавшимися Февральской революцией 1917 года и отречением Николая II, и «1920 годом», исходом Белого движения на Юге России. За период с середины мая до начала июля 1970 года были продиктованы воспоминания о Гражданской войне, получившие название «1917–1919» (опубликованы в 1994 году в 5-м номере биографического альманаха «Лица»).
Несмотря на то, что днем я был занят на службе, работа вечерами с В. В. Шульгиным не была в тягость. Записи сопровождались поисками необходимой литературы для справок в Публичной библиотеке
[4]. Меня всегда в истории привлекала связь времен, и В. В. Шульгин был этой живой связью. Он рассказывал о прошедших событиях не с чьих-то слов, а как их непосредственный участник.
Сейчас я не ставлю задачей рассказать о нескольких годах нашей совместной работы. Хочу только, чтобы читатель представлял,
какой В. В. Шульгин написал эти воспоминания. Работать с ним было очень интересно. Его память цепко держала последовательность событий и имена лиц, участвовавших в них, как будто это произошло не полвека назад, а всего лишь вчера. Кроме того, он был неисчерпаемым рассказчиком всевозможных житейских историй, случаев и анекдотов. Не было обеда, чаепития, прогулки или перерыва в работе, которые обошлись бы без этих рассказов, причем он никогда не повторялся. Я старался записывать сначала по памяти. Так родился цикл воспоминаний о семье, родственниках, друзьях, газете «Киевлянин», который вскоре был «узаконен» и так же, как и все остальное, продиктован и получил название «Тени, которые проходят». Мне хотелось, чтобы цикл его воспоминаний, в совокупности с уже ранее написанным, охватил всю его жизнь.
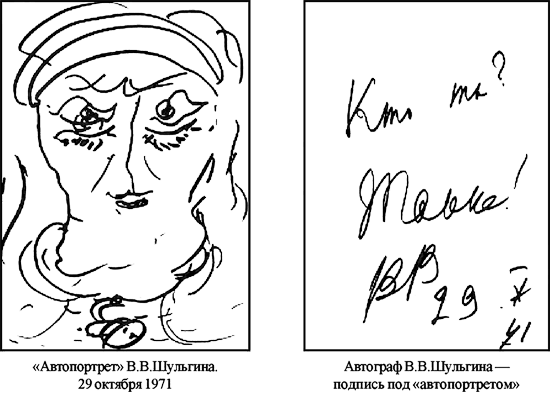
Лишь один раз он допустил повтор, и то сознательно. Рассказывая об участниках Государственного совещания в первой из продиктованных работ «1917–1919», он сознательно остановился на В. А. Маклакове и масонстве, хотя подробно об этом планировал продиктовать в «Эмиграции», говоря о времени, когда он был гостем В. А. Маклакова в русском посольстве в Париже. Ему шел восемьдесят девятый год, и он понимал, что эта важная для него тема может остаться неосвещенной. Впоследствии, когда мы приступили к «Эмиграции», он повторил этот сюжет в более расширенном виде и даже в несколько иной редакции. При подготовке к публикации этого издания я пытался совместить оба отрывка, но потом отказался от этой попытки, потому что получался не авторский текст, а компиляция публикатора.
Второй раз В. В. Шульгин гостил у меня летом 1972 года. Ежегодно во время своего отпуска я приезжал к нему во Владимир на семь-десять дней. За эти годы, кроме воспоминаний о Гражданской войне, он продиктовал мне воспоминания об аресте и годах, проведенных на Лубянке и во Владимирском централе, получившие название «Пятна» (опубликованы в 1996 году в 7-м номере биографического альманаха «Лица»). Затем — «Эмиграцию», самую большую свою работу, которая должна была закончиться его арестом. К сожалению, она была доведена лишь до конца тридцатых годов.
Вот эти четыре периода из жизни Василия Витальевича Шульгина, записанные мною под его диктовку, и предлагаются вниманию читателя. Кроме того, после текста, продиктованного автором, в качестве приложений включен ряд документов, которые в какой-то степени дополняют его воспоминания и позволяют лучше представить автора как человека и общественного деятеля.
Просвещенному читателю не надо представлять автора. Каждый мало-мальски сведущий человек в России, услышав имя Шульгина, сразу же вспомнит отречение последнего государя. У чуть более сведущего в памяти всплывет, что В. В. Шульгин — «идеолог монархически настроенного крупного дворянства», «крупный помещик <…>, редактор черносотенной газеты “Киевлянин”» и другой стандартный набор для клеймения антисоветчика.
Кем же был на самом деле В. В. Шульгин, откуда происходил и какие имелись предпосылки, позволившие появиться на политическом горизонте начала прошлого столетия такой неординарной личности? Сам Василий Витальевич никогда не подчеркивал свое дворянское происхождение. На все мои вопросы о его предках он молчал, виновато моргая и недоуменно пожимая плечами. Иногда отвечал: «Не знаю, голубчик». Это не было ни ложной скромностью, ни неуважением преданий рода, ни незнанием русской истории. Как раз наоборот. Он считал себя прежде всего хлеборобом, плотью от плоти тех волынских мужиков, которые выбрали его в Государственную Думу. И их предков не отделял от своих. Лучшей иллюстрацией этому служит его роман «Приключение князя Воронецкого». Мои попытки разработать генеалогию Шульгиных пока тоже не увенчались успехом. В фонде Департамента герольдии РГИА хранится двадцать семь дел о дворянстве этого рода, но ни одно из них не дает разгадки тайны его происхождения. Дело в том, что до революции каждый дворянин обязан был подтверждать свое дворянское достоинство, представляя для этого в губернское дворянское депутатское собрание необходимые документы. Как правило, такими документами были свидетельство о рождении, послужной список — свой или отца, указы о награждении или производстве в следующий чин, позволявшие хлопотать о дворянстве, другие документы — например, свидетельствовавшие о древнем происхождении рода (выписки из разрядных книг и прочие подобные свидетельства). В зависимости от набора представленных документов дворян расписывали по частям дворянской родословной книги.
Как и все дворяне Российской империи, Шульгины тоже проделывали эту процедуру. Но каждый представлял лишь свою ветвь. Иные, если старые документы были утеряны, не утруждали себя поисками и довольствовались лишь своими заслугами, нисколько не заботясь о грядущем развитии генеалогической науки, а руководствуясь лишь практическим смыслом — например, определить детей в кадетский корпус или в институт благородных девиц.
Ни отец В. В. Шульгина, ни он сам никогда не подавали документы на подтверждение своего дворянского достоинства. На мой вопрос «Почему?» он недоуменно ответил вопросом: «Зачем?». Вместе с тем, род Шульгиных принадлежит к старинным русским дворянским фамилиям. Согласно С. Б. Веселовскому
[5], их родоначальником, возможно, является Александр Федорович Монастырёв по прозвищу Шуйга или Шульга, живший в середине — второй половине XV века и являвшийся правнуком князя Александра Юрьевича Смоленского по прозвищу Монастырь (середина XIV века). Возможно, родоначальниками различных многочисленных ветвей Шульгиных были и другие лица, потому что прозвище Шульга, то есть левша, было довольно распространенным на Руси. В XVII веке трое Шульгиных служил и дьяками
[6]. В XVIII век Шульгины вошли мелкопоместными дворянами, служили солдатами и капралами в гвардии, вахмистрами и обер-офицерами в кавалерии, пехоте и ланд-милиции. В XIX веке род расселился по всей европейской России: Шульгины жили во Владимирской, Воронежской, Киевской, Костромской, Курской, Московской, Новгородской, Псковской, Самарской, Санкт-Петербургской, Тамбовской, Тульской, Херсонской губерниях и в области Войска Донского.
Шульгины участвовали практически во всех войнах, которые вела Россия в XVIII и XIX веках. Так, например, капитан Макарий Шульгин «был в походах и в сражениях в турецкую войну и под городом Бендером ранен в левую бровь ружейною пулею и от пушечного выстрела получил в левую ногу контузию», вследствие чего и был в 1778 году «за ранами уволен от службы с награждением чина секунд-майора»
[7]. Иван Екимович Шульгин унтер-офицером участвовав в походах по Черному морю «и сухим путем в сражениях находился в 1790, 1791 и 1803 года». Дементий Ефимович Шульгин начал службу в 1782 году солдатом Новгородского гарнизонного батальона, участвовал в штурме Измаила в декабре 1790 года и закончил службу в 1813 году, будучи уволенным «за болезнью капитаном с мундиром и пенсионом полного жалованья». Александр Сергеевич Шульгин участвовал в итальянском и швейцарском походах А. В. Суворова, в войнах с Наполеоном в 1807 и 1812–1814 годах, в самом конце которых был произведен в генерал-майоры. Дмитрий Иванович Шульгин штабс-капитаном участвовал в Бородинском сражении. Николай Данилович Шульгин в кампанию 1813 года воевал в Пруссии, участвовал в осаде Данцига и «по самую сдачу города <…> находился в траншеях при сильной неприятельской канонаде». Захарий Петрович Шульгин с конца 1840-х годов участвовал в Кавказской войне — в частности в покорении Чечни. Этот перечень можно продолжать.
Надо сказать, что служили Шульгины не за страх, а за совесть. Редко кто из них имел большое имение. Лишь отставной штабс-капитан Михаил Петрович Шульгин владел в Тамбовской и Новгородской губерниях 270 крепостными крестьянами. Чиновник Тульского оружейного завода Венедикт Макарович Шульгин имел в 1820-х годах в Полтавской губернии «мужеска 10, женска 13 душ». А Дмитрий Егорович Шульгин владел в Курском наместничестве всего восемнадцатью душами, из-за чего, по-видимому, в 1791 году «по недостаточному состоянию содержать себя в гвардии переведен в армию капитаном». Николай же Данилович Шульгин, служивший в 1830-х годах чиновником 8-го класса артиллерийского департамента, имел одного «крепостного дворового человека». В основном, как видно, все Шульгины «кормились» только службою.
Не были исключением и ближайшие родственники Василия Витальевича. Его дед, Яков Игнатьевич Шульгин, родившийся еще при императрице Екатерине II, служил в Калуге и принадлежал «к среднему чиновничьему кругу, условия которого перебрасывают людей из города в город, из местности в местность, смотря по случайностям прихотливой служебной судьбы. Закинув семью Шульгиных из Калуга в Нежин, судьбе этой, однако, угодно было довольно прочно водворить их в Киеве»
[8]. Отец В. В. Шульгина, Виталий Яковлевич Шульгин (1822–1878), окончил университет Св. Владимира в Киеве и был по-своему замечательной личностью в киевском обществе. В течение тринадцати лет он преподавал в Киевском университете историю. Человек просвещенный, прекрасный педагог, блестящий оратор, убежденный сторонник реформ шестидесятых годов XIX века, он справедливо заслужил репутацию либерального деятеля. Его деятельность проходила в сложный период истории Юго-Западного края.
В 40–50-е годы XIX века поляки были господствующей нацией на всей правобережной Украине, включая и Клев. Не случайно тогда бытовало выражение для всех переправлявшихся на правый берег Днепра: ехать в Польшу. В годы, предшествовавшие Польскому восстанию 1863 года, Юго-Западный край представлял чрезвычайно запутанный узел национальных, религиозных и социальных противоречий. В. Г. Авсеенко, бывший в те годы довольно близким к В. Я. Шульгину человеком, писал в своих воспоминаниях: «Юго-Западный край в то время был чисто польский край. Польское дворянство, богатое, образованное, сплоченное в солидную массу, владело двумя третями поземельной собственности, дававшей отличный доход, и с помощью крепостного права держало в безусловной зависимости коренное русское население <…>. Разность не только племенная и сословная, но и вероисповедная <…> необходимость пользоваться евреями, как посредствующей связью между шляхтой и народом, — все это до такой степени обостряло отношения между помещиками и крестьянами, что здесь крепостное право получило характер, какого оно не имело нигде более, не только на Руси, но и в Западной Европе»
[9].
Реформы шестидесятых годов привели в движение те общественные силы, которые содействовали правительству в проведении этих реформ на местах. Вместе с тем обнаружилось, что в Юго-Западном крае «вовсе не было на виду тех общественных сил, на которые правительство могло опереться»
[10] с целью разрешения чрезвычайно запутанных многочисленных проблем. Чтобы выявить и сплотить такие силы, чтобы общественное мнение России поняло положение Юго-Западного края и приняло его интересы, необходим был некий политический центр, каким мог быть только печатный орган. «Ввиду такого положения, естественно, взоры обратились к местному общественному центру, к Киевскому университету. От него ожидали тех сил, которые могут создать местную печать, достойную этого имени. Положение Шульгина среди киевского ученого мира <…> указывало на него как на лицо, наиболее пригодное для означенной цели»
[11].
В 1864 году киевский, подольский и волынский генерал-губернатор, генерал-адъютант Н. Н. Анненков, предложил В. Я. Шульгину издавать газету, и 1 июля того же года в Киеве вышел первый номер литературной и политической газеты Юго-Западного края «Киевлянин». Эпиграфом была выбрана цитата из «Дней» славянофила И. С. Аксакова: «Край этот — русский, русский, русский». «Это положение, — писал В. Я. Шульгин в рекламном объявлении, — признает за аксиому история в прошлом, огромная масса современников и животрепещущая действительность в настоящем». Он также считал, что и меньшинство населения (подразумевая под ним поляков) признает это по внутреннему убеждению. «Поэтому, — продолжал он, — приводить новые доказательства <…> значило бы переливать из пустого в порожнее. Редакция не берет на себя этой миссии. Она исходит прямо из аксиомы: “это край русский, русский, русский”, и под углом зрения этой непререкаемой истины будет высказывать свой взгляд на потребности края, на взаимное отношение населяющих его национальностей и на его отношение к единоверной и единоязычной с ним России, которой матерью слывет искони главный город края — Киев».
Так было положено начало газете, которая в течение почти пятидесяти пяти лет проповедовала русскую идею на Украине и выступала за единение великорусского и малороссийского народов. Если вначале В. Я. Шульгин был действительно единственным руководителем газеты, то к концу его жизни она стала главным делом всей семьи. Все последующие редакторы — его вдова Мария Константиновна Шульгина, ее второй муж Дмитрий Иванович Пихно, наконец, сын Виталия Яковлевича Шульгина, Василий Витальевич Шульгин — лишь номинально возглавляли газету. Всю работу вели члены большой семьи Шульгиных. Во время редакторства В. В. Шульгина сам он, занятый в С.-Петербурге работой в Государственной Думе, писал лишь передовые статьи. Его сестра Павла Витальевна вела хозяйственную и литературную часть. Первая жена В. В. Шульгина, Екатерина Григорьевна, под псевдонимом «А. Ежов» писала политические статьи, имевшие успех у читателей газеты. Племянник, Филипп Александрович Могилевский, писал статьи на различные темы. Свояченица Василия Витальевича, Софья Григорьевна, работала над корректурами «Киевлянина» и была еще чем-то вроде секретаря редакции. Ее муж, Константин Иванович Смаковский, вел в газете так называемые воскресные беседы, посвященные какому-либо злободневному общественному явлению. Теща В. В. Шульгина, Евгения Григорьевна Градовская, заведовала экспедицией газеты. И так далее.
В. В. Шульгин не помнил своего отца (последний скончался за неделю до того, как сыну должен был исполниться год) и не испытал на себе его непосредственного влияния. Однако та духовная атмосфера, которая сложилась при жизни его отца, интересы, которыми жила семья, несомненно, повлияли на В. В. Шульгина, сформировали его характер и взгляды.
Большое влияние на становление его характера и жизненной позиции оказал его отчим, профессор юридического факультета университета Св. Владимира Дмитрий Иванович Пихно (1853–1913). Выходец из украинской крестьянской среды, он был ярым сторонником единой и неделимой России, и в период его редакторства (1884–1913) «Киевлянин» превратился из региональной газеты в общероссийскую. Император Николай II, назначая его членом Государственного Совета, дал ему следующую характеристику:
«При современных обстоятельствах я считаю необходимым назначать членами Государственного Совета людей русских и крепких. Таковым первым моим кандидатом является проф. Пихно — редактор “Киевлянина”.
Уведомьте его об этом и передайте ему вместе с тем мою надежду, что он будет продолжать свое полезное издание и по назначении членом Гос. Совета.
Николай. 23 марта 1907 г.»[12]
В. В. Шульгин прожил долгую жизнь, однако никогда не изменял таким своим качествам, как честность, принципиальность и скромность. Естественно, его политические взгляды со временем не могли не эволюционировать. Помню, на мой вопрос, кем бы он был сейчас, не случись революции, он ответил: «Кадетом».
Честность его была своего рода феноменальной — он никогда не лгал, не отрекался от своих взглядов и не скрывал их даже в самые трудные для него годы, что было исключительным явлением в среде политических деятелей. Всегда был естественен, не терял чувства собственного достоинства при любых обстоятельствах, чем вызывал уважение у своих противников. При повторных допросах во время следствия на Лубянке следователь как-то признался ему: «Вам верят». А перед вынесением ему приговора на вопрос прокурора, признает ли он себя виновным в том, что написано в его показаниях, он ответил:
— На каждой странице моя подпись, значит, я как бы подтверждаю свои дела. Но вина ли это, или это надо назвать другим словом — это предоставьте судить моей совести.
«Это другое слово, — писал впоследствии В. В. Шульгин, — которое я не произнес, было моим долгом перед Отечеством».
Его скромность можно считать чрезмерной. Он не стремился занять и никогда не занимал никаких государственных или административных постов. Здесь скромность переплеталась с принципиальностью. Единственный раз он изменил своему правилу во время Февральской революции, согласившись возглавить Петроградское телеграфное агентство. Но предпочел расстаться с этой должностью буквально на третий день, так как его личные убеждения вошли в противоречие с официальной точкой зрения Временного правительства.

Масштаб всех страниц — 40 % оригинала
Помню, когда В. В. Шульгин диктовал свои воспоминания об эмиграции, мне наскучило записывать страницы его, на мой взгляд, скучной жизни на Лазурном берегу Франции, с подробностями о строительстве байдарки и плавания на ней. Я запротестовал: «Василий Витальевич, кому же это интересно читать?» В моем понимании, его жизнь должна была быть заполнена политическими страстями и активной деятельностью, влиявшей на жизнь русской эмиграции.
Он был искренне удивлен и огорчен:
— Вы, оказывается, совсем меня не поняли. Это ведь и есть настоящая жизнь, которую я любил и ценил. А политика… Политиком стал вынужденно, чтобы защитить эту жизнь. Политику же ненавидел всегда.
В политике он выбрал наиболее приемлемую для него форму деятельности — публицистическую трибуну. Он писал, а впоследствии и говорил с трибуны Государственной Думы то, что знал, и никогда не лукавил. Как-то жена писателя Ивана Александровича Бунина заметила В. В. Шульгину, что ее муж высоко ценит его «Дни» и «1920 год».
— Но почему вы не пишете беллетристических произведений? — спросила она — То, что вы до сих пор написали, очень важно и ценно. Но это не беллетристика.
— Потому что мне удается только описание того, что я лично видел, — ответил он. — А беллетристика нечто большее. Это сочинительство. К этому, видимо, у меня нет способностей.
Его влияние на определенную, мыслящую, часть современников, по-видимому, было огромно. В смутные времена по голосу В. В. Шульгина одни сверяли правильность своих политических позиций, для других он был последней надеждой. В феврале 1918 года молодая княжна Екатерина Сайн-Витгенштейн записала в своем дневнике:
«Я боюсь, не случилось ли что-нибудь дурного с Шульгиным. Если бы меня кто-нибудь спросил: кто был человек, которому я больше всего симпатизирую, я бы сказала: Василию Витальевичу Шульгину. Это единственный человек, который за это время решался громко протестовать и осуждать то, что творится: чуть ли не каждый день в его “Киевлянине” появляются статьи, подписанные полным его именем, содержащие самые горькие истины <…>. Был бы жив только сам Шульгин, а он уже сумеет так или иначе что-нибудь сделать для России»
[13].
Закончить свое небольшое повествование я хочу четверостишием члена Государственной Думы В. М. Пуришкевича, которое, по-моему, очень точно характеризует В. В. Шульгина и как человека, и как политического деятеля:
Твой голос тих и вид твой робок,
Но черт сидит в тебе, Шульгин.
Бикфордов шнур ты от коробок,
Где заключен пироксилин
[14].
Ростислав Красюков
ТЕНИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ
Мои первые воспоминания
Первое мое воспоминание относится к 1882 году — мне был четыре года. Летом мы жили в местечке Нивка, куда ездили на рысаках. Сейчас это в черте Киева.
Помню утро, по шоссе движутся войска (Нивка стоит на шоссе), играет музыка. Идет артиллерия, пехота. Пыль все застилает, а так как солнце только восходит, то это облако кровавое. Эта картина глубоко запала в мою память. Так моя жизнь и прошла в крови войн.
Еще один штрих из тех далеких детских лет, который сохранила память. Однажды с няней иду по улице. Подходит цыганка и, указав на меня пальцем, говорит: «Будет министром». Может, она всем так говорила?
Гимназия
В Киеве держал экзамен сразу во второй класс 2-й киевской гимназии на Бибиковском бульваре, минуя подготовительный и первый класс. Сдал успешно. Она была классической, так как когда после реформы в гимназиях стали меньше преподавать латинских и древнегреческих классиков, во 2-й гимназии их преподавали полностью.
Об учителях. Ростоцкий, поляк, учитель математики. Корсунский, тоже поляк, учитель математики, очень строгий. Если начинали шалить, следовала его команда: «Руки на парту!».
Второй класс окончил хорошо, получил награду, правда, вторую, которую вручал митрополит (грамота и книга). Подошел к митрополиту, он меня благословил и сказал: «Какой худенький».
В третьем классе учился хуже, но все же перешел без экзамена в четвертый (по слабости здоровья при хорошем балле разрешалось). В четвертом классе этого уже не разрешалось. Экзамен благополучно выдержал.
В пятом классе получил за четверть двойку по Закону Божьему. Ничего не знал. Так скучно читал батюшка Коровицкий, что было тошно. Сам учебник Катехизис был составлен ужасно плохо («Почему сие важно в-пятых»). Потом этот же Коровицкий поставил мне пять с крестом, потому что он интересно прочел об Юлиане Отступнике. Этот римский император меня заинтересовал, и я слушал батюшку внимательно. Последовавшее письменное изложение (новость для Закона Божьего) написал хорошо.
* * *
В женской министерской гимназии училась моя сестра Алла. Там был батюшка Подвысоцкий. Он спросил ее: «Почему что-то по Закону Божьему случилось с женщиной?» — «Потому что грешное». Он: «Почему свою сестру так аттестуете?». Она не знала что сказать. Подвысоцкий был хороший батюшка, но оригинальный — мог вызвать такой ответ.
* * *
Еще об учителях. Петр Иванович Щербида плохо читал географию, его брат Владимир Иванович в женской гимназии хорошо читал историю.
Приходилось зубрить губернии, уезды. Я, пока не поступил в гимназию, хорошо знал географию (по Жюль Верну и карте). В гимназии же растерял свои знания. Если б я учился экстерном, то сдал бы все на пятерки, а гимназия отбивала всю охоту учиться.
Одно время директором нашей гимназии был Пясецкий, тоже поляк. А инспектором был Бех, русский, из околичной шляхты (однодворцы
1). Между прочим, околичная шляхта была самая крепкая в православной вере в Малороссии и в приверженности к Великороссии. Она впоследствии полностью голосовала за наш список («За Царя») в Киевскую городскую думу.
Лихотинский преподавал латинский язык, преподавал так, что я перестал учиться.
Потом директором гимназии стал Алексей Алексеевич Попов, он же читал историю. Был строг, требовал четкой хронологии, делал письменные проверки, причем каждому ученику давал свою тему.
Древнегреческую классику преподавал Иван Илиазарович Тимошенко. Он был оригиналом, ко всем обращался «господин», хотя этому господину было 10–13 лет.
«Господин Шульгин, что такое ксантос?» — «Златокудрый». — «Садитесь, единица. Ксантос — это белокурый».
«Господин Шульгин, что такое леуколенос?» — «Белолокотное, Иван Илиазарович». — «Садитесь, единица. Это белоколенное. Это вы взяли у Жуковского».
Через некоторое время снова спрашивает: «Господин Шульгин, что такое ксантос?». — «Белокурый». — «Садитесь, хорошо, зачеркиваю единицу». Он был добродушным хохлом и невозмутимым юмористом.
Читали Гомера, тут же он нам объяснял слова. Гомера ненавидели.
«Прочитайте, господин Шульгин, новый отрывок». Читаю. «Как всегда господин Шульгин читает с экспромта». И, обращаясь к моему соученику: «Господин Френкель, вы не смотрите на господина Шульгина. У него прекрасные способности, он исправится и перейдет в следующий класс, а вы останетесь».
Сережа Френкель был крещеным в третьем поколении. Мать — обедневшая баронесса Розен, отец — присяжный поверенный, страшный игрок. Сам Френкель в гимназии бездельничал, хотя был способный. Мы были дружны: два брата Френкеля, Мишка Кульженко, Владимир Гольденберг, еврей, и я — наша пятерка.
Мои друзья
Отец Володи Гольденберга был управляющим у миллионера Бродского, который платил ему 25 тысяч рублей, он еще подрабатывал и в год тратил 30 тысяч. Имели роскошную квартиру на Фундуклеевской, но когда дочь выходила замуж, то в приданое нечего было дать.
Володя окончил гимназию первым, затем Киевский университет. За какое-то сочинение получил золотую медаль у Дмитрия Ивановича Пихно (тогда же получил и А. Д. Билимович). После окончания университета приехал в Петербург, но бедствовал, так как отец ничего не дал.
Его мать, Елизавета Давыдовна, устроила тогда празднество на сто человек, хотя уже была больна (а вот А. Д. Билимович не смог организовать такого празднества — не на что было).
Дмитрий Иванович Пихно не пошел, послал меня. Я извинился перед Елизаветой Давыдовной, а она сказала: «Получить золотую медаль — это хорошо, а у Дмитрия Ивановича Пихно — вдвойне приятно». Надо заметить, что Володя был ярый монархист.
Когда я пришел, Миша Кульженко, увидев меня, поднял вверх два пальца. Я понял: нас здесь только двое русских.
Пели студенческие песни. Ко мне подошла Лёля Калисман: «Какой у вас красивый голос, как вы приятно поете». Хотя ребята говорили мне, что голос у меня отвратный. Я ей нравился, она мне тоже. С ее сестрой Людей встречался Володя Гольденберг.
Когда был процесс Бейлиса
2, я получил от Лёли письмо с Волги, она не подписалась («Если б Вы знали, кто Вам пишет»), но я по стилю узнал. Она уже была замужем за каким-то евреем, которого не любила. Писала: «Вы совесть России». Уже соображала.
* * *
Володя Гольденберг в Петербурге женился на интересной еврейке из Вильно. Когда я со своею женою Екатериною Григорьевною приехал в столицу, он познакомил нас с нею. Она говорила, что «друзья моего мужа — мои друзья, и я хочу с ними познакомиться».
Году в 1904-м я приехал в Петербург и зашел к нему. Его не было, она провела меня в кабинет и развлекала. Я сидел, а она ходила по комнате и что-то собирала в фартук по углам. Подходит ко мне и показывает: «Смотрите, там пятерки, трешки, рубли… К Володе приходят евреи, которым он оказывает услуги, и они дают ему деньги, а он с отвращением их бросает в разные углы. Я собираю… Что делать, это источник нашего существования».
Затем пригласила меня пить чай в столовую.
«Вы знаете, я истеричка?» — «Не верю!»
Закатала рукав на левой руке и попросила пальцем на коже, где вены, написать. Я написал: «ВГ». Закрыла. Пьем чай, через десять минут открыла. Крупным рубцом: «ВГ».
Впоследствии Володя с ней развелся. После революции уехал, по-моему, в Берлин. Больше я о нем ничего не слышал.
* * *
Миша Кульженко был сыном владельца типографии и двух писчебумажных магазинов. Учился неважно. Нагнал я его в пятом классе (он остался на второй год), и он вошел в нашу пятерку. Был веселый, но несколько грубоватый. Мы с ним очень дружили. Называл меня «Тряпка». Я был покладистый («Куда пойдем?» — «Куда хочешь». — «Половая тряпка»).
Пел он, голос был прескверный, но он не стеснялся, кричал немилосердно. Особенно у него грубо выходил нежный романс:
Мне верить хочется,
Что этих глаз сиянья
Не омрачит гроза житейских бурь,
Что вечно будет в них
Могучье обаянье…
После окончания гимназии он занимался делами отца. Когда и куда эмигрировал, не знаю. Встретился с ним уже в эмиграции в Париже. На что он там жил, понятия не имею.
* * *
В Париже очутился и Сережа Френкель. Он был влюблен в Софью Григорьевну Градовскую, сестру моей жены. Но она с ним жестоко поступила. Есть игра секретер (почта): пишут друг другу записки и на них ответ. Так вот, Соня (она была «Киев») получает записку: «Киев, Киев, город стольный, к тебе летит мой вздох невольный», — пишет Сережа. Она отвечает: «Вздох этот мне знаком, он пахнет чесноком». И не обиделся, только напился.
Он в жизни был маленький и горбатый. После окончания гимназии уехал в Бельгию и окончил университет в Льеже по электротехнике. Женился на еврейке, которая его страстно любила. Когда он погиб, она мне написала: «Сережа хотел, чтобы я приняла христианство. Так вот, я его принимаю и прошу Вас быть крестным отцом».
В эмиграции он был комиссионером — перепродавал кинофильмы и на этом зарабатывал. Иногда сидел без денег. Был он замечательным переводчиком, с французского на русский перевел поэму Виктора Гюго «Гибель Сатаны». Она была издана на русском языке.
Главный труд его — перевод поэмы В. Гюго «Бог», где автор великолепными стихами изложил суть всех религий. Эта переведенная поэма не нашла издателя. Он переводил ее уже во время Гражданской войны. С женою они приютились в какой-то комнатке в Ростове-на-Дону. Сидел на корзине, стульев не было, укрывшись тряпьем от холода. Из носа от недоедания шла кровь.
Он пробрался в Москву, встретился с Луначарским, и тот его выпустил за границу. С Луначарским он учился в 5-й киевской гимназии, в которую перешел из 2-й.
* * *
Потом вместе с Мишей Кульженко и Сергеем Френкелем мы сидели на Montmartre boite (увеселительное заведение). Быть в Париже и не видеть этого нельзя. Сначала сидели в кабинете. Пришли дамы, которые продают розы, абсолютно голые. Потом пошли в театр, тут же в буате. Представление, балет с полуголыми девицами (груди голые).
Миша обратился к балеринам: «Что вы руки вверх держите. Мы эти штучки знаем: руки вверх — груди стоят. А вы их вниз опустите».
У него была жена, киевлянка, которая, как он уверял, была красива, на самом деле уродлива.
Он говорил мне: «Знаешь, несмотря на то, что я русский, моя бабушка была жидовка». Этим, по-видимому, объяснялось его нахальство. Где и как он кончил, не знаю.
* * *
Когда мы с Марией Дмитриевной, моей второй женой, жили на юге Франции, Сергей Френкель к нам заезжал, иногда и мы к нему. Вдруг получаю телеграмму от его жены: «Случилось несчастье. Мы в Ницце». Поехали срочно. Этель рассказала, что десять русских эмигрантов сидели в кафе, вдруг итальянские анархисты бросили бомбу. Три дамы уцелели, а все семеро мужчин были ранены, и лишь Сергей тяжело.
В Ницце был небольшой оплот из русских медицинских светил. Туда наезжал известный профессор Алексинский из Парижа. В день моего приезда приехал и он. Взял Сергея на стол и из его мозга извлек тридцать осколков, не повредив нервную систему: сохранил зрение, память. Но парализованной осталась рука, рот съехал набок, и исчезла его жизнерадостность.
Сергей выжил и жил еще целый год благополучно, Этель радовалась. Но через год опять тяжело заболел. И опять приехал Алексинский, оперировал вторично, что-то извлек. Жил еще год, потом снова приступ, и он умер.
Примерно в это же время, еще до поездки в Ниццу, врач-француз сказал, что мне надо сделать две операции: грыжи и аппендицита по четыре тысячи франков каждая плюс две тысячи за лечение, итого десять тысяч! Я пришел в ужас: откуда взять деньги? В Ницце я
обратился к Алексинскому. Он осмотрел меня и сказал, что никакой грыжи и аппендицита нет…
* * *
В это время у нас жила одна интересная дама, с которой меня познакомил В. А. Маклаков (он говорил потом: «Вот, пригрел змею»). Она приехала к нам и заболела: боли были у нее в боку. Я обратился к Алексинскому, он приказал привезти ее немедленно и сделал операцию аппендицита. Извлек бисерину, которую она проглотила.
Алексинский в нее влюбился и женился. Вначале он присылал мне письма, в которых рассыпался в благодарности, затем замолчал. Уже в Югославии получил в Карловцах телеграмму: «Я в Белграде. Больна. Приезжайте». Я поехал. Рассказала, что приехала к друзьям, была в горах, каталась на коляске, упала и ударилась щекой с больным зубом. Видимо, гной растекся, у нее температура. Вообщем, спасайте.
Сначала вызвал русскую медицинскую сестру для ухода, затем обратился к одному русскому врачу, поехал за ним на такси и отвез его в гостиницу. Он осмотрел Нину и сказал, что надо сварить гречневую кашу и прикладывать ее к щеке. Она попросила меня: «Скажите в гостинице, что вы врач, и сделайте, что он велит». Я сделал всё, но не помогло, боль ужасная. Позвонил в госпиталь, откуда прислали русскую сестру, и сдал им эту Нину, потом позвонил Пельцеру — голландцу по национальности, москвичу в душе. Он окончил Московский университет, но сохранил голландское подданство. Пельцер договорился с лучшим белградским зубным врачом, и мы с сестрою отвезли к нему Нину. Сидели в приемной. Вдруг раздался страшный крики, наконец, ее вывели. Врач сказал: «Тот, кто рекомендовал вам класть гречневую кашу, хотел вашей смерти».
Ей нужно было в этот день уехать. Это был последний поезд на Париж в 1939 году, так как мы знали, что будет война, а нужно было еще в банке разменять доллары, купить билет, а билетов не было. Но я справился с этим делом, и на такси мы подъехали к вокзалу, когда поезд отходил. Я впихнул ее в вагон уже на ходу…
Во время войны Нина опять появилась в Югославии. Вызвала меня, я приехал, привез фиалок. Она мне сказала: «Ну, спасибо Вам, удружили». — «Что случилось?»
«Я хотела покоя. Думала, он зарабатывает колоссальные деньги, и я буду обеспечена тихой и спокойной жизнью. Он игрок. Все, что зарабатывал, спускал в Монте-Карло. Ни завтраков и обедов, беспорядочная, хаотичная жизнь, долги. Наконец он сбежал от меня в Африку — я его не удерживала, — и там, в Марокко, его убил неизвестно кто».
Нина была эффектная женщина и деловая. Занималась перепродажей имений.
А его двоюродный брат Григорий Алексинский был депутатом 2-й Государственной Думы от петербургских работах. Внешне был очень невзрачный, маленький, горбатенький. Как я узнал потом, это он излагал с трибуны Государственной Думы проект Ленина об отчуждении земли.
Мария Дмитриевна была знакома с одним офицером-артиллеристом, Николаевым, очень порядочным (их было мало в Белой армии). Он рассказывал, что когда началось братание, то их, артиллеристов, послали в какую-то пехотную часть, которая митинговала. Сделать они ничего не могли, просто наблюдали за происходящим. Увидели, как какой-то маленький горбатый человек говорил с машины: «Что вы делаете, Россию губите! Идите в атаку».
А профессор Алексинский у Врангеля, в Константинополе, был членом Русского Совета. Я там с ним и познакомился.
* * *
Но возвращаюсь к Френкелям. У Сергея был брат Женька Френкель. Он унаследовал от отца страсть к игре. И жил игрой, причем шулером не был, играл честно. У него была жена немка. Например, если Женька с кем-либо спорит, то она из другой комнаты: «Женя прав», — не зная даже, о чем спор.
Был еще третий брат, старший, Александр Андреевич. Он, еще будучи гимназистом, написал стихотворение в честь приезда персидского шаха в Киев. Тому перевели, он был тронут и прислал Александру три халата. Дирекция гимназии была возмущена, и ему поставили три за поведение.
И Женька, и Александр эмигрировали. Последний отличался страшно сварливым характером. Сережа хотел с ним связаться, прислал мне для него письмо и указал, куда я должен буду пойти, чтобы его найти — в какое-то кафе. Но как я его там найду? И это предусмотрел Сережа. Он писал, что мне необходимо только обратиться к барышням и спросить, кто у них тут постоянно ворчит? И они сразу его найдут. Я так и сделал. Они и передали Александру письмо от Сергея…
Шаляпин
Первый раз увидел его, когда был студентом — он пел в Киеве Мельника в «Русалке». Пел в маленьком театре, голос звучал прекрасно…
У Екатерины Григорьевны Градовской был поклонник, некий Вуич, бывший помещик Херсонской губернии, а в описываемое время страстный карточный игрок. Знал все оперы и мог их насвистывать, признавал только итальянские оперы и «Фауста».
У меня с ним всегда были стычки: «Вася, ты запомни, что в Италии все сапожники певцы, а у нас все певцы сапожники». Я вернулся тогда от Шаляпина — Вуич еще не ушел, он приходил к нам обедать и проводил время до того, как идти в клуб — и сказал, что слушал настоящего русского певца. Федор Николаевич перелистывал книжку Жуковского, которую я читал. Спросил: «Ты читаешь эту чушь? Ведь люди никогда не полетят». — «Нет, полетят, а Шаляпин будет петь в Ла Скала»…
* * *
Как-то весною приехал Шаляпин в Киев на гастроли. Отцы города наняли прекрасный пароход. Была весна, и Днепр разлился, поэтому ему предложили, что пароход пойдет туда, куда он захочет. Приглашены были именитые гости (сидели), а вокруг стояла молодежь.
Шаляпин заявил, что хочет кутить. Он заметил, что какая-то гимназистка лет шестнадцати стоит рядом с ним и все время повторяет: «Федор Иванович, Федор Иванович…». — «Что вам сделал Федор Иванович?» — спросил он. — «Вы самый счастливый человек!» — «Как же вы себе представляете шаляпинское счастье?» — «Утром вы творите в студии, вечером — в театре, овации, цветы, всеобщее поклонение…».
Он выслушал, горьковато улыбнулся и сказал: «Дорогая барышня, а вы когда-нибудь подумали о том, как трудно быть на высоте, и на высоте кого? Ша-ля-пи-на! Я еду куда бы то ни было, а впереди бежит моя слава — мой враг. Она растет с каждым днем, а голос мой падает. И придет день, когда Федор Иванович останется, а Шаляпина уже не будет».
Это мне рассказал Анатолий Иванович Савенко, член Государственной Думы и старый сотрудник «Киевлянина». Он при этом присутствовал…
* * *
Прошли годы. Приехал Шаляпин в Белград, дал два спектакля. Один по бешеным ценам, другой бесплатно для бедных русских. Я с трудом достал билет, но отдал его своей жене Марии Дмитриевне, так как она никогда его не слышала. Она вернулась с концерта в слезах: «Он гений, так бороться с потерей голоса! А его уже нет».
В это время к нам пришел Пельцер. С Шаляпиным ездил врач, еще московский друг Пельцера. Он навестил Пельцера и рассказал, что голос Шаляпин теряет.
Кроме врача, Шаляпин возил с собою еще какого-то человека, не врача, не артиста, неизвестно кого. Этот человек все время внушал Шаляпину, что никогда еще у него не было такого голоса, как сейчас. «Возьмите ноту, Федор Иванович!» — говорил он. Тот брал. «Идите и пойте!». И тот шел и скрипел кое-как.
После этого спектакля Шаляпин выступил перед русскими журналистами и произнес очень хорошую речь. Уходя, помахал рукой. Таким я его и запомнил…
Н. Х. Бунге
Профессор Николай Христофорович Бунге, лютеранин, был министром финансов, затем председателем Комитета министров. Мой крестный. Завещал, чтобы на его похоронах отслужили православную панихиду. В сознательном возрасте впервые увидел его уже мальчиком в Петербурге. Он приехал от царя в мундире, а я страшно сконфузился, думал, что он в кальсонах.
В. Я. Демченко
В Киеве был очень энергичный человек, Всеволод Яковлевич Демченко. Состоял сначала в городской управе, потом в киевском земстве. Он был первым, кто провел в Киевском уезде телефон. Был новатором. Потом стал членом Государственной Думы.
Отличался колоссальной энергией. Когда началась война, он открыл мастерскую по изготовлению обуви, понимая, что на нее будет спрос. Организовал поточное производство. Можно было идти по цеху не спеша и, войдя с заготовкой, выйти с сапогами.
Но иногда делал глупости. Когда после Февральской революции было избрано новое земство, то он, принадлежа к фракции прогрессистов-националистов, выступил с совершенно неприличной речью. Сказал, что старая власть даже Евангелие запрещала читать. Один мужичок встал и сказал: «Да ведь никто не запрещал, а вот читали ли вы его?».
После этого была баллотировка, и он получил один голос, хотя сделал много для земства: провел канализацию в Киеве, покрыл улицы гранитной брусчаткой…
Он женился второй раз на молодой, красивой и нежной девушке, урожденной Штраус. Помню, уже после Октябрьского переворота, он пригласил нас обедать. Пришли вовремя. Его не было, приняла жена. Было холодно, в каминах горели дрова. Она стала мне говорить: «Вы знаете, жизнь со Всеволодом невыносима. Он встает в шесть утра и убегает по своим делам. Ни на обед, ни на ужин не приходит. Однажды уговорила пригласить меня в театр, так он вскоре удрал. Вот и сейчас, пригласил вас, а самого нет. Он фанатик работы. Зачем я ему, не знаю».
Решили сесть без него. Наконец появился он, съел суп и убежал…
Он хвастался, что его имение не сожгли, а он в это время заигрывал с украинствующими. А потом они же и сожгли. Я сказал ему, что, вот, я не заигрываю с ними, и мое имение не сожгли.
Вообще он был добрый человек. Особенно я оценил его в Яссах, когда умирала Дарья Васильевна. Он тогда тоже участвовал в Ясском совещании. После этого я его больше не видел. Знаю только, что жена его бросила и вышла замуж за какого-то молодого офицера…
Мои родители
Своего отца, Виталия Яковлевича Шульгина, я, естественно, не помню. Он скончался, кажется, от воспаления легких, когда мне едва минул год.
Мой дед, Яков Игнатьевич Шульгин, был чиновник, служил в Могилеве на Днепре. Затем переехал в Нежин. Там мой отец учился и закончил Нежинский лицей, тот самый, который окончил Гоголь.
Затем Виталий Яковлевич поступил в Киевский университет Св. Владимира, после его окончания получил кафедру истории и считался одним из самых блестящих лекторов. Одновременно он читал и в киевском институте благородных девиц.
Отец не имел докторской степени. Когда он написал диссертацию, то совет университета присвоил ее ему голосами всех профессоров, кроме историков. И так как историки проголосовали против, Виталий Яковлевич отказался принять докторскую степень. Министр просвещения, кажется, Головнин, пользуясь своим правом, со своей стороны присвоил ему эту степень, но он тоже отказался ее принять.
Виталий Яковлевич был человек совестливый и гордый. Он расстался с университетом и всецело посвятил себя другой стезе просветительской деятельности — публицистической трибуне, основав в 1864 году газету «Киевлянин». Это было вскоре после польского восстания, почему первая передовая статья «Киевлянина» начиналась словами: «Этот край русский, русский, русский…», и эта традиция продолжалась до самого конца издания газеты. Сначала защищали южнорусский край от поляков, затем от украинствующих. Однако от евреев не защищали, потому что никто их всерьез не принимал.
* * *
Моя мать, Мария Константиновна Шульгина, была дочерью дворянина Константина Григорьевича Попова, который благодаря этому обстоятельству поместил всех своих трех дочерей в киевский институт благородных девиц.
Во времена Лескова мой дед по матери служил в канцелярии киевского генерал-губернатора, но это его не удовлетворяло и он занимался различными финансовыми делами. В результате то богател, то разорялся.
Однажды он взял почту. Почта в те времена возила письма и людей. А станции были казенные. По большей части это были небольшие типовые каменные домики с готическими окнами, построенные в царствование Николая I. Почему он взял почту? Любил лошадей. Купил прекрасных лошадей, которые возили быстрее положенного. И разорился.
Положено было ездить со скоростью двенадцать верст в час, а курьерской почте — пятнадцать. Так и возили, но если давали на чай, то делали и по двадцать верст. В результате загнали лошадей…
Наконец, Константин Григорьевич успокоился, приобрел фантастическую усадьбу в Киеве: рощи, рвы, пруды и прочее. Построил деревянный домик и в нем жил…
Дед был безобразен. Его жена, Полина Михайловна Данилевская, была очень красива. По утрам дед сидел на веранде в красном шелковом халате и колпаке на лысой голове, что еще более подчеркивало его уродство, и ждал кофе, который ему готовила бабушка.
Обычно за оградой в это время толпились хохлушки, с любопытством наблюдая за ежеутренним ритуалом. Однажды одна говорит другой, указывая на деда пальцем: «Бачь, якá малпа
[15]!».
* * *
Когда Виталий Яковлевич в начале шестидесятых годов женился на моей матери, вернее, Мария Константиновна сама женила его, то он к этому времени получил даром около университета участок земли в девятьсот квадратных сажен (немногим более четырех десятых гектара). Около университета был огромный пустырь, который раздавали профессуре. На этом участке Виталий Яковлевич построил три особняка.
На углу Кузнечной (под номером первым) и Шулявской (под номером пятым), ныне улице Льва Толстого, он построил особняк побольше.
Почему переименовали Шулявскую в Льва Толстого, не знаю. Вероятно потому, что в девятом номере жила Татьяна Кузминская. С Мишкой Кузминским, ее сыном, мы учились в университете. Он меня иногда приглашал к себе, но я был глуп и не приходил. Он был учеником Андреева и прекрасно играл на балалайке. Мишка был «белоподкладочник» и нечист на руку (были благотворительные спектакли в пользу недостаточных студентов, и при сдаче денег у него вышли недоразумения).
Второй домик, поменьше, на Шулявской, Виталий Яковлевич построил для родителей жены, а потом там жили Градовские.
Третий дом, на Кузнечной, он построил для своих родителей, потом там жил я.
В большом особняке угол был скошен, и там было венецианское окно. Виталий Яковлевич с женою жил в большом, угловом, особняке. Там же размещалась редакция газеты «Киевлянин». В угловой комнате с момента постройки дома стоял лимон, который никогда не цвел, потому что солнца было мало. Таким я его и оставил, когда навсегда покидал Киев.
* * *
Типография была сначала на Шулявской, в доме напротив, рядом с баней немца Михельсона. Дочь Михельсона была подругой по гимназии моей второй жены Марии Дмитриевны. Между прочим, когда Михельсон умер, его вдова вышла замуж, но дочь отбила отчима у матери и вышла за него замуж…
Затем, когда построили на месте флигеля Градовских на Шулявской каменный трехэтажный дом, туда перебралась редакция «Киевлянина» и типография Кушнирева (они снимали часть дома).
Думаю, будет интересно рассказать, что в этом доме жила Екатерина Викторовна Гошкевич, будущая Сухомлинова. Секретарь «Киевлянина» Софья Ипполитовна Рудановская снимала в нем квартиру, но так как она была ей велика, она сдавала две комнаты матери и дочери Гошкевич. Мать была акушеркой, а дочь Екатерина Викторовна работала машинисткой у нотариуса, получая двадцать пять рублей в месяц.
Гошкевич очень старая фамилия, она упоминается у Гончарова в его книге «Фрегат Паллада». Отец Гошкевич оставил дочь и жену и где-то на Херсонщине издавал газету. С Екатерины Викторовны, когда она была еще ребенком, Васнецов писал младенца на руках Божьей Матери во Владимирском соборе.
* * *
Маму помню плохо. Помню спальню в угловом доме, длинное зеркало, перед ним сидит мама, лицо очень бледное, а волосы черные до синего отлива. По-видимому, она была больна. Я стоял у окошка, а она, расчесывая волосы, учила меня басням Крылова.
Еще воспоминание. Сидит бабушка Попова-Данилевская в глубоком кресле, ноги на скамеечке, вокруг нее дети, и я в том числе. И бабушка плачет. Мне было пять лет, и я не понимал, почему все говорили: «Сиротки, сиротки»…
Помню похороны. Маму привезли из Франции (она умерла в Ментоне). Пришло много народу, так как она была популярна в определенных киевских кругах. Была даже конная полиция для порядка. А я думал — казаки.
Много лет спустя, когда я был уже членом Государственной Думы, очень много мне рассказала о маме ее институтская подруга.
На каком-то собрании после моего выступления ко мне пробилась старушка и сказала, что знала моих родителей и хотела бы поговорить со мною. Она была на пенсии и жила в Смольном. Как всегда, я был занят, но поехал. Помню, мы сидели в небольшой скромно обставленной комнате, и она рассказывала:
«В старших классах института очень любили вашего отца, он был некрасив, но мы его называли “Солнце”. Когда он говорил, его лицо было прекрасно». Он читал им историю, на его лекции приезжали губернатор и генерал-губернатор. «Ваша мама кончила институт с шифром, и вдруг мы узнаем, что Мари вышла за “Солнце”. Мы негодовали — как она смела! В младшем классе училась племянница Виталия Яковлевича, мы ее часто расспрашивали, как они живут, и девочка простодушно рассказывала, что тетенька называла его Мишкой. Почему? Он был неуклюжим, и тетенька говорила ему: “Мишенька, потанцуй”. И он танцевал».
* * *
Помню очень хороший портрет мамы с бабушкой. Бабушка сидит в кресле, а моя мама прильнула к ее груди. Портрет был дома.
Умерла она в Ментоне на руках моей сестры Лины и моего отчима Дмитрия Ивановича Пихно.
Мой дядя Николай Яковлевич Шульгин
Не знаю, кем был брат моего отца Николай Яковлевич Шульгин. Он умер до моего рождения, оставив после себя какой-то капитал. Мой отец страстно любил его платонической любовью. Он взял в свой дом его жену (ее звали Марией) и детей
3.
Его сын и мой двоюродный брат Яков Николаевич учился в университете, примкнул к украинствующим революционерам и отдал им свои деньги, которые после смерти его отца сберег Виталий Яковлевич. В результате Яков Николаевич разошелся с моим отцом.
Был сослан, но по просьбе Виталия Яковлевича возвращен, одумался, порвал с революционерами и стал преподавать русский язык в гимназии.
Его сын и уже мой двоюродный племянник Александр Яковлевич Шульгин стал украинским националистом. Окончил какой-то университет, стал профессором, был министром иностранных дел в правительстве Центральной Рады и послом в Константинополе при гетмане Скоропадском. По словам лиц, с ним встречавшихся, был обаятельным человеком. Но я с ним никогда не виделся.
Дочь Николая Яковлевича, Вера, вышла замуж за Науменко. Он преподавал русский язык и литературу в гимназии, в которой я учился. Был вежлив, красноречив, но подвержен вспышкам гнева. Обыкновенно на его уроках класс замирал.
Я сидел рядом с Альбицким — дрянь ужасная. Он меня постоянно щипал, не давал сидеть спокойно. Я защищался. И вдруг грозный крик: «Шульгин и Альбицкий, я вас так выброшу в коридор, что косточек не соберете». Затем ко мне: «Шульгин, я не посмотрю, что вы Шульгин». Я тогда еще не понимал, что это значит.
Позднее Науменко основал частную гимназию, очень превосходную. В течение примерно двадцати пяти лет издавал журнал «Киевская Старина». Он украинствовал, но в меру.
Моя жена Екатерина Григорьевна
Екатерина Григорьевна была старшей дочерью Григория Константиновича Градовского и Евгении Константиновны Поповой, родной сестры моей матери. Катя была старшим ребенком. У них были еще сыновья Сергей и Виталий Григорьевичи и между ними дочь Софья Григорьевна.
В основе своей Градовские — польский род, но давно обрусевший. После завоевания Новороссийского края они стали херсонскими помещиками, но еще отец Григория Константиновича потерял свое имение и ничего не оставил сыну. Правда, другой его сын, Николай Константинович, каким-то образом сохранил его небольшую часть, Макаровку, и оставил ее своей дочери Ольге Николаевне, кузине Кати. Ольга Николаевна вышла первым браком за гвардейского офицера фон Крузе и имела от него двух дочерей — Киру и Ирину. Вторым браком она вышла за драгуна Гелитовского, и у них детей не было. Прошли годы, фон Крузе умер, а Гелитовский погиб во время Первой мировой войны. Ольга Николаевна с дочерьми продолжала жить в Петербурге.
Когда мы с Дмитрием Ивановичем Пихно жили в Петербурге, то нам была необходима какая-нибудь обстановка. Оля предложила купить у нее, ей нужны были деньги. Нам эта обстановка совсем не подходила, к тому же была дорога, но мы все-таки купили. Эти деньги ее выручили на первое время, но потом дела ее пошли хуже. И ради денег стала она шикарной кокоткой. Как-то Стахович с восхищением сказал мне: «Познакомился с вашей кузиной». Она, действительно, была хороша. Небольшого роста, прекрасно сложена, маленькие ножки, ручки…
Я иногда их навещал. Часто девочки, открывая дверь, говорили: «Мама спит, вернулась очень поздно». Ведя такую жизнь, кое-как перебивалась. Они жили около Думы, в каком-то переулке. Как-то явилась ко мне и говорит: «Мне нужно уехать». Я понял, уехать с очередным любовником. «И прошу тебя, навещай Ирину. Однако предупреждаю, она в тебя влюблена. Но я тебя знаю и доверяю».
Киры уже не было, а Ирина окончила гимназию. Я навещал ее, но она, бедняга, даже не могла открыть дверь. Завертывала ключ в бумажку и выбрасывала мне в форточку. Проводил у нее некоторое время, она играла на рояле… Все, слава Богу, сошло благополучно. Через какое-то время Оля вернулась, благодарила меня.
Позднее, уже в Киеве во время Гражданской войны, ко мне приехала Оля, заплаканная и в трауре: «Лучше бы ты сделал ее своею любовницей!» — «Что случилось и кого?» — спросил я. «Ирину», — был ответ.
Оказалось, она уехала в Добровольческую армию, поступила в нее сестрой милосердия, там ее какой-то офицер приревновал и убил.
* * *
Но вернемся к моей жене. Екатерина Григорьевна окончила министерскую гимназию в Киеве с золотой медалью и поехала в Петербург к отцу, который там жил. Ее отец и мать давно разошлись, а когда он сошел с ума, мы с Екатериной Григорьевной привезли его в Киев, и Евгения Константиновна — святая женщина! — десять лет ухаживала за ним. В Петербурге Катя поступила в Императорское училище драматического искусства, успешно окончила его, научившись хорошей речи, четкой дикции, интеллигентным манерам. После окончания училища получила ангажемент в Белгороде, но антреприза лопнула, потому что город был маленький. Вскоре она познакомилась с Федором Николаевичем Вуичем…
Вуичи были тоже, как и Градовские, херсонскими помещиками, но все давно спустили. У Федора Николаевича уже ничего не было. Возможно, Вуичи и Градовские были знакомы по прежней помещичьей жизни. В семье Градовских его называли «Дяденькой». Жил он карточной игрой и славился во всех южных клубах. Известный винтер, он никогда не проигрывал в винт. Сесть с ним играть считалось большой честью. Уходил играть вечером, возвращался утром, выигрывал за ночь десять-пятнадцать тысяч рублей. Смотрел на это как на тяжелую работу.
Шесть дней играет в винт, а в воскресенье садится играть в макао или в банк — азартнейшие игры — и все продувает. В понедельник снова выходит на работу — играть в винт…
Жил только в гостиницах, никаких квартир не признавал. Не помню где, но он познакомился с Екатериной Григорьевной и влюбился в нее, правда, так, абсолютно без всякой надежды. Был немолод, некрасив и непрезентабелен. Все это ничего, но у него была болезнь — «пляска святого Витта». Перед каждой дверью, прежде чем взяться за ручку, он плясал. Вызывал у Кати чувство жалостной гадливости.
Вот он и задумал сделать карьеру Екатерине Григорьевне. Поехал в Елизаветград, там у него был приятель по фамилии Канневельский, богатый херсонский помещик, сохранивший свое имение. Он был не совсем нормальным человеком, но все-таки еще ничего, а вот сын у него был полный идиот. Этот Канневельский загорелся херсонским патриотизмом и задумал прославить Елизаветград хорошим театром: «У нас должен быть свой театр, организуем его сами. Средства дам я. А юнкера нас поддержат». Он имел в виду, конечно, моральную поддержку юнкеров
4.
В итоге Канневельский дал Вуичу большие деньги, тот поехал в Москву на первую неделю великого поста. В это время обычно там собирались актеры и антрепренеры. Федор Николаевич был неопытным в этих делах, но труппу все же набрал. Ее и привезли в Елизаветград. Здание театра в городе было, но сам театр как таковой бездействовал…
* * *
Катя приезжала иногда в Киев из Петербурга, потом из Белгорода навестить мать. В один из приездов — мне было тогда 15 лет — она произвела на меня впечатление: столичная штучка! Ее встречали мать, братья, сестра. Она спросила: «А это кто?». Ей назвали меня. «A-а, это Вася, Бась — экипажная мазь», — пропела она. Так мы познакомились.
Через некоторое время она приехала уже играть в Киев. Ей дали дебют в театре Соловцова. Играла она пьесу Зудермана «Родина». Страшно труден первый выход. Она должна была выйти из-за кулис со смехом. Нужно было естественно хохотать, но не комично. Дебют не был удачным, она не понравилась, хлопали спокойно и ей не предложили дальнейшую игру. Это ее ужасно огорчило. Вот после этого и последовало предложение в Елизаветград. «Дяденька» не испугался ее неудачи.
* * *
Я был уже постарше, в это время мне было семнадцать лет, и я только что вернулся из путешествия по Европе. И тут я с Катей нашел общие точки соприкосновения. Все — ее мать, братья, сестра — говорили, что мы похожи и роста оба высокого. У нее были слегка рыжеватые волосы, а у меня русые.
С радости веселия кудри хмелем вьются,
С горя без печали русые секутся.
Блондинки холодны подчас,
Брюнетки ветрены, лукавы.
Но если рыжая полюбит вас,
То кровь ее шипит как лава.
Ну, пара, так пара…
Однажды в редакцию «Киевлянина» прислали два пригласительных билета на скачки. Моя сестра предложила ей. «А с кем?» — спросила Катя. «Да вот, с Васей», — ответила Павла Витальевна.
Был чудный сентябрьский день, на скачках было интересно. За эту прогулку мы как-то сблизились. Я помню свое ощущение, будто я не на улице, а в чудесной оранжерее, так было мягко, тепло, хорошо, чудесно. Домой приехали как будто немножечко пьяные, хотя ничего не пили. Это было в день ее отъезда, 23-го сентября старого стиля 1895 года. Ей надо было ехать в Елизаветград.
Провожали. Евгения Константиновна плачет: «Одна едет». «Так я провожу ее, ну, хотя бы до Фастова», — предложил я. Поехали до Фастова. Я с ней попрощался, вышел из вагона, зашел на вокзал и купил билет до Белой Церкви. Вернулся в вагон. Она ахнула: «Уходи, уходи скорее, поезд отходит…» В Белой Церкви все повторилось. Так я и ехал, покупая билеты. Последний билет был до Елизаветграда.
В Елизаветграде нас встретили, то есть не меня, конечно. «Дяденька», Канневельский, другие и Варюша, нечто вроде швеи, могла и обеды делать. Состояла при Кате и выехала раньше. Приготовили Кате хорошую квартиру — маленький особнячок. Помню, там стояло пианино. А меня «Дяденька» взял в гостиницу.
* * *
Пробыл я в Елизаветграде несколько дней, но надо было возвращаться в Киев, все-таки я был студентом первого курса. Кроме того я начал брать уроки английского и из-за отъезда не приготовил задание. Учила меня мисс Ферберн, высокая, худая, страшно энергичная. В общении была приятной и очень добродушной. Еще в передней, раздеваясь, кричала: «Эй, би, си… Репит, плиз!»
[16].
* * *
Более основательно рассмотрел я актерскую жизнь на Рождество. В те времена студенты делали что хотели, и Рождественские каникулы мы начинали задолго до срока, так что в Елизаветграде я пробыл долго. Подружился со всеми актерами, вечно торчал за кулисами, играл в шашки с суфлером.
У Кати иногда собиралось несколько человек, так как жила она в особнячке. Бывал Абрамов, превосходный рассказчик, он еще служил и в оперетте. Помню, он всегда смешил нас, когда исполнял такую шутку:
«Пробрались сюда секретно,
Помешать хотите мне» —
«Неужели так заметно,
Что я женщина?» — «Вполне!
Ваши ручки, ваши ножки
И всегда лукавый вид
И ухватки резвой кошки —
Все всегда вас обличит».
Был еще актер Судьбинин, резонер
5, хотя был молодой. Но голос и наружность подходящие. Остальных как-то мало помню. Дам не было. В труппе были две примадонны: Катя и Любавина. Катю взяли для интеллигентных ролей и главных ролей в пьесах Шекспира (платили ей 500 рублей). Любавина была актрисой старой школы и годами постарше, с большим голосом и хорошим темпераментом (ей положили тоже 500 рублей). Ее взяли для так называемых зазывательных ролей. Она приехала с молодым талантливым актером по фамилии Камский, который всегда играл с Катей Гамлета, Ромео. Он был значительно младше Любавиной. И Абрамов, острый на язык, пустил ядовитую шутку: «Он сын богатых родителей, путешествует с гувернанткой».
Как-то пришлось Кате играть цыганку Азу. Ей очень шел коричневый грим, и она была похожа на цыганку. С ней был однажды такой случай: по ходу пьесы, когда она поднимается по лестнице, в нее стреляют и «убивают». На репетициях ее «убивали» на второй ступеньке. Во время спектакля же она вступила на вторую ступеньку, ждет выстрела, а его нет. На третью — нет, на четвертую — нет, и так далее. Вот последняя ступенька и, наконец, раздался долгожданный выстрел. Она очень эффектно упала, скатилась по всем ступенькам обратно вниз и «умерла». То ли пистолет не выстрелил случайно, то ли это было подстроено нарочно. Такое тоже было возможно.
Но приходилось Кате играть и другие роли, так как город был небольшим и репертуар надо было чаще менять. Отсюда и суфлеры появились, потому что за короткое время нельзя было выучить роль. Любавина в основном специализировалась на мелодрамах и у нее, как и у Кати, была своя публика. Были еще комики: комик-дурак и просто комик.
* * *
Катя пользовалась успехом у юнкеров. Среди них был один по фамилии Коншин, который в тот год кончал училище. Был он старше своих товарищей и пользовался среди них авторитетом. Кроме того был он довольно состоятельным тамошним помещиком. Он приехал как-то к Кате, нанес официальный визит и сделал предложение. Но Катя отказалась. Я его видел, был вполне приличный человек.
* * *
Я тоже выступал, но не в театре, а на собраниях, которые бывали у Кати, в роли Вольфрама или Лоэнгрина.
Жил я в Елизаветграде довольно долго. Но нет такой компании, которая бы никогда не распалась. Пришло время и мне уезжать. Собрались мы с Катей на вокзал. Времени было еще много, извозчик попался хороший, и он согласился отвезти нас за город. Стоял мороз. Она была в меховой ротонде, на лице вуаль, и ей не было холодно. Моя же правая рука, которой я ее поддерживал, сильно замерзла. И вот, когда приехали на вокзал, то из-за сильной жары и духоты со мной случился глубокий обморок. Был страшный переполох, меня вынесли на воздух, и ничего, обошлось. Ехало в Киев много юнкеров, и я, в общем, осрамился: думали, что пьяный. В утешение Катя преподнесла мне шоколад «Миньон» (петербургской фабрики Крафта).
* * *
Затем Катя, кончив сезон, который завершался к великому посту, тоже вернулась в Киев. И тут она прибрала меня к рукам. В гимназии я на второй год никогда не оставался, но учился средне, не напрягался. Правда, кончил ее рано, в семнадцать лет, и сразу поступил в университет. Конечно, то же самое повторилось в университете.
Поступил я на юридический факультет, но юриспруденция меня абсолютно не интересовала, я даже не понимал, для чего она существует. Законы есть, ну, значит, чиновники и судьи пусть с ними и возятся. Чему же тут учиться? В этом отчасти были виноваты профессора. Первая лекция на юридическом факультете должна была бы начинаться так:
— Многие, приступая к юриспруденции, не представляют себе ее великое значение. Между тем, если кто-нибудь из вас или вы все вместе выйдете на улицу и вас не ограбят и не убьют при грабеже, то это только потому, что существует уголовное и полицейское право. Кроме того, если при ограблении вы пострадаете материально, то у вас будет возможность искать убытки в порядке гражданского производства. Тут выступает на сцену гражданское право, иначе называемое римским правом. Если вы займетесь коммерцией, то вас охраняет торговое право. Если разразится война, то по латинской поговорке «inter arma tacent leges»
[17], но все же и в этот период вам до известной степени покровительствует международное право, по которому пленных не убивают, а кормят, и раненых лечат. Таким образом, из этого краткого перечисления вы видите, что вся наша жизнь пронизана правом всяких наименований, и все это в общем носит название «юриспруденция», то есть изучение права…
Всего этого нам не сказали, и было скучно учиться. Но чтобы доставить Кате удовольствие, я вызубривал дословно учебник по «Энциклопедии права» и оттараторил его ректору университета профессору барону Ренненкампфу, получив «весьма», то есть наивысшую отметку.
Почему это должно было быть удовольствием для Кати? Потому что на нее напали со всех сторон, начиная с ее кроткой матери и моего строгого отчима. Говорилось примерно так:
— Что мальчишка в нее влюбился, это еще можно понять, но она! Что она в нем нашла? Искалечит жизнь и себе, и ему.
Катя защищалась от этих обвинений тем, что заставила мальчишку, ленивого и склонного ко всякого рода глупостям, образумиться. Юриспруденцию он не полюбил, но сдавал все экзамены на «весьма». И даже получил диплом первой степени, оканчивая университет. И окончил его в двадцать два года, что было совсем неплохо, хотя мог бы и в двадцать один — задержали на год. Но об этом речь пойдет ниже…
Словом, Катя превратила меня в приличного молодого человека. Ничем не выдающегося, но и не опустившегося до довольно низкого уровня, что вполне могло бы быть. Она имела терпение читать мне страницу за страницей всевозможные учебники. Не все было интересно, скорее, можно сказать, что все было скучно. Например, запомнить тридцать родов краж не очень-то забавно…
* * *
Отношения Кати с моим отчимом установились на основе некоторой конституции. Она сказала ему, что не думает о браке, а он сказал мне: «Катя благородная девушка. И подлец ты будешь, если когда-нибудь в чем-нибудь ее упрекнешь».
А официальное положение было таково, словно ничего не случилось. Катя жила в Киеве у матери, тут же, в этой усадьбе на пересечении Караваевской и Кузнечной, а я официально числился жившим в Агатовке у Павлы Витальевны, моей сестры. Все все знали, но притворялись, что ничего не знают. Только однажды одна молодая девушка, из тех, что работали у нас, сказала мне при особых обстоятельствах: «Барышня Катя, она ваша любовница?». Я нагло все отрицал.
* * *
Дело изменилось, когда мне исполнился двадцать один год. Я кончал университет, а у Кати должен был родиться ребенок. Тогда я сказал Дмитрию Ивановичу, как обстоят дела. Он отреагировал вполне спокойно: «Ну что ж, прошло три года, ты совершеннолетний. Женись».
Однако существовало еще одно препятствие — мы были двоюродными братом и сестрою. Браки в четвертой степени родства, разрешенные католической церковью, не разрешались православной. Однако, если бы венчание произошло, то брак в этом случае не расторгался. Для этого надо было обмануть батюшку, что было Кате очень неприятно. Но пришлось. «Дяденька», то есть Федор Николаевич Вуич, поехал в Одессу и там нашел священника, который согласился обвенчать приезжих. Ему он сказал, что по некоторым причинам оглашение нежелательно.
Мы приехали уже на все готовое. Шаферами, то есть поручителями, были по невесте ее братья Сергей и Виталий, а по жениху — мой брат Павел Дмитриевич Пихно и мой друг Андрей Смирнов. Всё молодежь, и свадьба была красивая. Это произошло двадцатого января по старому стилю 1899 года.
* * *
Здесь необходимо рассказать о драматическом происшествии, которое произошло на страстной неделе в 1899 году.
Над Екатериной Григорьевной всегда висела какая-то опасность. В Белгороде их понесли лошади, но она удачно спрыгнула. Затем в Киеве. Она была уже беременна и под Пасху поехала с матерью на Крещатик купить цветов. И вдруг извозчик исчез средь бела дня. Я в это время играл в крокет. Прибежал кто-то из малышей и говорит: «Там пришла тетя Женя и кричит». Действительно, Евгения Константиновна кричала: «Погибла! Погибла!»…
Я выбежал на улицу, схватил извозчика и помчался к Бессарабке. Там толпа народа. Пробился к огромной яме. Народ стоял на краю этой ямы, в которой лежала лошадь и засыпанные дроги, и осыпал камни. Я закричал: «Надо спасать!» и собрался прыгнуть внутрь, но меня схватили за руки: «Спасена, спасена… В аптеке».
Из аптеки увез Екатерину Григорьевну домой. Раздели, осмотрели: вся в синяках. Но врач сказал, что ребенок вне опасности. Затем, когда она пришла в себя, рассказала, что ехала по Крещатику, у нее было много цветов, гиацинтов. Вдруг она стала падать и наступила темнота. На ее счастье, она упала под дрожки, и падающие следом камни не попали в голову, а только в спину. Начала задыхаться, старалась меньше дышать. Наконец ее выкопали.
Катя упала направо, а Евгения Константиновна налево и успела выскочить из дрожек на необвалившуюся часть.
Потом в дом начали приходить спасатели. Сначала я благодарил и давал широко. Количество спасателей увеличилось, стал давать меньше, пока денег не осталось совсем.
Крещатик — это глубокая ложбина между гор, размываемая ливнями. В этом месте недостаточно хорошо было засыпано, верхний слой размылся, пока не обвалился. Лошадь пристрелили, потому что ее не могли вытащить — было очень глубоко, до шести метров.
Как я стал правым
Я мог бы кончить университет еще в 1899 году, но запоздал на год по причине так называемых университетских беспорядков.
Весною 1899 года я зашел в университет, что делал не очень часто. На этот раз там царило великое возбуждение. Лекций не было, масса студентов заполнила коридоры, а аудитории были пусты. Эти коридорные студенты заявляли, что они не допустят лекций в связи с протестом против того, что случилось в Петербурге. Казаки, мол, избили на улицах столицы студентов ни за что ни про что. В доказательство этого продавались (!?) — по рублю штука — фотографии с натуры, кто-то заснял расправу. Я купил несколько экземпляров. Так как в то время я уже был достаточно опытным фотографом, то сразу же установил, что это не снимок с натуры, а было нарисовано и затем переснято. Прежде всего земля. В натуре могла быть мостовая или же снег, так как дело было зимою. А на снимках было нечто неопределенное, условная земля, как это бывает на рисунках. Потом линия крыш зданий явно была не верна. Но, не доверяя себе, я поехал с этими снимками к профессиональному фотографу, и он подтвердил фальсификацию. Значит, борцы за правду прежде всего начали со лжи.
Затем они не ограничились тем, что убеждали или просили своих товарищей по университету добровольно не посещать лекции. Против этого нельзя было бы возражать, разве только можно было бы сказать, что в университете не место политике, протестуйте на улице по примеру петербургских студентов. Но киевские «протестанты», в своем большинстве евреи, были хитрее. Не подвергая себя опасности уличных репрессий, они перешли в наступление и силой закрывали аудитории. Они врывались толпами к ректору и в помещения, отведенные для отдыха профессоров, и требовали, чтобы профессора присоединились к забастовщикам и не читали лекции.
Это меня накалило. С несколькими друзьями я старался образумить их. Во-первых, сказал им, что фотографии подделаны, но они ничего не понимали в технике и вопили: «Видно же, что это с натуры!». Одним хотелось в это верить и их было не разубедить. Другие отлично всё понимали, но делали нарочно. Во-вторых, мы заявили им, чтобы они не ходили на лекции, если не хотят, но пусть не мешают другим: «Протестуя таким образом против насилия, вы совершаете самое грубое насилие по отношению к вашим товарищам».
Они ничего не хотели слушать. Совет старейшин постановил объявить забастовку, и они ее проведут. Совет старейшин, или иначе Совет старост, был будто бы избираемой коллегией по всем факультетам от всех курсов. Факультетов было четыре, курсов тоже четыре, так что Совет старейшин состоял из шестнадцати-двадцати человек (медицинский факультет имел пять курсов). Но выборы эти проводились тоже мошенническим образом, таким, чтобы выбрать тех, кого было нужно. Кто же руководил всем этим движением? Всем студенческим революционным движением руководили не студенты, а профессиональные революционеры, от которых студенты получали задания.
Наконец, доводы сторон были исчерпаны. Положительным итогом было то, что в этих перебранках обозначились уже группы и мы могли видеть, на кого можно положиться. И вот наша группа, то есть группа студентов, желавших слушать лекции, чтобы продолжался нормальный учебный процесс, заняла одну из аудиторий, в которую пришел престарелый профессор гражданского права Демченко. Но когда мы входили в аудиторию, то с нами вместе вошли и забастовщики. Все сели за парты. И как только старенький профессор начал свою лекцию, делая вид, что ничего не произошло, забастовщики стали стучать кулаками по партам и ногами по полу. При этом вопили: «Профессор, мы просим вас не читать!». В ответ им мы кричали: «Господин профессор, пожалуйста, читайте вашу лекцию!».
Но продолжать лекцию при шуме и криках мог бы разве только Демосфен, который ходил на берег моря и говорил речи, заглушая прибой, что ему было нужно, потому что собрания граждан Афин происходили на площади, где толпа шумела как море. То же происходило на славянских вечах. Одолевали там те улицы, которые перекрикивали другие.
Все это знал, конечно, профессор Демченко. Бедный старик вскочил. Забастовщики думали, что он собрался уйти, и замолчали. Но он не ушел, а закричал: «Всю жизнь я вас учил праву. Я умру на этой кафедре, но не покорюсь насилию».
Затем он успокоился, сел и продолжил лекцию. Ни одного слова не было слышно. Но это было и не важно. Главное, лекция состоялась, несмотря на непрерывные крики и шумы. Несколько сократив академический час, профессор кончил и вышел, торжествуя.
На следующий день мы решили несколько изменить тактику: мы проведем профессора в аудиторию и затем закроем ее изнутри. Друг друга мы уже примерно
знали, кто в какой группе состоял. Пришли в профессорскую комнату и попросили профессора Самохвалова, юриста, прочитать нам лекцию, обещая довести его до аудитории. Самохвалов был помоложе Демченко и бодро согласился. Сцепившись под локти руками, мы, группа студентов, взяли профессора в кольцо и повели по коридору. Нас сразу же окружила толпа, галдевшая: «Профессор, мы вас просим не читать лекцию». Все-таки мы крепко держались и вели профессора, окруженные со всех сторон бесновавшимися противниками. Мне сильно давили в спину. Лягаться ногами я как-то не сообразил. В результате стал изнемогать. Меня уже почти что вплотную придвинули к профессору, и я с трудом держался за своих соседей. В эту минуту кто-то, нырнув под руки в середину кольца, обхватил меня руками на высоте пояса и мощно отодвинул меня от профессора. Цепь была восстановлена. Совершив этот «подвиг силы беспримерный», неизвестный студент исчез…
Профессор Самохвалов позже рассказывал: «Когда меня студенты вели в аудиторию, в том числе и Вася Шульгин, вдруг какой-то огромный жид ухватил Васю и куда-то уволок». Профессор Самохвалов меня хорошо знал, потому что когда я был на первом курсе, строились матримониальные предположения насчет хорошенькой Аси, его дочери, и меня, и даже помню, однажды, когда мы с ней танцевали венгерку, я увидел в большом зеркале действительно подходящую пару. Пепельный блондин и жгучая брюнетка. Мать Аси была румынка.
* * *
Как бы там ни было, мы довели профессора Самохвалова до аудитории. Предстояло втиснуться в двери и потом закрыть их. Втиснулись. Я оказался последним, кто вошел в аудиторию, и тотчас же вся группа вошедших навалилась на двери, всеми силами противодействуя натиску забастовщиков из коридора. Но оказалось так, что я войти-то вошел, но захлопнувшаяся дверь прищемила полу моего сюртука так, что я уже от двери не мог отойти. Поэтому мои друзья навалились на меня и мною сдерживали дверь. Сжавшись и прижав руки к груди, я выдерживал давление с двух сторон. Наконец, кто-то нашел достаточно большую палку и, просунув ее сквозь ручки, нам удалось забаррикадировать ее изнутри. Тогда я расстегнул сюртук, снял его и оставил висеть на двери, сам же занял место в аудитории. И лекция началась.
Таким образом, в этот день все же была прочитана одна лекция. Вечером этого же дня мы вчетвером (Володя Гольденберг, я и еще двое студентов) пробрались на квартиру профессора Самохвалова и просили его, чтобы он пришел в университет на следующий день. Мы застали его в постели, уже больным. Он пообещал придти, если ему не будет хуже. Он не пришел.
Однако на следующий день, явившись в университет и сгруппировавшись с уже знакомыми и «обстрелянными» студентами, мы держали совет, и кто-то сказал, что внизу, где находился физический кабинет, есть отдельный коридор, который удобно защищать. Аудитория в глубине этого коридора, и сколько бы ни стучали, в ней не слышно шума и лектор может проводить занятие. Сейчас же мы туда спустились и приготовились к бою. Там была солидная дверь из главного коридора в этот придаточный. Мы заняли позицию. У самой двери стояли четверо: сын волынского губернатора барон Штакельберг, сын киевского полицмейстера и мой товарищ по гимназии Живоглядов, неизвестный мне серб, очень смуглый, почти черный, и я. Надо добавить, что, кроме серба, у остальных троих были в карманах заряженные револьверы — на насилие отвечают силой. Сейчас же из главного коридора начали кричать и стучать в дверь, запертую на солидный замок. Кричите, стучите, но лекция уже началась: пришел какой-то математик.
Они поняли, что прежде всего им надо взять эту дверь, но она не поддавалась. На беду, в главном коридоре стояла чугунная скамейка. Они схватили ее и использовали в качестве тарана. Сама дверь выстояла, но скамейка пробила в ней две дыры. У Штакельберга, рыжеватого блондина, от бешенства выступила пена на губах. Живоглядов тоже был разъярен. Я ощупывал в кармане револьвер. Серб сел на пол, разорвав на себе тужурку и рубашку от ярости. Наступила решительная минута…
Не знаю, что бы произошло, если бы мы не нашли контроружие, потому что через мгновение раздались бы выстрелы. Но ведь нас было не только четверо, стоящих около дверей, из аудитории высыпали остальные студенты и сгруппировались за нами. Кто-то из них увидел, что в коридоре сложены друг на друга длинные бревна, предназначенные для проведения какого-то ремонта. За каждое бревно могло ухватиться человек десять. И они это сделали. Раскачавши два бревна, они отбросили скамейку и освободили дверь. Через дыры мы увидели разъяренные лица наших смертельных врагов. Итак, в наших руках оказалось не менее эффективное оружие, и чтобы отогнать от дверей взбесившихся, мы стали со всего маха просовывать бревна в эти дыры. Противники наши дрогнули и отступили. Мы отстояли свою крепость, а главное — свою свободу.
* * *
Почему это было важно? Университет считался автономным, и полиция не имела права входить в него без приглашения ректора. Для соблюдения внешнего порядка в распоряжении ректора были так называемые
педири, нечто вроде смотрителей за порядком, но их было мало, всего несколько человек, и университет, дорожа своею автономией, своими правами, медлил приглашать полицию. Мы, мол, справимся своими силами. И так как лекции продолжались, хотя больше и символически, то не было оснований закрыть университет.
Но в конце концов пришлось это сделать. Ректор объявил университет закрытым и всех студентов исключенными. Это было мудрое решение вопроса. Студентов уже не было, и полиция обязана была охранять здание, не входя в него. Это продолжалось недолго. Ректор объявил, что возобновлен прием студентов на известных условиях. Каждый студент должен был подать заявление о своем желании поступить в университет. При этом он давал клятвенное обещание, что впредь не будет препятствовать нормальному учебному процессу. И прием начался. Свое обещание студенты произносили в присутствии коллегии профессоров и уже принятых студентов.
Казалось, что все кончилось благополучно. Но коль скоро двери университета были вновь открыты, то возможны были и «сходки». Но тут старший курс юристов собрал совещание юридического факультета, в котором старшекурсников оказалось большинство. Это большинство постановило, во-первых, обвинение отдельных студентов в том, что они были подкуплены полицией или действовали против забастовщиков в своих корыстных целях, считать ничем не доказанным, а потому это является подлой клеветой; во-вторых, постановление старост, по которому рекомендовалось давать официально клятвенное обещание в соблюдении порядка, но сего клятвенного обещания на практике не исполнять, почитать делом бесчестным; в-третьих, настоящее постановление студентов юридического факультета размножить и вывесить как в самом университете, так и вне его, в частности, в студенческих столовых.
Это было выполнено, я сам ходил в студенческие столовые и там пришпиливал постановление.
* * *
Итак, мой друг Владимир Гольденберг хотя и не участвовал в активной борьбе против забастовщиков, но он вместе со мною был у профессора Самохвалова. Это стало известным и сильно осложнило его последующую жизнь. В итоге ему пришлось покинуть Киев, жить в Петербурге, но университет он окончил. Это, однако, не изменило его убеждений, хотя против него были многие евреи.
Что же касается меня, то дни этой борьбы в университете определили мои политические убеждения. До этого времени, хотя я, конечно, воспитывался в политизированной семье, но от политики старался держаться в стороне. С этого же времени я стал правым. Почему? Я убедился на собственном опыте, что левые в ответ, как они говорили, «против насилия», сами проявили себя самыми грубыми насильниками. Я понял, что если они когда-нибудь придут к власти, то власть эта будет ярко деспотическая. И кроме того, они держатся правила: цель оправдывает средства. Среди последнего, то есть средств борьбы, узаконена в их глазах ложь всяких родов, в том числе и фальшивые фотографии, и клеветнические наветы.
Вот отчего я стал правым. Я искренне думал тогда, что правые свободны от этих пороков. Позже я понял, что крайности сходятся («les extremités se touchent»). Мне теперь кажется, что золотая середина ближе к справедливости.
* * *
От того времени, может быть, сохранилась где-нибудь забавная фотография. Позировал я, снимал мой кузен Андрияшев (сын моей тети Софьи Константиновны). Я изображен в студенческом мундире, держащим шпагу в руке, опоясанный револьвером. Стоял с гордо поднятой головой. Подпись: «Я буду слушать лекции!!!». Очень хорошо вышел на этом снимке фон — на стене крупным планом нарисован какой-то архангел, скопированный с васнецовского изображения Серафима во Владимирском соборе. Он изображен в виде красивой женщины, смотрящей испуганными глазами на «страшного» студента.
* * *
Эта «славная» борьба измотала мои нервы, и я не стал держать государственного экзамена, хотя уже имел на это право. Я кончил годом позже, а так как у меня проявилась тяга к технике, я после университета сразу же поступил в киевский Политехникум на самый трудный механический факультет. Но на следующий год оставил и его опять же из-за студенческих волнений, к тому же пришел срок отбывать воинскую повинность.
5-й саперный батальон
В 1901 году я поступил на один год вольноопределяющимся в 5-й саперный батальон
6. Как говорил фельдфебель Малашонок, обращаясь ко мне, «вольно-определяющий Шульгин».
Мы под Шумною сражались,
Тогда враг не устоял, —
пелось в марше батальона, но следующую строчку я забыл. Потом:
…Царь за это знамя дал.
В восемьсот двадцать девятом
Был он назван как он днесь:
Батальоном номер пятым,
На погонах это есть…
Помню еще две строчки:
По горам твоим, Кавказ,
Раздается славы глас…
Малашонок часто также говорил, что у него «в голове что-то не того, а в грудях мигрень» и просил у меня направление к врачу, что я и делал, покупая билетики к врачу за три рубля. Был он уже старик, участвовал еще в русско-турецкой войне 1877–78 годов, и практически никакими делами не занимался, был просто живой реликвией в батальоне.
Командиром роты у меня был капитан Александр Николаевич Орешкевич, офицер очень строгий, солдаты его боялись и за глаза называли «батькой». Был он сравнительно молодой, всегда пахло от него духами — ухаживал за какой-то дамой. В нем было этакое врожденное благородство. При моем представлении ему он, смотря прямо мне в глаза, сказал: «Так как в уставе не сказано, что я должен обращаться к вольноопределяющемуся на “вы”, а устав я должен выполнять, то я буду обращаться к вольноопределяющемуся на “ты”». Во время войны он уцелел, командовал батальоном, который получил серебряные трубы, и обратился ко мне с просьбой достать для батальона эти трубы, а не дожидаться окончания войны…
В 1902 году я был произведен в прапорщики полевых саперных войск и уволен из армии в запас с этим званием, при этом должен был ежегодно проходить кратковременные военные сборы.
Еще о Екатерине Григорьевне. Ее трагическая кончина
Катя, разумеется, остро переживала все эти события. Мы были с нею совершенно единодушны в их оценке. Она как дочь своего отца, либерального журналиста, конечно же, в это время разошлась с ним во взглядах. Но Григорий Константинович в это время уже отошел от общественной деятельности, так как психически заболел и современными политическими событиями не мог интересоваться.
Двадцатого июня старого стиля 1899 года родился у нас первенец, названный Василидом. Это было желание Кати. Она хотела, чтобы имя было похоже на Василия, но не Василий. Такое редкое имя и нашлось. Оно значит «Сын Царя», или, по-другому толкованию, «Царственный». Родившийся мальчик до смешного был похож на меня. Позже это сходство утратилось, а царственных качеств в нем никогда не было. Он был задумчив и самоотвержен. Вступил в жизненную борьбу рано, защищал не университетскую науку, а «матерь городов русских» и был убит первого декабря старого стиля 1918 года.
Тридцать первого марта старого стиля 1901 года родился второй сын, красное яичко, потому что он родился в страстную субботу, а вместе с тем и на Вениамина, каким именем и был назван. Однако всю жизнь его называли Лялей. И не без основания. Когда двухлетний Василид увидел его только что родившегося, он, показав ручкой на колыбель, сказал отчетливо: «Ляля», что значит кукла. Эта кукла тоже жила недолго. Он умер приблизительно в конце 1925 года.
А третий сын родился десятого мая старого стиля 1905 года. Он получил имя Дмитрий. За некоторое время до его рождения Ляля, которому было четыре года, начал говорить: «А скоро прилетит пичушник».
Потом он стал определять точнее: «Пичушник прилетит в четверг». И когда его спрашивали, кто же такой пичушник, он делал хитрое лицо и отвечал: «Пичушник? Это пичушник».
Все очень потешались, но когда будущий Дмитрий Васильевич родился, то Ляля объявил во всеуслышание: «Это и есть пичушник». А когда взглянули на календарь, то увидели, что «пичушник прилетел» в четверг.
* * *
«Пичушник» прожил дольше. Ему сейчас должно быть 65 лет. У него есть сын, мой внук, Василий Дмитриевич.
* * *
Итак, супружеская жизнь наша с Екатериной Григорьевной текла в полном согласии, дружбе и любви по 1905 год. В этом роковом году произошли некоторые осложнения. Не входя в подробности, можно сказать, что шероховатости и даже драмы продолжались до Первой мировой войны. В четырнадцатом году мы опять были в полной дружбе и согласии.
Во время войны мы несколько разошлись в том смысле, что я возился на фронте, а Екатерина Григорьевна оставалась в Киеве. Затем я подолгу жил в Петербурге. Однако основа нашей близости — патриотизм, которому мы оба были подвержены — продолжал жить в нашей психике. В самое тяжелое время для «Киевлянина» после Февральской революции и до моего приезда в Киев его вели моя сестра Лина Витальевна и Екатерина Григорьевна. В общем, можно сказать, что, несмотря на все осложнения моей жизни, несмотря на Дарью Васильевну, которую Катя преодолела, несмотря на все это, что могло бы разорвать любое другое супружество, несмотря на Марию Дмитриевну и несмотря на развод, все же Катя для меня оставалась любимой и любящей меня сестрой, каковой она и была в действительности. Развод был оформлен примерно в 1924 году.
* * *
Беда подкралась с другой стороны. Истоки ее восходят ко временам Фиц-Джеймсов
7, очень старинной английской аристократической фамилии. Градовские по женской линии вели себя от них. В туманном Альбионе с его английским сплином, быть может, надо искать истоки многих психических заболеваний. Достоверно известно, что мать Григория Константиновича Градовского, урожденная Ангелова, скончалась в психиатрической больнице
8.
Григорий Константинович Градовский, небезызвестный журналист, писавший под псевдонимом «Гамма» в петербургских газетах, заболел в 1897 году. Он отличался сангвиническим темпераментом и был, что называется, львом салонов. Он, между прочим, написал пьесу «Три года», в которой изображалась драма супругов. В то время моряки уходили в плавание на три года. Естественно, что такой продолжительный срок оказывал разрушительное влияние на супружество моряков. Пьеса имела успех. И этот успех оказался ближайшей причиной заболевания автора. Он был радостно возбужден, и до крайности. И вдруг — как утверждают врата, бывает, — это радостное возбуждение перешло в черную меланхолию, меланхолию патологическую. Когда это выяснилось, поклонницы блестящего льва салонов вспомнили, что у него где-то там, в Киеве, есть брошенная и забытая жена. И ей написали.
И вот, тетя Женя упросила Катю и меня поехать в Петербург и привезти к ней заболевшего мужа. Это мы выполнили.
* * *
Мы везли его в сопровождении врача — у нас было два купе первого класса. Купе, в котором ехал заболевший, бывало раскрыто, и тогда я мог его наблюдать. Здоровым я видел его только на портретах и карикатуру на него в журнале «Будильник», где он был изображен в виде боевого петуха. Голова была во всю страницу. Это был очень красивый мужчина средних лет с гордым взглядом. Сейчас в этом купе я увидел старика с белой бородой, темными глазами, подведенными глубокой синевой. И я понял, что такое черная меланхолия. Такого мрачного взгляда, неподвижно устремленного куда-то в пространство, я еще никогда не видел. Но я увидел этот взгляд еще раз много лет спустя. Это был взгляд Кати за несколько дней до самоубийства. Она шла к моей сестре по улице, но меня не заметила.
* * *
Половину двадцатого года мы бедовали с Катей вместе в Одессе. Затем вместе с моими двумя сыновьями Лялей и Димой, Вовкой и Ириной я бежал на шлюпке из Одессы в Крым. А Екатерина Григорьевна осталась в Одессе. Тогда она жила в семье Седельниковых с сестрами Марии Дмитриевны. Их, то есть Люлю и Таталию, арестовали, и Екатерину Григорьевну тоже. Но ее не узнали. А может быть, представились, что не узнали. Ведь и меня тогда чья-то невидимая рука щадила. А девушек Седельниковых расстреляли. Катя сидела вместе с ними в заключении. Люля встретила смертный приговор спокойно. Бедная Таталия не хотела умирать. Обе, утешаясь своею горькой долею, все время напевали известную песенку:
Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной.
Глаза их слезами сверкали
И горек был ветер морской.
«Люблю белокурые косы, —
Рыдая, паж первый сказал, —
Уйду в глубину под откосы,
Где плещет бушующий вал».
Ответил другой без смущенья:
«Я ненависть в сердце таю,
Уйду в глубину я отмщенья
И черные косы сгублю».
А третий любил королеву,
Он молча пошел умирать.
Не мог он ни в страсти, ни в гневе
Любимое имя предать.
Кто любит свою королеву,
Тот молча идет умирать.
Очевидно, Люля любила королеву.
Катю выпустили. Впоследствии, не скоро, преданный Вовка вывез из ее из Одессы и доставил на Волынь, перейдя советско-польскую границу там, где мое имение Курганы. И Катя еще раз могла увидеть наш дом.
Она приехала вместе с Вовкой в Прагу. Тогдашнее чешское правительство помогало русским эмигрантам, в том числе русским писателям, журналистам, студентам. Кате и Вовке дали пенсию и пособие.
Мы встретились с нею в Чехии. Она познакомилась с Марией Дмитриевной и они, можно сказать, подружились. Она рассказала Марии Дмитриевне о последних днях нежно любимых сестер. Затем Катя и Вовка остались в Праге, а мы с Марией Дмитриевной, прожив некоторое время под Прагой, перебрались в Германию, потом во Францию и, наконец, в Югославию. Из Югославии я в 1925 году отправился в тайное путешествие в Советскую Россию, чтобы отыскать своего сына Лялю. Когда я вернулся в Югославию, туда же после Праги и Парижа прибыла к моей сестре Лине Витальевне, жившей в Белграде, и Екатерина Григорьевна. В это время я часто виделся с Катей и даже она жила у нас с Марией Дмитриевной некоторое время в городке Земуне. И плавала с нами на байдарке.
Потом мы вернулись во Францию и в 1930 году переехали окончательно в Югославию.
* * *
Внешне в это время она как будто бы была оживлена и иногда даже весела. Но сестра моя Лина Витальевна говорила мне: «Она очень бодрится, когда ты приходишь. В особенности, когда ты водишь ее в кинематограф. Но это проходит, и тогда видно, что в ней глубокая грусть».
* * *
Однажды получаю телеграмму: «Катя куда-то исчезла, оставив письмо. Приезжай. Лина».
Я прочел письмо. Оно было адресовано нашему сыну Диме. Она писала примерно так: «Прости меня, что я причиняю тебе такое горе, но это необходимо. Пришло время. В течение всей моей жизни Ормузд и Ариман боролись за мою душу…». Ормузд и Ариман взяты были Катей из персидской мифологии. Первый — бог добра, второй — бог зла. Она мне об этом неоднократно говорила, причем поясняла: «Ариман вошел в меня от моего отца, а Ормузд — от матери. Я, быть может, когда-нибудь сойду с ума. Так я тебя прошу: не отдавай меня в сумасшедший дом». Это было исполнено, в сумасшедший дом бедная Катя не попала, но, может быть, в противном случае она бы не покончила с собою? Так что неизвестно, что лучше.
Далее она писала: «Дорогой мой Дима, в молодости Ормузд был в моей душе и я любила всех, весь мир. Но затем Ариман, пользуясь всеми несчастиями, какие произошли со всеми людьми, стал завладевать моею душою, и круг любимых мною людей стал суживаться. Я возненавидела сначала японцев, потом немцев, потом русских. Но все же оставались люди, мне близкие, и я их любила. Но он, Ариман, постепенно отнял у меня всех, и остался только ты один. Но он замыслил отнять у меня и тебя. И этого я ему не позволю. Я умру, не разлюбив тебя…».
* * *
Дима в это время был в Любляне. Его вызвали. Он приехал вместе с Таней, своей первой женой. Приехав, он прочел письмо и попросил меня позвать Таню. Бедный Дима. Ведь Таня была тем орудием, которым воспользовался Ариман. Из-за Тани огорчилась до последней ступени душа Екатерины Григорьевны. Она думала, лучше сказать, чувствовала, и она не ошиблась, что Таня не любит ее сына так, как он этого заслуживает.
* * *
Самоубийство произошло при такой обстановке. Катя отправилась на пароходе в городок Панчево. Там сошла на берег и пошла бродить среди озерец, оставшихся после разлива Дуная. Быть может, эти прудики напомнили ей Курганы. Там река Горынь тоже так разливалась. Но на этих дунайских озерцах было сравнительно мелко, не более одного-двух метров глубины. Она связала платком себе ноги, потом другим платком при помощи зубов связала руки, легла на берег и покатилась в одно из таких озер. Очутившись на дне, уже встать не могла
9.
Это кажется совершенно невероятным, но вскрытие тела никаких признаков насилия не обнаружило. И потом письмо…
* * *
Приехав в Белград по телеграмме, я три дня искал Катю по всяким пустым местам, где можно было предполагать, что она там бродит. Вместе с тем было заявлено в полицию. Последняя, организовав поиски, вскоре сообщила, что в Панчево найдено тело женщины. Мы немедленно туда отправились с Антоном Дмитриевичем Билимовичем. На месте мы увидели тело, совершенно уже черное и как бы с лицом сохранившимся, но очень раздутым, а у Кати были тонкие черты лица и само оно было худенькое. Мы с Билимовичем не могли установить, что это Катя. Телеграфировали моей сестре Лине. Она приехала и, посмотрев, сказала: «Это она. Она в платье, которое я ей на днях подарила».
Все же приступили к вскрытию. Билимович сказал мне: «Не смотрите».
Я не смотрел, но слышал, как врачи говорили между собою и иногда о чем-нибудь спрашивали нас. Спросили о возрасте и, когда мы сказали, прибавили: «Она гораздо моложе». И вообще, по их мнению, эта женщина была очень здоровой. Затем сказали, что под грудью обнаружили пулю маленького калибра. Я объяснил: «Так и должно быть. В молодости у нее был маленький дамский револьвер, инкрустированный перламутром. И она мне рассказывала, что однажды, читая книгу, она как бы играла им, и он нечаянно выстрелил. Эту пулю никогда не вынимали. Катя говорила, что она ей ничуть не мешала».
Врачи заметили, что это, возможно, потому что пуля была довольно далеко от сердца.
* * *
Все формальности были совершены и было дано разрешение на погребение. Ее тело отвезли в Любляну, и мы похоронили ее рядом с моей сестрой Аллой Витальевной. Несмотря на развод, Катя сохранила фамилию Шульгиной.
Сергей Григорьевич Градовский
Это был необычайной красоты человек с черной бородой, в стиле какого-то восточного, арабского, принца. Но как странно, казалось бы, что женщины должны были сходить по нему с ума. Но нет, он не был ухажером.
Сергей Григорьевич кончил гимназию с золотой медалью, затем киевский университет и стал податным инспектором города Радомысля. Характер у него был бешеный. Тогда в Радомысль ездили лошадьми, сто верст от Киева. Как-то возвращался он к себе, и какой-то еврей попросился в попутчики. Сергей сказал: «Садись». По дороге попутчик предложил ему взятку. Он остановил ямщика, выбросил этого еврея в снег и уехал.
Играл он в крокет хорошо. Но когда какой-нибудь рискованный удар ему не удавался, он приходил в ярость и ломал палку о дерево. Этим он напоминал своего отца, который, когда играл в винт, бурно реагировал на промахи своего партнера. Если партнер, например, плохо считал, то Григорий Константинович кричал ему:
— Снимите сапоги! Вы считаете по пальцам, у вас их десять. Так вот, снимите сапоги, и у вас их будет двадцать!
В Радомысле молодой Сергей Григорьевич познакомился с немолодой дамой, женой исправника. Она сделала его своим любовником и научила пить. Впоследствии он так и не смог избавиться от этого порока. Потом он познакомился с девушкой, которая захотела выйти за него замуж, тоже его поила и в конце концов женила на себе. Погибла она трагически. Они купались в Днепре, она была уже беременна. Он отошел от нее, а когда через некоторое время вернулся, нашел ее мертвой. По-видимому, ей сделалось дурно, она упала в воду и захлебнулась на мелководье.
Он женился во второй раз где-то в Черкассах на Днепре на какой-то чиновничьей дочери. Пьянство продолжалось. Брак был неудачный, родившиеся дети болели, а единственно здоровый мальчик унаследовал от отца припадки ярости.
Сергей Григорьевич умер в первые годы революции. Судьбы же его потомства не знаю.
Софья Григорьевна Градовская
Была младшей сестрой моей жены Екатерины Григорьевны. Как все Градовские, была очень способной и кончила хорошо киевскую гимназию. Она была красива, но ее портили два недостатка — маленький рост и нос, как у отца, несколько грубоватый.
В молодости работала над корректурами «Киевлянина» и помогала своей матери Евгении Константиновне, заведовавшей экспедицией газеты.
Подписчики «Киевлянина», как и всякой газеты, подразделялись на иногородних и городских. Иногородние получали газету по почте, городским же доставляли специальные разносчики в числе 17-ти человек. Вот эта ватага находилась в подчинении Евгении Константиновны, а на самом деле ее детей.
Среди разносчиков, помню, были Жан Клинков и Жан Болван. Клинков был человек как человек, а Болван вечно все путал, и поэтому на него поступали жалобы. Впрочем, это болванство, может быть, происходило от семьи этого несчастного Жана. Ведь разносчики сами мало разносили. Разносили еще их жены и дети. Подписчики были требовательны, они желали, чтобы газету доставляли им в определенное время, не позже и не раньше. И клали газету в определенное место. Не все члены семьи это понимали, а ругали Болвана.
Практически дело происходило так, что разносчики рано утром приходили в типографию и в ней получали положенное количество экземпляров газеты от дежурного экспедитора. Дежурным экспедитором был или Сергей Григорьевич, или Виталий Григорьевич, либо Павлин (Павел Иванович) Андрияшин. Эта работа начиналась в шесть часов утра.
Софья Григорьевна как девушка была от этого освобождена.
* * *
Горячая работа была под Новый год. Дело в том, что под Новый год подписка возобновлялась. Сыпались со всех сторон деньги, которые надо было принять, зарегистрировать и отправить квитанции об их получении. Затем адреса подписчиков сдавались в типографию. Для старых подписчиков не выходило затруднений, так как их адреса уже были набраны ранее и сохранились редакцией газеты. Но новые писались от руки (пока еще наберут!). Такую работу нельзя было сделать вовремя, то есть до наступления еще Нового года, силами только семьи Градовских. Поэтому за работу засаживались все «приблуды». Было несколько «приблуд», друзей и товарищей Градовских по гимназии. В том числе и я был таким «приблудой» в детстве и молодости. По всем столам сидели Градовские и их «приблуды» и строчили.
Победоносно кончив к половине двенадцатого накануне Нового года, накрывали круглый стол, за которым можно было разместить неопределенное количество лиц, затем и овальный стол. Кроме ламп, зажигались две свечи (только не три!) и начинался новогодний ужин, скромный, дружный и веселый. А шампанское? Подавалось и шампанское, но не «Редерер», конечно, или «Мум», по шесть рублей бутылка, а «Донское» или «Цимлянское», около одного рубля бутылка.
Среди «приблуд» помню Платона Забугина, Молярова, Мазюкевича, Сергея Френкеля, влюбленного в Соню Градовскую, и Веру Михайловскую, влюбленную в Сергея Градовского. Вера Михайловская была кроткой евреечкой, над которой издевался Сергей Градовский. А я ее жалел и провожал ночью домой, так как она очень боялась.
Платон Забугин был племянником Забугина, управляющего Государственным банком в Киеве. Иван Иванович Моляров был старше всех нас в этой компании. Но там, где он был, поминутно раздавались возгласы «Вр-решь!», на что Иван Иванович совершенно не обижался. Как же можно было ему верить, когда он, вдруг, отлучившись куда-то на три дня, заявлял, что у него дача в Триполье, куда он ездил, потому что там никого нет, и приводил ее в порядок. Из всего этого было верным только то, что Триполье существует на Днепре. Затем он утверждал, что, прослушав военный оркестр, тотчас же записал его на все инструменты. Но нот не предъявлял. Или что у него есть старая итальянская скрипка. Скрипка оказалась не старой и не итальянской, но все ж таки я у него ее купил.
Впоследствии Иван Иванович женился на Мурашко и, так как ее отец заведовал рисовальной школой, он стал художником. У него были соломенные волосы и черные брови, что указывало на его польское происхождение.
А бедная Вера Михайловская замуж не вышла.
Леонид Мазюкевич был товарищем Виталия Градовского по гимназии, на его сестре и женился Виталий.
* * *
Соня, которую мать называла Сошка, была старше меня всего на четыре года. Поэтому она легко могла опередить свою сестру Екатерину Григорьевну, так как питала некоторую благосклонность ко мне, своему кузену. Но она этого не сделала.
Окончив гимназию, она стала вроде как бы секретарем в редакции «Киевлянина» и там познакомилась с Константином Ивановичем Смаковским, сотрудником «Киевлянина». Он писал для газеты воскресные беседы. Эти беседы были очень забавны и смешили читателей, но всегда касались какого-нибудь злободневного общественного явления. Содержание подсказывалось Дмитрием Ивановичем Пихно, а веселую одежду придавал им Константин Иванович. Но читатели «Киевлянина» не подозревали, что этим «весельчаком» был задумчивый и очень молчаливый человек.
Соня, хотя сама любила посмеяться, прельстилась, однако, его серьезностью и робкою любовью. Решив выйти замуж, она этого добилась, несмотря на все препятствия. А препятствия были весьма неприятного свойства.
Квартирные хозяйки — это прибежище для бесприютной богемы. Прибежище, которое иногда превращается в тюрьму. Вот такая квартирная хозяйка захватила Костю Смаковского, когда он был еще студентом. Когда же он захотел жениться, она пригрозила, что его невесту зальет серной кислотой. В те времена ревнивые женщины нередко пускали в ход этот аргумент. Костя испугался за Сошку и сбежал от нее, перестал появляться. И до такой степени испугался, что даже ушел из газеты «Киевлянин» и беседы прекратились. Софья Григорьевна так огорчилась, что вроде как бы у нее началась черная меланхолия. Она вдруг стала напоминать недавно умершую тетю Карольцу.
Тетя Карольца, или Каролина Михайловна Данилевская, была родною сестрою нашей бабушки по матери Полины Михайловны Поповой, урожденной Данилевской. Судьба тети Карольцы была печальна. Она влюбилась в некоего поляка и, приняв католичество, вышла за него замуж. Но польские родственники и друзья ее мужа не приняли в свою среду молодую католичку. И муж ее бросил. Она вернулась в свою семью и осталась сначала у своей сестры Полины Михайловны, а после ее смерти перешла к своей племяннице Евгении Константиновне Градовской, матери Сошки. Племянница глубоко жалела свою тетушку, но помочь ей ничем не могла — она заболела черной меланхолией. Соответственно своей болезни выбрала себе для обитания черную комнату, то есть помещение без света. Это, собственно говоря, была довольно большая комната, где сберегались платья. Здесь тетя Карольца проводила весь день. На улицу она никогда не выходила, а приходила только в столовую, к обеду. Но обедала за отдельным столиком. Она ни с кем не разговаривала и даже не здоровалась. Так и жила до своей смерти, последовавшей в начале девяностых годов.
И вот эту мрачную фигуру стала напоминать молоденькая Соня. Она тоже перестала здороваться и разговаривать. Не помню уже как, но однажды она вдруг «воскресла». Должно быть, получила весточку от сбежавшего жениха. Словом, дело пошло к свадьбе. Но серная кислота повисла в воздухе. Поэтому нам, Сергею и Виталию Градовским и мне, доверена была задача, во-первых, в день свадьбы не выпускать Костю никуда, а поехать с ним куда-нибудь за город и доставить в церковь непосредственно к венчанию, что мы и сделали, а во-вторых, в церкви держать себя так, чтобы никакая старуха не могла пробиться к невесте. Все это удалось, они благополучно повенчались и куда-то на время уехали.
Затем дело пошло как бы самотеком, как в каждой семье. Родился первенец, мальчик, названный Григорием. Правда, одна нога у него была кривая. Ее пришлось сломать и сложить заново, но все получилось как-то неудачно, и он навеки был обречен носить протез. Но в остальном оказался мальчиком очень способным, с живым характером. Он поступил, кажется, в Политехникум, но судьбы его не знаю. Потом родилась Женя. Я помню точно, что когда она родилась, мне было восемнадцать лет. В тот день я почему-то отнят у Павлина Андрияшева кисти и палитру и написал на кафельной печи белоствольную березу на фоне голубого неба. Никогда я не писал маслом, и неизвестно, почему это со мною стряслось. Быть может, угадал, что новорожденная девочка проявит в будущем ко мне внимание. Но все это, как говорят французы, «les ombres qui passent»
[18]. В моей жизни проходящей тенью была Соня и такой же проходящей тенью была Женя. У Сони и Кости еще были дочь Мария (Муся) и сын Михаил.
Константин Смаковский умер в 1917 году от рака. Соня очень нежно за ним ухаживала. Но вскоре вышла замуж за молодого венгра по фамилии Гуниа, к тому времени ставшего офицером русской армии. И будто бы по смерти Сони от сыпного тифа вместе с сыном Михаилом в Новороссийске в 1920 году Гуниа женился на Жене. Дальнейшие следы их затерялись…
Виталий Григорьевич Градовский
С Виталием мы были сверстники — он был старше меня всего на два года и был моим лучшим другом. Его инициалы вытатуированы на моей левой руке. Колол булавкой некий Колька Островерхий, в то время учившийся в морском коммерческом училище, кажется, в Николаеве.
Виталий Григорьевич окончил Первую Киевскую гимназию, юридический факультет Киевского университета и по примеру старшего брата стал податным инспектором. Женился он на Наташе Мазюкевич, окончившей Киевский институт благородных девиц. У них родились сын — очевидно, Михаил
10, потому что его называли Мизя, — дочь Ольга.
Не помню, где он начал свою службу, но к тому времени, когда я уже был членом Государственной Думы, он стал податным инспектором в Петербурге. И у него жил его отец Григорий Константинович (после выздоровления он вернулся в Петербург), который снова заболел, но уже в очень легкой форме, и доживал свой век под крылышком своей невестки Наташи. Она обращалась с ним так, как надо, — очень заботливо, но не распускала старика, что и было ему нужно.
Григорий Константинович очень подружился с серенькой в крапинках курочкой, которую спасли от ножа дети. Она выросла и стала совершенно ручной. Когда Григорий Константинович умер в своей комнатушке ночью, совершенно спокойно, лежа на спине, то утром Ната, войдя, увидела курочку на груди покойного. Недаром же его изображали петухом — странное совпадение.
Судьба Виталия Григорьевича и Наталии Владимировны во время Гражданской войны описана мною в «1920 годе» — они были участниками Стесселевского похода — и больше уже не предпринимали попыток покинуть Россию. Я потерял их и они исчезли из моей жизни почти на полвека.
В начале шестидесятых годов, узнав, что я живу в Советской России, они нашли меня. Они — это Наталия Владимировна и ее дочь Ольга. После Гражданской войны Виталий Григорьевич с семьею осел, кажется в Воронеже, где заведовал детским домом. Он умер в начале тридцатых, и они похоронили его на местном кладбище. На нем же был похоронен тургеневский герой Кирсанов, могилу которого нашла Ольга. После смерти отца детдомом стала заведовать она.
Во время войны немцы угнали их в Германию. После войны они очутились во Франции, затем вернулись на родину, и Ольга вышла замуж за человека намного младше ее и не особенно приятного и очутилась в Ставропольском крае. Ее мать умерла в станице Верхняя Пантелеймоновка
11.
Любовь Антоновна Попова (Дарья Васильевна Данилевская)
После военных сборов я в мае 1903 года совершил путешествие на байдарке по реке от австрийской границы до нашего имения Агатовки, в которую прибыл днем двадцать девятого числа. Когда я вошел в зал, все сидели за столом и обедали. И тут я увидел ее впервые. Она на меня посмотрела, встала, вышла из-за стола и пошла мне навстречу, продолжая смотреть на меня, словно загипнотизированная. Так произошло наше знакомство.
Любовь Антоновна Попова родилась восьмого июля восемьдесят четвертого года в семье офицера 166-го пехотного Ровненского полка Антона Попова. Его предай происходили с Северного Кавказа, и еще дед Любовь Антоновны носил фамилию Хаджи-Попа. Отец же, когда поступил на военную службу, был уже православным и записался Поповым.
Мои мать и дед Константин Григорьевич Попов были крестными ее матери. С детства не любя свои имя, отчество и фамилию, полученные при крещении, впоследствии заменила их на имя, отчество и фамилию бабушки и для окружающих стала Дарьей Васильевной Данилевской. Мать свою (ее звали, кажется, Верой) помнит плохо, она умерла, когда дочь была еще маленькой. Помнит ее по выражению «с милым рай в шалаше». Умерла, оставив троих детей — помимо Дарьи Васильевны, были еще два сына, Вадим и Сергей Антоновичи. Отец женился после этого еще два раза. Первая мачеха была доброй женщиной и старалась заменить детям мать. Вторая была жестким человеком, и когда Дарье Васильевне исполнилось шестнадцать лет, поспешила сбыть ее с рук, выдав замуж.
Ее первым мужем был сослуживец отца по Ровненскому полку Ткаченко. Она была так наивна и неопытна и так ничего не знала об интимной стороне семейной жизни, что, когда он предъявил свои права, Дарья Васильевна его отвергла. Наконец, он просто изнасиловал ее, после чего родился ребенок, который вскоре умер. Затем заболел муж. Она ухаживала за ним, но помолиться за него не могла, так как ненавидела его. Ткаченко скончался в девятьсот втором году. Она всегда терзалась, что не помолилась…
Дарья Васильевна была знакома с сестрою моей жены Софьей Григорьевной Смаковской (Градовской), они жили в одном доме. Софья Григорьевна и познакомила ее в девятьсот третьем году с моим братом по матери Павлом Дмитриевичем Пихно. И в начале девятьсот четвертого они обвенчались.
* * *
Во второй раз мы встретились в Курганах, куда она приехала двадцать девятого апреля девятьсот шестого года на освящение построенной мельницы.
Строительство здания продолжалось довольно долго, потом привезли газогенераторную машину, первую в России, весом пятьсот сорок пудов (одна станина весила четыреста пятьдесят пудов, а поршень — девяносто). Ее от станции двенадцать километров по песку тащило двадцать восемь лошадей в течение трех дней, под колеса подкладывали доски.
По случаю запуска мельницы было большое торжество, из Острога даже приехал оркестр — десять жидков. Сначала ходили по пяти этажам мельничного здания и батюшка освящал их, машины и оборудование. Затем моя жена Екатерина Григорьевна разрезала ленточку, и мастера запустили машину.
На лужайке, перед мельницей, поставили и накрыли три стола. За главным сидели батюшка, инженер, я с семьей, Дарья Васильевна. За вторым — техник и рабочие. За третьим, самым большим, разместились крестьяне, которым просто подавали угощение. Пели. И я пел. Оркестр оказался на высоте, сразу же подхватывал мелодию и играл вещи, никогда ранее не слышанные им.
После угощения начались танцы. Много танцевали. Наконец стали танцевать «Журавля»: берутся за руки и образуют цепь в сто человек. Я шел впереди, а сбоку шел оркестр и играл. Я водил их, где только можно было: через заборы, плетни, овраги. День был дивный, ночь тоже. Затем водили Екатерина Григорьевна, Дарья Васильевна. Водили всю ночь и разошлись, когда взошло солнце…
* * *
В третий раз я увидел Дарью Васильевну на похоронах. Хоронили какую-то родственницу. Я обратил внимание, что около стены в церкви стояла молодая женщина в черно-белом платье и молилась. Она пришла, чтобы увидеть меня. Сначала я не узнал ее.
Потом были как-то в театре, откуда возвращались в экипаже. Все шло к сближению, но прошло четыре года, прежде чем это случилось. Впоследствии мы были неразлучны. О дальнейшей судьбе Дарьи Васильевны я написал в своих воспоминаниях о Гражданской войне, озаглавленных «1917–1919». Скончалась она в Яссах одиннадцатого ноября восемнадцатого года
12.
* * *
Отец Дарьи Васильевны в начале девятисотых годов вышел в отставку полковником и умер до войны. Оба брата во время войны служили в 166-м пехотном Ровненском полку. Сергей Антонович был ранен в руку во время одного из боев. Вадим Антонович участвовал в тяжелых боях под Козювкой в Галиции, из которых благополучно выбрался, только шинель его была пробита пулями в семнадцати местах. В двадцатом году Вадим Антонович был со мною в Одессе, но участвовать в походе к румынской границе отказался, остался в городе. «Не могу идти, Василий Витальевич, у меня остались дети беспризорные, я останусь». И исчез. Дальнейшей их судьбы не знаю.
Мой младший сын Дмитрий
Я расстался с ним в Севастополе в двадцатом году. Диму взяли моряки, и на миноносце он ушел в
Бизерту. Там поступил в русский морской кадетский корпус и окончил его. По опыту жизни в Бизерте рассказывал мне, что негры симпатичные, а арабы отвратительные.
Затем был принят в Сен-Сирское военное училище. Он вышел из него примерно в 1925 году и хотел поступить в Иностранный легион, в котором ему обещали офицерскую вакансию. Но на них было много претендентов, и все офицерские должности разобрали французы. Ему же предложили поступить рядовым. Дима обиделся и уехал в Югославию.
В Югославии поступил в Люблянский университет. Одно время перешел в Белградский, но затем вернулся обратно в Любляну. Говорил, смеясь, что в Белградском ощущал что-то турецкое, а в Люблянском — немецкое, и последнее ему больше нравилось. По-видимому, многовековое господство турок и немцев не прошло бесследно для сербов и словенцев, несмотря на то, что они остались христианами…
После окончания университета Дима стал специалистом по шоссейным дорогам, мостам и железобетонным конструкциям. Тогда же некоторое время прослужил в югославской армии рядовым — был призван на подготовительные сборы. Впоследствии служил в фирме Тодта, уже во время войны поехал к немцам, был направлен ими в оккупированную Польшу, где строил дороги. Жил в Гдыне. По-видимому, оттуда через Швецию попал в США. Сейчас живет в городке Гленбурн, что в двадцати пяти километрах от Балтиморы, работает в какой-то строительной фирме. С ним же работает и его сын Василий Дмитриевич. Жена сына работает где-то продавщицей.
Еще в Югославии Дима женился на своей двоюродной сестре Татьяне Александровне Билимович, дочери моей сестры Аллы Витальевны. Но брак был неудачным, они расстались, и впоследствии он женился на Антонине Ивановне Гвадонини, которая и родила ему в сорок втором году сына, названного в мою честь Василием.

Отрывок (начало) письма В. В. Шульгина Р. Г. Красюкову от сентября 1970 г. (масштаб уменьшен)
Моя сестра Павла Витальевна
После окончания киевской женской гимназии Лина поехала с одной дамой в Харьков, где были организованы в России одни из первых женских курсов, поступила на них и успешно закончила. Затем вернулась в Киев.
Ее мужа Могилевского я совершенно не помню и никогда не видел. Не то он рано умер, не то рано ушел из семьи
13.
Лина нас как бы воспитывала и на моей памяти занималась «Киевлянином» — вела хозяйственную и литературную часть газеты. В 1917 году «Киевлянин» держался на моих передовицах и на энергии Лины и моей жены Екатерины Григорьевны. Политические статьи последней имели успех, они были полегче, чем мои, и более прочувственные. Екатерина Григорьевна подписывалась «А. Ежов». Почему? Не знаю…
Мои племянники Могилевские
У Павлы Витальевны было трое сыновей: Филипп, Александр и Иван Александровичи Могилевские.
Филипп сначала окончил реальное училище, затем он оказался в Академии художеств по классу скульптуры. Шел хорошо, несмотря на крайнюю беспорядочность характера. Мог работать очень интенсивно, за свои проекты два раза получил первую категорию.
Будучи старшим сыном, он по закону в армию не был призван. Во время войны был моим помощником по санитарному отряду, затем примкнул к какому-то кавалерийскому отряду в качестве медика.
Во время революции я его совершенно не помню. Он в Петербург не приезжал, а в конце концов оказался в Одессе, и там уже во время Деникина он со своим товарищем создал блок христианских избирателей. Они выиграли на выборах в Городскую Думу. Сам он не выставлял свою кандидатуру, но идея создания христианского блока принадлежала ему.
Характер у него был общительный.
В двадцатом году он участвовал вместе со мною в Стесселевском походе, затем был в Одессе. И я узнал, что его арестовали чекисты. Я написал им письмо, что он совсем ни в чем не виноват, далек от политики и что если его выпустят, то я пойду взамен него. Чекистам же он ответил отказом на обмен, сказав, что живым от них не выйдет. Чекисты в конце концов оставили его в покое.
Когда я бежал в Крым, то попросил Врангеля обменять его на какого-то большевика, сидевшего в Севастополе. По радио сообщили об этом большевикам. Однако, когда отступали, то этого человека расстреляли. Тогда в Одессе был расстрелян Филипп.
В детстве он был очень красив. Особенно выразительные глаза и длинные ресницы. И характер у него был общительный. Иногда на весь дом раздавался крик: «Ресница! Ресница!». Сначала недоумевали, потом научились вытаскивать из его глаз загнувшиеся ресницы.
Лет в четырнадцать-пятнадцать он был влюблен в Елену Викторовну Гошкевич, будущую Сухомлинову, которая жила в здании редакции и типографии «Киевлянина». Ей было тогда восемнадцать лет, и она очень мило к нему относилась. Он был как бы ее пажом. Впоследствии она всегда справлялась о нем.
* * *
Судьба Александра Могилевского — это преступление и наказание.
Выше я поведал, как стал правым. Теперь расскажу, как стал правым мой племянник Саша. Это случилось с ним тоже в университете, но не в киевском, а в петербургском. Тогда мы жили квартетом: мой отчим — член Госсовета, я — член Госдумы, мои племянники Филипп Могилевский — скульптор в Академии художеств, и Александр Могилевский — студент университета (название факультета не помню, но шел по агрономии).
«Борцы за свободу», применяя всяческое насилие, дошли и до химической обструкции. Они преподносили своим товарищам по университету химические газы — бросали колбы или какие-то пакеты с газами в занимающихся студентов. На всю жизнь они испортили моему Саше глаза — он видел, но был подслеповат. Но в ином плане после этих химических обструкций он стал видеть лучше: он стал правым.
Мои речные путешествия
Однажды наступили вакансии для Государственной Думы и кончились занятия в университете. Мы с Сашей отправились из Петербурга по железной дороге в Смоленск, захватив только что купленный мною французский лодочный мотор «мотогодиль». Я заплатил за него чистоганом пятьсот рублей. У меня осталось мало денег, что выяснилось впоследствии.
В Смоленске мы переночевали на спасательной станции на Днепре, где нас приютили два любезных матроса. При их посредстве мы купили долбленый челночок, на вид очень красивый. С внешней стороны он был выкрашен шефской смолой, а внутри — красным суриком. У него были хорошие обводные линии, так что он должен был быть ходким. Его недостатком сравнительно с байдаркой было то, что он был беспалубный, открытый. За этот челночок плюс благодарность матросам пришлось еще облегчить мой карман.
Все же мы поплыли, и примерно первые сорок верст плаванье было благополучным. Челночок несся достаточно быстро, погода была прекрасная, берега Днепра красивы. Вдруг я заметил, что перестала подаваться вода на охлаждение двигателя и из сливного отверстия выходил белый пар. Я выключил мотор и убедился, что насосик, подававший воду на охлаждение, засорился песком. Это был недостаток конструкции — за пятьсот рублей можно было бы предусмотреть более надежную схему. Рассматривая насос, я разглядел его действие: в нем был бронзовый шарик, который то закрывал, то открывал соответствующее отверстие.
Случилось так, что этот шарик я уронил в воду. Он упал на дно, зарылся в песок, и сколько мы ни возились, шарик не достали. Выход? Решено было сделать новый шарик в какой-нибудь ближайшей кузнице. В кузнице сказали, что они шарик сделают, но обточить его так правильно, как нужно, они не смогут. Так и оказалось — насос отказался работать.
После этого я ходил в железнодорожную мастерскую. Результат тот же. На это ушло четыре дня. Четыре дня мы мучались на этом месте. И каждый день приходили на берег купаться местные молодые поляки. Они назвали свою фамилию — был такой член Госдумы, — но фамилии его не помню. Ежедневно они осведомлялись: «А вы еще тут?». Предложить свое гостеприимство им в голову не пришло.
На четвертый день, к вечеру, я дошел до мысли о «наливайко». Соорудить жестяную воронку было нетрудно. Засунув ее в мотор, я кружкой наливал воду и она поступала на охлаждение. Мне казалось, путешествие продолжать было можно, так как выход из положения был найден. Но когда я, сидя лицом к носу нашей лодчонки, стал на ходу зачерпывать воду, она заливала меня самого. Пришлось сесть спиной к носу. При таком положении, хотя и с трудом, можно было черпать воду из Днепра.
Но, сидя спиной к носу, я не мог править челночком. Следовательно, надо было передать управление Саше, который сидел на носу. Для того, чтобы он мог перекладывать руль, я приготовил треугольник из веревок. Острая вершина его была на носу, а основание — на корме в виде срубленной на берегу палки. Веревка проходила через кольцо на носу, и Саша, сидевший между ними, мог поворачивать руль и править челноком. Но он был близорук, а Днепр был здесь стремителен и в этих местах были пороги. Не такие, конечно, как в Запорожье, но подводные камни могли легко перевернуть наш челнок.
Не помню, сколько верст мы так бедовали. Солнце коснулось уже земли, когда я почувствовал, что рука, которой я зачерпывал воду, задеревенела и отказывается работать. К тому же Саша уже несколько раз бил челноком о камни. Я выключил двигатель и сказал Саше: «Баста! Ночевать».
Надо отдать справедливость Саше: терпение его было безгранично. К тому же он не предлагал ничего совершенно невозможного и охотно делал все, что имело какие-либо шансы на осуществление. Поэтому он сейчас же, без всякого напоминания, стал собирать сухой хворост для костра, зная, что, как только пойдет роса, он отсыреет.
В этом месте проезжая дорога проходила близко от берега, и когда солнце окончательно закатилось, около нас остановилась колясочка. Вышел человек и участливо сказал: «Я за вами уже долго гонюсь. Ваша лодочка шибко бежит. Но теперь, как мне кажется, у вас авария». Я ответил: «Да, совершенно верно». «Чем я могу вам помочь?» — поинтересовался он. «Сейчас нам ничего не надо, мы будем ночевать. А завтра будет видно, в крайнем случае пойдем на веслах». Он сказал: «Завтра утром я приеду сюда. Но вы могли бы переночевать у меня, мое имение не очень далеко отсюда». Я поблагодарил его и сказал, что мы останемся здесь.
Сварили кашу, вскипятили чай и переночевали в челночке, прикрывшись палаткой…
Утром любезный человек приехал и предложил нам пробыть дня два у него в имении, отдохнуть. К тому же его мальчики крайне заинтересовались лодкой и мотором — они этого еще не видели. При этом он отрекомендовался. Оказалось, что он тоже поляк. Когда мы ему рассказали, что четверо суток просидели на берегу рядом с имением однофамильцев или родственников моего коллеги по Госдуме, он выбранил их за то, что они не пригласили нас к себе.
Посовещавшись с Сашей, мы признали, что наше путешествие кончилось: гнать челночок на веслах было невозможно достаточно далеко. Поэтому решил, что челночок я подарю мальчикам любезного поляка, а мотор заделаю в какой-нибудь ящик и отправлю по железной дороге в Курганы. На все это требовалось время. Я поехал с любезным хозяином к нему, а Сашу попросил охранять наше имущество. Он вскинул свое охотничье ружье на плечо и надел дождевик, так как надвигалась туча.
Прошло много часов, прежде чем я сделал все, что было нужно, и на возу вернулся к Саше. У него ничего не изменилось. Он ходил взад и вперед по берегу, не обращая никакого внимания на дождь. И не упрекнул меня, что я так долго отсутствовал. Взгромоздили челночок на телегу, сели сами и потихонечку поехали в имение новоприобретенного друга. Там мы пробыли два дня, познакомились с его семьей, о политике не говорили. Затем, сдавши ящик на железную дорогу, сами сели на пароход и поплыли вниз по течению в губернский город Могилев.
Плыли довольно долго. У радушного хозяина мы, конечно, позавтракали, но на пароходе проголодались. Денег после покупки пароходных билетов осталось совсем немного — один рубль. Попросить у любезного хозяина при первом же знакомстве я не мог. Из запасов наших у Саши оказался кусок сала. Хлеба не было. Саша стоически ел сало без хлеба, но я не мог.
В таком голодном состоянии прибыли мы в Могилев. Пошли в гостиницу, обеспечили себе номер. Затем на последний рубль наняли извозчика и поехали. Куда? На монастырское подворье за городом, где проживал преосвященный Митрофан, епископ Могилевский. Он был членом Госдумы и прекрасно меня знал. Он принял меня крайне радушно и очень смеялся, когда я рассказал ему историю и о наших затруднениях. Я сказал: «Издержался странник, ваше преосвященство».
Получив жизненный эликсир в виде двадцати пяти рублей, мы вернулись в гостиницу и выехали на следующий день поездом в Курганы, чтобы отомстить негостеприимному на этот раз Днепру.
Через некоторое время прибыл и ящик с мотором.
* * *
Однако злоключения на Днепре не отбили у нас охоты к дальнейшим путешествиям. Насос переделали. Кочановский по моим чертежам построил более комфортабельную лодку, получившую название «Волыночка». В следующее лето эту «Волыночку» отвезли в город Луцк и там спустили на воду реки Стырь. И втроем — Саша, я и Кочановский — пустились в дорогу.
Стырь почитается рекою не только сплавной, но и судоходной. Но это последнее название звучит слишком гордо. Суда, которые ходят по Стыри, — это небольшие катера. Но все же при их приближении пловаки, то есть плавучие мельницы, отходят в сторону, давая им дорогу через шлюзы (узкости), потому что в этих шлюзах течение стремительное.
И вот, когда мы подошли к одному из этих стремительных проходов, какая-то старая женщина, по-видимому, еврейка, стала отчаянно кричать, пытаясь нас остановить. Мы причалили к берегу, спросили ее, в чем дело. Она, вдруг, встала на колени, умоляя, чтобы мы не шли в шлюз.
«Что вы, смерти своей хотите?» — стенала она. «Почему?» — спросил я. — «Что значит почему? Там вчера утопло два, сегодня хоронили». — Невозможно было смотреть на валяющуюся в ногах старушку.
«Хорошо, но ведь нам как-то же надо…» — «Так вы зайдите ко мне. Это мой пловак. Я пошлю людей, они на руках перенесут вашу лодку, и тогда поезжайте себе с Богом».
Что было делать? Действительно, под надзором Кочановского «Волыночку» и багаж потащили, а хозяйка затащила нас к себе и стала потчевать чаем и прочим. И страшно нас благодарила.
«Меня зовут Злата Рыжая. У меня две дочери. Одна в Луцке… А вы из Луцка?» — «Да, идем из Луцка». — «Вот видите? А другая… Вы куда едете?» — «В Пинск». — «А другая в Пинске. И вот я между ними. Так, значит, вас Бог послал».
Сытые и растроганные, мы поплыли дальше. Я до сих пор помню эту старушку. Ну что ей в конце концов, если б еще «утопло два»? Она же не виновата. Река Стырь судоходна, и она все равно обязана отводить свой пловак в сторону. А кто хочет топиться, так это его дело.
* * *
Помню, кажется, в перерыве между второй и третьей Государственными Думами я отправился в очередное речное путешествие, на этот раз с Василием Кочановским. Он был столяром, который постоянно служил у меня в Курганах. Когда я купил для лодки американский мотор системы Кушмана, он освоил его, стал мотористом и приспособил к байдарке, построенной им же по моим чертежам. Байдарка была очень узкая, ее ширина не достигала и двух футов. Но не в этом дело.
Через несколько дней плавания путь нам загородили плоты. Они остановились в свою очередь потому, что надо было пройти сквозь мельничный шлюз. Эта операция была на несколько часов, а потому плотовщики приготовились ночевать. На берегу разожгли костры. Видя такое дело, я послал Кочановского договорить подводу, чтобы две версты, занятые плотами, перевезти байдарку на телеге.
Кочановский быстро справился, воз, запряженный двумя лошадьми, подали, байдарку взгромоздили и мы двинулись по дороге вдоль реки. Впереди, как водится, бежали мальчишки. Мы въехали в какое-то местечко, лежащее выше Дубровшы. В местечке была большая площадь и на ней много народа. Причем посередине были исключительно женщины, бабы. А вторым кругом, уже под домами, стояли мужики. Что такое?

Члены 2-й Государственной Думы. Январь 1907
Мы поехали на баб. Вдруг они всполошились, окружили нас и стали вопить:
— Не далю!
[19]
Впереди всех была молодая, красивая, задорная женщина. Я спросил ее:
— Чи ты сдурела? За що не далю?
— А за що воно позакрывано?
[20] — вопросом ответила она, указывая на нос байдарки, который действительно был закрыт. Там лежали носильные вещи, закрытые от дождя брезентом.
— Ты хочешь посмотреть, что там такое? — спросил я.
— А як же!
Я откинул брезент. Все бабье жадно бросилось смотреть. Сверху лежали мои синие рейтузы офицерского покроя. На лицах женщин отразилось полное разочарование. Тогда я вынул рейтузы, размахнулся и эту дерзкую бабу и всех остальных, молодых и старых, стал стегать по чему попало. Поднялся неистовый визг, смех и хохот. И они бросились врассыпную.
Победив женщин, я подозвал их назад и показал им все в байдарке. В носу всякие предметы, а в корме мотор и медный винт, который торчал из лодки. Я думал, это их обеспокоит. Но нет, ничуть. Дерзкая баба сказала:
— Це мы знаемо, це машина. У нас такая есть на лесопилке.
Тогда я спросил:
— А що вы шукалы?
[21]
— Що мы шукалы? А бомбы.
— Какие бомбы?
— А що к
идают та людей убивают. Мы думали, що вы лицомеры.
— Землемеры?
— Не, лицомеры.
И повторила:
— Що бомбы к
идают.
Я понял:
— Революционеры?
— Так, так, лицомеры, — загудела вся толпа.
А дерзкая сказала:
— А вы таки добры люды. Идиты соби с Богом.
За время этих разговоров мужики, жавшиеся под стены, приблизились и разогнали баб. Обращаясь ко мне, стали говорить:
— Выбачайте, о це дурны бабы!
[22] Мы им казалы, що це паны идут човном, а воны — «лицомеры».
Но я очень хорошо понял этих хитрецов. Это они переполошили баб и науськали их, чтобы они остановили телегу. А сами в сторонку. Если действительно «лицомеры», то они не пустят, а если добрые люди, то извинятся. Я дал им на водку и под шум приветствий и пожеланий доброго пути мы отбыли.
* * *
Я привожу это происшествие как пример того, что наглухо отрицают сами революционеры. Народ-де с ними. Смотря какой народ. Если разбойники с Волги, то может быть. А волынцы наши — не-е-ет.
В Государственной Думе второго созыва, когда шел аграрный вопрос, на кафедру взобрался такой «герой» с Волги. Он сказал по поводу предложения кадетов, которое состояло в принудительном отчуждении некоторых помещичьих земель с вознаграждением, то есть с уплатою из средств казны за отчуждаемую землю:
— Кто тут сказал, что мы пришли сюда, чтобы купить. Нет! Мы пришли не купить, а взять!
И сошел с кафедры. А вслед за ним занял его место на кафедре наш волынский мужик, по-моему, Игнатюк, настоящий мужик в вышитой рубашке, черной свитке, в сапогах, высокий, стройный, благообразный. Он сказал:
— А мы не так. Нам земля нужна, что и говорить. Но мы никому не хотим сделать кривду. А если в этой высокой палате не будет согласия, то мы сдаемся на Государя Императора. Як вин скаже, так нехай и буде.
Так, вот, волынский народ был за Царя, а не за «лицомеров».
Еще об Александре Могилевском
После окончания университета, когда началась война, Саша Могилевский поступил в Киевское военное училище вместе с одним из князей императорской крови. Был, кажется, сапером. Попал ли он на большую войну, не знаю. Помню, что был в Добровольческой армии.
Он женился на Валентине Васильевне, по национальности немке. Ее отца во время войны сослали в Сибирь как немца. Он был хорошим столяром-гробовщиком. Она сохранила мрачный характер, не совсем нормальный: все время боялась каких-то жуликов. Я у них жил некоторое время в эмиграции в Горажде, в Югославии, недалеко от Сараево.
Однажды, во время Гражданской войны, во время отступления белых в 1919 году из Киева в Одессу, ему где-то в пути попался студент-еврей, который занимался пропагандой в пользу большевиков. Его привели к Александру Александровичу. Последний рассказал мне впоследствии, что по законам военного времени он должен был его расстрелять. Но Александр Александрович приказал просто его выпороть и отпустить. Он помнил, что при этом еще путалась сестра этого студента, которую не тронули.
В конце двадцатого года я случайно попал в Константинополь и жил в очень богатой квартире, меня там просто приютили. Туда ко мне прибивались самые разнообразные люди. Между прочими пришел однажды и Саша Могилевский. Но я его сразу даже не узнал: распухшее лицо, а волосы вроде как перья. И он не мог ни на одну минуту остановиться: говорил, говорил и говорил в крайнем возбуждении, нельзя было вставить ни единого слова.
Его судьба была такая. Он эвакуировался из Крыма на каком-то судне, которым командовал лейтенант Григорий Григорьевич («Гри-Гри») Масленников, и о нем Саша очень хорошо отзывался: «Кругом столько дряни, а этот — отличный командир». «Гри-Гри», конечно, не знал, что Саша мой племянник, а последний не знал, что «Гри-Гри» в хороших отношениях со мною. Это судно было полным-полно набито консервами, и никто не знал, можно ли было ими пользоваться, но из-за голода многие на свой страх и риск вскрывали консервы. Положение усугублялось еще тем, что этот корабль имел стальную палубу, а на море был ужаснейший холод. Саша рассказывал: «На суше хоть когтями выроешь ямку, а здесь кругом сталь, омываемая холодной водой, ледяной ветер».
И он во время плавания получил воспаление легких. Сойдя с корабля в Константинополе, он попал в какой-то госпиталь, так как к этому прибавилось воспаление почек. Там оказался какой-то врач-француз, который прописал ему молоко, мед и еще что-то и сказал по-французски: «Надо быть русским, чтобы все это выдержать».
Это был военный госпиталь, начальником которого был русский врач. Он хотел выбросить Сашу, считая, что дни его все равно сочтены, так как была страшная теснота и необходимо было дать место другому больному. «Я взялся за бутылку и сказал, что размозжу голову любому, кто ко мне подойдет». Тогда начальник госпиталя обратился в полицию (в Константинополе после капитуляции Турции была уже французская полиция). Явился французский офицер с чернокожим полицейским. Офицер поговорил с Сашей, позвал начальника госпиталя и выругал его, добавив, чтобы он не смел трогать больного.
Он долежал в госпитале до такого состояния, когда смог слабо передвигаться, и после этого покинул его. С каким-то приятелем решили печь пирожки, продавать их и с этого жить. Но от голода поедали пирожки сами, и предприятие лопнуло. Их спасли какие-то греки, которые их подкармливали.
В это время мне удалось связаться с моею сестрою Линой Витальевной, которая уже обосновалась в Белграде. Она сообщила, что не может найти Сашу, а между тем у нее есть деньги, и она может ему их послать. Я напечатал в местной газетке, что Шульгин разыскивает А. А. Могилевского, и вот он меня разыскал.
Я его пристроил в Террапию, куда было попасть нелегко. Террапия раньше принадлежала посольству и была местом отдыха его сотрудников на Босфоре, а еще раньше это было здание гарема какого-то паши или бея.
Однажды, когда он поздно вечером гулял (дорога проходила около пролива), на него напал человек с револьвером в руках, в котором он узнал наказанного им студента. Обороняясь, ему удалось обезоружить нападавшего и убить его, так как тот пытался отнять обратно револьвер. Об этом никто не знал, кроме меня. Но на этом история не закончилась, она имела продолжение.
Саша тогда был уже сербским офицером в Белграде. И вот под вечер, когда он гулял в каком-то саду или парке, к нему подошла молодая женщина, которую он сначала не узнал. Она стала с ним разговаривать, кокетничать и заигрывать. Он понял, что она русская еврейка, и затем узнал в ней сестру убитого. В тот раз ему удалось от нее отделаться.
Продолжение было в Новом Саду на Дунае, где он служил в голубиной почте. Мы с Марией Дмитриевной жили в Сремских Карловцах, и я у Саши бывал. К тому же в Новом Саду по моим чертежам строились две байдарки, одна для меня, другая дота батальона, в котором служил Саша. Он рассказал мне, что как-то получил корзину с пирожными неизвестно от кого. Он сдал их на анализ, и оказалось, что они были отравлены цианистым калием. Поэтому он стал особенно осторожным и один раз чуть было меня не застрелил.
Как-то, приехав к нему и не застав его дома, я прождал его целый день и, наконец, лег спать в его комнате. Он пришел поздно, ему показалось что-то подозрительным, и он осторожно вынул револьвер, резко открыл дверь, но тут я успел его окликнуть. Он сначала очень испугался.
Затем дело переместилось из Нового Сада к морю, где он служил в маленьком городке Герцегнови в деревоотделочной мастерской. Там произошел инцидент, который получил некоторую известность и из-за которого в РОВС’е его прозвали серьезным мужчиною.
Был у него начальник, который немилосердно крал казенное имущество. А Саша уже обжегся на этом на голубиной почте. Там начальника и четверых офицеров, в том числе и Сашу, отдали под суд за то, что они крали зерно у этих несчастных птиц. Офицеров разжаловали и к чему-то присудили, а Сашу оправдали, так как было доказано, что он в их делах не участвовал. Но за то, что он знал, но не донес, присудили его к денежному штрафу, который его мать за него и заплатила.
Здесь же, в мастерской, памятуя уроки голубиной почты, он избил своего начальника за беззастенчивое воровство и сказал ему: «Жалуйтесь!»
Тот не пожаловался, но Сашу все-таки взяли на прицел и потом перевели на границу с Македонией, где не прекращалась и в мирное время война
14. Там вдоль границы были вырыты окопы, по которым только и можно было передвигаться. Стоило высунуть голову, как раздавались выстрелы и свистели пули.
Однажды, еще в Герцегнови, он получил письмо, в котором ему назначала свидание какая-то женщина на дороге близ городка. Он не пошел, а сообщил полиции. Полицейские отправились к тому месту в назначенное время (был уже темный вечер) и увидели там молодую женщину, явно кого-то дожидавшуюся. Когда ее спросили, что она там делает, она объяснила, что ждет своего возлюбленного, а кто он, назвать отказалась. Ей приказали уйти, и на этом дело тогда кончилось.
Наконец, началась война с немцами. Роте солдат во главе с Сашею было приказано передислоцироваться в другое место. Рота состояла из сербов, и своего командира они любили за заботу и справедливость. Они пришли в какой-то городок. Что там произошло, точно никому не известно. Но, словом, было так, что он отделился от своих людей, куда-то спешно их послав. Сам же остался у стены одного из домов. Почему? Потому что там лежали раненые, которых немедленно бы добили хорваты или сербы-мусульмане. Он стоял с револьвером в руке, спиною к дому. Над ним раскрылось окно и какая-то женщина выстрелила ему в голову. Он упал. Когда подбежали находившиеся поблизости солдаты, он был мертв. Они выволокли эту женщину из дома и растерзали ее. Поэтому была ли она той еврейкой, или местной хорваткой, или мусульманкой, установить не удалось.
Рота взяла тело своего командира, положила на телегу, отвезла обратно в город, откуда они выступили, и там похоронили…
Что случилось с его женою Валей, не знаю. Она, во всяком случае, в Америку не попала. А вот их сын и мой крестник Митя в Америку попал. Митя был какой-то никудышный, с величайшим трудом окончил кадетский корпус в Горажде, который подчинялся РОВС’у (я приезжал к ним, чтобы репетировать Митю).
Не знаю, каким образом, но Митя со своим дядею Иваном, братом Саши, перебрались в Америку. Надо заметить, что у Мити была толковая жена-казачка. Чем он занимался во время войны, не знаю, и где он был — тоже.
Иван Могилевский
Был очень странный. Полное отсутствие способностей при феноменальной памяти. С трудом окончил гимназию, однако в Белградском университете шел первым благодаря памяти. Вместе с тем был абсолютно бездарен в математике.
После окончания университета его хотели оставить в аспирантуре и задали ему тему «Следы классического влияния на поэтов Рагузы». Для того, чтобы написать такую работу, ему надо было проанализировать всех бездарных поэтов и исследовать это влияние. Я посоветовал ему не писать эту чушь, а исследовать истоки двуликой культуры Рагузы. Ему это не удалось.
Был он военнообязанный, служил в югославской армии, потом каким-то образом очутился в Америке, где «процветает благодаря знанию языков и истории», — как писал Антон Дмитриевич Билимович (помимо русского, знал сербский, немецкий, французский, английский и другие).
Ваня женился на падчерице Скоропадского, но не гетмана, а члена Государственной Думы. Последний был женат на помещице Марковой, которая первым браком была за каким-то восточным человеком и имела от него красавицу дочь, кажется, Наташу
15 (у Скоропадского от Марковой была тоже дочь).
Брак Вани с Наташей не был удачным, жизнь у них не клеилась, она оказалась просто неспособной к супружеской жизни. Однако была красивой, толковой и практичной женщиной, у нее были явные коммерческие способности. Уже в Сербии окончила ветеринарный институт и очень увлеклась этой профессией.
Повторяю, она была красива, но мне не нравилась. Когда в апреле сорокового года немцы напали на Югославию, моя сестра Лина Витальевна дала мне облигации государственного займа с целью перевести их в деньги и купить золотых вещей. Зная деловые способности Наташи Могилевской, я взял ее с собой, предоставив ей совершить эту сделку. С любопытством и восхищением наблюдал, как она блестяще справилась с этим делом, в результате чего мы купили много золотых вещей по выгодной для нас цене.
Жена Антона Дмитриевича Билимовича рано состарилась и совершенно спокойно относилась к сердечным увлечениям своего мужа. Она говорила: «Тебе нужна любовница? Возьми Скоропадскую».
Мои братья Павел и Дмитрий Дмитриевичи Пихно
Павел Дмитриевич родился в июне 1880 года, то есть был младше меня на два с половиной года. Мама, страдавшая туберкулезом, чем дальше, тем становилась слабей. Я не был богатырем, а брат Павел Дмитриевич был слабее меня. Однако охота — стрелял он очень хорошо — и жизнь в деревне его несколько укрепили. Он кончил, как его отец Дмитрий Иванович и я, вторую киевскую гимназию без затруднений, в университет идти не хотел, но чтобы сделать приятное своему отцу, кончил филологический факультет. Философия его интересовала.
Павел очень недурно играл на рояле, в особенности Шопена. Но еще будучи гимназистом, он вместе со мною начал учиться игре на скрипке, хотя отец убеждал его этого не делать. Дмитрий Иванович знал, что скрипка очень истощает здоровье. Павел не послушался отца и на этом пострадал впоследствии.
Итак, мы оба учились играть с неравным успехом. У меня хорошо пошла правая рука и образовался, как говорил Тессейр, наш учитель, «широкий тон». У Павла Дмитриевича плохо пошла именно правая рука, от нервности она дрожала и тон был жиденький. Зато у него хорошо пошла левая рука и в беглых пассажах он играл гораздо лучше меня. Когда мы играли вместе, то выходил один скрипач, который мог играть и кантилену (это был я), и пассажи (это был брат), а публика не различала. Таким образом мы играли с ним и публично. Все сходило с рук и вызывало шумное одобрение. Но я не придавал значение своей скрипке, ограничивался любительскими ансамблями, которые доставляли нам самим большое удовольствие.
Брат этим не удовлетворился. Он хотел быть виртуозом, что явно было невозможно. Однако он поехал в Швейцарию и поступил там к знаменитому Марту. В то время в Швейцарии жизнь была дешева, только Марто брал дорого со своих учеников. Они играли, играли и платили. Но, наконец, как-то пришли к нему и сказали: «Маэстро, мы не можем выполнить ваши требования и играть восемь часов в сутки, мы просто не в состоянии делать это. Устаем до того, что ненавидим скрипку».
Марто ответил: «Так бросьте играть. Я, знаменитый Марто, только одни фуги Баха играю четыре часа в сутки. А если считать и все остальное, то я играю и десять, и двенадцать часов. Бросьте, скрипка, значит, не для вас».
Не знаю, как поступили остальные его ученики, но мой брат бросил и уехал из Швейцарии. Однако он продолжал играть и доигрался до того, что у него образовался нарыв на указательном пальце левой руки. Он лечил его по-своему, и палец пропал — в том смысле, что скрючился и нажимать им на струны было уже нельзя. Оставшиеся три пальца (большой палец не участвовал) не могли восполнить потери, и карьера виртуоза была окончательно похоронена. С тех пор он стал говорить: «Я неудачник».
* * *
Был ли он неудачником в действительности? Пожалуй, что был. Была какая-то барышня (фамилию вспомнить не могу, хотя ломаю голову), которую я никогда не видел. Но надо думать, что он питал к ней какое-то серьезное чувство, потому что оставил ей по духовному завещанию значительную сумму, которую она, конечно, не получила, так как произошла революция.
Женился же он на Марии, дочери значительного киевского торговца оптикой (у него на Крещатике был магазин оптических предметов). Они плохо ладили, хотя имели двух сыновей. Когда началась революция, затем Гражданская война, мальчики страшно голодали и умерли в двадцать пятом или двадцать шестом году от последствий этой голодовки.
Мне удалось в двадцать пятом году передать Марии значительную сумму денег. Когда я «тайно» путешествовал по Советской России в том году, мне удалось узнать, что Катя, родная сестра Марии, жила под Москвою. Я вызвал ее на свидание. И хотя мы никогда не виделись, каким-то образом, уже не помню каким, опознали друг друга, и я передал ей для Марии восемьсот рублей. Впоследствии Мария написала мне: «Я сильно Вам благодарна за то, что Вы облегчили последние месяцы жизни мальчиков. Но было уже слишком поздно». Что стало в дальнейшем с Марией, я не знаю.
А Катину фамилию я запомнил, она была, по-моему, Филоневич, по мужу. Когда по поводу моей статьи (обращение к канцлеру Аденауэру) приехал ко мне во Владимир в шестидесятых годах — я уже тогда жил в квартире на улице Фейгина — корреспондент газеты «Известия», то фамилия его была Филоневич. Он поместил интервью со мною и мою фотографию.
Дмитрий Иванович Пихно подарил Павлу в Волынской губернии, на Полесье, имение в Кошовке, на речке Стоходе, и часть в Курганах. Ничем определенным он не занимался.
Затем он сблизился со своей кузиной Людей Щегельской. Она была красивой девушкой, училась и кончила гимназию. Причиной ее самоубийства была ревность, ревность совершенно необоснованная. И вот, после очередного бурного объяснения Людя заперлась в ванной, затем послышался выстрел. Брат вырвал крючок и ворвался в ванную комнату. Она прострелила грудь, была еще жива и смеясь говорила: «Теперь я буду с дырочкой».
Хирургическая больница была рядом, но все ж таки, пока ее туда доставили, вытекло много крови, и она умерла во время операции. Я тогда был один на своей специальной квартире на Кузнечной улице и играл на рояле какое-то танго. Вдруг раздался протяжный и потому тревожный звонок. Бросился отворять дверь. Вижу — брат, рыдающий и кричащий: «Под ножом, под ножом умерла!»
Это случилось в январе четырнадцатого года. Ее похоронили, а на следующий день, двадцатого января, меня судили. Я всю ночь не спал из-за этого происшествия и поэтому был совершенно не в форме на суде.
Потом целый месяц жил у брата, после меня у него поселился Юрий Владимирович Ревякин, который, как и я, старался его утешить. Он, между прочим, устраивал спиритические сеансы. Они садились вдвоем за стол в абсолютной темноте, на столе раскладывали лист бумаги и карандаш. Было слышно, как бумага шуршала под карандашом. Во время первого сеанса, когда шуршание прекратилось и зажгли свет, они увидели, что лист был исписан карандашом, но ничего нельзя было понять. Юрий Владимирович то ли знал, то ли догадался, но пояснил, что это зеркальное письмо и его необходимо читать в зеркале. Действительно, когда стали читать письмо в зеркале, то обнаружилось, что почерк был Люди, в этом не было сомнения. Она писала, чтобы ее похоронили в Кошовке и совсем так, как похоронили Дмитрия Ивановича Пихно в Агатовке. Это сообщение из потустороннего мира действительно очень утешило Павла Дмитриевича.
Когда наступила весна, он уехал в Кошовку, приготовил там склеп точно такой же, как в Агатовке (последний сохранился до сих пор) и затем развел там цветник. Как моя четверка коней везла гроб Дмитрия Ивановича от станции Могиляны до Агатовки, так точно моя же четверка с тем же кучером Андреем и в том же экипаже везла гроб Люди со станции железной дороги в Кошовку. И там ее похоронили.
Эти похороны были как раз перед Первой войной. Когда похороны закончились, я сказал Андрею взять вагон, чтобы не гонять лошадей за сто верст, и по железной дороге ехать в Курганы. Он пытался выполнить мое поручение, но начальник станции не дал ему вагона. Андрей спросил у жидов, которые всегда все знают, почему ему отказали. Те ответили: «Мобилизация». И четверка пошла по дороге.
Я уехал в Киев и убедился в пути в правильности латинской поговорки: «Inter arma tacent leges»
[23]. Ехал спокойно, но на рассвете в Здолбуново стали ломиться в купе. Открыл дверь и спросил: «Что вам угодно?». В ответ услышал вопль женщин, переполнивших коридор вагона: «Место нам угодно!». И они ворвались с кучей чемоданов, узлов и даже клеток с канарейками. Оказалось, что они жены и дети местных офицеров и чиновников, что им приказано уезжать ввиду близости неприятеля. А на места в моем купе они не имели никакого права, так как я заплатил за все купе.
* * *
Во время войны Павел Дмитриевич не попал на фронт, так как он не был военнообязанным и воинскую повинность не отбывал по слабости здоровья. Он жил в Киеве и, насколько было возможно, следил за имениями в Кошовке и в Курганах. Изредка, когда была оказия, поддерживал со мною переписку. Вспоминаю, что, когда во время Гражданской войны я вместе с Энно жил в Одессе в гостинице «Лондон», он туда пробился из Киева под фальшивым паспортом. Затем, когда мы на пароходе ушли из Одессы в Анапу, то и он был с нами.
* * *
Не помню, где и при каких обстоятельствах он занимался изданием книжки, составленной еще в Одессе подготовительной комиссией по национальным делам, в которой я председательствовал. И не помню, как он очутился опять в Киеве. Но помню хорошо, что, когда наступил окончательный исход из Киева, я отправил его вместе с другими в Одессу. О его дальнейшей судьбе я написал в своих воспоминаниях о Гражданской войне («1917–1919»).
* * *
Павел Дмитриевич не занимался политикой и не писал статей в «Киевлянине». Но иногда писал и печатал в газете кое-какие стихотворения. Затем он издал в Киеве книжку своих стихов под названием «Прелюдия творчества», там был и его портрет.
Он написал и издал один романс, посвященный некой Нелютке. Быть может, это была та, которую он не забыл в своем завещании. Романс этот характерен для Павла Дмитриевича: рифмы без выкрутасов, но красивые, и музыка, которую он написал тоже сам, мелодичная. В память о нем я хочу привести слова этого романса.
Я стоял в полумраке аллеи
И глядел, погруженный в мечты,
Как на мрамор прелестной Психеи
Упадали латаний листы.
А фонтан серебристою зыбкой
На груди ее нежно играл,
И Психею с невинной улыбкой
Месяц бледный лучом обнимал.
И услышал я голос Психеи,
Иль струя залилась серебром:
«Что ты ищешь во мраке аллеи
И тоскуешь, и плачешь о чем?»
Я ищу средь пустыни безбрежной,
Где прекрасны одни лишь мечты,
Образ девушки чистой и нежной
И такой же прекрасной, как ты.
* * *
Дмитрий Дмитриевич Пихно был младше меня на пять лет. Он родился в 1883 году, двадцать девятого июля по старому стилю. Я помню этот день, он был солнечный. Я вышел на черную лестницу и там увидел незнакомую хохлушку с метлою в руках. Она мне сказала: «А у вас, панычику, братик родился». Это и был маленький Митя. А мама умерла от туберкулеза восьмого октября по старому стилю того же восемьдесят третьего года в Ментоне, во Франции. Поэтому говорили, что этот ребенок обречен, что он непременно скоро умрет от чахотки. Но ошиблись.
* * *
Когда я жил в Сремских Карловцах в эмиграции, то часто посещал «патриаршийскую башту», то есть парк-сад, принадлежавший в былое время сербскому патриарху. Там я высмотрел одно замечательное дерево. Кто-то когда-то задумал его срубить, но дорубил только до половины и бросил. Дерево находилось в опасности. Первая же сильная буря могла его сломать, но оно напрягло все силы, и то место, что было надрублено, окружило спасательным поясом из древесины, такой же твердой, какой бывают корни. Теперь буря могла сломать дерево где угодно, но только не в месте пояса.
Так, по-видимому, случилось и с Митей. Находясь в опасности заболеть туберкулезом, организм бросил все силы на этот фронт. Поэтому он умер не от чахотки.
* * *
Подтверждение этому я получил от некоего петербургского врача Акацатова. Обследовав меня, он сказал, что моя мать умерла от туберкулеза, да и отец, по-видимому, тоже. И спросил меня: «Не чувствуете ли вы каждый третий или четвертый день необъяснимой слабости?». — «Чувствую». «Так вот, — пояснил он, — это происходит потому, что до сих пор ваш организм борется с туберкулезом. Он его побеждает, но по временам чувствуете вы слабость по этой причине».
* * *
Дмитрий Дмитриевич в детском возрасте болел скарлатиной, отчего стал немного глуховат. В раннем детстве был очень раздражительным ребенком и царапал ногтями свою няньку Параску (Прасковию). А эта дура поощряла мальчишку: «Чарапай мене, чарапай».
В петербургском доме, где мы жили когда-то, был старичок швейцар. И когда Митю проносили мимо него, он очень волновался и что-то кричал. Добродушный швейцар говорил: «Да-a, старичок, старичок». Но мальчик продолжал сердиться. Потом, наконец, разобрали, что он говорит не «старичок», а «старый черт». Так что, по-видимому, ребенок был злой. Правда, это совсем прошло впоследствии и злости у Дмитрия Дмитриевича никакой не было, а наоборот, скорее было добродушие. Но он долго говорил плохо. Например, все вещи он называл «цаца», а свою ручку — «цаца вава», потому что запомнил, что эта рука у
него долго болела («вава» значило «больно»). Отца он называл «папа фой», что значило «папа большой». А молоденькую гувернантку называл «папа май», то есть «маленький папа». Впоследствии заговорил, как и все, очень правильно и свободно, догнав своих сверстников.
Его брат Павел Дмитриевич получил классическое образование и пошел в университет, а Дмитрий Дмитриевич окончил реальное училище и поступил в политехникум на агрономический факультет, который и окончил. В политехникуме молодые люди носили красивую форму с вензелями императора Александра II на плечах и были изящны на вид. Не знаю, этим ли прельстилась Маруся, красивая девушка одинаковых с ним лет. Об этой семье стоит рассказать.
* * *
В первый раз я увидел Марусю в 1900 году. Очень застенчивая, она казалась дикой козой, которая вскочит и исчезнет в лесу Пущи Водицы под Киевом, куда мы приехали погулять. Об этой Пуще Водицы сохранилась легенда, и именно о козочке, что будто бы в этом лесу появляется иногда дикая коза, которая человека заманивает. Выбегает на дорожку и исчезает, опять выбегает. Пока не доведет человека до могилы без креста над озером, то есть над водицею. Тут будто бы была похоронена девушка, которая утопилась в этом озере. Маруся действительно покончила с собой примерно через десять лет…
Отец Маруси, Михаил Меркулов, был председателем окружного суда в Житомире. Он женился на обедневшей аристократке княжне Варваре Валерьевне Урусовой, мать которой была урожденная княжна Кейкулатова. Таким образом, Маруся была дважды татарская княжна. Варвара Валерьевна была почтенная и добродетельная женщина, но родная ее сестра Екатерина Валерьевна говорила, что Варя ужасно глупа. Действительно, народив семерых детей, она не могла с ними справиться и только жалобно причитала: «Mon Dieu, mon Dieu!».
Маруся была старшей. Она кончила несколько классов гимназии и самовольно бросила учиться. Потом шел Сеня. Он кончил гимназию в Петербурге, поступил в университет и, будучи студентом, начал свою скандальную жизнь. Так, например, когда я уже был в Государственной Думе, ко мне обратился граф А. А. Бобринский, сказав: «На квартиру ко мне явился ваш родственник студент Меркулов и попросил у меня денег. Как это понимать?». Я ответил: «К сожалению, он действительно мой родственник, но опустился. Гоните его прочь». Затем этот Сеня стал морфиноманом и от морфия умер молодым.
Потом была Лена. Она тоже самовольно ушла из четвертого класса гимназии и проводила свое время за чтением романов. В ней было соединение чего-то низового, но красивого, и аристократки. Ею пленился мой племянник Филипп Александрович Могилевский и после разных историй женился на ней.
Затем был Ильюша, очень красивый мальчик. Он погиб в первом же бою с немцами.
Пятым шел Саша, учившийся в морском училище. Он умер шестнадцати лет от скоротечной чахотки.
Была еще Катя. Она не была так красива, как все остальные. Умерла двадцати четырех лет от туберкулеза.
И, наконец, последний, имени его не помню, который оказался самым прочным. Он эмигрировал, окончил медицинский факультет в Югославии, вел себя прилично и жил дольше всех.
* * *
Свадьба моего брата Дмитрия Дмитриевича Пихно была очень красива. Все этому способствовало. Он венчался с Марусей в 1903 году. Невеста одевалась к венцу в доме с готическими окнами, в доме, только что мною построенном для себя в Агатовке. Дом был небольшой, но вместе с тем массивный. Он был построен из местного камня невероятной древности. Здесь когда-то было море, и в этих камнях были окаменевшие улитки, ракушки. Дом имел величественную наружную лестницу из цельных плит.
У лестницы нетерпеливо топала ногами и звенела бубенцами моя четверка. Кроме бубенцов, кони были украшены цветами. Они были запряжены в карету, только что отремонтированную. Она блестела черной лакировкой снаружи и белой штофной обивкой внутри. Эта карета имела свою историю. Она возила к венцу еще мою мать, примерно в 1862 или 1863 году. Затем она стояла в Киеве без употребления до 1889 года, когда помчалась в дальнюю дорогу по Брест-Литовскому шоссе на перекладных по направлению к Агатовке. В ней ехали моя старшая сестра Лина Витальевна, я, тогда мальчик одиннадцати лет, и мои младшие братья.
* * *
В ту поездку я, мальчишка, сидел на козлах, так как с них мне было виднее. Законная скорость для почты и пассажиров в то время была двенадцать верст в час. Курьерам, которых в те годы уже не было, но в правилах на станциях они еще фигурировали, полагалось иметь скорость пятнадцать верст в час. Сестра не скупилась давать на чай ямщикам на каждой станции при смене лошадей, и мы ехали со скоростью восемнадцать верст в час, а некоторые участки покрывали даже со скоростью двадцать верст. И я торжествовал.
Но я еще потому сидел на козлах, что зорко высматривал во всех проезжаемых городках и селах собаку — черного пойнтера по кличке Марс, — пропавшую на этой дороге девять месяцев тому назад. Собаки попадались, но они были не той, которую искал я. Было и другое развлечение. В городках и местечках выстраивалось на улицах все еврейское население, завидев издали карету. Оказалось, что в тот день волынский губернатор выехал в губернию. Вообще-то евреям никакого дела не было до губернатора, они жили своей жизнью, губернатор своей в Житомире. Но они народ крайне живой и любопытный. Завидя карету, в которых уже давно никто не ездил, кроме митрополита, евреи решили, что кто же может ехать в ней, если не губернатор? Но удалые ямщики лихо проносились мимо, и разочарованные жители оставалась в недоумении — кто же проехал?
Однако, в городе Корец — историческое место, бывший удел князей Корецких, в котором остались величественные развалины, а сам род Корецких угас, — ямщик остановил на площади лошадей, чтобы их напоить. В то же мгновение евреи бросились к окнам кареты, и широкая площадь опустела. Я же на козлах оставался на своем посту. Что мне были эти евреи, когда я искал свою собаку.
И вдруг я его увидел на опустевшей площади. Черный, с белой меткой на груди, он важно и пристально смотрел на карету. Я закричал как целая стая журавлей:
— М-а-а-а-рс!!!
И через мгновение он был уже на козлах, обнимая меня лапами и громко лая.
Что же из этого вышло? Сейчас же по Корцу пробежала ужасная весть: «Бешеная собака загрызла губернаторского сынка». Но евреи, подбежавшие к окнам кареты, кричали все разом:
— Это совершенно не губернатор, это дама с детьми!
Моя сестра, высунувшись из окна, спросила ближайших евреев:
— Вы не знаете, чья это собака?
Они ответили:
— Что значит «не знаем». Это всякий знает. Это собака мирового судьи.
Сестра обратилась к ямщику:
— Ты знаешь, где живет мировой судья?
— Знаю.
— Вези туда.
Мы свернули в какой-то проезд и помчались по улицам и переулкам. Марс был на козлах со мною. После нескольких поворотов карета въехала в какой-то тупик с грохотом и звоном. Но прежде, чем она встала, Марс, соскочив с козел, умчался вперед и встретил нас в дверях домика, в котором жил мировой судья. Последний успел одеться, потому что горничная-хохлушка, которая была в переулке, прибежала вместе с Марсом с криками:
— Губернатор к нам едет!!
* * *
Губернаторы к мировым судьям никакого отношения не имеют. Судьи были совсем независимы в то время. Поэтому судья совершенно не ждал к себе губернатора. Он, разумеется, с облегчением вздохнул, когда к нему вошла «дама с детьми», и сказал вежливо:
— Прошу садиться. Чем могу служить?
Сестра начала объяснять:
— Девять месяцев тому назад пропала наша собака. Мы увидели ее на площади, и местные сказали, что это собака мирового судьи.
Судья ответил:
— Совершенно верно. Девять месяцев тому назад я нашел эту собаку в этом переулке. Она умирала. Была страшно изранена. Прежде всего я подумал, не бешеная ли она. Приказал подать ей воды. Она жадно вылакала целую миску. Тогда я дал ей поесть. И собака пошла, вернее, поползла к нам в дом. Потом она совершенно оправилась, за это время мои дети ее очень полюбили и она их. Я не могу ее вернуть… Собака очень породистая, в ошейнике, но без надписи. Он спас ей жизнь, потому что местные собаки, которые напали на нее все разом, как на чужую, если бы не ошейник, перегрызли бы ей горло…
Во время монолога судьи умиравший когда-то пес буквально сходил с ума. Он бросался то к судье, то к горничной, то к детям, то к нам, ясно показывая, что он всех нас любит. При этом лаял и визжал. Визжал, потому что у него не было слов, чтобы выразить свои чувства. Наконец, чтобы доказать нам, приезжим, что он тот самый Марс, который пропал, он притащил из передней все галоши. Это было веским доказательством, и судья был явно озадачен этим:
— Никогда собака этого не делала.
— А у нас она всегда этим занималась, — заметила сестра.
И тогда судья вынес вердикт:
— Мы очень любим эту собаку, и дети мои будут крайне огорчены. Но я не могу не видеть, что это ваша собака. Все доказательства налицо — и радость, и галоши… Я — судья и властью судьи присуждаю вам эту собаку.
Сестра поблагодарила его и мы распрощались с ними. Когда стали усаживаться в карету, то увидели, что Марс уже сидел на козлах.
* * *
Итак, в 1889 году карета прибыла в Агатовку. И тут она стояла в сарае без движения четырнадцать лет, до 1903 года. И вдруг ее извлекли, омолодили, и она снова повезет Марию к венцу, как когда-то, сорок лет назад, возила другую Марию.
И вот эта Мария сошла по величественной лестнице, и ее дядя ротмистр Ивков помог ей войти в карету, где уже сидел на передней скамейке ее маленький брат с иконой на груди (так полагалось). Венчание должно было произойти в селе Томохово, где была церковь. Кучер захлопал бичом, и кони рванулись вскачь, несмотря на то, что дорога шла вверх. Промчавшись по каштановой аллее, испещренной золотыми пятнами солнца, они поднялись по горке и еще прибавили ходу по ровной дороге, проскочив мимо громадного осокоря (громадного черного тополя), на котором был крест. Хотели броситься вниз, и кучер насилу их сдержал. Потом снова пошли и сделали резкий поворот на перекрестке, опять внизу по крутому и закрученному перекрестку и, наконец, пошли шагом через никогда не высыхавшую лужу-озерцо, потом опять вскачь по лугу, взгромоздились на паром через Горынь, с парома снова вверх на гребень и там их головы увидели с паперти церкви в селе Томахово…
За полчаса до этого из Агатовки вышла лодка с разодетыми гребцами, покрытая ковром и украшенная лилиями. Туда, в Томахово, я должен был доставить на ней моего брата. Мы проплыли мимо тысячелетнего кургана, который смотрел на нас с недоверием. Мы приплыли в Томахово раньше невесты, как полагается — жених должен был ее встретить у дверей храма — и причалили с другой стороны церкви. Она стояла у подножия холма, на вершине которого было старинное городище с еще уцелевшими земляными валами. Обойдя церковь, мы подошли к входу и стояли там, поджидая карету. Наконец, показались передние кони, за ними остальные и сама карета. Вскоре они пошли вскачь, прогремели по мостку, который едва не развалился, последний бросок, и у ступеней церкви они остановились так, что сели на задние ноги, а передние вкопались в землю.
Невеста вышла из кареты. Ротмистр подвел ее к жениху, который с роскошным букетом, выписанным из Киева, ожидал ее на пороге храма. Началось венчание. Шаферами по невесте был Ивков и кто-то еще. По жениху — его брат Павел Дмитриевич и я, в то время молодой офицер 5-го саперного батальона в белом кителе с серебряными погонами.
* * *
Началось венчание. Служба была совсем не пышная, скромная. Батюшка был как батюшка. Нестерпимо гнусавил древний псаломщик, который мучил прихожан своим дребезжащим голосом и напевом своего собственного изобретения, в котором не было никакой мелодии. Когда-то в детстве мы пели здесь трио. Я пел дискантом, моя учительница музыки Мария Владимировна — контральто, и один из служащих по фамилии Суворов пел басом. Растроганные старухи, сорок лет слушавшие псаломщика, услышав наше пение, плакали навзрыд. Но в итоге восторжествовал псаломщик. И так длилось до 1971 года. И тут вместо недолговечного трио и извечного псаломщика я услышал прекрасный хор. Правда, та церковь не сохранилась. После последней войны крестьяне собрали деньги и построили новую церковь, тоже деревянную, недалеко от старой. В ней стояли сестрички в белых фатах и с огромными свечами, как стояли они века. Но братчиков не было. Вдруг оказался один. Меня узнали и подали мне свечу в полтора метра длиною из темного желтого воска!
* * *
Бедность венчания украшали женщины, разодетые в шелковые очипки, в вышитых рубашках, в коралловых бусах. Священник, связав руки венчающимся, водил их вокруг аналоя, мы с младшим моим братом следовали за ними — я держал венец над невестой, а Павел Дмитриевич над женихом.
— По своей воле идешь ли замуж? — спросил священник.
Она ответила:
— Да.
— Не обещался ли кому? — обратился он к жениху.
— Нет.
Тогда сказаны были слова, я забыл какие, после которых считалось, что брак совершен. Псаломщик запел: «Исайя, ликуй…» похоронным голосом. Шафера расписались в книге, после чего все вышли из церкви, кругом ликовал народ. Молодые сели в карету и умчались тем же путем в Агатовку, где уже накрывали столы для пира, остальные разместились в экипажах и поехали вслед за ними.
* * *
Обед был сервирован на веранде, увитой диким виноградом. Окна веранды выходили в столовую, где стоял рояль. Обед был прекрасен. Иван Иванович, наш шеф-повар, оказался на высоте. Все, что можно было иметь в деревне, и все, что можно было привезти из Киева, было на столе. Иван Иванович был добросовестным и честным человеком. Между прочим, мой отчим завещал ему после своей смерти десять тысяч рублей. Дмитрий Иванович Пихно не был гурманом, но ценил эти его качества. Иван Иванович умер вскоре после смерти Д. И. Пихно…
За столом, кроме нашей семьи, сидели мать невесты Варвара Валериановна Меркулова, урожденная княжна Урусова, ее незамужняя сестра княжна Екатерина Валериановна, ротмистр Ивков, женатый на другой сестре Варвары Валериановны, отец невесты, Меркулов, бывший председатель окружного суда, а в то время уже горький пьяница, какие-то еще родственники и старшие служащие имения и мельницы. Наконец, подали шампанское. Я встал с бокалом в руке, а Павел Дмитриевич исчез — приготовлен был сюрприз. Тост был арией под аккомпанемент рояля за стеной. Мелодия была скрадена у Леонкавалло и как бы совсем не подходила к настоящему моменту — это был пролог к опере «Паяц», но слова были моими, и смысл их был таков: когда все хорошо, ни облачка на небе, растворение воздухов и изобилие земных плодов, в небе — синь, на земле — цветы, тогда просто любите друг друга; но когда молния, буря и ветер, в небе грозные тучи и самые скалы и горы рушатся, крепче обнимите друг друга и любите в сто раз сильнее…
В это время я заметил — ведь я все время смотрел на невесту, — что она сидела бледная, очень красивая, и ресницы ее большими полукругами лежали на щеках. И вдруг из под этих длинных ресниц показалась жемчужная слеза, засверкавшая в лучах солнца, и скатилась вниз. Лучшей награды мог ли ждать певец. И я хотел, чтобы ресницы поднялись и она поблагодарила бы меня улыбкой.
Только я понял эту слезу, остальные же не поняли. Все истолковали ее не так, как было надо. Была же эта слеза роковая…
Я закончил свой высокопарный тост просто:
— Здоровье ваше!
И неожиданно грянул оглушительный туш — это ротмистр Ивков тайно доставил духовой оркестр 11-го уланского Чугуевского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка, в котором он служил. И в наступившей после туша тишине негромко сказал мой отчим Дмитрий Иванович — он был строг, но ему, видно, понравился мой неожиданный тост:
— Здоровье трубадура.
И опять туш грянул к синему небу, и маленький дом вздрогнул, и усыхающие тополя задрожали…
Моя вторая сестра Алла Витальевна и Билимовичи
Алла Витальевна прожила очень счастливую жизнь с Александром Дмитриевичем Билимовичем, была им любима и не знала никаких невзгод. И в эмиграции они жили просто прекрасно, особенно в сравнении со многими бедствовавшими русскими изгнанниками. В Любляне у них была даже небольшая вилла. Отпраздновали серебряную свадьбу, получили серебряные ложки и все, что положено по такому случаю, и вдруг она вскоре неожиданно умерла.
В Югославии ей сделали прививку от дизентерии, а впоследствии, когда она заболела скарлатиной, профессор Вербицкий сделал ей укол от скарлатины. Но это вызвало противодействие со стороны прививки от дизентерии, она заболела и умерла.
Сначала Александр Дмитриевич горевал, но вскоре сошелся с Ниной Ивановной Гвадонини, и они поженились. Однако счастья не было. Призрак прошлого счастья Александра Дмитриевича стоял между ними. Это сказывалось даже на собаках. У А. Д. Билимовича был волк Перун, которого нельзя было ни погладить, ни подойти к нему сзади. Он боялся только грома. Была еще испанская кудлатая собака, задиристая и нахальная. Чтобы Перун ее не разорвал, ему надевали намордник, а той нет, и в результате страдал Перун.
Я узнал об этом, приехав к сыну в Любляну по его просьбе, так как у него тоже были семейные неприятности — Таня изменила ему с Павловым. Остановился у Александра Дмитриевича, который искренне возмущался поступком дочери. Обстановка в его доме тоже была тяжелая и натянутые отношения с Ниной Гвадонини бросались в глаза. Как-то мы с нею разговорились по душам и она заметила: «Вы знаете, Билимовичи особые люди, понять их нельзя». Однако сама Нина была тоже женщиной с характером, да еще избалованная своим первым мужем Шуберским, видным железнодорожным деятелем в России, который умер в эмиграции в Любляне.
Отношения у Димы с Таней испортились вконец, я надавил на него, и он оставил Таню, переехал в Белград к моей сестре Лине Витальевне и перевелся в Белградский университет. Потом уж, не помню когда и как, он сошелся с Антониной Гвадонини, сестрой Нины.
У Нины и Антонины были разные матери. Нина родилась от законного брака, матери ее не помню, сама она внешне была типичной итальянкой. Антонина родилась от внебрачной связи их отца с крестьянкой и была полной противоположностью своей сестре — очень красива, тонкие черты лица, красивый певучий русский говор.
Я с ней познакомился еще раньше, и у нас установились дружеские отношения. Как-то мы поехали вместе на озеро Блед, на котором был небольшой островок, заросший высокой травой, вокруг плавали лебеди. На островке находилась церковь, которая всегда была открыта и в ней редко кто бывал. В звоннице висел колокол, веревка от которого падала на землю. Существовало поверье: надо было задумать желание и дергать за веревку; если удавалось выбить звон, желание должно было исполниться. Антонина выбила…
Я ее называл Шиллером, была похожа. Однажды спросил ее в шутку: «Антонина, если б я был свободен, пошли бы за меня?». Не колеблясь ответила: «Да»…
Александр Дмитриевич был против брака моего сына с Антониной, хотел, чтобы он опять сошелся с Таней. Но тут уж против был я.
* * *
А. Д. Билимович был примерным супругом, пока жива была Алла Витальевна. Одно время мы жили вместе на юге Франции (они приехали к нам).
Но постоянно они жили в Словении, где он был профессором в Люблянском университете. У него проявились удивительные способности к славянским языкам. Ни немецкого, ни французского он порядочно не знал. В Югославии говорили, что если хотите услышать правильный славянский язык, послушайте Александра Дмитриевича. Он был учеником Дмитрия Ивановича Пихно, который читал политическую экономию, наследовал его кафедру и всю жизнь боролся с марксизмом. Дмитрий Иванович говорил плохо, но его практические занятия бывали великолепны, собирая обширную аудиторию. Часто устраивал открытые дискуссии с марксистами, непременным участником которых был Александр Дмитриевич. Позже, уже в Югославии, он увлекся математикой, оставил Люблянский университет и перешел преподавать в математическую школу в Белграде.
Александр Дмитриевич считал, что очень виноват перед моей бывшей женой Екатериной Григорьевной. Вскоре после смерти Аллы Витальевны Екатерина Григорьевна переехала из Парижа в Любляну и остановилась у сына, вернее, у Билимовичей. Это был период остро переживаемого горя в семье в связи с утратой Аллы Витальевны. Дом был в запустении, Екатерина Григорьевна начала потихоньку приводить его в порядок и стала чем-то вроде хозяйки в нем. Это привело Александра Дмитриевича в ярость, и он ее выгнал («Я никогда не видела таких злых глаз, как у Александра Дмитриевича», — писала она). Тогда она переехала в Белград к моей сестре Лине Витальевне. Когда я приехал в Любляну после самоубийства Екатерины Григорьевны, Александр Дмитриевич говорил мне: «Я виноват, что она умерла»…
Не помню точно когда, по-моему, еще до второй войны, он с женою Ниной и дочерью Татьяной уехал в США, там написал какую-то книгу и неплохо заработал на этом. Скончался он от рака на руках своей дочери Татьяны, его жена Нина Ивановна умерла от белокровия. Общих детей у них не было.
* * *
Его брат Антон Дмитриевич Билимович был известным ученым-математиком, в Югославии стал академиком. В 1919 году, во время Гражданской войны, находился в Одессе и был избран ректором Новороссийского университета. Когда я образовал при Гришине-Алмазове, распоряжавшемся в Одессе, нечто вроде местного правительства (совещание), Антон Дмитриевич был в нем министром просвещения.
Он был женат на ученице И. Е. Репина, талантливой портретистке Елене Киселевой, дочери известного ученого математика Киселева.
Когда в сороковом году немцы напали на Югославию, Антон Дмитриевич остался в Белграде и благополучно пережил оккупацию. После моего ареста советскими властями в декабре сорок четвертого года он и моя сестра Павлина Витальевна Могилевская отнеслись черство к моей жене Марии Дмитриевне. Они ее не любили и никогда этого не скрывали.
Когда во Владимирской тюрьме мне разрешили переписку, я написал письмо в Белград Марии Дмитриевне, которую к тому времени югославские власти выслали в Венгрию как советскую шпионку. Письмо получил Антон Дмитриевич и переслал его в Америку Владимиру Дмитриевичу Седельникову, младшему брату Марии Дмитриевны. Он уже отправил мое письмо из Америки в Будапешт, в результате чего она получила его лишь через несколько месяцев.
После своего освобождения в пятьдесят шестом году я вновь написал ему и вскоре получил ответ. В частности, мне запала в память одна фраза из его письма: «То, что происходит, превосходит пределы Вашей осведомленности». Я так и не понял, что он имел в виду.
У Антона Дмитриевича был сын, подававший надежды, но он умер в молодости.
Вацлав Цезаревич Каминский
Будучи двоюродным братом Александра и Антона Дмитриевичей Билимовичей и их сестры Марии Дмитриевны, он принадлежал к сообществу наших семей — Шульгиных, Градовских, Могилевских, Пихно, Билимовичей. Но вместе с тем был какой-то не наш, вне нашей деятельности. Ничем особенно не отличался, все считали его «никчемным» — не смог окончить даже гимназии. Но его всегда защищала Мария Дмитриевна Билимович, которая в конце концов и вышла за него замуж.
Во время и после Гражданской войны проявились его деловые способности. Он сумел перебраться в наше имение Курганы и даже сохранить его. По Рижскому мирному договору 1921 года граница между Польшей и Советской Россией проходила восточнее Ровно, прямо по границе нашего имения в Курганах. Сразу же по установлении мира Вацлав Цезаревич приехал в Белград к моей сестре Павлине Витальевне Могилевской и она оформила на него доверенность на управление своим имением Бабин-Томахово (там у нее остались довольно значительные куски земли в местечках Терчине, Антополе, Дроздове и Горбово). Я тоже сдал ему в аренду в имении Курганах большую вальцовую мельницу и доверенность на управление имением. Вот здесь он проявил себя как опытный и деловой хозяйственник. Мало того, что ему удалось все сохранить, он все поднял и при нем имения процветали, принося доход. Поначалу он платил мне триста американских долларов в год за мельницу, так как было неизвестно, как пойдут дела. Когда же они пошли хорошо, стал платить половину дохода от мельницы, что составляло более одной тысячи долларов в год (более двадцати пяти тысяч франков). Это давало нам возможность безбедно жить во Франции (за квартиру мы платили пятьсот франков в месяц) и просто прекрасно в Югославии.
У Вацлава Цезаревича и Марии Дмитриевны Каминских был сын Олесенька, погибший в водовороте Гражданской войны. Сам он скончался в шестьдесят восьмом году.
Василий Иванович Пихно
В первой половине девятнадцатого века в Чигиринщине стал знаменит некий Яхненко. Был он человек без образования, но, видимо, практическая жилка у него была. Он очень разбогател, и так как в ту пору в той местности не было ни государственных, ни частных банков, то он в порядке самодеятельности стал принимать деньги на сохранение, выдавая проценты. Все дело шло по старинке, но удачно. Однако своего сына Яхненко послал за границу, и через несколько лет сын вернулся с дипломом ученого агронома. Вскоре после этого старый Яхненко умер, а сын стал хозяйничать по-новому, по-ученому. Тогда старые служащие, и во главе их Иван Игнатьевич Пихно, явились к новому владельцу и предупредили его, что заграничными новшествами дело далеко не пойдет — не тот уровень — и что он только разорится. Так и было. Молодой Яхненко разорился и уехал оттуда, и к концу века какой-то Яхненко жил в Киеве незаметным человеком.
А Иван Игнатьевич Пихно, выйдя в отставку еще раньше, обосновался на хуторе Нестеровка. Там был какой-то пруд, на нем Иван Пихно выстроил мельничку и стал мельником. У него была многочисленная семья: с женою Авдотьей Игнатьевной он имел семерых детей. Старшая дочь вышла замуж за Ивана Стрижевского, у них был сын Вася, который окончил Киевский университет и умер от туберкулеза. Следующая дочь, Лукерья Ивановна, была горбатой, замуж не вышла. Марья Ивановна, младшая дочь, получила некоторое образование, читала и писала, и вышла замуж за агронома Николая Щегельского, у них была дочь Людя, которая застрелилась.
Сын Николай Иванович окончил юридический факультет Киевского университета, получил место и хотел жениться. Но случилось так, что он поссорился с невестой, и тут пришла страшная гроза, во время которой он покончил с собою, кажется, отравился. Дмитрий Иванович дошел до члена Государственного Совета. Василий Иванович — о нем пойдет рассказ. Алексей Иванович погиб молодым, лет восемнадцати, когда рубили старый дуб. Дуб отомстил за себя, упал не на ту сторону, как ожидали, и смертельно ранил молодого Алексея.
* * *
Таким образом, семья Пихно принадлежала к Чигиринскому мещанству, быть может, из казаков. Историк Киевского, а потом Одесского университета Линниченко рассказывал мне, что, разбираясь в львовских книгах четырнадцатого века, написанных на латинском языке, он установил происхождение родов Пихно и Михно. Там сказано про Пихно — Alias Petrius (то есть Петр), а про Михно — Alias Micaellus (то есть Михаил).
* * *
Семья мельника Ивана Игнатьевича жила бедно. У детей не только не было детской, а просто им некуда было деться. Когда восьмилетний Вася задумал совершить великий подвиг, он стал работать под кроватью. Великий же подвиг состоял в том, чтобы сделать маленькую мельницу, точно такую же, как та, которая казалась ему огромной, что шумела на пруду. Он изучил ее до последнего «кулака» (деревянные штуки вместо зубцов). Работал он под кроватью восемь месяцев. Инструментом служил перочинный нож. Но когда, наконец, он показал свету свое произведение, то свет был поражен. Действительно, не только была скопирована мельница во всех деталях, но, поставленная на воду, для чего Вася прокопал маленький канал, она молола. Конечно, не зерно, а крупный песок, который сыпался из-под жернова. А жернов был сделан из кирпича. Таким образом, маленький Вася оказался вундеркиндом. Но так как из вундеркиндов редко что-нибудь выходит, когда они вырастают, то из Васи, когда он стал Василием Ивановичем, не вышло значительности. Впрочем, он изобрел новый плуг, который на Всемирной выставке в Чикаго был отмечен какой-то наградой. Но у нас он не пошел. Достоинство его было в том, что пахарь не ходил за плугом, а сидел на тележке, которую тащили две лошади, что избавляло его от утомительной и изнурительной работы. Но этот плуг был пригоден только для мелкой вспашки и, может быть, поэтому не привился.
* * *
Но пока Вася стал Василием Ивановичем, ему надо было пройти первую низшую школу. Это дело шло плохо. Ему надо было работать под кроватью, а не учиться читать. Поэтому он закопал в саду букварь и пока купили новый, прошел год. Тогда он стал ходить в школу, кончил ее и под крылышком старшего брата Дмитрия Ивановича поступил во 2-ю киевскую гимназию. Но не было средств, чтобы содержать двух мальчиков в Киеве. Однако в городе существовала спасительная Сулимовка. Когда-то богатый помещик Сулима оставил капитал для помощи бедным гимназистам. Там было общежитие, где их кормили и одевали. Сверх того, перейдя в старшие классы, будущий Дмитрий Иванович стал давать уроки младшим сулимовцам, или, как тогда говорилось — репетировал их, за что платили особо. От платы за учение Дмитрий Иванович был освобожден и в гимназии, и в университете (бедных, если они успевали в учебе, освобождали от платы). Впоследствии он не раз повторял: «Мое образование стоило мне шесть рублей, которые я заплатил за первое полугодие в гимназии».
* * *
При всем при том Василий Иванович кончил гимназию и два факультета Киевского университета: юридический и физико-математический. Но кроме того, он интересовался еще философией и писал какое-то сочинение, которое не кончил.
* * *
По окончании университета Василию Ивановичу, который стал видным молодым человеком приятной внешности, посчастливилось. Не знаю, при каких обстоятельствах он познакомился с сестрами Вангельгейм. Старшая, Антонина Петровна, имела иссиня-черные волосы и напоминала испанку, хотя была по национальности голландка. Но это легко объяснимо. Известно, что в былое время испанцы владели Нидерландами, а потому могли оказать влияние на голландскую расу. Однако, младшая сестра Антонины Петровны, Ольга Петровна, имела красивые серые глаза, а значит, пошла по голландской линии. Она оказалась маленькой женщиной с большим характером.
* * *
Обе девушки получили какое-то образование. Антонина Петровна, сверх того, хорошо играла на рояле. Они остались сиротами. Тогда они продали свое имение и к тому времени, когда они познакомились с Василием Ивановичем, осталось у них в конце концов на двоих шестьдесят тысяч рублей, так что они были богатые невесты. Но Ольга Петровна не хотела идти замуж, а Антонина Петровна повенчалась с Василием Ивановичем. После этого Антонина Петровна купила в Радомысльском уезде Киевской губернии при селении Ставки
[24] сто десятин плоховатой земли. Ее прельстил дом и старый, прекрасный, запущенный парк. Дом этот когда-то был построен каким-то польским магнатом, и они, Антонина Петровна и Василий Иванович, дали ему имя «Палац», то есть «Дворец».
Парк, окруженный со всех сторон столетними елями, таил в своих глубинах полянки с фруктовыми деревьями. Некоторые из этих полянок удержались, и там росли серые и золотые ранеты, красные цыганки и желтые апорты. Так что парком можно было сейчас же пользоваться и для себя, и для продажи.
Но одна из полянок, самая отдаленная от дома, являлась примером того, как сказочная красота может соединяться с вредоносными явлениями. На эту полянку напал дикий хмель. Хмель вообще, а дикий в особенности, таит в себе огромную таинственную силу. Набросившись на фруктовые деревья, дикий хмель их убил, превратил в сухие остовы, своего рода колонны, поддерживавшие кровлю, имевшую вид палатки. Эта кровля состояла из хмеля. В эту палатку можно было влезть и там ходить во весь рост между усохшими деревьями. Там царил зеленый полусвет. Я, будучи мальчиком, этим всем несказанно наслаждался.
* * *
Но грандиозный «Палац» был совершенно не по средствам Антонине Петровне. Он был внутри разрушен до того, что не только лепные потолки, но и стены с сеткой в штукатурке висели над испорченным паркетом. Но все это касалось только больших зал, когда-то великолепных. Жилые помещения, сравнительно небольшие и скромные, удалось отремонтировать. В них и жили Василий Иванович с женой и свояченицей, Ольгой Петровной.
Там и мы жили, когда приезжали туда. Уже на моих глазах отремонтировали мраморную залу. Приехали из города ловкие еврейчики, восстановили штукатурку и затем, накладывая трафареты, расписали высокие стены синеватыми прожилками под белый мрамор. Восстановили фасонный дубовый паркет. Помещение освещали высокие окна от пола до потолка. Стало очень красиво. Посредине этого зала бросили большой ковер, а на него поставили рояль. По углам ковра поставили четыре больших лимона в кадках, затем несколько удобных кресел. Мне, мальчику, казалось это пределом красоты.
Вечером на рояль ставили свечи и начинался концерт. У Василия Ивановича был приятный баритон. Он нигде не учился, но от природы был музыкальный. Тут я впервые узнал музыку, и притом очень разнообразную. Например, арию из оперы «Нерон» Рубинштейна, недавно появившуюся.
А после этого совершенно другое, романс Чайковского «Ни отзыва, ни слова, ни привета…». Потом Антонина Петровна играла сонату Бетховена «Una quasi fantasia», так называемую «Лунную сонату». Все это неизгладимо складывалось в голове восьмилетнего мальчика.
* * *
В этом доме предполагалось со временем устроить сельскохозяйственное училище среднего типа. У крестьян села Ставки были средние наделы, то есть двенадцать десятин на двор. С этого можно было жить сравнительно богато, если грамотно и хорошо хозяйничать. Предполагалось, что сыновья этих ставковских хлеборобов, окончив училище, будут хозяйничать на своей земле. Но это не удалось. Кончая училище, которое было организовано в конце концов, молодые люди, почувствовав себя «паничами», носили накрахмаленные воротнички и не желали ходить за плугом. Они пристраивались в разных помещичьих имениях бухгалтерами или садовниками. Но эта неудача выявилась позже, а пока что строилось здание для начального двухклассного училища тут же в усадьбе.
Свои деньги Ольга Петровна именно и употребила на постройку этой школы с тем, чтобы самой быть там учительницей. Каждое утро Василий Иванович ходил смотреть, как продвигается постройка. А я к нему прилипал, хотя он и называл меня «несчастный Мизернюк» (это слово происходит от французского слова misérable — несчастный, бедный, убогий).
При этих обходах я кое-чему учился. Например, я познакомился с инструментами каменщиков: отвесом, ватерпасом и приспособлением для постройки прямых углов, необходимых каждому дому, состоявшем из трех досок, сбитых в треугольник. Длина этих досок была три аршина, четыре аршина и пять аршинов. И дядя Вася объяснил мне следующее:
— Можешь ты помножить три на три?
— Это будет девять.
— А четыре на четыре?
— Шестнадцать.
— А пять на пять?
— Двадцать пять.
— А если девять сложить с шестнадцатью, то сколько будет?
— Будет двадцать пять.
— Ну так вот, при такой длине доски, сложенные в треугольник, указывают прямой угол. Без этого строить дом нельзя.
И многое другое я еще узнал. Но предел моих познаний обогатился, когда дядя Вася задал мне задачу о гусях. Тут Мизернюк возвысился над самим собой.
* * *
Итак, жизнь дяди Васи текла в этом доме счастливо, если бы ее не омрачала болезнь Антонины Петровны. Она же заболела после того, как похоронила еще раньше в Киеве двух своих малюток. С тех пор она осунулась, постарела, стала желтой и всегда печальной. Я это плохо понимал умом, но чувствовал.
Пока что дядя Вася стал обучать меня садоводству. Он развел большой, так называемый питомник, где прививая деревья врасщеп и копулировкой
16 весною, а летом при помощи окулировки
17. Я ему усердно помогал. Моею обязанностью было заматывать деревца мочалой и замазывать особой замазкой.
Потом у дяди Васи была большая пасека. Он довел ее до пятидесяти пней. Так назывались ульи, которые в те времена делались из обрубков толстых деревьев. В ближайших лесах росли огромные сосны. Из каждой такой толстой сосны выходило по несколько ульев. Дядя Вася называл их разными именами. Был ряд «перунов» и был ряд «маток». Все они накрывались соломенными шапками, поверх которых насаживали глиняные миски.
Я вечно торчал на пасеке и постепенно познавал тайны ульев. При этом меня кусали пчелы, но я знал, как поступать, чтобы не очень распухало ужаленное место. Надо прежде всего как можно скорее вытащить жало. Оно застревает в теле, потому что жало пчелы имеет форму стрелы, так что пчела, ужалив, не может вытащить жало из тела, иначе как отдав свои внутренности. Эти-то внутренности и видны, за них и можно жало вытащить. А пчела гибнет.
Дядя Вася в примитивность этих «перунов» и «маток» внес усовершенствование, так называемые рамки. Для этого пни выдалбливались аккуратно, так, чтобы рамки могли вставляться. Словом, я кое-что понял в пчеловодстве.
* * *
Когда поспевали яблоки и груши, приходилось держать сторожей, иначе предприимчивые парни из села воровали их и портили деревья по ночам. Как-то утром дядя Вася поспешно пошел в парк, и я по обыкновению поспешил за ним. Мы пришли на полянку. Там был шалаш сторожей и около него огромные горы насыпанных на брезент яблок. Это было все понятно и привычно. Но рядом с этими яблоками и шалашом сидело трое хлопцев с головами, обмотанными кровавым тряпьем.
Ночью произошел бой сторожей с ворами. Сторожа победили, избив воров палками, а троих взяли «в плен». Я с ужасом смотрел на кровь, а дядя Вася насупился и пошел домой. Дома пили утренний чай, как всегда, с дамами и тут произошел бой у дяди Васи с обеими Петровнами.
Дядя Вася говорил:
— Неприятно это, но ничего не поделаешь, надо будет подать на них в суд.
Но дамы победили, и в суд не подали. Только пришлось рассчитать молодую горничную. Ее, конечно, собаки хорошо знали, и потому она их привязывала ночью, чтобы ворам, среди которых был ее жених, удобно было красть.
* * *
Теперь о собаках. Их было три: большая Лютка, средний Серчик и затем породистый пойнтер
18, у которого была прострелена задняя лапа, и он поэтому всегда был сзади. Собаками командовали две девчонки. Одна, что постарше, по имени Людка, двенадцати лет, и десятилетняя Палашка, Пелагея. Они тоже были вроде младших горничных.
Бывало, что я, забравшись в царство хмеля, забывал об обеде, но мне напоминал о нем собачий лай в парке. Я понимал, что это собаки разыскивают меня по следам. И действительно, первой врывалась в мою палатку под хмелем большая Лютка, за ней Серчик и, наконец, бедный Ральф. Скоро после этого прибегали Людка и Палашка.
— Панычку-у!
— Что такое? — спрашивал я.
— Та вже за столом сыдять.
Я знал, что они врут, но мы вшестером отправлялись дружно в «Палац», где еще не обедали, а только что Архип привез бочку с водой.
* * *
И вечером этого дня мы с дядей Васей и еще с кем-то пошли в направлении парома через село. Улица проходила мимо парка, огороженного высоким забором. На улице было достаточно народу и визжала скрипка. Подойдя ближе, мы увидели, что под эту скрипку танцуют три хлопца отчаянный гопак. Кто же были эти хлопцы? Это были воры в еще окровавленном тряпье, которые праздновали, узнав, что их судить не будут.
А на высоком заборе парка сидели и любовались на гопак сторожа. Когда я много-много лет спустя, будучи в тюрьме, рассказал об этом моему другу Креннеру, он пришел в восторг:
— Вот это Россия! Воры, сторожа, дерутся и затем мирятся как ни в чем не бывало. Этого бы у нас не могло бы быть.
* * *
Миновав пляшущую тройку, мы увидели вдали нечто, что нас удивило. Это, несомненно, был наш серый рысак, над ним дуга, но по бокам дуги что-то вроде бочонков. Надо сказать, что была суббота, а в субботу приезжал из Киева Дмитрий Иванович Пихно, так как всю неделю он возился в Киеве с «Киевлянином». Расстояние тут было около ста верст. Покрыть такой пробег мог только, конечно, рысак. Это и был хреновский жеребец хороших ходов, но с характером злым. Он калечил кучеров и был крайне изобретателен на всякие пакости. Например, он замечательно ловко ломал оглобли. Для этого он взлетал на дыбы и затем стремительно бросался вниз и ударял оглобли о землю, ломая их вдребезги.
Колясочка была очень легонькая, но не прочная. В пути он заупрямился, поломал первые оглобли, потом какие-то вторые, купленные. Тогда, на какой-то кузне, приделали толстые жерди. Их он сломать не мог, и так Дмитрий Иванович доехал.
Трагическую историю этого коня надо бы изложить отдельно, но она очень длинная…
* * *
Шли дни и годы. Однажды Василий Иванович неудачно соскочил с телеги, и что-то у него заболело в позвоночнике. Он слег и больше уже не вставал. Дело было не в неудачном прыжке с телеги. И пришлось его везти в Киев. Привезли и положили в особнячке на Кузнечной. Явились лучшие профессора и определили, что эта болезнь называется эхинококкоз
19. Это страшная болезнь, в то время неизлечимая. Теперь, говорят, ее излечивают. Этой болезнью страдают многие собаки. Но эти эхинококки, живя годами в организме собак, не причиняют им никаких страданий. И вот что удивительно: дядя Вася почему-то знал об этих эхинококках, поэтому, когда мы, мальчики, возились с собаками, он строго это запрещал и объяснял, что человек может заразиться от собак страшной болезнью. И вот предчувствие роковым образом сбылось на нем самом.
* * *
Он пролежал четыре года, прежде чем умер. Эхинококки вызвали у него совершенный паралич обеих ног, не повлияв ничуть на остальные органы и на головной мозг. За это время он продиктовал интересную книгу «Беседы о сельском хозяйстве», где в очень красивой и даже поэтической форме читателю объяснялись некоторые принципы ведения сельского хозяйства. В комнате, где он лежал, ему поставили улей. Пчелы вылетали и возвращались обратно в свой дом через дыру, просверленную в раме окна. Эта дыра предназначалась в старых домах для болта от ставни.
Сознание того, что у него тут же близко пчелы, облегчало ему жизнь. Но еще большей радостью были для него ежедневные визиты брата Дмитрия Ивановича. Несмотря на то, что он был крайне занят, он приходил каждый день. Братья вспоминали Нестеровку и Ставки. Их разговоры о мельницах были бесконечны. Сыновья мельника, они по-разному продолжили мукомольное дело. Василий Иванович ограничился моделью, сделанной под кроватью, а Дмитрий Иванович, человек более широкого размаха, построил на Волыни четыре вальцовых мельницы в Томахове, Друздове, Кашовке и Курганах. Они мололи в общей сложности сотни тысяч пудов в год.
* * *
Ольга Петровна бросила свою школу в Ставках на свою заместительницу, молодую девушку Фатинну Николаевну, переехала в Киев и самоотверженно ухаживала за тяжелобольным Василием Ивановичем. Дело осложнилось еще и тем, что приходилось ухаживать и за Антониной Петровной. Последняя заболела еще и чахоткой и, наконец, сошла с ума. Помешательство было тихое, но очень мучительное для Ольги Петровны, так как оно сопровождалось ревностью Антонины Петровны. Она ревновала к сестре, чувствуя, что сама она ничем не может помочь мужу. Все делала Ольга Петровна и, разумеется, больной и самоотверженная сиделка душевно сблизились. Наконец, Антонина Петровна умерла. Ее в гробу поднесли к постели Василия Ивановича, и прощание это было ужасным. Я был при этом. Я уже был подростком, способным кое-что понимать.
* * *
Антонину Петровну похоронили, и в доме стало несколько легче. Дмитрий Иванович приходил по-прежнему, и я иногда заходил, хотя далеко не так часто, как надо было. Молодость всегда эгоистична. Однажды Ольга Петровна попросила меня принести гитару и спеть Василию Ивановичу что-нибудь, он так нуждался в музыке. Я спел кое-что, между прочим, серенаду «Дон Жуана» на музыку Корганова. Василию Ивановичу понравилось.
— Где ты выучился? — спросил он.
— Нигде, дядя. Слушал певцов, например, Медведева.
— Ну, вот, так твой Медведев тебя кое-чему выучил. Но не пой много, потеряешь голос.
Я его не послушал и голос потерял. Молодость не только эгоистична, но она и безумна.
Сижу ль меж юношей безумных…
* * *
Но вот умер и дядя Вася. Это произошло, кажется, в 1897 году, мне было тогда девятнадцать лет.
Телеграмма была получена в Агатовке. Мы поехали на похороны, и Катя тоже поехала. У меня в этот день под глазом образовался фурункул, который в Киеве разрезал хирург Бочаров. Так я перевязанный и шел за гробом.
Где похоронили Василия Ивановича, я не помню.
* * *
В память брата Дмитрий Иванович добился, чтобы в Ставках было открыто сельскохозяйственное училище, поступившее в ведение казны. Казна приняла это училище с условием, что в ее ведение поступит и здание, и имение в целом. Дмитрий же Иванович стал почетным попечителем этого училища и время от времени его посещал до самой своей смерти, последовавшей в 1913 году. Когда же в 1917 году, после Февральской революции, это училище оказалось как бы беспризорным, то ко мне приехала оттуда, из Ставок, в Киев депутация и просила меня взять на себя почетное попечительство. Я согласился и обещал приехать. И исполнил свое обещание, однако с запозданием. Я ехал сорок три года, проездом через Константинополь, Париж, Берлин, Белград… Но все же в 1960 году прибыл в Ставки, которые тогда уже назывались Ленино, и нашел дом, старый «Палац». Это был он, хотя внешний вид его несколько изменился: четыре колонны, когда-то казавшиеся мне массивными, стали потоньше, окна поменьше — их заделали снизу, а остальное все было такое же.
Во время войны немцы сделали следующие преобразования в доме. В верхнем этаже они устроили конюшни для лошадей, причем кони сходили по помосту. Кроме того, вырубили начисто старинный парк. С великой грустью я смотрел на все это. Но меня утешило, что в этом «Палаце» уже советской властью была устроена лечебница для туберкулезных детей.
В Ставках, или в Ленино, узнали о моем приезде. Прибежала старенькая женщина, которая очень хорошо помнила Ольгу Петровну, и сказала, что сохранила ее фотографический портрет…
* * *
Ольга Петровна после смерти Василия Ивановича вернулась в Ставки и продолжала учительствовать до самой своей кончины. Она умерла тоже от туберкулеза, но не помню в каком году.
* * *
Что сказать об этих троих, связанных судьбою в одно целое? Они были настоящие народники, но не в смысле какой-нибудь партии, не народники некрасовского типа. Они были народники потому, что любили народ, вот этот не метафизический народ, а реальный — русское крестьянство. Потому и их народ полюбил и в лице Ольги Петровны долго помнил.
Несколько слов о ценах20
Такой обед в киевском Политехникуме стоил 25 копеек. На первое подавали борщ с мясом, на второе — мясное блюдо. Белый хлеб без ограничения. Все настолько сытно и обильно, что до конца съесть было нельзя, несмотря на высокие вкусовые качества. Этот обед обходился студенту в месяц в 7 рублей 50 копеек. Поэтому, если студент зарабатывал репетиторством или получал из дома до десяти рублей, то обедом он был обеспечен.
Студентам выплачивалось пособие дирекцией Политехникума в зависимости от их имущественного состояния. Если у него не было никаких доходов, то ему давалось двадцать пять рублей по представлению студенческой комиссии из трех состоятельных студентов. И он к тому же освобождался от платы за учебу. А если у него были какие-либо доходы, но не достигавшие двадцати пяти рублей, то по представлению той же студенческой комиссии ему выплачивалась разница.
В Киевском университете это было обставлено несколько беднее. Поэтому там существовало общество покровительства нуждающимся студентам, которое помогало из своих средств. Эти средства складывались из вложенных разными благотворителями капиталов и из доходов от благотворительных вечеров.
Надо сказать, что благотворительные вечера давали большие деньги, особенно от продажи шампанского, конфет… Так, например, бокал шампанского продавался за «кто что даст», а для продажи приглашались самые красивые девушки и дамы города, как Елена Викторовна Бутович, рожденная Гошкевич и будущая madame Сухомлинова. Поэтому за бокал давали от двадцати пяти до ста рублей. Вечера происходили обычно в лучшей зале Киева — в доме Купеческого собрания.
* * *
Хлеб. За фунт черного в Киеве давали две с половиной копейки. Фунт белого стоил до десяти копеек. Десять копеек — это уже очень дорогой и самый хороший хлеб.
* * *
Пирожные. У Киргейма хорошенькие немки продавали по три копейки за штуку. А в кондитерской Жоржа, что была на углу Крещатика и Прорезной, некрасивые француженки брали пять копеек за пирожное
21.
* * *
Мороженое у Жоржа продавали по двадцать копеек за порцию, а конфеты от одного до полутора рублей за фунт. Были еще конфеты московской фирмы Абрикосова, так называемые «тянучки», и леденцы Валентина Ефимова. Те и другие очень вкусные и дешевые.
* * *
Вина. Водка продавалась в особых лавках. Казенная, или «монополька», как ее называли, стоила пятьдесят копеек за литр, а «Зубровка» (маленькая бутылка, примерно на пол-литра) — семьдесят копеек.
Бессарабское белое вино — в магазине двадцать пять копеек литр. Знатоки утверждали, что это хорошее, натуральное вино. Но на мой вкус — кислое.
Литр «Кронверкской мадеры» в магазине стоил три рубля, «Бордо» и красное вино «Лафит» — два рубля, а сотерны (крымское и французское белое вино) — около двух рублей.
Шампанское. Литр «Абрау-Дюрсо» (крымское шампанское) стоил два с полтиной. Донское и Цимлянское — около рубля. Французское шампанское «Мум» и «Редерер» — шесть рублей в магазине (был большой налог), а в ресторане девять рублей литр.
Было еще какое-то импортное шампанское, названия не помню, за которое брали десять-двенадцать рублей.
Ликеры «Бенедектин», «Абрикотин», «Какао-шуа» и «Мараскин» в ресторанах подавались в специальных ликерных рюмках, поэтому и цен их не знаю, но помню, что были они очень дороги, так как являлись импортными винами.
Из коньяков помню русский, шустовский, до пяти звездочек. Ликерная рюмка такого коньяку, долитая сельтерской водой, что называлось «финшампанью», стоила недорого, точно не помню, то ли двадцать, то ли сорок копеек, так как широко брали студенты. Подавался обычно к черному кофе.
* * *
Сыры. Очень дорогой был швейцарский — восемьдесят копеек за фунт. Русско-швейцарский, то есть швейцарского сорта, но изготовленный в России, стоил вдвое дешевле.
* * *
Фунт масла у Аристархова продавали за восемьдесят копеек. Очень дорого. Но зато какое это было масло, первоклассное!
* * *
Икра. Паюсная, приличная, начиналась от двух рублей за фунт, крупнозернистая — пять рублей. «А красная?» — спросил я. Красная за икру не считалась, кета. Потому и стоила сорок копеек за фунт.
* * *
Мясо. Не помню, сколько стоило оно в магазине и на базаре в городе, но помню, что к нам в имение Агатовка мясник привозил мясо из Гоши, это будет семь километров пути. Брал сначала четыре копейки за фунт, а с девятисотого года накинул цену и стал брать семь копеек.
* * *
Рыба. «Тарань» — очень хорошая, но страшно соленая. Стоила так дешево, что цену не запомнил. Очень дешево.
* * *
Зерно. Рожь — шестьдесят копеек за пуд. Овес и ячмень примерно в той же цене, а пшеница — около рубля.
Мука шла примерно по той же цене, что и зерно, так как за обмол брали около десяти копеек за пуд на больших мельницах, на маленьких столько же или немного, на одну-две копейки, дороже.
Белая мука была семи сортов: 1-ый, 2-ой, 3-ий, 0-й, 00, 000 и 0000. Последняя — очень высокосортная мука, которая шла на пасхальные куличи, ценою немного больше рубля за пуд.
* * *
Самым капризным в смысле цены был хмель. Употреблялся он для дрожжей и для пива, стоил от одного до двухсот рублей за пуд. Цена определялась урожаем, спросом и так далее. Поэтому хмелеводы часто разорялись. Все в итоге зависело от мировых цен на хмель, которые никогда нельзя было предугадать.
Вспоминаю один случай. В Житомире была организована губернская сельскохозяйственная выставка. Мне телеграфировали, что мой хмель занял второе место в Волынской губернии. И одновременно получаю телеграмму от каких-то жидов-скупщиков, которые предлагают купить его по два рубля пятьдесят копеек за пуд. Я бы согласился, но на беду ко мне заехал специалист, который в «Киевлянине» вел специальный раздел по хмелю: справки о ценах, небольшие заметки о культуре разведения и тому подобное. Узнав об этом предложении, он пришел в ужас: «Эти жиды с ума сошли. Премированный хмель! За два с полтиной?! Не смейте продавать, подождите Варшавской ярмарки».
Я его послушался, не продал. А на Варшавской ярмарке хмель катастрофически пал. Я ждал целый год и продал его по рублю за пуд. Вот вам и специалист.
А в общем хмелеводы-чехи, — а это были хмелеводы высокого класса, — считали, что если цена держится около пяти рублей за пуд, то доход равноценен доходу от урожая пшеницы, проданной по самой высокой цене.
Удобство в разведении хмеля состояло в том, что под него надо было очень мало земли. У одного моего соседа, помещика-хмелевода, была самая большая плантация в Волынской губернии — пятнадцать десятин. Между прочим, мужики называли его Куткикут. У меня служил один поляк, который ранее работал у него. Так он рассказывал, что этот помещик любил вставлять во время разговора французские слова и часто, обращаясь к мужикам, говорил: «Жебы то было зроблено coûte qui coûte!»
[25]. Мужики так его и прозвали: Куткикут.
«Аполло», цыгане и другие
Как сейчас помню, вечером пятнадцатого июня я заканчивал передовую для газеты «Киевлянин», когда ко мне ворвался мой племянник Филипп Могилевский, подписывавший свои статьи в газете псевдонимом «Эфем».
— Каждый день передовая, каждый день еще какая-нибудь статья. Ты не выдержишь, — заключил он.
— А что дальше? — спросил я, понимая, что это начало.
Он несколько снизил тон:
— Тут есть такое учреждение… на Николаевской улице… «Аполло».
— Кабак?
— Во всяком случае, не университет.
— Ну, хорошо, поедем, — решил я.
Я не был завсегдатаем таких заведений, но сейчас необходимо было как-нибудь отвлечься от политики. Ведь политиком я тоже не был. Это только так казалось, что я прожженый политик.
* * *
Мы попали к началу представления. Зал был полон. На сцене выступал жонглер во фраке. «Из правого рукава выпускали лебеда». Правда, выпускал он из правой руки не лебедей, а белые тарелки, но они летали как птицы. Поднимаясь до второго этажа, они обходили весь зал и возвращались к жонглеру, который принимал их левой рукой. Я сказал:
— Красота!
— Да, это красота, а не красивость.
— В чем разница?
Филипп любил поспорить, особенно со мною, так как ко мне не питал особого почтения — он был младше меня всего на восемь лет…
На сцене выступала хорошенькая шансонетка. Он недовольно заметил:
— Терпеть не могу хорошеньких, это не красота, а красивость.
Действительно, его многочисленные увлечения не были красивы, но они всегда были интересны.
После других шансонеток, несносно грубых и глупых, и таких же ужасных певцов, выступила красивая, в длинном платье, лирическая певица. Она спела «Сияла ночь» на слова Фета, но особого успеха у захмелевшей публики не имела. И, наконец, цыгане. Семь цыганок расселись полукругом в пестрых, но изящных темных шелковых платках, а за ними встал частокол из нескольких цыган с гитарами в руках. В центре полукруга сидела цыганка средних лет с хорошим голосом. Это была часть московского цыганского хора.
Я вам не говорю про тайные свидания…
и так далее. Это был романс, который превосходно пела Варя Панина.
Пропели еще несколько романсов, более оживленных, после которых цыганка, сидевшая на правом краю, сорвалась с места и, заслоняя запевалу, заплясала одними плечами. Но так как плечи у нее были закрыты платком и потому еще должно быть, что она была худенькая, то никакого впечатления, по крайней мере на меня, манипуляция одними плечами не произвела. Затем она промчалась несколько раз по сцене в очень быстрой пляске. И все, спектакль кончился.
Нам подали бутылку шампанского, когда за соседним столиком появились две цыганки. Одна из них была «хорошенькая» и, естественно, Эфему не понравилась. Другая, что только плясала, богу Аполлону показалась бы безобразной, Филиппу же очень понравилась. Это, пожалуй, можно было понять — глаза у нее были подчеркнуто цыганские,
Когда среди густых ресниц
Блеснут опасными лучами,
а губы — эфиопские, иначе сказать: губы сфинкса, лежащего около пирамид.
* * *
Филипп улыбнулся им, цыганки улыбнулись ему. Он поманил их руками и они пересели к нашему столику. «Сфинкс» сказала:
— Дуся.
Когда она улыбнулась, я сразу почувствовал ее сущность, одновременно ликующую и печальную.
— Пригласите нас в кабинет.
Дуся, поймав мой взгляд, пояснила:
— Нас — это значит хор, табор.
Прежде чем ответить, я встал и, отойдя от столика, поймал официанта:
— Они просят пригласить хор в отдельный кабинет. Сколько это будет стоить?
— Сто рублей, ваша светлость.
— Так пригласите их и проведите нас.
Мы поднялись на хоры. Кабинет оказался довольно большой комнатой с громадным столом. И сейчас же ввалился табор.
— Я Нюра, — сказала старшая. Остальные тоже как-то назвались. А Дуся и «хорошенькая», как уже хорошо знакомые, усадили именитых гостей, то есть Эфема и меня, за стол на почетное место. Частокол из нескольких цыган в кафтанах и с гитарами в руках за стол не приглашали. Они встали как забор вдоль стены. Принесли шампанское и разлили его в бокалы всем цыганкам и нам. Цыганам не дали.
Нюра, взяв бокал, загнусавила:
Как цветок душистый аромат разносит,
Так бокал налитый Васю выпить просит…
Она на мгновение замолчала и я ощутил всеобщую напряженность. А затем на нас обрушилась ниагара звуков, пересыпанных вместо пены черными алмазами цыганских глаз. Ничего подобного я никогда не ощущал — такой оглушающей и услаждающей головомойки. Это хор под сумасшествие гитар подхватил:
Выпьем мы за Васю, Васю дорогого,
А пока не выпьет, не нальем другого!
И пока я не выпил бокал шампанского, это сумасшествие продолжалось, они все время повторяли этот припев. Для нас это было неожиданным и ошарашивающим, для цыган — ежедневным, или лучше сказать еженощным времяпрепровождением. И потому, как только я выпил бокал, Нюра опять затянула:
Как цветок душистый аромат разносит,
Так бокал налитый Филю выпить просит…
Хор подхватил припев и Филипп не заставил упрашивать себя, выпил сразу. Хотя я не знал этих обычаев, но все же понял, что мне должно, подражая цыганской манере, затянуть:
Как цветок душистый аромат разносит,
Так бокал душистый Нюру выпить просит…
Нюра выпила. Филипп затянул за Дусю, затем за «хорошенькую» и за всех остальных числом семь. Ниагар становился все звонче, а цыгане рисковали порвать струны. Наконец, это исступление кончилось. «Это что ж, службишка — не служба, служба будет впереди». Я видел, как Филипп перешептывался с Дусей. И она, эта эфиопка, сказала с обольстительной улыбкой, обращаясь ко мне:
— Вася, Васенька, спой нам.
Надо сказать, что все цыганки очаровательно говорили по-русски, вернее, по-московски, но с особым акцентом. Я погрозил кулаком Филиппу, но Дусе отказать не мог.
* * *
Незадолго перед этим кто-то прислал мне только что вышедшие в Петербурге ноты. Теперь эту песню знают все, тогда ее еще не знали даже цыгане. Я махнул частоколу, чтоб дали мне гитару, взял аккорд, которым они должны были аккомпанировать, затем, глядя на Дусю, запел:
Однозвучно гремит колокольчик
И дорога пылится слегка,
И далеко по ровному полю
Заливается песнь ямщика…
Меня вдохновляло то, что цыгане аккомпанировали так, будто они всегда знали эту песню. Во втором куплете:
Сколько чувства в той песне унылой,
Сколько грусти в напеве одном,
Что в груди моей хладной, остылой
Загорелося сердце огнем… —
я понял, что взял их сердца. Черные алмазы горели четырнадцатью лучами, а выражение лиц у частокола сказало мне много.
Словом, когда я кончил, частокол застучал по гитарам в знак одобрения, цыганки что-то кричали и Филипп тоже, а Дуся бросилась мне на колени и, не стесняясь ничего и никого, обнимала меня и целовала своими эфиопскими губами. И, отрываясь «от уст моих», кричала:
— Ты наш! В тебе кровь цыганская!
А я ей ответил по-цыгански:
— Ту наджинэс сомэ-такэ поракирава…
[26]
Дуся, прекратив целование, закричала:
— Откуда знаешь?! Цыганка научила?
Я не ответил ей, а продолжал по-цыгански:
— А мэ такэ сэрсо сэу муссэу.
Этого она не поняла. Я знал, что она и не поймет. Цыганка, что меня научила этим словам, сказала о первой фразе, что ее поймут все цыгане. Вторая же была на таком старом наречии, который уже немногие понимали. Она означала: «А я тебя, милый друг, крепко, сильно люблю».
* * *
В это время вошел официант и, подойдя ко мне, сказал:
— Ваше сиятельство к телефону просят.
Я вырвался из объятий Дуси, вынул из кармана бумажник и передал его Филиппу, шепнув ему:
— Расплачивайся. Из редакции звонят. Что-то случилось.
Я спустился в зал и прошел к телефону. Внизу было шумно и чадно.
— Что случилось?
— Телеграмма, — ответила трубка и затем зачастила взволнованно. — В Сараево, в Австрии, убит наследник австрийского престола Франц-Фердинанд. Что делать?
— Выбросьте передовую и оставьте пустое место. Я еду.
* * *
Судьба, конечно, затейница. И вот она затеяла показать мне жизнь, уходящую навсегда. Я говорю о цыганах. Мы с Эфемом подружились с табором и стали к ним ездить. Но не в театр, а в их номера при нем, где они жили. В общем, все цыганки слушались Нюру, кроме, конечно, Дуси, которая иногда бунтовала.
Однажды мы пришли днем, к чаю, который был сервирован. И даже какому-то человечку, незнакомому нам, который скромно сидел в углу, тоже подали чашку. Это происходило в номере у Нюры. Я спросил тихонько Дусю:
— Кто такой?
Она назвала какую-то княжескую фамилию.
— Что он тут делает? — удивился я.
— Ничего не делает. Ему просто некуда пойти.
Я вспомнил Достоевского: «Человеку надо, чтобы ему было куда пойти». Потом Дуся задумчиво прибавила:
— Такие всегда при нас бывают.
— Какие? — не понял я.
— Богатый был, все на цыганок истратил, а свои его уже к себе не пускают в свой круг. Вот он к нам и приходит, знает, что мы его всегда примем. Он вроде как в таборе.
Помолчав, она сказала, недовольно морщась:
— Что-то голова болит.
Пошла и легла на заправленную кровать, стоявшую недалеко от столика, за которым Нюра пила чай. Дусе тоже поставили стакан чаю на ночной столик. Филипп примостился где-то около князька, остальные цыганки кто где.
Нюра заговорила с Дусей по-цыгански. О чем, мы с Эфемом не поняли. Дуся что-то резко ей ответила, очень недовольно и очень низким голосом. Разговор продолжался, причем Нюра все повышала голос, а Дуся понижала. Она лежала на спине, потом, вдруг, перевернулась, легла на живот, обхватив обеими руками подушку. «Надвигалась гроза, по ланитам твоим покатилась слеза…». Действительно покатилась. Но вслед за этим Дуся вскочила так резко, что косички взметнулись кверху и голос тоже. И вместо подземного баса она запищала как кошка. Филипп не выдержал, захлебнулся чаем и стал неудержимо хохотать. В довершение всего она схватила стакан и запустила его в Нюру. Это делал только Пуришкевич в Государственной Думе, правда, бросал он стакан не с чаем, а с водой, и не в Нюру, а в Милюкова.
Филипп дошел до предела. Стакан не попал в Нюру, но чай забрызгал ее шелковый платок. Она посмотрела на меня и сказала:
— Вы видели?
— Видел. Хороша!
Дуся же, обняв подушку, рыдала, трясясь всем телом. Нюра добавила:
— Не все цыганки такие.
Я подошел к Дусе и сказал:
— Пойдем гулять.
Она вскочила и убежала. Через несколько минут явилась барышня в темно-синем костюме покроя таёр, то есть вроде мужского, в темной соломенной шляпе. Вид у нее был совершенно приличный и с ней не стыдно было выйти на Николаевскую, самую шикарную улицу города.
Когда мы вышли, я спросил участливо:
— Что случилось?
Она прошла несколько шагов, не отвечая. Потом остановилась у магазина. Мы оба отражались в стекле витрины. Никак нельзя было сказать про нее, что она цыганка, настолько элегантны были как ее одежда, так и манеры. Рассматривая себя, она спросила:
— Ты шибко богатый?
— Нет. Я не бедный, но и не так уж очень богат.
— Я так и думала, — заключила Дуся.
Мы стояли перед магазином женских нарядов и материй.
— Зайдем, — предложил я и, пропуская ее вперед, добавил, — я хочу купить тебе что-нибудь на платье.
Зашли. В магазине никого не было. Продавщица, француженка с хищными глазами, стала подсовывать Дусе красивые, шикарные, очень дорогие ткани. Но она все это браковала и выбрала, наконец, материал хороший, добротный и умеренно дорогой. Я заплатил и сказал, что придем позже. Мы вышли и в тени навеса стали есть мороженое. И тут Дуся спокойно стала мне рассказывать:
— Нюра и все они меня спрашивали, почему ты мне ничего не даришь. Потому что цыганка что? Цыганку надо слушать и дарить. Но я же не пою. И я тебе что? Разве ты меня любишь? А они другое думают.
Она помолчала немного, затем продолжала, как бы размышляя вслух:
— Нас в Москве все знают. А тут они думают, что цыганка — это значит шансонетка. Так я тебе и поеду в отдельный кабинет. Ну, если цыганка полюбит, то тогда другое дело. Тогда не только в кабинет, а из табора уйдет. И будет с тобою жить как жена. Но только недолго, год, ну, два. А потом заскучает по табору, вернется в него, и никто ей ничего не скажет. У нас так.
Помолчала опять, давая мне время осмыслить все сказанное.
— Но я же знаю, какой ты. Ты б меня одарил, если б мог. Но я не хочу, чтобы ты думал, будто я из-за подарков. Ничего мне не надо. Но вот они пристают. Так для них надо что-нибудь. Только небогатое — ведь их ничем не удивишь, все видели. А только, вот, что-нибудь на память. Каждой ты что-нибудь подари. Я тебе скажу, что надо, сама выберу. Мне же еще подари гитару. Гитар много есть у нас, но у всех гриф широкий, а у меня рука узкая. Так ты мне гитару подари женскую…
Мы поехали в музыкальный магазин Индржижка, где меня хорошо знали. И она выбрала такую гитару, какую хотела. Потом пошли по разным магазинам выбирать вещицы другим цыганкам. То, что она выбрала, обнаружило у нее хороший вкус и знания. Нюре сумочку подороже, но чрезвычайно тонкой работы. Остальным кому духи, кому застежку фасонную… Словом, все остались довольные, и этот инцидент был исчерпан.
Мне же Дуся нравилась все больше. Ну что я ей! А она позаботилась, чтобы и устроить меня прилично в таборе, и не разорить меня. Принимая во внимание то, что она была совсем молоденькая, это было даже удивительно.
* * *
С тем большим удовольствием мы с Эфемом исполнили просьбу Дуси и «хорошенькой» поехать вчетвером «в леса и луга», то есть за город. Им это доставило огромное удовольствие, но мне, наверное, еще большее. Просто наслаждение было наблюдать и слушать, как они восхищались каждым полевым цветком и листком в лесу.
Мы проблуждали целый день. То садились в экипаж, то он ехал за нами. Пили молоко с черным хлебом у какой-то старушки, где-то пили чай. Словом, вернулись цыганки с глазами, блестящими больше, чем всегда. А Эфем и я — возрожденные.
Я опять писал передовые. Мировые события всё чернели. По-видимому, мы шли к войне. Никто еще не понимал, что это были последние мирные дни старого мира.

В. В. Шульгин. 1910
Изредка отрываясь от телеграмм и передовых, мы заканчивали наш «роман» с табором. Дуся была печальна, и я знал, почему. По-видимому, она меня полюбила, как может полюбить цыганка, хотела уйти из табора и поселиться у меня. Но это у нее не выходило. Этого я не мог сделать, так как другие привязанности держали меня крепко.
Однако Дуся попросила меня проехать вдвоем на моторной лодке по Днепру. Лодочник, мой старый приятель, дал мне самодельную, но очень удобную моторку и сына, мальчика лет семнадцати, в качестве моториста. С внешней стороны все было чудно: и Днепр, и пески, и острова, и мальчик, который держался очень скромно. Но не было одного, не случилось того, чего так хотела Дуся.
Мы возвращались при закате солнца. Мотор твердо держал свою ноту. Тонкослухая цыганка взяла ее за квинту и запела тихонько и очень печально:
Ай-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэээ
Ай-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ-нэээ
Задумал ту жениться,
Не стоило любить.
Она знала, что я женат. Знала и кое-что другое, но все же ей жалко было расставаться с мечтой. Поэтому она была печальна. Однако сказала, что они скоро должны уехать в Москву, и Нюра и все цыганки хотят посетить меня на моей квартире. Они знали, что на Кузнечной, недалеко от моего дома, у меня есть отдельная квартира, в которой я иногда жил один.
* * *
Приехали в двух экипажах. Швейцар совершенно спокойно, как будто этому так и надлежало быть, два раза поднимал их в лифте. Цыганки были в восторге.
Мы знали с Эфемом об их требовании, чтобы совсем не было шампанского, а был только чай. К чаю мы приготовили закуску, пирожные. Был у меня самовар, но ни Эфем, ни я ставить его не умели. Они рассыпались по квартире, настругали распалки, нашли угля и поставили самовар на балконе.
Пока Эфем возился с ними, Дуся неотрывно смотрела на жемчужную икону, стоявшую в углу. Конечно, она понимала, что это не жемчуг, а бусы, но понимала и то, что рука, вышивавшая эту икону, обладала исключительным искусством и вкусом. Любуясь ею, спросила:
— Кто вышил? Она?
И показала на большой фотографический портрет, стоявший на мольберте.
— Да, она, — ответил я.
— Ты ее любишь?
— Да, люблю.
Она долго стояла перед портретом, и слезы катились из-под черных ресниц. Потом проговорила:
— Люби ее, она хорошая.
Затем был чай, все старались развеселиться, и табор остался довольным.
* * *
А вскоре события потекли быстро. Началась война, мобилизация. Табор почему-то задержался в Киеве, и я их увидел еще раз на вокзале. Они уезжали в Москву, а я на фронт, так как поступил в 166-й пехотный Ровненский полк. До границы, то есть до Радзивиллова, меня провожала Дарья Васильевна. Поэтому я только издали помахал рукой цыганкам.
Больше я их никогда не видел. Страница жизни перевернулась. И приятное и грустное. Конечно, это не была печаль безысходная. Дуся успела полюбить, но не успела привязаться. Только привязанность, цепи, закрепленные временем, бьют больно, когда рвутся…
Великий князь Константин Константинович
В один прекрасный день, в перерыве между заседаниями, когда депутаты, разбившись на группы, обменивались впечатлениями в кулуарах, ко мне подошел князь Владимир Михайлович Волконский, товарищ председателя Государственной Думы.
— Шульгин, необходимо ехать к великому князю Константину Константиновичу.
— А почему сие необходимо? — удивился я.
— Потому что два его сына-подростка, Олег и Игорь, ничего не понимают в политике, и отец решил пригласить подходящих членов Государственной Думы, чтобы их просветить.
— Благодарю вас, князь, но это не входит в обязанности члена Государственной Думы…
— Но это входит в обязанности монархиста, — парировал он. — Сейчас они малолетние, но кто знает, что будет в будущем.
Это меня убедило, и я ответил:
— Хорошо, поедем…
* * *
Помню, мы ехали поездом вдвоем с князем Владимиром Михайловичем. Дорогой расспрашивал его, о чем мне говорить.
— О чем хотите, — был ответ, — они ничего не знают.
— Кто еще будет там? — продолжал я задавать вопросы.
— Пуришкевич…
Компания не из приятных, отметил я про себя. Что он понесет, никто не знает.
— Затем будет еще Щегловитов, — продолжал Владимир Михайлович.
— Еще кто?
— Один адвокат, которого вы не знаете.
Наконец, приехали. Нас встретила карета, которая и доставила во дворец. Вошли. Он показался мне уютным. Затем проводили в комнату, где нас уже ожидали. Эта комната была совсем приятная, располагающая к отдыху: неназойливых тонов абажуры и шторы, красивые ковры, мягкая тахта…
Князь Волконский представил меня великому князю. Константин Константинович был высокого роста, худощавый, любезный. Затем меня подвели к тахте, на которой сидели дамы — супруга великого князя Елизавета Маврикиевна, пожилая, с седой головой (она что-то вязала), и другая, намного моложе, Елена Петровна, супруга князя Иоанна Константиновича. Последний, тоже высокий, стройный и худощавый, стоял рядом. Дамы и отец, обращаясь к нему, называли его Яном. Елена Петровна была родною сестрою будущего сербского короля Александра, в то время учившегося, кажется, в Училище правоведения.
И, наконец, уже не меня, а мне представили двух подростков, Олега и Игоря.
* * *
В комнате было нечто вроде кафедры, а проще — конторка, на которой стояли свечи. К стыду моему, я совершенно не помню, как появились Пуришкевич, Щегловитов и адвокат, и не помню, о чем они говорили. Но помню, что Пуришкевич вел себя, слава Богу, прилично.
Будучи неисправимым себялюбом, я очень хорошо помню, о чем говорил. Без всяких обращений к высочествам, так как читал детям, я начал примерно так:
— Мне хотелось бы сказать несколько слов о русском народе вообще и о культуре в частности. Есть ли культура у русского народа? Тут, чтобы быть справедливым, необходимо быть осторожным. И как мне кажется, надо разделить культуру на ее составные части. Я бы сказал: есть культура ума, есть культура воли, есть культура сердца. Что можно сказать о культуре ума? Русский народ очень сметлив, крайне способен ко всему, но он неграмотен, поэтому его умственная культура, разумеется, стоит на низком уровне. То же самое можно сказать и о культуре воли. Хотя русский народ способен культурно трудиться, что уже является проявлением воли, но вместе с тем он проявляет изумительное безволие в некоторых отношениях. Например, он пьет и не может не пить, потому что у него на этом пути отсутствует культура воли. Но русский народ богат культурой сердца. Это миролюбивый народ, за исключением вспышек гнева, о которых говорит Пушкин, называя русский бунт «бессмысленным и жестоким». За исключением этих вспышек, в обыденной жизни русский народ миролюбив и проявляет доброту, например, к пленным…
Как я закончил эту импровизированную речь, не помню. Но она имела успех. Конечно, никто не аплодировал, но великий князь тепло поблагодарил меня, пожав руку.
* * *
Затем позвали ужинать. Перешли в какой-то зал, где и ужинали a la fourchette, то есть стоя. Оба молодых слушателя нас любезно угощали, предлагая те или иные блюда. Великий князь, их отец, предоставил им быть здесь хозяевами, сам лишь присутствуя при этом.
Один из них, не помню кто, был более разговорчивым, чем его брат. Обращаясь ко мне, он сказал:
— Как это вы верно сказали о культуре воли. Вот у меня — никакой воли!… Почему? Я пишу дневник и потому могу так резко судить. Перечитываю старые записи, где написано, что надо сделать то, другое… И ничего не сделано…
Уезжали поздно. Распрощались очень тепло. Я ехал опять с князем Волконским. Он был доволен.
Капитан Георгий Седов
Мне довелось встретиться с великим князем Константином Константиновичем еще раз. Это целая история, в которой наша встреча была лишь незначительным эпизодом. Но рассказать, по-видимому, придется обо всем.
* * *
В начале десятых годов я носился с идеей открытия Северного полюса. Нужны были деньги, триста тысяч, бедно — сто тысяч. Я подумал, что Академия наук, почетным президентом которой был великий князь, должна быть заинтересована в его открытии.
Константин Константинович принял меня весьма любезно и так же любезно и внимательно выслушал. Но в заключение нашей беседы сказал, что, к сожалению, Академия наук не располагает такими средствами.
* * *
Мысль об открытии русскими Северного полюса защищал в «Новом Времени» Михаил Осипович Меньшиков, морской офицер в отставке. Меньшиков был настоящим золотым пером, да и «Новое Время» была влиятельной газетой, но все равно не удалось пробить и побороть равнодушие русской интеллигенции, правой и левой, правительства и Государственной Думы.
Мы, Петр Николаевич Балашов, председатель фракции националистов в Думе, я и еще несколько членов нашей фракции, которые в качестве русских националистов интересовались открытием Северного полюса, пристали к М. В. Родзянко. При его содействии Дума выделила тридцать тысяч рублей, что было до невозможного мало.
Тогда мы решили обратиться к правительству. П. Н. Балашов и я поехали к министру финансов Владимиру Николаевичу Коковцеву. «Коко», как называли его все, принял нас любезно хотя бы потому, что произнес перед нами двоими получасовую речь. В ней он перечислил все совершенно неотложные нужды России. В открытии же Северного полюса, по его мнению, русский народ совершенно не нуждался.
Мы не могли не сознавать внутри себя, что он был прав. Открытие Северного полюса было просто побрякушкой русского национализма, не больше.
Национальная подписка, объявленная «Новым Временем», дала гроши. При этом я не мог не вспомнить, что, когда была объявлена национальная подписка на какой-то флот, кажется, воздушный, то граф Орлов-Давыдов пожертвовал один миллион рублей. И даже «Киевлянин», не обладавший значительными средствами, дал тогда десять тысяч рублей.
А на открытие Северного полюса никто не хотел давать. Да и сам П. Н. Балашов, председатель нашего кружка, специально занимавшегося полюсом, мог бы свободно дать сто тысяч рублей (он был крупным горнопромышленником, земле- и лесовладельцем).
* * *
Однако мы продолжали заниматься этим делом. Мне поручили вести переговоры с капитаном Седовым, хорошо знавшим Север, который был самым подходящим человеком, так как горел желанием совершить эту опасную экспедицию.
Я просиживал с Седовым иногда с ночи до зари, производя всевозможные расчеты. Важный вопрос — это питание собак. Не в смысле стоимости мясного порошка, которым их кормят, а в отношении того, сколько можно нагрузить этого питания на собак, впряженных в сани. Обычно им дают фунт в день, но Седов сказал, что можно урезать до трех четвертей фунта. Затем по карте предположительно отмечалось, с какого места придется идти на собаках. Необходимо было высчитать, какой груз способны поднять собаки, чтобы покрыть расстояние до полюса. Расчет был довольно сложный, принимая во внимание, что собаки должны были тащить на себе палатки, байдарки и т. д. Гадательно высчитывалась пища, получаемая от охоты.
В конце концов все же мы с Седовым остановились на какой-то цифре. Естественно, я сейчас же удвоил ее, так как необходимо было рассчитывать и на обратный путь.
И тут я увидел жестокую правду. Достойнейший, отважнейший, милейший человек оказался полусумасшедшим маньяком. Я вспомнил и удивился гениальности Жюль Верна, рассказавшего о капитане Гаттерасе, англичанине, которого удалось как-то спасти и который окончил свою жизнь в сумасшедшем доме. Он был тихим сумасшедшим, спокойно гулял в саду, но путь его неизбежно был направлен к северу. Дойдя до крайней точки участка, он возвращался как-то боком к исходной точке и затем опять шел на север.
Безумие Седова сказалось в том, что пищу собакам он предполагал взять только на дорогу до Северного полюса. Когда я спросил его, как же мне его понимать, он ответил:
— Обратного похода не будет.
Помолчал и, видя мое недоумение, добавил:
— Но разве это важно?
Я начинал закипать, но как можно спокойнее спросил:
— Что же важно?
— Важно, чтобы русский трехцветный флаг был поставлен на Северном полюсе. Это будет означать, что Северный полюс открыт русскими и принадлежит России.
— Но ведь если вы, даже съевши всех собак, как это делается в таких случаях, не вернетесь сами, то ни одна собака не узнает, что вы были на Северном полюсе. И, значит, он по-прежнему будет считаться не открытым. Только свидетельство человека, побывавшего там и вернувшегося, будет принято во внимание…
* * *
Он меня не послушал. У него были дети и жена, очень милая молодая особа. Она приносила нам ужин, когда мы сидели по ночам… Он развелся с нею на тот случай, если бы погиб или пропал без вести, но она не знала, что он уже решил бесповоротно не возвращаться.
Но я то теперь знал и сказал ему:
— Я не могу с открытыми глазами толкать вас к самоубийству… Прощайте.
Я доложил об этом на заседании нашего комитета, и мы кончили нашу деятельность по открытию Северного полюса.
Но Седов не остановился. Он собрал еще какие-то деньги к тем тридцати тысячам, полученным от Государственной Думы, купил кораблик «Святой Фока», или, как писали в печати, «Дребезжащий Фока», и отправился на нем. Дошел до какой-то точки, дальше шел на собаках с одним спутником. Затем заболел, умер. Спутник вернулся…
* * *
Прошло много лет. Меня пригласили играть в фильме «Дни», который потом стал называться «Перед судом истории». Но предварительно показали уже смонтированный фильм «Седов». После его просмотра кинофильм «Перед судом истории» едва не сорвался. Когда я увидел это безобразие, непонимание Седова, с одной стороны, и бессмысленное, отвратительное глумление над государем Николаем II — с другой, то я сказал, что с такими сценаристами дел иметь не могу.
К счастью, этот фильм почему-то не пошел…
Великий князь Кирилл Владимирович
Великий князь Кирилл Владимирович служил во флоте и был одним из немногих уцелевших с линкора «Петропавловск» в тот день, когда на нем погибли адмирал Макаров и художник Верещагин. Его выловили японцы и затем отпустили в Россию.
Супруга великого князя, Виктория Федоровна, была в хороших отношениях с женою Петра Николаевича Балашова, Марией Григорьевной, урожденной княжной Кантакузен.
Не знаю по какой причине, но великому князю захотелось познакомиться с членами Государственной Думы — монархистами. Балашов устроил у себя обед, на который прибыли Кирилл Владимирович и Виктория Федоровна. На этот обед приглашены были также члены Государственной Думы А. А. Потоцкий (русский, ведет себя от запорожцев), Можайский, Д. А. Чихачев (все подольцы) и я (от Волыни).
За столом великая княгиня сидела рядом с Марией Григорьевной Балашовой и разговаривала только с нею. Меня Петр Николаевич усадил рядом с великим князем и поэтому мы с ним много говорили, точнее сказать, говорил я, а он слушал внимательно и молча.
После обеда перешли в гостиную и разговаривали стоя. Все мы были во фраках, а великий князь в морском сюртуке. Тут обозначилась его удивительная красота. Морской наряд очень выделял его стройную фигуру, а лицо было тонко и изящно.
Что было плохо — он не смотрел собеседнику в глаза. Это мне ужасно мешало, но все же я и стоя продолжал болтать. Болтал без умолку под строгим и внимательным взглядом Петра Николаевича. Великий князь и стоя слушал подчеркнуто внимательно и учтиво, как бы поддакивая, но не говоря ни слова…
П. Н. Балашов остался мною довольным, а ведь, черт возьми, мне далось это нелегко. Кто я был? Монархист, но издали, робкий провинциал, делающий первые шаги.
На следующий день все мы отправились во дворец к Кириллу Владимировичу, чтобы расписаться у швейцара. Это полагалось по этикету и заменяло визит. Если б это был не великий князь, то можно было просто оставить визитную карточку.
* * *
Затем я видел Кирилла Владимировича в трагические февральские дни семнадцатого года. Мы заседали непрерывно, а к Таврическому дворцу днем и ночью подходили какие-то воинские части, и М. В. Родзянко должен был выходить к ним и громовым голосом приветствовать их от имени
«Матушки России». В конце концов он выбился из сил и в очередной раз отказался идти. Но Садыков, преданный ему секретарь, доложил:
— Великий князь Кирилл Владимирович прибыл. На груди красный бант.
М. В. Родзянко, кряхтя, пошел и исполнил свои обязанности. Я никогда не ходил. Там надо было орать. Эту повинность и отбывал Михаил Владимирович. С меня же хватало того, что я спас Петропавловскую крепость.
Этого красного банта долго не могли простить Кириллу Владимировичу, однако, по-видимому, его стоило надеть, если этим путем можно было засвидетельствовать верность Гвардейского экипажа. Ведь и надо мною развевался не только красный бант, а целый красный флаг, когда я спасал Петропавловскую крепость от разгрома.
Войска, которые приходили в Государственную Думу и свидетельствовали ей свою верность, не считались революционными, так как Дума революцию не приветствовала.
* * *
Великий князь Кирилл Владимирович, находясь в эмиграции, объявил себя императором против воли некоторых других членов императорского дома. Его поддержал некто Казембек, провозгласивший доктрину «Царь и Советы».
Я находил также совершенно неуместным провозглашение Кириллом Владимировичем себя Императором в эмиграции.
Однажды мне довелось еще раз увидеть великого князя. Это было, по-моему, в конце двадцатых годов в Ницце, в театре. Вместе со своею дочерью Кирой Кирилловной он сидел в первом ряду, а на сцене упоительно пел казачий хор Жарова.
Великий князь меня не узнал, или сделал вид, что не узнает. Ему, по-видимому, было известно, что я считал его просто одним из членов императорской фамилии. Его тоже трудно было узнать. В штатском платье, а может быть по причине лет, он уже не был тем красавцем своих юных дней…
Он умер в 1938 году. Его сын, Владимир Кириллович, объявил себя не императором, а только блюстителем престола. О нем следует сказать несколько слов, хотя я его лично не знал.
Владимиру Кирилловичу, когда скончался его отец, было двадцать с небольшим лет. В это время я уже довольно долго жил в Югославии, совершенно отойдя от политики, но все же читал газету «Возрождение», принадлежавшую богатому армянину Гукасову, редактором которой был П. Б. Струве
22. В одном из номеров я прочитал следующее.
Видные представители эмиграции устроили собрание, на которое прибыл великий князь Владимир Кириллович. Он произвел на всех хорошее впечатление. Во-первых, наружностью был похож на Александра III (правда, ростом не вышел). Во-вторых, разговаривал со старшими не то чтобы милостиво, а так, как подобает молодому человеку. После собрания к нему проник один из французских корреспондентов, который начал свое обращение к нему со следующих слов: «Как стало известно, вам представили собрание эмигрантов…». Владимир Кириллович перебил: «Не мне, а меня представили». Далее корреспондент спросил, правда ли, что немцы предлагают ему вернуть престол, если он согласится подписать так называемый Брестский мир. Владимир Кириллович ответил примерно так: «Естественно, что вы, будучи иностранцем, задаете такой вопрос. Но если бы вы были русским, то знали бы, что Россия без Киева не Россия, а лишь Московия. Киев почитается сердцем России. Весьма сомнительно, буду ли я когда-нибудь на престоле. Но если это случится, то я буду Императором Всероссийским, а не Московским».
Затем, сообщалось в газете, этот претендент на российский престол выехал к своей сестре в Германию, где Кира Кирилловна проживала со своим мужем, будущим главою дома Гогенцоллернов. И, прибавляла газета, в Берлине Владимир Кириллович был принят очень холодно…
Великий князь Николай Михайлович
Это было в октябре 1916 года. В это время я на короткое время приехал в Киев из Петрограда. Вернувшись как-то из города домой, я узнал от нашего лакея Викентия, что «приезжали какие-то генералы, оставили записку». Текст гласил: «Был у Вас. Хочу Вас видеть. Николай Михайлович».
С некоторого времени я знал многих генералов, но не знал ни одного, который бы подписывался без фамилии. Это меня несколько озадачило. В это время зазвонил телефон, я снял трубку.
— Говорит адъютант великого князя Николая Михайловича. Его Высочество остановился в вагоне на вокзале, на путях.
Я сказал:
— Сейчас приеду.
На вокзале мне указали вагон, отодвинутый на запасные пути. Никакой охраны не было.
Великий князь принял меня в обыкновенном купе. После обмена приветствиями он сказал:
— Я приехал в Киев повидаться с императрицей Марией Федоровной. По дороге, в киоске, я увидел вашу книгу «Приключения князя Воронецкого»
23. Прочел, я ведь историк. Интересно. Откуда вы взяли документы?
— Из Архива Юго-Западной Руси.
— Комиссия Юзефовича?
24
— Так точно, Ваше Высочество.
Держал он себя в высшей степени просто, одет был в обыкновенную полевую генеральскую форму. Адъютант вышел в соседнее купе, и тогда великий князь сказал мне примерно следующее:
— Императрица Мария Федоровна живет здесь. Она не ладит со своей невесткой.
Он помедлил, затем спросил:
— Вы, наверное, знаете, почему.
— Я слышал, что вдовствующая императрица ценила Столыпина, а ее величество Александра Федоровна, по-видимому, его недолюбливала.
— Вы правы. Эта рознь продолжается, и она, конечно, не доведет до добра.
Адъютант вошел в купе, великий князь встал и сказал:
— Был рад с вами познакомиться. До свидания.
Я откланялся и покинул вагон.
* * *
Вскоре я вернулся в Петроград. Седьмого ноября член Государственной Думы Николай Николаевич Львов сказал мне, что назавтра мы оба приглашены к великому князю Николаю Михайловичу.
На следующий день мы приехали во дворец великого князя на Дворцовой набережной. Дворец как все дворцы, с мраморной лестницей, кабинет же его хозяина, в котором он проводил в основном свое время, — и работал, и принимал гостей, и даже иногда завтракал, — кабинет был и величественен, и уютен. Величественен потому, что на стенах были развешаны портреты императоров. Уютен потому, что в нем были мягкие ковры, мягкие кресла, а главное, что сам великий князь Николай Михайлович был уютным человеком.
Он усадил нас с Николаем Николаевичем и заговорил:
— Я просил вас, господа, приехать, потому что хочу ознакомить с одним документом…
Горел камин, источая тепло, и все располагало к задушевной беседе. Держа в руках несколько листков, он помолчал некоторое время, давая, по-видимому, нам время сосредоточиться и в то же время обдумывая, как вести разговор.
— Возвратившись из Киева, я испросил высочайшую аудиенцию. Император немедленно принял меня. Так как я лучше пишу, чем говорю, то я испросил Его Величество разрешить прочитать ему свое письмо. Сейчас я прочту его вам.
Он развернул лист и начал читать…
Я, конечно, не помню дословно текст этого письма, вспоминаю лишь его общий смысл. Великий князь Николай Михайлович побывал в Киеве, где встречался со вдовствующей императрицей. Она крайне озабочена и просила поговорить с императором. Революция надвигается, и престол находится в опасности. Николай Михайлович пытался раскрыть правду своему царственному племяннику, показав, что среда, окружающая императрицу, пагубно влияет на политику империи. Далее он сказал, что всем слоям общества известна та сила, которая играет роковую роль в государстве, имея в виду Распутина. При таком положении дел трудно надеяться на успешный исход войны для России.
— Когда я кончил читать, — продолжал великий князь, — Государь сказал: «Странно, я только что был в Киеве и никогда, кажется, меня так тепло не встречали, как в этот раз». Я ответил ему: «Это быть может потому, что ты был с наследником без Александры Федоровны».
Это замечание великого князя соответствовало тексту письма, где намекалось, что императрицу не любят. Не помню, говорили ли мы в тот день еще о чем-либо, но вскоре, поблагодарив великого князя, мы откланялись и уехали.
* * *
Конечно, можно было понять, что великий князь захотел поделиться всем тем, что он нам прочел, с лицами не своего круга, так как он чувствовал необходимость опереться на какое-то общественное мнение. Но что для такой цели он избрал именно Н. Н. Львова и меня, стало мне понятным только теперь, после столь долгих лет.
* * *
Все то, чего опасался великий князь Николай Михайлович, произошло — разразилась Февральская революция. Все изменилось, и меня нисколько не удивило, когда великий князь пригласил Н. Н. Львова и меня снова к себе на завтрак.
В том же кабинете, в котором мы несколько месяцев назад слушали его письмо к государю, кроме нас двоих, оказались брат хозяина великий князь Александр Михайлович с дочерью княгиней Ириной Александровной и ее супругом князем Феликсом Феликсовичем Юсуповым графом Сумароковым-Эльстоном.
Все мы сидели за столиком, на котором был сервирован завтрак. До той поры я никогда не видел великого князя Александра Михайловича, точно так же, как и супружество Юсуповых. Дочь Александра Михайловича поразила меня своей внешностью. Она была очень красива, но какой-то мрачной красотой, нечто вроде Архангела Смерти. А руки у нее были такие тонкие, что я получил впечатление, позднее высказанное моим сыном Лялей одной смолянке: «Диночка, как вы можете жить с такими ручками?»
Юсупов также произвел впечатление чего-то хрупкого, позволю себе сказать, вырождающегося цыпленка. Никак не совмещалось у меня в мозгу то, что этот человек убивал Распутина.
Во время завтрака ничего не значащий разговор происходил между старшими, то есть великими князьями, с одной стороны, и нами, Львовым и мною, с другой. Юсуповы не проронили ни слова. Но после завтрака произошло нечто меня удивившее и даже смутившее. Был прочтен, не помню, кем именно, один рассказ из журнальчика, кажется, «Русская культура», который стал издавать Петр Бернгардович Струве. Точно, дословно, пересказать его не могу.
Рассказ шел от первого лица, и смысл заключался в том, что повествующий знал одного хорошего, но очень к жизни неприспособленного мальчика (не умел даже зашнуровать себе ботинки). Его мать (или бабушка) во всем ему помогала, и поэтому мальчику было стыдно. Он говорил: «Пусти, я сам». Но сам он так ничего и не мог сделать. И снова раздавался его крик: «Так я же не могу!»
Это же самое, говорил дальше повествующий, происходит и у нас в России. Русский народ желает управлять сам, попробовал и кричит: «Так я же не могу!»
Сейчас я привожу лишь общий смысл этого рассказа, он был длиннее и гораздо убедительнее. Но дело не в этом. Под рассказом стояла подпись: «В. Шульгин».
Так вот, для того чтобы выслушать этот пустяшный рассказец, и был устроен завтрак для высочайших особ и просто особ.
* * *
Мальчик, не приспособленный к жизни, был мой сын Василек. Таким же, каким он был в детстве, он оставался до своей смерти. Девятнадцати лет он погиб вместе с двадцатью четырьмя другими такими же юнцами, тоже, пожалуй, из-за неприспособленности. Эти юноши не поняли, что ими командует такого рода человек, что его приказание исполнять как святой завет не надо было. Он их бросил и уехал, приказав умереть, но не сдавать каких-то сосен под Киевом. Они и умерли все до одного. А кругом все уже давно ушли, потому что гетман Скоропадский и его начальник штаба князь Долгоруков сдали город петлюровцам.
* * *
Мне довелось еще раз побывать в гостях у великого князя Николая Михайловича. Но об этом визите я мало что помню, лишь то, что он показывал мне фотографии — он на охоте в Грушевке в окружении молодых парней в украинских национальных рубашках.
Пришел я тогда к нему, уже опираясь на палку. Дело в том, что все происходившее не могло в конце концов не отразиться на моих нервах. Я заболел острым приступом того, что сейчас называют радикулитом, а тогда называли люмбаго. Мне посоветовали так называемое горное солнце. Я поехал в клинику, где делали эту процедуру, и меня облучили в течение пяти минут. После этого на позвоночнике образовался круг величиною с блюдце, как будто от очень темного загара. Немного помогло, но не надолго, и я залег у себя дома. Об этом узнал Николай Михайлович, и вскоре его лакей прибыл ко мне и сообщил, что великий князь приедет меня навестить.
Это меня обрадовало и тронуло, но привело в панику Дарью Васильевну.
— Великий князь! Какой ужас! Что я надену и чем я его буду угощать? — забеспокоилась она.
Я сказал:
— Переодеваться не нужно. Черное шелковое каждодневное платье будет как раз хорошо.
— А на голову? — не унималась она.
— На голову можно было бы косынку сестры милосердия, но ведь я не ранен, а лишь болен.
— Ну, тогда какой-нибудь чепчик. Да, но угощение!?
— Черный кофе, который вы удивительно варите, и миндальное печенье.
— Так Лиза ему отворит дверь?
— Нет, Лизу надо вообще куда-нибудь убрать, — решил я. Лиза, моя горничная, была не очень приятна. — Сами извольте открыть дверь.
— Надо помочь снять пальто?
— Не пальто, а шинель. Не надо помогать.
— А я всегда помогала папе снимать шашку.
— Он приедет без шашки, но с лакеем, который и снимет ему шинель.
— Значит, открыть дверь.
Я перебил ее:
— Да, и бежать на кухню готовить кофе и принести его на подносе. А я буду лежать и скажу великому князю: «Вот ангел, который меня лечит».
— Этого не надо, — возразила она решительно.
— А как же тогда?
— Скажите: «Вот сестра, которая меня лечит».
* * *
Все прошло благополучно. Раздался звонок, и сейчас же после этого вошел лакей и сказал:
— Его высочество!
Великий князь вошел в переднюю, и его провели ко мне в комнату. Он был одет по-домашнему, в военной серой тужурке с погонами. Я извинился, что лежу.
— Что у вас, Василий Витальевич?
— Разболтался немного, Ваше высочество. «Так я же не могу!», — произнес я плаксивым тоном.
Он улыбнулся и сел в кресло. Кресло было удобное. Оглянув комнату, он живо спросил, указывая на икону:
— А это что?
— Это Дубенская Божья Матерь.
— Дубно? На Волыни? «Приключения князя Воронецкого»? — быстро выпалил он.
— Именно. Ваше высочество, у вас превосходная память.
— Вы эту икону видели лично?
— Да, видел лично в Дубенском монастыре, на острове. Нашел ее с трудом. Монахи не знали, где икона, подаренная в шестнадцатом веке князем Острожским. И притом она была гораздо меньше, чем вот эта копия, и без жемчужной короны и покрывала.
— Куда же делся жемчуг?
— Ваше высочество, жемчуг-то был настоящий.
— Понимаю. На этой копии бусы и камни, конечно, из стекла. Но вышло необыкновенно красиво. Кто это вышивал?
В это время раскрылась дверь и вошла миловидная Дарья Васильевна в белом чепчике и черном шелковом платье и с подносом в руках.
Я сказал:
— Ваше Высочество, разрешите предложить вам чашку кофе. Сестра, которая за мною ухаживает, варит кофе просто превосходно. Она же и вышила эту икону. Разрешите вам ее представить.
— Мы уже познакомились в передней.
Она подошла и поставила на столик кофе. Улыбалась вежливо, но без всякой угодливости. В ней была и польская кровь, смесь нежности и горделивости.
Великий князь еще раз взглянул на иконку и сказал:
— Превосходно! Но у вас, наверное, был какой-нибудь рисунок?
— Да, — ответила она, забыв прибавить «Ваше высочество». Вместо этого она прибавила:
— Сейчас!
И исчезла. Через минуту вернулась с раскрытой книгой в руках. Это была книга Батюшкова «Волынь», и в ней было изображение Дубенской Божьей Матери в пышном венце из перлов и драгоценных камней. С венца спускалось на плечи покрывало тоже из жемчуга. На плече — крупный камень-застежка. Младенец тоже был в жемчугах.
Великий князь взял Батюшкова и рассматривал изображение в книге, сравнивая его с той копией из бус и «рубинов», что стояла в углу. Затем заметил:
— Копия выполнена очень точно. Но Дубенская Божья Матерь, что стоит в углу, хотя она из бус и фальшивых камней, гораздо красивее.
Потом он заинтересовался подробностями работы. Дарья Васильевна рассказывала без всякого смущения, так что я просто удивлялся.
Великий князь выпил чашку кофе и попросил другую. И миндальные шарики ел с таким удовольствием, как будто он в жизни не ел ничего подобного. Естественно, что глаза Дарьи Васильевны сияли от счастья. А у меня даже прошла мигрень, которая мучила вдобавок к люмбаго.
Поговорив еще некоторое время, великий князь стал собираться.
— Выздоравливайте.
Затем попрощался. Проводив его в переднюю, Дарья Васильевна вернулась.
Я спросил:
— Что с тобою? Ты так разговаривала с его высочеством, как будто с детства с ним знакома.
Она ответила вызывающе:
— Это потому, что он человек.
Я перебил и продолжил ее слова, подражая ее голосу:
— А мои петербургские дамы…
— А твои петербургские дамы кривляки.
— Значит, все в порядке.
* * *
Да. Все оказалось в порядке. Великий князь оказался не кривлякой. Когда пришла смерть, он встретил ее достойно. Достойно самого себя и Романовых.
Впрочем, и Рюриковичи говорили:
— Мертвые бо сраму не имут.
* * *
Позже, не помню точно когда, ко мне в Киев приехал значительно младший меня по возрасту некий Балицкий. Я его знал когда-то студентом Петербургского Политехникума. Он женился на красивой поповне с юга, которая была украшением в своем малороссийском платье на собраниях монархистов. Проявив деловитость, он основал первые в России курсы, кажется, счетоводства, назвав их еще до войны Петроградскими курсами.
За свои политические взгляды он при большевиках попал в Петропавловскую крепость и в ней сидел одновременно с великим князем Николаем Михайловичем.
Ему, Балицкому, удалось каким-то образом выбраться из Петропавловки, и он, решив больше не искушать судьбу, бежал из Петрограда. Явился он ко мне под свежим впечатлением происшедшей трагедии. Он рассказывал:
— В Петропавловке можно было свободно ходить из камеры в камеру. Поэтому я не раз видел великого князя Николая Михайловича. Он держался бодро и всех нас там утешал. Однажды к нему явились на свидание украинствующие. Я думаю, что они были подосланы немцами. Они сказали великому князю: «Ваше Высочество, у вас есть имение на Украине, значит, вы украинец. Если так, то мы могли бы вас вытащить отсюда, только признайте себя украинцем». Великий князь им ответил: «Русским родился, русским жил и русским умру». И умер. Его расстреляли.
Великий князь Николай Николаевич
Как известно, в 1915 году, во время войны, было образовано четыре особых совещания. Одно при министре путей сообщения, второе — продовольствия, третье — финансов и четвертое, самое важное, — при военном министре. Особые совещания призваны были подчинить экономику страны военным нуждам.
В состав Особого совещания при военном министре входили сам военный министр, который был председателем совещания, председатели Государственного Совета и Государственной Думы и по девять избираемых членов от обеих палат. В числе избранных от Думы был и я.
Кроме того, непременным участником этих собраний был генерал Маниковский, начальник Главного артиллерийского управления. Привлекались и различные эксперты. В числе последних был некто Литвинов-Фалинский, который в прежнее время был товарищем министра промышленности.
После одного из таких заседаний Литвинов-Фалинский пригласил меня в какое-то кафе для беседы с глазу на глаз. Почему он избрал именно меня для этой доверительной беседы, я не знаю, тем более, что мы с ним прежде не были знакомы. Так или иначе, он рассказал мне следующее.
— То, о чем я вам скажу, знают немногие. Но я хочу, чтобы вы знали тоже. Кстати, вы ведь сравнительно молоды, — почему-то добавил он.
— В феврале пятнадцатого года, — продолжал Литвинов-Фалинский, — я получил от Верховного Главнокомандующего телеграмму с приглашением прибыть в Барановичи, в Ставку. Великий князь Николай Николаевич знал меня хорошо, поэтому меня приглашение не удивило. Когда я приехал, он сказал мне: «Вот, посмотрите эти ведомости. Здесь написано, что в таком-то месяце я получил столько-то снарядов, в следующем — столько, и так далее по настоящее время. Но я этих снарядов не получаю. Я спросил своих подчиненных, что это значит? Они или сами не понимают, или врут мне. Будьте любезны выяснить, в чем же дело?»
Я взял эти ведомости, очень внушительные на вид, и работал над ними неделю. Оказалось, что дело заключалось не во всех снарядах вообще, а только в тех, которые Россия заказала в Америке. Обдумав все, я прибыл к великому князю и сказал ему: «Ваше Высочество, вы эти снаряды не получите, а если и получите, то с большим опозданием, потому что они не подходят по калибру к нашим орудиям. Чтобы американцы могли поставить снаряды необходимых нам калибров, они должны оснастить свою промышленность необходимыми станками и оборудованием, что равнозначно постройке новых заводов. Этого американцы не смогут сделать в сроки, указанные в договоре о поставке снарядов».
Чем дальше я слушал Литвинова-Фалинского, тем больше недоумевал и, наконец прервал его рассказ вопросом:
— Что же военный министр и лица, ему подчиненные, так называемые специалисты, неужели они тогда не понимали того, что вы разъяснили мне в двух словах?
— Военным министром, подписавшим контракт на поставку этих снарядов, — продолжал Литвинов-Фалинский, — был генерал от кавалерии Сухомлинов. Он человек невежественный в артиллерийских делах, и кроме того, а вы это лучше меня знаете, крайне легкомыслен. Быть может, другого можно было бы подозревать в измене, но я уверен, что этого в данном случае нет. Что же касается до Елены Викторовны Сухомлиновой, то болтают, что драгоценные палантины
25 она получает от какого-то богача. Так что ей не нужны американские заводчики.
Ну, а относительно господ офицеров, работающих в специальной комиссии, то здесь просто не знаю, что и сказать вам. Во всяком случае, дело нельзя быстро поправить еще вот почему: если мы будем слишком нажимать на американцев, то они просто разорвут контракт. Им выгоднее заплатить неустойку, чем работать себе в убыток. А кроме того, мы выдали им громадные авансы, причем не бумагами, а золотом…
* * *
Американские снаряды опоздали на год. Когда они пришли, то забили железнодорожные пути от Владивостока до фронта, и ими пользовались даже во время Гражданской войны, как одна, так и другая сторона.
Значительно позже мне стало известно, что об этой проблеме знали некоторые люди, пользовавшиеся доверием Николая II, но доложили Его Величеству, что все в порядке.
* * *
Великий князь Николай Николаевич недолюбливал Сухомлинова, последний платил ему тем же. Они не ладили, и их нелады были такого характера, что приносили в какой-то степени известную пользу. Оба были кавалеристами и оба соперничали в этом деле. Великий князь посадил кавалерию на кровных коней, Сухомлинов тоже не оставался в долгу в заботах о кавалерии.
О характере великого князя Николая Николаевича мне рассказывал барон Петр Николаевич Врангель. Он не считал его человеком с сильной волей и в качестве подтверждения указывал на его поведение во время Февральской революции, когда под нажимом Временного правительства он безоговорочно отказался от поста главнокомандующего и был пассивен впоследствии. «Николай Третий», — говорил о нем генерал Врангель.
Но он учитывал популярность великого князя в эмигрантских кругах, особенно среди военных. Поэтому в эмиграции он поддерживал Николая Николаевича как претендента на российский престол, заявил, что подчиняется ему, сам же является Верховным Главнокомандующим всех Вооруженных сил в эмиграции, образовавших так называемый Российский Общевоинский Союз (РОВС). В политику же, неоднократно говорил генерал Врангель, он не вмешивался, ею ведал великий князь.
Что означало «политика», когда произносились эти слова. Великий князь Николай Николаевич и генерал Врангель имели в виду тот самый «Трест», который потом так нашумел. Великий князь верил в него, несколько раз принимал в Париже А. А. Якушева и возлагал на него надежды, тем более, что Александр Александрович держался таких взглядов, которые он мне лично сообщил: «Нет ни одного солдата в русской армии, который бы не помнил великого князя Николая Николаевича. Он был весьма популярен, и сейчас на его призыв откликнутся многие».
Петр Николаевич Врангель не верил «Тресту» и уклонился от встречи с А. А. Якушевым, предоставив заниматься им великому князю.
* * *
Великий князь Николай Николаевич жил в эмиграции на юге Франции в городке Антиб. Когда он умер, его хоронили в городе Канны очень торжественно. Прибыли послы всех великих держав и малых тоже, в золоте и плюмажах. Я стоял скромно сбоку и все это видел. Франция платила долг благодарности русскому главнокомандующему за то, что в 1914 году он спас Париж, пожертвовав тремя русскими корпусами. Он спас не только Париж, но и судьбу войны. Если бы Париж был взят, то Франция заключила бы мир.
Во время Гражданской войны великий князь Николай Николаевич был в Крыму. Было время, когда генерал А. И. Деникин хотел подчиниться великому князю, чтобы он встал во главе Белого движения. Меня просили доставить ему в Крым соответствующее письмо, подписанное А. И. Деникиным и М. В. Родзянко. Я избрал для этого молодую даму, которая у меня в «Азбуке» носила кличку «Принцесса», и отправил ее выполнять задание. Она исполнила поручение очень ловко, пробравшись сначала к жене великого князя, а потом и к нему.
Николай Николаевич отказался исполнить просьбу А. И. Деникина. Может быть он оправдал мнение генерала П. Н. Врангеля о нем, а может, оказался человеком большого предвидения, потому что если бы он стал во главе Белого движения, это не придало бы ему силы, а положило бы новую тень на Романовых.
* * *
Генерал П. Н. Врангель не знал, что в 1905 году, когда положение было очень острым, именно великий князь Николай Николаевич вырвал у колеблющегося императора Манифест 17-го октября.
Необходимо также отметить, что во время войны великий князь был довольно популярен в Польше, которой он обещал автономию при благополучном окончании войны. Поэтому поляки с увлечением воевали за Россию в начале войны.
* * *
В 1920 году, во время моих скитаний, я попал в Бухарест, и меня пригласил к себе наш посланник Поклевский-Козелл. Наша дипломатическая миссия сохранила всю свою прежнюю форму. Дом был в полном порядке, за столом прислуживали три лакея и так далее.
Один из этих лакеев был специально приставлен к моей особе. Он оказался приятнейшим человеком. Утром, в девять часов, он будил меня, открывая бархатные занавесы, затем подавал мне завтрак в постель, причем осведомлялся, желаю ли я завтракать по-румынски или по-английски. Если по-румынски, то подавалось много фруктов, особенно винограда, если по-английски, то подавалась большая тарелка со всевозможной дичью. Пока я завтракал, он рассказывал мне разные истории, иногда очень интересные.
До того, как попасть в Румынию, он служил в Петербурге у великого князя Николая Николаевича. Жена последнего и жена его брата великого князя Петра Николаевича, «черногорки», очень верили в вампиров. Под вампирами они понимали всякую чертовщину. По-видимому, за вампира они приняли и Распутина. «Старец» часто обедал у великого князя, причем, как говорил лакей, великий князь подавал ему руку, а «черногорки» подходили под благословение.
Я спросил тогда лакея:
— Что же вы лично думаете о Распутине?
Во время всей беседы ни разу не улыбнувшийся лакей, походивший скорее на дипломата, рассмеялся и сказал:
— Хитрый был мужик
26.
1917–1919
Глава I
МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
П. Н. Милюков, между прочим, пишет в своих мемуарах: «Шульгин мог бы войти в состав Временного правительства, но в трудную для отечества минуту предпочел остаться тем, чем он был, т. е. журналистом»
1.
Я так и не узнал, был ли это комплимент или упрек.
Однако я действительно не принял министерского портфеля, явно. По существу дела я хотел стать министром пропаганды. К этому я был подготовлен. Поэтому я попросил Временное правительство передать в мое распоряжение ПТА — Петербургское телеграфное агентство. С ним я уже работал, меня там знали.
ПТА было правительственным органом. Оно имело достоинства и недостатки, свойственные бюрократии.
Достоинство было в том, что ПТА, служа правительственным целям, вело весьма прилично пропаганду. Например, передавая по телеграфу отчеты о заседаниях Государственной Думы, оно не искажало их, а лишь дозировало речи ораторов. В этом смысле работники ПТА набили руку. После речи каждого оратора они спрашивали у руководителя агентства: «Сколько слов?» Получив ответ, работник ПТА бежал на телеграф, расположенный тут же в Таврическом дворце, и там он излагал речь в размере пятисот слов или пятидесяти.
Недостатки ПТА исходили из того же самого источника: все должно было быть прилично. Поэтому скандалы (например, Пуришкевич) пропадали.
* * *
Но, кроме ПТА, были так называемые специальные корреспонденты. Они заседали в ложе печати, которую в шутку называли «чертой оседлости». Такое прозвище родилось потому, что ложа печати переполнена была евреями. И тут шутка становилась серьезной.
Как случилось, что русская печать попала в еврейские руки?
В этом заключался весь еврейский вопрос. Евреи овладели печатью не благодаря своим порокам, а благодаря своим добродетелям. Как работники пера они были неутомимы и добросовестны.
Вот пример. Как-то мы, несколько членов Государственной Думы, пришли к старику Суворину, редактору «Нового времени». Эта газета осталась русской и не была заполнена евреями.
Между прочим, Суворин вел оригинальный образ жизни: вставал вечером, всю ночь сидел в редакции и засыпал утром.
Ночью мы пришли и сказали:
— Почему в отчетах «Нового времени» о Государственной Думе на первый план выпячиваются левые и левоватые ораторы? Ведь это не соответствует Вашим взглядам.
Он ответил:
— Я держу в Государственной Думе трех корреспондентов: профессора Пиленко, Ксюнина и Суходрева. Что же они там делают?
Мы объяснили:
— Пиленко пишет не отчеты о заседаниях, а интересные статьи по поводу заседаний. Ксюнин обычно приходит к концу заседания, поэтому он спрашивает у «черты оседлости», что они написали, и оттуда что-то выкраивает для «Нового Времени». Суходрев занимается исключительно интервью. Чтобы он не перепутал, мы сами пишем эти интервью. Вы их печатаете в «Новом времени», а Суходрев получает гонорар.
Старик Суворин рассердился и стал браниться.
— Что я поделаю. Вот они, наши русские, — заключил он.
* * *
Таким образом я получил первую разведку по важнейшему вопросу: почему русская печать попала в руки евреев. Затем я углубился в этот предмет. Между прочим, провинциальная еврейская печать была богато обслужена этими специальными корреспондентами. Денег не жалелось. Телеграммы посылались без ограничения количества слов. Например, киевская «Мысль»
2, орган польско-еврейский, печатала целые полосы «от нашего специального корреспондента». Все это заставило меня что-то предпринять, чтобы обслуживать провинциальную русскую печать «специальными корреспондентами». Тут ПТА пошло мне навстречу.
Телеграф брал за каждое слово 5 копеек. Но ПТА за 5 копеек посылало по тремстам адресам. Для меня составили исключение. Телеграммы, посылаемые мною через ПТА, я оплачивал по 7 копеек за слово, но имел право посылать в двадцать адресов.
Таким образом я стремился поддержать провинциальную русскую печать, давая им дешевые телеграммы «от нашего специального корреспондента».
Провинциальная русская печать. Что да кто? «Киевлянин»
3 и «Курская газета»
4. «Курская газета» платила аккуратно, потому что зависела от члена Государственной Думы Маркова 2-го. Ну, разумеется, платил аккуратно «Киевлянин». Остальные, числом около пятнадцати, которым я назначил минимальные ставки, ничего не платили. А зачем им было платить? Это были субсидированные издания, которым вовсе не выгоден был широкий тираж. При широком тираже необходимо много платить за бумагу. А так как это были патриоты своего кармана, то им было бы всего выгоднее, чтобы газета выходила в единственном экземпляре. Кончилось это тем, что у меня образовался долг ПТА в четыре тысячи рублей, т. е. примерно мое годовое жалованье как члена Государственной Думы. ПТА нажимало. Я поехал к товарищу министра внутренних дел Макарову с просьбой, чтобы подождали. Но Макаров поступил проще, но очень дота меня неприятно. Он вынул из несгораемого шкафа четыре тысячи рублей и сказал мне:
— Это из фонда, которым мы распоряжаемся безотчетно.
Однако взял с меня расписку. И это просто меня удручило. До той поры у меня никаких денежных счетов с правительством не было. Однако совершенно неожиданно я получил вскоре двадцать тысяч рублей.
От кого? От покойной моей матери. Мама при жизни положила семь тысяч рублей на имя малолетнего своего сына. Об этом я совершенно не знал. А деньги, лежа в банке, обрастали процентами и превратились в двадцатитысячный капитал. Эти двадцать тысяч были мне вручены моим отчимом Дмитрием Ивановичем Пихно, который знал об этой операции, но не трогал этих денег. Когда же в 1913 году он задумал строить сахарный завод, потребовалась мобилизация всех средств всей семьи.
Из этих двадцати тысяч я купил на десять тысяч акций будущего сахарного завода, четыре тысячи немедленно вернул Макарову и получил обратно свою расписку. Осталось шесть тысяч. Я их истратил, как тратятся неожиданные богатства. Две тысячи я дал моей секретарше за все ее большие труды и дружбу, на булавки. Она их истратила точно так же, как и я, совершенно неразумно. До той поры она одевалась в тряпочки и очень хорошо, со вкусом. Но, получив такую сумму с моим требованием истратить их на себя, она поехала в Киев к своей портнихе. И там они нашили много красивых вещей, но совершенно не подходящих для Петербурга по своей яркости. Петербург одевался строго. Поэтому после многих слез пришлось перекрашивать синие и красные шелка в черные.
Но все-таки осталось еще четыре тысячи. Я заплатил еще какие-то мелкие долги, затем купил себе хорошую пишущую машинку, лодочный мотор, диктофон, ну и истратил на какие-то поездки. И все.
Что такое деньги? Дело наживное и проживное.
Ценою «бешеных» денег я понял, почему русская печать перешла в еврейские руки. Почему же? Потому что русские журналисты, не лишенные даровитости, были лишены моральных качеств. А евреи, очень неприятные в некоторых отношениях, в делах были людьми дельными.
* * *
Я совершенно отвлекся. Возвращаюсь к теме своего повествования.
Итак, я хотел быть «министром пропаганды». Временное правительство передало в мое распоряжение ПТА
5. Не теряя времени, я написал телеграмму-статью и 6-го марта разослал ее по тремстам адресам. Эта статья появилась во многих газетах России. Звучала она примерно так.
Цари ушли… Они простояли на своей царской вахте триста лет. И, наконец, устали. Устали и ушли, сдав свой пост другим. Они передали этот пост нам, т. е. Временному правительству. Что же будет теперь? Поблагодарив царей за их трехсотлетнюю службу России, мы взвалили на свои плечи государственное бремя. Мы будем продолжать их работу, внеся в нее изменения, соответственные нынешним событиям
6.
* * *
Таков был первый и последний опыт «министра пропаганды». Но он оказался не под силу правительству князя Львова. Меня вежливо попросили вернуть ПТА прежнему владельцу — министру внутренних дел. Я не сопротивлялся, конечно.
Из трехсот адресов у меня остался один — газета «Киевлянин». С тех пор передовые статьи «Киевлянина» посылались мною по телеграфу. Это было гораздо лучше «специального корреспондента». Оставаясь в Петербурге, я был в курсе дел, и потому читатели «Киевлянина» осведомлялись вовремя, и даже иногда им предсказывалось, что будет завтра.
* * *
По условиям тогдашней жизни телеграммы передовые надо было посылать утром.
Моя верная секретарша, позабыв уже о своих неприятностях с портнихами, научилась писать телеграммы без предлогов и знаков препинания и без ошибок. Я диктовал, еще лежа в постели, для скорости. Большая «жемчужная» Божья Матерь смотрела и слушала. Конечно, мысли ее были мне тогда непонятны. Затем моя секретарша по морозу бежала на телеграф и сдавала депешу. Там ворчали, но принимали. Скоро у меня не хватило денег. Пока, наконец, «Киевлянин», который благодаря передовым телеграммам рос не по дням, а по часам, не понял, что это должно что-нибудь стоить, и прислал мне деньги.
* * *
Итак, «министром пропаганды» я не стал, но Временное правительство, быть может, чтобы позолотить пилюлю, позвало меня на одно заседание.
Я опять очутился в Мариинском дворце, в зале с хрустальной люстрой, таинственно звенящей, где были мягкие ковры и важные лакеи разносили кофе с булочками, что для голодающих членов «Особого совещания по обороне» было серьезным подспорьем.
Теперь вместо военного министра председательствовал князь Львов. На повестке дня был доклад министра юстиции А. Ф. Керенского. Доклад был коротким. А. Ф. Керенский предложил отменить смертную казнь.
Отмена смертной казни во время войны, когда люди гибнут тысячами и не может быть другого наказания, было нечто невиданное в летописях истории. Наполеон говорил: «Если армия взбунтуется, то надо расстрелять половину, чтобы спасти остальных». Мы как раз были в полосе военного бунта. Однако никто не возражал, и я тоже. Я только спросил А. Ф. Керенского:
— Александр Федорович. Предлагая отмену смертной казни, Вы имеете в виду вообще всех? Вы понимаете, о чем я говорю?
Он ответил:
— Понимаю и отвечаю: да, всех.
Я говорил о семействе Романовых, смутно предчувствуя их будущую гибель. После ответа А. Ф. Керенского я сказал:
— Больше вопросов не имею.
И смертную казнь отменили единогласно
7.
Забегая вперед, скажу: бедный Керенский. Он действительно не был кровожаден. Прошло несколько месяцев, и в августовском Государственном совещании в Москве Александр Федорович трагически кричал:
— Я растопчу цветы моего сердца и спасу революцию и Россию
8.
Под цветами своего сердца Керенский разумел отмену смертной казни, но ему не удалось спасти ни революции, ни России. Из этого я не делаю никаких выводов. Я просто повествую:
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу…9
* * *
После моего однодневного руководства ПТА я занялся «Киевлянином». И это была причина, почему я остался в Петербурге. В сущности, мне нечего было тут делать. Но раз я остался, то участвовал в политической жизни столицы. В общем она сводилась к митингам, уличным и в помещениях.
Нормальная картина тех дней — это какая-нибудь площадь, где с чьего-нибудь разрешения говорили ораторы, выходившие из толпы. Не было ни председателя, ни руководителя. Просто кончивший оратор сходил вниз, а на его место забирался другой. Говорили они на всевозможные темы, о том, что у каждого наболело. Помню, один, например, говорил, что, вот, людей на борзых щенков меняли. Это, может быть, и было, но при «царе-горохе». Во всяком случае, после освобождения крестьян в 1861 году некому было их менять на щенков. Потому что крестьяне помещикам уже не принадлежали.
Я выслушал его. Он сошел с трибуны, но не ушел далеко. Я подошел к нему и сказал:
— Вот Вы, товарищ, говорили про щенков и что их на людей меняли. Но ведь это было больше, чем пятьдесят лет тому назад. Так зачем же это говорить? Вот, к примеру, жиды Христа распяли когда-то. Так если мы сейчас об этом будем вспоминать, то выйдет жидовский погром. Вы этого хотите?
— Нет, нет! Я этого не хочу, — и он опять пошел на трибуну. И я услышал собственными ушами:
— Вот, некоторые товарищи говорят о том, что было очень давно. Например, евреи Христа распяли. Так это к чему же? Об этом позабыть пора.

Члены Временного Исполнительного Комитета Государственной Думы. Февраль 1917 г.
* * *
Однажды, возвращаясь домой, под вечер, я услышал на Большой Монетной голос, который показался мне знакомым. Подойдя к толпе, я узнал этот голос. Он в обычное время был тихим. Сейчас он звучал звонко. Это была моя секретарша, «святая любовь» (Heilige Liebe), как ее называла Мария Николаевна Хомякова, у которой она работала на фронте.
О чем же она говорила своим звонким голосом?
— Вы что делаете?! То делаете, что я теперь вас не люблю! Ненавижу! На войне я над вами дрожала, лечила, спасала. Если б я знала тогда, какими вы станете!
К моему удивлению, слушатели, которые в основном состояли из солдат, не проявляли к ней враждебности. Но толпа изменчива, как море. Поэтому я пробился к ней и увел ее.
* * *
А вот и внутренние митинги. Однажды ко мне пришло несколько офицеров, усадили в автомобиль и куда-то повезли. Привезли в большой зал, похожий на университетскую аудиторию, битком набитую народом. Внизу была кафедра и около нее сидел кто-то в роли председателя. Он давал слово. Темы были произвольные. Когда я пришел и сел где-то наверху, оратор говорил примерно следующее:
— Говорят, что есть какие-то монархисты. Но где они? Теперь у нас свобода. По улицам ходят всякие партии. А монархистов между ними нет. Значит, их совсем нет.
Я попросил слово. Получив его, спустился вниз и сказал примерно так:
— Товарищ спрашивал, где монархисты, и говорил, что у нас теперь свобода. И монархистов он не видел. Но почему? Потому что у нас свобода только для виду. А настоящей свободы нет, и потому и монархистов нет. Если бы они подняли плакат: «Мы монархисты», то на них бросились бы бить. Я хочу сказать, что у нас свобода теоретическая, она ничем не обеспечена. Но вот тут, в этом зале, она обеспечена, тут нечего бояться. И потому я безбоязненно отвечаю товарищу на вопрос, где монархисты: вот я, я — монархист!
Тут раздались голоса: «Кто вы такой?!», «Как фамилия?».
— Шульгин — член Государственной Думы.
— A-а, так мы знаем.
Я продолжал:
— Почему я монархист, хотя именно я и принял отречение от престола государя императора. А вот почему. Все мы обыкновенные люди, чего-то добиваемся, чего-то желаем. Только один царь поставлен так высоко, что ему желать нечего. У него одно желание — благо народа. И это видно из
того, что он добровольно отрекся от престола. Увидел, что благо народа этого требует, и отрекся.
Слушали внимательно и не прерывали. Пользуясь тем, что какой-нибудь логики на митинге не нужно, я перескочил на Англию.
— Вот в Англии в парламенте две партии: виги и тори, консерваторы и либералы. Но и те, и другие — монархисты. Король английский не правит, он царствует. Но им этого и нужно, своей неприкосновенной особой он воплощает Англию. Вот потому я монархист.
Тут я кончил и благополучно убрался с этого митинга при помощи хитрости, сказав, что здесь свобода обеспечена.
* * *
Вот другой митинг в помещении. Говорил Родзянко. «Девять пудов весу, — как говорил Пуришкевич, — из которых четыре приходятся на живот». Ростом на голову выше всех людей. И с таким голосом, как у Головы в опере «Руслан и Людмила». Этот голос изображают двенадцать певцов-хористов, поющих в унисон. Понять, что они поют, нельзя. Но Родзянко очень хорошо можно было понимать. Он говорил на митинге и призывал спасти Россию.
Вдруг выскочил матрос с винтовкой и бросился к нему. Быть может, он хотел проколоть живот в четыре пуда штыком. Но нет, он только пронзительно заорал:
— Спасать Россию хочешь? Спасай! У тебя есть что спасать. В Екатеринославской губернии и других тысячи и тысячи десятин земли. А мне что спасать, коли у меня ничего нет?
Родзянко нашелся и ответил голосом Головы:
— Рубашку снимите, Россию спасите.
Р.С., Р.С. с той поры стало символом.
* * *
Почти в это же время я говорил на другом митинге не столь вразумительно, как Родзянко, но то же самое.
Обращаясь ко всем социалистам вообще, я сказал:
— Я знаю, что вы нас разденете, т. е. лиц имущих. Если этой ценою вы спасете Россию, раздевайте, плакать не будем.
Ответ на эти слова я узнал через много-много лет, будучи в тюрьме. Ответ дал Ленин в статье, появившейся в «Правде»:
— Пожалуйста, не запугивайте нас, господин Шульгин. Если даже мы придем к власти, то мы вас не разденем. Наоборот, мы дадим вам хорошее платье, достаточный стол, под условием работы, к которой Вы будете совершенно подготовлены
10.
Исполнил ли Ленин свое обещание, когда пришел к власти? Нет, не успел. Он умер. Но его преемники не забыли его слов, и когда после двенадцати лет заключения меня выпустили из тюрьмы, то дали мне пенсию, а значит, платье, стол и еще квартиру.
* * *
Я не только писал передовые для «Киевлянина» и выступал на митингах. Я сказал большую речь на торжественном заседании четырех государственных дум 27 апреля 1917 года. Об этом в книге Д. О. Заславского и В. А. Канторовича «Хроника Февральской революции» пишется следующее:
«Торжественное собрание четырех дум в честь одиннадцатилетней годовщины происходило 27 апреля в Таврическом дворце. Первую программную речь произнес председательствующий Родзянко <…>. Три темы служили предметом выступления думцев: победа, анархия, власть. В разнообразных сочетаниях они занимали каждого оратора. И если некоторые из них меньше останавливались на первой теме, то почти все без исключения затратили огромный запас красноречия и пафоса, чтобы очертить рост анархии и бессилие власти. Лучше всех справился с этой задачей Шульгин. Он сделал эффектный жест в сторону революции, признав, что даже правым и умеренным группам от нее не отречься. “Мы с ней связаны, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность”. Эти слова очень скоро утонули в океане сомнений, которые и составили смысл его речи. Он охарактеризовал распад армии, пропаганду большевиков, бессилие правительства, ядовито бросал намеки на измену, предостерегающе говорил о происках сторонников сепаратного мира, иронически отзывался о контроле над Временным правительством, — словом, — в острой, как клинок, речи выразил идеологию той части общества, которая уже давно развенчала революцию, а теперь испытывала смешанное чувство страха и вражды»
11.
* * *
К словам Заславского и Канторовича я могу сейчас прибавить кое-что сохранившееся в моей памяти в отношении слова «измена». И вот что я сказал тогда:
— С этой самой кафедры несколько месяцев тому назад член Государственной Думы Милюков говорил о разных неполадках, творившихся тогда в связи с войной, и, приводя их, по поводу каждого факта спрашивал: «А это что, глупость или измена?» Сейчас я, подражая Милюкову, использую его прием, его риторический вопрос. Я почти каждый день, идучи в Таврический дворец, прохожу мимо так называемого особняка Кшесинской. Там с балкона непрерывно говорятся речи. В речах этих, поучающих толпу, сгрудившуюся вокруг веранды, требуется то или другое, а в особенности требуется мир. Эти призывы к миру в то время, как на фронте идет война, — это что же такое: глупость или измена? И я отвечаю: это не глупость!
Из этого следовало, что раз это не глупость, то значит измена. Но я этого не досказал, потому что с хоров раздался негодующий крик:
— Кто это говорит?!
Я сошел с кафедры, и все. После меня на трибуну взошел Церетели. Вот как охарактеризовали его речь Заславский и Канторович в своей книге:
«Подобно тому, как Шульгин выразил чаяния и опасения буржуазной России, Церетели не менее ярко осветил позицию революционной демократии. Это была первая дуэль двух классовых антагонистов, встретившихся у политического барьера в дни, когда уже обозначился кризис государственной власти. Церетели обвинял своего противника в том, что он вызывает вражду не только против “Петроградской стороны”, где находилась цитадель большевиков — дворец Кшесинской, но и “против органа, олицетворяющего российскую революцию — против Совета рабочих и солдатских депутатов, который стоит за контроль действий Временного правительства”; он упрекал Шульгина в отождествлении им союзных демократий с империалистическими кругами Европы и в искажении смысла и целей войны <…> он с негодованием отверг нападки Шульгина на революцию, благодаря которой армия якобы вступила на путь разложения… Увлеченный полемикой и не желая оставлять в руках Шульгина ни одного уцелевшего аргумента, Церетели вынужден был идеализировать Временное правительство, главным образом для того, чтобы изолировать Шульгина и его единомышленников как представителей такой части цензовой общественности, с которой, не в пример Временному правительству, нет общего языка у революционной демократии. Логика толкала Церетели в сторону другой крайности: он до известной степени оправдывал точку зрения Ленина и признавал неизбежность рабоче-крестьянской диктатуры на тот случай, если “буржуазия (следуя по стопам Шульгина), окажется неспособной понять общегосударственные задачи”. Дуэль подходила к концу <…>. Хотя поле поединка осталось за Церетели, но удар Шульгина был достаточно метким. Буржуазная печать имела основание утверждать, что все социалисты одним миром мазаны и что большевики последовательнее других развивают основные положения революции и открыто высказывают то, что молчаливо признает оппортунистически настроенное большинство Исполнительного комитета»
12.
На этом же заседании впечатляющую речь сказал Ф. И. Родичев. Необходимо сказать о нем несколько слов. Федор Измайлович был, можно сказать, столпом русского либерализма. Во имя свободолюбия он добровольно отправился на Балканы в 1877 году во время русско-турецкой войны. Затем он много работал в земстве и был известен своим свободомыслием. Он был членом всех четырех Дум. И он, как никто, мог подвести общий итог деятельности Государственной Думы.
Каков же был этот итог?
Родичев обращался к какому-то безликому существу, которому он говорил просто «вы». Что же совершали эти «вы», по мнению Родичева, весною 1917 года?
— Вы хороните свободу. Ту свободу, которой добивалась и добилась бесконечными жертвами Россия. То, что вы делаете, непременно вызовет возвращение к деспотизму.
Тут его речь перекликалась с истерическим заявлением Керенского о «взбунтовавшихся рабах»
13. Конечно, так. Что могли дать рабы, кроме рабства?
Родичев как бы был рожден для такого трагического выступления, которым он и закончил свою жизнь. (Он вскоре умер.) Это была не речь, а некий монолог, брошенный на могилу свободы. Он кричал, надрываясь, высокий, худой, и костлявым указательным пальцем все время тыкал вперед в какое-то страшное будущее.
Эта речь произвела незабываемое впечатление, потому что то, что предсказывал этот перст указующий, сбылось. Не напрасно говорил Церетели о том, что если армия будет бороться за свободу хуже, чем она боролась за тиранию, то на России надо поставить крест. Действительно, последующие события: позорное бегство русской армии с фронта, ужасы Калуша, которые при этом произошли
14, показали, что Церетели не ошибся. Армии уже не было, она превратилась в разбойников. Таким образом, Родичев и Церетели, подходя с совершенно разных сторон, оказались согласными в своих мрачных пророчествах.
* * *
С начала Февральской революции произошли всякие перемены, важные и неважные. Например, город наводнили цыгане. Они прежде были в Новой Деревне, но это были цыганки-аристократки, такие, как Варя Панина, солнечная знаменитость. Женщина крайнего безобразия, с голосом совершенно исключительным, почти мужским. Она и пела такие вещи, как «Я вам не говорю про тайные страданья…». Но, очевидно, около этих знаменитостей ютились и обыкновенные цыганки.
Я как-то шел через Летний сад и вдруг увидел разодетых в свои пестрые наряды цыганок, которые нападали на прохожих и предлагали погадать по руке. На меня напала девочка лет восьми. Она завела меня за толстое дерево и спросила:
— Как тебя зовут?
Это уже было не смешно, что такая малютка со мной обращается повелительно. Я сказал:
— Ну, как меня зовут, Василий Витальевич, Вася!
Она заговорила торжественно:
— Слушай, Вася, что я тебе скажу. Тебя многие любят и будут любить. Но так, как я тебя люблю, тебя уже больше никто не будет любить.
Тут я уже больше не выдержал и стал смеяться, но она осталась серьезной и торжественной. Я дал ей рубль, и она, не поблагодарив, ушла ловить других.
* * *
И еще я помню первое мая. Это было первый раз в истории Петербурга такое празднование первого мая. Кстати, был хороший солнечный день. Весь город высыпал на улицу. Весь город — это обозначало низы, которые, безусловно, и составляют громадную часть населения Петербурга. Мы с моей верной секретаршей сопричислили себя к низам и пошли, пошли. Можно сказать, что мы целый день провели на улице.
Толпа была изумительна. Они радовались солнцу на небе и солнцу свободы на земле.
Я не мог радоваться. Я с ужасом думал:
— Обреченные, ведь это последний день вашей радости.
Мне хотелось сказать по-латыни:
— Ave Caesar, morituri te salutant!
15
* * *
А между тем разразился Апрельский кризис Временного правительства.
Когда 6-го марта образовалось Временное правительство
16, казалось, что зияющая пустота, образовавшаяся после падения царского правительства, заполнена и власть существует. На самом деле образовалась не впасть, а двоевластие. Второй властью был Совет рабочих и солдатских депутатов. Эта вторая власть настойчиво и упорно, пользуясь всеми способами, стремилась стать первой и единственной властью, столкнув Временное правительство.
Происходило любопытное объединение обеих сторон. Обе стороны говорили о полноте власти. Между этими обеими сторонами, мечтающими об одном, были соглашатели-эсеры и меньшевики. Временно они взяли верх в Совете, и считалось, что кризис ликвидирован. Но он был только загнан вовнутрь и вскоре вырвался на поверхность. Это явственно обнаружилось во второй половине апреля.
18 апреля была опубликована нота министра иностранных дел Милюкова, в которой он заверял союзников в соблюдении обязательств, принятых Россией в отношении союзников:
«…заявления Временного правительства, разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого <…>. Само собой разумеется <…> Временное правительство, ограждая права нашей родины, будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников»
17.
Последовали бурные демонстрации рабочих и солдат, вышедших на улицу с лозунгами «Долой Милюкова!» и «Долой Временное правительство!»
2-го мая Милюков и Гучков подали в отставку
18.
Представители Временного правительства непрерывно проводили переговоры как с Исполнительным комитетом Советов, так и с Временным комитетом Государственной Думы, стараясь найти выход из кризиса.
В этот раз я опять окунулся в политику. И как это ни странно, в роли соглашателя.
Как пишут Заславский и Канторович, Родзянко и я «выдвинули три основных пункта возможного соглашения с социалистическими партиями: 1) единый фронт с союзниками, 2) полное доверие Временному правительству в новом составе и 3) полновластие… Члены Временного правительства согласились с такой постановкой вопроса»
19.
Настаивать-то мы настаивали, но не настояли. Полноты власти не получилось, а наоборот, назрел новый кризис в июне.
Стремясь выйти из этого кризиса, Временное правительство подготовило наступление на Юго-Западном фронте, в котором участвовали 11-я, 7-я и 8-я русские армии. Они прорвали оборону противника и имели некоторый успех. Но наступление скоро выдохлось и превратилось в отступление под ударами австро-германских войск. Причем было потеряно около 60 тыс. человек
20.
И не могло быть иначе, если принять во внимание, что идея демократизации глубоко разъела умы бойцов.
В силу этой идеи всё совершающееся должно было быть санкционировано всеобщим голосованием.
Гораздо позже я прочел в немецких газетах описание этих «демократизированных» боев. Немецкие офицеры, которые наблюдали эти сцены в бинокли, рассказывали:
— Русские перешли в наступление. Мы встретили их огнем пулеметов, но они все же продвигались, правильно применяя прием перебежек. Они вставали, бежали вперед и ложились опять. Несомненно, это были герои, которых пулеметы не могли остановить. Однако перебежки совершались (это было ясно видно в бинокли) только после того, как лежавшие поднимали вверх руки. Мы поняли, наконец, что происходит. Несчастные голосовали перебежки. Если на данном участке большинство поднимало руки, они вскакивали и бежали вперед. Каждый офицер понимал, что так долго продолжаться не может. Наступление под пулеметами может совершиться только в порядке некоего порыва, а не холодным подсчетом голосов. Поэтому голосование скоро прекратилось и русские герои снова побежали, но уже в обратном направлении, устилая поле трупами.
* * *
Эти маленькие картины иллюстрируют грандиозную неудачу. Конечно, июньское наступление не могло разрешить правительственный кризис.
В июле кризис возобновился в другой форме. Опять было наступление, но на этот раз наступали части Петербургского гарнизона, расположенные на правой стороне Невы, где была цитадель большевиков.
* * *
Я видел это наступление. Они шли по Литейному мосту, четыре в ряд, с винтовками в руках. Шли матросы и не матросы, солдаты и даже люди в штатском, очевидно, рабочие. Шли решительно, но спокойно. Колонна эта протянулась далеко через мост и за мост.
Я стоял у моста и наблюдал их. Затем я не помню, что случилось. Я отошел от моста и видел, как по Литейному проспекту мчались всадники, а затем и кони без всадников. Трещали ружейные выстрелы, и затем все смолкло.
Очевидно, заречное наступление не удалось. 9-й, как мне кажется, драгунский полк в конном строю смял пехоту
21.
* * *
После июльских дней я понял, что мне в Петербурге делать нечего, а в Киеве мое присутствие могло быть полезнее.
Передовые, посылаемые мною по телеграфу, делали свое дело, и читатели «Киевлянина» твердо встали на дорогу борьбы с революцией.
Припоминаю, что в это время киевская молодежь решила устроить демонстрацию верности союзникам, а также трехцветному русскому национальному флагу в противоположность красному флагу. Французский национальный флаг тоже трехцветный, тех же цветов, но расположенных в другом порядке. Вот с этими трехцветными французскими флагами и флажками и вышли на улицу юные киевские политики.
В общем, демонстрация вышла внушительной, потому что в Киеве было около двадцати средних учебных заведений. Главным образом это были гимназии, как казенные, так и частные, реальные училища, коммерческие училища и кадетский корпус. Считая, что в каждом училище было по семь-восемь классов, она имела внушительный вид. Никаких плакатов не было. Многолюдные толпы киевлян приветствовали эту демонстрацию. Хмуро смотрели солдаты, отставные, запасные, в общем, все то, что дезертировало с фронта. Однако не трогали молодежь. Драка вышла только с кадетами, потому что они подняли над собой желто-черные флажки, т. е. романовские. Но тут вмешалась полиция и заступилась за кадетов.
Одним словом, манифестация прошла мирно и весьма удачно. Конечно, вся эта молодежь так или иначе тянулась к «Киевлянину»
22. Моя сестра, которая вместе с моей первой женой Екатериной Григорьевной вела «Киевлянин» в эти бурные дни, настойчиво звала меня вернуться в Киев и шутливо мне писала: «Явись народу!»
* * *
Итак, надо было ехать, но это не так легко можно было осуществить.
Ехать так ехать. Это значило уехать совсем и навсегда.
Я жил в меблированной квартире, поэтому не мебель меня затрудняла. Но у меня накопилось достаточно бумаг — стенографические отчеты Государственной Думы и другие документы.
Петр Бернгардович Струве оставался пока что в Петербурге. Я ему подкинул эту литературу, а что с ней случилось позже, не знаю.
Однако без мебели и литературы у меня все-таки оказалось около двадцати чемоданов и некоторых других предметов. Например, большая икона в тяжелой раме, запакованная в ящик.
С этим всем возились моя секретарша и мой старший сын, только что окончивший гимназию в Киеве и приехавший ко мне. Он захотел поступить в морское училище и был принят, но пока что был свободен.
Кроме того, у меня было неблагополучно с деньгами. Все, что я имел, было истрачено, и даже было не на что взять билет. Затем я до последней минуты бегал по всяким делам. Но, наконец, вырвался и очутился на площади перед вокзалом.
Вокзал был окружен огромной толпой солдат-дезертиров, стремившихся уехать к себе на родину. Полуоборванные и голодные, они рады были заработать хоть копейку. Я наблюдал эту несчастную толпу, поджидая своих. Стрелки вокзальных часов неумолимо двигались.
Я не знал, что делать. Наконец, я увидел сына и Дарью Васильевну, мою секретаршу. Она совсем была не Дарья и не Васильевна, но так ей было удобнее
23. Они шли вдвоем, а за ними тянулась лошадиная подвода, так называемая телега, на которой грудой были навалены мои чемоданы и икона в ящике. Вот это надо было погрузить в вагон, прорвав тысячную толпу. Но я в это время был Цезарь, Наполеон, Колумб и сразу нашел решение. Обратившись к дезертирам, громогласно возопил:
— Десять носильщиков! Заплачу хорошо.
Через мгновение они выстроились передо мной. Я указал им на телегу с вещами, и они расхватали их. Это было нечто вроде фаланги Макензена. Но дело было в том, что я не знал ни поезда, ни вагона, в котором я поеду. Знал это Демченко Всеволод Яковлевич, член Государственной Думы от Киевской губернии, был человеком удивительной энергии и распорядительности. Его я тоже поджидал на панели, так как с ним должен был ехать и, кроме того, у меня не было ни копейки денег, а у него деньги были.
Забегая вперед, скажу, что тут, на мостовой, Демченко и Дарья Васильевна познакомились. А через несколько лет в Румынии, в городе Яссы, в больнице, где я лежал больной испанкой, а Дарья Васильевна умирала, Демченко деликатно тихонько сказал мне:
— Знаете, она, конечно, выздоровеет, но все-таки причащение ей поможет.
И ее причастили, и Демченко больше ее никогда не увидел.
* * *
«Фаланга Макензена» прорезала фронт и выстроилась с вещами против вагона с целыми стеклами и с темно-синими занавесками внутри. Это был единственный вагон с целыми стеклами. Все остальные были разбиты. В этом вагоне ехал в Киев какой-то большой железнодорожник. Это был вагон-салон с удобными купе. Он уцелел потому, что были предприняты особые меры. Из массы дезертиров набрали дружину для охраны вагона, обещая им, что их в нем повезут. Они свято исполнили свои обязательства. Приняли вещи, впустили нас и затем заполнили своими телами входы в вагон, так, что другие дезертиры, буянившие на платформе, не могли в него проникнуть.
Хозяин вагона любезно предоставил нам отдельные купе, а в салоне приготовляли прекрасный завтрак и даже подавали икру.
Соображающие люди могут устраиваться при всяких обстоятельствах. Разделяй и властвуй.
И поезд пошел. Среди вещей оказался и ящик с цитрой, на которой играла Дарья Васильевна, скромно, тихонько, но мелодично.
* * *
Ехали долго, но приехали. Началась новая страница этой бурной жизни.
Глава II
КИЕВ В 1917 ГОДУ
Газета «Киевлянин» имела разное влияние и значение в разное время. В года глухие она была почтенная профессорская газета, не делавшая шума. В года бурные она возвышала свой голос до такой степени, что он покрывал рев бури. А иногда «Киевлянин» звучал один на всю империю. Это было в 1905 году, во время «всеобщей политической забастовки», организованной Хрусталевым-Носарем, очень выдающимся человеком. Во время этой всеобщей забастовки «Киевлянин» не забастовал и вышел со статьей, призывающей людей к благоразумию. Статья была очень звучная и добежала до Петербурга. Кроме того, его редактор, мой отчим, телеграфировал Витте о том, что, по его мнению, надо сделать, и просил доложить об этом царю. Витте ответил, что в телеграмме много верного, но все же в Киеве многого не знают. Эту телеграмму украли на телеграфе, и поэтому она появилась в разных газетах
24.
Витте путем уступок революционерам думал выйти из трудного положения. Но он их плохо знал. Манифест 17 октября окрылил их и побудил к весьма решительным действиям и демонстрациям. То, что делалось в Киеве после Манифеста 17 октября, описано в моей книге «Дни»
25. Это было ликование евреев и наглые оскорбления чувств русских патриотов. Это вызвало еврейский погром. Но так чувствовали не только в Киеве. Еврейские погромы вспыхнули почти одновременно по всей России, в шестистах городах и городках. Погромы эти совместно с разгромами революционеров в Москве и других местах при помощи войск покончили с первой революцией, вызвав реакцию.
«Киевлянин» был против еврейских погромов. В то время как я боролся с ними с оружием в руках (я был тогда на военной службе), мой отчим призывал на страницах «Киевлянина» вспомнить о том, что евреи — наши сограждане и что подавляющее большинство их совершенно не повинно в безумии поддавшихся революционным течениям интеллигентных евреев. И дальше, в течение 1905–1906 года, «Киевлянин» говорил громко. Передовые статьи были выпущены отдельной книгой под заглавием «В осаде»
26.
* * *
Все это кончилось тем, что мой отчим Д. И. Пихно был назначен членом Государственного Совета и потому, естественно, роль «Киевлянина» как бы закончилась. Киевское мировоззрение перенесено было на север. С другой стороны, и я в это же время был избран в Государственную Думу второго созыва и тоже стал северянином.
Но с начала Февральской революции «Киевлянин» опять заговорил громко. Настолько громко, что в июле 1917 года мне пришлось вернуться в Киев и стать южанином, для того чтобы реализовать громкие статьи «Киевлянина», то есть участвовать в выборах по «четыреххвостке» (всеобщая, тайная, равная, прямая подача голосов).
* * *
Через несколько дней после моего приезда в Киев было назначено нечто вроде предвыборного собрания в городскую Думу. Оно состоялось в лучшем зале Киева, носившем название Купеческого собрания. Никогда никаких купцов там не собиралось, но все концерты приезжих знаменитостей, равно как и политические собрания большого значения, происходили именно в этом зале с белыми колоннами.
К назначенному времени я скромненько поехал на извозчике. Приблизившись к Купеческому собранию, я увидел, что проникнуть в него невозможно. Площадь запрудила огромная толпа, и до такой степени, что трамвай встал. Я не знал, что делать. Но, по счастью, меня узнали в толпе, и несколько студентов и другой молодежи помогли мне пройти в зал заседаний.
* * *
Я совершенно не помню, о чем я говорил. Да это и не важно. Важны те овации, с которыми меня встретили. Ничего подобного я до той поры не испытал. «Явление народу» превзошло все ожидания.
Приехав домой, я смеялся и говорил сквозь слезы: «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте, спасибо сердечное скажет вам русский народ»
27.
Конечно, Некрасов не думал, что это будет тот народ, который раскусил революцию.
* * *
И вот пошла день за днем борьба за выборы в городскую думу по этой «четыреххвостке». Надо было избрать в городскую думу сто пятьдесят гласных. Из них нам удалось избрать пятнадцать человек, то есть десятую часть. Поляки тоже что-то в этом роде. Украинцы, кажется, двенадцать. Все остальное было заполнено социалистами разных мастей
28.
Большевики провели семь гласных, из них четырех каких-то совершенно неизвестных и ничем себя не проявивших и в городской думе
29. Три остальных проявили себя. Была среди них одна учительница, молодая и толковая, но в думе не выступала. Потом был Гинзбург, еврей, сын богатого сахарозаводчика
30. И, наконец, седьмым был Пятаков, тоже сын богатого сахарозаводчика
31. Судьба этого Георгия Пятакова переплелась с историей нашей семьи, о чем будет сказано позже. Впоследствии он стал народным комиссаром (министром) и был расстрелян при Сталине.
Таким образом, эти три киевских большевика в общем оказались шульгинистами, что будет ясно из последующего.
* * *
Из деятельности городской думы в этот период интересно одно трагикомическое заседание. Комическим оно показалось некоторым после того как кончилось, а пока оно длилось, было грозным.
В это время возникли какие-то конфликты у городской думы с какими-то запасными. Дума была обязана их обеспечивать, но она чего-то им недодавала. И главный вопрос встал о дровах, хотя еще в них особой надобности не было. Словом, в тот вечер, когда должно было разбираться это дело, городскую думу со всех сторон окружила огромная толпа запасных
32. Внутри этого кольца запасных, уже довольно накаленных, было второе кольцо из жен запасных, находившихся в явно истерическом состоянии. Они так окружили думу, которая стояла на открытой площади, что выхода не было, убежать было тоже нельзя.
Женщины, пробравшись в само здание думы, нашли председателя городской управы и избили его. Затем они пробрались в зал заседаний на хоры, потом спустились ниже и заняли кресла рядом с гласными, прервав заседание. Одна молодая, красивая, яростная встала и занялась речью, совершенно истерической, которую запомнить нельзя было, и исполненной угроз. Все же я запомнил слова, обращенные лично ко мне:
— Вот придем мы к вам, господин Шульгин, в ваши теплые квартиры, когда будет мороз. Посмотрите…
Я привстал и ответил:
— Пожалуйста, приходите. Если у меня будут дрова к тому времени, поделюсь с вами.
Но тут силы ей изменили. Она зарыдала и упала на пол. Остальные женщины подняли вой и закричали: «Вот до чего довели!»
Затем часть из них побежала к нам, пятнадцати гласным, чем-то им особенно досадившим. Мы сидели спокойно, хотя и побледнели. Не драться же с женщинами. Впрочем, они, погрозив нам кулаками, тоже расплакались и смылись. Быть может, потому, что полиция наконец справилась с запасными и их женами и высвободила городскую думу.
* * *
Рассказав о выборах в городскую думу в Киеве, я хочу заодно вспомнить и выборы в Учредительное собрание, уже не от города Киева, а от Киевской губернии.
Мы приняли участие в этих выборах. Был составлен список кандидатов, который начинался с меня. Вторым был Петр Бернгардович Струве. Хотя он никогда не был киевлянином, но по тогдашнему закону о выборах в Учредительное собрание, которое почиталось Всероссийским, могли избираться люди независимо от их места жительства. Так и меня ввели в список где-то в Сибири, должно быть, там, где произвела впечатление моя телеграфная статья от 6 марта, начинавшаяся словами: «Цари ушли…».
Что же касается Струве, то бывший соратник Ленина и идеолог марксизма, ученый, разочаровавшийся и в Карле Марксе, и в Ленине, был известной фигурой во всей России.
Тем не менее нам не удалось собрать по Киевской губернии достаточное количество голосов
33. У нас не было в селах и в деревнях агитаторов и организаторов. Украинцы же кое-кого имели в виде сельских учителей и сыновей некоторых батюшек. Главный пункт в агитации националистов излагался так: «Будет наделение землей украинцев. А кто не украинец, тот геть на Московину». После этого в селах стали говорить: «Настала какая-то Вкраина. Треба до ии пристоваты, бо землю дают».
Однако несколько волостей сплошь голосовали за восьмой номер, что «за царя». Кто же они были? Это любопытно. Это была так называемая околичная шляхта — дворяне, потерявшие дворянство и по своему быту превратившиеся в крестьян, и причем в бедных крестьян. Но они имели славное прошлое. Не покорились католикам, несмотря на все преследования. При этом целые села носили одну и ту же фамилию: Соколовские, Бехи и многие другие. Вот эти и голосовали за царя. Но они оказались в меньшинстве. А жили они преимущественно по лесам, питались охотой.
Итак, Соколовские, Бехи и другие не смогли послать меня в Учредительное собрание. Но они продолжали бороться, притом мерами весьма крутыми, о чем будет ниже сказано.
* * *
Теперь перехожу к выборам в Украинское Учредительное собрание. При этих выборах должен был быть избран отдельный представитель от города Киева. И в этих выборах мы приняли участие.
Тут жестокими врагами явились опять же украинцы. За это время произошла в Киеве народная перепись, показавшая национальный состав киевского населения. Оказалось поляков 10 процентов, украинцев 12, малороссов 4, русских 54, евреев 17 и 3 процента под рубрикой прочих
34.
Вот эти 12 процентов украинцев энергично боролись с нами. Мы печатали прокламации как на русском, так и на малороссийском языках. Последние писал молодой Грушевский, племянник старого Михаила Грушевского, автора капитального исторического труда «Украина — Русь». Как ученый он, конечно, не мог не признавать, что сначала была Русь, а потом Украина. Но все же он был завзятый украинец, в свое время получавший большие деньги за пропаганду сначала от Австрии, затем от Германии.
* * *
Тут своевременно рассказать вкратце историю украинофильства.
Слово «Украина» в летописи Нестора употребляется только два раза. И в смысле пограничия, от слова «у края». Говорится, что когда умер такой-то князь, то Украина по нем очень стонала, ибо он защищал ее от набегов. Затем обозначение «Украина» было весьма разнообразно. Была польская Украина, была литовская Украина, была сибирская Украина, словом, Украиной назывались все границы Московского государства.
Тургенев свою повесть «Бригадир» начинает так: «На южнорусской Украине проживал такой-то…»
35. Тургеневская южнорусская Украина — это та полоса, из которой вышли многие писатели, то есть это средняя Россия.
Поляки употребляли слово «Украина» вместе со словом «кресы», что значит «пограничие». А писатель начала XVII века Потоцкий, написавший на латинском сочинение «De bello cosacorum»
[27], пишет: «Ukraina quasi provincia ad finem regni interposita»
[28].
Таково настоящее значение слова «Украина». Украинцем можно назвать каждого, кто живет близко к границе, но украинство не может быть национальностью, народом. Народы — это русский, польский и т. д.
Однако лукавое пользование этим термином началось очень давно. После раздела Польши при Екатерине II поляки писали, что у мертвых растут ногти, «мы отомстим России тем, что создадим народ, который будет не русским и не польским, но он будет враждебен России, и это будут когти мертвецов».
Украиноманию в качестве орудия против России подхватили австрийцы, но они боролись малокровно. Дело стало гораздо серьезнее, когда за него взялась Германия. Что это было именно так, подтверждается следующим.
* * *
Был некто Бутович, из малороссийской аристократии. Его предок подписал Переяславскую раду 1654 года. Бутович был молодым красивым человеком, стоявшим на хорошей дороге. Он был инспектором народных училищ. Должность, которую занимали молодые люди, не нуждавшиеся в средствах, но желавшие изучить свой край. Бутович был богатым помещиком. Он влюбился в бедную девушку, получавшую 25 рублей в качестве машинистки. Она его не любила, но была честолюбива и вышла за него замуж. Видимо, она умела привлекать сердца, потому что закружила голову уже немолодому генералу Сухомлинову, киевскому генерал-губернатору и командующему войсками Киевского военного округа. Назревал развод, но Бутович отказал. Когда я впоследствии спрашивал его, почему он так поступил, он сказал:
— Если бы Сухомлинов вел себя прилично, я бы дал развод, несмотря на то, что у нас есть сын. Но он стал мне угрожать. Бутовичам не угрожают. Мой предок подписал Переяславскую раду.
* * *
В общем, из этого вышел всероссийский скандал, который даже перебросился за границу. Об этом я сейчас не буду рассказывать.
* * *
Летом 1917 года Бутович пришел ко мне и сказал:
— В свое время, когда я собирался ехать во Львов, тогдашний киевский генерал-губернатор Трепов сказал мне: «Не можете ли вы взять на себя очень деликатную миссию? Львовский профессор Михайло Грушевский ведет против нас острую пропаганду. Нельзя ли его купить?» Это было мне очень неприятно, но я согласился и, приехав во Львов, познакомился с Грушевским. Через некоторое время намекнул ему, что он мог бы получить большие деньги при известных обстоятельствах. Он сразу меня понял и ответил: «Вы не можете мне дать столько, сколько я имею от…» Я спросил: «От Австрии?» Он сказал: «Нет, от Германии».
* * *
Итак, молодой Грушевский писал прокламации от лица нашей партии в «Киевлянине», а кроме того, его творения расклеивались по стенам, как это было тогда принято. Это вывело украинствующих из равновесия. И они расклеили ответ по всем заборам. Там было написано: «Брешут воны, собачьи головы! Вбоги на голову прохфессоры, грубый солдафон Деникин, Василий Шульгин та други черносотенцы замыслили…»
36.
Тут память мне изменяет. Что такое мы замыслили? Очевидно, что-то «скосовать», то есть уничтожить. Пожалуй, их так раздражило то обстоятельство, что «грубый солдафон Деникин» выпустил своего рода манифест, обращенный к малороссийскому народу. Этот манифест писал я. В нем объявлялся государственным языком язык русский, «созданный вековыми усилиями Киева, Москвы и Петрограда». «Я запрещаю преследовать украинское наречие и тех, кто им пользуется»
37. Этим я исправлял былые ошибки царского правительства и выдергивал из-под ног украинствующих доску, на которой они стояли.
Оттого-то и появились сочные слова «брешут воны, собачьи головы!» «Собачьи головы» имели необыкновенный успех. Я думаю, что благодаря им мы получили несколько тысяч лишних голосов в Украинское Учредительное собрание и вышли в Киеве на первое место.
Абсолютного большинства не получил никто. Я был избран относительным большинством, получив двадцать девять с половиной тысяч голосов
38.
* * *
Украинское Учредительное собрание так и не было собрано. Но если бы его собрали, то представителем от «матери городов русских», то есть столицы Украины Киева, был бы «черносотенец» Василий Шульгин, опиравшийся на «вбогих на голову прохфессорив».
* * *
В числе моих сотрудников в борьбе на выборах был Анатолий Иванович Савенко, давнишний сотрудник «Киевлянина», член Государственной Думы от Киевской губернии
39.
Если когда-нибудь мне что-либо удавалось в политике, которую, вообще говоря, я терпеть не мог, то это было благодаря тому, что я не требовал от своих друзей-помощников приятности, симпатичности. Бывали очаровательные люди на моем пути, но они потому и были очаровательны, что к политике не годились. А те, что подходили к политике, те по большей части были несносны как люди. Моя сестра Лина Витальевна, отличавшаяся от многих других женщин некоторой насмешливой справедливостью, говаривала:
— Много тебе грехов простится за то, что ты мог работать с Савенко.
Но я должен был с ним работать, потому что в политике он был человек ценный.
Несмотря на свой невозможный характер, он добился того, что все киевские общественные организации монархического крыла числом девятнадцать, яростно враждовавшие друг с другом, избрали меня общим своим руководителем. Объяснить это логическим путем было нельзя. Но это факт.
На выборах Анатолий Иванович агитировал, где только мог, писал статьи, неутомимый и чуткий. На вид он был высокий, полный, с сильным голосом и румянцем на щеках. И все это было обманчиво. Он был неврастеник. Такие противоречивые фигуры как раз и нужны в мутных струях политики. Я прощал ему многое, даже совершенно невозможные выпады против меня в прошлом, за то, что он делал сейчас.
* * *
Между прочим, в один прекрасный день он объявил мне:
— Вам совершенно необходимо познакомиться с Хрусталевым-Носарем, и он этого хочет.
— Каким образом, где и почему?
— У меня, конечно. Ведь мы с ним вместе окончили гимназию на Полтавщине. Он совсем не Хрустал ев, это кличка; он природный хохол — Носарь, по образованию инженер.
* * *
В 1905 году этот инженер организовал всероссийскую политическую забастовку. Это была его выдумка, и притом она не имела прецедентов на Западе. Прошла она технически блистательно. Забастовали железные дороги, почта, телеграф, государственные учреждения, вплоть до младших балерин императорских театров, ну, словом, все вообразимое и невообразимое. Полный паралич жизни. Я уже говорил о том, что все газеты забастовали, кроме «Киевлянина». В книге «Дни» объяснено, почему это могло быть
40.
Но затем забастовочные дни кончились, вызвавши, однако, Манифест 17 октября, пошли погромы и разгромы, местные восстания и местные подавления восстаний. Это кончилось тем, что образовавшийся Петербургский Совет рабочих депутатов был арестован и Хрусталев-Носарь привлечен к суду.
* * *
И вот, сидя у Савенко вечером за чайным столом, я слушал рассказ Хрусталева-Носаря, как его судили:
— Петербург был тогда объявлен на военном положении, и потому меня судил военный суд. Предъявлено мне было обвинение в подготовке вооруженного восстания, за что могла быть смертная казнь. Прокурор прочел обвинительный акт и поставил вопрос, признаю ли я себя виновным в подготовке вооруженного восстания. Я ответил, что не признаю. Прокурор сказал: «Но ведь вы были председателем Совета?» Я сказал, что да, Совет депутатов постановил начать вооруженное восстание, но посмотрите, кто подписал это заявление. Прокурор исполнил мое желание и сказал: «Подписал Троцкий». Это произвело большое впечатление. Прокурор спросил: «Значит, вы не подписывали?» — «Нет». — «Расскажите, почему и как это случилось». Я рассказал. Должен сказать, что Троцкий сделал это умышленно, так как он был на службе у департамента полиции. Властям, конечно, было выгодно расправиться со мною. Поэтому Троцкий в мое отсутствие провел это постановление о вооруженном восстании. Он иначе поступить не мог, так как прекрасно знал мое отношение к вооруженному восстанию. Я начисто отвергал этот способ борьбы. И изобрел всеобщую политическую забастовку как средство сильное, но мирное.
Хрусталев-Носарь отпил глоток чаю и продолжал:
— Надо отдать должное прокуратуре. Прокурор объявил, что он отказывается от обвинения против меня в подготовке вооруженного восстания и обвиняет меня теперь в организации всеобщей политической забастовки. За это деяние смертной казни не полагалось. Вот таким образом я выскочил тогда из петли. Затем нас вместе с Троцким отправили куда-то в Сибирь. Я имел возможность бежать, но Троцкий меня выдал, и тогда я не смог вырваться из заключения. Я сделал побег тайно от Троцкого и очутился в эмиграции.
* * *
Во время войны, примерно в 1916 году, было объявлено нечто вроде амнистии эмигрантам, находившимся за границей. Быть может, Хрусталев-Носарь не понял хорошо, а может быть, его в данном случае обманули, но, словом, когда он вернулся в Россию, посадили в тюрьму.
* * *
В первый раз я его увидел в февральские дни. Тогда Государственная Дума (Таврический дворец) была переполнена тысячами людей, среди которых продвигаться очень трудно. Я пробивался с трудом, и недалеко от меня таким же образом, расталкивая толпу, двигался Милюков.
Вдруг между Милюковым и мною вырос высокий человек растрепанного вида. Он, узнав Милюкова, стал кричать:
— Павел Николаевич, подойдите ко мне. Я восемь месяцев сидел в тюрьме. Ничего не знаю. Что происходит?
Они соединились, стали разговаривать, а я продолжал пробираться дальше. И вот только сейчас «соединился» с Хрусталевым-Носарем у Савенко.
* * *
Дальнейшая судьба Хрусталева-Носаря была такова. Осмотревшись, он убедился, что ему в Петербурге делать нечего. Он отправился на юг, но не на Полтавщину, а на Переяславщину, где он по самой что ни на есть «четыреххвостке» прошел в председатели Переяславского уездного земства. Там он снова развернул свои организаторские способности. Кругом шла анархия, а в Переяславском уезде был полный порядок. Начать с того, что население аккуратно платило все налоги. Власти функционировали, дороги чинились, больницы, школы и богадельни действовали. Словом, земство исполняло свои обязанности. Это чудо продолжалось бы и дальше. Но надвигались немцы. Хрусталев-Носарь не пожелал служить немцам и,
оставив земскую кассу, набитую деньгами, уехал.
* * *
Куда, не знаю. Однако мстительный Троцкий не забыл его. Хотя он и ушел в подполье, его разыскали и расстреляли. И его братьев тоже.
* * *
И вот, это уже было не в семнадцатом году, а в конце восемнадцатого, словом, «Киевлянин» опять выходил. Подсчитывая, кто за это время погиб, Савенко рассказал в «Киевлянине» о гибели Хрусталева-Носаря.
* * *
О судьбе же самого Анатолия Ивановича будет рассказано позже.
* * *
Несколько слов об экономическом положении в Киеве летом 1917 г. Все относительно, и потому я буду говорить о Киеве, сравнивая его с Петроградом.
В столице я голодал. Голодал уже в шестнадцатом году. Исчезли мука, сахар, варенье. В семнадцатом году стало хуже. Как известно, Февральская революция произошла тогда, когда три дня не было хлеба совсем. Мятеж начался в очередях. Послали казаков усмирить очереди. Казаки отказались разгонять людей, по три дня стоявших в очередях за хлебом. И вот с этого отказа казаков началась революция. Власти уже больше не было.
Таким образом, после начала Февральской революции я стал голодать еще сильнее. Но Родзянко продолжал собирать у себя на дому некоторых членов Государственной Думы, вызывая их по телефону. При этом он прибавлял:
— Получите чай и черный хлеб с солью.
И присылал карету.
С началом революции не знали, что делать с придворными каретами, и с лошадьми, и с кучерами. И отдали их Родзянко. Он ими и пользовался для созыва совещаний. Конечно, обессиленным голодом сановникам было очень приятно ехать, а не идти пешком. Ас другой стороны, удивительно неприятно. «Цари ушли», а кареты остались. И мы даже не могли кричать, как Чацкий: «Карету мне, карету!»
* * *
Когда я переехал в Киев, положение в этом смысле переменилось. В моем домике на улице Караваевской, № 5 мне подавали скромный стол, но я не голодал.
И более того, по утрам я обыкновенно диктовал статьи для «Киевлянина» в Николаевском парке, который в двух шагах от моего дома. Там был бассейн, обведенный морскими раковинами, изображавшими Черное и Азовское моря. Был там в мирное время фонтан, сейчас воды не было. Но рядом с морями стояла деревянная ротонда, с открытой верандой. На этой веранде я диктовал будущей Дарье Васильевне статьи для «Киевлянина», так сказать, на берегу Черного моря. Очевидно, у меня было предчувствие, что скоро я там найду приют. И вот тут, для того, чтобы поддержать ее силы, я угощал ее кофе, не могу сказать, что со сливками, но, во всяком случае, с молоком.
Так что на фронте питание было терпимо.
* * *
Этого никак нельзя сказать про обувь. Обувь у всех поизносилась и изорвалась. Поэтому, когда магазин «Скороход» объявил продажу обуви, люди бросились к нему. Образовалась до той поры не виданная очередь. Она начиналась у магазина, который где-то был на Крещатике, поднималась по Бибиковскому бульвару до Николаевского парка и обвивала ограду этого сада кольцами в несколько рядов. Там стояли по несколько суток, сменяя друг друга. Это было ужасно. Но стояли терпеливо, отлично понимая, что не на кого яриться. «Скороход» являлся благодетелем. А кого же винить?
Очереди стояли и по вечерам, и по ночам. Начинавшие чуточку желтеть каштаны тихо шелестели.
В середине, внутри парка, с наступлением темноты собирались толпы народа. Но выражение «толпы» неправильное. Толпа стоит. А эти люди теснились на бесчисленных скамьях. Часть из них были люди из очереди, которые отдыхали здесь, оставив смену в очереди, другие были просто любовными парочками. В темноте они обнимались, целовались.
* * *
Я получил записку, написанную довольно грамотно. Меня приглашали на такой-то день в девять часов вечера прийти в этот самый Николаевский парк. Причем довольно точно указывалась скамья.
Надо думать, что я не пошел бы на такое рискованное свидание в темноте. У меня было много друзей, но и немало врагов. Но записка была подписана: «Ваша Маруся Крук».
Крук. Зловещая птица. Это не ворона, а ворон, названный «крук» в силу звукоподражания. Однако зловещая фамилия совершенно меня успокоила. Крук был многолетний преданный наш слуга.
В Петербурге мы жили до 1913 года вчетвером. Мой отчим Дмитрий Иванович, член Государственного Совета, шестидесяти лет, В. В. Шульгин, член Государственной Думы, тридцати пяти лет, племянник последнего Филипп, двадцати семи лет, и брат Филиппа Саша, младше его.
Филипп был обещающий скульптор, впоследствии расстрелянный в 1920 году одесскими чекистами. Саша кончал Петербургский университет, собираясь быть агрономом. Он, будучи офицером, был убит в Югославии в 1940 году женщиной при загадочных обстоятельствах
41. А Назар Крук был официально лакеем; но на самом деле больше, чем лакеем, преданным нашей семье человеком, возрастом около пятидесяти лет. Маруся была его жена, гораздо моложе его, хорошенькая и бойкая, тоже киевлянка. Она была у нас горничной и кухаркой.
* * *
Она мне живо припомнилась. Я редко оставался дома по утрам. Но однажды случилось, что я не ушел, а все остальные, кроме Назара, разошлись по своим делам. Маруся пришла в мой кабинет. На этот раз она имела вид французской субретки. Белый кокетливый фартучек и в руках метелка из перьев. Сметая ею пыль с кресел, она вдруг разразилась замечанием, которое я сначала не понял:
— И чего она передо мной куражится? Ведь она такая же горничная, как и я. И я могла бы быть мадам Фальц-Фейн.
Тут я кое-что понял. Член Государственной Думы Фальц-Фейн жил выше нас в том же доме на Таврической улице. Фальц-Фейны были очень богаты. Его дед прибыл из Германии в Таврию простым колонистом. Ему дали, как тогда полагалось, десятин десять земли. Но он, умный и работолюбивый, разбогател, сказочно разбогател. И, видно, человек был с фантазией. Он устроил в Таврии огромный заповедник, в котором водились всякие звери, подходящие по климату, вплоть до страусов.
Значительно позднее я познакомился с одним человеком, который бродил в этих местах, очень голодал, пока не напал на яйца страусов.
Этот заповедник назывался Аскания-Нова. Разумеется, революция все это разрушила. Но во времена Государственной Думы все это еще функционировало, хотя дед Фальц-Фейна давно умер.
В Государственной Думе он ничем не выделялся и, насколько помню, никогда не выступал, работал в комиссиях. Он действительно женился на горничной, и поэтому Маруся Крук и злословила на ее счет.
— Да, я была бы госпожа Фальц-Фейн. Но я кое-чему научилась. А она ничему. Как была горничная, так и осталась ею.
Тут я вставил первое слово:
— Что же она такое делает?
— А вот у них собираются гости. Почему не собраться — они богаты. И гости мадам Фальц-Фейн целуют ручку. А она им говорит: «Мерси-с».
Я рассмеялся.
— А если кто из членов Государственной Думы, например, уронит платок, она бросается поднимать.
— А ты бы не подняла?
— Смотря кому. Вам бы подняла.
Потом, переменив тон, сказала:
— Ну, а для чего бы я была мадам Фальц-Фейн? Мне это совершенно не надо. Что мне, у вас плохо?
Помахав метелкой, прибавила:
— Ну, конечно, Назар старый, на двадцать лет меня старше. Но он хороший человек. И меня любит.
Затем бросила перистую метелку, посыпала ковер чаем и стала разгребать его желтой метлой.
— Ну, а потом я состарюсь. Тогда мы с Назаром купим себе домик на Никольской слободке и будем домовладельцами.
* * *
В этой мечте не было ничего необычного. Многие из наших слуг, состарившихся в нашей семье, устраивались на Никольской слободке.
Никольская слободка в Киеве примыкала к красивому цепному мосту через Днепр, построенному при Николае I. От него через широкую долину Днепра была насыпана дамба, превратившаяся в улицу. Это была Никольская улица. Местность красивая, веселая. В разлив просто Венеция. Там и был загородный ресторанчик этого имени.
* * *
Проекты Маруси сбылись скорей, чем она думала. Наступила революция, но она не успела состариться, а наша семья уже не имела материальной возможности иметь таких слуг. Она с Назаром жила теперь на Никольской слободке, и это было очень далеко от моего дома. Вот почему она очень правильно рассчитала, что всего удобнее назначить свидание в Николаевском парке, обвитом кольцами очереди.
В записочке она писала, что ей необходимо меня видеть по важному делу.
* * *
Мы дружески поздоровались. И она сказала:
— Простите, что я вас побеспокоила, но мне нужно сказать вам. Вся слободка будет голосовать за вас. Вас там все любят.
— Это очень приятно, спасибо, Маруся. Тебе далеко было сюда добираться?
— Да. Но все равно надо. И у меня тоже ботинки изорвались. Назар и сейчас стоит в очереди, а потом я буду.
Она еще что-то хотела сказать.
* * *
Кончилось тем, что она заплакала. Бедная Маруся. С одной стороны, все то, что случилось, эта революция, ее как будто подняло вверх. Она уже не была горничной. Она уже могла рассуждать со мною, что все будут голосовать за меня на слободке, то есть как будто разбиралась в политике. Но, с другой стороны, была мечта о слободке. Теперь она исполнилась. Но будущее…
Будущее для таких душ, поднявшихся по социальной лестнице, было безотрадно. Они всей своей прежней жизнью принадлежали прошлому, и новое им было отвратно. Вот почему они и голосовали за меня.
Марусю я больше не увидел.
* * *
Был у меня еще более оригинальный осведомитель по политическим делам. Я знал его еще в то время, когда гулял с гувернанткой. Он тогда называл меня попросту Вася. А гувернантка давала ему медную монету, которую он немедленно пропивал. Он был босяк в прямом и переносном смысле. Где скитался зимою, не знаю. Но летом его квартира была в оврагах Царского сада над Днепром. Оттуда был чудный вид на Днепр, а ночью там было небезопасно для всех, кроме босяков.
Я понемногу подрастал, а безымянный босяк оставался все тем же. Гувернанток при мне уже не было, но мы с ним встречались обыкновенно у Ботанического сада и поддерживали добрые отношения. В это время я мог ему уже выделить десять копеек.
Мне он нравился тем, что, принимая гривенник с благодарностью, он все же сохранял независимый вид и протягивал мне руку.
Но потом я уже совсем вырос. Я стал членом Государственной Думы и редактором «Киевлянина».
Наступило лето 1917 года. Я иногда проходил мимо Ботанического сада и встречал неизменно босяка. Теперь он почтительно, но радостно меня приветствовал и сообщал важную политическую новость:
— Босяки за вас.
* * *
Каким образом это могло быть? Не понимаю и, наверное, никогда не пойму. Есть нечто такое, что ускальзывает от Карла Маркса и его последователей. Босяки не идут за коммунистами. Дороже всего их сердцу свобода. Босяк — а никому не подчиняюсь. И они чувствовали, что вот этот редактор «Киевлянина», которого они не читали, тоже за свободу.
Глава III
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Украиномания и протест
Ленин в своих ранних сочинениях писал «Малороссия», «малорусский народ». В апреле 1917 года он сдал эту позицию, плохо понимая, в чем тут дело
42. Когда человек говорит про себя, что он малоросс или малороссиянин, то этим он себя самоопределяет в следующем смысле: «Я русский из Малой Руси». Когда же говорит: «Я украинец», то он отрекается от батькивщины, от дедов и прадедов, изменяет свою национальность.
Ленин, приняв украинскую терминологию, отнял у русского народа целиком тридцать миллионов человек. И этим актом установлен порядок, при котором русских в России меньшинство. Об этом еще говорил профессор Кареев
43 в 1-й Государственной Думе. Причислив украинствующих к другим «инородцам» (аллогенам), он оказался в своем исчислении русского народа правым.
* * *
Временное правительство поначалу не соглашалось с автономией Украины. Однако твердость Временного правительства длилась недолго.
29 июня в Киев из Ставки приехали военный и морской министр А. Ф. Керенский, министр иностранных дел М. И. Терещенко и министр почт и телеграфов И. Г. Церетели, и Украина получила автономию
44.
Но мы, кровно заинтересованные в этом деле, не могли спокойно и равнодушно наблюдать, как Временное правительство своими руками при помощи автономии готовит отход всей южной России к Австрии и Германии. Поэтому мы кое-что сделали.
Наша точка зрения была такова.
* * *
В одном из романов Жюля Верна один француз родом из Марселя говорит:
— Я дважды француз, потому что я из Марселя.
Подражая ему, мы могли бы сказать:
— Мы дважды русские, потому что мы из Киева — матери городов русских, потому что Москва и Петроград — колонии Киева, а не наоборот.
* * *
Выражение «Малая Русь», как и «Великая Русь», заимствовано нами у древних греков. Точно так же и название «матерь городов русских», каковое по-гречески «метрополия».
Метрополиями всегда называлась сердцевина народа, и в то же время называлась «малая». Например, Малая Русь по отношению к Великой Руси и Малая Бретань по отношению к Великой Британии.
Все это, разумеется, не было известно ни северянину Керенскому, ни кавказцу Церетели, но, конечно, должно было быть известно молодому министру иностранных дел Михаилу Ивановичу Терещенко, наследственному малороссиянину.
* * *
Поэтому мы написали протест против действий Временного правительства, указав, что создавать наново автономию оно не может именно потому, что оно временное. Право создавать новую Россию может быть предоставлено только Учредительному собранию.
Редакция «Киевлянина» разослала всем подписчикам этой газеты текст протеста, предлагая присоединиться к подписи В. В. Шульгина. Через некоторое время эти листы стали возвращаться в редакцию «Киевлянина» с подписями присоединившихся. Этих подписей было свыше пятидесяти тысяч
45.
В Москве
Из Петрограда 31 июля 1917 года была разослана круговая телеграмма от Временного правительства:
«Временное правительство, ввиду исключительности переживаемых событий, в целях обращения правительства ко всем организованным силам страны, постановило созвать в Москве по 14 августа Государственное совещание. К участию в этом привлекаются: представители политических, общественных, демократических, национальных, торгово-промышленных и кооперативных организаций, руководители органов демократии, высшие представители армии, научных учреждений, члены Государственной Думы четырех созывов. Особые приглашения будут посланы Верховному Главнокомандующему и бывшему министру-председателю кн. Львову…»
* * *
Первоначально Государственное совещание предполагалось собрать в Петрограде, но окончательно решили перенести его в Москву, где оно и состоялось.
Так как приглашались члены Государственной Думы, то, хочешь не хочешь, надо было ехать.
Как я ехал, совершенно не помню, и потому не могу сказать, в каком состоянии были железные дороги. А в Москве негде было приютиться, кроме как у А. М. Но к ней я все же не поехал. Однако, неизвестно как, она узнала, где я остановился, и явилась ко мне сама. Я ее когда-то знал шестнадцатилетней девочкой. Теперь она развилась и с ней можно было говорить о политике. Она хотела быть на Государственном совещании. Я объяснил ей, что никак этого устроить не могу. Точно так же урожденной княжне Шаховской я не мог достать билет.
А остановился я в какой-то невзрачной гостинице, недалеко от знаменитых Сандуновских бань, где я никогда еще не был.
Поэтому, оставив чемодан в гостинице, я отправился в эти бани пешком. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал запах духов в воздухе, в конце концов ставший неприятным. И у самой бани определил, откуда он исходит.
В начале Февральской революции Петроград, как я уже говорил выше, наводнили цыганки. В Москве дело обстояло значительно хуже. Матушку Москву заполнили дамы легкого поведения, попросту проститутки. Они нападали на подходящих к бане мужчин, полиция им не препятствовала.
Отбившись от какой-то голубоглазой красавицы, я с удовольствием взял ванную. Но всеобщий распад отразился и внутри Сандуновских бань. Простыни и чехлы на диванах не были снежно-белыми. Я невольно вспомнил, что когда-то в Турции, скажем, в XVI веке, за неопрятное белье давали до двух тысяч ударов палками. Несчастный при этом распухал, как голубь, но выживал, если его засовывали в яму с конским навозом.
* * *
На следующий день в назначенный час я отправился к Большому театру, где назначено было Государственное совещание. Кони на фасаде были все те же в своей неподвижной классической красоте. Театр охраняли юнкера. Они были тогда самыми дисциплинированными частями и оставались таковыми до самого конца Гражданской войны. Они стояли на своих постах вокруг театра с винтовкой к ноге.
После заседания в Киеве городской думы, где скандалили жены запасных, я боялся закрытых помещений, но, увидев цепочку юнкеров, почувствовал некую уверенность и смело вошел в зрительный зал.
Этот театр недаром называется Большим, в нем пять ярусов и галерея. Он может вместить более двух тысяч человек. Насколько мне помнится, он был разукрашен богато: темно-красный бархат с золотом.
* * *
Осмотревшись, я почувствовал в обстановке Государственного совещания какое-то дуновение оперы. Переполненный зал слушателей, большая сцена, драпированные столы на ней и высокая кафедра слева, тоже в бархате. Эта кафедра стояла на так называемой точке. Это было место на сцене, которое знали все певцы. Когда человек пел или говорил, его голос очень отчетливо раздавался во всем театре вплоть до галереи. Это меня очень утешило, хотя я этому не верил, однако сам убедился, что это так. Когда я заговорил, то увидел (у меня тогда было очень острое зрение) урожденную Шаховскую на галерее. Она не прикладывала ручек к ушам, как делают, когда плохо слышат. Но по выражению ее лица я понял, что она меня слышит и понимает. Это обозначало, что весь театр меня слышит. А я так боялся за свой голос, от природы слабый, и сверх того в тот день утомленный.
* * *
Когда была Государственная Дума, то ее члены готовились к своим выступлениям, если они не говорили экспромтом, по-разному. Обдумывали, кое-что читали и даже записывали, несмотря на то, что читать с кафедры запрещалось. Пуришкевич же поступал так. Он клал на кафедру пачку листиков. На каждом из них крупным почерком было написано всего одно слово. Он, посмотрев на это слово, начинал свою речь. Когда он исчерпывал абзац, к которому записанное на листике слово было как бы заглавие, тогда переворачивал его. И тогда появлялось новое слово и новый абзац. Таким образом, он всегда исчерпывал задуманное. Конечно, я говорю о задуманных речах, а не о скандалах, которые разражались неожиданно. А как же я готовился?
Я обдумывал речь вчерне, всегда оставляя место для творчества на самой кафедре. Возгласы с места, выражения лиц, меня слушавших, позволяли мне развернуть или сократить задуманный текст. Но я тщательно подготавливался другим способом. Подготавливал голос, несчастный мой голос. Накануне речи я брал со стенки гитару и пел цыганские романсы. От этого голос как-то укреплялся и звук становился «в маску».
Поэтому Милюков однажды мне сказал:
— У вас голос поставлен, как у певца. Вы не поете?
Конечно, я пел, но голос «в маску» я сам себе поставил.
Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет.
* * *
Возвращаюсь в зал Государственного совещания.
Итак, мне почудилось в нем нечто оперное. И даже я знаю, какой оперы. Опера Рихарда Вагнера «Тангейзер». В этой опере в одном из действий происходит состязание певцов. Вольфрам поет о вечерней звезде, предлагая ей свою платоническую звезду [любовь? —
Р. К.] и забывая, что вечерняя звезда иначе называется Венерой, которая не очень ценила благочестивые воздыхания. Тангейзер же прямо воспевает любовь страстную. Но слова его непутевые и ничего не выражающие. А слова же Вольфрама — хорошо укатанная дорога.
Но это совершенно не важно. Важно нижеследующее. И Вольфрам, и Тангейзер поют о любви, платонической или страстной, но о любви к женщине. Певцы же Государственного совещания тоже пели о любви, но о любви не к женщине, а к родине и революции. Для некоторых из них родина и революция были одно и то же, как у Керенского, у других они противопоставлялись, как у Шульгина, но и тот, и другой, и все остальные состязались на тему любви к родине.
Но, кроме Тангейзера и Вольфрама, был еще Битерольф, которому Тангейзер отвечает:
Ах, Битерольф, свирепый волк,
В любви какой ты знаешь толк46.
А что же я? Какого певца из этой оперы я напоминал?
Хотя Рихард Вагнер и был философ, но моя философия ему, вероятно, не понравилась бы. Я был скептик. Любя родину, я сомневался, чтобы возможно было ее спасти платонической или страстной любовью. Тут нужна была любовь рассудительная, то есть такая, которая не выражалась словами, которая спасла бы угрожаемую родину вопреки ей самой. Ее нужно было заключить в объятия нежные, но такие сильные, что она должна была бы временно потерять всякие силы и стать рабой любящего.
Впрочем, это будет видно из текста речи.
Состязания певцов
Зал, вмещавший две с половиной тысячи человек, был переполнен, как на спектаклях с Шаляпиным. Подавляющее большинство этих людей было мне незнакомо. Я знал членов Государственной Думы, а больше, кажется, никого.
В бельэтаже, в ложе справа, были военные, очевидно, высокого ранга. На сцене были длинные столы, крытые бархатом с золотой бахромой. Из-за кулис вышел Керенский, худой, с нервным лицом, которое я хорошо знал. Одновременно с ним в качестве его адъютантов вышли справа молодой моряк в белоснежном кителе, слева — тоже молодой армейский офицер. Они вошли, Керенский занял центральное место за столом, адъютанты встали за его креслом. Члены правительства опустились в кресла за столами по обе стороны от Александра Федоровича. Наступила полная тишина.
Тогда Керенский встал и стал говорить голосом четким и торжественным
47:
— По поручению Временного правительства объявляю Государственное совещание, созванное верховной властью государства Российского, открытым под моим председательством как главы Временного правительства.
От имени Временного правительства приветствую собравшихся здесь граждан государства Российского. В особенности приветствую наших братьев-воинов, ныне с великим мужеством и с беззаветным геройством, под водительством своих вождей, защищающих пределы государства Российского.
Тут его речь была прервана аплодисментами. Затем он продолжал дальше:
— В великий и страшный час, когда в муках и великих испытаниях рождается и создается новая свободная великая Россия, Временное правительство не для взаимных распрей созвало вас сюда, граждане великой страны, ныне навсегда сбросившей с себя цепи рабства, насилия и произвола.
После последних слов раздались бурные аплодисменты. Я слушал трепетные слова Керенского с волнением. Как бы там ни было, в этом зале собрались болельщики за родину. И между оратором и аудиторией протянулись нити понимания в том смысле, что действительно родина в опасности.
Но в то же время я подумал: «Ведь где-то когда-то я слышал все это».
И молнией блеснула мысль: да, я слышал Столыпина.
— В дни тяжелых испытаний вы хотите великих потрясений, а мы хотим великой России
48.
Ведь Керенский говорил то же самое, повторив четыре раза подряд варианты слова «великий».
— В дни великих испытаний мы не хотим великих потрясений, мы хотим великой России.
«Возвращается ветер на круги своя…»
А теперь, в 1970 году, я мыслю: «И Столыпин, и Керенский неправильно употребляли слово “великий” с вариантами. И тогда, и сейчас нам нужна не великая Россия, нам нужна Россия сильная, миролюбивая и мудрая».
А между тем он продолжал дальше:
— …Временное правительство призвало вас сюда, сыны свободной отныне нашей родины, для того, чтобы открыто и прямо сказать вам подлинную правду о том, что ждет вас и что переживает сейчас великая, но измученная и исстрадавшаяся родина наша. Мы призвали вас сюда, чтобы сказать эту правду всенародно в самом центре государства Российского, в городе Москве. Мы призвали вас для того, чтобы впредь никто не мог сказать, что он не знал, и незнанием своим оправдать свою деятельность, если она будет вести к дальнейшему развалу и к гибели свободного государства Российского.
И снова гром аплодисментов прерывает его речь…
Пошли речи за речью, а мне сейчас девяносто два года, и восстановить их в своей памяти я не могу. Отсылаю интересующихся к стенографическому отчету этого совещания.
Наконец, приближалась моя очередь. Передо мною должны были говорить Родзянко и Маклаков. Речи их должны были быть значительными, и такими они и были. Об этом можно судить по тому, что слышавший их А. Н. Толстой, ставший впоследствии знаменитым писателем, о котором в Советском Союзе принято говорить «наш граф», написал о них, присоединивши по недоразумению и меня, очень лестный отзыв
49.
А я этих двух, выделенных из всех ораторов, не слышал. Почему? Что, я ушел из зала? Нет. Я был очень утомлен. Во-первых, потому что говорил не в первый день совещания, во-вторых, был очень утомлен всей той кутерьмой, которая была вокруг совещания. Только сон мог восстановить силы. И я заснул во время их выступления. Силы были восстановлены.
Маклаков
На этом кончаю о совещании. По окончании его я поехал к Маклакову в его имение в двадцати пяти верстах от Москвы. Поехал на извозчике. А это равнялось пяти часам езды туда и обратно.
Это не было родовое имение. Маклаковы не принадлежали к родовому дворянству, но они (я говорю о Василии Алексеевиче и его сестре Марии Алексеевне) с любовью устроили усадьбу. И я провел тот день очень уютно. Маклакову пришлось, по-видимому, с болью расставаться с этим уютным гнездом, так как незадолго до Государственного совещания он получил назначение послом во Францию.
Маклаков был одним из светлых умов, какие я знал. Об ораторском его таланте достаточно сказать, что его называли «златоуст» и «сирена». Он обладал даром располагать к себе, когда выступал. Это называется подкупающим красноречием. В этом отношении он был обратным явлением в сравнении с Марковым 2-м. Марков иногда говорил умно и правильно. Но у него была такая вызывающая манера говорить, что, соглашаясь с ним, не хотелось соглашаться.
Как очень умный человек, Маклаков не мог быть крайним. Когда ум побеждает страстность, то он видит и свет, и тени в каждом явлении.
Несколько слов о масонстве Маклакова
50. В Государственной Думе говорилось о том, что он масон. Однажды Марков 2-й в кулуарах распространялся о масонстве вообще. Группа людей его слушала, в том числе и я. Но я в то время в масонство не верил и даже где-то написал об этом. До сих пор мне не удалось ухватить даже кончик хвоста какого-нибудь масона. Не возражая Маркову, я слушал его с внутренним презрением, когда он бездоказательно сыпал именами. К этой группе подошел и Маклаков и вмешался:
— Ну, Николай Евгеньевич, этак вы и меня причислите к масонам.
Марков повернулся к нему и сказал, на этот раз до крайности вежливо:
— Да, Василий Алексеевич, вы масон. И притом очень высокой степени.
Маклаков рассмеялся, ничего не ответил и пошел дальше. Но мне тогда показалось, что Маклаков сделал тонкую разведку и узнал, что хотел.
Это так, беглый инцидент. Гораздо интереснее вот что. В Государственной Думе в этот день шла перебранка, скучная и никому не нужная. В Екатерининский зал, в кулуары, из зала заседаний вышел Маклаков и, увидев меня (больше там никого не было), сердито сказал:
— Кабак.
— Да, я тоже ушел. Тошно слушать.
Мы прогуливались молча, и вдруг он остановил меня и сказал:
— Нам нужно что-нибудь такое, что бы всех нас могло возвысить, примирить и объединить.
— И это?
Он посмотрел кругом и сказал мне тихо:
— Это война с Германией.
* * *
В это время не было и речи о войне с Германией. Поэтому меня эти слова удивили. Я очень над ними раздумывал. А теперь я очень хотел бы прочесть книгу Маркова «Война темных сил» (что-то в этом роде, точно не помню)
51.
Быть может, масоны давно уже хотели этой войны для каких-то своих тайных целей. Маклаков мог об этом знать, если он был масоном очень высокой степени. Иначе, человек очень миролюбивый и совершенно не военного склада характера и даже называвший себя антимилитаристом, он не мог желать какой бы то ни было войны. К этой мысли приводит нижеследующее обстоятельство.
Во время японской войны кадеты были открытыми пораженцами. Лозунг их был: «Чем хуже, тем лучше». Поэтому мы вели с ними жестокую борьбу. А как только разразилась русско-германская война, называемая Первая мировая, настроение кадетов резко изменилось. И Милюков требовал войны «до победного конца». О Милюкове тоже говорили, что он масон, хотя и «уснувший»
52.
* * *
В эмиграции я окончательно убедился, что Василий Алексеевич масон. Он не сказал мне об этом открыто, но он подробно рассказывал мне, что такое современные масоны.
Масоны могут быть патриотами своего отечества, могут исповедовать различные религии, но они не могут быть клерикалами и антисемитами. Но эти общие явления в настоящее время, как говорил Василий Алексеевич, побледнели. В настоящее время масонский союз — это прежде всего союз взаимопомощи. Все масоны называют друг друга братьями. И вот, какой-нибудь совершенно незначительный человек может обратиться к министру-масону, называя его братом, и попросить помощи, которая в возможных пределах и будет оказана.
Неожиданное подтверждение я получил на юге Франции от маленького почтового чиновника, прозябавшего на своем месте. Он жаловался мне:
— Я мог бы получить место получше, но они хотят, чтобы я стал масоном. А я не хочу.
Итак, масоны не могут быть антисемитами. Но вот что я узнал однажды. Русские парижские евреи, главным образом журналисты, устраивали в Париже однодневный митинг. На этом митинге они хотели выяснить, что же антисемитам в них, евреях, не нравится. Я тоже получил приглашение в качестве антисемита. Мне написали, что все расходы по моему приезду и отъезду (я жил на юге Франции) будут оплачены. Я не поехал на митинг, потому что считан бессмысленным тысячелетнюю еврейскую трагедию рассматривать на однодневном митинге. Я ответил им, что напишу об этом книгу, которую и написал. Она была напечатана под заглавием: «Что нам в них не нравится?»
53
Эта книга была замолчана. Почему? Потому что для ярых антисемитов она не годилась, так как в ней было сказано, что я расового антисемитизма не чувствую. Мой антисемитизм политический, поскольку евреи стали во враждебное отношение к России. А в плоскости, которую я окрестил «трансцендентальный антисемитизм», я выразился на последней странице:
— Не чувствую в евреях благости. Когда почувствую, они мне понравятся
54.
При таких взглядах, повторяю, мою книгу замолчали справа. А слева замолчали потому, что, как бы там ни было, они ощущали, что я антисемит.
Было еще выражение «честный антисемит». Я думал, они разумеют меня под честным антисемитом. Но я ошибся. Это не значит, что они считали меня бесчестным, но все же, конкретно в связи с этим митингом, они под честным антисемитом подразумевали другое лицо. Кого же?
Когда-то Василий Алексеевич Маклаков сказал:
— Под честным антисемитом они разумеют меня. Вы можете об этом говорить после моей смерти.
Только на днях я узнал, что Василий Алексеевич скончался тринадцать лет назад, в 1957 году. Такова моя жизнь, что известия доходят ко мне с запозданием.
Вероятно, мне уже не удастся узнать, желал ли Маклаков войны с Германией лично или как масон высокой степени. Представляется интересным, почему масоны хотели войны России с Германией, но еще интереснее знать, желают ли они этого сейчас.
Мне всегда нравилось в Маклакове отсутствие крайностей и фанатизма. С ним можно было говорить по любому предмету, и он никогда не лез на стену, пытаясь что-либо доказать. Политически же первый раз он обратил на меня внимание во 2-й Государственной Думе, когда еще я был малозаметным депутатом. Он говорил о военно-полевых судах
55. Как адвокат он особенно выдвигал то, что у судимого военно-полевым судом нет никаких судебных гарантий, и прежде всего, у него нет защитника. Я ответил ему с кафедры Думы, что это совершенно верно — гарантий нет, защитника нет, и это плохо, но, переходя в нападение, спросил:
— А где же защитники в тех подпольных судилищах, где приговаривают к смерти людей, начиная от министров и кончая городовыми на улицах?
Маклаков взял слово, чтобы мне ответить, и сказал, что нельзя уравнивать власть и террористов. В этом он ошибался. В это время шла борьба совершенно военного характера с кровавыми убийствами и жертвами, число которых на стороне правительственной власти намного превышало число расстрелянных по приговору военно-полевых судов.
С этого времени, хотя мы и продолжали спорить, принадлежа к разным партиям, но между нами установилась манера спорить, которая устраивала нас обоих. Симпатия к противнику — одно из тех чувств, которое важно во все времена, но, может быть, никогда оно не было так нужно, как сейчас.
Особенно мы сблизились, когда я жил у Маклакова в эмиграции, в ноябре 1923 года. Я приехал к нему по его приглашению из Германии и жил у него в посольстве (он тогда считался послом России, так как Франция еще не признала СССР).
Русское посольство на Rue de Grenelle поддерживало свое посольское достоинство, хотя и в несколько полинялом виде. Роль хозяйки взяла на себя его сестра Мария Алексеевна, так как Василий Алексеевич не был женат. Она очень нежно любила брата и три раза отказывала женихам, не желая с ним расстаться. Но вместе с тем это была женщина до удивительности живая и деятельная. Например, она содержала русскую гимназию в Париже на средства, которые добывала, устраивая какие-то вечера и спектакли. Билеты развозила сама, и так как ее называли madame l’ambassadeur, то и давали благотворительные деньги. Когда из России ехала в Париж часть труппы МХАТа со Станиславским и Книппер-Чеховой во главе, она принимала в этом деятельное участие.
Между прочим, Станиславский и Книппер однажды завтракали у Маклаковых. Я присутствовал тоже. Еще была приглашена тогда некая «львица» Парижа, дама сорока лет с дочерью двадцати лет. Но мать совершенно забивала молодую девушку. Маклакова рассказала мне про нее, что она своего рода знаменитость в Париже, а кроме того, что у нее есть училище цветоводства, очень известное во Франции. А так как я искал себе какого-нибудь занятия, то Мария Алексеевна придумала следующее.
— Вы только сумейте ей понравиться. Она вас сейчас же примет в свое цветоводство. Через восемь месяцев вы получите диплом и хорошее место. Вы любите цветы, конечно?
— Конечно, но…
— Без всяких «но», Огурчик.
Почему она меня называла «Огурчик», не знаю. Гораздо вернее было выражение одной французской дамы: «Il a l’air d’un forçat évadé»
[29]. Это потому, что я был кругом бритый (череп тоже), что во Франции принято только для каторжников.
Я и хотел сказать Маклаковой, что вряд ли «каторжник» понравится парижской «львице», но она не хотела слушать никаких резонов и за завтраком усадила меня рядом со «львицей». По-видимому, последняя не боялась каторжников и сказала:
— Я непременно пойду смотреть русский театр.
В то время это было обязательно для каждой элегантной дамы. Она продолжала, разговаривая со мною:
— Но ведь я ничего не пойму. Мне нужен переводчик. Вы не могли бы взять эту роль на себя?
Маклакова, которая внимательно наблюдала за нами, сделала мне «рыбий глаз». Фортуна мне явно помогала. Но тут-то и выскочило мое «но». Быстрый разумом Ньютон
56 сообразил и даже посчитал в уме: «Фрак — 1000 франков, лакированная обувь, конфеты, такси, ужин… В общем, 2000 франков».
И я представился, что не расслышал ее. Она очень обиделась, и карьера цветовода улыбнулась. Маклакова чуть меня не съела:
— Что вы, дитя малое?
— Нет, именно я не дитя. Фрак — 1000 франков, лакированная обувь… — начал я перечислять.
— Вы не знаете, как в этих случаях поступают?
— Как?
— Врут. Надо было согласиться, обрадоваться, а потом написать записку, что вы заболели. Больше я не буду вас устраивать. А впрочем…
— Что?
— У вас хорошая фигура. Я могу устроить вам место натурщика в Академии.
Я рассмеялся:
— Мария Алексеевна, я боюсь холода и не могу стоять голым.
— Ну так делайте, что хотите.
Я и сделал. Пошел в контору какого-то кино. Там требовались статисты. Дама, сидевшая за конторкой, стала спрашивать меня, что я умею:
— Ездите верхом?
— Да.
— На велосипеде?
— Тоже.
— На байдарке?
— Да.
— Под парусом?
— Да.
— Плаваете?
— Конечно.
Тогда она сказала:
— Знаете что, вы могли бы рассчитывать на нечто лучшее, чем статист.
— Что для этого нужно?
— Внесите 100 франков, чтобы немножко подучиться.
Я поблагодарил и ушел. Мне нужны были сто франков, иначе бы я к ним и не пришел. Так ни к чему я и не приладился.
Но в это время моего пребывания в посольстве я прочел во французской газете, что m-me Анжелина Сакко предсказывает судьбу и дает советы
57. Я ее знал по Константинополю и сейчас же к ней отправился. Это посещение и последующее решило мою судьбу на всю жизнь, ибо в дальнейшем ось, вокруг которой я вращался, — это было желание разыскать моего сына в Советской России. Это вызвало мое путешествие в 1925 году в Советскую Россию, книгу «Три столицы», описывавшую это путешествие, и затем определило мою судьбу, когда я был в тюрьме, и, наконец, мою неожиданную карьеру в качестве актера кино в кинофильме «Перед судом истории»
58.
Князь Илларион Сергеевич Васильчиков
Член Государственной Думы князь Илларион Васильчиков, племянник министра земледелия царского правительства, тоже был на Государственном совещании. Его жена, урожденная княжна Мещерская
59, была та дама, которую я увидел на галерке во время своего выступления и понял, что мой слабый голос «с точки» звучит на весь театр. Они пригласили меня приехать к ним в их имение где-то под Петербургом.
У Васильчиковых я бывал и раньше в их петербургской квартире, необычайно красивой и совершенно оригинальной
60. Очень длинный ряд лимонов в красивых кадках выстроился с двух сторон на беломраморном полу в очень длинной и узкой зале. Между лимонами кое-где стояли мраморные богини. И вдруг узкая зала переходила в круглую и образовывалась уютная гостиная. Из нее опять вытекала длинная зала. Когда она во второй раз сделалась круглой, я увидел камин, в котором пылали дрова…
Ты сидишь у камина и смотришь с тоской,
Как печально огни догорают…61
На этот раз романс был как нельзя более реален, потому что догорала Россия. Догорала и княжеская ветвь Васильчиковых и Мещерских, и вообще Рюриковичей и Романовых.
Против камина были маленькие столики, где обычно пили чай в пять часов (five o’clock). От камина тогда пошел мне навстречу Илларион Сергеевич Васильчиков, высокий, с очень красивыми печальными от природы глазами. Он представил меня своим гостям. Я стал пить чай вместе с остальными. И стали говорить. О чем же? Все о том же, о чем печалился камин.
* * *
Поэтому естественно, что они пригласили меня в свое имение
62. Это было как бы продолжением пройденного. Только камина не было, потому что был август и было тепло. Но печаль была, быть может, еще более глубокая.
Дом Васильчиковых был маленьким дворцом с колоннами в большом парке. Сначала мы пошли осматривать парк, несколько запущенный и чуть «сентябривший» от сильной жары.
В этом парке мне запомнились так называемые эоловы арфы. Это были инструменты, развешанные по деревьям, на них были струны, издававшие звуки, когда ветер пробегал по ним. Звуки очень меланхоличные, совершенно подходящие к обстановке.
Внутри дворец был обставлен соответственно. Кроме меня, гостей не было. Радушие и гостеприимство хозяев смягчали налет грусти, лежавший на всем. Вероятно, Васильчиковы проводили последние дни своей жизни в этом гнезде, которое по праву могло считать себя дворянским.
* * *
С князем Васильчиковым я увиделся еще раз в Киеве, сейчас же после воцарения гетмана Скоропадского.
* * *
В кулуарах Государственного совещания я познакомился с некоторыми лицами, в частности, со штабс-капитаном Виридарским, из черниговских дворян
63. Этот человек также прошел со мною часть жизни, богатой разными приключениями, о чем скажу позднее.
Глава IV
ОСЕНЬ СЕМНАДЦАТОГО В КИЕВЕ.
МОЯ ПОЕЗДКА В НОВОЧЕРКАССК
И, наконец, я вернулся в Киев. Моя речь в Государственном совещании уже была передана в Киев и произвела хорошее впечатление и даже более. Этому способствовал Александр Дмитриевич Билимович, который слышал меня и расхваливал кому надо и не надо. Особенно на киевлян произвело [впечатление] мое заявление, что Киев желает держать крепкий союз с Москвой, начавшийся еще в 1654 году на Переяславской Раде.
* * *
В Киеве со мною произошли некоторые неожиданности. Не помню точно, какого числа, в три часа ночи подъехали две машины к моему скромному особняку. Стали звонить и стучать. Я спешно оделся и вышел в так называемую залу, то есть гостиную, и застал там «избранное» общество. Несколько человек в погонах, из которых один представился:
— Аносов, начальник городской милиции
64.
И протянул мне какую-то бумажку.
— Мандат на обыск и арест.
Затем он вежливо попросил меня проводить его в мой рабочий кабинет. Кабинет у меня был, и в нем письменный стол тоже был, со множеством ящиков.
Аносов и другие стали рыться в ящиках, но они не нашли там того, что искали. Я не знал, чего они ищут, но материалы по делу Бейлиса и многочисленные письма, связанные с этим делом, не могли их интересовать. Однако они все это взяли и попросили меня после этого проводить их в спальню. В спальне ничего не нашли. Аносов предложил мне сесть в автомобиль. Со мною сели еще два лица, невидимых из-за темноты. Помчались. Я понял, что везут на Печерск. Чуть светало, когда мы остановились у дома
губернатора. Меня ввели в какое-то помещение, где опять стало темно. Предложили сесть на скамейку. Двое сопровождавших опустились рядом. Севший справа сказал:
— Я такой-то (он назвал фамилию одного из главных полицейских офицеров города Киева дореволюционного времени, которую сейчас уже не помню).
А сидевший слева сказал:
— Вас? Арестовать? Завтра выпустим.
Затем погрузились опять в автомобиль и поехали дальше. В итоге я очутился в тюрьме. В какой, не помню. Посадили в одиночку. Когда стало светло, я прочел на стене знакомые фамилии: «Винниченко», еще кто-то.
* * *
Мои охранители исполнили обещание. Не в тот же день, то есть завтра, а послезавтра выпустили на свободу. Привезли домой, сказав, что я буду под домашним арестом шесть дней. Я охотно согласился, дав им обещание не выходить из дома, и на этом дело закончилось.
Затем через некоторое время выяснилось, зачем меня временно арестовали. Потому что во время так называемого «корниловского мятежа» поступила телеграмма на мое имя: «Ваше присутствие в Ставке необходимо». Подпись была, кажется, «Лодыженский»
65. Я его не знал, но, очевидно, должен был знать. Телеграмма эта ко мне не попала, а поступила в «Комитет спасения революции», Этот комитет и распорядился меня изолировать, чтобы я не поехал в Ставку.
* * *
Итак, я в Ставку не поехал. Я остался в Киеве, где мое присутствие было более необходимо, чем в Ставке. В Киеве шла подготовка в Украинское Учредительное собрание. Это были третьи выборы по «четыреххвостке». Каков бы ни был результат этих выборов, они были последние свободные выборы в России. Для Киева эти выборы имели большое значение. Они должны были решить вопрос, считает ли себя Киев, по завещанию вещего Олега, матерью городов русских и, по наименованию Богдана Хмельницкого, землю вокруг Киева Малой Русью, или же город Кия поплывет по украинствующим болотам, имея преданного анафеме Ивана Мазепу на челе
66. Решение этого вопроса конкретизировалось в том смысле, что, по закону, в Украинском Учредительном собрании от Киева должен был быть отдельный представитель. При таких условиях было очень важно, кого именно Киев изберет в Учредительное собрание.
* * *
Выборы произошли несколько позже. Здесь достаточно будет сказать, что единым представителем матери городов русских был избран «horribile dictu»
[30] исступленный богдановец
67, черносотенец и «собачья голова» В. В. Шульгин.
* * *
Однако мне пришлось ехать, но не в Ставку, а в Петроград, по телеграмме Маклакова. Маклаков был назначен Временным правительством в конце июля послом в Париж и в сентябре месяце собирался отправиться туда. Он хотел перед отъездом повидаться со мною. Почему? Он считал необходимым, чтобы, во всяком случае, нам держать связь на будущее время.
Я приехал в Петроград очень удачно, в известном смысле. 1-го сентября Временное правительство объявило закрытой фиктивно существовавшую Государственную Думу. Конечно, фиктивную, так как жалованье (350 рублей) еще платили. Но не в этом дело. А в том, что одновременно 1-го сентября Временное правительство объявило Российскую державу республикой. На это оно не имело никакого права. Мы, поставившие Временное правительство у власти, поручили ему ведать временно делами, но не делами, имевшими не временное, а постоянное значение, или, иначе сказать, основными законами. Поэтому в этом смысле я составил протест против преждевременного объявления России республикой и напечатал его в какой-то газете
68.
Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила. Последний не принял трона, но не окончательно, а условно. В тексте его отречения предусмотрено, что он может принять престол, только если ему поднесет его Всероссийское Учредительное собрание.
Великий князь Михаил Александрович был тогда еще жив, и, следовательно, Временное правительство не могло своею властью совершенно отнять престол у него, а значит, и у всей династии Романовых.
Конечно, мое заявление никакого реального значения не имело. Надежды на то, что Учредительное собрание пригласит великого князя Михаила Александровича на престол, не было. Но для меня и стоявших за мною киевских монархистов было важно, что этим моим заявлением мы предупреждаем, что в этом вопросе мы не послушаемся Временного правительства. Это оказалось важным и для дальнейшего, потому что и Деникин, и Колчак все же стояли в случае, если белые победят, за какое-то «волеизъявление народное». Под волеизъявлением Деникин подразумевал Учредительное собрание.
* * *
Переговорив с Маклаковым и сделав монархический жест, я вернулся в Киев и там пережил «Великий Октябрь».
* * *
В это время связь со столицей как-то прервалась. Мы точно не знали, что делается в Петрограде. Но местные большевики, видимо, знали. Украинствующие тоже. Это вылилось в уличные бои, которые происходили 29–31 октября между юнкерами киевских военных училищ и кадетским корпусом, с одной стороны, и какими-то местными большевиками, с другой. И 1-го ноября юнкера ушли из Киева, направляясь на соединение с силами, сочувствовавшими Корнилову и группировавшимися где-то около Казатина
69.
Однако, пиррова победа большевиков над юнкерами не принесла желанных плодов первым. Пользуясь тем, что обе стороны были обессилены, власть в городе захватила Центральная Рада, собравшая достаточные военные силы из украинских националистов. Впоследствии, 7-го ноября, она объявила себя верховной властью Украинской Народной Республики
70.
2-го ноября я говорил в большом зале Купеческого собрания речь, в которой выразился по адресу ушедших из Киева:
Не говори холодного «прощай»,
А ласково промолви: «до свиданья»71.
В эту ночь ко мне явился Лохов, сотрудник «Киевлянина», сам себя сделавший офицером Елизаветградского кавалерийского полка. Он принимал участие в этих боях. У меня в гостиной произошла драматическая инсценировка: он сорвал с себя погоны и бросил на пол. Я подобрал их, сказав:
— Спрячьте в карман, пригодятся.
* * *
Вслед за этим, в начале ноября (третьего или четвертого числа), я выехал с ним же на Дон, куда уже перебрался бывший Верховный главнокомандующий генерал Михаил Васильевич Алексеев.
С большими трудами нам удалось пробиться в Новочеркасск.
Генерал Алексеев жил в вагоне-салоне. В его кабинете стоял письменный стол. Он принял меня очень любезно. Мы были знакомы с ним еще по Киеву. У него было нечто двойное в лице. С одной стороны, это было лицо фельдфебеля, простонародное. С другой стороны, его очки и выражение лица выдавали профессора, каковым он и был. В качестве такового, голосом скрипучим, но уверенным, он прочел мне лекцию:
— Каждая армия, какова она ни была бы, должна иметь базу. Без базы армия существовать не может. Я избрал базу здесь, на Дону, в Новочеркасске. И здесь болото, но другой базы нет.
Болотом генерал. Алексеев называл Дон потому, что и здесь было тоже неустойчиво, отчего войска его вскоре вынуждены были покинуть Новочеркасск.
Затем генерал-профессор продолжал:
— Кроме базы, армия должна иметь личный персональный состав. В данную минуту этот персональный состав состоит из 28 человек.
Тут я сказал:
— Прошу вас, ваше высокопревосходительство, считать не двадцать восемь, а тридцать. Меня прошу записать двадцать девятым, а некоего Лохова, со мною прибывшего, тридцатым.
— Благодарю вас. Итак, вы поступили в армию.
— Так точно.
— Поэтому я прошу вас и приказываю вернуться в Клев и держать «Киевлянин» до последней возможности. Затем передайте уже написанное письмо генералу Драгомирову, которого я назначаю главнокомандующим в Клеве, и — присылайте нам офицеров.
— Будет исполнено, ваше превосходительство
72.
И было исполнено. Но предварительно я отболел в Новочеркасске, должно быть, испанкой в легкой форме. Я лежал у члена Государственной Думы Половцова 2-го, который занимался хозяйственной частью армии из двадцати восьми человек. Тут же где-то был Николай Николаевич Львов, с которым я как будто повидался. И М. В. Родзянко. Последний играл тут роль оппозиции. Он и раньше недолюбливал генерала Алексеева. Кажется, от Родзянко я узнал, что погиб мой большой друг, один из очень немногих, с которыми я был на «ты», Дмитрий Николаевич Чихачев. Он как кавалерийский офицер поступил в казачью часть, но был убит, не знаю кем.
* * *
Итак, поправившись и покончив с делами в Новочеркасске, мы с Лоховым поехали обратно в Киев. Возвращение было еще труднее. В поезда врывались матросы, «краса и гордость революции», и выбрасывали из вагонов, кого хотели. Благоразумно мы оба были в штатском, и нас оставили в покое.
* * *
Добравшись до Киева, я окунулся сразу же в дела. Кажется, 18-го ноября «Киевлянин» закрыла головная рота какого-то украинского полка
73. Они подошли к редакции «Киевлянина», точнее сказать, к воротам. Вместо знамен они несли два портрета. Один — Богдана Хмельницкого, а другой — Тараса Шевченко. Несчастные не знали, что Тарас Шевченко смертельно ненавидел Богдана Хмельницкого.
Потом произошла комическая сцена. Начальник отряда стал подавать команды на украинском языке. Но солдаты не понимали, что от них хотят. Шутники потом рассказывали, что будто бы солдатам командовали: «Железяки до пузяки, гоп!». Этого, конечно, не было. Однако верно то, что кто-то из собравшейся толпы крикнул:
— Да вы по-русски!
Скомандовали по-русски:
— Слушай, на краул!
Рота взяла на караул, очевидно, из уважения к Хмельницкому и Шевченко, заменявшим знамена. А может быть, чтобы придать торжественность минуте. Шутка сказать! Закрывалась газета, оплот всех сил, враждующих с украинством, которая редактировалась «собачьей головой» и единым представителем города Киева в Украинском Учредительном собрании.
* * *
Я наблюдал эту сцену из окна детской в моем особнячке. А затем рота вошла во двор, поднялась в каменный дом, во второй этаж, где была редакция «Киевлянина». Вскоре туда пригласили и меня. Я вошел, и начальствующий предъявил мне мандат в том смысле, что помещение редакции «Киевлянина» занимается под воинскую часть. И просил расписаться. Я расписался так: «Никакой иной власти, кроме Всероссийской власти Временного правительства, не признаю. Подчиняюсь насилию».
Он посмотрел на меня с недоумением и сказал:
— Какое же мы делаем насилие?
Действительно, они никого не били и ничего не поломали.
Я затем, чтобы усилить эффект, приказал «сопровождающим меня лицам» снять иконы и «портреты предков». Это были портреты основателя «Киевлянина» Виталия Яковлевича Шульгина и его жены, моей матери, Марии Константиновны. Эти предметы были торжественно перенесены ко мне на квартиру в особнячок.
Это произвело впечатление не только на сопровождавших меня лиц (а их собралось немало), но и на солдат, занявших помещение.
Не все тут были воинствующие безбожники, а потому им казалось, что иконы можно тут оставить.
* * *
На следующий день было заседание городской Думы, где я был гласным. Я сказал дерзкую речь:
— Несмотря на то, что австрийские войска еще не заняли город Киев, но я полагаю, что иностранная оккупация уже совершилась. Оккупация так оккупация. Склонимся перед фактом. Но оккупация может быть культурная и некультурная. Вчера закрыта газета «Киевлянин», существовавшая более полувека. Это деяние, пожалуй, не очень культурно. Однако самый акт закрытия газеты произошел без насилий и, пожалуй, даже уважительно. Ибо воинская часть отдала редакции «Киевлянина» высшую честь, взявши винтовки на караул. Что будет дальше, посмотрим.
* * *
А дальше, насколько помню, произошло следующее. Городская дума, в большинстве своем ведь тоже не признавала ни большевиков, ни воинствующей Центральной Рады. Большевиков в ней было только семь человек, из которых двое — Пятаков и Гинзбург — были сыновьями богатых сахарозаводчиков. Украинствующие тоже в городской думе успеха не имели.
Поэтому, вероятно, городская дума перестала собираться регулярно. Однако (не очень точно помню, когда именно) я получил приглашение прибыть на собрание. Я пошел. Был уже снег, так что это, вероятно, было в конце ноября — начале декабря.
Подходя к городской думе со стороны Владимирской улицы (кажется, я шел по так называемой Козьеболотной), я увидел, что над золотым архангелом Михаилом, возглавлявшим городскую думу, рвутся шрапнели.
Вероятно, по этой причине из 130 гласных было налицо человек 40, состоявших из более мужественных социалистов. Они, по-видимому, были обрадованы, что я пришел. Обсуждалось положение в городе и что отцам города необходимо сделать.
Я предложил следующее. Так как палят по городу люди, до известной степени близкие к гласным-социалистам, то последним надлежит послать депутацию, которая скажет этим бомбардирующим:
— Есть ценности, одинаково нужные всем. Это вода, а значит, надо пощадить водокачки, иначе город останется без воды.
Еще я что-то предлагал в таком же духе, а закончил под занавес так:
— Я кончаю свою речь, потому что «эти восклицания с мест» (я сделал жест рукой, давая понять, что рвется над нами шрапнель) мешают мне говорить.
Мои предложения были приняты социалистами в первый и последний раз в моей деятельности. Затем собрание городской думы было закрыто.
* * *
Я возвращался опять по Козьеболотной, улице очень крутой. «Восклицания с мест» продолжались. Они прекратились, когда я выбрался на Владимирскую. Я шел по ней, чтобы попасть в гостиницу «Прага», где жила Дарья Васильевна. Мне было ясно, что ее необходимо куда-то перевезти из этой гостиницы. Едва я успел войти в гостиницу, как вдоль Владимирской началась пальба из винтовок. Поднявшись в ее номер во втором этаже, где была веранда, я увидел, что на снегу лежат какие-то люди и палят друг в друга.
Те, что лежали около памятника Ирины, были мне ясно видны. Это был один студент в фуражке и несколько человек, как будто рабочих. Они лежали, стараясь не поднимать голов и положив винтовки перед собой. Так продолжалось некоторое время. Затем с противоположной стороны четко заработал пулемет из приближавшегося броневика. Бороться с ним было невозможно.
И потому все люди, лежавшие у памятника с винтовками, побежали кто куда мог. Броневик очистил улицу, и тут оказалось, что это броневик украинствующих. А винтовочные были, значит, большевизаны. Три человека из их числа спрятались в гостиницу. Они прибежали во второй этаж, ворвались в номер Дарьи Васильевны и оттуда с веранды начали пальбу. Но вслед за этим набежали под прикрытием броневика молодые люди, гимназисты, с винтовками в руках. Они кричали яростно:
— Где они?!
Тут же в коридоре были все обитатели гостиницы, в том числе пожилой доктор с молодой красивой женой, Дарья Васильевна и другие мужчины и женщины. Я понял, что случится. Тут они начнут перестреливаться в коридоре и могут убить непричастных людей. Один из них в сильном волнении повторял, обращаясь к нам:
— Я вас прошу об одном, будьте порядочными людьми, будьте нейтральны.
Меня что-то подхватило и бросило навстречу разгоряченным гимназистам с винтовками. Я протянул повелительно руку и закричал:
— Стойте!
Они остановились. Пользуясь этим, я продолжал:
— Их только трое. Они тут. Они не будут сопротивляться. Они сдадутся.
Гимназисты как-то сразу поняли. Они вбежали в номер и стали кричать тем, что были на веранде:
— Вас только трое, а нас много. Сдавайтесь!
И они сдались. Смущенные, они вошли из веранды в комнату, и их повели.
* * *
Значит, тут крови не прольется. Я сказал Дарье Васильевне:
— Собирайтесь, тут больше вам жить нельзя.
Сборы были недолгими. Несколько маленьких вещиц, ей дорогих, оренбургский платок, бархатная шубка — и все. Она стала похожа на дочь польского магната. И мы спустились и пошли по Владимирской. Около Золотых ворот, которые были напротив, нас остановили. Группа молодых людей, вероятно, офицеров. Дарья Васильевна запищала:
— Пропустите нас, пожалуйста.
Но они ответили:
— Василий Витальевич, что вы тут делаете и куда вы?
— Мне надо пройти на Караваевскую, но надо вкруговую, через Золотые ворота.
— Пожалуйста, но будьте осторожны.
Мы перебежали Владимирскую. В одном месте Дарья Васильевна ловко перепрыгнула через лужу крови и остатки разбитого черепа. Тела уже не было. А затем мы благополучно добежали до Караваевской улицы к шестиэтажному дому, принадлежавшему богатому еврею Морозу. Там жила тетка Дарьи Васильевны, где я ее и приютил, а сам пошел домой. Мой дом был совсем близко.
* * *
В конце ноября ко мне в Киев приехал до того времени мне не знакомый генерал с узкими погонами (по медицинской части) и рассказал мне следующее:
— Я только что приехал в Киев. В Ставке произошли ужасные события. Духонин убит. Его схватили матросы, и он будто бы был убит матросом. На самом деле это был немецкий офицер, переодевшийся матросом, по фамилии Тоулер. Духонин его прекрасно знал, так как он был когда-то военным агентом в Германии
74.
Духонина я лично не знал, но когда он, будучи командиром Луцкого полка, был ранен, то моя машина отвезла его на станцию.
Убийство Духонина произвело удручающее впечатление, и с тех пор расстрелы стали называться «отправлен в штаб к Духонину».
* * *
Примерно в начале декабря «знаменная» рота без всякого предупреждения покинула помещение редакции «Киевлянина». От них осталось много мятой соломы и разорванной бумаги. Помещение редакции было вычищено, и газета «Киевлянин» начала опять выходить.
Не могу вспомнить, когда «Киевлянин» опять прекратился, но помню, что это произошло оттого, что прекратилась подача электроэнергии, и типографские машины остановились. Помню еще, что я даже как будто обрадовался этому, так как становилось затруднительным писать. О чем? Повторять слова надежды на то, что положение улучшится, поздравлять с наступающим восемнадцатым годом? Все это звучало бы фальшиво.
* * *
Таки закончился роковой 1917 год.
* * *
Из событий в ноябре помню еще одно. Ко мне на квартиру прибежал весьма расстроенный Пятаков
75.
Нужно сказать, что Пятаковых было несколько, кажется, шесть. Старший был Георгий, очень известный тем, что он был впоследствии народным комиссаром и казнен при Сталине. Он же играл видную роль в событиях, разыгравшихся в Киеве в октябре 1917 года. Он принадлежал к партии большевиков. Другой, его брат Лев Пятаков, тоже был большевиком и председателем Ревкома
76. По-моему, младший Пятаков был монархистом. Вот этот именно и прибежал ко мне на квартиру и рассказал, что предыдущей ночью его брата Льва увезли по Литовско-Брестскому шоссе и там расстреляли.
Отец этой семьи был известный всему Киеву сахарозаводчик. Пятаковы жили на Кузнечной улице, ниже меня, в своем особнячке. Жена Пятакова-отца была урожденная Мусатова, очень уважаемая дама либеральных взглядов. Вот эти-то либеральные взгляды в сердцах ее сыновей расцвели и большевизмом, и монархизмом.
Вспоминаю, когда я принял решение поступить в 1914 году в 166-й пехотный полк добровольцем, то она просила зайти к ней. Очень тронутая, она надела на меня иконку, таинственно и стыдясь самой себя. Семья Пятаковых была очень дружна с Билимовичами, в особенности с Антоном Дмитриевичем, математиком.
Была еще певица, происходившая из семьи Мусатовых. Она вышла замуж за Кульженко, брата Михайлы, и выступала под именем Мусатовой-Кульженко. Хотя ее приглашали петь в симфонических собраниях, очень фешенебельных, но успеха как певица она особенно не имела. Александр Дмитриевич Билимович ее поддразнивал в этом смысле, но она не обижалась.
Глава V
ЗАХВАТ КИЕВА БОЛЬШЕВИКАМИ
1918 год начался с того, что четвертого января я получил телеграмму от исчезнувшего Лохова: «Благополучно, но с боем пробились на Дон». Таким образом, начало восемнадцатого года явилось для меня началом Гражданской войны.
Затем, в январе, произошли события, которые именуются в официальной литературе всеобщим восстанием Киева против Центральной Рады. Такого всеобщего восстания никогда не было. Были частичные выступления. Из последних особенно выпячивается восстание рабочих киевского завода «Арсенал». Что оно раздуто, следует из того, что я о нем почти ничего не помню. Если бы оно было таким, как его описывают, то я бы его увидел собственными глазами. А я его не видел потому, что «Арсенал» находился от меня в четырех километрах на Печерске
77.
* * *
Реальным для меня было наступление советских войск на Киев, когда в середине января бывший царский полковник, а тогда командующий этими войсками Муравьев открыл огонь по городу из полевых и более тяжелых орудий.
Принимая во внимание, что полевое орудие било примерно с восьми километров, надо думать, что Муравьев начал стрелять, подойдя к местности, которая тогда называлась Нивкой. По мере приближения огонь усиливался, и длилось это в течение одиннадцати суток, днем и ночью
78. И, наконец, огонь прекратился, и советские войска вошли в Клев.
Из событий тех дней помню следующее.
* * *
Наш особняк был защищен высокими домами, но тем не менее в саду разорвалась шрапнель, а в зале случилось даже необъяснимое происшествие. Хотя ставни были закрыты, но на паркете оказался осколок разорвавшегося снаряда. Он пробил закрытые ставни и стекло. Это все было еще ничего. Неприятны были пулеметы. Они стояли на Кузнечной, точнее сказать, на углу Терещенковской и Караваевской. И обстреливали Кузнечную, где ожидалось выступление противника. Этот пулемет был нам опасен, потому что он иногда переводил огонь, обстреливая то одну улицу, то другую, и, следовательно, очередь могла прошить наш домик. Поэтому я приказал всем домашним становиться за печи. Но пулеметчики, по-видимому, это понимали и, когда настраивали его на обстрел другой улицы, пулемет замолкал.
* * *
Была еще одна неприятность. Водопроводы не действовали. Поэтому воду доставали из немногочисленных действовавших еще колодцев. У каждого такого колодца стояла большая очередь.
Когда шрапнель начинала колотить по очередям, они разбегались, но затем выстраивались опять.
* * *
В ночь на 26-е января бомбардировка была особенно жестокая. Поэтому утром, когда она прекратилась, я вышел на улицу посмотреть, что произошло с близкими мне людьми. Прежде всего я отправился в дом Мороза, который в эту ночь получил двадцать девять прямых попаданий. Дарью Васильевну я нашел в подвале, откуда и вытащил ее. Она рассказала мне, как прошла ночь, и этот рассказ был впоследствии помещен в журнале «Малая Русь»
79. Все население дома Мороза, когда начался его обстрел, бросилось в подвал, несмотря на то, что там было темно. Там люди ждали всего, и вдруг произошел взрыв в самом подвале. Это каким-то образом взорвалось паровое отопление. Раздались страшные крики — ведь там набилось около трехсот человек, но никто не пострадал.
Мы вошли с Дарьей Васильевной в ее комнату. Она, по счастью, оказалась невредимой.
* * *
Простившись с ней, я отправился на Тарасовскую улицу, номер пять, которая была недалеко. Там жил мой брат Дмитрий Дмитриевич Пихно с семьей. У них снаряд оторвал угол дома. Никто не пострадал.
Я перешел на другую сторону улицы, в усадьбу, где жил профессор Рекашов, математик. Его мы в 1917 году посылали в Москву, чтобы вытрясти из московских толстосумов деньги. Украинствующих богато снабжали деньгами немцы, а у нас деньги были на исходе. «Киевлянин» за это время получил убытки в сто тысяч рублей, хотя подписка выросла. Это произошло потому, что мы не повышали цены на газету, а цены вообще на все страшно выросли. Этот долг в сто тысяч погасила группа лиц, сочувствующих «Киевлянину», во главе которых стояла семья Драгомировых
80.
Рекашов ночью был убит. Во время бомбардировки он вышел в сад и был убит разорвавшейся шрапнелью.
После этого я, вновь пройдя мимо моего дома, вышел на Большую Васильковскую. И тут я увидел подымавшуюся по улице советскую пехоту. Впереди ехал на коне какой-то командир, держа в руке револьвер. Они прошли мимо меня, направляясь, по-видимому, на Крещатик. Около стен домов боязливо жались первые редкие прохожие.
Большая Васильковская в этом месте заворачивает, и потому большой дом, принадлежавший Слинко, как бы стоит поперек улицы. В него очень легко было попадать из орудий, так как он был виден издалека. Действительно, в него попало несколько снарядов. И один — в квартиру второго этажа профессора Богаевского. Я поднялся. Квартира была совершенно разрушена. Тогда я пошел искать Богаевского в подвале. Там я увидел нечто вроде огромной жабы, завернутой в плед. Это и оказался профессор истории Богаевский в больших очках. Я обрадовался, что он был жив и невредим, но сообщил ему, что его квартира не существует. Вытащив его оттуда, я сказал ему, чтобы он временно перешел ко мне. Затем я еще сделал несколько отдаленных экскурсий. Я побывал на Печерске, где жила моя сестра Алла Витальевна с мужем Александром Дмитриевичем Билимовичем. В квартире никого не было, но она была открыта. Видимо, бежали наспех. Однако, кто-то громко закричал:
— Кто там!
Я вошел в столовую и увидел попугая.
* * *
После этого я попал на крутую улицу, подымающуюся от Бессарабской площади. Тут жила во втором этаже одна дама, политическая дама, хорошо мне знакомая. Я вошел. Она бросилась ко мне в большом возбуждении. Схватив меня за руку, она показывала в угол. В углу горела лампадка перед иконой Божьей матери. Дама закричала:
— Она! Она спасла!
И объяснила:
— Она была вот тут, в этом углу, которого уже нет.
Действительно, в том месте, на которое она указывала, была зияющая дыра. Дама продолжала:
— И она сказала, — при этом она не заметила, что чудо было уже в том, что икона заговорила, если это было на самом деле, — она сказала: «Возьми меня отсюда и перенеси в другой угол». И как только я это сделала, раздался грохот. И вот дыра.
Когда дама немножко пришла в себя, она сказала:
— Вот мой муж и мальчики.
Я увидел плотного мужчину средних лет и двух гимназистов средних классов. Она продолжала рассказывать, но так, что кое о чем мне приходилось догадываться.
— Их пришло четверо. Спрашивают про детей: «Твои дети?» — «Да». — «Ну, еще маленькие, а то…». Затем посмотрели на мужа: «А ты кто?» А он, знаете ли, совершенно бесстрашный. «Я кто? Я помещик». Тут они как закричат: «Ах, ты помещик!? Вот тебя-то нам и надо. Идем!» И увели его. А я не могла сейчас же идти за ним. Я почти голая была. А когда я их догнала, то он уже стоял на коленях, лицом к стенке. А они за ним с винтовками. Я к тому, который у них был старший. Я упала на колени, обнимала его ноги и кричала: «Что ты делаешь! Ведь есть же мать у тебя». А он: «Мать, говоришь? Есть мать. Ну так и что. Я вот своего брата родного убил за то, что он против нас». После этого он как бы очнулся и проговорил: «Эй, ты, помещик, вставай! Пойдем». Мой муж встал совершенно спокойный, и все мы пошли домой. Поднялись в квартиру. Старший и говорит: «Старуха, а водка есть у тебя?» Я говорю: «Есть, есть». — «Давай!» Я принесла водку в эту же комнату. А они говорят: «Неси в кухню». Отнесла туда. Тогда они кричат: «Эй, ты, помещик, иди сюда». Я взмолилась: «Не убивайте». — «Дура. Иди, помещик, выпьем за твое здоровье». И они стали пить.
И «старуха» разрыдалась и прибавила:
— Попили и пошли. А старший сказал мне, прощаясь: «Спасибо, старуха, что удержала».
* * *
Я спускался с крутой улицы и думал: «Действительно, крутая. От стенки до водки».
* * *
После этого я опять очутился на Большой Васильковской. Около булочной Душечкина, а позже Голембиовского, ко мне подошел человек, явно офицер, но без погон. Он сказал мне:
— Я вас узнал. Вы — редактор «Киевлянина».
— Да.
— Всю ночь дрался. Но у меня нет приюта в Киеве.
Я посмотрел на него и сказал:
— Пойдемте.
И приютил его в редакции «Киевлянина», в кабинете помощника редактора, где он сразу же лег, видимо, совершенно уставший.
Я пошел домой, в особнячок. Поели с профессором Богаевским. Затем приходили разные люди, сообщавшие, как они провели ночь. Пришел и мой другой брат, Павел Дмитриевич. Не помню, где он тогда жил.
И, наконец, я уснул.
* * *
Примерно в три часа ночи меня разбудили. Со свечой в руках надо мною стоял мой племянник Ваня, подросток пятнадцати лет.
— Дядя, уже пришли.
— Где?
— С черного хода.
Я не раздевался в эту ночь, встал и пошел к дверям, взяв у него свечу из рук. Открыл дверь. Ворвался кто-то в черном.
— Руки вверх!
Я поднял свечу. По-видимому, недостаточно.
— Вверх, вверх! — раздался окрик. Затем последовал вопрос:
— Где ваш кабинет?
Я пошел вперед. Мы вошли в кабинет и сели в кресла. Вдруг свеча выпала у меня из рук и потухла. Стало темно. Раздался крик одетого в черное:
— Товарищи, приготовьтесь, внимание!
Я чиркнул спичкой о коробок и зажег свечу. И тут, наконец, рассмотрел его. Это был, несомненно, еврей. Молодой, может быть, слесарь. Видно было, что он упоен своею властью. Он заговорил отрывисто:
— Револьвер есть?
— На мне нет.
— А где есть?
— В шкафу.
— Где в шкафу?
— В соседней комнате.
Мы прошли в соседнюю комнату, я вынул браунинг, и он выхватил его у меня из рук.
Тут же стояли книжные шкафы. Среди книг было еще семь револьверов, но он удовлетворился одним.
— Где редакция газеты? — продолжал он отрывисто допрашивать.
— В другом доме.
— Товарищи, приготовьтесь! Окружите его.
Мы пошли через двор и опять с черного хода вошли в помещение редакции. Была большая комната и затем кабинет помощника редактора, в котором спал на диване неизвестный мне офицер, подобранный на улице. «Слесарь» завопил:
— Это кто?!
Спросонку, мало что понимая и щурясь от света свечи, мой гость спустил ноги с дивана.
— Я спрашиваю, кто это?!
Тот ответил:
— Человек.
Тут «слесарь» понял, что это офицер. Шинель лежала рядом.
Он заорал:
— Отдавай орудие!
В это время я заметил другого еврея, студента. Он сказал, обращаясь ко мне:
— Не обращайте на него внимание, он сумасшедший.
А офицер ответил, рассмеявшись:
— Какое орудие? Трехдюймовку, или крупнее?
— Вставай!
Тот встал.
— Товарищи, окружите их!
Нас повели обратно, опять по черной лестнице. Там уже было много народу, и моя жена, Екатерина Григорьевна, в белом оренбургском платке стояла на ступеньках. Она смотрела спокойно и презрительно
81.
* * *
Она потом писала в своих записках: «Тут я увидела своего мужа. Как всегда, с некоторого времени, он становился старшим в любом положении. Пришла его пора. А ведь раньше его всегда называли “молодой барин”».
* * *
Мой попутчик, офицер Угнивенко
82, как я потом узнал, был родом из Крыма, из города Перекопа, где жила его мать. Нас посадили в первую машину, рядом с шофером сел мой «слесарь». Помчались. Через несколько мгновений, в самом начале Крещатика, я увидел высокий дом, объятый пламенем. Это был дом Богрова, отца убийцы Столыпина. Дом был подожжен зажигательными снарядами. Случайно? Кажется, нет. Потому что одновременно был подожжен другой дом, шестиэтажный, в другом месте, на Никольско-Ботанической, принадлежавший Михаиле Грушевскому, члену правительства Рады. Когда-то мой брат Павел Дмитриевич и я жили рядом, в номере 9.
Отец Михайлы Грушевского построил этот дом на деньги, полученные от русского правительства за учебники, принятые в средних школах.
Принимая во внимание, кем оказался впоследствии Муравьев, я думаю, что эти два пожара произошли не случайно. Кто-то мстил убийце Столыпина и отрекшемуся от отца и матери Михаиле Грушевскому. По крайней мере, в Киеве говорили, что мать Михайлы Грушевского публично на улице прокляла своего сына за измену России.
* * *
Дом Богрова «пылал как факел погребальный, и не угас еще доныне этот свет». Машина встала как бы для того, чтобы я мог полюбоваться на пожар. При багровом свете пламени видны были какие-то люди, бродившие по улице. Один из них подошел близко к машине. В его руке была бутылка с водкой, и он, запрокинув голову, пил. Тут мой «слесарь» выхватил бутылку из руки пьяницы и стал его бить ею по голове, пока тот не упал. Свершив правосудие, мы помчались дальше, за нами следовала другая машина.
Пылающий дом светил некоторое время нам вослед, но когда мы повернули направо, стало темнее, шофер не заметил электрических проводов, висевших низко, и мы едва не попали в катастрофу. «Слесарь» изругал шофера, и мы поехали тише. Проехав Царский сад, мы подъехали к Мариинскому дворцу, захваченному штабом Муравьева.
Екатерина Григорьевна, моя жена, которая тут побывала наутро, рассказывала, что кругом дворца венчиком лежали трупы расстрелянных
83.
Но нас доставили в целости. Мы, ведомые «слесарем», поднялись по темноватой лестнице во второй этаж. Открылась дверь. Мне бросился в глаза длинный стол, освещенный множеством огарков. Вокруг стола стояло множество людей, лица которых были освещены снизу.
Как только мы вошли, я услышал громкий голос:
— Опять кто-то влез. Запомните, здесь штаб, сюда может входить без разрешения только Ленин, — он остановился, сделал паузу и прибавил, — или Николай II.
Чей-то голос, недоумевая, прибавил:
— А этот к чему же?
Нас с Угнивенко поставили около потухшего камина. А доставивший нас еврей подошел к столу и сказал тому, кто сделал только что такое заявление громовым голосом и являлся, по-видимому, здесь начальником:
— Товарищ Ремнев! Я доставил двух паразитов. Шульгина и еще одного.
Ремнев ответил:
— Каких паразитов? Как вы выражаетесь?
Затем он стал присматриваться. Огарки мешали ему хорошо видеть. Но я-то очень хорошо видел его лицо. И оно стало изменяться, как будто с него снимали какой-то грим. За мгновение перед тем он был нечто вроде ухаря-купца. И вдруг выглянуло интеллигентное лицо, и он сказал, обращаясь ко мне:
— Вы, кажется, бывший редактор «Киевлянина»?
— Да.
— Вам дадут отдельное помещение. Не хотите ли чаю?
— Нет, благодарю вас.
После этого «слесарь» потащил нас из комнаты в какое-то другое помещение. Всюду, где мы проходили, было много народу, и он все время спрашивал:
— Где комендант? Мне надо товарища коменданта.
Наконец комендант отыскался. От него сильно пахло водкой.
— Товарищ комендант. Хорошее обращение и отдельное помещение.
Товарищ комендант ворочал языком с трудом, но все же проговорил:
— Отдельного помещения не будет. Всюду напхано.
* * *
Он оказался прав. В «отдельном» помещении было четыреста человек народу, как оказалось утром. Люди валялись на полу, кто как мог, вокруг четырехугольного возвышения, которое, может быть, было когда-то эстрадой. На противоположной стороне было полуразбитое, очень высокое зеркало. Внизу — маленький столик, а под ним — перекладины. «Слесарь» исчез, а мы с Угнивенко, положив головы на перекладины, а шапки употребив как маленькие подушки, называемые «ясик», уснули.
* * *
Пришло утро. Многоголовое население «отдельной» комнаты начало подниматься и приступило к очередным делам, прерванным ночью. Дела их состояли в следующем. Они изображали из себя человеческий круговорот, медленно двигавшийся вдоль зала. Пока что мы с Угнивенко лежали, наблюдая жизнь этих людей, уже уложившуюся в какие-то рамки. Разговаривали, но не громко, так что по залу разносилось приглушенное гудение, сопровождаемое шарканьем ног.
Через некоторое время раздался со стороны входных дверей громкий крик:
— Товарищ Родзянко!
Я сначала не понял, но я знал, что младший сын Михаила Владимировича Родзянко в Киеве и что он недавно женился на княжне Яшвиль. Я понял все, когда две дамы в трауре вошли в этот человеческий круговорот и стали искать в нем «товарища Родзянко». Он был расстрелян в эту ночь. Но вдова и ее мать не верили и все еще надеялись. Вероятно, из сострадания часовой у двери продолжал выкликивать «товарища Родзянко», но он не откликнулся, и женщины в трауре ушли.
* * *
В эту ночь погиб не один Родзянко. По счету Красного Креста, расстреляно было несколько тысяч человек. Их расстреливали прямо на улице, некоторых за удостоверение личности на бланках красного цвета. Ожидая всяческих бед, русские офицеры запаслись этими бумажками, где их означали как украинцев. Но вошли большевики, и началась расправа с будто бы украинскими офицерами. С другими же дело было проще. Расстреливали за сапоги и галифе (тоже бывшие своего рода удостоверениями личности), ибо освободители Киева были так же раздеты, как некогда солдаты Наполеона, вошедшие в итальянские города. Наполеон разрешил грабить три дня. На четвертый день стали расстреливать. Так корсиканец одел и накормил свою боевую и голодную армию и вместе с тем сохранил дисциплину.
Выше я уже указал, что Красный Крест насчитал несколько тысяч погибших. Быть может, этот счет преувеличен. Вот другой счет. Некая Марья Андреевна Вишневская пришла в морг Александровской больницы и там при помощи служителей, которым она заплатила, перебрала семьсот трупов, отыскивая знакомых.
* * *
Эта же Мария Андреевна в косынке сестры милосердия проникла в нашу залу, разумеется, одарив часовых, раздала карандаши и клочки бумаги арестованным и приказала:
— Пишите, что вы живы.
Эти бумажки она затем отнесла в какую-то женскую гимназию, и девочки старших классов моментально разнесли их по адресам. Таким образом родные и близкие узнавали, что мы живы.
Мне она бумажки не дала — она меня слишком хорошо знала в лицо, но сделала вид, что меня не узнает.
* * *
Разгадку ее поведения я скоро узнал. В нашу залу вошла тоже в костюме сестры милосердия молодая девушка. Ее я тоже знал. Она была гласной городской думы от партии большевиков. А сопровождал ее некто Гинзбург, тоже гласный от большевиков. Они через некоторое время разыскали меня и сказали:
— Вашим сообщено, что вы живы, но вас нет, вы исчезли. Не ждите, когда будут вызывать для передач. Вас не будут вызывать. Вы сами стойте у дверей и увидите кого надо.
Так и было. Заключенных не кормили. А потому часовые самоотверженно целый день вопили, выкликивая имена различных заключенных, которым приносили передачи.
Я, простояв некоторое время у дверей, увидел мою сестру Аллу Витальевну, державшую узел, а рядом с нею стояла Дарья Васильевна. Обе не сказали ни слова, но Дарья Васильевна смотрела на меня таким взглядом, который я помню и сейчас.
Жена моя Екатерина Григорьевна не приходила. Ее слишком хорошо знали, а ведь я пропал.
* * *
В эти дни среди круговорота нашей залы обозначились две партии. Одни — паникеры, другие — «наплеватели». Дело было в том, что сейчас же распространились слухи, что придут матросы, которые всех расстреляют. Их ждали день и ночь. Паникеры продолжали паниковать, но другие вдруг возмутились и сказали:
— Расстреляют? Ну и наплевать.
Эти наплеватели завладели квадратным возвышением в зале, и здесь они занимались рассказыванием всяких анекдотов — армянских, еврейских, приличных и похабных. Это был мудрый выход. Хохот ни на минуту не замолкал вокруг них, привлекая и многих паникеров, которые забывали матросов. А матросы так и не пришли.
Вместо этого, кроме вызова на передачи, стали вызывать и «в трибунал». Трибунал образовался как-то в порядке самодеятельности и стал разбирать вину заключенных, которых оказалось гораздо больше четырехсот, так как выяснилось, что и другие помещения тоже были забиты ими.
Как я узнал впоследствии, идея этого трибунала принадлежала некоему студенту Амханицкому
84. Он был левый эсер, а левых эсеров тогда большевики еще признавали.
Амханицкий был еврей, и он набрал себе в качестве членов трибунала (сам он был председателем) нескольких киевских адвокатов, тоже евреев.
Меня вызвали, но не гласно, а по секрету. Я предстал пред этим трибуналом, не ведая, чего же ждать. Амханицкий сказал мне:
— Товарищ Шульгин, ваше дело не подсудно киевскому трибуналу. Через некоторое время мы отправим вас в Москву.
А Угнивенко не вызывали. Его пришпилили ко мне, присоединили навсегда, и это кончилось для него плохо.
* * *
Я познакомился еще с одним евреем, тоже заключенным. Он мне сказал:
— Я каждую ночь ухожу отсюда.
— Каким образом?
— Ну, вечером. Когда выводят в сад по нужде. Там они стоят кругом. Темно. Я себе тихонько прохожу и иду домой. А утром прихожу обратно. Это и вы можете сделать.
Я ответил:
— Я не могу этого сделать. Сейчас же увидят, что меня нет. А если я убегу, могут арестовать мою жену.
— Ну, как себе хотите.
Я же подумал: «А не провокатор ли ты?»
* * *
Познакомился я там с одним офицером, оказавшимся бельгийцем. Он был обрадован, что может говорить со мною по-французски. Он восторгался Ремневым:
— Ah, c’est un homme!
[31] Они хотели расстрелять меня на ступенях, в эту минуту он подъехал. Он не стал терять времени. Одной рукой он схватил меня и поставил за собою, а другой вынул револьвер. И вот так он вырвал меня из рук убийц.
Тут надо добавить о Ремневе, что упомянутая Мария Андреевна тоже вступила с ним в таинственные отношения, и он, пользуясь своею должностью командира корпуса, многим оказал помощь.
* * *
Амханицкий довольно быстро выпускал заключенных. Поэтому стало больше места. Но ненадолго. К нам посадили некоторое количество уголовников. Между ними одного русского, рыжего, с веснушками и лохматой головой. Другого — поляка, тонкого, в хорошем пальто. Между ними тотчас же произошла борьба за власть. Рыжий набил поляка и стал диктатором нашей залы. Но в это же время в караул заступили георгиевцы, которые считались нейтральными
85. В качестве нейтральных они почему-то хорошо знали меня. И из большой залы, где властвовал рыжий, перевели в прилегающую комнату поменьше. Там поставили кушетку, что уже было хорошо. Но кроме того, там был камин. Около камина положили связку дров и топор. Рыжий все это видел. В большой комнате тоже был камин, но не было дров. И он пришел, чтобы взять наши дрова. Но он допустил ошибку. Когда он наклонился над дровами, Угнивенко взял
топор и сказал спокойно:
— Брось дрова.
Рыжий не обратил на это никакого внимания. Тогда Угнивенко проговорил также спокойно:
— Посмотри вверх.
Рыжий взглянул и увидел над своей головой топор. Он бросил дрова и ушел. Тут я понял, что Угнивенко послан мне судьбой. И мне захотелось сказать, подражая бельгийцу: «Ah, c’est un homme!» Но Угнивенко не понимал по-французски. И по-английски тоже. А через несколько месяцев это решило его судьбу.
* * *
И наступил, наконец, день, когда мы с Угнивенко покинули дворец, но не для свободы, а наоборот, чтобы изведать настоящую тюрьму. Нас перевели в Лукьяновскую тюрьму. Там тоже на стенах были автографы заключенных. Их не стирали и как бы гордились, если это были известные имена.
Тюрьма состояла из маленьких камер. Мы с Угнивенко сидели только вдвоем. Можно было ходить по коридору, выйдя из камеры, и заходить в другие камеры. Словом, это было общежитие на либеральных началах. Одно из первых знакомств было с генералом, конечно, уже не молодым (фамилии не помню). Он был поляк и не утратил польских манер.
— За что вас посадили, ваше превосходительство? — спросил я его.
— Видите ли, было объявлено, чтобы сдавать все оружие, употребляемое на войне. Но ничего не было сказано о ружьях охотничьих. Я пошел справиться, нужно ли сдать и охотничье ружье. Но мне не дали ответа, а спросили, кто я такой. Я им сказал: «Честь имею представиться, генерал такой-то». — «A-а, так вы генерал?» — «Да, генерал-майор». — «Прекрасно», — ответили мне и добавили: «Так как вы можете быть опасны, то мы вынуждены вас арестовать. Ненадолго. Пока вы будете представлять опасность». Подали машину и привезли меня сюда. Подумайте! — закончил генерал с возмущением.
Тут ввалился в коридор молодой человек, весь в черной коже и пьяный. Он начал рассказывать, не обращая ни на кого внимания:
— Я начальник всей красной милиции города Киева. Я честно исполнял свои обязанности. Ну, выпил немножко. Вдруг ко мне на улице подходит какой-то студентишко и говорит: «За недостойный образ жизни и пьянство вы освобождены от должности». — «А ты кто такой?» — спрашиваю. — «Я? Я вновь назначенный начальник красной милиции Киева».
Его посадили в пустую камеру и заперли дверь, чтобы он не шумел. Но он захрапел.
Совершив с Угнивенко разведывательную прогулку, мы вернулись в свою камеру и хотели лечь спать. Но не тут-то было. Отворилось окошечко и просунулась голова. Тоже студент. Он заговорил:
— Товарищи! Надо организовать голодовку. Все мы сидим без причин. Мандатов на арест не предъявляли. Поэтому, как все знают, надо объявить голодовку, как единственное средство борьбы.
Я спросил его:
— Какая цель голодовки?
— Чтобы предъявили мандаты.
— И все?
— Что же еще надо? Тогда закон будет соблюден. Но вы не беспокойтесь. Это будет голодовка, так сказать, принципиальная. На самом деле голодовки не будет.
— Как же это так?
— Очень просто. Мы будем отказываться от казенной пищи. Эго небольшая будет потеря для нас, как вы понимаете. А передачи нам будут приносить. Согласны?
— Нет. Мне безразлично, соблюдаются такие законы или нет. Все сплошь одно беззаконие.
— Вы, товарищ, по-видимому, реакционер.
— Да.
— В таком случае понятно.
И голова исчезла, сделав недовольную гримасу. Пошел искать других, отстаивающих законность в сложившейся ситуации.
Таких дон-кихотов я видел много лет спустя в тюрьме в городе Владимире.
* * *
А события шли своим чередом. Однажды меня вызвали в другое здание тюрьмы. Там было нечто вроде приемной, где меня ждала моя сестра Алла Витальевна с передачей. Так как и здесь был надзор, она не могла говорить свободно, но все же я понял: что-то должно случиться.
* * *
Это и случилось. Меня снова вызвали в трибунал, который переселился в Лукьяновскую тюрьму. В общем, считая дворец и тюрьму, я сидел уже две недели. Амханицкий за это время выпустил на свободу уже шестьсот человек. Никто не был расстрелян.
Итак, я во второй раз предстал перед трибуналом, заседавшим в том же составе. Амханицкий сказал:
— Товарищ Шульгин, мы решили вас освободить. Но под условием.
— Под каким условием?
— Вы должны дать слово, что, если мы вас позовем, вы придете.
Я понял, что совершается нечто, на что намекала моя сестра, и спросил:
— Кого я должен понимать под словом «мы»?
Амханицкий ответил с улыбкой:
— Вполне вас понимаю. Скажем так: мы — это значит, если восстановится советская власть, или лучше сказать — идея советской власти.
— В Киеве?
Дело стало совсем ясно. Нынешняя советская власть уходит из Киева. И я ответил:
— Понимаю. Даю слово: если вы меня позовете, я приду.
* * *
Прошло много лет. Они меня не позвали, хотя не только идея советской власти, но и реальная советская власть восстановилась в Киеве. Советская власть меня не позвала, а арестовала в 1944 году в Югославии, в городе Сремски Карловцы. Затем я отсидел почти двенадцать лет, затем меня освободили, и это дело погашено. Теперь, если меня позовет советская власть в Киеве, я не поеду.
Итак, меня освободили. И Угнивенко тоже. Его, впрочем, ни о чем и не спрашивали. Мы вышли с ним из тюрьмы. Я сказал:
— Ну, на первых порах я прошу вас к себе. Но затем уезжайте, ради Бога. Неизвестно, что со мною будет.
Он согласился:
— Попробую пробраться к матери в Перекоп.
Глава VI
НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ
Последний номер «Киевлянина»
Мы добрались до моего дома на Караваевскую, 5, но там остался только на короткое время Угнивенко, а я решил на всякий случай переменить квартиру. Но куда? Брат Павел Дмитриевич, который жил на Никольско-Ботанической, предложил мне поселиться у него. Этот дом стоял рядом с домом Михайлы Грушевского, который совершенно выгорел внутри, но стоял еще шестиэтажной громадой, постепенно разрушаясь.
В этой квартире, достаточно большой и удобной, меня ждала Дарья Васильевна. Войдя в комнату, я увидел гипсовый бюст русской царевны с билибинским кокошником и с лицом Дарьи Васильевны. Несколько лет тому назад этот бюст вылепил мой племянник Филипп, скульптор. В моей квартире скульптуру неудобно было держать. Я взял извозчика и повез ее к брату. Извозчик сказал: «Закройте, барин». — «А что?» — «Неудобно, увидит народ, что царицу везете». Теперь «царица» попала на свое место, резко выделяясь своей белизной на оранжевом атласе какой-то портьеры. Она была немой свидетельницей моей жизни здесь в течение ближайших месяцев. И, между прочим, присутствовала при изготовлении секретных посланий, которыми я занимался как руководитель организации «Азбука»
86. И была свидетельницей того, как летели на пол листки бумаги, на которых была отпечатана статья, появившаяся в газете «Киевлянин».
Эта статья появилась в номере «Киевлянина», который получил название «Последний номер “Киевлянина”» и обозначал начало нового периода не только в моей жизни, но и в жизни Киева и всея Малыя Руси.
* * *
Как только я поселился в этой квартире, и в ней, и во многих других квартирах Киева только и было разговоров на тему: придут немцы или не придут. И, наконец, они пришли. Пришел сначала Петлюра со своими частями. Он шел впереди немцев, двигавшихся от Житомира. Выходило так, как будто Петлюра освободил Киев от большевиков. Тут есть аналогия с тем, как шел генерал Дроздовский в другом направлении, из Бессарабии на Дон. Он тоже шел впереди немцев, не смешиваясь с ними. Но была разница между ними в том, что Украинская Центральная Рада находилась в союзе с немцами, а Дроздовский — нет, и помощи их не принимал.
Однако вход частей Петлюры был малоощутимым для киевлян и потому, что они были в старой русской форме, и по их сравнительной малочисленности.
Немцы вошли в Киев 1-го марта мирно. Ведь они были как бы призваны украинской властью. Они делали вид, что это не оккупация, а помощь. Не помню, каким официальным актом ознаменовалось вступление германских войск, но когда это стало совершенно очевидно, я решил со своей стороны отметить их вступление в Киев и показать отношение к ним киевлян. Я имел на это право и обязанность, так как Киев выбрал меня своим представителем в Украинское Учредительное собрание.
Статья эта, конечно, была рискованная. Было неизвестно, как на это посмотрит немецкое командование, которое фактически стало властью в Киеве. Но я об этом не думал, будучи в каком-то трансе, который на меня иногда нападает. Это состояние характерно в том смысле, что кто-то, кто сильнее меня, овладевает моим обычным «я» и приказывает мне делать то или другое. Это состояние транса, очевидно, овладело и Дарьей Васильевной, которая стучала на машинке, как пулемет, по-видимому, совершенно забыв об опасности, которая могла бы мне грозить. Я чрезвычайно оценил впоследствии, что она не только не связала мне рук, но всем своим существом поддержала меня в решительную минуту.
Статью я продиктовал без поправок со стенографической быстротой. И не только эту передовую статью, а еще целый ряд других столбцов, которые изображали мой дневник за три дня до вступления немцев. Этот дневник в этом последнем номере «Киевлянина» вышел в виде белых полос. Он не был пропущен.
* * *
Собрав эту литературу, я отправился на свою квартиру, на Караваевскую, и передал все в типографию, находившуюся тут же. Типография, хотя и находилась в нашем доме, но нам не принадлежала. Она была собственностью московской фирмы Кушнерева. Управляющего типографией Михайловского не было в Киеве тогда. Заменял его помощник. Когда все было набрано, с корректурными листами в руках он прибежал ко мне, совершенно взбудораженный.
— Василий Витальевич! Я плакал над этими листами. И наборщики плачут. И весь город будет плакать. Но что же делать?
— Чего вы опасаетесь?
— Они конфискуют типографию.
Конечно, этого можно было ожидать. И потому произошла длительная пауза. Наконец, я сказал:
— Я свое дело сделал: написал статью, передал ее вам, и она набрана. Больше я ничего не знаю и знать не хочу.
И опять наступило молчание. Потом он решился и повторил:
— Вы больше ничего не знаете?
— Да.
Глаза его блеснули, как бывает у человека, когда ему сверкнет счастливая мысль. Он убежал вместе с корректурными листами. Куда?
* * *
К немцам. Там, у них в штабе, среди других сотрудников был некто Альвенслебен, прекрасно владевший русским языком. О чем они совещались, не знаю. Через некоторое время помощник Михайловского прибежал ко мне.
— Последний номер «Киевлянина» выйдет, — сказал он, — они сидели и обсуждали вашу статью два часа. Потом ко мне вышел Альвенслебен и говорит: «Если человек закрывает газету, которую издавал пятьдесят лет, то надо же ему дать возможность высказаться, почему он это делает. Печатайте. Только дневник пусть идет белыми полосами».
* * *
Статья вышла 10-го марта в шестнадцатом номере «Киевлянина»
87.
Не знаю, плакал ли весь Киев, как предсказывали, но бум был произведен ошеломляющий. И, несомненно, мальчишки, продававшие газеты, не плакали. Через час после того, как номер вышел и мальчишки помчались с криками: «Па-аследний номер “Киевлянина”!», — этот последний они начали продавать по двадцать пять рублей за штуку. Это дает достаточное представление о впечатлении, произведенном на киевлян. В течение дня ко мне врывались всякие люди с выражением своих чувств и опасений, но этого всего я не помню в подробностях, так как все это заслонил ночной визит.
Пришел один из сотрудников «Киевлянина», обрусевший бельгиец, для которого русский язык стал родным, но и французский также не был забыт. Я не знал, что он находится в связи с французской разведкой, находившейся в Киеве. Тут он объяснил мне, что капитан Эмиль Энно, тайно уже некоторое время живущий в Киеве, просит его принять.
Капитан Энно пришел. Это был человек средних лет, мало похожий на француза, и это было понятно, так как он был из Эльзаса, как я потом узнал. Его лицо было необычайно энергично, но приятно, а голос такой, что я немедленно попросил его так не кричать, потому что могут услышать на улице. Сжав мои руки, он загремел:
— Этого Франция не забудет, этого Франция не смеет забыть.
И так далее в этом роде. Затем, несколько успокоившись, он объяснил, что ему надо бежать отсюда (немцы нащупали). Он находился в подчинении графа Сент-Элер, который в это время был в Бухаресте. Ему, Сент-Элеру, поручено контролировать Восток, то есть Россию. Сент-Элер находится в непрерывной связи с «Тигром» (Клемансо). Статья по прямому проводу из Бухареста будет передана в Париж. И хотя он сам, Энно, уедет, но постарается держать со мною связь, если это будет возможно. Еще он мне сказал, что он живет здесь в Киеве у одной дамы, которая служит ему переводчиком и является человеком верным. Я спросил:
— Француженка?
— Нет, коренная киевлянка.
На этом мы распростились.
* * *
На следующий день пришел англичанин
88. Этого я знал. Он тоже должен был немедленно уехать, но не в Румынию, а в Москву, в британскую миссию. Конечно, он, как и Энно, благодарил меня, правда, не так оглушительно, а чисто по-английски сдержанно. Но прибавил определенно, что устроит связь из Москвы. На этом мы и распрощались.
Я ушел из дому, а когда вернулся обратно, то Екатерина Григорьевна, моя жена, сказала:
— Был англичанин опять. Оставил вот этот пакет.
Я вскрыл пакет. Там оказалось двадцать тысяч рублей. Я понял, что это на устройство связи. Кроме того, там был еще и какой-то московский адрес.
Организация «Азбука»
С этого и началась конкретная деятельность «Азбуки». Я начал готовить материалы — осведомления о происходящем в Киеве, секретным образом. Я придумал особый способ, никому до той поры не известный: папиросы. На ленточках бумаги печатался текст. Эти ленточки скручивались и вкладывались в готовую папиросу, в гильзу. Эта вкладка совершенно была незаметна и до такой степени, что папиросы со вложением отмечались едва заметной точкой карандашом. Остальные папиросы были без таких вложений и отметок. Затем последовало усовершенствование — вместо ленточек текст печатался на листах бумаги и снимался на фотопленку. Пленка точно так же разрезалась на кусочки и вкладывалась в папиросы.
При всей своей примитивности, этот способ оказался удобным, действовал до конца, и никогда никто не был пойман из-за папирос.
Хотя однажды был такой случай, что «азбучный» курьер ехал с каким-то подозрительным лицом, с которым он по этой причине вступил в дружеский разговор и предложил ему папиросу, открыв коробку. Тот взял и курил папиросу, ничего не подозревая. Затем он бросил окурок. Курьер заметил и подобрал его.
* * *
Само название «Азбука» родилось так. Осведомления я получал от разных лиц. Главный осведомитель был сотрудник «Киевлянина» и член Государственной Думы Савенко. Он сказал, что так как он будет и дальше давать сообщения, то хотел бы как-то свое авторство отметить. И будет подписываться «Аз». Член Государственной Думы Демидов, бывший тогда в Киеве, не зная сам того, стал у меня «Буки». Третьим членом Государственной Думы был я, и себе я присвоил шифр «Веди». Когда «Азбука» из осведомительной организации выросла в организацию, требующую военной дисциплины, «Веди» стал главою «Азбуки».
* * *
В это же время потребовалось дать нечто вроде устава и программы организации. Устав объяснялся просто. Военная дисциплина. Начальник «Азбуки» хоть и пишет «прошу», но это означает «приказываю». Программа «Азбуки» объяснялась так:
— «Киевлянин» читаете?
— Да.
— В таком случае вы знаете программу «Азбуки».
Ее можно было высказать в таких словах: «Против немцев, против большевиков, против украинцев и за Добровольческую армию».
Начальник «Азбуки» знал всех членов организации, остальные даже и не подозревали, что их друзья и близкие состояли в одной и той же организации. Каждая буква могла набирать себе подчиненных, давая им прозвища уже не буквенные, а какие им были угодны.
Буква «Глаголь» был одним из сотрудников «Киевлянина», хорошо осведомленный в городских делах. Однако он не знал, так же как и «Буки», что состоит в «Азбуке», но оказывал ей неоценимую услугу, снабжая организацию информацией по различным вопросам.
Позже еще один член Государственной Думы, Степанов, стал членом организации под шифром «Слово». Он имел в своем подчинении «Принцессу», очень красивую молодую девушку, которая позже вышла замуж за букву «Како». «Како» был молодым офицером по фамилии Кояндер. В личном подчинении у «Веди» был «Паж» (штабс-капитан Виридарский), с которым я познакомился на Государственном совещании.
Таким образом, основоположниками «Азбуки» можно считать «Веди» и Дарью Васильевну Данилевскую. Иногда она называлась «Вединецкая». Она готовила ленточки для папирос, она же писала листы, с которых делались снимки. Затем, когда для «Азбуки» наступило особо опасное время, она передавала часть сведений одному чеху (через него я держал связь с Энно), с которым встречалась в Николаевском парке. Под видом флирта передавала ему пакет. Когда она выходила из дома по этому делу, за ней неотступно следил мой старший сын. Он шел на таком расстоянии, чтобы не терять ее из глаз, но чтобы и никому не пришло в голову, что он идет за этой молодой женщиной. На таком же расстоянии от Василька шел его отец, то есть «Веди». Таким образом, мы были уверены, что если с ней что случится, мы можем ей помочь. В это время я шутя называл ее шпионкой, чем она гордилась.
Итак, «Азбука» состояла из четырех членов Государственной Думы (двух националистов-прогрессистов — Савенко и меня — и двух кадетов — «Буки» и «Слово»). Остальные буквы были офицеры разных чинов (три генерала, несколько полковников и обер-офицеров), а также военных моряков. Среди последних выделялся очень деятельный «Гри-гри» — старший лейтенант Масленников, входивший в группу «Веди». Затем в организацию входили лица невоенные и дамы.
Значение «Азбуки» то преувеличивалось, то преуменьшалось. Деникин называл ее просто «Осведомительная организация». Какой-то писатель говорил о ней: «Таинственная и всемогущая “Азбука”». О всемогуществе, конечно, говорить смешно, но звучало величественно, когда говорили о том, что она обслуживала Францию и Англию. Это случилось после того, как Шульгин написал свою статью, переданную Клемансо, и стал «Веди», то есть если не всемогущим, то всеведущим. Но прежде всего «Азбука» обслуживала Добровольческую армию, когда мы ее нашли.
Дело в том, что когда трехтысячный отряд, которым командовали генералы Алексеев, Корнилов и Деникин, ушел с Дона на Кубань, то связь с ними прекратилась. И я послал одного из своих молодых азбучников найти Добровольческую армию. Почти в это же время со своей стороны командование Добровольческой армии послало во главе пятидесяти всадников одного полковника узнать, не переменилось ли положение на Дону. Он выполнил это поручение, и тогда Добровольческая армия вернулась на Дон, а через короткое время этот полковник генерального штаба Владимир Петрович Барцевич вошел в состав «Азбуки» и стал подчиненным «Веди».
* * *
Итак, немцы по-джентльменски разрешили редактору «Киевлянина» сказать им в лицо, что он их враг, пока идет война. Но естественно, что немцы такого открытого врага пригласили объясниться. Я не жил в то время у себя дома, потому что все азбучные занятия делались на Никольско-Ботанической, но постоянно приходил на Караваевскую. И вот Екатерина Григорьевна мне как-то сказала, что приходил какой-то немецкий унтер-офицер и просил передать, что меня требует немецкая разведка, помещавшаяся на углу Бибиковского бульвара и Елизаветинской. Я немедленно написал письмо, в котором просил прислать мне приглашение в письменном виде и по какому делу. Через некоторое время я получил такое приглашение. Не помню только, была ли указана причина моего вызова.
Я явился, и меня принял полковник фон Лешник. Он говорил по-русски и начал так:
— Я прочел вашу статью. Почему вы закрыли газету? Зачем вы так ставите вопрос? Ведь вы украинец.
— Вам угодно называть меня украинцем, но я русский. Германия состоит в войне с Россией, а значит, все ясно. Мне кажется, господин полковник, что ваша фамилия славянского происхождения.
— Да, но меня захватила идея германской империи, и я немец.
— Точно так же и я. Меня захватила идея русской империи, и я русский.
Он понял, что тут мы не договоримся, и перешел к допросу.
— Нам известно, что вы получили письмо от генерала Алексеева.
Я знал, что тот полковник, который привез мне это письмо, немцами арестован. Он продолжал:
— Что было в этом письме? Оно есть у вас?
— Нет, я его уничтожил, но могу вам сказать его содержание.
— Именно?
— Генерал Алексеев просит меня оказать содействие полковнику, передавшему мне письмо.
— Содействие в чем?
— Там не сказано в чем, содействие вообще.
Фон Лешник надавил кнопку звонка. Вошел и встал по струнке молодой человек в немецкой форме, по-видимому, из евреев. Фон Лешник спросил его по-немецки:
— Was ist «содействие»?
[32] — Затем он по-немецки же добавил:
— Может ли быть «содействие» вообще, без указания, в чем именно?
Переводчик, взглянув на меня, сказал, что по-русски такое выражение может быть. Фон Лешник отпустил его. Затем он спросил, обращаясь ко мне:
— Зачем вы бываете в гостинице «Прага»?
В «Праге» опять жила Дарья Васильевна. Я ответил:
— Господин полковник, извините меня, но я бываю там по делам, не имеющим отношения к политике.
Он смутился и даже покраснел. Затем сказал:
— Эта гостиница принадлежит чеху Вондраку
89. Вы знали его?
— Очень хорошо. Он помещик Волынской губернии, как и я.
— Вы знаете профессора Билимовича? — вдруг спросил он.
— Он мой родственник.
— Что вы можете о нем сказать?
— Когда в тринадцатом году сюда, в Россию, приезжали немецкие ученые изучать реформу Столыпина, то они, естественно, обратились к профессору Билимовичу, который написал об этой реформе докторскую диссертацию.
— Как ваш племянник очутился в обществе полковника, привезшего вам письмо от генерала Алексеева? — Он имел в виду Ваню Могилевского.
— Точно не знаю, меня не было дома, и, может быть, он открыл ему дверь.
— Ваш племянник еще мальчик, и мы его освободили.
— Благодарю вас.
На этом допрос окончился. Он сухо извинился и отпустил меня.
Немедленно мобилизовав кого можно было, я послал сообщение Билимовичам, прося их куда-нибудь уехать. Оказалось, что они уже это сделали. Вондрака тоже уже не было в городе. Что касается Дарьи Васильевны, то они ее вряд ли тронут, решил я. А в общем все обошлось благополучно, и я стал думать, что поведение фон Лешника во время допроса было несколько странным. Он назвал мне ряд лиц, которые были на свободе, как бы для того, чтобы они могли скрыться. И во всяком случае, все это носило такой же джентльменский характер, как и отношение Альвенслебена к последнему номеру «Киевлянина».
Можно себе представить, как допрашивала бы меня гитлеровская разведка. Лишний раз это служит доказательством, что хотя немцы первой и второй войн той же крови, но они как будто бы два разных народа.
* * *
Энно уехал из Киева. Не помню уже как, но я узнал, что он был связан с одним чехом. Однажды этот последний явился ко мне от Энно, и с тех пор обыкновенно обмен информацией производился через него и Дарью Васильевну. Но как-то чеху-связному понадобилось переговорить со мною лично. Это было сделать труднее. Поэтому я нагромоздил еще больше препятствий для предполагаемой слежки, мобилизовав дата организации этой слежки своих сыновей.
На Днепре у лодочника Добровольского было две байдарки, почему я его хорошо и знал. Мы отправились вперед с Васильком и на первой байдарке поплыли вверх. Это уже было во времена Скоропадского. Тогда на другом берегу Днепра образовался великолепный пляж, так называемый солярий, который называли голяриумом. Перевозчик Добровольский очень хорошо зарабатывал, перевозя полуголых дам на другой берег. Мы с Васильком переправились тоже туда на байдарке, но не высадились на голяриум, а поплыли вдоль берега вверх по течению. Так как против течения мы плыли медленно, то внедрились в стаи плавающих дам. Они были очень весело настроены и хватались за байдарку. Василек был скромный юноша, и потому мы пробились без инцидентов.
Этим же путем через полчаса следовал Ляля
90, который вез чеха. Ляля был веселый мальчик и, наверное, какие-нибудь инциденты с дамами произошли. Во всяком случае, и вторая байдарка направилась вверх. Пришлось «взять» несколько гатей с сильным течением. Я сделал это умышленно, чтобы быть уверенным, что за нами никого нет. Мы поднялись почти что до Чертороя, улеглись на песке и поджидали вторую байдарку. И она подошла. Тут мы могли беспрепятственно поговорить с чехом.
Разговор был долгим, потому что чех говорил и по-русски, и по-французски очень плохо, а я по-чешски вообще не говорил. То, что он хотел от меня узнать, можно было сказать в двух словах и заключалось в том, что и мне, по-видимому, придется уехать. Почему? Об этом скажу дальше. Словом, договорились и вернулись в том же порядке.
* * *
Однажды, когда я пришел домой, Екатерина Григорьевна рассказала мне маленький эпизод. Явились два молодых немецких офицера. Она их приняла. Кстати, она свободно говорила по-немецки. Они сказали, что хотели бы взять у нас комнату. Екатерина Григорьевна спросила:
— По добровольному соглашению или по реквизиции?
Они ответили:
— Конечно, по добровольному соглашению.
— В таком случае вынуждена вас огорчить — я не могу сдать вам комнату. А по реквизиции вы можете взять любую.
— Но почему же, мадам?
— Вы, вероятно, читали статью моего мужа в газете «Киевлянин»?
Они поняли. Встали, щелкнули каблуками, сделали поклон головой и ушли.
Гетман Скоропадский
Немцы установили в Киеве следующий режим: они пришли по приглашению, а Украина управляется украинским правительством. Кто же был во главе правительства? Фигура весьма мало импозантная, фамилии его не помню
91.
Поэтому немцы стали готовить нечто в другом роде. Однажды ко мне явились представители малороссийской аристократии: Кочубей и еще кто-то. Они предложили мне участвовать в перевороте, который будет совершен для избрания гетмана, кажется, они даже называли имя Скоропадского. Конечно, переворот будет устроен с благословения немцев. Выслушав их, я сказал:
— Мне кажется странным, господа, что Кочубей участвует в этом деле. Ведь Кочубей-то был за Россию против Мазепы и шведов
92.
— Да, но России-то нет, — ответил кто-то из них.
— Она есть, пока за нее борются.
Словом, мы не договорились, и я отказался участвовать в этой авантюре. Но авантюра все-таки произошла. Бывший флигель-адъютант его величества и полковник кавалергардского полка был избран всеукраинским гетманом при следующей обстановке.
Скоропадский только по фамилии мог считать себя украинцем, или, точнее, малороссиянином. По существу это был гвардейский офицер, до мозга костей связанный с Санкт-Петербургом. По-украински он не говорил. Его товарищ по кавалергардскому полку и член Государственной Думы Безак рассказывал мне впоследствии, как он готовился к избранию. Он бегал по комнате из угла в угол и твердил:
— Дякую вас за привитанье та ласку
[33].
Затем будто бы он опустился на колени перед иконой и сказал:
— Клянусь положить Украину к ногам его величества.
При этом будто бы присутствовала жена Безака, убежденная монархистка, и она поняла, что «к ногам его величества» означает к ногам Николая II. Так, вероятно, думал и сам будущий гетман. Но обстоятельства сложились так, что он положил Украину к ногам его величества Вильгельма II, от которого он и принял титул «ваша светлость».
* * *
Как бы там ни было, но переворот совершился бескровно, немножко смешно, но торжественно. Умелые люди подвезли по Днепру, железным и другим дорогам несколько сот настоящих хлеборобов. Всех их доставили не то в какой-то театр, не то в цирк Крутикова, не помню. На сцену вышел Скоропадский, и раздались крики мужиков-хлеборобов:
— Хэтьмана трэба!
Я сам не присутствовал при избрании гетмана, но так мне рассказывали.
Скоропадский поблагодарил и, вероятно, сказал, что он принимает избрание. Произошло то, что французы называют избрание «par acclamation», то есть избрание криками.
* * *
Другого способа избрания в то время и нельзя было сделать. Власть надо было поставить быстро, и для правильных выборов времени не оставалось. Но надо отдавать себе отчет, что это правительство, сразу получившее название «гетманшафт», было марионеточное. Двор у «его светлости» составился очень скоро. Но никакой реальной военной силы у гетмана не было. Хотел он этого или не хотел, но он делал то, что ему в вежливой форме предлагали немцы.
* * *
Очень скоро после избрания Скоропадского ко мне прямо с вокзала приехал князь Илларион Васильчиков.
— Что у вас делается? Гетман!? Скоропадский!?
— Да. Скоропадский вам неизвестен как гетман, но как начальника по службе вы его должны хорошо знать.
— Конечно, я был у него адъютантом.
— Давайте говорить напрямик, — сказал я. — Что он, порядочный человек?
— Был порядочным. Знаете что, я прямо от вас, никуда не заезжая, проеду к нему и через два часа приеду обратно.
* * *
Так и было. Вскоре он вернулся.
— Ну что, как он, остался порядочным? — был мой первый вопрос.
Васильчиков ответил с некоторым колебанием:
— Да, конечно, но…
— Но?
— Но ему понравилось! — живо продолжал Васильчиков.
— Что понравилось?
— Быть светлостью и иметь двор. Что будет дальше, посмотрим, — заключил Васильчиков.
Но в дальнейшем я с князем Васильчиковым не встречался и так и не узнал мнения старой русской аристократии о Скоропадском.
В Киеве князь Илларион, по-видимому, не остался, эмигрировал и умер сравнительно молодым.
* * *
Итак, 29 апреля Скоропадский был избран гетманом и в тот же день подарил миру новое государство, объявив страну «Украинской державой», а себя — ее верховным правителем.
Поскольку появилась новая держава, то должны были быть и подданные. Скоропадский объявил в качестве закона, что все родившиеся на территории Украины или же прожившие в ней какое-то время автоматически становятся украинскими подданными. Но этот номер не прошел без протеста. Член Государственной Думы от Киевской губернии Анатолий Иванович Савенко, член Государственной Думы Василий Витальевич Шульгин, троекратно избранный Волынью и единый представитель города Киева в Украинском Учредительном собрании, со старшим сыном Василидом Васильевичем, и гласный Киевской городской думы Владимир Иосифович Иозефи
93 явились к губерниальному старосте (то есть губернатору) киевскому и подали ему каждый порознь и все вместе официальные заявления с приложениями.
Приложение составляло целую тетрадь с историческим обоснованием неприемлемости названия «Украина» к исторически древним русским землям.
Губерниальный староста, узнав, в чем дело, закрыл дверь (сам) и сказал:
— Господа, зачем вы это делаете? Этот закон — ерунда, а Скоропадский — дурак.
Но мы все же просили наши заявления принять и записать куда следует, так как в законе было сказано, что те лица, которые не пожелают быть украинскими подданными, должны подать официальное заявление.
Милюков
Деятельность «Азбуки» была до известной степени налажена. Курьеры найдены — в этом недостатка не было. Им была устроена общая конспиративная квартира, и там они находились, дожидаясь момента, когда потребуются их услуги. Ведал ими Виридарский, иначе «Паж». У него была легкая рука на людей. Через него были завербованы между другими два полковника, но не для курьерской службы. Благодаря тому, что курьеры курсировали в Москву, я получил телеграмму от Маклакова из Парижа. Шифрованная телеграмма эта была послана в Москву в одно из посольств, а оттуда уже, расшифрованная, была доставлена курьером «Азбуки» в Киев. Дословно текста я не помню. В общем же Маклаков сообщал, что последний номер «Киевлянина» дошел до Парижа и произвел впечатление. И добавлял: «Держитесь твердо. Германия обречена. Благодаря танкам и французскому главному штабу, изобретшему новую стратегию, называемую гибким фронтом». Было еще что-то, чего я не помню.
Эту телеграмму я уже получил, когда прибежал ко мне Демидов («Буки»), крайне взволнованный.
— Что случилось?
— Милюков приехал! Очень хочет вас видеть. Остановился у меня. Но прежде всего, Василий Витальевич, есть у вас скрипка?
— Скрипка есть, но для чего она вам?
— Вы не знали разве? Милюков скрипач, он не может жить без скрипки, а последние месяцы не играл.
— Вот вам скрипка, — сказал, подавая ее ему, и добавил. — Ей сто пятьдесят лет. Внутри надпись: «Antonius Tirro. Fecit Viennae. Anno 17..»
[34] Две последние цифры не разобрать. Да, так откуда приехал Милюков?
— Из Ростова-на-Дону. Жил в подполье и мало что знает. Пусть сегодня играет и отдыхает, а завтра я за вами приду.
Он пришел, и мы пошли к нему. Милюков, обычно спокойный, был взволнован и сразу заговорил по существу.
— Надо спешить. Гибнут невознаградимые ценности. Надо обратиться к немцам. Ничего не поделаешь.
* * *
Мы спорили часа четыре. Я сказал ему:
— Павел Николаевич, вы хотите перечеркнуть самого себя. Не вы ли проповедовали войну до победного конца? Это знают все, и на этом стояла ваша партия.
— Победа невозможна. Мы накануне Седана
94. Германия поставит Францию на колени.
— Прочитайте эту телеграмму, которую я получил от Маклакова, — сказал я, протягивая ему ее, — он утверждает как раз обратное, сидя в Париже, — Германия обречена. Генерал Драгомиров, который находится здесь, утверждает то же самое. Почему мы должны спустить знамя, которое, хотя и с трудом, мы держим над собою?
Мои слова его не убедили. Милюков был всегда упрям и самоуверен. Но тут в нем было нечто, чего нельзя было не уважать. Он понял, что погубит себя, если дело не удастся. И он шел на это. В заключение этих бурных споров он попросил меня:
— У вас есть возможность сноситься с Москвой. Перешлите, пожалуйста, мое письмо к членам нашей партии.
— Конечно, я это сделаю. Но разрешите мне это письмо прочесть и приложить к нему свое мнение.
— Разумеется, это ваше право.
Так и было сделано. Оба мнения, Милюкова и мое, пошли в одном «конверте» и очередным курьером были вручены подпольному центру кадетской партии в Москве.
Партия кадетов, в лице своего центрального комитета, признала правильным мнение Шульгина и отвергла точку зрения Милюкова.
А заключилась эта история через довольно продолжительное время, в Екатеринодаре. Я уже давно был там, когда приехал Милюков и собрал тех кадетов, которые были тоже там. Я был на этом собрании. Милюков начал с того, что изложил все, что произошло в мае месяце, и что он был у немцев. Но немцы ставили такие условия, на которые он, Милюков, согласиться не мог. Закончил он так:
— Поэтому моя попытка сговориться с немцами была ошибкой. Я ошибся и очень этому рад.
Собрание одобрило речь Милюкова, а я подумал про себя: «Кажется, это первый и последний раз, когда Милюков признал свою ошибку. Он всегда считал себя непогрешимым, как папа римский».
* * *
В связи с этим вспоминаю следующий эпизод. После четырехчасового разговора с Милюковым меня провожал домой Демидов (кажется, Игорь Платонович). По дороге он мне сказал:
— Я не вмешивался в ваш разговор с Милюковым, но я очень внимательно слушал вас обоих.
— И какое же ваше мнение?
— Конечно, вы правы. Милюков многого не знает и ошибается. Я больше верю Маклакову, ему виднее в Париже. Однако…
Он задумался. Я повторил:
— Однако?
— Однако я всю жизнь шел за Милюковым и теперь пойду за ним. Так легче. И, кроме того, знаете что? Допустим, какие-то две партии борются. Одна, быть может, более правильно смотрит на вещи, но все же другая должна сохраниться в целости, потому что обе нужны. А потому не надо перебежчиков. Если я пойду за Маклаковым, то буду перебежчиком, потому что Маклаков с Милюковым всегда спорили. А нужны и тот, и другой.
— Это история английского парламентаризма. Оппозиция, когда она оказывается в большинстве, приходит к власти, а партия, ставшая меньшинством, переходит в оппозицию. Но нужны государству и те, и другие.
Угроза ареста
Телеграмма, полученная мною от Маклакова, имела неожиданное продолжение. Мой «Паж» (Виридарский) попросил у меня ее текст и неосторожно носил его при себе. Однажды он обедал в гостинице (кажется, «Метрополь») с другими лицами за отдельным столиком. По какому-то нелепому совпадению за одним из столиков, стоявших рядом, обедали какие-то большевики, скрывавшиеся от немцев.
Странность оказалась в том, что один из этих большевиков был похож наружностью на Виридарского. И когда последний, кончив обед, вышел на улицу со своим спутником и прошел несколько шагов, их обоих арестовали. Куда-то повезли и, конечно, обыскали. Эти лица были русские. Они прочли письмо и стали допрашивать, кому оно адресовано. Виридарский отказался ответить, но допрашивающие сказали ему:
— Ваше счастье, что вы попали к нам. Мы на службе у немцев, но мы бывшие жандармы. Мы думаем совершенно так, как тот, кто написал эту телеграмму. Вы совершенно спокойно можете сказать, кому адресована телеграмма, и мы вас освободим.
Виридарский ответил:
— Шульгину, Василию Витальевичу.
— Вот и хорошо. Вы свободны. Но мы предлагаем вам немедленно выехать из Киева, потому что вы можете попасть в плохую переделку, если вас арестуют немцы. И скажите Василию Витальевичу, что и ему надо уезжать.
— Почему?
— Потому что Кистяковский…
Несколько слов об Игоре Кистяковском. Он был сыном профессора университета, в то время уже умершего. Игорь окончил 2-ю киевскую гимназию, как и я, но был старше меня на два класса. Сейчас же он стоял во главе правительства Скоропадского. Выбор был сделан удачно. Хотя он окончил Московский университет, но был природный «киевлянин». От лиц, хорошо его знавших, я знал, что он человек способный, но и способный на все. Человек беспринципный и карьерист.
— Потому что Кистяковский, — продолжали киевские жандармы, — собирается арестовать Василия Витальевича.
Виридарский немедленно уехал в Добровольческую армию, и я тоже стал готовиться к отъезду.
* * *
В ночь с третьего на четвертое июля по старому стилю был убит император Николай Александрович вместе со своею семьею. Об этом стало сейчас же известно в Киеве, и была назначена торжественная панихида в Софийском соборе, на которую должен был приехать и Скоропадский.
Естественно, что мне надо было присутствовать на этой панихиде, но я не поехал
95.
«Клянусь, что положу Украину к ногам его императорского величества…»
Теперь стало ясно, как повернется история и к ногам какого императора будет положена Украина. С теми, кто так или иначе ввязался в эту передачу Германии Киева и всего того, что с ним связано, я не мог молиться за упокой человека, который сказал: «Раньше мне отрубят правую руку, чем я подпишу Брестский мир». Говорили, что это именно (отказ подписать Брестский мир) и решило судьбу Николая II. Говорили еще, что какой-то отряд, состоявший из русских офицеров, спешил на помощь царю. И это стало известно
96.
А вот что еще знаменательно. В киевской гостинице «Континенталь» на Николаевской улице, где было много немецких офицеров и не немцев, шла карточная игра. Это я знал наверное. Знал от некоего Ефимовского, который был мне близок. Сам он был откуда-то с юга, но кончил Московский университет, принадлежал к партии кадетов, но перешел в группу Шульгина. Был он человек живой, но довольно беспутный картежник. Он и его жена подружились с моей женой Екатериной Григорьевной, которая имела на них влияние, а потому Ефимовский был тот человек, которому можно верить.
Я поручил ему, продолжая играть, разузнать, о чем болтают немецкие офицеры. И вот из этого источника я узнал, что будто бы через Киев прошло письмо императора Вильгельма к императору Николаю, и что в этом письме русскому царю предлагалось вернуть ему престол, если он подпишет Брестский мир. Об этом я получил сведения и из других источников, сейчас не помню от кого.
Таким образом, это предложение действительно было. И когда государь отказался это сделать, немецкая невидимая охрана, которая его защищала, была снята.
Есть какое-то исследование этого темного вопроса. Этим специально занимался мой молодой друг Вовка, иначе Владимир Александрович Лазаревский.
Барон Врангель
Однажды ко мне одновременно пришли два офицера, одинаково высоких и худощавых. Один из них был герцог Лейхтенбергский, другой — барон Петр Николаевич Врангель. Я встретился с ними впервые. До этого слышал о них мало. Знал, что есть где-то на севере остров Врангеля, да еще романс Врангеля «В душе моей зима царила…»
97. Сейчас же царило лето.
Лицо Петра Николаевича было значительно. В профиль — хищная птица. Еn face — высокий лоб, близко посаженные глаза неопределенного цвета, кажется, стальные, а может быть, зеленые. Нельзя сказать, чтобы взгляд их был неприятен. Но он был тяжел и давил собеседника. В них был гипноз. Но гипноз какой-то оправданный, он помогал здравым мыслям, с которыми легко можно было согласиться. Тонкий нос придавал лицу что-то орлиное. Нижняя часть лица была совершенно противоположна моей. У меня подбородок короткий и угловатый, хохлацкий. У Врангеля — продолговатый и угловатый, с энергичной мускулатурой. Губы не тонкие, но и не полные. Небольшой рот. Линия рта прямолинейная. В общем, его лицо было прямоугольное, узкое (продолговатая голова).
Его спутника я совсем не помню, кроме того, как я уже сказал, что он был высокий и худой.
Врангель объяснил мне причину своего визита.
— Мне естественнее было бы, — говорил он, — заехать к Скоропадскому, под командою которого я служил. Но я сначала использовал другие возможности
98. Я был у немцев — с ними не сговоришься. Им нужна Россия, чтобы дойти до Персидского залива. Что же остается? Добровольческая армия с Деникиным и Алексеевым во главе? Что вы о них думаете?
—
Милюков тоже пробовал сговориться с немцами. Не вышло. Скоропадский — это те же немцы. Значит, и выбирать не из чего. Только и остается Алексеев. Все же он был Верховный Главнокомандующий. Деникин? Про его дивизию говорили, что она железная дивизия. Я с ним в переписке.
— Что же он вам пишет?
— Недавно я получил от него весьма лестное письмо: «Вы боретесь смело. У нас ходит по рукам ваше письмо, в котором вы объявляете себя монархистом. У нас офицеры на восемьдесят процентов монархисты. Что касается меня, то я считаю, что это только форма правления. Конституционная монархия — тоже хорошо».
— Вы собираетесь туда?
— Да, — ответил я. — Я закрыл «Киевлянин». Что мне, собственно, здесь делать?
— А «Голос Киева»
99?
— «Голос Киева» — это тот же «Киевлянин», с теми же сотрудниками, но без меня. Меня заменяет негласно моя сестра Лина Витальевна. Но что значит без меня? Это значит, что «Голос Киева» признал немецкую оккупацию и, кроме того, он молчит о Добровольческой армии. Он борется против большевиков и украинствующих. По-видимому, против украинцев борьба идет успешно.
— В чем это выражается? — поинтересовался Врангель.
— Да вот, Альвенслебен, представитель германских оккупационных властей по гражданской части, созвал всю киевскую прессу на совещание и открыл это заседание таким заявлением: «Прошу собравшихся не стесняться в языках. Пожалуйста, говорите по-немецки, по-русски, даже языком других наших противников. Но, если можно, избавьте нас от украинской мовы». А тут еще присутствовало четыре украинских журналиста. Они вскочили так, что стулья попадали, и ушли из зала.
Мои гости рассмеялись, и Врангель сказал:
— Как же это выходит? Ведь Германия официально признала Украину и покровительствует украинцам?
— Да, и когда дела идут дипломатическим путем, то так они и ведутся. Но офицерство немецкое держится иной линии. Они считают, что украинцы — предатели своей родины, и их презирают. Они смотрят вперед в ожидании мира. А Альвенслебен, конечно, прочел в моей статье: «Честные враги лучше, чем лукавые друзья».
В заключение нашей встречи Петр Николаевич сказал:
— По-видимому, мы с вами встретимся у Алексеева.
Герцог Лейхтенбергский в продолжении всей беседы не проронил ни слова, а только внимательно слушал.
Мои высокие гости встали, и я еще раз убедился, что они на полголовы выше меня.
Отъезд в Екатеринодар
Итак, князь Васильчиков не смог договориться со своим бывшим начальником Скоропадским. Милюков не мог договориться с немцами, а значит, и со Скоропадским. Врангель не мог также договориться с немцами, а к Скоропадскому он не поехал
100. Наконец, сам Скоропадский не смог положить Украину к ногам его величества императора Николая II и поехал на поклон к императору Вильгельму II.
Что же мне было делать? Или ехать в Берлин, или в Екатеринодар. Я избрал последнее.
* * *
11-го июля по старому стилю руководители «Азбуки» съехались на совещание в лесу, в Святошине, в двенадцати километрах от центра Киева по Брест-Литовскому шоссе. Я и два моих старших сына приехали на велосипедах. Другие кто как мог. Прибыли «Паж» (Виридарский), полковник Самохвалов, полковник фон Лампе и другие.
Я доложил обстановку, дал инструкции, оставил заместителя (не помню уже кого), и решено было, что я выеду 29 июля по старому стилю вместе с моим старшим сыном, Дарьей Васильевной и «Гри-Гри» (Масленников).
Это было исполнено. Мы выехали из Киева пароходом, шедшим в Екатеринослав. Нам были обещаны две каюты, но старший лейтенант Чихачев, который был вхож в пароходство, объяснил, что едет множество немецких офицеров и невозможно достать две каюты.
Хотя немецких офицеров было много, но мне вспомнилось еще раз, как называла их Екатерина Григорьевна: «Люди-тени». Они держали себя скромно, ничем не выражая того, что они, по существу, были властителями. Поэтому плаванье до Екатеринослава прошло приятно и без инцидентов. Из этого следует, что плохое я помню лучше, чем хорошее.
Не помню также, как мы пересели в поезд. Но ясно помню, что, отъехав от Екатеринослава, мы сидели все четверо рядом на полу в товарном вагоне. Двери были широко открыты, и воздух, горячий, но не душный, врывался в вагон. Перед глазами было бесконечное море полей, где вместо колосьев были роскошные стебли подсолнечников. Какая красота и какое богатство!
Глава VII
МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ГЕНЕРАЛОВ
АЛЕКСЕЕВА И ДЕНИКИНА
Поездка в Яссы в ноябре 1918 года
Вагоны скрежетали, колеса стучали, разговаривать было трудно, и потому оставались только зрительные впечатления. Таким удовольствием для глаз была и Дарья Васильевна, с головой в желто-черном платке и в платье цвета хаки. Она была самым близким подсолнухом, сбежавшим из этого моря и усевшимся тут рядом.
* * *
Была какая-то пересадка. И тут я заметил, что мой сын Василек как-то привял: он не особенно рьяно схватился за чемодан. Дарья Васильевна тоже взглянула на него и сказал тихонько:
— У него жар.
Дальше опять ничего не помню до станции, где начиналась территория Все-великого Войска Донского. Чтобы перейти эту границу, надо было пройти через некоторые формальности. Поезд, разумеется, остановился. На платформе был столик, а за ним сидели казачьи офицеры. Формальности были направлены против большевиков, и нужны были некоторые доказательства, что мы не большевистские шпионы. Я предъявил свой паспорт и сказал, что еду в Добровольческую армию по приглашению генерала Алексеева. Этого оказалось достаточным. Я представил им Дарью Васильевну Данилевскую, сказав, что она мой секретарь. Затем своего сына Василида Васильевича Шульгина. Нас пропустили.
Но «Гри-Гри», не имея никакого документа, не был уверен, что его так легко пропустят. Поэтому он не пошел к столику, а обошел станцию кругом, и мы встретились с ним в вагоне нового поезда.
Итак, Рубикон был перейден. Мы вступили на территорию, контролируемую атаманом Красновым. Поезд шел в Новочеркасск, куда мы скоро и прибыли. Но мне нужно было явиться к генералу Алексееву, находившемуся в Екатеринодаре.
Василек окончательно разболелся. Слово «испанка» тогда не было произнесено, но, конечно, это была она. Очень высокая температура. А ехать мне было необходимо. Меня торопили. Делать было нечего. Я оставил его на попечение Дарьи Васильевны, зная, что она сделает все возможное.
Тогда было организовано прямое сообщение с Екатеринодаром. Я прибыл в город, где меня встретил Владимир Германович Иозефи, торопившийся начать издание газеты. У Добровольческой армии еще не было своей газеты, а она была совершенно необходима.
* * *
Иозефи подготовил коммунальную квартиру в двухэтажном доме на Графской улице, № 29 (тут уместно сказать вскользь, что число 29 в моей жизни часто встречалось. Когда-нибудь об этом подробнее я еще расскажу). Квартира была просторная. В ней поместились Иозефи, я, постепенно прибывавшая «Азбука» с ее канцелярией, а также другие приезжие.
В отношении газеты главным затруднением было достать бумагу. Но Иозефи нашел ее и купил на свои средства.
15 августа вышел первый номер газеты. Очень тяжелой славянской вязью было начертано выразительное слово «Россия», ее название
101. В этом слове в Екатеринодаре, где сосредоточилась украинствующая часть кубанцев, была выражена часть моей программы, почему эти украинствующие кубанцы и стали сразу же бойкотировать газету. Как это ни странно, но первая моя передовая была посвящена Льву Николаевичу Толстому. Я говорил, что его непротивление злу довело зло до такой силы, что приходится бороться с ним оружием. Затем последовало три номера с передовыми под общим заглавием «Монархисты». После этого я получил приглашение от генерала Алексеева прибыть на совещание по некоторым вопросам.
* * *
На совещании председательствовал Алексеев. Присутствовали: Деникин, Драгомиров и начальник штаба генерал Романовский. Алексеев сказал:
— Антон Иванович доложит, в чем дело.
Деникин встал и начал доклад:
— Три статьи под заглавием «Монархисты». Монархистов среди офицерства Добровольческой армии большинство. Но, кроме того, есть же и республиканцы. Корниловцы, например, в своей песне прямо поют: «Царь нам не кумир»
102. Часть казаков тоже настроена не особенно монархически. Не следует так выпирать монархию как главную цель борьбы. Тем более что это подхватят большевики, которые будут твердить, что белые хотят поставить царя. И еще скажу, что некоторых выражений, как мне кажется, следовало бы избегать. Вы говорите «чернь» там, где, может быть, надо бы было сказать «народ».
Я ответил:
— Я явился в Добровольческую армию не для того, чтобы ей мешать или подрывать авторитет ее командования. Девять месяцев тому назад я был в Новочеркасске у генерала Алексеева и записался в Добровольческую армию под номером 29. В то время со мною и с лицом, меня сопровождавшим, армия насчитывала тридцать человек. А в письменном столе у Михаила Васильевича было двадцать тысяч рублей. Теперь я не знаю, какова численность армии, но, во всяком случае, она исчисляется тысячами, а ее средства — миллионами. Следовательно, дело ведется как надо. Это значит, что я, желая помочь, буду мешать. Это недопустимо. Но нельзя делать и скандала. Вышла газета «Россия», и закрывать ее невозможно. Какой выход? «Россия» будет издаваться, но я в ней писать не буду.
Последовало продолжительное молчание. Затем Романовский сказал:
— Это невозможно. А кто же напишет убедительно, но прилично, статью в поучение атаману Краснову?
Следующим выступил Драгомиров:
— Мне кажется, что мы, военные, отлично понимаем, что лучшая оборона — наступление. Но мы этого не понимаем в политике. Между тем и там действует это правило. Мы это видели на примере «Киевлянина». Смелые выступления «Киевлянина» имели успех.
Опять пауза. Затем Деникин, махнув рукой, сказал:
— Пишите, что хотите. Но только печатайте на маншетке, что «Россия» частное издание, а не орган армии.
На этом заседание закончилось.
* * *
Прошло, кажется, около месяца. Я встретился случайно где-то или у кого-то с Деникиным на каком-то торжестве. Он сказал мне весело:
— Украинцы сказали мне, что они закроют «Россию».
— А вы, Антон Иванович?
— Я сказал им: «Попробуйте».
С тех пор положение «России» стало твердо, но личные деньги Иозефи пришли к концу. Тогда мне пришли на помощь из кассы Добрармии.
* * *
Через две недели Дарья Васильевна привезла мне Василька из Новочеркасска. Он очень ослабел, побледнел и похудел. Однако выздоровел. Она с грустью сказала:
— Вот вам ваш сын.
Василек сейчас же принялся за работу. Иозефи, кроме того, что помог мне найти сотрудников, создал мне в помощь что-то наподобие маленькой канцелярии. У него под рукой оказались два студента из Галиции, ревностных поклонника «Киевлянина», с которыми Иозефи не знал, что делать. Прибавив к ним Василька, он составил трио, работавшее с шести утра. К восьми часам они должны были прочитать все газеты, выходившие в Екатеринодаре, сделать из них вырезки и наклеить их в альбом для того, чтобы в восемь часов, когда я просыпался, я мог их просмотреть и продиктовать статью. Статья должна была быть готова к десяти утра из-за технических условий екатеринодарских типографий.
* * *
Так работа и шла. Я диктовал статью еще лежа в постели, выпив чаю, а в это время в соседней большой комнате, бывшей приемной, собирались посетители, желавшие меня видеть. Иногда там были очень важные лица. Например, помню Кривошеина и еще какого-то бывшего русского министра и многих других. Машинка стучала, но я чувствовал напряжение в соседней комнате. Тогда я прерывал диктовку и просил Дарью Васильевну:
— Пойдите и объясните им любезно, почему я заставляю их ждать.
* * *
На этом перевернулась новая страница нашей совместной жизни. Дарья Васильевна, казалось, от природы была создана хорошенькой женщиной для тряпочек и любви. Постепенно она росла. Она на войне превратилась в сестру «первый сорт», как говорила о ней Хомякова. «Angelo», как твердил умирающий итальянец. Затем она стала первоклассной машинисткой, потом отличной разведчицей. Теперь ей нужно было стать умелой секретаршей. Это было для нее всего труднее. Почему? От природы она была робкая, во всяком случае, у нее не было светскости, умения обращаться с людьми разного положения. Она прекрасно обращалась с простыми людьми, никогда не заигрывая, не внося фальши. Но с министрами она не умела обращаться. Угодничать ей было невозможно, потому что серьги в ушах дрожали у нее горделиво. Ей нужно было взять барьер. И она его взяла. Она нашла нужный тон, вежливый, но независимый, то есть то, что требовалось в данном случае.
И это был последний этап. Она дошла до вершины, справившись с самой трудной задачей. И когда она этого достигла, подниматься дальше было некуда, как только на небо. И поэтому через несколько месяцев она умерла.
* * *
В числе важных лиц, которые ко мне добивались, был и генерал Покровский. Одни из самых неприятных минут наступили для меня, когда я его принял.
Я познакомился с ним давно, сразу же после Февральской революции в Петербурге. Он был тогда штабс-капитаном, смелым летчиком. В то время летать было смертельным риском. В те дни образовывалась офицерская лига
103. Организация малокровная. Меня однажды туда пригласили. Я слушал их немощные предложения, благонамеренные, но непрактичные. В это время кто-то прошептал мне на ухо: «Пожалуйста, войдите в соседнюю комнату». Я вышел. Там было абсолютно пусто. Вызвавший меня офицер принес стул, поставил его посреди комнаты и предложил:
— Садитесь. — Затем добавил: — Мне надо кое-что у вас спросить.
Я сел, а он продолжал:
— Я не задержу вас. Вы только ответьте на один вопрос. Уже нужно резать или еще не нужно?
Вопрос был ошарашивающий. Я довольно долго думал, пока ответил:
— Еще не нужно.
— Благодарю вас, больше вопросов у меня нет.
Я вернулся в комнату, где заседали, и продолжал слушать добронамеренные предложения. Но в ушах у меня звенело: «Уже нужно резать?»
* * *
Теперь, в сентябре 1918 года в Екатеринодаре, штабс-капитан Покровский, ставший генералом, не спрашивал меня, нужно ли резать. Он рассказывал мне, как он режет:
— Нужно, чтобы пролилось как можно больше крови.
Я спросил:
— Чьей крови?
— Это безразлично. Всякой крови. А можно обойтись и без крови. Можно вешать. Вот, например, я повесил триста китайцев. Они вешали друг друга с заметным удовольствием. А последний китаец сам спрыгнул с ящика в петлю, приятно улыбаясь.
Покровский тоже засмеялся. Затем продолжал:
— Они, большевики, поймали сельского попа, обрезали ему волосы, нос и уши и закопали в навоз. Это узнали мои казаки. Они погрузили этих убийц в телегу и возили с собой, на всех привалах их пороли, пока не запороли до смерти. На кровь, на жестокость нужно отвечать жестокостью.
После этого он распрощался.
* * *
Забегаю вперед. Когда взбунтовалась Кубанская Рада, Покровский просто перевешал их
104.
И еще забегаю вперед. Он эмигрировал. В эмиграции, кажется, это было в Болгарии, какие-то коммунисты убили его самым жестоким образом
105.
* * *
Кроме редактирования газеты «Россия» и сопряженных с этим разговоров с разными лицами, мне приходилось доделывать так называемое Особое совещание.
Генерал Алексеев был против образования при нем некоего Кабинета министров.
— Министры, — говорил он, — будут тогда, когда образуется Всероссийская власть с местопребыванием в столице государства. Здесь же нужно образовать какой-нибудь орган, выполняющий функции правительства, но не под таким названием.
Тогда я предложил назвать этот орган при генерале Алексееве, как верховном руководителе Добровольческой армии, Особым совещанием (во время войны я работал в Особом совещании по обороне). Это название было принято. И я набросал проект положения об Особом совещании, а развил его и доделал генерал Абрам Михайлович Драгомиров. Он был назначен помощником генерала Алексеева по гражданскому управлению на территории Ставропольской и Черноморской губерний, находившихся под контролем Добровольческой армии.
Меня включили в число членов Особого совещания на правах «министра без портфеля». Положение об Особом совещании было утверждено генералом Алексеевым 18 августа, и оно (Особое совещание) начало функционировать
106.
* * *
Мне запомнилось заседание под председательством генерала Алексеева, когда приехал бывший член Государственной Думы Гегечкори
107. Генерал Алексеев был уже очень болен. Он сидел в кресле, обложенный подушками. Однако Гегечкори надо было выслушать. Последний предлагал от лица грузинского правительства совместную деятельность с Добровольческой армией на известных условиях. Но предложение это было отклонено не без моего участия.
Я совсем не помню, как я возражал Гегечкори, но думаю, что и для генерала Алексеева было неприемлемо образование какого-то местного правительства с министрами, так как он не признавал такую самодеятельность, утверждая, что министры будут в Москве или Петрограде. Думаю еще, что в то время военные силы грузинского правительства были слабы, так что объединение с ними не представлялось выгодным. Пришлось бы защищать еще и Грузию.
* * *
В то время при Добровольческой армии не было представительства держав, кроме совсем молодого французского дипломата Гокье. Мне поручили помочь ему устроиться. Я это сделал, предложив ему комнату в том же доме на Графской улице, где поселился и я. Так как Дарья Васильевна почему-то стала хозяйкой в этом доме, то она сделала все возможное, чтобы французу было удобно. Он это очень оценил. Конечно, мне приходилось часто беседовать с Гокье о многом. И я запомнил следующее его замечание или, лучше сказать, предсказание:
— Конечно, вы ведете борьбу с Лениным, и Франция в этом будет вам помогать. Но когда-нибудь вы, как русский патриот, поймете, что Ленин большой человек.
* * *
Затем Гокье, который чувствовал себя усталым, захотел совершить прогулку к морю. Мне было поручено поехать с ним. Мы поехали. Я взял с собою поручика Шевченко, из казаков, который был при мне вроде адъютанта.
В качестве секретаря поехала и Дарья Васильевна. И потому еще, что французу это было очень приятно. Но неожиданно пришлось взять еще одну даму. Это была восемнадцатилетняя девушка, дочь моего помощника по газете «Россия» Каракозова. Он очень настоятельно просил взять его дочь с собою. Так как она слишком подчеркнуто благоволила к главному редактору «России», то есть ко мне, то это не представлялось удобным ввиду Дарьи Васильевны, которая не возражала, конечно, но украдкой всплакнула. Однако, принимая во внимание, что Софочка говорила по-французски как настоящая парижанка (ее мать была француженка, и сама она в Париже родилась), я решил ее взять.
Поехали. У нас было два купе. Одно для Гокье, другое для остальных. Софочка, разумеется, продолжала заигрывать со мною, Дарья Васильевна старалась этого не замечать, Шевченко тоже.
Наконец, мы приехали на станцию Тоннельная, близ Новороссийска, где пересели в экипажи, чтобы ехать в Анапу. Перевалив через горы, попали в степь. Дул ветер, но извозчики были лихие, и шарфы дам развевались по ветру.
Приехали в Анапу. Гокье поместили в какой-то гостинице, а сами заняли дом на берегу моря. Этот дом мне очень понравился, и я даже задумал его купить. План этот был фантастический, но все же имел некоторые основания. Когда я уезжал из Киева, «Аз» (А. И. Савенко) предложил мне:
— Обстоятельства складываются так, что вам было бы выгодно продать вашу киевскую усадьбу. Я имею в виду покупателя. Он даст за нее один миллион рублей.
В то время рубль стоил десять копеек, таким образом, усадьба стоила сто тысяч, что и соответствовало ее стоимости в мирное время.
Я согласился и уехал. Совладелицей этой усадьбы (Караваевская, 5) в какой-то части была моя сестра Лина Витальевна. С ней по моему отъезду Савенко и вел переговоры. Но она категорически отказалась продавать усадьбу, очевидно, рассчитывая, что немцы победят, Скоропадский удержится и усадьба останется за ее владельцами. Я, конечно, не знал, как шли дела с продажей усадьбы в Киеве, и потому присматривался к дому в Анапе, который к тому же и продавался. Все это были пустые расчеты.
Анапа очень понравилась французу. Но Софочка продолжала его раздражать.
Высосав из Анапы ее прелести, решили перебраться в Новороссийск, который встретил нас, как ему и полагалось, сильнейшим норд-остом. Он начал с того, что погнал товарные вагоны, стоявшие на запасных путях, и где-то их перевернул. Нам пришлось перебираться пешком из одного места в другое (не помню уже почему), дам пришлось вести под руки, они не справлялись с ветром.
* * *
В Новороссийске, кроме норд-оста, встретило нас известие, что генерал Алексеев скончался 25 сентября по старому стилю. Гокье непременно захотел присутствовать на похоронах генерала. Я дал телеграмму в Екатеринодар. Мне ответили, что в мое распоряжение будет дан экстренный поезд. Мы выехали немедленно. Экстренный поезд состоял из одного вагона и паровоза и на станциях нигде не останавливался. Железнодорожные служащие отдавали честь, а пассажиры махали руками. Потом дело объяснилось. У Гокье очень сильно болела голова. Он сделал себе из полотенца повязку и высовывался из окна, чтобы встречным ветром освежить голову. Его принимали за какого-то восточного принца и потому оказывали такие знаки внимания.
* * *
Похороны были торжественные. В церкви было много народу, теснота. Гокье мне потом жаловался:
— Генерал Лукомский всунул мне свою шашку между ног.
И был обижен. Я старался его успокоить.
* * *
Не помню точно, что было в октябре. К концу октября приехал русский офицер с письмом от Энно, с которым к тому времени я потерял связь. В этом письме Энно сообщал, что мне необходимо ехать в город Яссы, где в то время находилось румынское правительство. Что туда же приглашены представители разных русских политических партий для совместного обсуждения положения и принятия решений. Офицер, доставивший письмо, должен был сопровождать меня, а Энно встретит меня в Яссах. В конце письма прибавлялось, что не удалось прислать специальный пароход, чтобы доставить меня морем, а потому добираться надо вкруговую, поездами.
Путешествие обещало быть длинным, а это значило, что надо было спешить.
Сообщалось еще, что война идет к концу.
* * *
Командование Добровольческой армии в лице генерала Деникина предложило мне быть ее представителем на этом предполагаемом Ясском совещании
108.
Итак, я стал собираться. Меня должны были сопровождать офицер, приехавший от Энно, мой секретарь (двоюродный брат Виридарского, фамилии не помню) и Дарья Васильевна в качестве машинистки. Мы должны были выехать из Екатеринодара вечером 29 октября по старому стилю, то есть в день заключения Компьенского перемирия и капитуляции Германии. За полчаса до отъезда мне сказали от лица Деникина и Драгомирова, чтобы я немедленно приехал к ним. Я ответил, что не попаду на поезд.
— Поезд задержат, — сказал посланец.
Я приехал к ним. Меня пригласили, чтобы познакомить с только что свалившимся если не с неба, то с высоты кавказских гор, генералом Гришиным-Алмазовым
109. Он был военным министром Омского правительства. Не поладив с ними, он решил пробраться в Добровольческую армию. Вдвоем с адъютантом они добрались до Кавказа кружным путем, а затем, перевалив через Кавказский хребет, явились в Екатеринодар. Деникин и Драгомиров желали, чтобы я переговорил с ним.
Гришин-Алмазов сел со мною в экипаж и по дороге на вокзал что-то рассказывал. На вокзале я распрощался с ним, и мы вчетвером сели в поезд и уехали.
* * *
Путешествие было очень трудное. В Харькове пришлось ожидать несколько часов. Я повел Дарью Васильевну в кинематограф, чтобы скоротать время. На экране мелькало какое-то представление. Я смотрел, а Дарья Васильевна легла на деревянную скамью. Она заболела. За несколько дней до нашего отъезда из Екатеринодара туда приехал Петр Николаевич Балашове сыном. Оба совершенно больные. Гокье в это время куда-то уехал, и его помещение было свободно. Дарья Васильевна возилась с больными, устраивая их, и, очевидно, от них заразилась этой болезнью (оказалась «испанка»). Но ехать надо было. Поехали. Ей становилось все хуже. К тому же она потеряла все свои золотые вещи. Вещи были пустячные по цене, но дороги по воспоминаниям. Она усмотрела в этом дурное предзнаменование:
— Я умру.
Двигались дальше. В каком-то городе я предложил, что помещу ее в какую-нибудь больницу. Она ответила:
— Нет, с тобой.
* * *
Где-то, не помню, где именно, мы пересели из вагона на паровоз. Стояли рядом с машинистом. От машины обдавало жаром, а из окна — холодным ветром. Это еще больше ухудшило положение больной.
* * *
Наконец, уже в Румынии, попали в какой-то поезд, переполненный донельзя. Но все-таки ввиду того, что Дарья Васильевна падала от слабости, ей уступили верхнюю полку. Там она лежала и просила только пить. Но нигде нельзя было достать воды. В одном месте поезд встал. Был солнечный день и кругом лежал снег. Поблизости был какой-то городок. Я побежал туда и купил бутылку вина, прибежал обратно и напоил ее. Ехали дальше. В одном месте вагон сошел с рельс на тихом ходу, поэтому несчастных случаев с людьми не было. Но надо было пересаживаться в другой вагон. Дарью Васильевну мы перенесли. Опять поехали. И на шестой день этого ужасного пути от Екатеринодара мы, наконец, прибыли в Яссы. На вокзале нас встретил Энно с какой-то дамой. Дарью Васильевну вывели из вагона и повели, поддерживая с двух сторон, по платформе. Несмотря на много лет, прошедших с тех пор, я запомнил эту картину. У нее был сильный жар, щеки пылали, а глаза сияли, как фонари.
* * *
Нас привезли в больницу Св. Спиридона. У меня уже тоже начался жар. За неимением другого места нас всех временно поместили в палату для сумасшедших женщин, в которой мы пробыли около часу. Затем Дарью Васильевну положили в женскую палату, меня в мужскую. Раздели, уложили, смерили температуру. Жар. Приставили ко мне особую сестру-сиделку, молодую румынку по имени Флора. Она начала с того, что села на мою постель и стала меня целовать. За этим занятием застала ее старшая сестра и выгнала, приставив другую. Я, конечно, очень беспокоился за Дарью Васильевну. Связь между нами поддерживалась через моего секретаря. Сначала он приходил ко мне с успокоительными сообщениями, только говорил, что Дарья Васильевна очень сердится на кого-то. Но однажды он сообщил мне, что Дарье Васильевне плохо. Я встал, оделся и пошел в ее палату. С трудом ее узнал. Глаза уже больше не сияли, как фонари, а лицо потемнело. Я наклонился к ней и сказал тихонько:
— Что с тобою, Крошечка?
Она ответила:
— У тебя все крошечки.
Я понял, отчего секретарь говорил, что она на кого-то сердится. Понял и другое. Она каким-то образом увидела или узнала о приставаниях ко мне этой самой Флоры.
Но сейчас же опомнилась и сказала:
— Прости. Я умираю.
Сестра, которая была около нее, очень участливая, твердила мне: «Ждите девятого дня». Она говорила по-румынски, но я как-то понимал, так как это испорченный латинский с примесью французских и славянских слов.
Я понял, что на девятый день бывает кризис в ту или другую сторону. И я ждал девятого дня. Неожиданно меня вызвали в коридор. Там я увидел члена Государственной думы Демченко и еще кого-то с ним. Они меня стали успокаивать, говоря, что она выздоровеет. Ведь она верующая, и ей поможет, если ее причастить.
Причащают перед смертью, но я поверил им. Пришел румынский священник (румыны — православные). Он исповедал ее, но она не могла уже говорить. Сил не было. Но приняла причастие.
Я не мог сдержаться и, опустившись на колени у ее кровати, целовал ее руку. Священник строго сказал мне что-то и ушел.
Она лежала на белых подушках с совершенно потемневшим лицом. Оно было коричневое, такое, как бывает на старых иконах. Глаза закрыты, губы безмолвны. Руки тоже почернели. Афазия, то есть потеря речи, наступила еще раньше. Но тогда сознание еще ее не покидало, и она жестами показала, что хочет что-то написать. Я подал ей какую-то твердую фанерку, карандаш и клочок бумаги. Она взяла карандаш и стала вырисовывать какие-то крючочки, разобрать которые было нельзя. Она поняла это, и слеза покатилась из уголка глаза.
Много позже Анжелина Сакко разобрала эту надпись: «Верю, что мы всегда будем вместе».
* * *
И вот, как девятый вал, наступил девятый день. Я неотступно смотрел на это черное лицо. И вдруг заметил, что где-то около шеи оно побелело. Затем белизна, подымаясь, захватила щеки. И все лицо стало ослепительно белым и неестественно чудесным. Потом задвигались руки, поднялись к голове и поправили чепчик, белый чепчик, который показался темным в сравнении со сверкающей белизной лица. Затем медленно поднялись ресницы, которые, как и брови, казались черными на фоне лица, и засияли глаза. Засияли так, что, казалось, освещают всю комнату. Это не было галлюцинацией. Стоявшая рядом со мной сестра-румынка, тоже ожидавшая девятого дня, пришла в восторг, перешедший в экстаз, что сказалось через несколько мгновений.
А Дарусенька (так я ее называл) сказала тихим, но совершенно явственным голосом:
— Я все для тебя сделала, Ясенька.
Так она меня называла всю жизнь (от слова «ясень» или «ясный», что-то в этом роде). Рыдая, я ответил ей:
— Все.
Тогда она произнесла свои последние слова в этой жизни:
— Какое счастье Бог послал.
Тут не выдержала румынка. Она не понимала слов, но чувствовала, что происходит чудо. Она видела таинство преображения, которое очень ярко изображено в Евангелии:
«И стали лица их как снег под солнцем».
Румынка схватила бокал с шампанским. Шампанское стояло тут потому, что врач приказал давать его больной по ложечке. Румынка выпила шампанское и, высоко подняв бокал, как истинное дитя природы, затанцевала от восторга. И это спугнуло чудо. Преображенная Даруся испуганно посмотрела на румынку. Глаза потухли, закрылись, и на сверкающее белизной лицо стала наползать черная тень. Еще несколько мгновений, и на белых подушках опять лежала черная икона.
* * *
Но умерла она только на одиннадцатый день. В палате были стенные часы, и я видел. В одиннадцать часов одиннадцать минут умирающая перестала хрипеть. Я припал к ее ногам, высунувшимся из-под одеяла.
«О, закрой свои бледные ноги»
110.
Я, прикасаясь к ним лбом, держал их в своих руках, пока они не стали холодными. Все было кончено. Я лег и заснул действительно мертвым сном. Пять суток я ничего не ел и не спал.
* * *
Утром пришел секретарь. Я передал ему деньги и просил, чтобы тело набальзамировали. Потом принесли гроб. Украсили венками. Когда его несли вниз по лестнице, сверху, с площадки, смотрела Флора, как мне показалось, насмешливыми глазами. Гроб отнесли в церковь Св. Спиридона, то есть Св. Духа. Вместе с секретарем мы, как полагается в таких случаях, читали над гробом священное писание.
На ленте от венка я написал карандашом: «Дай мне знак, что ты жива». Она не могла этого сделать тогда, но она это сделала позже.
Утром пришел хор и повезли гроб на кладбище. Хор шел рядом, исключительно мужчины. Пел по-румынски, но необычайно красиво.
Я забыл сказать, что когда она еще была жива, за окном играли траурный марш Шопена, который она очень хорошо знала.
Похоронили на кладбище «Aeternitates» («Вечность») против двадцать девятого дерева от ворот, идущих вдоль аллеи, рядом с каменным памятником, на котором было написано «Elena Cocush». Похоронили в маленьком склепе. Поставили крест с надписью: «Дарья Васильевна Данилевская (Любовь Попова)». В метрическом свидетельстве о смерти было написано по-румынски: «Lebova Popova».
Позже я несколько раз платил за могилу. Потом, когда меня арестовали и увезли в Москву, я, конечно, платить не мог, и, вероятно, тело Дарьи Васильевны было перевезено в другое место.
* * *
Меня приютили после похорон в одной русской семье. Там я впервые почувствовал жестокий голод после пятидневного поста. Очевидно, во мне сохранилась жажда жизни. Я съел все, что мне подали. Когда эта семья уезжала, я оставался один в квартире. На стене там висел револьвер. Ничто не препятствовало мне покончить с собою. Но что-то удержало. Быть может, мысль, что после смерти самоубийца не попадет туда, где находилась душа женщины, умершей, как святая.
Вначале я не мог читать ничего, кроме Евангелия. Затем начал читать Пушкина:
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья,
Спасителя смиренно умоляют111.
Значит, какими-то путями ко мне приходило сознание, что я должен жить для чего-то.
Наконец, после девятого дня, побывав у могилы еще раз, мы с моим секретарем уехали в направлении Одессы, где, как я знал, меня ждет Энно.
Глава VIII
ОДЕССА. ИНТЕРВЕНЦИЯ
Я не помню, как совершился этот переезд. Помню, что где-то мы сидели с моим спутником, в какой-то кафане, где я что-то писал в черной записной книжке. Она сохранилась и начиналась словами: «Я еще не знаю, буду ли я жить». Внутренно я, конечно, сознавал, что буду, буду, несмотря ни на что. Затем мы сели в какой-то экипаж. Шел, а вернее, хлестал дождь. Дул ветер. Подняли верх, и какие-то клячи долго тащили нас по лужам. Куда притащили, не помню. Помню, что я оказался в Одессе, в лучшей гостинице, выходившей окнами на море, и рядом был номер консула Энно, в котором он жил с какой-то дамой, вывезенной из Киева. С веранды этого номера был виден порт. Энно мысленно провел от этой гостиницы косую линию направо и налево и объявил, что это французская зона, неприкосновенная. Хотя у него не было тогда ни одного солдата, но Одесса приняла его повеление, и французская зона стала реальностью.
* * *
Тут я имел время обдумать, что дало Ясское совещание, в котором мне не довелось участвовать из-за болезни.
В нем участвовали Милюков и многие другие. Ясское совещание, по мысли Энно, должно было выбрать русское правительство, которое французская дивизия должна была в молниеносном порядке посадить в Москве. Кого именно? Значительно позже я узнал от жены Энно, что во главе правительства должен был быть «Le Grand Choulguine» («Великий Шульгин»).
Конечно, на Ясском совещании Шульгина не предлагали, тем более что он лежал с «испанкой», и неизвестно было, выживет ли он. Но Ясское совещание не только не выбрало правительства, но вообще совершенно не могло сговориться о какой-нибудь программе действий.
Энно решил действовать, как будто бы Ясского совещания не было. Теперь, в своей французской зоне, он ожидал высадки французских войск. И они прибыли во главе с генералом Бориусом. Но до этого Энно собрал в своем номере всех видных русских военных, которые оказались в это время в Одессе. А мне он сказал:
— На меня произвел впечатление генерал Гришин-Алмазов. Мне кажется, что он тот человек, который может сосредоточить всю власть в своих руках, что крайне необходимо. Все остальные растерялись и никуда не годны.
Остальных Энно собрал у себя (я присутствовал тоже при этом) и обратился к ним примерно с такой речью. Франция, представителем которой здесь является он, Энно, желает помочь России. Но для этого нужно найти человека, который был бы пригоден действовать быстро, решительно и самостоятельно. Однако ему нужно согласие высших военных офицеров, здесь присутствующих, а также представителя генерала Деникина в лице господина Шульгина и его друга (со мною тут был еще кто-то, не помню).
— Traduisez, chére amie
[35], — закончил он, обращаясь к своей переводчице.
Затем Энно попросил разрешения представить собравшимся генералам Гришина-Алмазова.
* * *
И вошел Гришин-Алмазов, который до этого находился в моем номере. Среднего роста, с тонким лицом, в солдатской шинели, с шашкой через плечо. Он поклонился. Энно попросил его сесть и сказал:
— Присутствующие здесь высшие офицеры русской армии, находящиеся в Одессе, одобряют мой выбор, который пал на вас, генерал, и просят вас принять командование русскими частями, здесь находящимися. Traduisez, chére amie.
Молодой генерал, твердо держа шашку обеими руками, проговорил низким голосом, контрастировавшим с его тонким лицом:
— А все ли будут мне повиноваться?
Присутствующие ответили в том смысле, что повиноваться будут все. Тогда молодой и никому до той поры не известный генерал заключил:
— В таком случае я согласен.
После этого совещание закрылось. Генерал Гришин-Алмазов и я перешли в мой номер. Тут он подошел к креслу, схватил его обеими руками, поднял в воздух и сломал, сказав при этом:
— А теперь мы посмотрим.
Видно, это в натуре у русского человека — ломать мебель. Ведь кто-то когда-то сказал: «Александр Македонский великий человек, но зачем же стулья ломать»
112.
Я был слишком грустно настроен, чтобы шутить, но понял, что от Гришина-Алмазова можно ожидать решительных действий. И не ошибся.
* * *
Немедленно после взятия власти в свои руки Гришин-Алмазов отправился в порт. В порту стоял корабль «Саратов», готовый выйти в море. На нем было человек семьсот наших добровольцев, где-то разбитых большевиками севернее Одессы и отступивших в деморализованном состоянии. Они завладели «Саратовом», чтобы бежать еще куда-то дальше. На этот корабль и прибыл Гришин-Алмазов. Он сказал им:
— Я генерал Гришин-Алмазов и назначен командовать вооруженными силами, находящимися в Одессе. Потрудитесь исполнять мои приказания.
Почему-то эти люди, никогда в глаза не видавшие такого генерала, почувствовав, очевидно, таинственную силу, которая в нем была, охотно стали ему повиноваться. Он приказал им покинуть «Саратов» и поместиться во французской зоне. Затем в течение недели он подвергнул их под личным своим руководством обыкновенной муштре, и этот недавно еще деморализованный отряд стал готовым для боя.
В это время прибыл долгожданный французский десант с генералом Бориусом во главе. Последний осведомился, с кем борется Добровольческая армия. Ему было сказано, что с большевиками и украинствующими. На этом особенно настаивала переводчица Энно, которая ненавидела украинствующих всеми силами своей души. Бориус сказал:
— Враги моих друзей — мои враги. Когда и как вы думаете приступить к бою? Имейте в виду, что мои люди не будут драться.
На это Гришин-Алмазов ответил, что этого и не требуется.
— А что же вам нужно от меня? — спросил Бориус.
— Нам нужно несколько ваших офицеров, не больше четырех, в качестве свидетелей боя.
— Это я сделаю.
И вот этот подготовленный Гришиным-Алмазовым бой начался. Он сам со своим адъютантом поселился в той же гостинице, в номере, который еще недавно занимала графиня Брасова, морганатическая супруга великого князя Михаила Александровича. Я знал, что бой начался с отрядами большевиков и украинствующими в разных местах Одессы.
Я сидел у себя в номере и Гришина-Алмазова не беспокоил. Но вечером он сам пришел ко мне и сказал:
— Формально мы победили. Однако только ночью решится дело. Если мы выдержим ночь, за завтра я ручаюсь. А пока что пишите приказ номер один.
— От вашего имени?
— Да, от моего имени, на тот случай, если завтра мы уже окончательно победим.
— А что же писать?
— Я человек здесь новый и ничего не знаю. Вы пишите так, как, по вашему мнению, написал бы генерал Деникин. Я считаю, что поступил под его начало, а вас считаю своей «деникинской совестью».
* * *
Он ушел, чтобы мне не мешать.
Что написал бы Деникин? Не знаю. Но Деникин был по убеждениям своим либерал. Когда он кончал Академию Генштаба и государь приехал поздравлять окончивших академию офицеров, то Деникина поставили отдельно от других. Опасались, что он скажет царю что-нибудь неподходящее. И потому император к Деникину не подошел. Конечно, он не знал, что этот в чем-то подозреваемый офицер окажется тверже многих других благомыслящих.
Исходя из этого либерализма Деникина, который вполне сходился с моим собственным настроением, я в приказе номер один написал не то, что обычно в таких случаях пишется. Обычно пишется, что запрещается то или иное. А я написал: «Разрешается беспрепятственное хождение по улицам… Разрешаются собрания и митинги в закрытых помещениях… Разрешается свободная торговля… Разрешается выпуск газет без предварительной цензуры…» и так далее в этом роде.
* * *
Когда я кончил, пришел Гришин-Алмазов. Прочел то, что я написал.
— Как же это вы пишете, что разрешается свободное хождение по улицам? Это опасно.
— После наступления темноты даже ни одна собака не выйдет на улицу, потому что побоится.
— Но вы еще разрешаете собрания и митинги в закрытых помещениях.
— Это для поддержания духа людей. Никто и так не пойдет, все спрячутся у себя.
— А как же со свободой печати? Они Бог знает что будут писать под псевдонимами, да и редактора будут подставные.
— Это возможно. Но не выгодно дота них. Ведь отменяется только предварительная цензура, но преследование печати за недопустимые статьи, уже вышедшие, останется в силе. Поэтому им выгодно будет, чтобы их писания были одобрены. Выберите грамотных офицеров, которые и будут просматривать в корректурах и, ничего не запрещая, давать им советы. А если все это не поможет и они как-то будут обходить все затруднения, то у вас очень простой выход — конфисковать типографии. И тогда владельцы типографий будут очень строгими цензорами.
Гришин-Алмазов согласился с моими доводами, сказав:
— Хорошо, я подпишу.
* * *
Надо сказать, что всего этого не понадобилось. Газеты не явились врагом Гришина-Алмазова и его начинания. Врагами оказались иные. Но об этом позже.
* * *
Когда мы покончили с приказом номер один, вошел адъютант Гришина-Алмазова.
— Разрешите доложить, ваше превосходительство.
— Докладывайте.
— Явился такой-то поручик, очень взволнован и настаивает на том, чтобы ваше
превосходительство его немедленно приняли.
— Позовите.
Поручик вошел и, махая руками, стал говорить:
— Полковник… приказал мне… просить помощи… Мы окружены… со всех сторон… Противник дал нам… десять минут для сдачи.
Гришин-Алмазов несколько секунд смотрел на него внимательно. Потом загремел:
— Десять минут для сдачи?! А почему вы так волнуетесь, поручик? Что это, доклад или истерика? Потрудитесь докладывать прилично.
Поручик перестал махать руками и принял положение «смирно».
— Теперь докладывайте.
— Мой начальник полковник Н., находящийся в таком-то районе, послал меня просить помощи ввиду того, что мы окружены со всех сторон превосходящими силами. Противник дал нам десять минут для размышления, — доложил поручик.
— Возвращайтесь к вашему начальнику и скажите ему, что генерал Гришин-Алмазов, выслушав ваш доклад, приказал дать противнику пять минут для сдачи.
— Ваше превосходительство…
— Ступайте!
Поручик повернулся, щелкнул каблуками и вышел.
* * *
Когда он ушел, я сказал:
— Что вы делаете, Алексей Александрович?
— А что я мог сделать? Он просит у меня помощи, очевидно, полагая, что у меня есть какие-то резервы. Но мои резервы — это мой адъютант и больше никого. Я слишком хорошо знаю гражданскую войну. Тут стратегия и тактика заключается в том, кто смелее. Я послал этому полковнику заряд дерзости. Если это подействует, то все будет хорошо. Если нет, они погибли. Такова природа вещей.
* * *
Удивляясь этому человеку, я продолжал какой-то уже ненужный разговор. Так прошло некоторое время. Затем снова явился адъютант генерала.
— Разрешите доложить, ваше…
— Докладывайте.
— Только что звонил полковник Н.
— Ну и что?
— Противник сдался.
Оба, и Гришин-Алмазов, и его адъютант, сохраняли ледяное спокойствие. Но адъютант смотрел на своего генерала обожающими глазами. В эту минуту он казался ему полубогом.
Гришин-Алмазов повторил:
— Такова природа гражданской войны. Смелость, дерзость. Окружены со всех сторон? А как же он тогда прорвался ко мне, если они были окружены?
* * *
Наутро выяснилось, что бой окончился в нашу пользу
113. Гришин-Алмазов потребовал от меня, чтобы я составил ему какое-то местное правительство, так как из Екатеринодара управлять Одессой никак было нельзя. И вот я, выскальзывая из французской зоны, составлял правительство. Прежде всего я обратился к моему родственнику Антону Дмитриевичу Билимовичу, ректору Одесского (Новороссийского) университета. Он согласился выполнять роль как бы «министра» просвещения. Затем оказался тут некий Пильц, бывший губернатором, по-моему, где-то в Сибири, но не военным, а гражданским, который здесь, в Одессе, стал заниматься внутренними делами. Кто-то согласился быть «министром» финансов. Больше что-то не припомню.
Помню, что как-то зашел разговор об образовании. По поводу гимназий Гришин-Алмазов спросил меня:
— Как вы обошлись тут с украинствующими? Ведь при Скоропадском в Одессе вводили украинский язык. Это недопустимо.
— Очень просто, Алексей Александрович. Все тут только в волшебной букве «у». Отбросьте ее, и от Украины будет Краина, или край. Отбросьте украиноведение, получится краеведение — весьма полезный предмет.
— А как же с украинским языком? — поинтересовался он.
— Украинский язык заменен малороссийским.
— Ну, например, «Энеида» Котляревского?
— «Энеида» Котляревского первоначально была напечатана Харьковским университетом под заглавием «Энеида Вергилия на малороссийский язык переложенная»
114. Вот под этим знаком будут изучаться Котляревский и Шевченко в гимназиях. Эти уроки будут для желающих.
— И много оказалось желающих?
— В одной гимназии двое.
— Кто же эти двое?
— Мои сыновья. Они очень увлекаются и декламируют прекрасно Котляревского и Шевченко.
Это были Ляля и Дима.
Разговор этот произошел значительно позже описываемых событий
115, уже после гибели Василида, после чего моя жена с двумя младшими сыновьями приехала в Одессу.
* * *
С газетами не было особых затруднений. Газеты стали мы издавать вместе с Владимиром Германовичем Иозефи, который тоже появился в Одессе. Эта одесская газета, как и екатеринодарская, называлась «Россия», но с каким-то прилагательным
116. Она была частью более широкого плана. Было предположено создать пятиконечную звезду из пяти звезд. Основание пятиконечника — Екатеринодар (предполагалось екатеринодарскую «Россию» перебросить в Ростов-на-Дону) и Одесса. Правым и левым углами — киевская и харьковская газеты. Вершина, которая предназначалась для Москвы, должна была быть основана где-нибудь в Курске или другом близком к Москве городе. Из этих пяти уже функционировали Екатеринодар и Одесса.
В числе сотрудников этой, будем ее называть одесской, «России» был и мой племянник Филипп Могилевский. Благодаря его статье вышел инцидент, но об этом позже.
* * *
В начале декабря по старому стилю приехала из Киева в Одессу моя жена Екатерина Григорьевна с двумя сыновьями — Лялей (Вениамином) и Димой. Старшего, Василида, уже не было.
Пробравшись в Киев еще до моего отъезда в Яссы, он записался в одну из дружин, так называемую Георгиевскую. Дело было в том, что у Скоропадского не было никакой вооруженной силы. Он держался исключительно немцами. Но широкий Киев понимал, что когда немцы уйдут, город будет отдан украинствующим в лице Петлюры, уже надвигавшимся с запада. Поэтому добровольно стали образовываться дружины для защиты города. Была даже подделана кем-то телеграмма, будто Деникин приказал защищать Скоропадского. Поэтому запись в дружины пошла успешно. Образовалось их довольно много. Все это была зеленая молодежь, только что окончившая гимназии.
Во главе этих дружин стояли кадровые офицеры. Так, в частности, во главе Георгиевской дружины был какой-то полковник
117. Этой дружине была поручена защита Брест-Литовского шоссе в предместье Киева — Петропавловской Борщаговке (ныне Борщаговка вошла в пределы города). Там был какой-то лесок и неподалеку какие-то домики. Тридцатого ноября по старому стилю полковник, который командовал Георгиевской дружиной, уехал в Киев, приказав двадцати пяти молодым людям ни в коем случае не сдавать этого пункта.
Мальчики слепо исполнили приказание. Утром первого декабря к ним пробрался товарищ Василька по гимназии, который был в дружине, стоявшей где-то рядом. Он сообщил им, что город сдан Скоропадским и его начальником штаба Долгоруким, справа и слева дружины отступили, что они одни и должны немедленно уходить.
Ему ответили отказом, ссылаясь на приказание своего командира, сбежавшего в город. Мальчишки слепо верили ему. Ведь он же русский полковник. У них был пулемет. Они втащили его на сосну и отбивались от петлюровцев до последнего патрона. Потом отстреливались из винтовок, пока были патроны. Разъяренные петлюровцы прикончили всех и закопали в одной яме.
* * *
Моя жена была в это время в Киеве, у себя на Караваевской, 5. Там же случайно в это время жили четыре хлопца из моего имения Курганы, которые росли вместе с моими сыновьями. Вечно они там боролись, применяя французскую борьбу на «без поясах», как говорили в цирке. Вместе ходили на танцы, ловили рыбу и так далее.
Когда стало известно, что произошло в Борщаговке, эти хлопцы пришли к рыдающей матери и сказали:
— Барыня, шоб нашего паныча о так закопалы без креста, без службы Божией! Так мы цого не дозволим.
Легко сказать «не дозволим». Но иногда все совершается само собой и совершенно неожиданно. В Киеве был датский Красный Крест. У него был грузовик. Этот грузовик был накрыт большим брезентом. Он подъехал к дому, взял четырех хлопцев с заступами и Виталия Григорьевича Градовского, брата моей жены. Взяли еще фонари и поехали ночью. Но еще днем Виталий Григорьевич ходил туда и нашел братскую могилу. Окрестные мужики рассказывали:
— Воны як горобцы скакалы: туды-сюды. Доки их вбыто.
Подъехали уже за полночь. Начали раскапывать. Перебрали двадцать пять трупов и при помощи фонаря нашли паныча. Погрузили на грузовик и привезли домой на Караваевскую, 5, где он и родился. Постояли тут, как полагается, потом поехали на кладбище, отыскали там священника, отслужили панихиду и, достав гроб, похоронили. Похоронили на Байковом кладбище, вправо от улицы, пересекающей кладбище, но где именно, я не смог найти, когда через много лет искал могилу.
* * *
После этого Екатерина Григорьевна стала собираться в Одессу. И доехала при помощи того чеха, который говорил на всех языках совершенно непонятно, но, пользуясь своей близостью к Энно, добыл какой-то вагон, который благополучно и дошел до Одессы. Через некоторое время приехал в Одессу и мой брат Павел Дмитриевич Пихно. Он имел подложный паспорт. По дороге его арестовали, но выпустили. Интересно, что сон, который я видел, предсказал мне его приезд. Я спал в гостинице (кажется, «Лондон» или «Лондонская»)
118, в своем номере, где уже была и Екатерина Григорьевна. Я увидел во сне покойную Дарью Васильевну. Она подошла сначала ко мне, а потом к другой койке, которая в действительности была пустая, но во сне мне привиделось, что на ней спит мой брат Павел Дмитриевич. И на следующий день он действительно спал на этой койке.
* * *
Наступил Новый год в великой печали. За потерей Дарьи Васильевны пришла потеря сына. Она уберегла его от «испанки» в Новочеркасске, но я ее от этой самой же «испанки» в Яссах спасти не мог. Они как-то ушли вместе. И мать Василька, Екатерина Григорьевна, говорила о Дарье Васильевне:
— Она взяла Василька к себе.
* * *
В новогоднюю ночь я сидел один за столом. Пришла Екатерина Григорьевна, поставила бокал с вином около портрета сына и ушла. Почему переживать это горе мы не могли вместе, ведь это был наш сын? Не знаю.
Я смотрел на его портрет, и мне вспомнился романс киевского композитора Калишевского. Романс этот не очень высококачественный, но крайне трогательный. И его с необычайным чувством и пониманием пела Дарья Васильевна, но только для меня. Никто никогда этого романса в ее исполнении не слышал.
В осенний день, унылый и печальный,
На кладбище найдешь мою могилу ты.
Тебе покажут угол дальний,
Где пышно разрослись роскошные цветы.
Знай, песни те, что были не пропеты,
И мысли те, что словом не одеты,
Из сердца вырвались и выросли цветы.
Это особенно можно было отнести к Васильку, погибшему девятнадцати лет мыслящему существу, и эти мысли он унес с собой. Когда ему было пять лет, он сидел на коленях у матери, а мимо по Кузнечной улице, в направлении Байкового кладбища, шла похоронная процессия. Увидев ее, мальчик спросил мать:
— Мама, что такое смерть?
Она ему ответила сквозь слезы:
— Когда ты вырастешь, узнаешь.
Он узнал, еще не успев вырасти. И это было горько.
Так окончился 1918 год дня меня.
* * *
В числе забот, которые у меня были в то время еще в Екатеринодаре, был так называемый греческий алфавит, составленный по образцу «Азбуки». Инициатором этого дела был «Паж» (Виридарский). Он узнал, что в Крыму проживают вдовствующая императрица Мария Федоровна, великий князь Николай Николаевич, бывший верховный главнокомандующий, и другие члены императорской фамилии. Они все находились там без охраны, каждый, кто захочет, мог напасть на них.
Поэтому я решил обратиться к генералу Деникину за разрешением устроить там, в Крыму, охрану из офицеров-добровольцев. Деникин сейчас же согласился и предоставил мне свободу действия в этом вопросе.
Я поручил «Пажу», чтобы он набрал подходящих офицеров, что он и выполнил. Кажется, их было человек пятнадцать, и они выехали на место. При этом им дали азбучные шифры, но только не славянской азбуки, а греческой: альфа, бета, гамма, дельта и так далее.
Из этой греческой азбуки впоследствии образовался конвой, состоявший из двухсот человек. Откуда они брали деньги на существование, не знаю. Быть может, поэтому о них пошла дурная слава. Вероятно, они вымогали деньги. Я точно не помню, но весьма возможно, что в числе этих конвойцев оказался и капитан Булыгин, племянник бывшего министра Булыгина, который в былое время составил проект так называемой «Булыгинской Государственной Думы». Закон о выборах в эту Думу был составлен так, что она должна была стать сверхдемократической, почти сплошь состоять из крестьян. Быть может, это было в связи с тем, что императрица Александра Федоровна очень верила простым людям. Передавали, что она иногда спрашивала петербургских знатных дам: «Вы как познакомились с русским народом? Во время игры в бридж?» Это была злая насмешка. А продолжение ее было таково: «А я знаю русский народ. Из огромного числа писем, которые я получаю».
* * *
Так это или не так, но «Булыгинская Дума» не была создана. А закон о выборах в Государственную Думу был совершенно изменен. И он привел к тому, что первая Государственная Дума была очень левая.
* * *
Весьма возможно, что капитан Булыгин, будучи в числе греческой азбуки, заслужил доверие императрицы Марии Федоровны. Она сказала ему, что не верит в екатеринбургское убийство. И что она хочет все проверить на месте через верное лицо. Это кончилось тем, что императрица написала письмо своей родной сестре, королеве английской Александре, с просьбой помочь капитану Булыгину выяснить правду о Екатеринбурге. С этим письмом Булыгин приехал ко мне в Одессу с просьбой помочь ему добраться до Англии. У него не было ни средств, ни визы. Уж не помню как, но я ему дал и денег в долларах, и какой-то документ. Доллары можно было достать. Гришин-Алмазов печатал очень много своих одесских денег, и на эти деньги можно было покупать доллары. Мы, конечно, могли с ним разбогатеть на этом. Но этого не делали, ограничиваясь самыми необходимыми потребностями на дела.
Словом, Булыгин поехал и был принят королевой Англии. Там выяснилось, что поставленную задачу можно решить, если только обогнуть всю Азию на корабле и уже из Владивостока двигаться в Екатеринбург. Это было сделано, и Булыгин явился к адмиралу Колчаку. Тут он познакомился со следователем Соколовым, которого адмирал уполномочил вести следствие и дал ему документ, повелевавший всем властям оказывать содействие следователю Соколову.
* * *
Булыгин исполнил поручение императрицы Марии Федоровны. А следователь Соколов, расследовав дело, издал книгу, в которой ничего о Булыгине не говорится. Булыгин же, исполнив поручение, должен был ехать обратно, но каким-то образом попал в Абиссинию, где сделался инструктором в войсках негуса. Заболев одной из тридцати лихорадок, он оставил службу и поехал в Европу. И памятуя, что я когда-то ему помог, приехал ко мне рассказать о расследовании.
Он застал меня в Берлине, кажется, в 1923 году. В течение целого дня он рассказывал мне и показывал различные фотографии. Рассказывать об этом не было смысла, так как все это в той или иной форме изложено в книге Соколова.
* * *
Затем, через несколько лет, я встретил его на юге Франции. Он сильно опустился, пил. И теперь он уже не говорил, что уехал из Абиссинии из-за лихорадки. Он утверждал, что тамошняя ведьма прокляла его за что-то.
* * *
Не помню, при каких обстоятельствах, вероятно, в Одессе, меня посетил какой-то влиятельный англичанин и спросил, что я думаю, как надо себя держать после того, как Германию удалось разбить. Он хорошо говорил по-русски, поэтому я сказал ему:
— Существует русская поговорка: «Лежачего не бьют». Я думаю, что, повергнув Германию, не надо ее топтать, а нужно заключить мир, не очень для нее тяжелый.
Он очень живо ответил, сверкнув голубыми глазами:
— Это совершенно английская точка зрения. Но сейчас страсти еще не остыли. Погодите немного, и вы увидите.
Мне кажется, что в это время уже был заключен жестокий Версальский мир. И помнится, Англия старалась его смягчить.
* * *
Генерал Бориус, который назначил Гришина-Алмазова военным губернатором Одессы уже после того, как последний при помощи Энно захватил власть в городе, недолго был в Одессе. Его сменил генерал д’Ансельм
119, который отнесся к Гришину-Алмазову совершенно иначе.
В числе других лиц я посетил генерала д’Ансельма. Как показывает его фамилия, он принадлежал к французской аристократии. Он принял меня любезно, но сказал мне:
— Знаете, что я думаю? Вы, как у нас Бурбоны. Ничего не забыли и ничему не научились. В частности, о генерале Гришине-Алмазове. Вы первый из числа лиц, меня посетивших, говорите о нем хорошо. Все остальные его бранят.
Я ответил:
— Генерал, я не Бурбон. Я скромный русский человек. Поэтому напрасно вы мне приписываете бурбонскую психологию. А что касается генерала Гришина-Алмазова, то мне кажется, увы, что вы совершенно правы. Он молодой, решительный человек, полный энергии. Консул Энно его понял, выдвинул вперед и этим отодвинул пожилых русских генералов и адмиралов, которые уже не способны понимать, в каком трудном положении мы находимся и что нужно делать.
На этом мы расстались с генералом д’Ансельмом, но я увидел, что положение Гришина-Алмазова становится шатким. Причина такой антипатии генерала д’Ансельма к Гришину-Алмазову заключалась в том, что политика консула Энно была дезавуирована. Он в скором времени и был отозван. За спиной д’Ансельма стояли французские генералы, главным образом Франше д’Эсперре. Эта группа генералов вовсе не хотела французской интервенции в России. Их план был заключить мир в Берлине, так сказать, доконать Германию.
* * *
Врангель часто говорил: «Рыба портится с головы». Поэтому, когда французская голова стала мыслить иначе, это сейчас же отразилось и на французском теле. Интервенция не удалась. Французские части, посланные против большевиков из Одессы на север, бежали, а флот через некоторое время открыто взбунтовался.
В Одессе началась анархия. Однажды вечером я проходил по главной улице, Дерибасовской, и увидел и услышал следующее. Французские солдаты без офицеров, сделавшие цепь от стены до стены, взяв друг друга за руки, ловили женщин, которые кричали, одни от ужаса, а другие, проститутки, от радости. Я глазам своим не верил. Вдруг я услышал шаги воинской части, шагавшей в ногу, отбивая шаг. Я обрадовался: «Наконец-то сейчас положат конец этому безобразию». Вдруг услышал звонкую команду:
— Рота-а! Стой!
Наши! Наши стараются устранить анархию, учиняемую французами, пришедшими к нам на помощь. Я понял, что конец недалеко.
* * *
Но беда никогда не приходит одна. Приехал генерал Лукомский. Он был весьма недоволен, что мы печатали много денег и широко платили офицерам и чиновникам. Тогда мы предложили генералу Лукомскому пообедать в гостинице «Лондон». Когда он заплатил за скромный обед двадцать пять рублей, он понял, что мы ничего не тратим лишнего.
* * *
Перед этим у меня была переписка с Екатеринодаром по следующему поводу.
Екатеринодар был недоволен тем, что мы с Гришиным-Алмазовым управляем Одессой так, как находим нужным. В частности, особенно были недовольны, что тут создалось при Гришине-Алмазове Особое совещание, весьма похожее на екатеринодарское. Я написал Драгомирову, что степень самостоятельности отдельных местностей находится в полной зависимости от средств сообщения. Древний Рим предоставлял своим легатам большую власть потому, что при тогдашней технике распоряжения из Рима неминуемо опаздывали бы, а упущение времени «смерти безвозвратной подобно есть», как говорил Петр Первый. Екатеринодар, писал я, находится сейчас на положении Рима. «Мы не можем получать от вас указания вовремя. Поэтому действуем по необходимости самостоятельно. Но мы ни минуты не забываем, что Гришин-Алмазов добровольно подчинил себя генералу Деникину и даже называет меня своей деникинской совестью».
* * *
К сожалению, Екатеринодар, хотя и понял мою мысль, что нужно предоставить Одессе самостоятельность, но решил, что эту полноту власти он не может вручить Гришину-Алмазову, который-де слишком молод и так далее. А посему в Одессу был прислан генерал Санников, которому Гришин-Алмазов должен был передать дела и стать его помощником.
Гришин-Алмазов, который обладал бешеным темпераментом, был разъярен приездом Санникова. Однако наличие в нем настоящей офицерской дисциплины помогло ему укротить свой нрав. Он подчинился Санникову. Но я понял, что если Гришин-Алмазов не мог справиться с затруднениями, возникшими в Одессе, то Санников, старый и безвольный, доконает дело.
Так оно и вышло. Через короткое время французское командование предложило генералу Санникову отвезти письмо генералу Деникину, и при этом было прибавлено: «Le général Grischin-Almasoff l’accompagnera»
[36].
* * *
И вот я провожал Гришина-Алмазова в порту. Он стоял, опершись на фальшборт парохода, такой же молодой, в грубой солдатской шинели. И он весело и в то же время грустно спросил меня:
— Ну, что ж, моя деникинская совесть, что вы скажете? Выдержал я экзамен?
Я ответил:
— Да, Алексей Александрович, вы выдержали. Но Екатеринодар не выдержал. И скоро Одесса будет потеряна.
Пароход отошел с Гришиным-Алмазовым на борту. А пристыженный генерал Санников предпочел не показываться из своей каюты.
Я понял, что скоро и мне придется собираться.
Глава IX
ГРИШИН-АЛМАЗОВ. ОТЪЕЗД ИЗ ОДЕССЫ
Когда-то давно я написал о Гришине-Алмазове очерк, названный мною «Диктатор». Он и был прирожденный диктатор, вмещавший в себя как положительные, так и отрицательные стороны этой породы деятелей. Первые угадал в нем консул Эмиль Энно, который и выдвинул его. Он понял, что в нем французское руководство получило человека, нужного не только России, но и Франции того времени. Я значительно позже узнал от жены Энно, что на эту роль диктатора вели меня, В. В. Шульгина. Меня они хотели посадить в Москве верховным правителем. Но они меня совершенно не поняли как политического деятеля. Во мне никогда не было желания и способностей повелевать. Цезарь говорил: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». У меня же было всегда желание быть вторым, чтобы посильно помочь первому. Все это было, пока я имел кое-какие силы. Но я их потерял, когда умерла Дарья Васильевна. Когда она скончалась, родился новый Шульгин, мало к чему пригодный. Все же я Гришину-Алмазову кое-как помогал и, мне кажется, достаточно его рассмотрел.
Умение приказывать было в нем просто удивительно.
* * *
Иногда я у него обедал. Обедал он очень скромно — ни водки, ни вина не было. Вместо ликера он любил поговорить на какие-нибудь утонченные темы. Литература и философия его интересовали. Однажды затеялся какой-то разговор о чем-то таком изысканном. Он продолжался и когда мы встали из-за стола и собирались куда-то ехать, и даже уже вышли на крыльцо. У крыльца стоял, вытянувшись в струнку, конвой Гришина-Алмазова из семидесяти прирожденных татар. Они поклялись на Коране охранять генерала и готовы были убить на месте всякого, кто бы ему угрожал. Такой конвой — род особенной гвардии — необходим для диктатора.
Увидя конвой, Гришин-Алмазов прервал разговор и сказал мне:
— Извините, Василий Витальевич, мне надо нацукать мой конвой.
И вот сразу, мгновенно, все изменилось. Из философа выскочил деспот, восточный, азиатский деспот. Изменилось не только лицо, но и голос. Передать его звук; трудно. Это был низкий бас, страшный.
Что он говорил, вспомнить не могу. Узнал об этом позже. Дело было не в словах, а в той гипнотической силе, которая от него исходила. Это был питон, гипнотизирующий кролика.
Люди, готовые убить кого угодно, побледнели. Они совершенно лишились воли. Им, вероятно, казалось, что их генерал сейчас же расстреляет всех или через одного.
Стоя в стороне, я был потрясен. Не знаю, как бы я выдержал, если б эта речь была направлена против меня.
Но это кончилось также быстро и неожиданно, как и началось. Ротмистр Масловский, командир конвоя, что-то скомандовал, и конвой ушел, отбивая ногу. А Гришин-Алмазов обратился ко мне:
— Извините, теперь мы можем продолжить наш интересный разговор.
* * *
Когда мы окончили «интересный» разговор (беседу), он сказал мне:
— Вот народ!
— Что же случилось?
— Случилось все из-за того, что они татары. У них воровство — это самое позорное деяние. Кто-то из них украл у своего товарища пустячную вещь. Они его на месте убили. Это хорошо, конечно, что они стоят за неприкосновенность собственности и что они честные люди, но ведь такое самоуправство можно ли допускать. Отдавать их под суд бессмысленно. Ну, а нацукать надо было.
* * *
В этом случае он был прав, конечно. Самоуправство недопустимо. Но сам-то Гришин-Алмазов! Он мог делать дела, для которых название было подобрано позже большевистскими газетами. Называлось это «бессудные убийства».
Таких убийств насчитывалось одиннадцать. У диктатора была на этот счет своя теория. Он говорил:
— Чем их устрашить? Они пускают все средства в ход, в том числе подпольные приговоры, и затем следуют таинственные убийства. Неугодных им лиц они уничтожают. Причем убийц найти нельзя, никакое следствие не помогает. Даже пытки. Вот я и отвечаю им тем же. Находят человека. Убит. За что? Почему? Тайна!
Это слово «тайна» он выговаривал тем устрашающим голосом, которым он говорил с конвоем. Он продолжал:
— Никто не может ручаться за свою жизнь. Выползает нечто безличное, неведомое. Тайна! Говорят, что это я. Но не все ли равно? А может быть, это и не я. Важно, что завелась смерть, которая видит. Но ее увидеть нельзя. Тайна!
* * *
Я понимал, конечно, что такие штучки заведут его далеко. Однако в нем было какое-то внутреннее убеждение в своей правоте. Наступил великий пост, и он говел. Безмятежно говел. Исповедовался. Вероятно, на исповеди сказал священнику о бессудных убийствах. И затем «с верою и любовью» принял причастие. Я это видел. И это тоже была тайна.
* * *
Мне вспомнился Владимир, князь Киевский, святой и равноапостольный. Он принял христианство по-настоящему и прекратил смертную казнь. Но дело повернулось плохо. Клев стал голодать, потому что прекратился подвоз продовольствия. А это случилось потому, что разбойники обнаглели. И народ киевский стал открыто говорить, что прежняя вера была лучше. Новая вера — это голод. И тогда пришли к князю монахи, которых его жена привезла с собою из Царьграда, и сказали ему, что так поступать нельзя:
— Не напрасно ты, князь, на боку меч носишь.
Владимир, в святом крещении Василий, ответил:
— Греха боюсь.
— Мы грех твой замолим, а ты делай свое княжеское дело.
Так вот, Гришин-Алмазов делал свое диктаторское дело так, как он его понимал.
* * *
Однако, кроме политических противников, то есть большевиков и украинцев, выросло еще другое воинство, пожалуй, даже более страшное, чем первые два. В Одессе насчитывалось тогда тридцать тысяч уголовных элементов. Было их больше или меньше — неважно. Важно то, что во главе их стоял знаменитый Гапончик, нечто вроде современного Робин Гуда
120. Его боялись, но тем не менее он был очень популярен. Он грабил, но вместе с тем широко благотворительствовал. Он даже выплачивал пенсии особенно нуждавшимся.
И вот этот, по существу дела, грабитель, ставший, однако, легендарным героем, прислал Гришину-Алмазову письмо, вполне реально написанное на бумаге. Буквальный текст я, конечно, не помню, но сущность его Гришин-Алмазов мне рассказал. Вот что он примерно писал:
«Мы не большевики и не украинцы. Мы уголовные. Оставьте нас в покое, и мы с вами воевать не будем. Какое вам дело, что мы грабим. Кого мы грабим? В Одессе есть тайные игорные дома, где ведется большая игра. Деньги мало что стоят. Ведется игра на драгоценности: брошки, серьги, золотые портсигары. Вот этих мы и грабим. Неужели вы их будете защищать?»
Прочитав мне это, Гришин-Алмазов спросил:
— Ну, что вы скажете?
Я спросил его в свою очередь:
— Что же вы сделали?
— Я не ответил. Не может же власть вступать в переговоры с уголовниками. Но они поняли мое молчание как войну без объявления войны. И вот с той поры меня обстреливают где только могут.
— Это я знаю. Когда еду от вас в вашей машине, пули так и свистят вокруг. Шофер ваш совсем бесстрашен.
— Да. И представьте себе, он еврей.
— Знаю, мы с ним беседовали. Он мне рассказал, что уже одиннадцатой власти служит.
Гришин-Алмазов удивился:
— Одиннадцатой?
— Да, он мне все их перечислил, но я уже не помню.
* * *
Однажды этот обстрел машины Гришина-Алмазова был очень эффективным. Кажется, это было в день свадьбы Энно.
Консул Энно повенчался церковным обрядом с той дамой, киевлянкой, которая была у него переводчицей. После этого в «Лондонской» гостинице был маленький пир и крупные разговоры.
Энно пригласил на свадьбу одну молодую и красивую румынку, с одной стороны, и Александра Николаевича Крупенского, бывшего предводителя дворянства Бессарабской губернии, с другой. И вот, между этой красоткой и пожилым, но очень горячим джентльменом произошел крупный разговор на хорошем французском языке о том, кому должна принадлежать Бессарабия. Крупенский говорил, конечно, что России. Румынка — Румынии. Она сразу перешла в энергичное наступление.
— Я просто не понимаю вас, ведь вы сами румын.
— Я? Румын? Я предводитель русского дворянства, — сказал он, напирая на слово «русского».
— Пускай так, но ваши предки были румыны.
— Ни один Крупенский, сударыня, никогда не был румыном. Сто лет тому назад Крупенские, которые, повторяю, никогда не были румынами, были турками. И это связано с историей Бессарабии.
— А Бессарабия всегда принадлежала Румынии, — парировала молодая особа.
— Вы опять ошибаетесь, сударыня. Бессарабия принадлежала туркам, победив которых, Россия приобрела ее, к счастью, между прочим. Я не скрываю, что был турком. Но я никогда не был румыном и горжусь тем, что я русский.
* * *
Этот разговор происходил на высоком диапазоне, и тогда любезный хозяин провозгласил тост за своих дорогих гостей. На этом спор кончился, и гости поняли, что пора разъезжаться.
Крупенский и румынка остались в гостинице, а нам с Гришиным-Алмазовым надо было ехать. Мы вышли на подъезд, и в ту же минуту пули впились в косяк дверей и зацокали по стенам.
Гришин-Алмазов загремел:
— Шофер, потушить фонари.
Бесстрашный шофер подал машину без тени боязни, как будто не понимал всю сложность обстановки, но свет выключил.
Мы сели и поехали. Гришин-Алмазов приказал:
— На Молдаванку!
Там жил я. У меня на Молдаванке был комфортабельный двухэтажный домик. В нижнем этаже жила «Азбука», вернее, наличные члены организации. Это были вооруженные офицеры.
Мы доехали благополучно. Распростившись со мною, Гришин-Алмазов поехал к себе (он жил совсем в другой части города, около какого-то собора). Однако не успел я подняться к себе, как в темноте, но где-то совсем недалеко, началась пальба. Я понял, что это напали на «диктатора», и крикнул «Азбуке»:
— В ружье!
Они побежали на выстрелы, которые, впрочем, сейчас же прекратились. В большом волнении я стал ждать телефона. И он зазвонил.
— Алексей Александрович, вы?
— Я!
— Это вас обстреляли?
— Да, меня. Была засада. Но в общем все сошло благополучно. Все целы. Только одну шину прострелили. Доехали на трех колесах. Шофер молодец.
Позже я узнал, что была действительно устроена засада, так как знали, что «диктатор» поедет отвозить меня на Молдаванку. Выстрелы были спереди. Шофер на сильном ходу резко свернул в переулок. Гришин-Алмазов вылетел из машины. Но шофер не бросил его и остановил машину. И когда генерал вскочил обратно, дал полный ход.
Я заканчивал разговор по телефону, когда вернулась «Азбука». Они принесли простреленную покрышку, слетевшую с колеса.
* * *
Примерно в те же дни, то есть когда я уже переехал на Молдаванку, произошло мистическое явление, оказавшее сильное влияние на мою последующую жизнь.
В тот вечер «Азбука» уже занимала нижний этаж, но моя семья и канцелярия еще оставались в «Лондонской» гостинице. Таким образом, я был один в верхнем этаже.
Я находился в зале с хорошо начищенным паркетом. Полная луна образовала на нем некую лунную дорожку, жалкое подражание лунному столбу в море. Я смотрел на эту дорожку и думал: «Вот если бы в ней появилось видение», которого я ждал и желал. Мое сидение и всматривание в эту дорожку продолжалось долго и напряженно. Но видение не появилось, а от сильного утомления глаз мне очень захотелось спать. И я лег на оттоманку.
* * *
Тогда случилось то, чего я захотел. Я заснул, заснул крепко. Мне казалось, что я сплю в какой-то комнате, мне незнакомой, где паркет, если он и был, покрыт темным ковром. И вот на этом узорчатом, но темноватом фоне появилось пятнышко, напоминавшее сначала клочок белой ваты. Но «вата» зашевелилась, затрепетала, стала похожа на клубочек пара, и этот пар быстро рос, вибрировал и клубился очень сильно. И наконец образовалась человеческая фигура, женщина в белом одеянии. Но нет, это было не одеяние. Или оно исчезло. Она была совершенно голая.
И я ее узнал. Это была Дарья Васильевна. Да, она была нагая, но вместе с тем она была как святая. Ведь как святая она умерла. И я упал на колени и тихонько спросил:
— Тебя можно трогать?
— Конечно, можно.
И я обнял ее колени. Она была теплая и вещественная и положила руку мне на голову.
* * *
И вдруг выскользнула. Я увидел ее уже одетую в шелковое светлое платье с цветочками. Она стояла на кровати. Затем стала подниматься вверх, пока не поднялась до потолка, прижавшись к нему головой так, что даже волосы примялись. Видимо, она хотела пройти через потолок. Но ей было больно, потому что она не была духом, а была материальна. Но вещество это было все же не такое, как у живого человека. Лицо ее исказилось от боли, но все же она прошла через потолок и исчезла.
* * *
Через несколько мгновений на стене, где висел ковер, появилось окно. В стекло начался сильный стук. Я подбежал к окну. Это была она. Перестав стучать, она трепетала рукой в знак прощания. И опять исчезла. Но я открыл окно и вскочил в какое-то огромное помещение. Это была зала, очень большая зала, как церковь, собор, со сводами, в которых было темно. А внизу было довольно светло, и я увидел много людей, тысячи. Они ходили там, толпились. Некоторые двигались нормально, другие как-то странно. И между последними я увидел Дарью Васильевну. Она двигалась как-то совсем непонятно. Так, как двигаются не умеющие кататься на коньках — то вправо, то влево беспомощными зигзагами.
* * *
И я понял. В ней было слишком мало веса, и поэтому не было достаточно трения. Как на коньках. Конек дает достаточное трение, когда он поворачивается боком.
Не оборачиваясь, она уходила. Уходила от меня, как будто что-то искала. Она искала выхода из этой большой залы. Здесь, видимо, ей не надо было быть. И она нашла коридор, в который и скрылась в полутьме.
Тогда я проснулся.
* * *
Этот сон произвел на меня сильнейшее впечатление. Я понял, что это был не обыкновенный сон. Это было ясновидение во сне. Я увидел то, что с ней происходит в каком-то ином мире. Без слов она мне объяснила, что может при известных условиях воплощаться в какую-то плоть, более тонкую, чем обыкновенная, но все же плоть. И что даже такая плоть все же ей не позволительна. Ей нужна плоть тоньше, по каким-то неведомым законам.
Потом, позже, я понял, что ей надо стать духом и что дух не может и не должен безнаказанно воплощаться.
* * *
В следующую ночь я увидел ее распятую на кресте, как будто бы в наказание за то, что она, желая во что бы то ни стало явиться ко мне, нарушила суровые законы бытия.
С тех пор она являлась ко мне только в совершенно исключительных случаях. А Анжелина Сакко сказала мне про нее:
— Она ушла очень далеко. Она дух.
Это она сказала, противопоставляя ее, Дарью Васильевну, двум Мариям. Одна из них была живая, Мария Дмитриевна. Анжелина Васильевна говорила о ней:
— Она стоит у вас за плечами вплотную к вам. А сейчас же за нею стоит другая Мария, которая, хотя, по-вашему, умерла, но не может уйти далеко от земли, потому что она не может стать духом, земля ее притягивает.
* * *
Тут надо еще прибавить следующее. Через несколько лет я прочел книгу французского ученого, солидный том, посвященный всяким мистическим, то есть малопонятным явлениям. Как приложение к этой книге были рисунки и фотографии. Я обратил особенное внимание на последние. На этих снимках было схвачено появление материализованных существ не во сне, а на сеансах, которые называют спиритическими. Постепенная материализация при помощи медиума, появление какой-то женщины до поразительности напомнило мне то, что я видел на Молдаванке во сне.
* * *
Во всяком случае, сон или видение, явившееся мне на Молдаванке, говоря простыми словами, бесконечно меня утешило. Пусть эта уверенность субъективна, но все же это уверенность, уверенность в том, что загробная жизнь существует, а это обозначает, что пасхальная песнь утверждает правильно:
Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровав.
Религия говорит спокойно: «Церковь есть единение живых и мертвых, не только дозволенное, но и благословляемое Богом».
И еще. Напрасно осуждают спиритизм и спиритов. Конечно, спириты должны быть осторожны. Нельзя думать, что всякий умерший — святой. Души ушедших в иной мир чрезвычайно разнообразны. Одни — святые, а другие — преступники, которые и в загробном мире совершают черные деяния. И есть между ними и просто мелкие, вздорные душонки. Они очень часто являются на спиритический сеанс. Это надо помнить. И не всякого появившегося духа облекать религиозным почтением.
* * *
После Молдаванки я сделался более жизненным, более способным к жизни, зная, что она, жизнь, есть только временное существование, за которым последуют другие периоды бытия.
Вот почему я и способен рассказывать о том, что происходит в земной жизни, спокойно, не принижая ее до ничтожества, но и не считая это земное существование единственным. Это только одна ступень, за которою будут следующие. Важно только, чтобы эти ступени вели вверх, а не вниз.
* * *
Случайный человек в Одессе, Гришин-Алмазов все ж таки сделал все, что ему было суждено. А суждено было убедиться, что на одесской почве в рамках французской интервенции ему нечего было делать. Естественно, что он думал приложить свои способности в «деникинском» государстве, столицей которого был Ростов-на-Дону. И это тем более, что у Деникина было мало людей на замещение ответственных должностей. Врангель командовал так называемой Кавказской армией, то есть казаками, и работал на Царицынском направлении. Корнилов и Марков были убиты, Алексеев и Дроздовский умерли, Драгомиров и Лукомский были заняты работой в центре. Оставался еще генерал Покровский, который мог только скомпрометировать Белую армию. После того, как я поговорил с ним, я завел отдел «Азбуки» под названием «Изнанка». Под этим названием я старался осведомлять Драгомирова о всех недопустимых явлениях в армии.
Казалось бы, генералу Гришину-Алмазову можно было поручить наиболее ответственный участок работы. Но этого сделано не было. Сказалось недоброжелательное отношение старого генералитета к более молодому поколению. И неприкаянный генерал решил вернуться в Сибирь, то есть в данной обстановке ехать к Колчаку.
Быть может, еще в Одессе ему мелькала эта мысль. Я так думаю, потому что, по-видимому, именно из-за этого дал ему письмо к адмиралу.
Между прочим, в это время или несколько позже я написал для Освага
121 статью под заглавием «Дом по телеграфу». Причина появления этой статьи была та, что американцы по телеграфу сообщили Колчаку, Верховному правителю России, основные положения того, как, по их мнению, он должен построить свою Всероссийскую державу.
Такое навязывание мне не нравилось и деникинскому кругу тоже было противно и неприемлемо. Несмотря на всю скромность Деникина, льстецы под видом шутки называли его «царь Антон». Ни «царю Антону», ни «верховному правителю» телеграфные предписания не могли нравиться.
Деникин подчинился Колчаку как Верховному правителю России, но не более. Он не желал, чтобы Колчак кому-нибудь подчинялся.
Несколько слов об этом. Небезынтересно вспомнить, что Особое совещание, заменявшее правительство при Деникине, на специальном заседании, посвященном этому вопросу, было против того, чтобы Антон Иванович подчинился Колчаку. Но, приняв к сведению постановление совещания, «царь Антон» подчинился Верховному правителю, причем на следующий же день известил его об этом телеграммой.
Деникин не страдал честолюбием. Он, как и я, предпочитал быть вторым, а кроме того, как я уже писал, он мечтал посадить кого-нибудь в столице государства, а самому удалиться на покой и «садить капусту». Однажды он добродушно и откровенно говорил о том, чего бы он желал для себя лично:
— Я не помещик. Но я уважаю собственность. Без собственности — это что же будет? Собственность — это есть диктатура над вещами. Материя без господина — это анархия. А господин не должен быть многоголовый, коллективный. Поэтому помещик, если он исполняет свой долг по отношению к земле, если в его руках земля дает то, что она может дать, человек нужный даже в том случае, если он не поднимается до высоты Пушкина или прочего просветительного дворянства. У меня никакой собственности нет. Моя собственность — это моя шинель и мое жалованье. Дайте мне пятнадцать десятин, где я буду сажать капусту. Но это возможно только после того, когда в Москве будет посажен достойный правитель. Будет ли это конституционный царь, или верховный правитель, или толковая республика, — мне все равно. Ведь это только формы правления. А важна не форма. Важно, чтобы правители были умные, честные и добрые люди, свято исполняющие свой долг.
* * *
Но мое письмо не дошло до Колчака. Не дошло потому, что горемыка Гришин-Алмазов не добрался до него. Путь к Колчаку шел через Каспийское море. Он и
несколько офицеров (кажется, человек двенадцать), желавших разделить его судьбу и сопровождавших его, сели на пароход, который должен был доставить их на азиатское побережье. Судьба их плавания была трагической.
Недалеко от какого-то берега пароход, на котором шел Гришин-Алмазов и его спутники, нагнал большевистский отряд. Сопротивляться нельзя было. Молодые офицеры бросились в море. Среди них был и сын Иозефи. Часть из них добралась до берега, но спаслись ли они, я не знаю. Гришин-Алмазов спустился в свою каюту и стал уничтожать какие-то документы. Когда вооруженные люди ворвались к нему, он начал отстреливаться, а последней пулей застрелился.
Так кончил свою жизнь человек, который мог бы быть диктатором при других условиях.
* * *
Мое письмо к Колчаку Гришин-Алмазов не уничтожил. Оно было напечатано в местных большевистских газетах, но не помню, целиком или только выдержки.
* * *
Генерал д’Ансельм еще не был самый худший. Его сменил генерал Фреданбер (точно фамилию не помню)
122. Он тоже пригласил меня и сказал примерно следующее:
— Мы предполагаем организовать здесь смешанные части («division mixte»), то есть офицеры будут французские и русские. Это нам очень удалось в Румынии
123.
Я ответил:
— Но это вам не удастся здесь.
— Почему?
— Потому что ваши войска потеряли дисциплину и не будут способствовать русским частям, а наоборот, их разложат.
— Из чего вы это заключаете?
— Да хотя бы из тех сцен, которые я видел на днях на улицах Одессы.
Мы расстались, и он был очень мною недоволен.
* * *
Затем свалился на голову человек, которого я хорошо знал по Волыни. Там он назывался просто Андро
124. Он был предводителем дворянства Ровненского уезда, женат на польке. Мы с ним не ладили на родной земле. Но, конечно, все это было позади и сейчас не имело значения. Он показал себя человеком мужественным. Когда все полетело к черту при падении Скоропадского, он собрал маленький конный отряд из полицейских, вооружил его и пробился в Одессу.
Сейчас он сидел передо мною в черном армяке, выпачкавшем ему лицо. И тоже говорил об этих смешанных частях, поддерживая эту идею, и по поручению французов хотел ехать к Деникину. Я сказал ему, что Деникин даже не захочет слушать этого вздора. Теперь он уже не называл себя просто Андро, а более звучно d’Andro de Langeron. Принимая во внимание, что в Одессе стоит памятник Ланжерону, это было выдумано удачно.
* * *
Но на этом дело не кончилось. Появился еще какой-то Шварц. Французам он понравился, и они хотели назначить его чем-то вроде одесского градоначальника. Этого я уже не видел.
* * *
Затем ко всему прибавилось еще и нижеследующее. В это время французы, а может быть и другие, придумали, что надо собрать на Принцевых островах представителей всех сторон, участвующих в борьбе в России, и там их помирить, найдя какую-то общую и приемлемую для всех платформу
125.
Мой племянник Филипп Могилевский высмеял эту затею
126, а я получил служебную записку на французском языке, где было сказано, что газета, которую мы издавали, будет закрыта на одну неделю. Записка была подписана командиром какого-то эскадрона.
* * *
Я приказал немедленно перевести на французский язык мою статью из последнего номера «Киевлянина». Приведя ее на первой странице следующего же номера (газету не закрыл), я затем тут же напечатал распоряжение французских властей о закрытии газеты на неделю
127. И прибавил: «Мы закрываем газету, но не откроем ее снова через неделю, как нам любезно разрешает командир такого-то эскадрона. Мы возобновим газету в тот день, когда увидим, что Франция опять стала нашим другом, таким, каким она была в то время, когда нами была написана вышеприведенная статья от 10-го апреля 1918 года».
* * *
Это произвело большое впечатление. И французы упрекали друг друга: «На кого же мы подняли руку? Это бессмысленно».
* * *
Но час пробил. Я стал готовиться к отъезду.
Мы выехали всей семьей. С нами уезжал и мой брат Павел Дмитриевич, сестра Алла Витальевна и моя новая машинистка и секретарша Надежда Сергеевна фон Раабен. Уезжали пароходом.
В пути произошел инцидент. На палубе я увидел свободное место на скамейке, на которое и сел. Вдруг подходит какой-то развязный молодой офицер и говорит, обращаясь ко мне:
— Ну, мистер, это мое место.
— Если это ваше место, я вам его уступлю, Но обращение «мистер» считаю неуместным.
— Почему? Если мои предки были англичане.
Я сразу понял, что дело идет к ссоре. Это же поняла и Надежда Сергеевна. Она, не теряя времени, бросилась вниз и нашла ротмистра Масловского. Гришин-Алмазов, как только стал у власти, составил себе конвой или охрану из семидесяти человек. Это придавало ему большую независимость. Эти семьдесят человек были набраны из татар и подчинялись Масловскому, тоже из татар. Где их откопал Гришин-Алмазов, не знаю. Но они все во главе с Масловским принесли на Коране присягу защищать Гришина-Алмазова. И все время, пока он был у власти, за ним неотступно, тесно за спиной, шел татарин с винтовкой, который убил бы всякого, кто бы покусился на Гришина-Алмазова.
Теперь Гришина-Алмазова не стало, но конвой целиком плыл на этом пароходе во главе с Масловским.
Через минуту Масловский появился рядом с Надеждой Сергеевной. И тогда же откуда-то взялся какой-то капитан I ранга. Последний спросил, что тут происходит. Я представился и сказал, что еду к генералу Деникину.
— Этот поручик, — указал я на молодого офицера, — просил уступить ему место, что я с удовольствием сделаю. Но он позволил себе развязно называть меня «мистер», что я считаю недопустимым.
Капитан I ранга потому ли, что узнал меня, или потому, что его возмутило поведение поручика, или, возможно, потому, что увидел Масловского, сразу принял мою сторону.
— Вы совершенно правы. Поведение поручика считаю неприличным.
На этом дело кончилось. Гришин-Алмазов оказал мне последнюю услугу.
Мы благополучно дошли, кажется, до Анапы.
Глава X
НЕДОЛГАЯ СЛУЖБА ВО ФЛОТЕ.
ПОЕЗДКА В ЦАРИЦЫН К ВРАНГЕЛЮ
Когда я перешел на Молдаванку, туда же передвинулась моя маленькая канцелярия и машинистка, Надежда Сергеевна, которую для простоты прозвали Надийка. Писала она плохо, а у меня в ушах еще постоянно звучала трель Дарьи Васильевны. Когда она писала, трудно было различить удары, и позднее ее называли «пулеметом». Надийка же писала вяло, хотя во всем остальном была крайне жива. Другим ее бесспорным достоинством было свободное впадение французским и немецким языками (она окончила Смольный институт). Может быть, она писала плохо потому, что у нее были очень тонкие и слабые руки. Ляля, которому было тогда восемнадцать лет, спрашивал ее:
— Как вы можете жить с такими ручками?
Ляля очень быстро сходился с людьми и потом, буквально через неделю, им произносилась ритуальная фраза:
— Он мой личный друг.
Считалось, что заключен договор о вечной дружбе. Это очень смешило Надежду Сергеевну. Она тоже была возведена в сан «личного друга». В моей глубокой печали мне нравилась эта пара. Они вечно шушукались, и я знал, что они заключили союз с целью отвлекать меня от мрачных мыслей.
* * *
Примерно в это время умерла Вера Холодная. Но я не узнал об этом. От меня скрыли ее смерть таким образом, что несколько дней не давали газет. Но когда я наконец узнал об этом печальном происшествии, то сейчас же стал думать, кто же так заботится обо мне? И вспомнил, что я посылал Лялю к Вере Холодной с деньгами за благотворительный билет и с извинениями, что я на ее вечер не приду. А она очень настаивала на моем посещении. Но я не пришел. Она слишком напоминала мне Дарью Васильевну. Лицом — нет. Движениями. Есть актрисы, которые делают позу. Их игра — от позы. А у Веры Холодной не было никаких поз, но всякое ее движение было замечательно красиво. Как говорится, в ней была природная грация. И это же самое было у Дарьи Васильевны.
Однажды Дарья Васильевна разговаривала со своею портнихой (дело было в Киеве), а я наблюдал этот разговор сквозь зеркальное стекло витрины. Стекло было толстое, и я ничего не слышал. Но понимал все, до того была выразительна ее жестикуляция. Она при этом то вставала, то садилась, и все ее движения были необычайно красивы. Про нее на войне был сложен куплет:
Сестра Любовь такая есть,
Умеет встать, умеет сесть,
Все с томным взгля-а-дом…
После портнихи я настоял, чтобы она поступила в студию, так как для экрана, который тогда называли «великий немой», она была бы находкой. Так это и было. Она даже успела сыграть пьесу мистического характера. Но все это прекратилось. Это было незадолго до «Великого» октября.
* * *
Поэтому я решил, что это Ляля и его личный друг Надийка скрыли от меня смерть Веры Холодной.
* * *
Вместо газет появились фиалки. Наступила весна. Да я бы их и не заметил там, на Молдаванке, если бы «скромный букет из фиалок» не появился на моем письменном столе рядом с машинкой. И так несколько дней подряд; я не расспрашивал, я понял. Немного удивился. Мне казалось, что если бы Ляля украшал машинку, на которой писали ручки, неспособные для этой работы, то это было бы естественней. Но действительность часто бывает неправдоподобна. До меня дошла и фраза, которую сказала будто бы «личный друг» Ляли:
— Вокруг него (то есть меня) столько народу, а на самом деле никого нет. Он страшно, страшно одинок.
* * *
Позже я ее хорошо узнал. Это была одна из тех женщин, которых притягивает острый огонь, как запах фиалок пчелу. Она садится на цветок и пьет нектар.
Это не мешало ее отношениям с Лялей. Последний влюбился в нее, а она позволяла ему ее любить. О муже она в это время забыла. Он был где-то. Но это не значит, что она забыла его совсем. Теперь же она сосредоточилась на мне.
* * *
Вот таково было начало. Она плыла с нами на пароходе, и высадились мы в Анапе.
И тут прибавилась еще одна тайна. Я украдкой писал дневник. В нем я описывал смерть Дарьи Васильевны и вместе с тем готовил себя к самоубийству. Впоследствии мне говорила Анжелина Сакко:
— Я вижу вас среди всяких опасностей: бой, бури, преследования, но все это только кажущиеся опасности. На самом деле их не было. А была такая пора, когда смерть все время стояла у вас за спиною.
Я ответил ей:
— Это было. Я думал тогда о самоубийстве.
— Да, это были ваши думы о самоубийстве.
* * *
Надийка очень ловко выкрадывала мои дневники, и они вместе с моей сестрой их читали. И тогда же придумали крайне хитрый план, как этого не допустить. Во-первых, она, говоря прямо и грубо, стала моей любовницей. Я помню полную луну, которая светила мне в лицо. У нее были красивые и очень печальные глаза. Если Екатерина Викторовна Сухомлинова была васнецовское дитя во Владимирском соборе Киева, то эта смолянка имела глаза Богоматери, которая держит в руках этого младенца. Вместе с тем у нее были смеющиеся губы. Когда однажды я сказал, что у нее васнецовские глаза, то она рассмеялась:
— Умильные.
И стала называть меня не Василием Витальевичем, а «У»! Это «У» она выговаривала выразительно и очень убедительно. И я понял, что ничем другим, как только «У», я и не могу быть. Она чувствовала тонко, забавно и любила меня, как некий кокаин, который в то время был бичом многих (грозил и ей).
* * *
Ей нужно было сблизиться со мною на почве любви, чтобы оправдать следующую стадию. Когда она не смеялась, то говорила о том, какой ужасной стала жизнь. Что жить нельзя, что надо умереть. Я спросил:
— А муж?
— Он все равно умрет. У него чахотка.
* * *
Острое горе эгоистично. Я согласился на то, чтобы умереть вместе. И был назначен день, то есть число. Какое число? Конечно, одиннадцатое число. Ведь именно одиннадцатого умерла Дарья Васильевна, которую она называла «Любочка». Какой способ самоубийства? Морфий. Она сказала, что ей легко достать морфий. Где и почему, я не расспрашивал. Место было там, где над морем были горы, сравнительно высокие, и обрывы голубые.
* * *
И мы туда пришли одиннадцатого апреля (по старому стилю). Было красиво, поэтично, море задумчиво, но приглашающее. На нем солнце играло пеной. Полюбовавшись на эту картинку, я спросил:
— Морфий?
Она сидела на траве, на краю обрыва, обняв руками колени, и смотрела вдаль. На мой вопрос не ответила. Я сказал:
— Что ж, Надийка, достаньте морфий из сумочки.
Тут она встрепенулась, повернула ко мне лицо, и печальные васнецовские глаза сверкнули.
— Вы чудовище, — выдохнула она. Сначала я не понял:
— Чудовище?
— Убить три жизни? Я беременна.
Больше не было сказано ни слова. О чем было говорить? Все это было задумано гениально и прекрасно выполнено. Мы пошли домой. Я пристыженный, она молчаливая, но внутренне торжествующая. Конечно, она будет и плакать, и смеяться, когда расскажет все это моей сестре, которая трепетно ждала конца этого предприятия дома.
* * *
Но от этого мне не стало легче. Тоска взяла еще сильнее. В таком настроении (это было уже, кажется, в мае) мы поехали в Екатеринодар из Анапы. И там опять эта Графская улица и роковой номер двадцать девять. И опять хождение обедать в городской сад на берегу Кубани. Надежда Сергеевна часто вскакивала во время обеда, говорила, что не может есть, и уходила куда-то, потому что ее тошнило. Это было продолжение игры. Подразумевалось, что тошнит от беременности. И в конце концов все это мне стало невыносимо.
Несколько раз я ходил на заседания Особого совещания. Но там было еще хуже. Писать передовые в газете «Россия» я тоже не мог. В конце концов я сказал Деникину, что прошу меня освободить от Особого совещания. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:
— Ну, что ж, если нельзя, то нельзя
128.
* * *
Что же мне делать? Тут подвернулся «Гри-Гри». По «Азбуке» он был мне подчинен. Но я чувствовал, что в каком-то другом отношении я бы мог ему подчиниться. И оказалось возможным. Он был моряк и хотел служить моряком. Ему предложили отремонтировать небольшое судно, которое стояло в Таганроге. Для этого его надо было отвести в Ростов-на-Дону. Дали буксир, а мне «Гри-Гри» предложил встать к рулю на буксируемом судне. При этом он спросил:
— Справитесь?
— А что для этого надо?
— Держите прямо в корму буксиру, чтобы ваш корабль не вилял.
— Тогда справлюсь.
Рулевое колесо было не больше волана (баранки) легкового автомобиля. Погода была хорошая, ветер слабый, но зыбь в мелком Азовском море неприятна. Все же я справился, и буксир втащил нас в устье Дона. Мы встали недалеко от железнодорожного моста. Не помню как, но наш кораблик втащили на берег. Здесь и должны были его отремонтировать. Для этого на нем числилось несколько молодых офицеров, подчиненных «Гри-Гри». И началась новая страница девятнадцатого года.
Надежда Сергеевна поехала куда-то поправляться, другими словами — «ожидать ребенка». Но мы встретились с нею еще раз, но несколько позже.
* * *
Так как «Гри-Гри» был моряк, то он учредил вахты морского типа, то есть четырехчасовое дежурство. Я выхлопотал себе так называемую «собачью вахту» — с ноля до четырех часов утра. Жили мы в каком-то вагоне (теплушке), стоявшем на берегу. Моя вахта состояла в том, что я сидел в этой теплушке, болтая ногами над рельсами и держа в руках винтовку.
Была полная тишина. Скоро после полуночи начинало светать. Восток переливал всеми оттенками багряного цвета. Он освещал высокий железнодорожный мост, стоявший гигантской решеткой. Очень красиво поднималась средняя часть моста для пропуска парусных судов с высокими мачтами. Как по волшебству, средняя часть решетки уходила к небу. Великолепно смазанные стальные части не скрипели и не визжали, движение вверх совершалось в полной тишине.
Высокомачтовое судно проходило, отправляясь в путь вверх по Дону, пользуясь утренним бризом, за ним другое, третье и так далее, а стальные ворота затем закрывались, то есть так же бесшумно опускались на быки. Таким образом, «собачья вахта» превращалась для меня в Шехерезаду. Тысяча и одна ночь. Нет, и ста ночей не набралось. Не потому, что ремонт шел быстро, а потому, что тут к нам свалился неизвестно откуда некий адмирал. Я забыл его фамилию.
Он приехал будто бы проверить «Гри-Гри», а на самом деле познакомиться со мною.
— Что вы тут делаете, мичман Шульгин?
Я ответил на этот шутливый вопрос тоже шуткой:
— Несу «собачью вахту».
— Собирайтесь, пожалуйста. Нечего вам тут делать. Мы сейчас поедем на Волгу
129.
* * *
На Волгу, так на Волгу. Но я спросил «Гри-Гри», согласен ли он меня отпустить. Он сказал:
— Начальство приказывает, и следовательно, рассуждать нечего.
И прибавил тихонько:
— Но знайте, что все это «лавочка». Поезжайте, и увидите сами.
Он имел в виду адмирала и его окружение.
* * *
Я поехал, включившись в «лавочку». В ней было несколько молодых офицеров-моряков. Это были веселые молодые люди, и они приняли меня по-дружески, хотя я был и мичман. Правда, годами я был старше любого из них и может быть, даже и адмирала.
Мы получили отдельный вагон. Некоторое время нас сопровождала адмиральша, красивая молодая женщина лет тридцати с неприлично богатыми перстнями на всех пальцах. Потом она куда-то исчезла, и мы остались в мужской «кают-компании».
За Ростовом начиналась так называемая Сальская степь. Необозримые солончаки, покрытые молочаями. Вода тут была редкостью. Накачавшись до предела, мы везли ее с собой. Жара была потрясающая. Горизонты вибрировали, как огромные струны. Наконец эти струны стали превращаться в миражи. Казалось, что где-то блестит вода и в нее смотрятся стоящие в небе вниз головой тополи. Я знаю, что вообще мираж означает отображение. Где-то, иногда очень далеко, эти тополи действительно существуют. Но отражаются вниз головой на очень большом расстоянии там, где их нет. Так ли это в Сальских степях, не знаю, но такой адской жары я еще никогда не испытывал. Все окна были открыты, но ветер врывался такой горячий, как будто из кузнечного горна.
Мы доехали до Царицына, и вагон загнали в путь у самого берега Волги. Тут стало еще жарче, потому что хотя с реки поступала какая-то свежесть, но с другой стороны вагона над нами возвышался обрыв, не допускавший к нам ветра. В результате к вагону с внешней стороны нельзя было прикоснуться, так он раскалялся.
В это время генерал Врангель был в Царицыне, который он взял тридцатого июня
130. К нему я и отправился прежде всего. Он принял меня у себя в каком-то доме. Выглядел еще более похудевшим, так как только что перенес тиф. Однако был полон энергии. Говорили мы о многом. Я рассказал ему, что отныне я командир военного катера «Генерал Марков».
— Но такого судна нет, — заметил Врангель.
— Еще нет. Но когда он будет построен, я приму командование и буду пиратствовать на Волге, — закончил я шутя.
Он улыбнулся, а затем перешел к более серьезным темам и сказал приблизительно следующее:
— Представим себе, что несколько коней скачут в направлении Москвы. Которая лошадь доскачет первой, неизвестно. Быть может, не та, что сейчас впереди. Если это случится, то что должна сделать печать и общественное мнение? Все надежды и почет, которые сейчас несет передовая лошадь, все это надо тогда будет переключить на действительно передовую, которая первая ворвется в Москву. Вот ваша задача.
Я понял его. Он думал, что этим конем, который обгонит всех остальных, сможет быть он, опытный кавалерист.
Затем он сказал, что необходима «правая стратегия», то есть стратегия, направленная на соединение с Колчаком.
* * *
Здесь может быть уместным упомянуть, что в Гражданской войне кавалерия вернула себе то значение, которое она потеряла на полях мировой войны. Это знали все. И это было осуществлено. Был сбит по тому времени очень сильный кулак из двенадцати тысяч кавалеристов. Его бросили на Москву. Он дошел до Рязани, но там командир этого отряда получил приказание от Деникина остановиться и даже повернуть назад. Эта телеграмма вручена была летчиком, который каким-то чудом нашел эту кавалерию, забравшуюся так далеко. Впрочем, может быть, этот необъяснимый приказ Деникина объясняется тем, что во главе хороших кавалеристов стоял глупый человек, кажется, Мамонтов
131. Он телеграфировал в Ростов: «Наступаем успешно. Привезем Дону богатые подарки. Иконы и кресты в драгоценных украшениях».
Выходило так, что лихие донцы грабят церкви и монастыри.
* * *
Так или иначе, но этого Врангель никогда не мог простить Деникину. Не Мамонтову, оскандалившему себя, а ему, Врангелю, взявшему Царицын, Врангелю, которому безропотно подчинялись казаки, Врангелю, который не позволял им грабить, ему надо было вести этот двенадцатитысячный отряд на Москву.
* * *
Интересно еще сопоставить. Говорят, что двенадцатитысячный отряд кавалерии, который вел Мамонтов, прошел совсем близко от мест, где формировал такой же отряд Буденный. Но отряд последнего в то время был еще малочислен и легко мог быть рассеян или взят в плен белой кавалерией.
* * *
Царицын был тогда небольшим городом, очень потрепанным в боях. Это ощущение разрушения и скудости как бы трепетало в горячем воздухе. Население было малочисленным и запуганным. Как-то под вечер, когда стало темнее и свежее, я поднялся на какую-то гору, на вершине которой стояла церковь. Вокруг этой церкви копошились какие-то люди. Службы не было, но на широких деревянных ступенях безликие женщины искали утешения, как могли.
Я ушел с ощущением, что беда, которая здесь произошла, еще не изжита. Позже я ощутил это же самое в Киеве, но Киев быстро поправился.
* * *
Все же я выкупался в матушке Волге. В Царицыне она широкая и синяя. И, во всяком случае, освежающая. Но недостаточно. От царицынской жары, должно быть, я заболел, и обратный путь был еще труднее. К жаре внешней прибавился жар внутренний.
Добравшись до Ростова, я лежал в какой-то квартире, где именно, не знаю. Тут нашла меня Надежда Сергеевна. Она сильно загорела. Свидание наше было печальное. Я сказал ей:
— Ты коричневая, как весь мир.
Она заплакала и убежала.
Глава XI
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ
Но внешние события шли своим чередом. Так как Врангель осуждал Деникина за его тактику, он говорил:
— Бьют кулаком, а не растопыренными пальцами.
Но мы и с растопыренными пальцами делали успехи. В августе белые войска уже подходили к Киеву.
* * *
В это время у меня несколько охладились отношения с Деникиным. Это произошло из-за А. И. Савенко («Аз»)
132. Этот «Аз» отличался очень трудным характером. Моя сестра Лина Витальевна однажды сказала мне:
— Много тебе грехов простится за то, что ты можешь работать с Анатолием Ивановичем.
На это я заметил ей:
— Он неврастеник, несмотря на румянец во всю щеку. Но иногда совершенно необходим.
Я не помню, что произошло между «Азом» и командованием, но это не имеет значения. Несмотря на охлаждение, наступившее между нами, Деникин принужден был обратиться ко мне с просьбой. Белая армия занимала Малороссию, и Деникин почувствовал необходимость обратиться к населению с каким-то приветственным и вместе с тем программным словом. Один из видных азбучников, член Государственной Думы Степанов, пришел ко мне.
— Манифест «царя Антона» к малороссийскому народу может написать только редактор «Киевлянина». Так думает Антон Иванович и все мы. Вы согласны, Василий Витальевич?
Немного поломавшись, я сказал, что напишу, как сумею, Деникин пусть вычеркнет то, что ему покажется неуместным.
* * *
И я написал эту «грамоту». Деникин подписал ее почти без изменений
133. Этот документ был напечатан в августе, сразу после того, как наши войска восемнадцатого числа по старому стилю вошли в Киев, по возобновлению выхода «Киевлянина».
Содержание этой «грамоты» точно не помню, но там была примерно такая стилизация. Государственным языком будет русский, созданный вековыми усилиями Киева, Москвы и Петрограда. «Но я запрещаю всякое преследование малороссийского языка».
Что можно было ожидать от представителя Киева в Украинском Учредительном собрании, которое никогда не состоялось? Если б оно состоялось, то я сказал бы в нем именно эти слова.
* * *
Как бы там ни было, Roma locuta est
[37]. А так как Рим — это папа, непогрешимый в делах веры, то значит, кредо Белой армии в отношении государственного языка и полной терпимости негосударственных языков было публично запечатлено.
* * *
Я выздоровел и потому успел попасть в первый поезд, который прямо шел в Киев, еще до его взятия, так как ожидали его падения с часу на час. Какой-то генерал, направляемый Деникиным в Киев, «Аз», который вызвал недоразумения, Надежда Сергеевна, святая душа, которая уже позабыла, что она «беременна», несколько военных и я составляли население вагона. Поезд шел медленно, подолгу останавливаясь на станциях. Тогда неугомонный «Аз» долго бродил по платформе, разговаривая то с одним, то с другим пассажиром. Наконец он пришел ко мне.
— Василий Витальевич, знаете ли вы, что в Полтаве, на станции, оказался Фиалковский?
Это был молодой азбучник, очень деятельный и преданный делу. Он от времени до времени присылал сообщения в Ростов.
«Аз» продолжал:
— Он как-то узнал, что движется такой важный поезд прямо из Ростова в Киев, и просил, чтобы его взяли.
— И что же, он едет с нами? Почему он не пришел ко мне?
— Потому что он едет арестованным.
— Кто же осмелился его арестовать? — возмутился я.
— Да вот, полковник Щукин, бывший жандарм
134, которого Деникин послал этим же поездом в Киев в качестве начальника нашей контрразведки.
Я обратился к генералу, который ехал в нашем вагоне, и объяснил, в чем дело. Генерал выслушал меня и сказал:
— Безобразие. Но я надеюсь, что это все выяснится в Киеве.
«Аз» между тем продолжал рассказывать:
— Я спросил полковника Щукина, знает ли он, что в этом поезде едет бывший и будущий редактор «Киевлянина» Шульгин.
— Ну и что же он сказал на это?
— Он спросил: «А есть ли у него удостоверение или другой какой документ, подтверждающий это? А то я сейчас и его арестую. Мало ли кто тут еще шляется!»
Генерал, который все это слушал, вышел возмущенный на платформу, и я видел, как он с кем-то разговаривает. Затем он вернулся и сказал:
— Этот Щукин совершенный маньяк. Сейчас этого нельзя сделать, но как только генерал Драгомиров приедет в Киев, мы этого Щукина выгоним.
* * *
И вот, наконец, Киев! «Как много в этом звуке…»
135. Поезд остановился в предместье, называемом Демиевка. Отсюда до центра и до моего дома было далеко, километров пять. Удалось нанять какого-то обтрепанного извозчика для вещей. Мы шли за ним пешком. Мы — это значит я и Надежда Сергеевна. На этом пути какими-то видимыми и невидимыми облачками как бы висело пережитое страдание. Дома печальные, частью пустые, с разбитыми окнами.
И, наконец, мы пришли к углу Караваевской, повернули налево. Дом номер один, дом номер три и дом номер пять. Крыльцо, звонок. Не действует. Стучу. Отворяют. Радостное лицо и крик женщины с белой головой, которая бросается мне на шею.
— Зюль! — воскликнул я.
— Mais oui, c’est moi
[38], жива старуха.
* * *
Она — Зюль или Зикока — француженка из Швейцарии, которая выучила всех нас, начиная с меня, французскому языку и связала свою жизнь с нашей семьей. Но где сестра Лина Витальевна?
Зюль сейчас же угадала по тревожному выражению моего лица:
— Жива, сейчас придет. Она на другой квартире.
Мы вошли в дом. Зикока спросила, показывая на Надежду Сергеевну:
— Et madame?
[39]
— Mon amie
[40].
— Et Любочка?
— Умерла.
— Mon Dieux! Et Catherine?
[41]
— Скоро приедет.
В доме больше никого не было.
Прибежала сестра Лина Витальевна. Повторились объятия и расспросы. И затем приступили к делам. Я сказал:
— Надо возобновить «Киевлянин». Можно ли это? Как типография?
— Можно. Но очень мало бумаги.
— Бумагу привезут. Везут ее Владимир Германович с Лялей из Ростова.
Через несколько дней «Киевлянин» вышел
136. Значит, тот «Киевлянин», что вышел десятого марта восемнадцатого года, не был последним номером. Вот он вышел опять, и первое, что было в нем опубликовано, — это «Манифест» генерала Деникина к малороссийскому народу.
* * *
Тут уместно рассказать о том инциденте, который несколько дней тому назад, при взятии города, произошел на Крещатике у городской думы, над которой еще по-прежнему стоял пламенеющий архангел Михаил, покровитель Киева и всея Малыя Руси.
Сюда одновременно подошли белые и украинствующие. Последние были какими-то частями, составленными из галичан. Над городской думой белые подняли трехцветный русский флаг, а галичане свой, желто-голубой (жовто-блакитный). Это было то, что я позднее назвал «пятицветным компромиссом», нечто примиряющее. Но худой мир продержался недолго, и наступила ссора.
* * *
Огромная толпа запрудила площадь около думы. Все кричали, приветствуя освобождение Киева. Вдруг кто-то сбросил трехцветный флаг. Он упал вниз, а тысячная толпа возопила:
— Наш флаг!
В ответ на это идиоты галичане стали стрелять. Толпа побежала. Тогда белые, которые до той поры вели себя совершенно спокойно, дали по украинствующим залп, и те побежали с ахиллесовой быстротой. Для быстроты снимали чеботы и бежали босиком.
Так кончилась эта трагикомедия «пятицветного компромисса»
137.
Все это мне рассказала много времени спустя Мария Дмитриевна со слов тех немногочисленных белых, которые разогнали галичан (это произошло до моего приезда).
Итак, «пятицветного компромисса» не стало, в Киеве воцарился трехцветный флаг, жизнь постепенно оживала, «Киевлянин» печатался и выходил. Я писал статьи. Надийка выстукивала их на машинке. Тем временем приехал ее муж на короткое время. Но он успел ей сказать:
— В статьях В.В. нет той прежней силы.
И действительно, ее уже не было. Я сам это понимал. Откуда она могла взяться? Я писал, что мы не отдадим Киева ни красным, ни жовто-блокитным. Но я не чувствовал уверенности. Да и на внутреннем фронте тоже было невесело.
Первым делом я позаботился освободить Фиалковского. Это удалось сделать легко и шикарно. Ко мне явился в мундире и при эполетах полковник, которого я не сразу узнал. Это был Владимир Петрович Барцевич, только что назначенный градоначальником Киева. Я обратился к нему.
— Владимир Петрович, при эполетах и шашке немедленно отправляйтесь в эту проклятую контрразведку и освободите Фиалковского.
Владимир Петрович (кажется, «Фита») был видным членом «Азбуки».
Я продолжал:
— В мою голову (то есть — ответственность беру на себя) разгромите контрразведку и приведите мне Фиалковского.
Это было сделано. Но Щукин остался и продолжал, конечно, творить всякие безобразия. Того чувства, что мы, белые, творим действительно белое дело, не было. Примешались грязные, те, что в конце концов и погубили нас. Тут, быть может, уместно привести слова Ленина: «Ко всякой власти, к какой бы то ни было партии всегда примешиваются элементы, которые необходимо расстреливать»
138.
Мы были далеки от того, чтобы расстреливать своих, но надо было гнать подобных Щукину, Покровскому и так далее.
Все же, когда приехал Драгомиров, назначенный главноначальствующим Киевской областью, включавшей пять губерний, мы его выгнали. Назначили другого. Этот, наученный примером Щукина, по вечерам приходил ко мне «на поклон». Он говорил:
— У меня совсем другое дело. Я их не пытаю, я их гипнотизирую.
— И что же, удается вам?
— Да. Но что поделаешь с этими людьми? Вот, одна молодая еврейка. Я ее загипнотизировал, и она совершенно готова была выдать опасных для нас людей. Но в мое отсутствие пришел к ней молодой офицер. А она красива. Он ее и изнасиловал. Теперь она отказывается говорить. Все пропало.
— Что же вы сделали с этим насильником?
— А что я могу сделать? Он говорит, что никакого насилия не было, просто девушка страстная.
— Хорошо хоть, что пытки прекратились.
Хотя между насильником и истязателем разница была небольшая.
Однако в разных местах одновременно ловили каких-то евреек, которых называли «Роза-чекистка», и их убивали.
* * *
Приехала Екатерина Григорьевна. Несмотря на то, что она раньше и писала в «Киевлянине» под псевдонимом «А. Ежов» и имела успех, сейчас не стала сотрудничать. Ей казалось, и она была права, что Белая армия должна взять тон помягче и более примирительный. Я смягчал по возможности свои статьи, но страсти накалялись и пары невольно вырывались наружу. Хорошим примером этого послужила моя статья под названием «Пытка страхом»
139.
Вот что произошло. Шел в городе так называемый «тихий» погром. Он состоял в том, что по вечерам, когда стемнеет, в еврейские дома входили вооруженные банды и требовали, чтобы их кормили. Они были голодные и потому тихие. Но естественно, что евреи тоже не купались в изобилии. Эти тихие налеты им не нравились, и они отвечали на это громко, необузданно громко. Под лозунгом «Делайте шум» они выбегали во дворы с тарелками и кастрюлями и подымали отчаянный шум с криком:
— Спасайте такой-то дом!!
Эти вопли по ночам были нестерпимы. Человеческих жертв не было, никого не убивали, но мрачность этой обстановки действовала на нервы
140. Я знал, что Драгомиров делает все, что может. Посылает какие-то части для прекращения «тихого» погрома, старается поддерживать порядок и соблюдение законности в городе и области. Но ведь накормить этих «тихоней» он не мог.
Впоследствии, в эмиграции, я встретился с бывшим начальником так называемого «Малороссийского полка». Это был полковник Кейхель, обрусевший немец. Во время эмиграции, будучи в Берлине, он занимался всякими делами в качестве некоего правозаступника. Он, например, выхлопотал нам визу в Германию за скромное вознаграждение в несколько долларов. В то время в Берлине люди платили необычайно большие и всевозможные налоги. Полковник Кейхель находил способы, чтобы снизить эти налоги до возможного предела.
Рассказывая мне о былых днях в Киеве, он очень бранил командование. Голодные, будь они украинцы или малороссияне, будут грабить.
* * *
При такой обстановке была написана статья «Пытка страхом». Я не помню дословно ее содержания, но приблизительно оно было следующим.
Слушая в ночной тишине вой евреев, становится жутко. Невольно думается: «Ну, пусть эти крики — “тихий погром”, пусть не убивают, но пытают страхом». Однако требования хлеба легко могут перейти в убийства. Власть бессильна, потому что не кормит голодных. Но научат ли эти ужасные ночи чему-нибудь их, евреев? Поймут ли они, наконец, к чему приводит социализм, или по-прежнему будут создавать бессильные организации для борьбы с погромами и подсчитывать, кто больше убивает: белые или красные. В этом их судьба, но и наша судьба.
* * *
Так приблизительно была написана эта статья. Евреи ничего не поняли. Они озлились еще больше, забыв дело Бейлиса и роль «Киевлянина» в те времена. Но и русские тоже ничему не научились. Не поняли, что антисемитизм и, в частности, дело Бейлиса, нанесли царской России последний удар.
* * *
На беду, кем-то эта статья была передана в Ростов, а потом за границу, и произвела тяжелое впечатление: в России творятся средневековые ужасы.
* * *
Между тем общее положение становилось все хуже. Зайдя далеко, до Курска, Белая армия покатилась обратно. Кроме всего прочего, действовало и время года. Осень не для нас.
* * *
Напротив моего дома стоял нарядный особняк, где в то время жил генерал Драгомиров. Я у него часто бывал. Он жаловался на развал.
— Боевые приказы исполняют. Но только боевые. В остальном делают, что хотят. Я на этой почве поссорился с родным братом. Надо расстрелять нескольких командиров полков. Они перешли на самообеспечение, завели себе склады оружия и амуниции, как местные, так и на базах-поездах. Там одни накапливают одежду, снаряжение, а у других ничего нет. И нельзя им вдолбить, что это имущество принадлежит всей армии, а не отдельным частям. Особенно безобразничает, увы, Гвардейская дивизия.
* * *
Владимир Германович Иозефи вместе с Лялей привезли бумагу. В этом отношении «Киевлянин» был обеспечен. Иозефи стал работать при «Киевлянине» по хозяйственной части, а Ляля отправился куда-то на ближайший фронт, откуда иногда являлся в весьма возбужденном состоянии. Но все ж таки это у него выражалось как-то по-детски.
— Мы им сказали: «Расстреляем вас».
— Кому? — спросил я.
— Офицерской роте.
— Да ты что, Ляля!
— Да! Паникеры! Никого нет, а они бегут.
* * *
И заодно он стал рассказывать, что еще недавно был матросом первой статьи на «К-20».
— Это что ж такое? — удивился я.
— Канонерская лодка номер двадцать, — ответил он.
— Лодка?
— Ну, пароход. Бывший «Некрасов». На него поставили трехдюймовку, и можно обстреливать берега.
Я спросил:
— А вы по какой реке плавали?
— Мы забежали в Десну.
— Почему забежали?
— Потому что матрос Полупанов с целой флотилией спустился по Днепру. Мы от него и спрятались в Десну, куда он войти не мог. Но у нас наступил голод. Ничего нет. Тогда командир вызвал добровольцев спуститься на берег и раздобыть в деревнях продуктов. «Только осторожнее, убьют», — сказал командир. Мы и пошли, дошли до какой-то деревни. Вот первая хата. Зашли осторожно, боялись. Видим, одни бабы. Они сначала испугались, но мы сказали, что очень голодны. Тогда они нас посадили за стол и начали кормить. Мы поставили в угол винтовки, поели и в метки положили. Старые и молодые смотрели на нас. Некоторые плакали. А затем начали рассказывать и причитать: «Так вы ж голодные. Кто ж вам откажет. Вы же русские люди, хлопцы. Хиба ж вы таки, як тут приходят. Страшные! Кто они?»
— Так кто же это был? — прервал я его.
— Вероятно, Дикая дивизия. Она там бродила. «А еще, — говорят бабы, — другие приходили. Те серьги из ушей рвали. Скорей, скорей с коней послазят и прямо до скрыней (сундуков). А вще и таки бувало. Що и в хату не заходят, а прямо заступ (лопату) сквозь стекло в окно просунут и клади на лопату, что есть: серьги, або гроши. И кладем. Не положим — гирше будет. Вот таки. И звитки (откуда) воны берутся? А вы идыть дале. У всякой хаты в мешки ваши шо-нибудь положут. Мобудь вще е таки як вы голодны». Мы зашли еще в несколько хат, набили полные метки и пришли обратно на К-20.
* * *
Несколько слов о Надежде Сергеевне. Она приспособилась у нас, познакомилась с моей сестрой и стала как своя в доме. Она была воспитанная дама, веселая. Моя сестра, которая вела всю денежную часть «Киевлянина», сказала мне:
— Газета продается, и деньги поступают в кассу. Но стоимость их крайне мала, и потому невозможно определить, сколько мы можем тратить. Я буду тебе давать тысячу рублей в день и себе тоже. А Надежде Сергеевне пятьсот.
Я, конечно, согласился и сказал Наде:
— Вот два пустых ящика в моем письменном столе. В один я буду бросать свои деньги, в другой — ваши.
Так я и делал. Но скоро стал замечать, что ее ящик моментально опустошается, а мой — нет. Я сказал ей, чтобы она брала, если ей необходимо, и из моего. Тогда и он стал опорожняться. Это и понятно. Ей надо было хоть как-нибудь одеться. Ко мне приходило много народу, она всех принимала, весьма вежливо и умело.
Помню, приехал митрополит всея Украины Антоний. Он полюбовался на икону Дубенской Божьей матери, вышитую когда-то Дарьей Васильевной, которая теперь стояла у меня в кабинете. Моя смолянка, знавшая обхождение, сложив руки, подошла под благословление. Он перекрестил ее, после чего она ему «умильно» улыбнулась. Он покачал головой и сказал:
— У редактора «Киевлянина» хорошенький секретарь.
* * *
Но «хорошенький секретарь» на себя тратил очень мало, лишь самое необходимое. Все деньги она расходовала на многих бедных офицеров, которые оказались ее знакомыми еще по Петербургу. Надя с плачем объяснила мне, что эти офицеры так несчастны, так унижены, что она не может равнодушно взирать на них.
Кроме того, по ее протекции у меня оказались на службе еще две смолянки, которым некуда было деться. Одна была очень приличной, а другая носила какую-то колпакообразную красную шляпу и ходила с хлыстом. Но это пустяки!
Вместе с тем она как машинистка была плоха. Я купил случайно диктофон. Но так как электричество действовало слабо, то он плохо записывал, пока наконец я его не бросил.
Кроме смолянок, прибилась ко мне еще одна молодая женщина, тоже совершено неприкаянная, оказавшаяся внучкой недавно умершего бывшего члена Государственной Думы Беляева. Все они или как-нибудь размещались у нас, или где-нибудь у знакомых. Но главное, им надо было дать занятие. С помощью Надежды Сергеевны им поручалось читать газеты, делать из них необходимые вырезки, вклеивать их. Словом, образовалось что-то вроде целой канцелярии в угловой гостиной, где стоял пятидесятилетний лимон в большой кадке и старые шкафы. Одни шкафы с библиотекой Виталия Яковлевича, другие — с огромными томами подшивок «Киевлянина» за пятьдесят с лишком лет в тяжелых переплетах, тисненых золотом. Потом был еще шкаф с дорогими изданиями. Тома немецкой Библии с превосходными гравюрами, «Потерянный и возвращенный рай» Мильтона с иллюстрациями Доре и многие другие. В кабинете у меня тоже стояли шкафы с книгами.
В подвалах дома, где была редакция «Киевлянина», под грудою старых газет стояли ящики с историческими книгами, вывезенными Екатериной Григорьевной из Курган во время войны. Еще там же была библиотека моего друга Андрея Смирнова, которую он мне завещал. Я думал иногда с горечью: «Все пропадет, когда мы уйдем».
Глава XII
«ДОГОРАНИЕ»
А было похоже на то, что мы действительно уйдем. Но все же это случилось довольно неожиданно. И я решил, что другие как себе хотят, а я не уйду. Почему? Потому что, когда мы явились в Киев, я имел неосторожность написать: «Мы не отдадим Киев ни красным, ни украинцам».
Мое решение сейчас же стало известно.
Надийка, которая очень подружилась с моим братом Павлом Дмитриевичем, и другие забегали и засуетились. В результате, когда второго октября автомобиль генерала Драгомирова подъехал к моему подъезду, то вышел адъютант с приказанием немедленно садиться в машину. Сопротивляться нельзя было. Вместо объяснений Драгомиров сказал:
— Прет какая-то мадьярская дивизия
141. Черт его знает, откуда она взялась.
И мы поехали. Переехали через Днепр по цепному мосту, по дамбе и еще одному мосту через Старик, то есть Старый Днепр. Значит, очутились в Дарнице. Тут остановились. Стали подходить наши части, какие были в Киеве. Они выстроились за Русановым мостом на берегу Днепра. Драгомиров сказал им приблизительно такую речь:
— Большевики вошли в город. Конечно, они теперь грабят и пьянствуют. Самое подходящее время, чтобы их оттуда выбросить. Поэтому приказываю вам взять Киев. Шаагом, марш! Петь песни!
Затем он поднялся на Русанов мост и пропустил мимо себя части, шедшие обратно в Киев. Я тоже шел в строю. Меня нельзя было не увидеть, потому что я был в штатском пальто и котиковой шапке. Кроме того, за спиной Драгомирова я увидел Надийку. Она забежала вперед и насплетничала. Когда я проходил мимо Драгомирова, он скомандовал:
— Выйти из строя!
Я повиновался, и, когда подошел к нему, он сказал:
— Это бессмысленно.
* * *
Части пошли. Драгомиров устроился в каком-то домике. Я остался с Надийкой на мосту и выбранил ее, но она не обратила на это никакого внимания.
Что же теперь было делать? Винтовка была в руках, а Надийка опоясалась револьвером. Это было смешно, и я хотел отнять его у нее. Но она обиделась и даже заплакала:
— Так нельзя со мной обращаться.
Помирились на том, что мы будем охранять Русанов мост, чтобы из Киева неожиданно не нагрянул кто-нибудь из мадьяров.
Тем временем надвинулась туманная ночь. Чуточку светила луна из-за туч. Мы зашагали по мосту по направлению к городу. Пройдя половину моста, вернулись обратно, затем опять пошли. На мосту никого не было, кроме нас. Но вдруг случилось нечто неожиданное. Послышался выстрел откуда-то из-за мостов, выше по Днепру, и затем шрапнель разорвалась над нами. Надийка не испугалась, но спросила:
— Что это?
Я ответил:
— Должно быть, матрос Полупанов двигается вниз по реке.
Так это и было
142.
* * *
Тут будет уместно рассказать, что в связи с этим набегом смелого Полупанова и бегством наших судов Драгомиров отдал под суд того адмирала и всю его «лавочку», которые возили меня в Царицын. Это случилось, когда мы опять взяли Киев. Чем суд кончился и был ли он, не знаю. Но сейчас Полупанов обстреливал мосты: то Цепной, то Русанов, то железнодорожный. Но попасть было трудно. Шрапнель рвалась то там, то сям, не причиняя вреда мостам.
* * *
Продежурив ночь, мы отправились в Дарницу, чтобы поесть и поспать. Там Надийка сейчас же подружилась с каким-то старичком, который принес охапку сена, сказав:
— Сена клок под бок.
Она ужасно смеялась, но как только легла, сразу же заснула.
Что мы ели, я не знаю, но мне помнится, что были там и какие-то другие люди, бежавшие из Киева.
* * *
Надо сказать, что в этот день из Киева ушло пешком через мосты очень много людей. Говорили, что шестьдесят тысяч. Это, конечно, цифра с потолка. Кто их мог подсчитать? Но много. И подавляющее большинство этих ушедших людей уже больше никогда не вернулись в Киев.
* * *
И это несмотря на то, что посланные Драгомировым части взяли город обратно
143. Жестокий бой произошел на Печерске, около так называемых Никольских ворот, где у нас были потери. Потом утверждали, что когда белые вошли в город, какие-то «жиды» стреляли из окон. И даже один молодой азбучник утверждал, что он лично видел эту стрельбу. Я спросил его:
— Как же вы это видели?
— Собственными глазами. Дымки!
— Дымки? При бездымном порохе?
Позже я понял, что это такое. Пули, рикошетируя от стен, взбивали фонтанчики пыли, которые и походили на дымки.
* * *
Итак, мы вернулись. Вернулись и продержались еще два месяца. Но все же это было уже только догорание. Между прочим, Зикока рассказала, что в тот день, когда красные овладели Киевом, пришли два солдата в наш дом. Никого не было, кроме нее, а она умела очень хорошо разговаривать с простыми людьми. Они сказали ей:
— А где же ваш господин Шульгин? Убежал? Прячется? Напрасно.
— Вы его знали?
— Знали. Он хороший человек. Мы, когда он был ранен, перевязывали его. Это было там, на фронте, под Перемышлем.
Это было в четырнадцатом году, двенадцатого сентября. Накануне я приехал в 166-й Ровненский полк и на следующий день был ранен.
* * *
Взять-то мы взяли Киев, но кроме прежних частей, которые его освободили и были, можно сказать, еще благоприличными, примешались еще какие-то другие части, больше бандитообразные. Они хотели господствовать, и стало еще хуже на внутреннем фронте. Вечером даже стало опасно выходить. Но как-то у меня разболелся зуб и необходимо было идти к врачу. Конечно, увязалась и Надийка. Едва я вышел из дома, как какой-то из «героев» с винтовкой пристал ко мне. Я был в штатском. Он стал угрожать, что арестует меня. Все это происходило напротив особняка Драгомирова, и там в окнах виден был свет. Надийка сейчас же перебежала туда. У ворот дежурили часовые, которых она и привела. Они урезонили хулигана.
Но если редактору «Киевлянина», жившему по соседству с главноначальствующим областью, нельзя выйти из дома, то по этому можно судить, что творилось в городе.
А как-то днем я видел на Бессарабке, как трое из Дикой дивизии на конях бесчинствовали на базаре.
* * *
Я плохо помню, как пришла развязка. Клочки воспоминаний. Помню, что писал еще какие-то статьи для «Киевлянина». Жевал мякину, в которую уже и сам не верил. Сестра Лина Витальевна купила мне за десять тысяч рублей хорошую бекешу. Значит, она предчувствовала, что придется мне странствовать по морозу. Кроме того, она собирала «керенки». Несмотря на то, что Керенского уже давно не было в качестве правителя, «керенки» были в то время самой высокой валютой, имевшей более высокую покупную способность, чем белые «колокольчики» и прочие местные деньги, не говоря уже о советских. Советы побеждали, а их деньги падали. Ничего нельзя было поделать.
* * *
Опять приехал муж Надежды Сергеевны. Он остановился у нас, так как деваться ему было некуда. Выходило очень неловко. Супруги переночевали вместе. Я сказал Надежде Сергеевне, что просто это неудобно, ведь все в доме знают положение. Она ответила:
— Я проплакала всю ночь.
И они уехали. Какие-то поезда еще шли на Одессу.
Тогда я стал отправлять и остальных. Прежде всего Екатерину Григорьевну с сыном Димой. Потом всяких стариков и старух, которые имели в качестве родителей отношение к азбучникам и к «Киевлянину». В это время секрет «Азбуки» уже совершенно растаял. Как-то на вокзале бегало двое старичков, говоря: «Ведь мы тоже азбучники».
Сотрудники «Киевлянина» тоже кто уезжал, кто прятался. Но газета все же выходила. Насколько я помню, моей последней статьей была «Как поступили поляки?»
144 В ней говорилось и ставилось в пример, что поляки-офицеры отправили свои семьи, а сами пошли на фронт. На какой фронт? Это значило, что они с оружием в руках пошли пешком в направлении той же Одессы. Одесса-мама, последнее прибежище.
Лина Витальевна тоже, наконец, уехала. На этот раз уехала и Зикока. Кто же остался? Редактор «Киевлянина», сотрудник газеты Вовка Лазаревский. Потом Владимир Германович Иозефи, который был больше, чем сотрудник, вроде как издатель, потому что у него была бумага и деньги. При нем двое среднего возраста людей неопределенных занятий, но, так сказать, «за все». Еще Алеша Ткаченко, всегда веселый и бодрый подпоручик, матрос первой статьи Ляля, Виридарский, Юра Н., очень молодой и милый еврей, тоже из «Азбуки». И, наконец, молодой студент Вася Савенко, сын Анатолия Ивановича («Аза»).
* * *
Чтобы не опоздать, я обеспечил себя с трех сторон. Две стороны обещали, но обманули. И только третья сторона, азбучник из бывших жандармов, который в это время состоял в каком-то воинском соединении, позвонил по телефону:
— Пора одеваться.
Это была условленная фраза. Десять вышеперечисленных человек уже несколько дней находились начеку. Спали все вместе в большой комнате, именуемой залой. Для них это «пора одеваться» прозвучало как команда «в ружье!». И десять человек выстроились на крыльце. В это время ко мне подбежали две женщины. Одна была Анна, барышня, которая в эти последние дни стала кассиром «Киевлянина». Она в большой бельевой корзине принесла последнюю выручку газеты. В этот день было напечатано семьдесят тысяч экземпляров газеты. Владимир Германович сейчас же подставил мешок, в который перешло содержимое корзины. А мешок взвалил себе на плечи один из сателлитов Иозефи.
Другая женщина была Саня. Я ее не сразу узнал. Помнил еще девочкой, теперь это была располневшая женщина с синевой под глазами. Путаясь в словах, она умоляла меня помочь кому-то. Я сказал:
— Невозможно. Мы уходим.
Она взглянула на выстроившийся с винтовками отряд и повторила с непередаваемым выражением:
— Так вы уходите?
В ее лице была и радость и отчаяние. Она была еврейка, родная сестра моего большого друга Володи Гольденберга.
* * *
И мы ушли. Большевики в это время уже были около Софийского собора. Мы двинулись по направлению к вокзалу. Когда мы туда пришли, то увидели, что там творится что-то невероятное. Толпа брала штурмом отходящий поезд. Поэтому мы решили пойти пешком по шпалам.
Через некоторое время этот поезд нагнал нас где-то на ближайшей станции. Он был переполнен, и не было никакой охоты влезать в вагон, но через открытое окно меня увидела одна дама, Мария Андреевна Сливинская, тоже вроде азбучница. Ее муж в свое время окончил Академию Генерального штаба с занесением на золотую доску
145. Она подняла страшный крик. В вагоне потеснились, и мы все влезли. Проехали мы, кажется, до Фастова, где расстались с Марией Андреевной и пошли опять по шпалам, но в другую сторону, по направлению к Белой Церкви, то есть на юг. Поезд же шел в сторону Казатина.
* * *
Итак, мы шли в составе десяти человек. Немножко мало для путешествия в такое время. Поэтому, наткнувшись на какой-то полк, мы решили к нему присоединиться, то есть поступить под команду командира полка. Это оказался Якутский полк
146.
Я нашел командира, представился и объяснил, в чем дело. Он сразу решил:
— Хорошо. Вы будете называться командой особого назначения и непосредственно подчиняться мне. Вы можете быть полезными. Вы хорошо знаете ваших людей?
— Знаю.
— В таком случае, вот вам и первое поручение. Противник недалеко. Но мы точно не знаем, где он и какими силами располагает. Но собираемся здесь ночевать. В том леску я поставил кое-кого из наших, но я в них не уверен. Смените их. В случае чего, не ввязывайтесь в бой, а только спешно предупредите меня.
— Постараюсь исполнить.
В лесочке никого не оказалось. Поэтому я расставил людей цепью с таким расчетом, чтобы каждый видел своих соседей и справа и слева. Около меня ближайшими оказались Вовка и Ляля.
* * *
Мы стояли долго. Ничего тревожного не было, но только стало так темно, что ни Вовки, ни Ляли я больше не видел. Перекликаться было опасно. Я послал Вовку к командиру полка с донесением, как обстоит дело и что делать дальше. Вовка принес ответ: присоединиться к полку, так как с рассветом полк пойдет дальше.
* * *
Странствие с полком началось. Все было ничего, но со мною произошла беда. В Киеве огромные английские башмаки мне сделали поменьше, но на подошве вследствие этой переделки не оказалось таких шипов, какие нужны при гололедке. А гололедка началась, и я скользил очень сильно. От этого началась такая боль в каких-то мускулах, что я не мог поспевать за полком. Неумолимо я отставал, познав вполне, что испытывает отстающий. Люди и повозки — все протекли мимо меня. Уже не было больше никого, но Ляля остался и вел меня под руку. Было очень жутко. Вдвоем на этой дороге, где могло случиться все, что угодно. Однако о нас позаботились. Какая-то повозка (внешний вид коляски) остановилась на дороге. Когда мы подползли, в ней оказалась молодая красивая женщина. Без всяких объяснений она сказала:
— Садитесь рядом со мною.
Я ничего не расспрашивал, а наслаждался. Что такое наслаждение? Наслаждение — это когда кончается какая-то боль. Боль прошла, и я был счастлив. Ляля шагал рядом. Меня везли весь этот день. Ночью я хорошо отдохнул и на следующий день уже смог бодро идти вместе со всеми. Не то я приспособился к гололедке, не то начало подтаивать.
* * *
Отдельные эпизоды этого перехода изложены в книге «1920 год»
147. Но не все. Сейчас припоминаю и другие.
Мы шли очень большими переходами. Нормальный переход для пехоты — двадцать пять километров. И то, после каждых трех дней — отдых. Так по уставу. Мы делали и тридцать, и тридцать пять, и сорок километров. Выходили с рассветом, останавливались на ночевку уже в темноте.
* * *
Связь с командиром полка я держал через Виридарского. Он был в некотором отношении забавный человек. Когда он являлся от командира полка с сообщением, что завтра будет сорокаверстный переход, он торжествовал. Если бы это его не касалось, то есть если б эти сорок верст он ехал верхом, то это было бы чудовищно, но понятно. Но ведь он отпечатывал эти сорок верст своими ногами, то есть делал шестьдесят тысяч шагов. Такое поведение раздражало всех. А Лялю смешило. Бывало, что мы, абсолютно изнеможенные, сидели на полу, облокотившись на стены какой-нибудь пустой хаты в мрачном молчании. Вдруг раздавался веселый хохот. Вслед за этим вопрос Алеши:
— Что, Ляля? Plus quam perfectum?
[42]
У Ляли была эта счастливая особенность. В трудные минуты вспоминать о чем-нибудь прекрасном, что было Бог знает когда. Оттого он и смеялся. И смешил всех вокруг.
* * *
Сорок верст зимой, в шинелях, с винтовками — это не шутка. Молодым было легче. Но как это выдерживал Владимир Германович Иозефи, бывший старше меня на десять лет, да и я тоже, — сейчас кажется мне неправдоподобным. Но это было.
* * *
Не помню, как и почему мы решили отделиться от полка. Я поблагодарил командира и попросил разрешения идти другой дорогой, более короткой.
Он сказал:
— Идите. Но вряд ли вы дойдете. На этой дороге вы встретитесь с отчаянной бандой, и вас вырежут.
— Бог милует, господин полковник.
И мы пошли, причем с единодушного согласия всех членов нашего отряда. За это время мы привыкли ничему не верить, но все проверять. Сколько раз за время перехода с полком были ложные тревоги. Быть может, мне вспомнились слова Гришина-Алмазова:
— В гражданской войне побеждают дерзкие.
Если бы он знал по латыни, то, наверное, сказал бы:
— Deus fortibus adjuvat
[43].
И мы прошли это место без всяких приключений.
* * *
И тут мы наткнулись на поезд-базу какого-то другого полка. Посовещавшись, решили: а отчего бы нам не подъехать? Быть может, нас примут. Нас приняли любезно и попросили подождать в вагоне-столовой, пока придет командир полка. В столовой было несколько молодых офицеров. Прислушавшись к их разговору, я задумался. Они рассуждали о том, можно ли топить паровоз сахаром. Топлива не стало, и достать его неоткуда. Одни говорили, что сахар не будет гореть, другие возражали. Быть может потому, что последним делом моего отчима была закладка сахарного завода, мысль об уничтожении сахара при помощи паровоза показалась мне чудовищной. Ведь кроме большевиков и белых, было еще и несчастное население. Пусть оно «разграбит» эти запасы и поест сладко перед горькой смертью. Кроме того, сахар все-таки не будет гореть в топке паровоза. А потому придется идти пешком.
Мы покинули поезд-базу и продолжали странствовать «per pedes apostolorum». На апостолов мы, конечно, не были похожи, но и разбойниками быть не хотели.
* * *
Теперь мы шли по своей воле умеренными переходами. Когда начинало темнеть, мы входили в какое-нибудь село и поручали Юре стучать в неосвещенные окна. Он умел это делать как-то необычайно сладко. Когда не отвечали на стук, он произносил речи в том смысле, что мы ничего плохого не сделаем, что просто хотим отдохнуть, замерзли и так далее. Наконец зажигался в окне огонек и двери открывали. Обыкновенно это были женщины. Убедившись, что мы действительно не делали ничего плохого, они располагались к нам и в свою очередь делали много хорошего. Кормили, как могли, и давали сена или соломы, на которую мы валились усталые.
* * *
А местами мы все же взбирались на какой-нибудь паровоз. Разрешение спрашивали у машиниста, которого называли не машинистом, а механиком. Это почему-то машинисту льстило. На паровозе было хорошо, а главное — тепло. Но когда становилось тепло, начиналось новое бедствие. Оживала вошь. Поэтому на паровозе мы ехали недолго.
* * *
Где-то мы наткнулись на поезд, который не мог ехать, потому что не было топлива. Нужно было напилить дров из шпал. Шпалы были, но целиком в топку не влезали. Пилить было некому. В поездах обыкновенно ехали больные сыпным тифом. Поэтому мы охотно пилили, и нас брали на паровоз. Набравши пару, он изо всех сил рвал поезд, и мы ехали. Но, пройдя немного, натыкались на какой-нибудь некрутой подъем, который в обычных условиях машинист не замечал. Но тут дело иное. Нельзя было добиться необходимой скорости, чтобы взять подъем. Тогда давали ход назад, отходили на более длинную дистанцию и, разогнав поезд до возможной скорости, с трудом забирались на уклон. А иногда и не забирались. После нескольких неудачных попыток мы покидали паровоз. Что нам! Мы были вольными птицами. Наше спасение было в наших ногах. Они действовали, пока мы были здоровы.
* * *
Здоровье нам пока что не изменяло. Ссор тоже не было. И на второй день праздника Рождества Христова, то есть двадцать шестого декабря по старому стилю, мы наконец пришли в Одессу. Тут мы разделились кто куда. Я нашел здесь Екатерину Григорьевну с Димой. Она попала в вагон, где были сплошь тифозные больные. Но ни она, ни Дима не заболели. Однако мой брат Павел Дмитриевич, который их сопровождал, умер. Я его своевременно выпроводил из Киева. Но на полпути он узнал, что положение на фронте вроде бы выправляется, и вернулся со встречным поездом. Это и было для него роковым. В поезде, с которым он опять отправился в Одессу, как я уже говорил, был сплошной сыпняк. Его вынесли на какой-то станции и положили в какую-то больницу. Поезд там простоял два дня. Катя приходила к нему. Он был в бреду и шептал, что необходим физиологический раствор. Физиологический раствор — это смесь воды с солью, который вливают, когда нельзя сделать переливание крови. Словом, он умер еще при ней.
Лина Витальевна тоже была в Одессе, куда добралась благополучно. Она сообщила мне, что Надежда Сергеевна тоже доехала:
— Она приготовила тебе комнату.
Тут я понял, что моя сестра чего-то не договаривает. Но я не стал спрашивать.
* * *
Эту комнату, приготовленную для меня, я нашел. Комната как комната. В ней я и сидел одиноко, простившись с Драгомировым поздно вечером тридцать первого декабря. Последний жил в салон-вагоне, где мы с ним и чокнулись под Новый год.
* * *
Вошла Надежда Сергеевна. Увидев меня, радостно закричала:
— У-у!
Мы поговорили с ней дружески, но я понял, что она будет жить где-то в другом месте.
Таким образом, тысяча девятьсот девятнадцатому году подведен был итог и на этом фронте.
Теперь, действительно, я был одинок. Одинок — это значит свободен.
15 мая— 4 июля 1970 года.
Ленинград
ЭМИГРАЦИЯ
Глава I
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Второго октября 1970-го года приступаю к изложению того периода моей жизни, который принято называть «Эмиграция». Собственно говоря, я не эмигрировал. Меня бросило сильнейшим норд-остом на румынский берег. Это подробно изложено в книге «1920 год», к которой я и отсылаю любезного читателя. Но затем, хотя я покинул отечество несколько иначе, чем другие, я впился в ряды тех русских беженцев, которые уже были несомненными стопроцентными эмигрантами.
* * *
Итак, моя эмиграция началась в Румынии. Поэтому сейчас буду излагать 1921-й год.
Двадцатый год заканчивается будто бы бодрым, а на самом деле печальным возгласом: «Привет тебе, 1921-й год!». Я встретил его в Константинополе, на борту парохода, который только что доставил меня из Галлиполи. Галлиполи — это порт на Мраморном море, в котором я безуспешно искал своего без вести исчезнувшего сына.
* * *
С парохода на берег, то есть в Галату, доставил меня лодочник, «кардаш». Первое впечатление было неблагоприятное. Со мною вместе высадился другой офицер, который не заплатил лодочнику, потому что у него не было ни гроша. Я заплатил за него, так как у меня этот грош сохранился.
Ну, а затем? Куда деться? Кто-то из русских, толпившихся тут, сказал мне, что надо идти из Галаты, то есть порта, на главную улицу, Перб. Там находится русское посольство и мне выдадут необходимые справки.
Проходя через Галату, я увидел целый ряд каких-то будочек по обе стороны улицы. С виду это были как бы фруктовые ларьки. На самом деле там продавалось нечто вроде яблочек, но живых. Это были проститутки, нарумяненные как яблочки, сидевшие на каких-то нарах, покрытых коврами, и заманивавшие клиентов.
Пройдя этот своеобразный фруктовый ряд, я немного устал и был голоден. Зашел в кофейню. Пока мне принесли кофе, я любовался танцами. Матрос с проституткой танцевали фокстрот. Мне вспомнилось, как один старый еврей, увидевший впервые такого рода упражнения, выразился: «Так это называется фокстрот? Раньше это иначе называлось».
После этого я решил, что достаточно ознакомился с Галатой, и больше я уже туда не возвращался. Я пошел на улицу Перб, по дороге съевши превкусный горячий, истинно турецкий бублик. Проглотив его, я вскоре очутился у русского посольства, где толпилось огромное количество русских. Мужчин нетрудно было узнавать по их истрепанным шинелям. Адамы бросались в глаза, потому что у всех, как у одной, на голове было то, что называлось тогда «чулочки», разных цветов. Этим они прикрывали неприличие непричесанных волос, потому что для завивки у них денег не было. Один из «чулочков» меня немедленно узнал.
— Вы?!
— Я, дорогая Зина. Я только что из Галлиполи.
— Нашли Лялю?
— Нет.
— Вот что, тут есть гадалка. Она всем находит пропавших. Ее зовут Анжелина. Пойдите к ней. Я сейчас нарисую, как пройти.
«Нарисую» она сказала потому, что в Константинополе не было обозначения улиц и номеров домов. Поэтому рисовался чертеж и отправным пунктом служила улица Перб.
Я сказал:
— Да, я пойду. Но…
Она поняла:
— Вот вам лира.
Лира — это была тогдашняя денежная единица, довольно крупная. Я взял лиру, ничуть не стесняясь. Зина была из «Азбуки»
1, конспиративной организации, которую возглавлял я. У нас было все общее.
Потом Зина зачастила, как будто боялась, что не успеет все сказать:
— Конечно, вам некуда деться. Вы будете жить у нас. Я живу у Петра Титыча…
Это был полковник, который тоже был моим подчиненным по «Азбуке».
… и там еще живет Муся Седельникова. Вы ее знаете, конечно?
— Этим летом познакомились на острове Тендере. А где же вы живете?
— На улице, которая называется Кошка-дере.
— Что же это за улица?
— Да тут, в Константинополе, множество улиц называются «дере», а так как на нашей улице неизмеримое количество кошек, то мы так ее и назвали. В пятом этаже, деревянная лестница. В случае пожара погибнут все. Пока пожара нет, но все же опасайтесь. Перил местами не хватает, а в других местах нет и ступеней. В темноте не рекомендуется возвращаться. Вот вам схема, как пройти на Кошку-дере… А вот вам другая схема, как пройти к Анжелине.
* * *
Сначала я пошел к Анжелине. Все, что касается Анжелины, подробно описано в соответствующих воспоминаниях, так и озаглавленных — «Анжелина». Тут достаточно будет только сказать, что знакомство с Анжелиной определило всю мою дальнейшую жизнь как в эмиграции, так и в Советском Союзе, и служит мне путеводной звездой и по сей день. Но здесь я это писать не буду. Точно так же, как и мое знакомство с другой магией, тоже совершившейся в Константинополе, с неким Гурджиевым, которое также изложено в вышеуказанных воспоминаниях, находящихся на хранении в ЦГИА СССР (г. Ленинград).
* * *
Перехожу к другим событиям в Константинополе, более реального свойства.
Я поселился на Кошка-дере у Петра Титыча, Зины и Муси Седельниковой. Но комната у меня была отдельная, в том же этаже. Я взял ее у некоей гитаны. Гитана — это испанская цыганка. Она была красива, а жила с того, что приводила к себе гостей, не боявшихся лестницы без перил. Я платил ей пол-лиры в сутки. За четыре постели, деревянные, без матрацев и подушек. Четыре, потому что я взял к себе еще трех человек: Виридарского («Максимыча», по «Азбуке»), через которого я и познакомился с Гурджиевым, и двух братьев Лазаревских, Владимира и Евгения.
Характерным для этого периода был голод. Мы четверо сильно голодали. Так что в один прекрасный день я лег на свою койку и сказал:
— Лежа я проживу дольше.
Кроме того, моим друзьям (есть же у меня какие-то друзья!) дешевле будет мне помочь, чем меня похоронить. Я не ошибся. Помощь пришла через некоторое время. Но пока что Максимыч и братья Лазаревские каждое утро отправлялись на промысел и что-нибудь добывали от американцев, которые широко благотворительствовали в Константинополе. Они давали какао и сахар, позже и обеды, но очень жалкие. Получив что можно и взяв примус у Петра Титыча, мы варили какао и для всех приходившим к нам, а их было достаточно. Младший Лазаревский, служивший в гвардейской артиллерии, с неизменной любезностью предлагал:
— Разрешите вам чашечку какао.
При этом иногда появлялся белый хлеб. И все были сыты…
Гитана была с нами любезна, так как мы платили аккуратно, и она не покушалась на наши деньги, зная, что у нас их нет. Но все же откуда появлялись те скромные суммы, из которых мы ей платили? Они появлялись на улице Перб, где с утра до вечера толпились русские и охотно помогали друг другу. У Петра Титыча Самохвалова и Зины Разумовской деньги иссякали.
* * *
Несмотря на бедность и голод, мы жили весело. Была гитара и в комнате Петра Титыча, которая была довольно большой, она звучала:
Помнишь ли ты тот напев, неги полный,
Что врывался, что ворвался
К нам в окошко в час ночной.
Ах, то был вальс и весны дуновенье,
Шелест листьев и в сирени Сладкий рокот соловья…
Потом имел успех «Тигренок», которого некогда совершенно беспричинно изругал Амфитеатров, не поняв его. «Тигренок» — это мелодичная шутка и больше ничего. Ну и, разумеется, великой древности романс «Три создания небес» оглашали квартиру на Кошке-дере. Гитана прислушивалась из своей комнаты — ее цыганскому сердцу это что-то говорило. Но к нам ее не пускали.
* * *
Зато Муся Седельникова не могла устоять против искушения гитары. В этом я повинен. Я напрасно урезонивал ее, говоря ей, что я старше ее на двадцать два года и что ношу глубокий траур в сердце, который так и останется. Что я люблю ту, которая умерла, а мертвые всегда побеждают.
Муся ничего не хотела слушать, она думала, что всегда победит живая. В известной мере она была права, но только в известной мере. Когда она формально победила, ее обуяла жгучая ревность к мертвой, которая испортила нашу жизнь. Через много лет это прошло, но уже было поздно, мы состарились, и в конце концов Муся, уже Мария Дмитриевна, умерла. И теперь они в равном положении.
* * *
А пока что дни шли. Пришла и материальная помощь. Тут надо объяснить, что Петр Николаевич Врангель находился в это время в Константинополе. Врангелевская эвакуация из Крыма, в противоположность деникинской из Новороссийска, прошла очень удачно. Сто один вымпел вышел из Севастополя до крайности перегруженным, но благодаря прекрасной погоде все дошли благополучно.
Сам Врангель жил сначала в помещении нашего посольства, а потом переехал на яхту «Лукулл», которая стояла в Босфоре на якоре у берега. Но в один прекрасный день большой итальянский пароход, сойдя с фарватера, навалился на «Лукулл» и потопил его. Всем удалось спастись. Погиб только один мичман, жена которого упросила его нырнуть и достать с утопленной яхты какие-то ее вещи. Он нырнул и погиб. Но до гибели «Лукулла» у Петра Николаевича происходили заседания руководящих слоев эмиграции. Там обсуждался вопрос о будущей организации эмиграции и намечались ячейки под названием «колоний».
Моя память сохранила картину этих заседаний. Врангель председательствовал, причем он не сидел спокойно, как подобает председателю. Он закидывал свой стул, на котором сидел, на задних ножках так, что каждую минуту можно было ожидать, что он перевернется. Но он не переворачивался, а наоборот, сохранял равновесие в политическом смысле, то есть держал какую-то среднюю линию. Я же сидел спокойно на стуле, но проповедовал какие-то крайности и решительно не могу сейчас вспомнить, в чем они состояли. Но помню это врангелевское хладнокровие, которое он как-то соединял с большим темпераментом. В моем уме тогда уже образовался взгляд на Врангеля как на человека крупного масштаба.
Да, его недаром обвиняли в честолюбии. Если бы ему преподнесли корону Российской империи, он бы не отказался. Чем Врангели хуже Романовых? Они высадились на Балтийском побережье еще в двенадцатом веке и были шведского происхождения, как и Рюриковичи, варяги они были. И если бы он принял корону, он управлял бы страною властно, твердою рукою, но без ненужной жестокости. Человек, который сумел обуздать казаков, не потерявши свою популярность, был тому доказательством.
* * *
Однажды, значительно позже, я спросил П. Б. Струве, который хорошо знал Ленина:
— Что такое Ленин?
Струве ответил не сразу, ему было нелегко родить характеристику Ленина. Но, наконец, он ее выдавил из себя:
— Ленин? Это… Ленин — это думающая гильотина. Да, думающая.
Таков был и Врангель. В случае действительной необходимости он мог быть железом. Но никогда не сделавши это в припадке раздражения или необдуманно. Хладнокровие этого темпераментного человека поразительно, оно встречается нечасто.
Все это я думал, смотря на качающегося на стуле бывшего крымского барона, а сам настаивал на какой-то крайности. Как удивительно, что человек может так двоиться, то есть смотреть как бы на себя сбоку и удивляться самому себе.
«Дела давно минувших дней…»
«Неужели долголетие дается только для того, чтобы старый с бородой повторял ошибки молодого с усиками» (кинофильм «Перед судом истории», шестьдесят четвертый год).
* * *
Уже после того, как был раздавлен «Лукулл» и Врангель перешел опять в посольство, был образован под его председательством так называемый Русский Совет
2. В этот Совет Врангель пригласил и меня, несмотря на то, что ведь он был в раздоре с Деникиным когда-то, а я с Деникиным ладил.
Русский Совет собирался в посольстве раза два в неделю. Членам его стали выплачивать деньги — сто лир в месяц, что было много. Значит, я разбогател. Но и сейчас же обеднел. Мне нужна была квартира, а квартиры были безумно дороги. Мне нашли квартиру, за которую я платил семьдесят пять лир. Эта квартира принадлежала одному французу, который собирался жениться на молодой армянке. Взяв эту квартиру, я сказал французу, что хотел бы приютить моих бедных друзей. Он позволил. И вот ко мне переселились, кроме Муси, еще Максимыч и Ирина Полесская, оказавшаяся на мели (см. «1920-й год»).
У меня оставалось двадцать пять лир на всё и на всех. В это время стали приносить даровые обеды, правда, оставлявшие желать лучшего. Опять наступил голод. В общем, я заболел от истощения. Но не в этом дело. Молодая армянка, готовясь к свадьбе с французом, при помощи своей матери, старой армянки, шила приданое. Всякие рубашки и прочее считались дюжи нам и.
У Ирины была только одна рубашка. Но эта рубашка была шикарная. И армянки ее украли. Ирина пожаловалась мне с таким выражением серых глаз, которые я очень хорошо знал. И действительно, она пошла к армянкам и обозвала их воровками. Армянки пожаловались французу. Последний пригласил меня к себе и сказал:
— Господин Шульгин, я согласился приютить ваших бедных друзей, но согласитесь, что я не могу позволить, чтобы мою невесту ваши друзья называли воровкой.
Я ответил:
— Вы правы, и эта дама сегодня же покинет вашу квартиру.
И это было сделано. Прощаясь, я сказал Ирине:
— Если действительно они украли твою рубашку, то за это они будут наказаны.
Ирина ушла в белый свет, а старая армянка скоропостижно умерла. На ее похороны украдкой явилась Ирина и сказала мне:
— Ты пророк…
* * *
Мы остались у француза с Мусей и другими. Состав постоянно менялся. Одни уходили, другие приходили. Я болел болезнью непонятной. Но в конце концов молодой русский врач сказал:
— Два раза я видел такие случаи. Это были два солдата, заболевшие от слишком тяжелого похода.
Он меня скоро вылечил.
Что еще страшно допекало нас у француза — это клопы. Квартира на вид была роскошной. Но Константинополь был, кажется, самым клоповным городом в мире. Тогда еще не было средств от клопов, которые известны сейчас. Поэтому мы блаженствовали с Мусей, когда вырвались из этой квартиры. Но прежде чем мы оттуда ушли, в ней произошли некоторые инциденты. Армянки украли рубашку у Ирины и крали духи у Муси. В этом они были неопытны, так как отлив из флакона духи, доливали в него воды, отчего получившаяся смесь превращалась в беловатую жидкость. Но мы из-за этого «историю» не поднимали. Но произошла другая история, крайне неприятная.
Однажды, вернувшись домой с заседания Русского Совета, я застал моих русских друзей пьяными. В том числе была пьяна и Муся. Я не выдержал и сказал в сердцах:
— Все-то вы болото.
Муся ужасно оскорбилась и выпила морфия. Я испугался, побежал обратно в Русский Совет, который еще не разошелся, и притащил оттуда известного русского врача Алексинского. Он пришел, осмотрел Мусю и заключил:
— Давайте ей почаще черный кофе и не давайте спать.
Тут кстати рядом оказалась Зина, и мы вдвоем поили Мусю кофе и заставляли ее петь, чтобы она не заснула. Сначала это было зрелище трагическое, но потом, когда выяснилось, что она хватила не очень большую порцию морфия, стало комическим. Обошлось дело благополучно, но я решил, что нам надо уйти от этой компании.
* * *
На этой же квартире происходило однажды чаепитие, которое навсегда осталось у меня в памяти. За маленьким столиком пили чай Муся, Зина и Петр Титыч. А я сидел в стороне, тоже пил чай и слушал их разговор. Они говорили о том, о сем, но мне была ясна вся картина, отчего они говорили так, а не иначе. У Петра Титыча расстреляли дочь в Одессе, и он этого не знал. Зина и Муся это знали. У Зины расстреляли в Киеве ее мужа, полковника Барцевича. Она этого не знала, а Петр Титыч и Муся знали. У Муси расстреляли в Одессе двух любимых сестер, о чем она и не подозревала. А Петр Титыч и Зина знали. И только я, сидевший в стороне, знал все. И наблюдал, как все трое стремились не показать друг другу, что они знают. Это была истинная трагедия.
* * *
Затем из того же времени вспоминаю молодого офицера, который пришел ко мне и просил помощи:
— Мне очень стыдно, но я голодаю. Не откажите мне хотя бы ради ваших отношений с моим отцом.
— А кто же ваш батюшка?
— Мой отец Александровский, он был прокурором в Киеве.
Я помог ему, дав, конечно, немного, но гораздо больше, чем мог, потому что и наши деньги были на исходе. И не сказал ему, какого рода отношения были у меня с его отцом.
Александровский был тем прокурором, который обвинил меня в Киеве за мою статью против главного прокурора Чаплинского за недопустимые действия последнего по делу Бейлиса. И он добился того, что меня присудили к трехмесячному тюремному заключению.
Три месяца — это просто пустяк. Острие приговора заключалось в том, что я будто бы сознательно распространял лживые сведения о главном прокуроре палаты Чаплинском.
Очевидно, молодой Александровский тогда был мальчиком и ничего не помнил, а позднее, когда обстоятельства изменились и я был популярен в Киеве, то он мог слышать из уст своего отца похвалы в мой адрес. Поэтому он начал с добрых отношений его отца со мной.
* * *
Впоследствии я был с избытком вознагражден за все. День в день в годовщину моего осуждения, то есть двадцатого января пятнадцатого года, ко мне явился полковник судебного ведомства и показал мне бумагу. По докладу министра юстиции на деле о Шульгине Василии Витальевиче, осужденного Киевским окружным судом на три месяца заключения, государем императором благоугодно было собственною рукою начертать: «Почитать дело не бывшим».
В объяснение сего могу сказать, что по русским законам государь император являлся верховным судьею. Все обвинительные приговоры начинались словами: «По указу Его Императорского Величества…». Поэтому царь мог отменить любой приговор, убедившись в его неправильности. Здесь же было высказано в особой форме отрицание самого дела. Его не было.
* * *
Как я вспоминаю, между квартирой на Кошке-дере и армяно-французской квартирой была еще одна квартира. Она принадлежала Марии Николаевне Домбровской, с которой я познакомился позже, но я почему-то был туда приглашен пожить, причем бесплатно. Там меня и кормили тоже бесплатно (это было еще до того, как я стал получать сто лир).
Квартира была роскошная. В ней, между прочим, жили две красавицы, не русские. Они поначалу работали, если это можно назвать работой, в каком-то шикарнейшем кабаке. Их занятием было продавать цветы в голом виде. Я их никогда таковыми не видел, а потому и не могу сказать, были ли они действительно так красивы.
Вот на эту квартиру пришел ко мне человек средних лет, довольно симпатичный, но немного встрепанный, которого я раньше никогда не встречал. Как он нашел меня, я не знаю. Он отрекомендовался следующим образом:
— Я, право, не знаю, зачем к вам пришел, но должен вам рассказать. Я актер кинематографа и был последним любовником Веры Холодной. И вовсе она меня не любила. Ее внимание ко мне объяснялось благодарностью. Это было в Одессе. На улицах шли бои. Она жила в гостинице, а ее маленькая дочь где-то застряла в другом месте. И она убивалась по своей дочери. Тогда я пешком пробрался к тому дому, где находилась девочка, и на четвереньках вместе с нею вернулся обратно. Вот за это она меня полюбила, если это можно назвать любовью. Вообще-то она предчувствовала свою близкую смерть. Она совершенно перестала интересоваться театром в такой степени, что совершенно ликвидировала свой огромный гардероб, который занимал целый номер в гостинице. У дверей этого номера стояла очередь из дам, которым она раздавала свои платья. Интересовалась она исключительно делами благотворительности, устраивала для этого вечера. На одном из них она будто бы и простудилась, выпив холодного шампанского. А по другой версии, ее отравила этим бокалом певица Иза Кремер. Вы не знаете этой знаменитой шансонетки?
— Не знаю, — ответил я.
— Так я вам сейчас напою:
Она была бы в музыке каприччио,
В скульптуре статуэтка ренессанс.
От всех у ней есть некое отличие,
Мадам Лю-лю бульвар де Франс.
С утра ей граф фиалки предлагает,
Он знает, что фиалки — вкус мадам.
А шер барон ей розы присылает
С письмом о том, что будет сам.
..................
А вечером приходит юный музыкант,
Ее прельщает его чарующий талант.
Мадам Лю-лю, я вас люблю…
Он вдруг оборвал шансонетку и продолжил свой рассказ:
— Так вот, эта мадам Лю-Лю вроде бы и отравила Веру Холодную… Наверное, вздор я вам говорю. Она умерла от испанки, настоящей испанки. Болела одиннадцать дней. Я был при ней неотлучно. Но зачем я пришел все это вам рассказывать, не знаю…
* * *
Во всяком случае, что касается смерти Веры Холодной, он говорил правду. Я ведь в это время был в Одессе. Так как обстановка, при которой умерла Вера Холодная, до поразительности сходилась с тем, как умерла от испанки Дарья Васильевна (те же одиннадцать дней и прочее), то от меня временно скрыли кончину Веры Холодной, то есть не давали мне газет, в которых подробно все описывалось и были фотографии, как ее торжественно хоронила вся Одесса.
Перед этим благотворительным вечером, после которого она заболела, она побывала у тогдашнего одесского диктатора Гришина-Алмазова, принесла ему билеты и просила передать «билеты Шульгину». А я не имел понятия, что она знает о моем существовании.
Гришин-Алмазов передал мне эти билеты. Я сказал:
— Я пошлю ей денег, но сам не пойду. Мне не до вечеров.
Я послал деньги через Лялю, моего сына, и, соблюдая вежливость, сказал ему, чтобы он лично вручил ей деньги. Он выполнил мое поручение и, вернувшись от нее, рассказал мне, что «Вера Васильевна очень, очень просила, чтобы ты пришел на вечер». Но я не пошел, и так мы с ней не познакомились.
* * *
Возвращаюсь к этому актеру.
— Не понимаю, зачем я к вам пришел? Ну, не понимаю.
— Почему бы вы не пришли, я вам очень благодарен, — сказал я. — Я очень ценю талант Веры Васильевны, хотя она этого и не знала.
* * *
В ней, вероятно, было какое-то очарование. Я был в Варшаве, когда там показывали фильмы с Верой Холодной, фильмы, имевшие десятилетнюю давность. Все знают, как быстро устаревают кинофильмы. Но эти тогда не устарели. В одном из больших кинотеатров шли три раза в день эти фильмы при переполненном русскими и поляками зале. И я был в числе зрителей.
Вот и все о Вере Холодной. В Варшаве я как бы получил ее посмертный привет. Она была Холодная по мужу, сама же была урожденная Левченко, дочь какого-то маленького почтового чиновника в Харькове.
* * *
На эту же квартиру ворвался однажды ко мне мой племянник Саша Могилевский. Я насилу его узнал, так он
изменился. У него было раздутое лицо, болезненный вид, на голове вместо волос какие-то перья. При этом он был как бы не совсем в себе. И говорил, говорил неудержимо.
— Я нашел тебя по газете…
Я действительно напечатал в константинопольской русской газете, что его разыскивает мать, находящаяся в Белграде. Саша написал ей и она прислала ему немного денег.
— …последнее время я работал на Перекопе, — продолжал он. — Оттуда я писал тебе пять раз в Севастополь.
— Ничего не получал, — перебил его я.
— Я писал обо всем, но в особенности, чтобы нам прислали каких-нибудь инструментов, ну, хотя бы топоров. Ведь Перекоп — это голое поле. Чтобы его защищать, надо ж как-то жить там, построить хотя бы на скорую руку какие-нибудь бараки. Никакой помощи мы не получили и, наконец, отступили. В Севастополе я попал на какой-то корабль, которым командовал лейтенант Масленников…
— Масленников? Скажи, каким он тебе показался?
— Очень хорошим, надежным, из тысяч людей оказался дельным человеком.
— Очень рад это услышать. Это мой Гри-Гри, «азбучник».
— Очень хороший. Но что он мог сделать? Провианта было сколько угодно, корабль был переполнен консервами. Я ел столько, что должно быть от них у меня сделалось воспаление почек. Кроме того, у этого корабля железная палуба, а ветер был ледяной. На земле хоть ногтями выкопаешь какую-нибудь яму, а тут железо, и я заболел вдобавок еще воспалением легких…
В общем, одиссея его была не из легких, пока он добирался до меня.
— А ты что делаешь? — спросил он, закончив свое повествование.
— Вот видишь, живу здесь, но надеюсь устроиться иначе. Ты только не теряй связь со мною, я тебе помогу.
* * *
Действительно, после всяких испытаний мне удалось устроиться. Это было нечто вроде дома отдыха с так называемой терапией на Босфоре. Раньше это было нечто вроде дачи русского посольства. Теперь здесь устроили приют для старших офицеров. И туда же попал генерал Дмитрий Михайлович Седельников, отец Муси, или Марии Дмитриевны. Туда же и мы с нею прибыли.
Можно сказать, что мы попали в рай земной. Это были роскошные сады из кипарисов и цветущих магнолий. Тут Мария Дмитриевна совершенно оправилась. У нее пышно завились без всякой завивки ее прекрасные волосы по поговорке: «С радости-веселья кудри хмелем вьются».
И если днем эти места прекрасны, то и ночью получается совершенно неожиданное развлечение. С наступлением темноты в воздух поднимались и шныряли мириады светляков. Эти быстродвижущиеся искры представляются как какие-то светящиеся загадочные письмена. Прочесть их нельзя, но восхищаться можно.
В этот рай мне удалось поместить и Сашу Могилевского, где он быстро стал выздоравливать, но пребывание в Терапии чуть не закончилось для него трагедией, о чем я уже рассказал выше…
* * *
В Терапии в более отдаленные времена были гаремы богатых и зажиточных турок. В такой «гарем» не первого разряда мы все и попали. Этот «гарем» был двухэтажный, внизу был большой овальный зал, вдоль стен которого стояли бархатные диваны, а в центре был устроен водоем, где бил «фонтан не умолкая».
На этих диванах когда-то валялись скучающие турчанки, сплетничали, как правило, они ничего не делали и ожидали, когда их посетит супруг и повелитель.
Во втором этаже были хоры, подпираемые колонками, за которыми во всю длину овала шел коридор. Каждая жена имела свою комнату, дверь из которой выходила в коридор.
Нам дали с Марией Дмитриевной по комнатушке. Мы часто выходили смотреть на нижний зал и представляли себе, как тут скучали жены. Теперь на этих диванах сидели генералы и полковники, если они не гуляли в саду. Все было чинно и тихо. Тут посиживал и мой Саша, читая газету, пока с ним не произошел тот трагический случай, после чего он убежал из Терапии, и временно я потерял его из виду.
* * *
В русской газетке, издававшейся в Константинополе, появилось сенсационное сообщение, будто бы в Одессе восстали рабочие Русского Общества Пароходства и Торговли, называемого в просторечии РОПИТ
3. Будто бы ропитовцы восстали на манер Кронштадтского восстания
4. Я этим до крайности взволновался. Одесса-мама была мне хорошо знакома и дорога моему сердцу. Я сейчас же вознамерился помочь ропитовцам и немедленно написал письмо П. Н. Врангелю, который, кажется, тогда еще жил на «Лукулле». Примерно я писал так: «В Одессе восстание, но восставшие рабочие не опытны в политике, им нужно руководство, короче говоря, местное правительство. Так как я уже устраивал в Одессе такое местное правительство, то примерно представляю себе, что надо сделать. У меня есть под рукою быстроходная яхта, и я могу на ней направиться в Одессу и подойти под белым флагом. Но мне совершенно необходим генерал, который бы стал во главе воинских сил там, в Одессе. И нужно, чтобы это был человек с именем, популярный. Я прекрасно знаю, что произошло между Вами и Слащёвым, но другого генерала этого типа я не вижу. Я прошу Вашего разрешения вместе со Слащёвым отправиться немедленно в Одессу».
Получив мое письмо, Врангель пригласил меня приехать к нему на «Лукулл». Встретив меня стоя, после обычных приветствий он начал так:
— Вы пишете, что вам известно, что произошло между мною и Слащёвым. Но мне кажется, что вы не до конца знаете всех обстоятельств. Начать с того, что мы были со Слащёвым на ты, друзья-приятели. Я послал его в Каховку, очень ответственное место. Но затем я увидел, что с ним что-то происходит. Утром получаю телеграмму: «Гоню красную сволочь на Москву», вечером: «Все пропало». И узнал я, что он отравляет себя одновременно алкоголем и кокаином. В голове у него, видимо, что-то совсем неладно. С ним всегда едет его денщик, какая-то красивая баба, а над ними летает орел. Все это, конечно, видели войска и понимали, что Слащёв сошел с ума. Но и этого мало. Я получил сведения, что там творится бог знает что: бессудные убийства и расстрелы. Тогда я послал туда генерала Ронжина, уже специализировавшегося на таких делах. Ронжин на месте увидел, что действительно творятся потрясающие безобразия. Кроме всего прочего, они расстреляли почтенную даму, жену действительного статского советника, чтобы завладеть жалкой суммой в тридцать тысяч рублей, которая у нее имелась. Когда Ронжин спросил об этом Слащёва, последний сказал: «Ничего подобного я не знаю». Тогда Ронжин предъявил ему записку, в которой было написано: «Такую-то вывести в расход» и подписано: «Слащев». «Я был пьян», — начал объяснять он. «Возможно, — ответил Ронжин, — но генерал Врангель вас вызывает немедленно к себе». Я мог совершенно свободно отозвать его с фронта, потому что он совершенно испортил мне Каховку. Он приехал. Я сказал ему: «Вот что, дорогой мой. Или я тебя уберу с великими почестями, дав тебе титул Слащёв-Крымский, или под суд». Он выбрал Слащёва-Крымского и уехал. Но затем, в Константинополе, он начал интриговать против меня. Его судили и лишили чинов. Теперь я даже не знаю, где он. Могу ли я вам предложить такого генерала для Одессы? А кроме того, ведь это может быть только газетная сенсация и никакого восстания там нет.
Врангель оказался прав. Восстание ропитовцев оказалось газетным бумом, а мою быстроходную яхту налетевшая буря разбила в щепки.
* * *
Итак, Русский Совет довольно регулярно заседал. Однажды Врангель сказал:
— Сейчас начальник штаба генерал Шатилов доложит Совету о наших делах на Украине.
Шатилов начал рассказывать, что на Украине дела идут благополучно. В Киеве и других центрах у нас заложены ячейки, которые подготавливают наступление, если таковое будет…
Я слушал это с великим удивлением, и когда заседание Совета кончилось, я спросил у Петра Николаевича, откуда такие сведения? Он сказал:
— Да как же, это же ваш Барцевич устроил.
Я ответил:
— Простите, Петр Николаевич, через четверть часа я кое-что вам доложу.
Летом, в июле месяце двадцатого года, в Крыму, полковник Барцевич разыскал меня и сообщил:
— Врангель посылает меня в Киев, дав права командующего армией на предмет устройства опорных пунктов. Я согласился. Но так как вся эта авантюра кажется мне сомнительной, то я решил сноситься с Врангелем, не сказавши ему об этом, только через мою жену Зину и полковника Петра Титыча Самохвалова…
Так как я находился в ближайших отношениях с этими лицами и жил на Кошке-дере, то я твердо знал, что от Барцевича ничего не было. Но на всякий случай я сбегал на Кошку-дере и поинтересовался, не пришли ли какие-либо сведения от Владимира Петровича.
— Нет ничего, — был ответ. Тут же я узнал, что Барцевич погиб.
Я вернулся к Врангелю и говорю ему:
— Петр Николаевич, вас обманывают. Владимира Петровича и в живых уже нет.
Врангель загремел:
— Павлу-уша-а!!!
Шатилов явился.
— Барцевич расстрелян! Кто тебе дает такие сведения об опорных пунктах?
Шатилов опешил:
— Да наш же разведывательный аппарат.
С тех пор ко всяким казенным разведкам я отношусь с величайшим недоверием. Очень часто эти разведчики, когда их вызывают, то читают в глазах начальства, что было бы ему, начальству, желательно. Затем они на некоторое время куда-то исчезают, потом будто бы возвращаются и докладывают как надо.
Ну что ж, пострадал ли этот разведывательный аппарат, предали ли его суду? Нет. Он продолжал существовать и дальше, а если бы его и предали суду, то в чужом государстве каким бы образом приговор мог быть приведен в исполнение? Только в порядке тайного убийства.
* * *
Русский Совет, в который я вошел по назначению Врангеля, состоял из более или менее видных эмигрантов, находившихся в ту пору в Константинополе. Заседал он довольно регулярно в здании русского посольства. Из дел, которые прошли через Совет, я вспоминаю учреждение так называемых «колоний», с тем расчетом, что вся эмиграция покроется сетью таких ячеек. Это отчасти и сбылось. Но потом эти «колонии» захирели. Их заменил и существовал до самого конца эмиграции так называемый РОВС, то есть Российский Общевоинский Союз
5. Во главе этого Союза стоял Врангель. Но был еще жив великий князь Николай Николаевич. Он был весьма популярен среди западных держав, особенно среди французов. Они, французы, не забыли о том, как был спасен Париж.
Париж был на краю гибели. А если бы он попал в руки немцев, Франция вышла бы из войны. Франция не могла бы сжечь Париж, как мы сожгли Москву в 1812 году, и это все понимали.
Поэтому французское правительство и генеральный штаб обратились к России за помощью. Тут надо вспомнить, что французский и русские генеральные штабы уже давно работали совместно. И программа действий в случае войны была выработана по графику, где было указано по числам, где и как обе армии должны были действовать. Но когда Франция обратилась за помощью к России, то график пришлось сломать. И это катастрофически отразилось на нашем наступлении.
Другими словами, вторжение в Восточную Пруссию не было подготовлено. Тем не менее три русских корпуса вошли в Германию. Это подействовало на немецкое командование так, что оно сняло два корпуса, окружавших Париж, и перебросило их на Восточный фронт. Хотя эти два корпуса разбили наши три корпуса и наше наступление превратилось в катастрофу, но в смысле самой высокой стратегии мы одержали победу — Париж был спасен.
Поэтому великий князь Николай Николаевич избрал местом своей резиденции Францию, приморский городок Антиб, где он и умер.
Итак, РОВС возглавлял Врангель. А великий князь Николай Николаевич? Великий князь в этом смысле был последователен. Во время Гражданской войны Деникин предлагал великому князю возглавить Белую армию. И он отказался. Так и в эмиграции он предоставил РОВС Врангелю. А Врангель говорил мне так о великом князе: «Какую-то политику ведет великий князь. Я в эти дела не вмешиваюсь, потому что без крупных средств наши попытки будут булавочными уколами».
У Николая Николаевича денег тоже не было. Но была какая-то возможность их получить. То ли дело шло о суммах династии, находившихся за границей, то ли о крупной помощи со стороны держав. Такие, очень большие суммы были, наконец, предложены Врангелю. И тогда Врангель изменил свою точку зрения и готов был начать свою политическую акцию. Однако он заболел и скоропостижно умер. Некоторые думали, что неудача, постигшая в этом начинании, была причиной того, что болезнь Врангеля, которая могла бы пройти бесследно, обратилась в скоротечную чахотку. Об этом проскользнули какие-то сообщения в русских газетах, издававшихся в Китае. В них лицо, достаточно авторитетное
6, сообщало примерно так:
— Генерал Врангель умер от огорчения, когда надежды на крупные суммы, которые должен был получить начальник Воинского Союза, не сбылись.
Но была и другая версия. Будто бы Врангель был отравлен. Ему, больному гриппом, дали сильнейшую дозу бацилл этой же болезни в кофе. Это допускал крупный русский врач Алексинский. Удобства такого отравления очевидны — при вскрытии не найдут ничего, кроме бацилл болезни, а число их определить нельзя.
Алексинский добавлял, что такое резкое ухудшение болезни было просто необъяснимо. «При этом, — говорил он, — больной страшно кричал, что не могло быть при большом упадке сил. И кричал так, как будто он, по-видимому, о чем-то догадывался».
Кто же подсыпал бациллы в кофе? И это объясняли. За Врангелем самоотверженно ухаживал его прежний денщик, который остался вне подозрений. Но к нему приехал из Советской России его родственник, фельдшер по образованию. Он сейчас же уехал обратно, и этим подозрение как бы подкрепилось. Но, с другой стороны, семья Врангеля, то есть его мать и жена отрицали отравление. Очень трудно сказать при таких условиях, что именно произошло.
Еще был генерал Кутепов, который был в ссоре с Врангелем, но близок к великому князю Николаю Николаевичу. И так как Кутепов оказался втянутым в организацию «Трест»
7, то и Николай Николаевич благоволил к «Тресту» и принимал Якушева в Париже. Отчасти поэтому «Трест» в свою программу включил, что Верховным Правителем России будет великий князь Николай Николаевич в случае падения Советской власти. К этому надо прибавить, что этот выбор имел под собой некоторые основания. Со времени Первой Мировой войны прошло еще не так много времени, а в русской армии великий князь Николай Николаевич, в среде солдатской, был популярен.
Однако Врангель в отношении Кутепова оказался пророком. Он прямо говорил: «Кутепов неплохой воинский начальник, но у него не хватает сообразительности, и он впутается в такую историю, что мир ахнет».
Действительно, Кутепов среди белого дня был похищен в Париже. Он шел по улице. Остановился некий автомобиль, открылась дверца и некая дама пригласила генерала подвезти. Этой дамой, по-видимому, была известная певица Плевицкая, которую Кутепов хорошо знал.
Три дня Франция искала даму в бежевом пальто, что было довольно наивно, так как ей нетрудно было пальто переменить. Других же улик не было. Поэтому Плевицкая не была привлечена к ответственности судебной властью. Она попалась только через несколько лет, когда был похищен генерал Миллер, в то время возглавлявший Воинский Союз.
Кем был похищен Миллер, осталось неизвестным. Возможно, что немцами, так как Миллер, несмотря на свою фамилию, был определенный сторонник английской ориентации. Письмо, написанное Миллеру с приглашением на тайное свидание, было подписано явно немецкими псевдонимами и даже шуточными. Один из них был «Штромен»
[44]. Другой псевдоним я не помню, но он был в этом же роде.
Миллер, конечно, был крайне неопытен в таких делах. Идя на тайное свидание, он не был сопровождаем издали своими друзьями, прием элементарный. Однако Миллер оставил в канцелярии РОВС’а письмо, которое приказал вскрыть, если он не вернется в таком-то часу. В этом письме было сказано, что о свидании знает генерал Скоблин. Этот генерал когда-то, во время Гражданской войны, командовал лучшим в Белой армии Корниловским полком и был вне подозрений. Но он был мужем Плевицкой.
Письмо Миллера читалось вслух в присутствии нескольких человек. Читал генерал Кусонский. В числе слушавших был и муж Плевицкой. Естественно, что после произнесения фамилии генерала Скоблина взоры всех присутствующих обратились на него. Но его уже не оказалось в канцелярии. Он ловко ускользнул. Все бросились искать его вниз по лестнице, то есть по направлению к выходу, но потом выяснилось, что он убежал вверх, где заранее приготовил конспиративную комнату.
По французским законам жену нельзя привлечь за недонесение на мужа. Плевицкую привлекли за соучастие. На суде происходили весьма волнительные сцены. На скамье подсудимых была Плевицкая, а на скамье свидетелей — госпожа Миллер. Последняя, рыдая, просила Плевицкую, с которой была дружна, сознаться, а Плевицкая, также в слезах, отвечала, что ничего не знает. Присяжные, очень раздраженные, что среди белого дня похищают людей, дали Плевицкой десять лет тюремного заключения. После шести лет она умерла в тюрьме.
* * *
Я немного знал Плевицкую не только по концертам. Однажды Михаил Стахович, орловский губернский предводитель дворянства, член Государственной Думы, а потом и Государственного Совета, пригласил меня обедать к себе, сказав:
— Будем обедать втроем, с Плевицкой.
Она немного запоздала, Стахович нас познакомил.
— А я думала, что вы рыжий и с бородой, — отреагировала она на меня.
Так она думала, потому что сам Стахович был именно такой. Потом она
посмотрела на меня еще внимательнее и сказала:
— Я ужасно замерзла. Пожалуйста, разотрите мне спину.
Я исполнил ее желание, находя естественным, что певица позволяет обращение в вольном стиле. Стахович еще добавил в этом жанре:
— Посмотрите ее зубы. Все тридцать два!
Она охотно показала зубы, и ее улыбка была очаровательной, что помогало ей петь, как Вяльцевой.
Затем мы сели обедать. Обед был великолепный. Стахович выпил немного водки, Плевицкая и я пили только шампанское. Когда обед кончился, принесли так называемую народную цитру. В этом струнном инструменте всего несколько аккордов, и играть на нем совсем просто. Певица поставила перед собой книжку стихов, которую написал специально для нее какой-то молодой поэт. Глядя в нее и аккомпанируя себе на цитре, она импровизировала свои собственные мелодии. Пела негромко, и было это поистине прекрасно. Но еще занимательнее стало, когда она, разрумяненная шампанским, стала рассказывать о своей молодости. По профессии она была ткачиха. Я совершенно отказываюсь передать ту поэзию, которую она внесла в этот рассказ о шелковых нитках, о рисунках, которые она выплетала в простой крестьянской избе. Это было лучше, чем ее пение с эстрады. Словом, это был прекрасный вечер, подействовавший как-то освежающе среди тоскливых заседаний, посвященных суровостям войны.
Глава II
ПЕРЕЕЗД В БОЛГАРИЮ И ПОХОД В КРЫМ
(УТРАЧЕНА)
Глава III
ВОЗВРАЩЕНИЕ В БОЛГАРИЮ
На судне находилось пять человек: боцман, моторист, Мария Дмитриевна, молодой офицер из духовного звания по имени Сева и я.
Пришел какой-то нижний чин из болгар. Сказал, чтобы никто не уходил с корабля, и ушел. Но мы не вняли его словам. Моторист вскоре ушел, сказав, что он идет в Красный Крест. Через некоторое время болгарский унтер пришел опять.
— Где пятый?
— Ушел в Красный Крест.
Осмотрев нас внимательно, он спросил:
— Кто здесь старший?
— Я, — ответил я.
— Пойдем со мной.
Привел меня в помещение какого-то военного караула.
— Как фамилия?
— Шульгин.
— A-а! Евреин! Все русские на «ов», а на «ин» евреины.
Я спросил:
— А Пушкин?
Но о Пушкине он ничего не знал. На этом разговор закончился. Он остался при своем мнении, что я евреин, коммунист, что ездил куда-то как шпион. И требовал, чтобы я сказал, где пятый, который тоже шпион.
Я повторил, что он ушел в Красный Крест. Тогда унтер замахнулся на меня суковатой палкой и хотел ударить меня по голове. Я поднял руку, защищая голову. Удар пришелся по руке и сломал ее. Конечно, надо было схватить его за горло, но тогда, вероятно, со мной покончил бы караул, который смотрел с сочувствием, как меня избивали. Удары посыпались градом. Меня исполосовали так, несмотря на солдатскую шинель, что я стал похож на зебру (это обнаружилось потом).
Наконец приехали верхом два офицера и что-то спросили у унтера. Он ответил:
— Малко.
Я понял, это означало, что побили немного. Офицеры еще что-то сказали ему и не спеша уехали. Унтер сказал:
— Пойдем со мной.
Вытерев кровь на моем лице и воротник шинели, добавил, как бы извиняясь:
— Служба такая.
Мы пошли по городу, и он привел меня почему-то в канцелярию городского управления. Там сидели отцы города, как я узнал потом — коммунисты. Председатель попросил меня сесть и сказал, обращаясь ко мне, извинительным тоном:
— Извините, вышло недоразумение. Этого больше не будет.
После этого унтер отвел меня домой, где уже была Мария Дмитриевна. Унтер ушел, и сейчас же пришел врач. Меня раздели, он осмотрел меня, перевязал руку и взял ее в лубки. После этого написал удостоверение, что рука сломана, и ушел. Мария Дмитриевна плакала и прокляла болгар страшной клятвой.
Потом пошли дни выздоровления. Приходили соотечественники, которые здесь давно жили, и объяснили, что жандармы здесь бандиты. Во главе Болгарии в те годы стоял Стамболийский, который продолжал политику диктатора Стамболова, насадившего в конце прошлого века палочный режим в Болгарии. Стамболийский же объяснял, что болгарский народ бить надо, ничего другого он не понимает. Рассказывали, между прочим, что молодой царь Борис был очень симпатичным молодым человеком, ездил по стране на паровозе, причем сам правил им. Посетил он и отца Стамболийского, который был простым селяком (крестьянином). Он будто бы сказал царю: «Как вы будете править? Ты, царь, млад, а мой сын луд (сумасшедший)».
* * *
Из пяти лиц, находившихся на судне в Варне после нашего возвращения из похода в Крым, судьба Марии Дмитриевны и моя известна. Моторист убежал. Боцмана, кажется, отпустили, и ничего плохого я о нем не слышал.
А Сева? Что случилось с ним в Варне, я не помню. Знаю, что позже он очутился где-то в Галиции, или в Угорской Руси, где стал священником. От него я как-то получил письмо, в котором он писал: «Всюду неважно, но и Рим не дремлет…». Это обозначало, что он там борется с католичеством. Но мне и тогда казалось, что есть худший враг, чем Святейший Престол. Это безбожие. И теперь я так думаю.
* * *
Примерно через месяц мы собрались ехать в Софию.
В Софии нас встретили русские друзья и поместили в гостинице. Так как мы не были женаты, то я выдавал Марию Дмитриевну за свою племянницу. По ночам жандармы иногда делали обыски. Мы открывали дверь, и они удостоверялись, что мы спим на разных постелях.
Надо сказать, что болгары сами называли свою страну Вавилоном, развратной до ужаса, и стремились силой насаждать добродетель. Русских считали развратными вообще априори, примерно такими же, как когда-то русские считали француженок.
* * *
В этой гостинице рядом с нами жила русская цыганка по фамилии Суворина. Она была законной женой сына издателя «Нового времени» в Петербурге Алексея Сергеевича Суворина. Обыкновенно, как мне рассказывали когда-то другие цыганки, даже если цыганка полюбит, то все же не может жить без табора. Поживет год-два с мужем и сбежит в табор. Но в данном случае сбежала не цыганка, а Суворин-сын. Эмигрировала она одна, без мужа. Здесь, в гостинице, она иногда с тоски напевала вполголоса. Для утешения она подобрала несколько брошенных русских детей, поместила у себя в номере, кормила их, поила и одевала.
* * *
К нам приходили разные русские. Между прочим, сенатор Чебышев. Он шесть дней в неделю питался только чаем, обедал же в воскресенье в ресторане нашей гостиницы и тогда заходил к нам. Он знал о расправе со мной в Варне. Я спросил его, не следует ли мне начать какую-нибудь акцию в отношении офицеров, стоявших за унтером. Он ответил:
— Нет, не надо. Вызова на дуэль они не примут, да и ваша честь не задета.
Так это и осталось.
Приходили и другие люди, интересные и милые. И мы основали клуб «Идиотов» в смысле «Идиота» Достоевского.
* * *
В Софии сохранилась еще русская дипломатическая миссия. Были кое-какие средства, и посланник хотел поддерживать иллюзию старой России. Он устроил как-то званый вечер без угощения ужином, который был заменен музыкой и балетом. Приглашены были Стамболийский, митрополит болгарский и некоторые русские, в том числе и я.
Было тесно. Я сидел близко от Стамболийского и митрополита. Музыка, пение, рояль прошли хорошо. Затем начался балет, состоявший из одной пары. Она — очень молоденькая балерина в балетной юбочке. Не помню, как он был одет, но на лице его были видны все пороки. Она танцевала то, что когда-то танцевала Павлова: романс Рубинштейна на слова Пушкина «Твой голос для меня и ласковый и томный». Танцевала на пуантах. Заканчивается этот романс словами «...люблю. Твоя…» и с ними балерина подбежала на пуантах к митрополиту и дрыгала ножкой прямо ему в седую бороду. Стамболийский произнес с улыбкой, но мрачно:
— Это не для пóпа.
Это был финальный номер, вечер кончился.
* * *
Не помню, в это ли время, но помню, что это происходило в Софии, П. Н. Врангель издавал журнал «Зарницы», который редактировал Н. А. Чебышев. В этом журнале и я участвовал. Кажется, тогда по желанию П. Н. Врангеля я написал для этого журнала статью под заглавием «Армия в сюртуках». После ее публикации Петр Николаевич отдал приказ снять форму, но армия была сохранена: сохранялись воинские формирования, продолжала действовать дисциплина.
По-моему, тогда же я написал брошюру под заглавием «Нечто фантастическое». Ее издало русско-болгарское издательство. В ней трактовались в фантастической форме насущные, животрепещущие вопросы, волновавшие в тот момент русских эмигрантов. Нужно было формулировать политические лозунги, которые показывали бы, как эти проблемы следует решать.
* * *
Помню, что будто бы в это время поссорился П. Н. Врангель с А. П. Кутеповым, который в это время тоже был в Болгарии. Покидая эту страну, П. Н. Врангель приказал ему оставаться в Болгарии и стоять там во главе РОВС’а. А. П. Кутепов не послушался, тогда Петр Николаевич приказал исключить его из списков РОВС’а за непослушание.
В связи с этим или нет, но А. П. Кутепов был арестован по указанию болгарского правительства. Когда его освободили, он уехал из Болгарии.
Припоминаю, что в Болгарии тогда жил генерал Покровский, бывший у нас одним из первых летчиков. По характеру это был настоящий садист, который был убежден, что нужно пролить как можно больше крови, все равно какой. Во время Гражданской войны был крайне жесток, в частности, как-то приказал повесить трехсот пленных китайцев, причем они сами по очереди вешали друг друга. После исхода белых оказался в Болгарии, где и был вскоре убит, кем, не знаю.
* * *
Коммунисты в конце концов устроили в Болгарии восстание. Власть не могла с ними справиться и обратилась за помощью к русским эмигрантам. Один из наших генералов, не помню кто, мобилизовал русских офицеров, казаков и других, находившихся в Болгарии, и подавил выступление коммунистов.
Глава IV
ЧЕХИЯ
Просидев в Софии примерно с месяц, мы решили ехать куда-нибудь, потому что в Болгарии нам нечего было делать. Не помню почему, мы решили ехать в Прагу. И поехали. Сели в поезд, но какой-то запоздалый страх, что нас не выпустят из Болгарии, сопровождал нас в вагоне. И даже такой, что мы спросили проводника:
— А нас не выбросят из вагона?
Он удивился и ответил:
— Билеты у вас в порядке, кто же может выбросить вас?
Мы благополучно пересекли все границы и очутились в Праге. Прямо с вокзала поехали в гостиницу «Беранек» («Барашек»), находившуюся недалеко от Вацлавского Наместья, то есть центральной площади Праги. Гостиница была чистой, но в ней не топили. За дрова взималась особая плата.
Здесь мы провели некоторое время, и нас начали посещать друзья и знакомые. Среди них оказался молодой человек, бывший сотрудник «Киевлянина» (фамилию, к сожалению, запамятовал). Он был женат на киевской подруге Марии Дмитриевны, очень красивой, но слишком полной даме. Она каким-то образом приходилась сродни какому-то чешскому генералу, и потому мой бывший сотрудник имел какие-то средства и положение в местном обществе.
Другой киевлянин, навестивший нас, был Магеровский, тоже еще сравнительно молодой человек, стоявший в Праге во главе так называемого «Русского архива», то есть библиотеки. Чехи постарались собрать все, что русская эмиграция напечатала и продолжала печатать, а также множество рукописных материалов, и организовали для них специальное хранилище в виде этой библиотеки. Там хранились и некоторые мои рукописи, в том числе описание нашего путешествия в Крым в январе двадцать первого года, которое сделала Мария Дмитриевна под свежим впечатлением.
Магеровский был женат тоже на киевлянке, даме не очень здоровой, с удивительными зелеными глазами. Вот вся эта молодежь составила наше окружение, пока мы жили и мерзли в гостинице «Беранек».
* * *
Как-то, купив дров для холодного номера в «Беранике», я сел на трамвай и вышел из него около книжного магазина. В нем я купил книгу, написанную по-чешски: «Приключения Вацлава из Митровиц, прозванного Турчиным, в 1591 году». Эту книгу перевел на русский язык К. П. Победоносцев. И она стала той канвой, по которой я написал второй том «Приключений князя Воронецкого» под заглавием «В стране неволи», напечатанной позже в Белграде.
Затем приехал мой молодой друг Вовка и привез мою жену Екатерину Григорьевну, которую он вывез из Киева. Они перешли польскую границу в районе нашего имения в Курганах. Переводили их проводи и к и — евреи. Вовка поступил в Русский Пражский университет.
Екатерина Григорьевна познакомилась с Марией Дмитриевной и даже подружилась с нею. Она привезла мне деньги от Вацлава Каминского, моего арендатора. Но привезла она и печальное известие, которое она некоторое время скрывала от Марии Дмитриевны, печальное известие о судьбе ее сестер. Но, наконец, сказала, что они были расстреляны. Конечно, это известие подействовало удручающе на Марию Дмитриевну.
В то время мы уже не жили в гостинице «Беранек», и вообще не в Праге, а в ближайшем городке по реке Влтава. Там мы снимали комнату в одном дворе, где постоянно резали свиней. Свиньи, когда их режут, кричат нестерпимо. Пока Мария Дмитриевна не знала о судьбе сестер, она только нервничала. Но узнавши, стала биться в истерике, когда раздавался визг погибающей свиньи.
Пришлось бежать из этой квартиры. И забежали мы в поселок, который назывался, по странному совпадению, Забеглицы. Там мы сняли комнатку, и странно, что Мария Дмитриевна стала меня кормить сосисками, совершенно забывая, что эти сосиски были сделаны из тех же свиней, «казнь» которых сводила ее с ума.
Во всех отношениях в Забеглицах было хорошо. Комнатка была крохотная, но уютная. К нам приезжали друзья, приехала как-то и Екатерина Григорьевна и жила у нас несколько дней. Больше о событии в Одессе не говорилось.
Приезжали и другие, в том числе и писатель Аверченко. Он был эмигрантским Зощенко. И очень смешил в общем-то печальных людей своими рассказами. Но когда он приехал к нам живой, во плоти, то оказался человеком еще более печальным, чем остальные эмигранты.
В Праге оказались у меня друзья и другого рода. Мне тоже была предложена помощь как писателю. Я отказался в пользу моей жены Екатерины Григорьевны. Она имела на это право, так как много работала в «Киевлянине». И пока жила в Праге, она получала субсидию, но, переехав позднее в Париж, потеряла это право.
* * *
Прошло некоторое время, началась весна, и дорога к нам в Забеглицы из городка проходила через лес акаций. Это была белоснежная заросль с одуряющим ароматом. Словом, поэзия.
А в городке мы познакомились с интересной семьей. Отец был чех, мать полька, три дочери. Старшая, Мария, завзятая украинка, она училась в украинском университете в Праге. Не помню, откуда этот университет добыл украинствующих профессоров, тогда их как будто еще не было, кроме моего двоюродного племянника Александра Шульгина, человека образованного и, как говорят, очень обаятельного. Но он был своеобразный украинец. Под псевдонимом «Чигиринец» он выпустил брошюру, где проповедовал примерно следующие оригинальные мысли: конечно, мы, киевляне, и вообще Малая Русь, настоящие русские, но «москали» украли у нас наше национальное имя и стали называть себя русскими; между тем они не русские, а смесь семнадцати финских племен (племена эти перечислялись по названиям); вот поэтому мы, настоящие русские, стали именовать себя украинцами.
Я это говорю к тому, что старшая дочь наших друзей Мария украинствовала в память мужа, который ее бросил.
Вторая дочь, Генриетта, откровенно говорила: «Я как муж». Муж ее был киевлянином и работал в киевском книжном магазине Розова. Он менял ориентацию в зависимости от обстоятельств.
А третья дочка, Владислава, самая молодая и самая красивая, еще училась в гимназии и была неистово русской.
К этому могу добавить, что их отец-чех когда-то служил у Петра Николаевича Балашова, моего друга и соратника по Государственной Думе. Он потерял всякую национальность, говорил по-русски как на своем родном языке. И с благодарностью вспоминал Балашова.
Я, как это ни странно, сблизился с Марией. Мы стали одновременно друзьями и врагами. Однажды я застал ее в постели. В общем у нее всегда был хороший цвет лица, а тут она показалась мне зеленой.
— Что с вами?
— Читаю ваши произведения.
Я не стал ее просвещать и сказал:
— Когда вы выздоровеете и Мария Дмитриевна уедет в больницу, мы отправимся в экскурсию.
* * *
Климат Чехии очень плох для туберкулезных больных. Мария Дмитриевна выдержала всякие штормы в Черном море, и даже качка на нее не действовала. Но здесь она сдала, ее начало лихорадить около пяти часов вечера. Верный признак туберкулеза..
Петр Бернгардович Струве, находившийся в Праге, выхлопотал ей, как теперь говорят, бесплатную путевку в санаторий, находившийся в горах. Она туда и уехала.
Я остался один, и мой друг и враг Мария сказала мне:
— Сколько вам стоит ваше питание сосисками?
— Приблизительно десять крон в день.
— Я буду вас кормить не сосисками, а как следует за шесть крон.
Я согласился. С тех пор каждый день я приходил к ним из Забеглиц обедать. И, разумеется, еще более подружился с Марией. Шекспир говорит, что любовь входит в женщину через уши, а немцы утверждают, что у мужчин любовь входит через рот, то есть в зависимости от того, как их кормят. Быть может, это все и не так, но однажды Мария сказала мне:
— Хотите в экскурсию?
Экскурсия была дивная. Мы то шли пешком по проселочным дорогам и тропинкам с туристскими знаками, то плыли пароходом по реке. Много болтали, но на украинские темы не разговаривали. Вернулись поздно, очень довольные друг другом. Посреди городка стояла мраморная мадонна на гранитном пьедестале. Мы стояли у ее подножия. Мария сказала:
— Вы не очень хорошо живете с Марией Дмитриевной.
— Да, бывают тучи.
— Если бы вы захотели разойтись, то это сделать можно…
Я долго не отвечал. Мадонна хотя и молчала, но я чувствовал ее близость. И наконец ответил:
— Нет. Я бы возвратил ей свободу, если бы видел, кому я могу ее передать. В нашем окружении такого человека нет. Она больна, и о ней очень нужно заботиться, иначе…
* * *
Больше к этому разговору Мария не возвращалась, но наши отношения не были испорчены. Наоборот. И однажды она мне сказала:
— Если когда-нибудь вы будете украинским гетманом, то я согласна быть вашей фрейлиной.
— Фрейлиной?
— Ну, словом, любовницей.
Я не стал, как известно, украинским гетманом, а Мария вышла вторично замуж, и новая ее фамилия была оригинальная — Незабудько.
* * *
Мария Дмитриевна вернулась из санатория веселая и поправившаяся.
— Я прибавила четыре килограмма.
И стала рассказывать, как было в санатории. Он был сугубо демократический, одни фабричные работницы, притом Мария Дмитриевна еще почти не говорила по-чешски. Поселившись в санатории, она стала плакать день и ночь. Через пару дней ее пригласили к директору, который сказал ей:
— Если вы будете плакать, то придется отправить вас к вашему мужу. Плачущей мы помочь не можем.
Она поняла положение. Несмотря на то, что Мария Дмитриевна могла плакать, как и все женщины, у нее была воля. Она прекратила рыдания и нашла себе утешение. Там оказалась еще одна русская.
И вот с той поры лечение вошло в свою колею. Утром в очень теплом помещении больные обливались холодной водой, обнажившись по пояс, затем полотенцами растирались так, что становилось горячо. Потом шли на завтрак, который был однообразен, но сытен: ели национальное чешское блюдо кнедлики — очень жирное тесто в ужасающем количестве.
После завтрака шли в сад. Санаторий располагался в горах, стоял крепкий мороз. Больные влезали в меховые мешки и лежали на койках целыми часами. Обе русские лежали рядом и без конца болтали. В течение дня ели несколько раз жирно и сытно. Спать ложились рано. Через месяц Мария Дмитриевна не только прибавила в весе, но и перестала температурить к закату солнца.
* * *
Я изредка ездил в Прагу. Кроме молодежи, меня привлекал П. Б. Струве. Он познакомил меня с одним видным чехом, Карелом Петровичем Крамаржем. Последний был истинно русофилом и состоял в оппозиции к Масарику, который русских недолюбливал.
Крамарж был в меньшинстве, но все же у него были сторонники. В былое время эти чехи мечтали выйти из состава Австро-Венгрии. Они хотели быть независимыми, но под покровительством России. Они желали иметь собственного короля, но из династии Романовых. И даже наметили, кто персонально мог бы им быть, а именно — великий князь Константин Константинович, поэт «К.Р.». Все это не сбылось, а когда разразилась Первая мировая война, член парламента Карел Петрович был приговорен военным судом к смертной казни за русофильство. Император Франц-Иосиф заменил смертную казнь пожизненным заключением в крепости.
Но и это не вышло. Немцы войну проиграли, Крамаржа освободили. Он еще раньше женился на богатой москвичке Абрикосовой. На ее средства (своих денег у него, кажется, не было) он купил в центре Праги величественный холм, стоявший напротив другого холма с Пражским Кремлем. Крамарж на своем холме построил стильный, но уютный особняк
8. Я любил бывать в нем.
Через широкие окна виден был Кремль и часть Праги. Этот город, кроме всего прочего, замечателен тем, что он красив и в дурную погоду на фоне грозовых туч.
А внутри виллы Крамаржа горел камин и стояли на полу лампы, щеголявшие шелковыми висячими, как ветви плакучих ив, абажурами. И мы пили пятичасовой чай и беседовали о былом, настоящем и будущем.
Крамарж покровительствовал П. Б. Струве и субсидировал журнал «Русская мысль», который возобновил Струве в эмиграции. В этом журнале, между прочим, печатались мои произведения «1920 год» и «Дни».
* * *
В Праге, как будто, улицы не имели названий, а дома имели фантастические числа. В доме номер шестьсот два жил другой чех, мой друг доктор Вондрак. Я его знал по Киеву, где ему принадлежала гостиница «Прага». На ее крыше был ресторан с видом на Киев.
Во время войны много чехов, служивших в австрийской армии, переходило на сторону России. Вондрак задумал образовать из них Чешский корпус. У него не было связей в Петербурге, и он обратился ко мне. Я его знал не только по гостинице «Прага». Он, как и я, был гласным волынского земства. Я помог Вондраку. Он сделал доклад перед соответствующими лицами, и вопрос об образовании Чешского корпуса был принципиально решен, а затем и осуществлен. Но он попал под руководство Масарика, известного своей английской ориентацией. Между прочим, отказался зачислить меня офицером в этот корпус в восемнадцатом году.
В итоге Масарик направил корпус в Сибирь, где чехи захватили Русский государственный золотой фонд. Из него Масарик субсидировал в Праге два университета — русский и украинский. И, кроме того, выплачивал крупные суммы чехам, лишившимся своего состояния после революции в России. В числе последних был и Вондрак. Но он, как и Крамарж, был в оппозиции к Масарику. Поэтому Вондрак отказался принять помощь от Масарика и причитавшуюся ему сумму передал в распоряжение русских инвалидов в эмиграции. Сам же он встал во главе чешского общества «Шкода» и снова приобрел состояние. Он купил себе виллу около Ниццы, где я с ним встречался. Вондрак был женат на киевлянке Ещенко, певице.
* * *
Мне запомнилась Влтава. Чешская молодежь очень спортивная, в результате чего была здоровой и сильной. В субботу вечером по набережной двигались своеобразные парочки. Молоденькая девушка сидела в байдарке, а ее друг шел вдоль набережной и тянул лодку за трос. Переночевав где-то далеко за городом, они в воскресенье вечером возвращались в Прагу. Парочки образовывали целые флотилии, которые, спускаясь по течению, хором пели песни.
Как-то шел я по набережной, вдруг народ бросился к лодкам. Через мгновение они были на середине реки с баграми и крюками. Зацепив какое-то тело за брюки, они вытащили тело мужчины, к счастью не мертвое, а живое. Втащили его в лодку, а потом выгрузили на набережную. Человек лет пятидесяти с трудом встал, с него ручьями струилась вода. Оказалось, что он хотел утопиться. В толпе говорили, что он бросился в воду, сказав: «Если такая жизнь, то…».
Прибежала и та, что вызвана желание утопиться. Это была его жена. Она тотчас же стала осыпать его кощунственными ругательствами. В толпе говорили, что, может, он и прав, от такой жены только в воду. Но она увела его.
* * *
Когда мы жили в Загребицах, неожиданно явился к нам Яша, молодой человек, в те годы учившийся в русском университете. Я с ним познакомился еще в двадцатом году, когда норд-ост бросил нас в Румынию. Он был несколько возбужден и сообщил буквально следующее:
— Мы выследили одного русского студента, нашего товарища по университету. Мы убедились, что он большевистский шпион. Между прочим, ему поручено под видом грабежа
украсть у вас секретные документы, которые будто бы у вас имеются. Что делать, Василий Витальевич?
Я ответил:
— Скажите ему, что вы мой секретарь. Поэтому никакого грабежа не нужно, а я буду передавать вам все, что будет для него иметь интерес.
Как было задумано, так и исполнено. Я писал письма, а Яков отправлял их на почте заказными. В этих письмах я писал реальным лицам из русских эмигрантов. Помню одно письмо, в котором излагал, что бы я сделал, если бы был Лениным. Мой приятель-эмигрант этого письма не получил, а Ленин, возможно, его прочел. Оказало ли оно какое-нибудь влияние на него, разумеется, я не знаю. Но я не страдаю самомнением и не думаю, чтобы НЭП был вызван моими советами.
Но приключения Яши на этом не кончились. Однажды он сказал мне:
— Вот я дошел до того, что не знаю, кому же я служу? Меня же могут заподозрить, что я советский агент.
— Бросьте вы все это и ничего не посылайте, довольно, пора кончать эту игру, — ответил я. — Они вам все равно ничего не могут сделать, если вы перестанете снабжать их моими фальшивыми письмами.
Он меня послушался. Но значительно позже, когда Яков перебрался в Париж, его стали подозревать, что в Чехии он занимался плохими делами. Я дал ему письмо за своею подписью, в котором рассказал, как было дело, и посоветовал ему показать это письмо кому он найдет нужным. Впоследствии он поблагодарил меня — письмо помогло.
* * *
Первый чех, с которым я впервые столкнулся в своей жизни, был неприятный человек. Это был пражский профессор, специалист по детским болезням. Болен был я. Он постучал пальцами по моему лбу, что было очень оскорбительно (мне было семь лет), и сказал сопровождавшим меня старшим лицам, что меня надо кормить исключительно телячьими ножками. Три месяца я не ел ничего другого. Телячьи ножки я ненавижу до сих пор.
А первая чешка, которую я узнал, была хорошая. Она была нянькой моего младшего брата. Мы жили тогда под Прагой всей фамилией.
И вот как случается в жизни. Через несколько десятилетий мы с Марией Дмитриевной в этом самом городке под Прагой, который назывался Кёнигзал, зашли вечером в маленький ресторанчик и попросили дать нам что-нибудь поесть. Молодая красивая чешка принесла нам ужин и, поняв, что мы русские, сказала:
— А моя старенькая мама когда-то служила у русских.
И она привела старушку, которая оказалась той самой когда-то молодой чешкой, нянчившей моего брата. Она все помнила, даже готова была заплакать, узнав, что ее питомца больше нет в живых. И сказала:
— А был еще мальчик постарше, больной, он кушал только телячьи ножки.
Я воскликнул:
— Так этим мальчиком был я! И телячьих ножек больше не ем.
* * *
Невольно мне вспоминается этот Кёнигзал. Больной мальчик отличался большой подвижностью. Все передвижения он совершал бегом, как матросы на корабле. У него была большая сумка через плечо и палочка. На палочку он садился верхом и гнал ее хлыстом. Куда? На почту, где он ежедневно получал всю корреспонденцию на имя его отчима, который в этом городке писал свою диссертацию.
Больной мальчик скакал на палочке на паром, переправлялся через реку, углублялся в горы, где иногда убегал от земли. Потом он скакал вдоль реки и где-нибудь отдыхал. Но когда приближался какой-нибудь пароход — их было несколько, в том числе «Рудольф», названный так в честь кронпринца Рудольфа Австрийского, — тогда мальчик на палочке бежал за ними.
Когда пароходы шли против быстрого течения, он поспевал за ними. Когда же вниз по течению — безнадежно отставал. Все эти упражнения были несомненно вредны для его слабого здоровья, и он избавился от своих болезней, уехав из тех мест.
* * *
Потом, когда исчезли чехи, следовал большой перерыв. Новое появление чехов было связано с комическим происшествием. Это было уже на хуторе Агатовка на Волыни. Мой отчим писал статью о североамериканском президенте Теодоре Рузвельте, когда доложили, что приехал чешский инженер Кратохвиль, которого мы ожидали.
Пригласили обедать и, когда все расселись за столом, Дмитрий Иванович представил гостя, сказав:
— Инженер господин Рузвельт!
Кратохвиль, как оказалось, был вообще смешливым человеком, но тут он залился неудержимым смехом, да так, что все стали смеяться, не зная даже почему. И смеялись до тех пор, пока Дмитрий Иванович не понял, что он ошибся, так как его мысли все еще были полны президентом Теодором Рузвельтом.
Эмиль Осипович Кратохвиль был специалистом по «маримонам», то есть большим вальцовым мельницам. Сделав несколько измерений на месте, он вычертил рабочий чертеж пятиэтажной лестницы чрезвычайно быстро. Он поступил к нам на службу и служил у нас до конца своей жизни, став близким человеком для нашей семьи. Он не был женат. Конец его жизни был плохой. Связавшись совершенно с Россией, он принял русское подданство. А в это время разразилась революция семнадцатого года. Конца его не помню, но, конечно, человек, который был так близок к нам, не мог не навлечь на себя преследование новой власти.
* * *
Затем я знал чехов-колонистов на Волыни. Они были очень важным обстоятельством для этой земли. Такой чех, если у него было шесть гектаров земли, жил как пан. Наши мужики, которые научились хозяйничать по-чешски, также становились зажиточными. По этой причине, когда началась столыпинская реформа, Волынь была образцом того, что эта реформа даст.
А в девятьсот седьмом году, когда шли выборы во вторую Государственную Думу, я познакомился с волынскими чехами и узнал их политические взгляды. Мне удалось переговорить с главарями. И они мне сказали:
— Нам известно, что вы вынуждены вести борьбу с поляками. Так знайте, мы пойдем с вами. Россия дала нам приют и достаток. А поляки, хотя они тоже славяне, но они всегда шли против славян.
В результате во вторую Государственную Думу были избраны восемь малороссийских крестьян, три русских помещика, один батюшка и один чех по фамилии Доброглав, единственный чех в Государственной Думе.
Глава V
ГЕРМАНИЯ
Точно не помню когда, но примерно в конце 1922 года выяснилось, что мне в Чехии больше нечего делать. Одновременно оказалось, что попасть в Германию совсем нетрудно. В тогдашнюю Германию въезд иностранцам разрешала не центральная власть, а власти провинциальные.
Еще надо принять во внимание, что тогдашняя Германия, в противность ее прежней истории, жила под знаком взятки. Немецкая валюта падала катастрофически. Все чиновники голодали. Голод был всесилен. Мой управляющий на Волыни пересылал мне доходы в долларах. А я узнал, что некий русский киевлянин, бывший полковник Клименко, живет в Берлине, носит звание «присяжного советника» и оказывает услуги русским эмигрантам. Он написал мне, что за два доллара может выхлопотать разрешение въехать в Германию для меня и Марии Дмитриевны.
И мы поехали. Багаж у нас был такой. Огромный мешок со всем нашим имуществом, где носильные вещи были перемешаны с тарелками и стаканами. Я об этом пишу потому, что мешок этот куда-то заслали, и я его насилу разыскал. Чиновник потребовал открыть мешок. Я развязал. Он сунул туда руку. Закричал и вынул ее окровавленную. Мешок бросали, стаканы разбились, он порезал руку и стал, естественно, возмущаться. Я извинился и объяснил:
— Мы русские беженцы. Тут все наше имущество. Я не знал, что моя жена напихала туда стаканы, иначе я бы вас предупредил.
Немец вошел в наше положение, и инцидент был исчерпан.
* * *
Я познакомился с полковником Клименко в Берлине (какая у него была фамилия в Германии, я не помню
9), приехав туда из Чехии. Он рассказал мне о Киеве времен Гражданской войны удивительные истории. И очень бранил Драгомирова, который в тот период был главным начальником в Киеве:
— Я сколотил малороссийский отряд, потому что свободно говорю по-хохлацки. Фамилия моя вовсе не Клименко, я чистый немец по крови. Как вы сами знаете, в это время начальство Добровольческой армии перестало такие отряды кормить. Все перешли на самокормление. Вследствие этого в Киеве начался так называемый «тихий погром». Воинские подразделения вламывались в дома и требовали от евреев, чтобы их накормили. Это и называлось «тихий погром». Но так как евреи, естественно, очень боялись, то они били в сковороды и кастрюли и отчаянно кричали: «Спасайте такой-то номер», то есть дом. Таким образом, тихий погром превратился в «громкий погром».
Слушая Клименко, бывшего начальника малороссийского отряда, я вспомнил свою статью «Пытка страхом». В ней я писал примерно так: «Поймут ли евреи значение переживаемых событий? В этом и их и наша судьба. На антисемитизме не выедешь, но на сочувствии марксизму тоже».
Эта статья благодаря своему названию произвела совершенно не то впечатление, какое я хотел. Только Паустовский понял ее правильно, как сочувствие к пытаемым страхом. Остальные расценили ее как сочувствие к погромам.
* * *
Бывший Клименко оказал мне услугу не только в смысле визы в Германию, но и в другом отношении. В Германии того времени драли ужасные налоги с иностранцев. И тут надо было пожертвовать долларом или больше, чтобы снизить налоги до возможного предела. Это было сделано. Итак, все в Германии делалось за взятки. Из этого можно сделать заключение, что немцы сделались бесчестными. Нет, их честность сказывалась в том, что получив взятку, они в точности выполняли обещанное.
Где разрешено было нам поселиться? Под Берлином, в городке Биркенвердер. Там мы нашли гостиницу — пансион некоего Гофмана, средних лет немца, серьезного и почтенного. Узнав, что мы будем платить в долларах, он устроил нас по очень дешевой цене. Тут еще надо принять во внимание следующее обстоятельство. Марка немецкая падала неудержимо, и поэтому жизнь имевших доллары становилась с каждым днем дешевле. Поэтому я мог хорошо кормить Марию Дмитриевну, которая снова стала температурить к заходу солнца. Это значило, что туберкулезный процесс возобновился. Я уложил ее в постель и позволял ей вставать только тогда, когда температура становилась нормальной.
В Биркенвердере я встретился со старой знакомой по России, которую последний раз видел в Крыму, с Наташей N. Тогда она была стройной девушкой, в Биркенвердере стала, может быть, еще красивее, но очень пышной. Она тронула мое сердце тем, что при ничтожном багаже, который она увезла при бегстве из России, все же захватила моего «Князя Воронецкого» («В стране свободы»). Эту книгу я ей когда-то подарил.
Здесь, в Биркенвердере, незадолго до моего приезда ее постигло тяжелое горе — умер ее отец. Но это было не все. Мать ее, не выдержав удара, повесилась на кресте могилы мужа. Впрочем, Наташа довольно стойко перенесла это — у нее был жизнерадостный характер. Утешал ее некий средних лет господин, носивший очень неблагозвучную фамилию Пузыно. Однако эта фамилия принадлежала к местной аристократии: в шестнадцатом веке Афанасий Пузына был архиереем на Волыни.
А Пузыно двадцатого века до революции был сотрудником санкт-петербургского «Нового времени», а в эмиграции стал изобретателем. Он изобрел бесшумный пулемет. Этот пулемет не требовал пороха для стрельбы. Нечто вроде барабана, вращавшегося с огромной скоростью при помощи мотора, что давало пулям большую скорость. Впоследствии я помогал ему, сколько мог, пристроить его изобретение в Югославии, но из этого ничего не вышло.
Более удачною была практика Пузыно на медицинском поприще. Наталия Ивановна заболела рожей на ноге. Он ее вылечил. Оба они согласно рассказали течение болезни. Температура была уже около сорока градусов, нога стала малинового цвета, когда Пузыно приступил к лечению. Делая пассы над больным местом, он вместе с тем стал говорить какие-то слова. Этот заговор рожи представлял из себя набор слов совершенно бессмысленных. И все-таки он помог. Температура спала, и нога стала белеть.
Мы спрашивали Пузыно, откуда он знает этот заговор.
— От моей матери, — сказал он. — Этот заговор идет, по-видимому, от моего предка архиерея. Он передавался из поколения в поколение старшему сыну. Но и мать моя не имела никакого представления, почему этот непонятный набор слов может лечить.
Как бы там ни было, но Наталия Ивановна выздоровела совершенно.
* * *
Зато я заболел неизвестно почему. Биркенвердер представлял из себя большую березовую рощу с множеством небольших озер. Была еще осень, я гулял в роще, любуясь озерами, пил кофе в одном прибрежном ресторанчике и писал кое-какие заметки. И вдруг заболел. Очевидно, сердечный припадок. Я лежал в своей комнате в гостинице Гофмана, но мне казалось, что я на корабле, подверженном сильнейшей качке, потому что комната все время переворачивалась, пол становился потолком и наоборот.
Мария Дмитриевна испугалась и позвала врача. Пришел молодой врач, пощупал мой пульс и спросил:
— Вы меня слышите?
— Да.
— Вы понимаете немецкий язык?
— Да.
— Я дам вам лекарство, но запомните — вы должны каждые две недели показываться врачу, иначе на улице вы сделаете капут.
Он выписал рецепт и ушел. Комната продолжала переворачиваться. Но, преодолевая слабость, мне пришлось встать, потому что Мария Дмитриевна вдруг упала в обморок. С трудом добрался до звонка, прибежал хозяин гостиницы, а потом и Наталия Ивановна. Марию Дмитриевну привели в чувство, и я смог лечь опять.
Через некоторое время головокружение прошло, и, несмотря на слабость, я опять стал ходить любоваться озерами.
Прошло несколько месяцев, и мы уехали на юг Франции, где я стал быстро поправляться, и до такой степени, что купил себе велосипед, благо он стоил всего двести восемьдесят франков (около двенадцати долларов). Потом купил велосипед и для Марии Дмитриевны и научил ее ездить. Сначала мы ездили только вниз на свободном колесе, а вверх вели велосипед в руках. Но затем стали подниматься на педалях. И вскоре все вошло в норму, не было уже таких подъемов и гор, которые бы мы не одолели. Наконец, сделав подъем на высоту четырехсот метров, мы внизу увидели море…
Но я забежал далеко вперед. Вернемся в Германию.
* * *
Я часто ездил в Берлин (час езды). Железная дорога проходила по ровной, низменной местности. Среди этих осенних полей торчали кое-где высокие дома. И вот мне казалось почти до галлюцинаций, что чья-то громадная рука снимает эти громады и, превращая их в развалины, расшвыривает по полям.
Иногда я ездил в Берлин вместе с молодым сыном хозяина нашей гостиницы. Он всегда, глядя в окошко, как и я, был молчалив и печален. Я спросил его однажды:
— Отчего вы так печальны, мой друг? Перед вами вся жизнь.
Он ответил:
— Нет. Наша жизнь будет коротка. Наше поколение умрет. Увидят жизнь те, кто будет после нас.
Молодой человек этот предчувствовал вторую войну, которую суждено было проиграть Германии…
* * *
Мне не везло в Германии с врачами. Однажды у меня разболелся зуб. Я пошел к местной докторше. Это была молодая, сильная и здоровая женщина. Подобные женщины в это время были редкими в Германии. Немцы, пережившие голод войны, тогда съели все, вплоть до собак и кошек. И даже съели знаменитого кота, который в одном магазине молол кофе и был приманкой покупателей. Немцы особенно казались заморенными для тех, кто приехал из Чехии. Чехи были в полной форме.
Так вот, я пошел к здоровенной немке. Вооружившись клещами, она стала рвать зуб. Клещи у нее постоянно срывались. Тогда она захватила ими больной зуб глубже, причиняя мне адскую боль. Все же я старался не кричать. Она же кричала неистово известное немецкое ругательство:
— Donnerwetter!
Это плохо переводимое выражение, но приблизительно означает «гром и молния».
Зуб она не вырвала. Я сказал «довольно!» и уехал в Берлин искать помощи у кого-нибудь, а у кого, я и сам не знал. Вдруг неожиданно я встретился в Берлине с моим школьным товарищем и другом Сергеем Андреевичем Френкелем и его женой. Увидев меня в такой беде, они сейчас же повели меня к известному им хирургу, еврею по национальности. Он принял меня без очереди и, выслушав и осмотрев мой рот, сказал:
— И как же она вас обидела!
Затем он что-то вспрыснул мне в десну:
— Подождите двадцать минут.
Через двадцать минут он усадил меня в кресло и позвал медсестру, тоже еврейку, держать мне голову, при этом сказал ей:
— Geben Sie mir bitte ein Hebel.
Я содрогнулся, так как это означало «подайте мне, пожалуйста, рычаг». Он понял, отчего я испугался, и сказал:
— Не бойтесь, больно не будет.
И действительно, больно не было, только неприятно что-то хрустнуло. Зуб был извлечен, и врач заключил:
— Все хорошо, но будет больно, когда наркоз отойдет. Боль будет длиться два часа.
Он отказался принять гонорар, а супруги Френкели подхватили меня, и мы пошли смотреть кинокартину. Она была интересна и до некоторой степени отвлекала от боли.
Сергей Андреевич жил тем, что покупал и перепродавал кинофильмы. Это приносило ему достаточный доход, и он держал руку на пульсе кинопродукции. Тогда была в моде кинокартина «Индийская гробница». На ее постановку какой-то богач дал крупный капитал с тем, чтобы через каждые десять лет она появлялась снова, но в новом виде. Я видел вторую постановку этой картины, но потом, в связи с осложнениями в мире, этот фильм больше не повторялся.
Мы с Марией Дмитриевной довольно часто ездили в Берлин. В нем жили Ефимовские, наши друзья по Киеву. Он был родом из Херсона, окончил Московский университет, был в Киеве известным адвокатом, женился на поповне по имени Зоя, обладавшей хорошим голосом и мечтавшей поступить в оперу. Ко всему прочему, он был азартный и ловкий игрок. В Берлине она давала концерты. Первую половину она пела, вторую играла на рояле. Каким-то образом они зарабатывали деньги, и потому у них бывало многочисленное общество.
За одним из ужинов меня посадили с каким-то полупьяным господином. Когда нас познакомили, он тотчас же стал кричать:
— Какой вы Шульгин?! Вы Рамзеc!!
Сначала меня это смешило, потом надоело. Все пьяные быстро надоедают…
* * *
Из Берлина мы иногда уезжали последним поездом. Между ним и последним трамваем, идущим на вокзал, было около двух часов времени. Мы проводили его в небольшом ресторане напротив вокзала. Иногда Ефимовские провожали нас на этот вокзал, который назывался Штеттинербанхоф. В этом ресторанчике в поздние часы были последние гости. Они, в том числе дамы, вели себя шумно и даже неприлично. Наоборот, старый лакей был просто благообразен.
Однажды он скорбным голосом обратился ко мне, указывая на разнузданных дам:
— Это сегодняшняя Германия. Вы думаете, это уличные девки? Нет. Одна — жена судьи, другая — супруга уважаемого профессора.
Затем он подал нам блюдо с сосисками. Но как только он отошел от нас, Зоя Ефимовская зашептала:
— Ради Бога, не ешьте этих сосисок.
— Но почему?
— Потому что они из человеческого мяса.
— Зоя!?
— Да! Это заманенные молодые девушки, которых зарезали. Это тут делается именно вокруг этого вокзала.
— Это невозможно!
Но оказалось, что в условиях войны и голода людоедство возможно. Через несколько лет после этого мы были уже в другом месте, но прочли в немецких газетах, что полиция с большим запозданием установила: около Штеттинского вокзала был притон, где из молодых девушек изготовляли сосиски.
* * *
В Берлине было однажды собрание, где были почти одни русские эмигранты. Мы с интересом слушали ораторов, прибывших из Советской России. В те времена советская власть не была так жестока, и этих людей просто выслали. В их числе был профессор Ильин. Он говорил очень интересно, но содержание его речи я не помню. Потом выступал профессор Бердяев, философ. Тоже не помню его речи. Но помню его язык. Он страдал какой-то нервной болезнью — его язык вдруг выскакивал наружу. Это было очень неприятно. Он рукою вправлял его обратно в рот и продолжал речь.
Затем говорил еврей Бикерман. Его выступление я отлично помню:
— Говорят много о еврейских погромах в России. Да, погромы были, и это ужасно. Но как могли они не быть после того, что произошло. Уничтожили династию, уничтожили дворянство, уничтожили духовенство, купечество и промышленный класс. Принялись за зажиточных крестьян, прозванных кулаками. На очереди середняки, а бедняков загоняют в колхозы. Примите во внимание, что все эти категории были по преимуществу русские, а евреев в них не было. Каким же образом одни евреи могли избежать погромов после того, как совершился один великий русский погром…
Быть может, впервые еврей сказал такие слова. Его речь произвела громадное впечатление на слушателей.
* * *
Мне помнится, но я не уверен, что в это время Высший Монархический Совет
10, состоявший из Маркова, бывшего члена Государственной Думы, Ольденбурга-сына (отец остался в Советском Союзе), кажется, Ефимовского и еще кого-то, существовал в Берлине. Кажется, они издавали какую-то газету. Им предложили какую-то мутную, то есть неизвестно откуда происходящую субсидию. Я узнал об этом еще в Чехии от Яши и от кого она происходит. И предложил им следующее: не отказываться от субсидии, но одновременно положить в сейф документ с соответствующими подписями о том, что, зная, откуда деньги, они употребляют их на цели, ими преследуемые. Но субсидия не поступила, а потому в сейф не был положен документ.
Вообще же Высший Монархический Совет был предприятием дутым. Он имел мало влияния на монархистов, которых было немало в эмиграции. Более того, было известно, что Марков ведет интригу против Врангеля, приписывая ему бонапартистские мечты. Это был вздор. Но верно было то, что если бы Петру Николаевичу предложили престол, он не отказался бы. Я же думал о том, что Врангели прибыли на балтийские берега в двенадцатом веке и что они ничем не были хуже Рюрика, Синеуса и Трувора.
Врангель ни в коем случае не добивался престола, ибо это было бы смешно. Но если бы смешное произошло, то он рассмеялся бы и постарался переплавить смешное в серьезное. Поэтому интриги Маркова были пустопорожние, а поскольку они колебали престиж Врангеля, объединявшего все русское воинство за границей, то они были еще и вредными. Вся жизнь Маркова была такой. Он поддерживал монархию как идею и в то же время разъединял монархистов, носителей этой идеи…
* * *
В то время, как я жил в Германии, в Берлине появилась так называемая «младшая дочь» императора Николая II «Анастасия Николаевна». Я об этом тогда не знал, но много лет спустя я оказался в одной камере Владимирской тюрьмы с полковником Бессоновым, и вот что он мне рассказал:
— Была ли эта дама действительно дочерью императора, осталось неизвестно, но вот что я о ней знаю. В Варшаве к тогдашнему польскому правительству обратился один венгр, который поведал примерно следующее. Несколько лет назад он встретился с одной русской дамой, находившейся в бедственном положении. Он женился на ней, и все было благополучно до последнего времени. Но теперь она сошла с ума и утверждает, что является младшей дочерью русского императора. Он не знал, что ему делать. Польское правительство не захотело возиться с этой претенденткой и поспешило отправить ее в Берлин. В Берлине же к ней отнеслись иначе и поспешили из Парижа пригласить родную сестру императора великую княгиню Ксению Александровну. Она приехала и долго беседовала с «Анастасией Николаевной» наедине и затем сказала следующее: «Она знает такие вещи, которые могла знать только дочь царя. Но вместе с тем она не знает языков, а все дочери царя говорили по-английски, немецки и французски».
— Но, — прибавил Бессонов, — врачи-психиатры будто бы сказали, что подобное бывает. При наличии психических потрясений может выпасть из памяти все наносное, а основное остается. Так как основным для младшей дочери Николая II был все-таки русский язык, то она его и сохранила.
* * *
Затем надвинулся 1923 год. В Биркенвердер неожиданно приехал «Око». Он был когда-то моим подчиненным по «Азбуке» и носил такой псевдоним. Полковник Петр Титыч Самохвалов (а это был он) сообщил мне сенсационную новость: меня приглашают к генералу фон Лампе, который был представителем Врангеля в Берлине. И тоже был когда-то в «Азбуке» под шифром «Люди», и работал вместе со мною затем в газете «Россия»
11, издававшейся в Екатеринодаре. Он сохранил со мною наилучшие отношения. И еще сообщил мне «Око»: сейчас находится в Берлине генерал Климович, в прошлом начальник жандармов, ныне состоящий при Врангеле в Югославии. Я немедленно отправился в Берлин.
У Лампе нас оказалось четверо: сам фон Лампе, Климович, сенатор Чебышев и я. «Око» не присутствовал на этом заседании. Фон Лампе объяснил, почему он пригласил нас:
— Я жду «человека оттуда».
«Человек оттуда» появился точно, и это было для него характерно. Это был Александр Александрович Якушев, в прошлом действительный статский советник, инженер, специалист по внутренним водным сообщениям. Свой доклад он начал примерно так:
— Разумеется, вы не обязаны мне верить. Но все же, думаю, вам будет интересно меня выслушать. Не думайте, что Россия умерла под советской властью. Она живет, она мыслит, она страдает, но не пассивно — она борется. Я стою во главе организации, носящей условную кличку «Трест». Тресты у нас вообще в моде. Особенно популярен так называемый ТэЖэ, то есть трест жировой, под которым скрывается высокосортное мыло, всякие дамские ухищрения, в том числе пудра «Коти» из Парижа. Эта пудра получается контрабандой, а еще контрабандисты любят фальшивые зубы, товар ценный и легкий. Но мы трест без спецификации. Это подпольная организация, сильная и смелая. Естественно, что вас прежде всего интересует, какова наша программа. Очень простая. По аграрному вопросу для крестьян синяя бумажка, то есть купчая или данная на землю. Это все, что надо мужикам — они хотят быть законными собственниками той земли, которую они получили незаконно. Мы уверены, что при укреплении мелкой частной собственности земледелие процветет, а с ним процветет и Россия, ибо земля — ее основа. Ну, конечно, мы будем поддерживать промышленность, особенно казенную, приспосабливая ее, главным образом, к нуждам земледелия. А что же мы хотим дать интеллигенции? Немножко свобод: печати, союзов, собраний и так далее. Немножко, потому что много свободы приносит вред, как мы узнали это из практики Государственных Дум. А как мы мыслим себе будущую власть? Во-первых, приход ее не должен быть в форме революции, а в форме дворцового переворота и без кровавых жестокостей. Когда этот переворот произойдет, мы хотели бы поставить единоличного, крепкого и популярного Верховного Правителя. Он напрашивается сам собой. Прошло еще немного времени после окончания войны, и каждый бывший солдат русской армии помнит имя главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Его мы видим Верховным Правителем. Вот и все.
Если вы хотели бы проверить мои слова, то я приглашаю кого-нибудь из вас или других лиц, известных в эмиграции, тайно посетить Советскую Россию. Я не могу обещать полную безопасность. Это все же будет опасно. Но для наших гостей мы сделаем все возможное, а мы кое-что можем.
На этом Якушев кончил. Насколько я помню, никаких вопросов ему задано не было. Говорил он уверенно, с манерами человека, который знает себе цену.
Лампе поблагодарил его, и Якушев ушел. После его ухода мы высказались. Трое из нас — Лампе, Климович и я — выразили доверие Якушеву. А сенатор Чебышев сказал:
— Провокатор.
Кто же из нас четверых был прав? Все. Якушев, по моему убеждению, когда он посетил нас в Берлине, не был провокатором. Но, возвратившись в Москву, он им стал. Как это случилось? Я расскажу.
* * *
Прежде чем говорить о Якушеве-провокаторе, займемся его «программой».
Синяя бумажка. Уже в Государственной Думе второго созыва, в 1907 году, из краткой речи волынского хлебороба с кафедры показалась синяя бумажка. Он сказал:
— Земля нам нужна, что и говорить. Но мы не хотим никому делать кривду.
В осуждение «кривды» и была синяя бумажка. Получить землю захватом, насильно — это значило сделать «кривду» кому-то. Без «кривды» получить землю — значило иметь в руках законный документ, купчую или данную. Это и была якушевская синяя бумажка.
И позже, когда я, откликнувшись на приглашение Якушева и готовясь нырнуть в Советскую Россию, зарастал бородой на Волыни, ко мне явились крестьяне из моих соседей по имению. Они ничего не знали, что я собираюсь предпринять, и разыскали меня для своих личных дел. Они хотели купить у меня некоторый сенокос. Это значило, что они хотели иметь в руках синюю бумажку, законный документ. Я сказал им, что как только смогу приготовить «синюю» бумажку, я им эти сенокосы продам. По окончании разговоров о сенокосах эти бывшие солдаты русской армии спросили:
— Дозвольте узнать, государь император жив?
— Нет.
— А великий князь Николай Николаевич?
— Да.
Они поклонились, видимо обрадованные. Это был ответ на второе утверждение будущего провокатора Якушева:
— Нет такого русского солдата, который бы не помнил имя главнокомандующего великого князя Николая Николаевича.
* * *
Начнем с того, как образовался «Трест». Существовала в одной из столиц особа четвертого класса, его превосходительство Александр Александрович Якушев. Он имел узкую специальность — внутренние водные пути сообщения. Я не знаю, входило ли в эти пути сообщения то, что на них выросло позже, т. е. разные ГЭС. Быть может. Перед началом Первой мировой войны Государственная Дума ассигновала тридцать миллионов золотом на использование днепровских порогов дота грандиозной гидроэлектростанции. Война помешала осуществлению проекта. Быть может, в этом деле принимал участие Якушев. Во всяком случае, у него были широкие планы.
Именно об этих планах узнал Троцкий (Бронштейн). Сейчас все знают, кем был Троцкий, но в будущем о нем могут забыть или совершенно исказить его фигуру.
Троцкий был ближайшим сподвижником Ленина, в качестве какового обладал большой властью. Он был крайний честолюбец. Я знал его сотоварища по херсонской гимназии, которую окончил и молодой Бронштейн. И он мне говорил:
— Троцкий жил под знаком чрезвычайного властолюбия. Мы тогда этого не понимали. Но мы понимали, что он желал быть всегда и всюду первым. Быть первым — вот Троцкий.
Поэтому, хотя Троцкий был сподвижником Ленина и в случае необходимости ему подчинялся, но, конечно, и в этом положении он мечтал быть первым, то есть отодвинуть Ленина на второй план. Посланный в Брест, он отказался подписать Брестский мир и подписал его только по категорическому требованию Ленина.
Троцкий, как известно, выдвинул теорию: нельзя делать революцию только в одной стране, ее необходимо делать разом во всем мире. Почему? Потому что революция временно ослабляет всякую страну. И вот получилось бы невыгодное неравенство — ослабленная революцией Россия и сильные западные державы, избежавшие революции. Поэтому Троцкий не делал революцию в России после того, как Октябрьская революция дала в его руки часть власти. Он перешел на путь эволюции. Тогда-то, не знаю, при каких обстоятельствах, он высмотрел Якушева и пригласил его к себе.
Но Якушев не признавал советскую власть и проигнорировал приглашение Троцкого. Последний возобновил приглашение, и Якушева привели под конвоем. Троцкий встретил его с отменной любезностью и угостил сытным обедом, что было лучше всякой любезности. После обеда хозяин сказал гостю:
— Александр Александрович, мы прекрасно знаем, кто Вы такой. Вы русский националист.
Якушев согласился с этим.
— Так вот, мы от Вас ничего больше не желаем, оставайтесь тем, кем Вы являетесь по убеждению. Прежней русской власти нет, но Россия осталась. И теперь мы управляем ею. Наша точка зрения такая: все, что полезно России, выгодно нам, потому что нам нужна сильная Россия, сильная во всех направлениях. И даже на узком фронте внутренних водных сообщений. Наверное, у Вас были широкие планы на этом узком фронте. И вы их представляли царскому правительству. Но вам отвечали: это очень хорошо, но это не срочно, и у нас на это денег нет.
Якушев подтвердил, что, действительно, так бывало.
— Так вот, Александр Александрович, как мы ни бедны сейчас, а на осуществление ваших планов у нас деньги найдутся. Работайте.
Так Троцкий, о котором впоследствии Якушев говорил: «умная жидюга», поддел Якушева на крючочек, играя на его любви к своей специальности.
Словом, Якушев согласился и стал работать. Работал он, видимо, хорошо и энергично, потому что его послали за границу посмотреть, что там делается по его специальности. Когда он вернулся, его арестовали, предъявив ему некоторые обвинения.
И тогда Якушева сломали. Он согласился служить чекистам, однако с некоторым условием. Он будет работать против иностранцев и русской эмиграции, которая его подвела. Против же советских граждан он работать не будет.
* * *
Тем временем Мария Дмитриевна поехала в Югославию для свидания с отцом и братом. Я остался один в Биркенвердере. Вокруг городка раскинулись преимущественно сосновые леса, в которых паслось много диких коз. Охота на них была строго запрещена. Леса содержались в образцовом порядке, к тому же посаженный лес отличается стройностью рядов.
Где-то в этой местной глуши жила прачка, у которой были мои рубашки. Я пошел искать ее и, наконец, набрел на какую-то избушку, но в ней никого не оказалось. Вдруг, откуда ни возьмись, на меня набросились три огромных пса. Я схватился руками за ограду, а ногами отпихивал псов, что их раздражало еще больше. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы вдруг не появилась прачка. Но рубашки еще не были готовы, и она мне их потом досылала уже во Францию.
Глава VI
ПАРИЖ
То обстоятельство, что я не получил свои рубашки, не удержало меня в Германии. Мне тут нечего было делать. Я решил ехать в Париж, куда меня звал Маклаков. Но чтобы уехать во Францию, надобна была помощь бывшего Клименко. Тогда из Германии выпускали только тех, кто заплатил все налоги. Опять же эти налоги становились невозможно высокими. Клименко помог сократить их до разумных пределов, и я получил желтую бумажку, то есть разрешение на выезд.
Но тут возникали еще и другие затруднения. Западная часть Германии была тогда оккупирована французами. Переход был около Франкфурта-на-Майне. Я поселился там и жил довольно долго в области, еще не занятой французами. Забыл название этого городка. Кругом были прекрасные дубовые леса, а в городе — минеральные ключи, и я с наслаждением принимал ванны. Там я тоже что-то писал на отвратительной пишущей машинке, которую купил по дешевке в Берлине за шестнадцать долларов. У нее скоро стали отваливаться буквы с рычажков. Я привязывал их нитками, они опять срывались. Чистое мучение. Впоследствии, уже в Париже, я оставил ее у Маклакова, в русском посольстве, где ее и украли. Маклаков написал мне письмо, предлагая заплатить. Я ответил отказом и приписал: «Я нежно благодарен Вам и вору за то, что Вы избавили меня от этой дряни». Тут только я понял смысл насмешливой английской поговорки: «Made in Germany», что было равносильно понятию «дешевая дрянь».
* * *
Я купил билет третьего класса в Париж за полмиллиона немецких марок, что составляло всего лишь несколько долларов. Но предстояло еще пройти французскую зону. Через зональную границу поезда не ходили. Поперек шоссейной дороги стоял столик, за ним — французский офицер. Я объяснил ему, что я русский эмигрант, что меня пригласил «Малаков» (фамилию Маклакова французы переделали на знакомый им Малахов курган в Севастополе), посол бывшей России в Париже. Он пропустил меня.
Далее никаких затруднений не было. Из французской зоны поезд прямо доставил меня во Францию, в Париж.
И вот я в Париже. Такси. Я сказал шоферу:
— Six rue Grenelle.
Шофер мне ответил по-русски:
— К Маклакову, значит.
В Париже было множество шоферов из русских офицеров. Впоследствии я ставил в вину русским офицерам-таксистам, что они не помогли Кутепову. В то время посольство было уже в руках советской власти и можно было предположить, что сразу же после похищения Кутепов был препровожден в посольство на улицу Гренель. Но эта улочка очень узкая и короткая. Ее можно было совершенно забаррикадировать с двух сторон машинами, ворваться в посольство и освободить Кутепова. План фантастический, наверное, уже потому, что невозможно было ни сговориться, ни объединиться заранее для этой цели.
* * *
Маклаков принял меня в высшей степени радушно, так же как и его сестра Мария Алексеевна. Она была чрезвычайно энергичной женщиной. Содержала русскую гимназию в Париже не на средства посольства, а на суммы, собираемые благотворительными спектаклями. В качестве жены посла (так о ней думали) ее принимали всюду, она развозила лично билеты и выцыганивала деньги.
Мои средства временно кончились. Она занялась моей судьбой. Сначала предложила мне стать натурщиком, так как, по ее мнению, я был хорошо сложен. Я сказал:
— Мария Алексеевна, в Париже плохо топят, стоять же часами голым я не могу.
И пошел устраиваться сам, прочтя в газетах, что какая-то кинематографическая студия приглашает статистов. Меня приняла француженка, которая задала несколько вопросов.
— Вы ездите верхом?
— Да.
— На байдарке?
— Да.
— И под парусом?
— Безусловно.
— Ездите на бициклете?
— Да.
— Можете управлять воланом?
— Нет.
— Умеете плавать?
— Да.
— Бокс?
— Нет.
— На каких языках говорите, кроме французского?
— Немецком и русском, немного на польском и чешском.
— Хорошо. Знаете что, статистом… Это вас не устроит — мы платим очень мало. Через некоторое время вы бы могли стать начинающим артистом. Для этого надо пройти краткосрочную школу.
Я спросил:
— Что будет стоить курс обучения?
— Сто франков.
Сто франков были всего лишь четыре доллара. Но как раз их у меня не было. Поэтому я сказал:
— Благодарю вас, я подумаю.
* * *
Мария Алексеевна очень потешалась над моим визитом в студию и добавила:
— Я приготовила для вас нечто, что действительно вас устроит. Знаете ли вы, что приехала московская студия МХАТ’а? Среди других Станиславский и Книппер. И они будут завтра утром завтракать у нас.
— Думаете ли вы, что я могу сразу же затмить Станиславского?
— Нет, ваша слава другая, но кроме того, на этом завтраке будет присутствовать одна дама, француженка. Ей сорок лет. Будет и ее двадцатилетняя дочь. Вы увидите, что на дочь никто не обратит внимания. Но ее мать — это львица Парижа. Из-за нее стреляются на дуэли и кончают самоубийством.
— Значит, вы хотите, чтобы я покончил с собой?
— Нет, вы расцветете новым цветом, если только сумеете ей понравиться.
— Но почему я должен обязательно ей нравиться?
— У этой дамы цветочное заведение. Вы понимаете что-нибудь в цветоводстве?
— Понимаю, то есть я умел выбирать садовника и у меня были хорошие цветы.
— Садовнику вы платили, а здесь будут платить вам, когда вы кончите восьмимесячный курс обучения у этой красавицы и получите диплом, обеспечивающий вам место в любой части Франции.
Я сказал:
— Дело безнадежное. Я не умею нравиться львицам, да еще сорокалетним.
— Вы ничего не понимаете, в Париже женщина начинается с сорока лет.
— Хорошо, я попробую.
Завтрак состоялся. Обаятельный Станиславский с седой головой и почти старушка Книппер, такое первое впечатление произвела тогда она на меня. Она молчала, Станиславский говорил с Маклаковым. Мария Алексеевна делала мне «рыбий глаз», указывая на парижскую львицу, которую она посадила рядом со мною. Разговор за столом, конечно, шел о театре. В это время все француженки помешались на том, чтобы увидеть московских художников. В том числе и львица.
Вдруг она заговорила, смотря на Марию Алексеевну:
— Но ведь я ничего не пойму. Кто мне будет переводить?
И обращаясь ко мне:
— Вы не могли бы?
«Рыбий глаз» говорил: рыбка сама идет к вам в руки. А я, быстрый разумом Ньютон, подумал: «Фрак — тысяча франков, пальто, обувь — пятьсот, автомобиль (не повезешь же ее на обыкновенном такси), конфеты, цветы в ложу… и, наконец, ужин. Итого две тысячи франков. Откуда я их возьму?».
И я представился, что не понял ее. Она страшно обиделась, моя цветочная карьера рухнула. Мария Алексеевна бранила меня, но я сказал:
— Мария Алексеевна, не гневайтесь. Вы же не можете дать мне две тысячи франков.
— Не могу, но вы ребенок, что ли? Неужели не знаете, что делают в таких случаях?
— Представьте себе, не знаю.
— Не знаете?! Врут! Вы должны были сказать, что вы в восторге, что вы даже не ожидали такого счастья. И затем написать ей записку, что вы заболели.
Словом, я не попал в театр и погубил карьеру садовника.
* * *
Я все же попал в театр на другой спектакль. Но не в ложу ко львице, а в ложу, где было четыре молодых шофера, бывших русских офицеров. Шла какая-то печальная пьеса Чехова, играли серенаду Брага на виолончели и, словом, отчаяние было на сцене. А в ложе с офицерами было возмущение.
— Чего ему недостает? Имеет чудную жену (Книппер, которая на сцене казалась гораздо моложе), прекрасное имение и уютный дом, чудесный сад… С жиру бесится. На завод его, к Ситроену! За руль, ночным шофером!
И они были правы. Жизнь их научила. Ведь я не потому отказался от красотки-львицы, что бешусь от жиру, а потому, что на мне полосатый нелепый костюмчик, в котором нельзя ходить в театр…
* * *
Находясь в Париже, я, конечно, кое-что осматривал. Большинство парижских улиц скучны. Они представляют собою ряд двух- и трехэтажных домов с окнами, вечно закрытыми жалюзи. Остальная же часть, безусловно изобилует красотами. Нотр Дам де Пари испорчена тем, что она недостроена. На ней должны были быть две высоких башни на манер Кёльнского собора над Рейном. Но искупают эту недоделку химеры и главная приманка — Мыслитель. Более тонкого черепа нельзя себе представить. Но я, кажется, начинаю повторять уже бесчисленное количество раз сказанное до меня.
Поведаю о том, что нерассказуемо и ново — Эйфелева башня. Конечно, скандал для французов, что ее построил немец, но одновременно и поучительно. «Дух реет идеже хосщет». Есть нечто в этой башне, чего, вероятно, не знал и сам ее создатель. Это открыл я, дилетант в музыке, но одновременно и фантаст. Она, музыка, звучит. Она во все стороны на сотни километров посылает аккорд: «до-ми-соль-ми-и-и-и», причем «ми»
высокое.
Моя фантазия покоится на точном основании: «до-ми» — мажорная терция, «ми-соль» — минорная, а «соль-высокое ми» — секста. Эта секста и дает поразительный и неожиданный взлет этой башни. Если Нотр Дам недостроена, то Эйфелева башня перестроена. Но именно оттуда получаются эти интервалы. Они диктуются ярусами: от земли до первого яруса — расстояние, соответствующее мажорной терции, от первого яруса до второго — минорной терции и от второго яруса до вершины — сексте. Подойдите к роялю и проверьте. Не поняли? Дело ваше.
На первом ярусе ресторан. Мы на нем не останавливались. На втором — в мое время ничего не было. Его мы тоже проехали мимо и оказались на самой вершине. И вот что меня поразило: она дрожит, она качается.
Мы поднялись туда с Василием Алексеевичем Маклаковым. Подъем стоил десять франков с человека. В этот день мы были одни, и можно было ощутить все, что дает высота в триста метров. Если бы не кривизна земли, то отсюда, говорят, была бы видна вся Франция…
* * *
Мария Алексеевна Маклакова была умной женщиной, но иногда ей на ум приходили странные мысли.
— Одна интересная русская дама и я, дама неинтересная, приглашаем вас на ужин. Меню: шампанское и лягушки.
— Ой! — простонал я.
— Не ужасайтесь раньше времени, ведь вы их не пробовали, у них вкус цыпленка.
Дама была совсем неинтересной, а Мария Алексеевна гораздо интереснее. Шампанское как шампанское, лягушки действительно напоминали цыпленка, но я их ел с отвращением.
При возвращении в автомобиле дама, немножко пьяная, сказала шепотом Маклаковой по-французски, но я слышал:
— Il ne me donne pas sur la peau
[45].
Значит, тут была взаимная нелюбовь. Я же был жестоко наказан. Быть может, потому, что не понравился даме? Нет, лягушке.
Я мучился всю ночь от нестерпимой рвоты. Хорошо, что у меня была не только отдельная комната, но и отдельный туалет. Из этого я вывел полезное заключение, что я не аист. «Ciconiae amant ranas» — «Аисты любят лягушек». Это было первым, что мы изучали, приступив к латыни. Жалко. Аист священная птица.
Василий Алексеевич Маклаков
Василий Алексеевич Маклаков осенью семнадцатого года, перед «Великим Октябрем», был назначен Временным Правительством послом в Париж. Одновременно Стахович был назначен послом в Испанию. Что касается Маклакова, то нельзя было сделать лучшего выбора. Он владел французским языком как своим родным русским. И это даже странно. Обыкновенно так владели французским языком аристократы. А Василий Алексеевич от слова «маклак», сам говорил о себе: «Я шантрапа».
Кроме того, он был тонко умен, веселый, очень обаятельный, остроумный и блистательный собеседник. А главное — прекрасный оратор. В Государственной Думе его называли Златоустом и Сиреной. Когда он говорил, человеку, совершенно с ним несогласному, хотелось согласиться с Василием Алексеевичем. В этом отношении он был полная противоположность Маркову 2-му. Когда говорил последний, иногда даже мне не хотелось с ним согласиться. Но иногда он все же говорил умные вещи. Однажды, выступая с думской трибуны, Марков 2-й сказал, обращаясь к Маклакову:
— Вы, Василий Алексеевич Маклаков, думаете, что российский поезд, который мчится на всех парах, остановится на станции Конституция. Но вы ошибаетесь, дорогой Василий Алексеевич. Поезд проскочит станцию Конституция, он домчится до станции Революция. И там разобьется о тупик.
На этот раз я не мог с ним не согласиться.
* * *
Маклаков кончил два факультета, кажется, юридический и филологический. Но это было неважно. Его эрудиция была шире. В Государственной Думе он был в партии К.-Д.
12, причем на правом фланге ее фракции. Милюков же на ее левом фланге. Между ними происходила всегда борьба.
Маклаков был умнее, но Милюков прилежнее и упрямее. И именно он руководил кадетами в Думе. Если развернуть буквы К.-Д., то это значит «Конституционно-демократическая партия», «кадеты». Маклаков был искренно за конституцию. Милюков старался опираться на демократию. Но на какую демократию? Все же в пределах закона. Милюков не был революционером, но очень часто им помогал, не понимая того, что он делает. Кончилось тем, что, когда император отрекся, а его брат Михаил Александрович колебался, принять ли ему престол, Милюков умолял его принять. Он говорил:
— Монархия есть ось России. Если не станет монархии, не будет России.
С великим опозданием он это понял.
* * *
Но я говорю о Маклакове. Он был человек общительный и охотно беседовал с членами других партий. Он всегда был за смягчение политических нравов, за терпимость. Мне помнится нечто, что, может быть, никто больше не знает, так как Маклаков умер.
Бывало в Думе то, что называлось «большие дни», а бывали и «вздорные дни». Этот день, о котором я вспоминаю, был именно такой. Скандалил Пуришкевич, грубиянил Марков 2-й. Это справа. Слева сипло хрипел Булат и другие. Я вышел из зала заседаний — мне было противно. Я ходил по Екатерининскому залу, где не было никого. Балаган привлекает людей и даже увлекает некоторых.
В это время из зала заседаний вышел Маклаков и, войдя в Екатерининский зал, ругнулся:
— Кабак!
Потом, увидев меня, подошел и сказал:
— Знаете ли вы средство, чтобы прекратить этот цирк, облагородить, поднять нас и объединить?
Я ответил:
— Нет, не знаю.
После этого мы оба ходили по залу молча. Наконец, он остановился и, убедившись, что никого больше нет, сказал:
— А я знаю.
И, сделав еще паузу, произнес совершенно тихо:
— Война с Германией.
В это время скандал в зале заседаний кончился, потому что наступил перерыв. Депутаты заполнили Екатерининский зал, иные курили, многие разговаривали, третьих обступили корреспонденты. Словом, обычная жизнь кулуаров. Между колонн собралась кучка депутатов около Маркова 2-го. Он, возвышаясь над головами, о чем-то ораторствовал. Мы с Маклаковым подошли и прислушались. Марков говорил о масонах. Он разоблачал их проделки, правильно или нет, не знаю, и называл некоторых масонов по именам. Затем сделал паузу. Маклаков, воспользовавшись ею, сказал:
— Этак вы, Николай Евгеньевич, и меня причислите к масонам.
Марков немедленно ответил, правда, спокойно на этот раз и очень вежливо:
— Да, Василий Алексеевич. Вы масон.
И после паузы добавил:
— И очень высокой степени.
Маклаков рассмеялся, как бы доказывая, что это утверждение достойно смеха, но ничего не возразил.
Я не обратил внимания на то, что Марков сказал Маклакову. И даже позже написал где-то: «Мне до сих пор не удалось ухватить даже кончика хвоста какого-нибудь масона». Потом я ухватил, но не только за кончик хвоста, а, пожалуй, даже за ошейник.
В описываемые дни на меня произвело большое впечатление, что Маклаков, умный и миролюбивый, желает войны. Это совсем не сходилось с моими мыслями. Я очень ценил длительный мир России с Германией. Кроме того, я ценил то, чем некоторые возмущались, — роль немцев в России. Этому меня научил 1905 год. Все немцы стояли за порядок, и тогда сложилась удивительная поговорка: «Последние русские — немцы».
* * *
Проиграв войну с Японией и в борьбе со всякими разрушительными элементами, многочисленными примерами безумия, русская власть очень ослабла. Помню один пример. Петербургское Телеграфное Агентство прислало одновременно две телеграммы. Первая: «На Кавказе восстали и отделились Озургеты
13». Они отделились от России, население которой составляло в 1905 году более 130 миллионов человек. Вторая телеграмма была еще удивительнее: «Младшие танцовщицы императорских театров в Санкт-Петербурге объявили забастовку, предъявив политические и экономические требования».
* * *
В это время Вильгельм II мог свободно напасть на Россию. Он этого не сделал и никогда этого не забывал. И чувства его по отношению к России, так сказать, раздражились, когда никакого знака благодарности ему не было выражено.
Правда, когда Вильгельм II прибыл в русские воды, то на русском корабле состоялся обмен мыслями между Вилли и Ники. Императоры были на «ты». В результате Россия аннулировала свои договоры с Англией и Францией и заключила договор с Германией. Германский император отбыл на своем корабле и прислал по радио телеграмму: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого океана». Русский император ответил: «Счастливого пути».
Когда телеграмма Вильгельма II была прочтена в Лондоне, война с Германией в принципе была решена.
Но прошло короткое время, и русский император отменил соглашение с Германией и возобновил союз с Францией и Англией. Можно себе представить чувства Вильгельма II, человека крайне несдержанного.
При всех этих условиях мысль желать войны с Германией казалась мне безумием. Но когда война разразилась, Россия, ничего не понявшая, преобразилась. «Кабак» прекратился. Мы поднялись, облагородились и объединились.
В Зимнем дворце толпа депутатов, в том числе и кадеты, окружила царя вплотную и кричала:
— Веди нас, Государь!
Маклаков оказался пророком.
Но я, увы, тогда не загорелся всеобщим энтузиазмом. Я остался холоден и печален. И вместо того, чтобы писать барабанные статьи в «Киевлянине», я поехал на фронт и поступил в 166-й пехотный Ровненский полк. На следующий день был ранен, два месяца лечился, затем по приказанию генерала Радко-Дмитриева был прикомандирован к ЮЗОЗО (Юго-Западному объединению земских организаций)
14, где и работал девять месяцев, пока не была созвана Государственная Дума.
И я убедился, что война с Германией, как предвидел Маклаков, оказалась допингом для России, но на короткий срок. Через год энтузиазм спал — война оказалась крайне тяжелой. Ее необходимо было кончать победоносно, что было очень трудно, и во весь рост встал вопрос: зачем масоны хотели войны?
* * *
Тем с большим интересом я принял приглашение Маклакова погостить у него в посольстве, то есть рассмотреть вблизи масона высшей степени.
Маклаков, или, как его здесь называли французы, Малаков, в Париже и Маклаков в Санкт-Петербурге. Совсем разные люди. «Что город, то норов, что деревня, то обычай». Видел я Маклакова и в деревне после августовского совещания в 1917 году, на котором он сказал, говорят, превосходную речь, но я ее проспал. Мне нужно было уснуть непременно, потому что после него была моя очередь говорить. Выступали подряд Родзянко, Маклаков и я. Массированный удар членов Государственной Думы. Об этом писал в газете Алексей Николаевич Толстой примерно так: три мастера слова, выразительные речи и еще более выразительная недоконченность жестов, изящество. И еще что-то в этом роде.
Маклаков был сыном врача. Должно быть, его отец приобрел имение. Небольшое, в 25-ти верстах
15 от Москвы. Я поехал в это имение по приглашению Василия Алексеевича. Двухэтажный деревянный дом среди старых елей. Конечно, это не было «дворянское гнездо», но разве только у дворян бывают гнезда? Гнезд не имеет только кукушка. Но Мария Алексеевна, которую я тогда впервые увидел, не была кукушкой. Наоборот, она была его семья. У них был брат. Но он был министром внутренних дел и совершенно разошелся в политических взглядах с Василием Алексеевичем.
О внутреннем убранстве маклаковского дома нечего писать. Потертый кожаный диван, самовар. И все же Маклаков тут произвел на меня такое впечатление, что он хотел бы стать настоящим помещиком. Ему будет тяжело расстаться с этим домом. Впрочем, у него остается Мария Алексеевна, которая сделает ему другое гнездо в Париже.
Но почему же Маклаков пригласил тогда меня одного в деревню? И почему я приехал? Двадцать пять верст туда, столько же обратно. На извозчике шесть часов пути. Сейчас за это время я долетел бы уже до середины Атлантического океана. Это значит, что какое-то сближение у меня с Маклаковым произошло. Но как оно могло произойти? Он хотел войны с Германией, а я ее считал гибельной. Но за это время Маклаков кое-чему научился.
Я иногда думаю, что если бы тотчас же после Столыпина назначили бы премьер-министром Василия Алексеевича, то могло ли это помочь? Нет, этого не могло быть. Но если бы все-таки было? Опять нет.
Настоящий правитель должен соединять в своем лице трех человек: первого, кто говорит, второго, кто действует, третьего, кто думает. На первую роль лучше Маклакова нельзя было найти. Ведь он «златоуст», «сирена». На вторую роль он был бы плох — у него не было властности. А думать? Думать он мог. Он задумал войну с Германией и ее накликал. И притом именно так, как он этого хотел, то есть эта война вызвала подъем России. Но эта дума была накоротке. Через год подъем кончился, и тогда Маклаков кое-что понял.
* * *
Когда во время Первой мировой войны французские министры приехали в Петербург, то, кроме деловых и совершенно секретных переговоров, был устроен публичный банкет, на котором присутствовало восемьсот человек. Весь Государственный Совет, вся Государственная Дума (за малым исключением), послы иностранных держав, русское правительство. Были официальные скучные тосты. Потом Шаляпин под два рояля пел «Марсельезу». Я знал от Маклакова, который был близок к Шаляпину, что он совсем не знает французского языка. И все же он пел французам по-французски как француз. Быть может, его основательно научил Маклаков. Но чтобы так усвоить в короткое время незнакомую речь, для этого надо было иметь способности Шаляпина.
Когда он кончил, сидевший со мною рядом французский полковник (министры привезли с собою целую свиту специалистов) сказал:
— Только сейчас я понял, что такое наша «Марсельеза».
Что касается ораторов, то было решено, что говорить будет только один Маклаков. Его выбрали потому, что он был «златоуст», а еще более потому, что он говорил по-французски так же свободно, как по-русски. И в-третьих, потому, что он имел что сказать. Надо принять во внимание, что энтузиазм пропал и барабанных речей не надо было.
Речь Маклакова не была длинной. Но все же длиннее, чем я ее помню. Я запомнил только самую сущность. Примерно так:
— В начале войны во Франции был убит видный деятель Жорес, который высказался против войны. Он был искренний антимилитарист и погиб за свои убеждения. И все же я рискую повторить здесь, что я тоже антимилитарист. Но вместе с тем я за войну. Как же это возможно совместить? Возможно. Я за эту войну, потому что я верю, что эта война последняя, что мы воюем с войной и ни с чем другим. Мы воюем не с Германией, а с очагом милитаризма во всем мире. И потому я могу быть за войну, не отрекаясь от своих самых светлых убеждений…
Речь эта имела громадный успех. Это был новый подъем, потому что тяжелой войне, цель которой начинала ускользать, было поставлено иное назначение, еще никогда не бывалое.
Маклаков сказал эту речь с удивительным воодушевлением. Так он никогда не говорил в Государственной Думе. Для «златоуста» это была лебединая песня, последняя.
И я много понял в Маклакове. Давно ли он говорил мне, хотя бы с глазу на глаз, о войне с Германией как единственном средстве прекратить «кабак». Теперь он говорит, что с Германией не воюет, и впервые тогда я подумал, что если он масон, то масон самой высокой степени.
Что это значит — «масон самой высокой степени». Это значит, что он с немногими другими руководит масонами. Познав Маклакова, можно узнать, что такое современное масонство.
* * *
В Париже, где я прожил у него в посольстве целый месяц, он никогда не говорил мне, что он масон. А я, конечно, его не спрашивал. Если бы я спросил, он усомнился бы в моей способности понимать некоторые вещи. Но он много говорил мне о масонстве. И рисовал мне современных масонов в следующем освещении.
Масонство в настоящее время есть не более, но и не менее, как широкий союз взаимопомощи. Все масоны считаются братьями. Когда они собираются на своих собраниях, то говорят друг другу «ты». При такой постановке дела маленький масон, занимающий скромную должность, может обратиться на «ты» к своему «брату», могущественному министру, с просьбой дать ему должность повыше…
Пожив во Франции, я познакомился в глубокой провинции с одним таким маленьким чиновником, заведовавшим почтой. Я с ним разговорился. Без всяких расспросов он стал мне жаловаться: он-де получает четыреста франков в месяц, и это очень мало. Я ему посочувствовал, хотя четыреста франков получали многие. При этом он прибавил:
— Они мне предлагают стать масоном. Тогда я сейчас же получу повышение. Но мне что-то не хочется делать это.
…Идея взаимной помощи не ограничивается каким-нибудь скромным предложением. Масоны мыслят и в международных масштабах. Здесь дело значительно сложнее. Масонам не разрешается быть патриотами своей родины по принадлежности. Во время войн они не могут идти на войну и воодушевлять массы. Но они всегда помнят, что всякая война должна кончиться миром. Вот при заключении мира масоны, в противовес немасонам, прекращают вражду к другим нациям, державам. И это понятно. Ведь если есть французские масоны, то есть и немецкие. По масонству они братья. И они стараются, чтобы условия мира были более мягкими…
Как известно, после Первой мировой войны состоялся Версальский мир. Скверный мир, который повлек за собой Вторую мировую войну. Были печатные труды, где Версальский мир осуждался резко. Весьма возможно, что эти произведения принадлежали масонам…
…Масоны свободны в своих религиозных чувствах, продолжал повествовать Маклаков. Но что масонам запрещено — они не могут быть клерикалами. Они не поддерживают ни одну из официальных религий, считая, что все официальные религии пошли неверным путем, в том числе и христианская религия…
Должен сказать, что в этом отношении воззрения масонов, если они таковы, как изображал Маклаков, мне очень близки. Все официальные религии нетерпимы, все считают, что единственно они правильно понимают Бога и присваивают его себе. В этом отношении характерен Вильгельм II, который любил повторять: «Наш немецкий Бог». Ну, и православие тоже считает себя единственно правильным и само слово «православие» есть самохвальство. Была только одна, ныне почти совсем исчезнувшая вера — социнианство, которую основал выходец из Италии Фауст Социн
16 в шестнадцатом веке. Он бежал в Польшу и обосновался под Краковом, в городке Клуковицы. В первой половине шестнадцатого века Польша славилась своей веротерпимостью, и Краков был приютом для всех еретиков, даже для таких, как альбигойцы, приближавшиеся к сатанистам.
Может быть среди социниан были и масоны, потому что масонское учение тоже отрицает войну и смертную казнь, как и социниане. И еще следующее обстоятельство: социниане не требовали, чтобы родившиеся в какой-нибудь религии, вступая в социнианство, непременно от этой религии отрекались. Многие социниане тайно исповедовали свою религию. Яркий защитник православия против католичества князь Константин Константинович Острожский, по уверениям социнианских писателей, был тайный социнианец. Во всяком случае, тайным социнианцем был замечательный ученый того времени Бронский (псевдоним Филалет), написавший книгу в ответ на писание иезуита Скарги, порицавшего православную веру.
Во всем этом чувствуется какой-то масонский привкус — веротерпимость и таинственность. Но документальных доказательств у меня нет.
* * *
Быть может, самое интересное в Маклакове было его отношение к евреям. Он никогда не выступал ни в речах, ни в статьях, ни в своих мемуарах против евреев. Но я узнал его истинный образ мыслей вот каким образом.
Парижские русские евреи затеяли однодневный митинг по вопросу о том, что антисемитам в них, евреях, не нравится. Я жил на юге, но получил приглашение участвовать в этом митинге и даже предложение оплатить расходы по моей поездке.
Я не поехал на митинг, считая нелепым сложнейший и труднейший еврейский вопрос решить в течение одного дня. Ничего от этого митинга и не осталось. Осталась только моя книга в триста страниц, которую я озаглавил «Что нам в них не нравится». Она вышла во Франции примерно через год после митинга.
Не помню как, но на этом митинге, вероятно, говорилось о «честных» антисемитах. Персонально, видимо, никто не был назван. Я принял это на свой счет и думал, что это вполне обоснованно. Я был антисемитом, когда русское еврейство почти всем своим весом набросилось на русское правительство в 1905 году. И позже, когда русские евреи поддержали революцию 1917 года и Ленина. Но при всем том, когда невинного Бейлиса посадили на скамью подсудимых и правительство сделало все, чтобы склонить присяжных на свою сторону, я заступился за русское правосудие, а вместе с тем и за Бейлиса. Это дело я выиграл, то есть не я в прямом смысле, а все те, кто способствовал оправданию Бейлиса. Это была победа справедливости. Но так как в процессе этой борьбы за правду я написал крайне резкую статью против прокурора палаты Чаплинского, то меня привлекли к ответственности за «распространение заведомо ложных сведений о высших должностных лицах». Другими словами, попав в ложное положение оправданием Бейлиса, хотели отыграться на мне.
Судил меня не суд присяжных, а коронный суд. Коронный суд вел себя просто недостойно. У меня были свидетели, которые уличили бы Чаплинского так, что ему пришлось бы капитулировать. Но суд отказался вызвать этих свидетелей. А между тем главный из них, Фесенко, сидел тут же на трибуне, рядом с судьями. И его не допросили. Поэтому они присудили меня к трем месяцам тюрьмы. Срок пустячный, но посадить члена Государственной Думы нельзя без согласия Думы. Пока что дело пошло по инстанциям, а тут началась война. Я пошел воевать добровольцем, потом был в Красном Кресте. День в день в годовщину моего осуждения ко мне явился полковник военного судебного ведомства.
— По закону все дела о лицах, поступивших в армию, передаются нам, — сообщил он мне. — Потрудитесь прочесть.
Я прочел. По докладу министра юстиции по делу о Шульгине Василии Витальевиче, осужденном киевским окружным судом на три месяца заключения, государю императору благоугодно было собственною рукою начертать: «Почитать дело небывшим. Николай».
В объяснение сего могу сказать, что по русским законам государь император являлся верховным судьею. Все обвинительные приговоры начинались словами: «По указу Его Императорского Величества…». Поэтому царь мог отменить любой приговор, убедившись в его неправильности. Здесь это было высказано в особой форме отрицания самого дела. Его не было.
Так вот, по этой причине я счел, что честный антисемит — это я. Но Маклаков сказал мне:
— Нет, вы все же не раз выступали против евреев. Я же никогда публично не выступал. Но все же я антисемит, «честный антисемит» относится ко мне. При моей жизни об этом не говорите. Когда я умру, можете сказать.
Анжелина Васильевна Сакко
После неудачи с поисками работы в Париже более я не пытался куда-либо устраиваться. Прочитав в газете объявление Анжелины Сакко, что она предсказывает будущее и дает советы, я пошел к ней.
— Вы у меня были? — встретила она меня вопросом.
— У вас такая хорошая память?
— Нет, память плохая, но я помню тех, кто у меня бывал. Вы сейчас в полосатом костюме, а раньше были иначе одеты.
— Анжелина Васильевна, я пришел еще раз спросить вас о судьбе сына. В Константинополе, два года тому назад, вы мне сказали, что он жив.
— И сейчас он жив.
— Но где же он?
— Он в таком месте, откуда не может выйти.
— В тюрьме?
— Нет.
— В лагере? — недоумевал я.
— Нет.
— Так где же?
— Я не хочу вам этого говорить.
Помолчав, я спросил:
— Значит, в плохом доме? Но подумайте, Анжелина Васильевна, я ведь не мать, я только отец. Я выдержу. Он в сумасшедшем доме?
Она сначала не отвечала, но потом выдавила короткое «да».
— Где?
— Не вижу, там нигде не написано.
— Но можете ли вы хотя бы сказать, что он в данную минуту делает?
— Сейчас у него светлый промежуток. Он все вспомнил, что забыл, но боится забыть снова. И потому повторяет одно слово.
— Какое слово?
— Имя, ваше имя. Василий.
Я очень взволновался. Она продолжала:
— Он стоит у стола, одной рукой опирается на него, а другой он держится за какой-то мешочек, который у него на шее. Вы не знаете, что это такое?
— Знаю. В этом мешочке земля.
— Да, земля.
* * *
В Киеве, на высокой горе, было старое кладбище Щекавица. Из летописи Нестора мы знаем, что в Киеве на трех горах сидели три брата — Кий, Щек и Хорив. От Кия остался Киянский переулок. На горе, где сидел Щек, выросло кладбище. От Хорива осталась Хорева улица. Так вот, на Щекавице когда-то был похоронен какой-то святой. Землю с его могилы берут как средство от лихорадки. Три моих сына болели малярией и бабушка надела им эти мешочки. Ляля, видимо, сохранил этот талисман, несмотря на свои многочисленные беды.
* * *
— С ним теперь стали лучше обращаться, — продолжала Анжелина, — только один раз его побили.
— Но где же это, Анжелина Васильевна, где эта больница?
— Не знаю.
Я ушел в угнетенном состоянии. Где увидел церковь, зашел туда. Но сейчас же ушел — в церкви начиналось венчание. Невеста в фате, цветы, звуки органа… Это еще больше меня расстроило. Я ушел и через неделю пришел опять к Анжелине.
— Анжелина Васильевна, эта больница, где находится мой сын, она в России?
— Да, в России.
— Конечно, мало шансов, но все же, если это в России, может, я когда-нибудь был в этом городе?
Она взяла со стола хрустальный шарик, который служил ей средством для сосредоточения, и сказала:
— Да! Конечно, были…
И стала говорить:
— Вы стоите в каком-то саду, скорее всего общественном. Вы стоите над обрывом, огороженным простым бревенчатым забором. Внизу река…
— Это Киев? — перебил я ее.
— Нет. Киев я хорошо знаю. Немножко похоже, но не Киев и не Днепр. Эта река уже, но луга, пойма — широкие. Вы стоите у этого забора над обрывом… Вы как-то немного странно одеты. На голове какая-то прозрачная шапочка, на вас серый штатский пиджак, а ноги в офицерских рейтузах и высоких лакированных сапогах. Вы смотрите вдаль через реку. Вы не один, около вас слева стоит молодая дама, очень красивая. У нее длинные черные ресницы, которые она то поднимает, то опускает. Она знает, что это красиво.
Тут Анжелина посмотрела на меня и проговорила:
— Но эта красавица близка не вам… Но человеку вашей крови.
Тут только я чуточку начал понимать, в чем дело, но еще не до конца был уверен. Человек моей крови… Кто же это? Неужели мой брат? Но он давно умер. Если это он, то как она может «видеть» его кровь? И если это он, то та красавица, о которой говорит Анжелина, это Маруся, его жена. Она тоже умерла.
Анжелина продолжала:
— Она была то, что называется «мятежная душа». И вряд ли знала, чего она, собственно, хочет. Была беспокойной. Вдруг, куда-то уезжала неизвестно почему, также, вдруг, приезжала обратно. Она, конечно, ушла…
В устах ясновидящих «ушла» значит умерла. Слово «умер», «умерла» они никогда не употребляют.
— Да, я не могу понять, — между тем говорила Анжелина, — было ли это самоубийство или неправильное лечение. Во всяком случае, она еще хотела жить. Она должна была жить. Она ушла, конечно, но она недалеко…
Я спросил:
— Как это «недалеко»? Я не понимаю.
Анжелина ответила так, что я был совершенно сбит с толку:
— А так недалеко, что она у вас за спиной стоит.
Естественно, я обернулся. Анжелина спокойно сказала:
— Нет, вы не можете ее видеть, но я — вижу.
Я понял, это Маруся стоит у меня за спиною. Но еще хотел проверить.
— Имя, скажите ее имя!
— Ее имени я не вижу.
— Почему?
— Потому что она стоит близко к вам, но еще ближе, вплотную, стоит другая молодая женщина. И эта не ушла, она на земле. Ее имя Мария и эта Мария закрывает имя той, которая немножко дальше от вас.
Мне стало понятно все. Та, что стоит вплотную ко мне, была Марией Дмитриевной, она жива. Но имя той, другой, тоже Мария, и потому вполне естественно, что Анжелина не может его видеть явственно.
— Теперь я знаю все. Я знаю город, где находится мой сын. Это Винница.
Анжелина воскликнула:
— Да, это Винница, теперь я вижу.
* * *
Итак, Анжелина сказала:
— Но она близка не вам, а человеку вашей крови.
Это значило, что она была близка моему брату по матери Дмитрию Дмитриевичу Пихно. Это естественно — она вышла за него замуж, и я был ее шафером и держал над ее головой венец. Почему же сейчас, когда она ушла в другой мир, Анжелина говорит:
— Она близка и вам, она стоит у вас за спиной.
И сколько лет она стоит? Ведь она ушла в девятьсот десятом году, а я был у Анжелины в девятьсот двадцать третьем. Значит, быть может, тринадцать лет она стоит у меня за спиной. Почему? Она хочет чего-нибудь от меня? Этого я не узнал.
Да и в ту минуту я думал о другом. Теперь я знаю, где мой сын, и теперь я могу думать о том, как до него добраться. И я вспомнил «человека оттуда» — А. А. Якушева.
— Если вы хотели бы проверить мои слова, то я приглашаю кого-нибудь из вас или других лиц, известных в эмиграции, тайно посетить Советскую Россию…
— Я его найду! — уверенно сказал я.
Она ответила очень живо:
— Нет, не делайте этого, будет хуже. Вас ждет судьба вашего брата.
Мой брат, которого я повенчал с Марусей, погиб в Крыму. Анжелина продолжала:
— Вот я вижу… Вас и за вами двух человек, они все время бегут за вами… Я эту двойную струйку их следов хорошо вижу…
— Анжелина Васильевна, — перебил я ее, — вы хорошо рассказываете и очень точно, но только это уже было. Это было со мною в Одессе в двадцатом году. Два человека, один в черных лакированных туфлях, а другой в желтых, они неотступно бегали за мною…
Конечно, я ее не убедил. Однако все же я был прав. Впоследствии я понял, что она меня пугала. Трудно читать в душе ясновидящей, но все же она женщина. Она, быть может, знала, что я спасусь, но все ж таки чувствовала опасность и не решалась помогать мне в этом деле. Это я утверждаю потому, что, когда я благополучно вернулся и навестил ее, она мне сказала:
— Вы вернулись.
— Да.
— Вас охраняют. Ведь я же вам говорила.
Тогда, перед моей поездкой, она говорила совершенно обратное. Но сейчас я ее хорошо понимал. Йоги говорят, что есть карма (судьба) зрелая и карма незрелая. Карма зрелая не может быть изменена усилиями человеческими. Но карму незрелую человек может победить.
Анжелина пугала меня для того, чтобы я напряг все усилия, зная, что мне грозит опасность. Так оно и было.
* * *
Как-то за завтраком я рассказал Марии Алексеевне Маклаковой, что бываю у Анжелины, не посвящая ее в подробности моих визитов. Она выразила желание тоже посетить Анжелину, но идти одна наотрез отказалась.
— Пойдемте вместе, — предложил я.
И мы поехали. Первой я пропустил Марию Алексеевну. Когда через некоторое время она вышла, к Анжелине прошел я и застал ее расстроенной. Она сидела за столиком и обеими руками держалась за виски.
— Что с вами, Анжелина Васильевна? — тихо спросил я.
— Ужасно мое ремесло.
— Оно прекрасно, — возразил я.
— Да, прекрасно, но и ужасно. За какие грехи я обречена все это видеть…
Я ждал продолжения.
— Вот перед вами была одна дама. Она не мать, матери я бы ничего не сказала. Сказала бы, что ничего не вижу, или врала бы. Но эта дама не мать, она тетка. Я сказала ей правду о ее племяннике, но не всю правду, полправды. Я сказала ей, что его убили на берегу большой реки, но я не сказала, как его убили. Они так страшно его мучили…
Поняв, что сейчас с нею будет трудно говорить, я прервал нашу беседу и откланялся. А Маклакова мне сказала:
— Я не скажу сестре, что его убили. Зачем? Он ведь был в отряде каппелевцев, и они три года шли через Сибирь. Мало ли там больших рек. Сестре скажу, что Анжелина не могла ничего найти.
Потом она перешла к другой теме:
— О моей жизни Анжелина сказала очень верно: «Вы три раза прошли мимо своего счастья». Это верно, у меня было три жениха, но я так и не вышла замуж. Из-за чего? Вернее сказать, из-за кого. Я знаю, это смешно, но скажу: из-за Васи.
— Василия Алексеевича?
— Да. Это просто глупо, чтобы сестра так любила брата, но это так. Я не могла с ним расстаться.
— А он?
— Он мог бы жениться. Но, во-первых, он очень легкомысленно относится к женщинам, а, во-вторых, я его слишком избаловала. Он понял, что такой жены, как сестра, он не найдет… А все же удивительная эта Анжелина!
Я подумал: «Да, удивительная». Кроме всего прочего, удивительно добрая. И удивительна еще в одном отношении. Она, ревностная католичка, в то же время была председательницей какого-то теософического общества. Такое совмещение плохо. Но естественно, что, занимаясь белой магией, она борется с черным магом, который был тогда в Париже. Я имею в виду Гурджиева.
* * *
В другой раз, когда я пришел к Анжелине, она начала разговор так:
— Вы думаете, что о вас забыли? Нет, за вами следят постоянно. Недавно хотели сделать на вас покушение, но не удалось. Вас охраняют.
Я спросил:
— Кто?
Она не ответила, а продолжала:
— Покушение не удалось, так с досады они украли у вас фотокарточки…
Действительно, я фотографировался в каком-то фотоателье, но никакие мог получить своего заказа. Наконец, получил, но вместо двенадцати тринадцать карточек. Мне было ясно, что здесь напутали. Теперь стало ясно, что напутали при краже. Восполняя кражу, добавили тринадцатую карточку. Конечно, это были пустяки. Но в результате я не смог немедленно приступить к исполнению своего намерения пробраться в Советскую Россию и там найти моего сына. Прошло два года, прежде чем это было осуществлено…
* * *
Позже я еще больше узнал Анжелину. Вне своего удивительного дара она была обыкновенная женщина. Были у меня знакомые, которые были с Анжелиной просто дружны и совсем не как с ясновидящей. Она, чтобы отдохнуть, любила играть в лото. При помощи своего дара она могла бы отгадать все номера, но никогда этого не делала. Во-первых, она была порядочным человеком даже в мелочах, во-вторых, это требовало большого напряжения. Ей же просто хотелось отдохнуть. Она любила и посмеяться, и послушать анекдоты — была совсем обыкновенной женщиной.
Еще позже я узнал, что дар Анжелины имел свои пределы. Был кто-то, кто сильнее ее и кто ограничивал ее возможности. И этот кто-то был Богом, в которого она верила. Я был совершеннейшим идиотом, что никогда не спросил ее: «Анжелина Васильевна, вы ясновидящая?». Она бы несомненно ответила утвердительно. Тогда бы я задал ей главный вопрос: «Так скажите мне, как вы видите Бога?!». Что она сказала бы, это другой вопрос, но все же его надо было поставить, тем более, что она мне часто говорила:
— Я молюсь Богу, я горячо молюсь.
Интересно, по какому поводу она мне это как-то сказала. Дело было так. После официальных сеансов я часто задерживался у нее, и мы просто беседовали. Как женщине, по-видимому, не имевшей душевного друга, ей некому было жаловаться. И вот во время этих бесед она иногда жаловалась мне. Так случилось и в этот раз.
— Я очень многим нахожу пропавших близких людей, — стала говорить она. — Вот и вам нашла сына, хотя это было очень трудно. Но у меня пропала моя единственная дочь. Во время Гражданской войны мы оказались в разных городах. Я должна была бежать немедленно, а она оставалась в Петербурге. И вот я ищу ее. В Петербурге ее не нахожу, но где она, не вижу. Да, не удивляйтесь, всем вижу, а себе самой не вижу. Я молюсь, молюсь, пощусь и еще молюсь, прошу у Бога разрешить мне увидеть мою девочку… Нет, не вижу.
* * *
Но, наконец, она увидела. Девочка убежала из Петербурга и находилась примерно в ста верстах от него. Анжелина вдруг увидела все: и где, и у кого она.
По-видимому, быть может, благодаря своему удивительному дару она имела какие-то отношения с какими-то официальными лицами советской власти. Словом, ей разрешили выписать девочку (впрочем, бывало это и не только с ясновидящими). И вот девочка приехала в Париж. Одновременно приехал к Анжелине ее второй муж. И я его увидел. Раньше несчастные десять франков, которые она брала за чудесные предсказания, получала она сама. Теперь деньги получал ее муж. Это был мужчина лет сорока, брюнет с небольшой сединой, стройный, моложавый, очень красивый и очень неприятный.
И тогда же я увидел девочку — когда я уходил, она помогала мне надеть пальто. Такой красотки я, кажется, никогда не видел. Эти зеленые глаза могли заворожить человека. Вот кому подошло бы быть ясновидящей. Но она ею не была. А настоящая ясновидящая жестоко поплатилась за то, что в противность Божьей воли выписала свою дочь.
Отчим не мог не влюбиться в нее. И она не могла не влюбиться в отчима. Это была зрелая карма. Ничего этого бедная Анжелина не предвидела, и чем все это кончилось, я не знаю
17.
«Николай Третий»
Я шел по узкой rue Grenele, где никого не было, и столкнулся с генералом Миллером, который возвращался от генерала Кутепова. Я сказал:
— Здравия желаю. Не могу ли я поговорить с вами?
Он ответил холодно:
— Но о чем же, позвольте спросить, вы будете меня интервьюировать?
Я рассмеялся:
— Вы меня не узнали?
Генерал (он был в штатском) присмотрелся ко мне внимательнее и сказал:
— Пожалуйста, простите. Я вас не узнал, потому что вы сказочно помолодели.
— Мне от вас ничего не нужно. Но, может быть, я могу быть вам чем-либо полезен?
Он задумался и проронил:
— Можете.
Затем, помолчав, продолжал:
— Тут мы субсидируем одну русскую газетку. Она хорошо писала о генерале Врангеле, но вдруг резко изменила курс. Не можете ли вы узнать, что же такое случилось? Что такого сделал Врангель недавно, что они перестали его поддерживать?
Я ответил:
— Слушаюсь. Я этим займусь.
Моя покойная жена Мария Дмитриевна говорила: «Когда Господь Бог помогает, то дело делается стремительно». Так оно и было. На следующее утро я пошел в русскую церковь. Она размещалась на холмике, и к ней поднималась довольно высокая каменная лестница. С паперти церкви было кое-что видно. Эта церковь называлась «русская церковь на rue Daru». Храм был небольшой, но изящный. Русские парижане обыкновенно там встречались.
Служба окончилась, и все ушли. Я остался на паперти, любуясь этим уголком Парижа. Кроме меня, вокруг вроде бы никого не было. Но вдруг на другом конце паперти я увидел человека, который, как мне показалось, пристально на меня смотрит, не двигаясь с места. Тогда я подошел к нему. Подойдя совсем близко, я увидел, что у него на глазах слезы. И тогда я его узнал. Это был именно тот человек, который в данную минуту был мне нужен.
Я сказал:
— Здравствуйте, Александр Иванович. Чем вы так огорчены?
— Я могу вас спросить, за что вы меня так обидели?
— Я?! Вас обидел?! Я написал вам письмо, что не могу больше у вас работать. Вы отлично знаете, почему. Без всякой причины вы переменили курс и стали бранить Врангеля.
— Это я могу понять. Но вы написали мне: «милостивый государь Александр Иванович». Так пишут, когда вызывают на дуэль.
— Я не вызывал и не вызываю вас на дуэль. Но, продолжая оперу, — «не потрудитесь ли объяснить мне ваши поступки?»
— Конечно, непременно. Но не здесь. Можете ли вы придти завтра в кафе «Опера», ну, скажем, к двенадцати часам?
— Приду.
Я пришел раньше их. Должен был придти еще один руководитель этой газеты, названия которой, к сожалению, не помню
18. Поэтому я мог рассмотреть достопримечательности этого кафе. За оградой стоял обыкновенный мраморный столик, за которым когда-то сидел Наполеон, когда он еще не был императором.
Потом они пришли. И каждый, один догоняя другого, начал говорить примерно следующее: некоторое время тому назад к ним в редакцию ворвался Марков. Я спросил, какой Марков.
— Николай Евгеньевич, Марков второй, — ответили они.
И он стал кричать на них:
— Что вы делаете! Великий князь Николай Николаевич крайне недоволен генералом Врангелем, а вы его хвалите. Я только что был у великого князя…
Могло ли это быть? Что общего у великого князя с Марковым 2-м? Я ничего не сказал тогда, но подумал: «Есть общее». Марков, не знаю по какой причине, не примкнул к белым, то есть не принимал участия в Гражданской войне. Великий князь Николай Николаевич — тоже, хотя он жил в Крыму и генерал Деникин предложил ему возглавить Добровольческую армию. Это я знал точно.
…Александр Иванович Филиппов и его друг продолжали:
— Мы испугались и написали что-то против Врангеля, а потом перестали вообще о нем писать. Но мы очень сожалели. Миллер перестал нас субсидировать, и мы не знаем, как поступить.
Я объяснил им, как, по-моему, следует поступить. Через день в газетке появилась передовая статья, которая начиналась, если память мне не изменяет, так: «Мы всегда говорили, что генерал Врангель…» и дальше шло в том же тоне, как и прежде, как они действительно всегда говорили. Мой расчет был построен на том, что читатель будет сбит с толку и подумает, что он что-то пропустил, а теперь все в порядке. Так оно, в общем, и вышло. Когда я пришел к генералу Миллеру, он как раз читал газетку и спросил меня:
— Как вам это удалось?
Я ответил:
— Секрет ремесла, ваше превосходительство. Надеюсь, вы возобновите им субсидии?
— Да, конечно.
* * *
Я много раздумывал, да и теперь еще раздумываю, вспоминая минувшие дни, что таилось под этим посещением Марковым великого князя?
Несомненно, что Марков обвинял генерала Врангеля в бонапартизме, в том, что он не прочь занять престол. Это была канва, по которой можно было вышить разные узоры. А что было правда, это мой разговор с Петром Николаевичем Врангелем. Он сказал мне:
— Я знаю их всех. Романовы ушли, потому что Романовы выдохлись. У них не было вкуса к власти. Были они слабовольны. Думают, что великий князь Николай Николаевич обладает сильной волей. Это неверно. Он мог быть грубым, мог ударить хлыстом по зубам трубача, стоявшего рядом с ним, когда тот подал неверный сигнал. Он мог повесить Мясоедова, хотя этого, может быть, и не надо было делать…
Тут я подумал про себя: «Когда был повешен Мясоедов во время войны, среди солдат стали говорить: “Вот, великий князь Николай Николаевич сколько генералов в цепях в Сибирь послал”».
— Вот тогда надо было проявлять волю, — продолжал Петр Николаевич, — когда великий князь Николай Николаевич двигался с Кавказа в Ставку, чтобы принять верховное командование. А когда его перехватили по дороге два министра и сказали ему, что Романов не может стоять у власти при настоящих обстоятельствах, он
спасовал.
Я спросил:
— А что же надо было ему делать?
— Что делать? Послать их к черту. Приехать в Ставку и опереться на кавалерию. Кавалерия тогда еще совсем не была развращена. Конечно, это был риск. Но для этого надо было иметь волю. А он? Он Николай III.
Эти слова я слышал собственными ушами. Но, может быть, Врангель говорил их и другим? И, может быть, эти колючие слова дошли и до великого князя? Весьма возможно, что Николай Николаевич охотно слушал разглагольствования Маркова о бонапартизме Врангеля. Ответ, когда-то привезенный «Принцессой», тоже не свидетельствовал о его сильной воле.
А раньше? В октябре девятьсот пятого года в Петергофе у Николая II проходило очень волнительное совещание. Разразилась всеобщая политическая забастовка. Железные дороги встали, в Петергоф проехать было нельзя. Но даже и в те тяжелые дни происходили забавные случаи. Собравшиеся у государя очень удивились, когда вдруг появился Горемыкин.
— Как вы приехали?
— На тройке. Это стоит всего двадцать пять рублей.
И вот кто тогда заставил Николая II подписать Манифест 17 октября, обещавший всяческие свободы? Манифест не только не стал маслом, утешающим бурю, а наоборот, стал керосином, вылитым на огонь. На него евреи ответили яростной злобой — может быть, потому, что о равноправии в нем не было упомянуто. И в шестистах городах, городках и еврейских местечках разразились еврейские погромы. Несмотря на все ошибки злосчастного императора, в западной части России еще были монархисты.
Так вот, великий князь Николай Николаевич командовал войсками Санкт-Петербургского военного округа. И он грозил застрелиться, если Царь не подпишет Манифеста.
Все это были факты, которые говорили о том, что генерал Врангель был прав. Но было и другое. Именно великий князь Николай Николаевич обещал во время войны автономию Польше, и это был шаг разумный. И он же, когда Париж погибал, сломав график развертывания наших войск, бросил в Восточную Пруссию три корпуса, чем заставил немецкое командование снять с парижского направления два корпуса и перебросить их на восток.
На юге Франции
Итак, недоразумения с парижской русской газеткой были улажены. Но вместе с тем были улажены и мои личные затруднения. Кое-какие деньги стали вновь поступать из моего польского имения. Правда, деньги небольшие, но жить на них можно было там, где было относительно дешево.
И вот Александр Иванович Филиппов сказал мне:
— Мой брат Федя собрался на юг Франции. Там климат прекрасный, но дыра, глушь, хутор. Он любит землю и арендует кусок земли. Живет вдвоем с женой, детей нет, и им там скучно. Поезжайте туда, они будут вам рады. Платить вы им будете триста франков в месяц. Можете?
— Могу.
* * *
И я поехал rapide
[46] P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée). Эти три буквы насмешливые французы раскрывали тогда так: Plaignez les malheureux, что означало «пожалейте несчастных».
Действительно, шесть человек в купе, тесно до невозможности. Rapide идет быстро, но надо пересечь всю Францию с севера на юг — шестнадцать часов пути до Ниццы. Ночью еще ничего, но когда взойдет солнце, нестерпимо рябят в глазах пробегающие пейзажи, в особенности за Лионом. Там по обе стороны железной дороги густо стоят кипарисы, защищающие железную дорогу от песочных заносов. При всей их красоте они были нестерпимы. Наконец, они кончились. Поезд сделал поворот влево, и справа мы увидели темно-синее море. Отдых для глаз.
У Тулона величественные скалы. В этих скалах запрятаны сильные дальнобойные орудия. Все море разделено на квадраты, как шахматная доска. При появлении вражеского корабля орудия поднимаются из подземелья и бьют без промаха. Поезд промчался мимо них и добрался до станции, где мне предстояло сойти с rapide. Это был, кажется, городок Лизарк, лежащий в двух часах езды от Ниццы. О счастье!
Я знал от Филиппова, что здесь мне надо пересесть в омнибус. По невежеству своему я искал большую карету. Оказалось, что по-французски omnibus — это «поезд для всех». Этот поезд состоял из вагонов, в которых не было окон, а только бесчисленное количество дверей со стеклами. Прохода вдоль вагона не было, он состоял из нескольких изолированных друг от друга купе с выходом из каждого купе на обе стороны. Поезд останавливался на всех станциях, и тогда все двери открывались разом и пассажиры проворно выскакивали из вагонов.
Так я ехал еще часа три и мог рассмотреть окрестности. Côte d’Azur — Лазурное побережье. Какая дивная красота! Горы, то покрытые лесами, то нет. Леса бывают разными: хвойные и пробковые дубы. На станциях лежали горы этой пробки, то есть содранной с дубов коры в метр и больше длины. На многих вершинах были видны остатки старинных замков. У меня было ощущение, что я здесь уже когда-то жил, в то время как я тут никогда до этого не бывал.
Наконец я приехал на свою станцию, совсем маленькую, которая называлась Cannet du Luc — Канны люкские. И здесь меня встретил Федя. Он был совершенно не похож на брата. Александр Иванович — жирненький журналист, Федя, Федор Иванович, — мускулистый земледелец. После обмена приветствиями он сказал мне:
— Наш хутор называется Clos de Potas. Добираться к нам можно двумя способами. Сегодня мы можем нанять здесь автомобиль — туда всего семь километров хорошей дороги. Или за полфранка добраться на попутной машине…
* * *
Машина остановилась, и мы вышли, а она умчалась дальше. Озираясь по сторонам, я спросил у Феди:
— А где же Clos de Potas?
Он показал рукою:
— Вот.
Но там были какие-то заросли, кусты. Мы вошли в них и тогда только увидели оливковую рощу, за которой как будто бы виднелся дом, за ним — высокий кедровый лес. Раздался собачий лай и черная дворняжка радостно бросилась к Феде.
— Это Sac a’puces
[47].
Между олив шла дорожка, по обеим сторонам которой росли высокие миндали. Кроме олив, на хуторе был виноград и смоквы. Дом был каменный, одноэтажный, с большим подвалом для скота и лошадей. Федя мне сказал, что дому много лет.
Вышла хозяйка, приветливая, но болезненная.
— Вот Анна Бернардовна, — сказал Федя, — а жену Саши вы знаете.
И я вспомнил в Берлине, у Ефимовских, пьяницу, который называл меня Рамзесом, а напротив — красивую даму, которая оказалась сестрою Анны Бернардовны. Братья были женаты на сестрах.
Во время войны, когда немецкие фамилии стали неудобны, сестры стали Мельниковыми. До этого в Киеве они носили фамилию Миллер, что скорее указывало на их английское происхождение. Но в них не было ничего ни английского, ни немецкого. Был просто магазин красок Миллера на Фундуклеевской улице. В конце Гражданской войны они эмигрировали. Где они вышли замуж, еще в России или уже в эмиграции, не знаю.
* * *
Я приехал к ним в самое роскошное время, в сентябре. Виноград уже сняли, и много золотисто-янтарных ветвей лежало на камышовых подстилках. Вкус их был упоительным.
И я стал входить в эту жизнь. Мне предоставили комнату с камином. В этот камин можно было влезть, и тогда в трубу видно было синее небо. Кто топит в сентябре? Только в кухне, где работала Анна Бернардовна, и около нее вертелась голубая кошечка с синими глазами. Вообще во Франции кошек называют mignon, то есть киска. Эта mignon имела имя Мими, а была еще Биби, молодая козочка. И был еще полудикий кот, который приходил в гости к Мими и покушать, но только при открытой двери из кухни во двор. Если при нем дверь закрыть, он начинал метаться и мог перебить посуду.
Федя мечтал купить лошадь, но ее еще не было.
* * *
Пользуясь дивною погодою, я стал бродить кругом и набрел на нечто, что меня удивило. Ясно видны были засохшие оливы, совершенно подавленные лесом. Почему их бросили?
Более того, я «открыл» большую брошенную ферму. На ней стоял двухэтажный дом, в котором не было уже оконных рам. Дом постепенно приходил в упадок и разваливался. Им завладели совы, жалобно кричавшие в лунные ночи. Вокруг этого дома были службы. Мне потом рассказали старожилы этой местности, что на ферме жило когда-то до тридцати человек. Куда же все они делись, может, тут была война? Мне объяснили, что никакой войны в этих местах давно не было. Эта труднодоступная сельская местность опустела, потому что молодое поколение не желает сидеть в глуши, им больше нравится город: их привлекают кафе, в которых пьют абсент и танцуют, синематограф и прочие блага цивилизации.
А Федя рассказал, что его участок — Clos de Potas — имеет четырнадцать гектаров земли и пять колодцев, что очень ценилось в этой местности, затем виноградники, оливковые рощи и смоковницы. И за все это он платил тысячу франков в год. Почему так дешево? Владельцем фермы был несовершеннолетний мальчик, а его опекуншей — молодая женщина, не желавшая жить в таком уединении. Участок долго пустовал, и она была рада сдать его ему, а сама служит перчаточницей в Тулоне. По вечерам она веселится в кафе, а на эту тысячу франков содержит мальчика.
Федя продолжал:
— Мы, конечно, здесь зарабатываем себе на жизнь, но тяжелым трудом.
Он вставал в пять часов утра и ехал на велосипеде три километра до ближайшего городка le Thoronet. В нем было триста жителей, несколько больших, но старых, домов, кое-какие магазины, почтовое отделение и мемориальная доска, вделанная в стену какой-то часовни. На доске были вырезаны имена нескольких жителей Thoronet, погибших на войне. Франция в Первую мировую войну, имея население в сорок миллионов человек, потеряла убитыми один миллион. Другими словами, из сорока одного. Поэтому на долю Thoronet приходилось девять человек.
В городке Федя брал молоко, которое Анна Бернардовна подавала к утреннему кофе.
* * *
Были когда-то у нас в России кантонисты
19. Так вот, Филипповы были как будто выходцами из кантонистов. Но кантонисты со временем почему-то стали у нас земледельцами. И это обстоятельство, по-видимому, отразилось на Феде, который любил землю, и совершенно не отразилось на Александре Ивановиче, который стал журналистом.
Где был Федя до того времени, когда он взял в аренду Clos de Potas, я не знаю. Но Александр Иванович, когда вместо «Киевлянина» в восемнадцатом году образовался «Голос Киева», работал в этой газете журналистом. Когда и где я с ним познакомился, не помню, но не в Киеве, потому что в редакцию «Голоса Киева» я заходил редко. По-видимому, в Берлине у Ефимовских.
* * *
Мария Дмитриевна из Германии уехала в Югославию к отцу и брату. Там ей сделал предложение богатый серб, но она отказалась и решила приехать ко мне во Францию. В это время я уже жил в Clos de Potas, но назначил ей свидание в Ницце и оттуда привез ее в имение.
Первые ее слова были:
— Куда ты меня завез?
К тому же она приехала первого ноября, а на второй день начался мистраль — северо-западный ветер, летом горячий, осенью и зимою холодный. К тому же он чрезвычайно шумный. Листья олив обладают способностью шуметь, как море. И вот этот шум «морского прибоя» продолжался две недели.
Против холода можно было бороться. Федя наглухо закрыл трубу из камина, через которую виднелось синее небо. Но одновременно он провел железные трубы через комнату, в которой мы спали, и еще в какой-то комнате, и вывел их в каминную трубу. И тогда запалил камин. Топился он разными материалами. Сухие виноградные лозы горели плохо, сухие смоковницы горели лучше. Но идеально горели сухие оливы. В них сохранилось еще масло, и они давали белый, чрезвычайно горячий огонь. В доме стало тепло, выдумка Феди оправдалась. Неудобства этих горизонтальных труб были в том, что в них набивалась сажа. Время от времени приходилось всю эту железную конструкцию разбирать и вытряхивать сажу.
Холод и шум мистраль приносил только в сравнительно открытые места. Надо принять во внимание, что при мистрале солнце работает вовсю. Поэтому стоит войти в лес, и шум и холод прекращались. Можно было отдохнуть от рева и согреться. Это мы с Марией Дмитриевной делали, и это были приятные прогулки.
* * *
Через две недели мистраль кончился. Отопление помещений, кроме кухни, прекратилось, потому что стало вообще тепло. Дойдя на Рождество до своего минимума, солнце начало прибавлять силы, и, помню, первого января девятьсот двадцать четвертого года Мария Дмитриевна сидела на открытом воздухе на солнце в одном платье и вышивала крестиком какое-то полотенце.
На Рождество у нас были гости. В двух километрах от нас было какое-то шато, то есть большой и хорошо оборудованный дом. Когда мы туда ходили, то шли мимо каналов оросительной системы, оставшейся еще от Рима.
В этом доме проживали три русские дамы. Одна была Черносвитовой, вдовой члена Государственной Думы, кадета, расстрелянного в Москве. Кто была вторая, не помню, должно быть, родственница Черносвитовых. А третья имела какое-то отношение к Путилову, и ей принадлежало это самое шато. К ней приехали молодые Путиловы — брат и сестра — на Рождество и привезли нам граммофон. Была музыка и танцы на площадке.
Мне показалось, что Федя очень интересуется молодой Путиловой, приехавшей в гости в шато. Дело в том, что три дамы не справлялись с хозяйством. Они завели птичью ферму с курами и гусями, которые совершенно загадили все вокруг шато и даже некоторые комнаты в нем самом. Федя, по-видимому, мечтал, чтобы три дамы взяли его своим управляющим, уж он бы навел порядок. Но все повернулось совершенно иначе и закончилось самым печальным образом.
* * *
В южных странах весна не такая, как у нас. В России она наступает постепенно — этакое сладостное пробуждение от зимней спячки. А на юге Франции весна неприятная, холодная, с сюрпризами. И потом вдруг сразу превращается в горячее лето. В Clos de Potas наступило резкое понижение температуры, и в одно прекрасное утро нас завалило снегом. Но он растаял к вечеру, и вскоре наступила жара.
Федя не справлялся с хозяйством — было слишком много работы — и как-то он обратился ко мне:
— Нет ли у вас какого-нибудь знакомого в Париже, который согласился бы, как и вы, приехать к нам. Платить деньгами я ему ничего не могу, но кормить буду, к тому же поживет в хорошем теплом климате.
Я подумал и написал некоему Семену Алексеевичу N. Это был человек средних лет, который в Париже занимался очень скучным делом — на вокзале он толкал вручную тележку с багажом. По-французски он знал лишь одно слово: «Roulez!»
[48]. Познакомился я с ним уже в эмиграции, чем он занимался до революции и во время Гражданской войны, не знаю. О его прошлой жизни я знал только то, что когда он бежал из Советской России, то три дня прожил в каком-то полуразрушенном домике на границе, и по его рассказу, эту халупу своими руками отремонтировал. Как мне казалось, такой человек был бы счастлив в Clos de Potas.
Но оказалось, что он был способен только на «подвиги». В обыкновенной жизни он был ленив и не хотел работать. А тут, как на грех, какой-то француз привез на велосипеде нечто вроде аквариума с рыбами. Федя охотно купил у него рыбу, а Анна Бернардовна ее зажарила. Цену за рыбу француз взял, конечно, высокую — он сорок километров вез ее от моря через горы.
Феде нужно было притащить с вокзала какой-то большой ящик. Это был подвиг, подходящий для Семала, как стали называть у нас Семена Алексеевича. Он взгромоздил тяжелый ящик на передний багажник, и так как на велосипеде ездил плохо, то в течение всего семикилометрового пути поминутно падал. Последний раз он упал перед домом, за что его выругал Федя. И я тоже, потому что моему велосипеду это не было полезно.
* * *
Когда наступила сильная жара, естественно, все плохое обострилось. Словом, я уж не помню как, Семал был дома, а я вернулся из поездки. Он бросился ко мне. Его и так круглая голова совсем стала шаром, а глаза сквозь очки сверкали. Я понял, что он совершил новый «подвиг», и спросил его:
— Что случилось?
— Я посадил его на цепь. Он бешеный.
Действительно, Sac a’puces был на цепи.
— Воды вы ему давали? — задал я ему следующий вопрос.
— Нет. Он не будет пить.
Я налил в миску воды, подошел к «бешеному» и поставил ее около него. Пес вылакал ее до дна. Очки Семала потухли.
— Так что же с ним?
Я освободил Sac a’puces и сказал Семалу:
— Вот что с ним, взгляните.
Голова собаки была полна громадных серых и уже красных из-за крови клещей. Семал ужаснулся:
— Что же делать?!
Я ему не ответил. Учат не рассказом, а показом. Приготовил два плоских камня. Это была плаха для клещей. Серые громадные были тоже полны крови, только она еще не просвечивала через их кожу. И начался кровавый «пир». Sac a'puces все очень хорошо понял и сам подставлял голову. Было противно, но я вынимал клещей пальцами, серых легко, красных с трудом, и они, подлецы, оставляли головку в коже собаки. Затем на плахе я давил их и скоро залил кровью камни. К тому времени, как приехали остальные, операция была кончена. На этот раз подвиг совершил я, а не Семал.
* * *
Федя все вздыхал вот по какому поводу. У самого дома была большая яма, а в нескольких шагах от нее лежала груда больших камней, неизвестно для чего приготовленных. Федя говорил неоднократно, что их надо перетащить в яму.
Но у него не было времени. И я решился совершить еще один подвиг. Была тачка, были доски. Я грузил в тачку камни, по доскам вез их и сбрасывал в яму. Яма была большая, камней было много. Проработал я три дня и, наконец, засыпал ее. Что делал Семал в это время, я не знал. Должно быть, Федя все-таки заставил его помогать Анне Бернард овне на кухне.
* * *
Быть может, мой неведомый читатель помнит, что в Германии мне пророчили смерть на улице — в таком состоянии было у меня сердце. А в Чехии Мария Дмитриевна была в санатории из-за угрозы туберкулеза.
Климат Clos de Potas излечил нас обоих. Я купил два велосипеда и научил Марию Дмитриевну ездить. Как-то раз мы поехали далеко. Проехав массу лесов с пробковыми дубами, мы стали подыматься и, наконец, взобрались на гребень (четыреста метров над уровнем моря). И с него мы увидели темно-темно-синее море. Там же, на гребне, стоял крест. Vue emprenable! — Необъятный вид!
Но надо было с этого гребня спуститься. Взобраться на велосипедах было нелегко, но спускаться еще труднее. Приходилось все время тормозить, но тормоза тогда были только ручные, и в конце концов рука у Марии Дмитриевны устала так, что она больше не могла тормозить. Остановились. Но я сказал то, что всегда говорю в таких случаях: «Если у человека есть носовой платок и английская булавка, то он найдет выход из любого положения». Я завязал тормоз накрепко носовым платком и скрепил его булавкой, чтобы платок не развязался. И мы поехали по бесконечным серпантинам.
Море, сначала показавшееся нам безбрежно широким, по мере спуска все сужалось и сужалось. Мы проехали мимо развалин старого замка, называвшегося Grimaud — Угрюмый. Море еще сузилось и, наконец, мы бросили велосипеды на песок, Мария Дмитриевна сбросила обувь и побежала к воде, вошла в нее и выпила глоток, чтобы убедиться, что оно горько-соленое. Она засмеялась тем удивительным смехом, который у нее пропал со времени заболевания туберкулезом. И это решило дело. «Надо перебираться к морю», — решили мы.
* * *
Мы вернулись в Clos de Potas другим путем: до St.-Tropez на велосипедах, оттуда поднялись в гору на автобусе (велосипеды на крыше) и затем опять на велосипедах до Clos de Potas. В этих местах названия с приставкой St., то есть Saint, Святой или Святая, занимают несколько страниц в разных расписаниях и географических указателях, их, пожалуй, набиралось до сотни, если не больше. А у нас в России был только один Санкт-Петербург. Вот тебе и святая Русь.
Вернувшись в Clos de Potas, мы неожиданно застали нашего знакомого Бориса Витальевича Домбровского, которого Мария Дмитриевна называла Бориской. Был он в совершенно растрепанном виде и ужасался месту, в котором мы запрятались. И в этом ужасе попросил у меня тысячу франков, без которых, как он объяснил, ему конец. Самое удивительное, что у меня оказалась эта тысяча франков — мой Каминский опять прислал мне деньги.
* * *
Когда Гришин-Алмазов диктаторствовал в Одессе в девятьсот девятнадцатом году, он попросил меня взять к себе в азбучную канцелярию молодого офицера по фамилии Домбровский. Я исполнил его желание, хотя этот офицер ровно ничего не умел делать по канцелярской линии. Гришин-Алмазов и сам это знал, но объяснил мне, что делает это ради жены этого Домбровского.
Сам Гришин-Алмазов был из Сибири. Александр Иванович Гучков, который всегда интересовался военным делом, во время Маньчжурской кампании нашел Гришина где-то в сопках, кому-то похвалил и рекомендовал. Во время Гражданской войны Гришин-Алмазов, как известно, очутился в Одессе.
Мария Николаевна Домбровская, жена Бориски, тоже была сибирячка. Она играла, а главное, управляла драматическим театром. Ее отцом был знаменитый Петипа, балетмейстер Императорских театров. Мария Николаевна дочь свою от первого брака выдала замуж за сибирского богача еврея Скидельского
20. Последний был очень богат, и внук Марии Николаевны воспитывался в Лондоне в каком-то дорогом закрытом пансионе.
Поэтому у Марии Николаевны были средства. Когда мы все очутились в Константинополе, она сняла очень дорогую квартиру, но вскоре покинула город. Тогда я с нею еще не был знаком. Мы познакомились с нею уже в Берлине, где у нее была тоже богатая квартира с замечательной печью — она зажигалась осенью и горела до лета.
Мария Николаевна была намного старше Бориски, так что когда приехала его мать из Советской России, то оказалось, что они почти одного возраста! А несчастный Бориска жаловался мне, что Мария Николаевна ревнива до ужаса. От припадка ревности у нее делалась нестерпимая рвота.
В Берлине Бориска заведовал моими финансами. В то время положение с немецкой маркой было катастрофическое. Она падала каждый день. Поэтому очень важно было знать, когда надо менять мои доллары на марки. Обмен необходимо было производить каждую субботу и в субботу же делать все покупки, потому что к субботе марка за неделю падала до своего низшего значения, а в понедельник цены обычно поднимались. И так каждую неделю. С этим делом Бориска успешно справлялся.
* * *
Затем, когда я переехал во Францию, я потерял из виду Домбровского. И вот он неожиданно появился в Clos de Potas.
Печальная судьба Бориски была и до смерти довольно загадочная. Всего основного не помню, а вспоминаю следующее. Когда я уже жил в Югославии, в Рагузе, то получил письмо от Марии Николаевны из Сибири. Письмо было очень длинным. Она писала, что Бориска все время меня обманывал, что он никогда не был офицером, происходил из мещан, по национальности еврей. А распространявшиеся им слухи, будто бы в Париже он был секретарем каких-то казачьих объединений, на поверку оказались лживыми. Был азартным игроком, проводил все время в игорных домах. У него водились большие деньги, происхождение которых неизвестно. Далее Мария Николаевна писала, что он распространял слухи, что удачно играет на бирже на испанской песете и так далее. Правда же, по ее словам, была в том, что он содержал самый красивый манекен в Париже, тоже русскую эмигрантку. И затеял развод с Марией Николаевною, но на самом деле развод был не нужен, потому что они никогда не состояли в браке. Но она, Мария Николаевна, намерена была приехать во Францию и в то же время боится, что у нее будут неприятности с французскими властями, так как в Париже Бориска выдавал ее за свою жену. И она просила меня написать Маклакову, что хорошо ему заплатит, если он каким-нибудь образом уладит это дело.
Я написал Маклакову, в ответ получил от него телеграмму: «Можно обойтись без развода». Потом, несколько позже, он прислал мне письмо: «Каково будет мое положение, если начнут углубляться в это дело. Ведь после того, как я послал Вам телеграмму, действительно обошлось без развода: Домбровского убили».
* * *
Никто не углублялся в положение, но вот что случилось. Домбровский каждый день ходил обедать в один русский ресторан в Париже, в котором его обслуживал официант из бывших русских офицеров. Домбровский жил с его женой, известной манекенщицей. Офицер-официант, по-видимому, ничего не имел против этого, так как они давно расстались и не жили вместе. Но у них была дочь восьми лет, которая жила с бабушкой, тещей офицера. Однажды он узнал, что его дочери кто-то сказал, что у нее теперь будет другой папа. И он не вынес этого. При очередном посещении Домбровским ресторана он поставил перед ним тарелку с супом, зашел за спину и выстрелил ему в затылок. Так погиб бедный Бориска.
* * *
Прошло много-много лет. В девятьсот шестьдесят восьмом году я отдыхал в доме творчества писателей в Голицыне. Моими соседями по столу оказалась семейная пара из Алма-Аты. Он был много старше своей жены, очень образованный, культурный и талантливый. О ней же все очень хорошо говорили — она спасла своего мужа от пьянства. Рассказывали, что когда он был трезвый, то в общении не было более приятного и милого человека. Когда же напивался, был невозможен. Кроме мужа, она любила кошку, которая неизменно ходила за нею повсюду.
Слово за словом во время наших встреч и я с ними подружился. Она достала мне номер журнала «Простор», издававшегося в Алма-Ате, в котором была опубликована моя речь по аграрному вопросу, которую я произнес в Думе в девятьсот седьмом году. Наконец, я узнал, что его фамилия Домбровский. И поведал им о Бориске.
— Мой муж из цыган, хотя и не играет на скрипке — сказала мне моя новая знакомая.
Он подтвердил ее слова и рассказал следующее:
— Когда в былое время ссылали в Сибирь за участие в восстаниях поляков, то они тащили с собою и своих дворовых, в том числе и цыган, у которых не было никаких фамилий. Поэтому их различали по фамилиям их господ. Так вот некоторые из них и стали Домбровскими. А Борис Витальевич Домбровский — мой дядя. Он не еврей и действительно был офицером, я помню его в офицерских погонах, в портупее и с шашкой.
Вот и все о Бориске.
* * *
Еще в Clos de Potas я совершал прогулки без Марии Дмитриевны и не на велосипеде, уходя в горы. Меня прежде всего интересовали таинственные огоньки, которые по ночам появлялись высоко в горах и куда-то двигались.
Вот я и пошел их разыскивать. И открыл, что там, в горах, была проложена узкоколейная железная дорога, по которой в горизонтальном направлении двигались тележки, наполненные красной землей. Этой красной землей был боксит, из которого получали алюминий. Тележки толкали люди до обрыва, у которого их пересыпали в металлические ковши, последние же по воздушной проволочной системе спускались к железнодорожной станции, где боксит грузили в товарные вагоны и далее — в порт. Там перегружали на корабли, которые шли в Бельгию, в которой из боксита получали алюминий. Огоньки же оказались фонарями на тележках.
Это я узнал на высоте, а вот что я увидел: огромный ковер, красный, с зелеными пятнами. Это была красная земля, а пятнами были оливковые рощи. Затем с высоты было видно, что Clos de Potas находится в центре трех кругов. Круг первый — это заросли вокруг дома. Круг второй — это был лес из высоких кедровых деревьев. А круг третий — скалистые горы с непроходимыми колючками. Вот в эти-то непроходимые колючки я и залез. Там были тропинки, но чтобы по ним двигаться, надо было встать на четвереньки, так как колючки были только сверху. Если идти стоя, они изорвали бы одежду и исцарапали тело. А если ползти ниже их, то можно было еще как-то двигаться. Почему же колючек не было внизу? Потому что их уничтожили своими щетинистыми боками дикие кабаны, которые ходили по этим тропинкам. И что же я смог бы сделать, если бы нос к носу встретился с таким диким кабаном? Поэтому я поспешил оттуда убраться.
* * *
Совершенно безопасной была лишь одна свинка. Во-первых, она была ручная, а не дикая. Во-вторых, очень полезная. К нам в Clos de Potas пришли два старичка с этой свинкой, которая была привязана за заднюю ножку веревочкой. Старичков посадили за столик на открытом воздухе и подали им бутылку красного вина. Это было обязательно для всех посетителей. И старички рассказали, что свинка ходит с ними искать трюфели. Эти грибы очень скрытно растут под хвоей, покрывающей землю под кедрами. Растут они большими семьями. У свинки прекрасное обоняние, она находит трюфели и, разрывая хвою, их съедает. Старички ей не мешают, а сами с другой стороны зарослей собирают трюфели в кошелку. Жареные, они до чрезвычайности вкусны.
* * *
Сейчас у меня американский сын, а тогда, в начале двадцатых годов, он был сын африканский. Как он попал в Африку? Все три сына хотели быть моряками. Когда в девятьсот двадцатом году я запропал, Диму приютили на флоте, сделали его юнгой. В ноябре двадцатого весь уцелевший флот пошел в Бизерту (бывший Карфаген). Причем корабли, сохранившие машины, тащили на буксире выбывших из строя. Дима плыл на буксируемом контрминоносце. Попал он в отчаянный шторм, так что мог его оценить, но не проклясть, как Гончаров на фрегате «Паллада».
В Бизерте наши моряки открыли школу, из которой Дима должен был выйти гардемарином. Пока еще он ее не кончил, но был уже боцманом на парусном учебном корабле, почему тайны всяких кливеров, бим-бом-брам-стеньг, фок-, грот- и бизань-мачт он знал очень хорошо. И вообще в совершенстве владел морским жаргоном — для него сказать «ехал на пароходе» было преступлением.
Я получил от него телеграмму, что он «придет в Марсельский порт» такого-то числа, и отправился туда к назначенному сроку. Меня поразила красота марсельской мадонны, стоявшей высоко над портом. Так как в Марселе дуют постоянные ветры, то карикатуристы изображали мадонну в виде змеи, трепетавшей в небе…
В порту творилось что-то невообразимое, но нельзя было сказать, что там было волнение. Порт был белый, и в нем не видно было воды, а только пена. Вот в этой пене и появился пароход, прошедший четыреста тридцать миль, отделявшие Марсель от Африки.
Конечно, радости и объятиям не было конца. Потом я спросил:
— Как ты выдержал качку?
— Качку? Я ее не заметил.
Дима был в очень длинных, расклешенных книзу на английский манер брюках и в тельняшке, поверх которой была надета суконка с синим воротником. На голове — бескозырка с лентами.
— Я читал такую интересную книгу — рассказывал он — французскую, «La passagére».
Эта малоизвестная книга, представлявшая из себя легонький романчик, произвела на Диму глубокое впечатление. Мне кажется, что из всей русской и иностранной литературы он только эту книгу и читал. В Бизерте некогда было заниматься беллетристикой. Кроме морских наук, они занимались музыкой. Никто из них почти ничего не знал. Дима немножко играл на рояле, но в Бизерте научился играть на трубе. Он рассказывал:
— К нам приехал в Бизерту гость, какой-то важный французский генерал. Конечно, мы встретили его «Марсельезой». Но так как нам было очень трудно, то мы играли ее медленно, в темпе «Боже, Царя храни». И тугоухому генералу пришлось объяснять, что это «Марсельеза». Он похвалил нас за выправку и чистоту наших штопаных и перештопанных форменок.
* * *
Мы приехали в Clos de Potas. Здесь Диме предстояло познакомиться со своею вроде как бы мачехою. Это знакомство произошло не очень благополучно. Мачеха только что научилась кое-как ездить на велосипеде по площадке и вместо приветствия закричала:
— Посмотрите, я уже езжу!
Дима смотрел на нее и, верно, думал: «Voilà mа belle-mère»
[49].
Но потом все обошлось. Мы сейчас же втроем совершили на велосипедах большую прогулку. Ехали по трудным и хорошим дорогам, в каком-то месте проехали по каменному мосту еще римской постройки через бурную речку, затем где-то ели упавшие на землю сливы (рвать с чужих деревьев я не позволил). Возвращались другой дорогой. Мария Дмитриевна устала и в конце концов упала с откоса на камни, немного расшиблась. Я послал Диму в Clos de Potas сообщить, что мы сильно запоздаем. Он умчался и быстро вернулся, и мы с остановками потихонечку добрались до нашего жилища. Падение быстро забылось, а красоты всего того, что мы видели, остались в памяти.
Дима очень понравился Феде и Анне Бернард овне. Он был стройным юношей, почти моего роста, с очень приятной улыбкой, но было в нем и что-то английское. Его там, на юге Франции, все принимали за молодого англичанина. Англичан там не любят, но уважают. Их не любят потому, что они за все платят втридорога. На все товары есть две цены — для французов и для англичан. Англичане платили не поморщившись, а Диме приходилось объяснять: «Я не англичанин, я русский. Я не могу платить английских цен». И цены снижали в три-четыре раза.
* * *
Как-то раз мы предприняли с Димой прогулку на велосипедах вдвоем. Первую ночь спали попросту недалеко от моря на прибрежных высохших водорослях. Потом, углубляясь внутрь материка, совершили два «подвига». За полчаса проехали семнадцать километров. Правда, дорога была очень хорошая и в спину дул ветер. Затем вползли на какую-то высоту по бесконечным серпантинам. В начале подъема мы встретили старушку в черном длинном платье. Каково же было наше удивление, когда в конце подъема мы снова увидели ее. Мы двигались зигзагами, взбираясь наверх, а она шла напрямик — круто, но коротко. И она за нами поспела.
Мы побывали у того креста, где мы уже были с Марией Дмитриевной. Потом опять спустились к морю, в очаровательную бухту. И снова ехали дорогами, пока, наконец, не добрались до какого-то городка, где зашли в маленькую гостиницу. В ней нам подали хороший обед и очень вкусное белое вино. Оно, кажется, называлось «Анжуйским». Если его газировать, то получалось шампанское. Выпив бутылку, я немного опьянел, и мы решили, что ехать сегодня дальше нельзя. И мы заночевали. Комната, в противоположность обеду, была скверная, но чистая. Благодаря последнему обстоятельству спали хорошо.
На следующий день спустились к морю и выкупались в очаровательной бухте. Возвращались другой дорогой и заехали к одним моим русским знакомым. Это место называлось Abeille, что по-русски означало «Пасека». Кажется, нам дали там меда. Но без «кажется» там жил с женою один несчастный русский литератор. На нервной почве у него были спазмы в глотке, и он ничего не мог есть. Теперь, после смерти моей жены Марии Дмитриевны, я знаю, что эти спазмы могли быть следствием рака пищевода. Его жена приняла нас радушно.
Оттуда было совсем недалеко до Clos de Potas. Но на дороге я налетел на что-то. Я не пострадал, но переднее колесо дало восьмерку. Дима взял колесо между колен и восьмерку выпрямил. При этом он совершенно измазал свои штаны, которые я ему только что подарил. Известно, что запорожцы из презрения ко всякой роскоши свои бархатные шаровары «шириной с Черное море» мазали дегтем. Я Диме ничего не сказал, Мария Дмитриевна его слегка побранила, а Анна Бернард овна брюки выстирала. И в общем все вышло хорошо.
* * *
Утешением Анны Бернард овны, всегда печальной, потому что она болела, была, как я писал уже выше, кошечка Mimi. Она была очень робкой и, как говорили, боялась лисы, промышлявшей вокруг фермы. Быть может, это ей нашептал дикий кот, ее приятель, который будто бы побывал у лисы в зубах.
Однажды дул мистраль. Летом он теплый, а в небе полная луна. И тогда Mimi исчезла в первый раз. Я пошел ее искать. Заросли сильно шумели. Mimi, вероятно, думала, что не расслышит шагов лисы, и потому забилась в кусты. Когда я внимательно стал обходить Clos de Potas, я услышал тоненький писк. На мой зов она пришла ко мне прямо в руки. Я принес ее Анне Бернардовне и видел, как она расчувствовалась. Но вскоре Mimi пропала снова, и я уже больше ее не нашел. И это было плохое предзнаменование. Нехорошо, когда вещи (а звери для людей — это те же вещи) изменяют.
* * *
А еще была Bibi, молодая козочка, и тоже любимица Анны Бернардовны. На нее возлагались надежды в смысле молока. Пока же она паслась вокруг слив на веревочке. И, должно быть, прыгнула неудачно, запуталась веревочкой вокруг шеи, повисла на ней и задохнулась. Анна Бернардовна была безутешна. Еще один грозный признак.
* * *
Как-то в один погожий день мы с Федей поехали покупать лошадь. Это было очень серьезное дело, потому что лошадь стоит дорого. Поднялись в горы в соседний городок. Долго торговались с владельцем дрессированного коня. Это значит, что конь работал и выполнял команды, если разговаривать с ним лошадиным голосом. Тогда он делал все, что надо. Когда кончалась борозда между двумя виноградными рядами, произносились поворотные слова и конь переходил на соседнюю борозду. Управлять таким конем научился и Дима. За коня заплатили две с половиной тысячи франков (сто долларов).
* * *
Примерно через месяц Дима уехал в свою Африку. А мы стали потихоньку готовиться переезжать к морю. Но прежде Федя и Анна Бернардовна как бы взяли отпуск и спустились отдохнуть к морю. А их заменила Мария Бернардовна, старшая сестра Анны Бернардовны, и ее двенадцатилетняя дочь. Старшая сестра казалась моложе младшей, потому что ничем не болела. Она была красива и улыбалась тою же египетскою улыбкою, как тогда в Берлине, у Ефимовских, когда пьяный произвел меня в Рамзесы.
Мария Бернардовна оказалась щедрее своей сестры: она вытащила все банки с вареньем, которое наварила Анна Бернардовна, и нам позволила собирать для себя все миндали, которые падали с высоких деревьев. А ее дочка за отсутствием других кавалеров — Семал был не в счет — стала обучать меня танцам на площадке перед домом. Вместо музыки она напевала модную тогда песенку «Je cherche mа Titune…»
[50] При этом она теребила меня нещадно, пока ее мать не спасала меня.
Я заметил, что у Марии Бернардовны очень хороший характер. Да и могло ли быть иначе — она была красива и здорова. Здорова до такой степени, что через некоторое время после этого она поступила в балет в Париже, правда, в кордебалет
* * *
Итак, после возвращения в Clos de Potas Феди с Анной Бернардовной мы переехали к морю с Марией Бернардовной и Titune. Захватили с собою и Семала, потому что Федя его больше терпеть не мог.
У моря я снял небольшую виллу. Мария Бернард овна с дочкой вскоре вернулись в Париж. Семал же снова начал совершать «подвиги». Он что-то нам варил и стирал белье у общественного фонтана.
Вилла стояла на берегу моря в местечке St. Margerite. Это был маленький одноэтажный дом, с одной стороны море, а с трех других какие-то заросли. У Lavoir
[51] Семал познакомился с соседкой по фамилии Dubussi и сейчас же с нею поссорился, хотя она была молодая и красивая. Я тотчас же сочинил на него двустишие:
Мадам Дюбюсси,
Ты меня не беси.
Но она его бесила. После ссоры они встретились в местном магазинчике и мадам Дюбюсси громко сказала хозяину:
— C’est un bandit!
[52]
Семал немедленно ответил:
— Moi non bandit, vous — bandit!
[53]
Хозяин магазина и все гости хохотали до упаду.
* * *
Здесь мы купались вволю. Семал тоже. Но так как у него не было купальных трусиков, то однажды проезжавший полицейский на него накричал. Но видя, что он ничего не понимает, махнул рукой и поехал дальше.
Впрочем, со мною тоже был случай. Мы купались с Марией Дмитриевной где-то подальше, на пустынном пляже. Совсем близко от моря проходила дорога. Как-то, выкупавшись, я одевал трусы, но порыв ветра унес их. В это время на дороге показался грузовик, в кузове которого стоя, тесно прижавшись друг к другу, ехала «банда» итальянок на работу. Когда они увидели меня, то подняли радостный вой и начали махать мне руками, пока Мария Дмитриевна не накинула на меня простыню.
И несколько слов о Семале. Когда мы еще жили в Clos de Potas, мне приснился сон про него, будто бы он превратился в дикого осла и приставал к Марии Дмитриевне. А я будто бы его, осла, избил палкой. И проснулся. Некоторое время ходил с этим сном, пытаясь его разгадать. Но тут ко мне обратилась Мария Дмитриевна:
— Что мне делать? Семал объясняется мне в страстной любви.
— Не обращай внимания на дурака, — ответил я. Разгадка сна объяснилась.
Совершив свой последний «подвиг» — купание без трусов в St. Margerite, — он уехал в Париж и на вокзале опять стал толкать повозки с багажом. Дальнейшая его судьба такова.
После похищения генерала Кутепова полиция стала арестовывать всех беспаспортных иностранцев. Когда попытались задержать Семала, он подумал, что его хотят похитить, как Кутепова. Вырвавшись из рук полицейских, он бросился бежать. Его поймали и поместили в сумасшедший дом. Года через два после этого я встретил его в Париже, в дальнейшем же потерял из вида.
* * *
Тогда еще, в Clos de Potas, я был занят литературным творчеством. Написал какую-то фантазию под названием «Голубой звук». «Голубой» звук я слышал давно, семи лет, когда меня повели в оперу. Пела Зарудная, ее голос был истинно прекрасен. И это понимали все. Когда же я познакомился с Соней Рудановской, подругой моей сестры Аллы Витальевны, я услышал «голубой» звук в голосе Сони. Зарудная со своим мужем Ипполитом Ивановым жила на Кавказе, а Соня была ее ученицей. Моя сестра, приехав на Кавказ и познакомившись с Соней, «выкрала» ее из-под крыла Зарудной.
Но больше этот звук ни для кого так не звучал, он был «голубым» лишь в моем ощущении его и в моем же воображении был связан с политикой. Каким образом?
«Голубой» звук звучал в общественном устройстве, где основной тон был прекрасен, но он не был глухим, потому что у него было много обертонов, и все они были созвучны и гармоничны к основному низкому тону. Это обозначало социальное устройство, при котором низы были основой, основой покойной и сильной, а высшие классы придавали этому низкому звуку красоту голубого неба.
Фантазия довольно нелепая…
* * *
А еще в Clos de Potas я работал — вышивал крестиком, взяв пример с Марии Дмитриевны. Но только это были не полотенца, а статьи для эмигрантского журнала, издававшегося, кажется, в Шанхае. Рассказывал же я в этих статьях о некоторых происшествиях среди эмигрантов во Франции. В том числе, помнится, статья «Société», которая начиналась словами из известной басни Крылова:
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыра…», а Тёмке, Артемию Дмитриевичу Кандаурову, сто тысяч франков за то, что он свел двух французов, в результате чего один купил у другого громадное имение. Тёмка решил основать «Société», чтобы продолжить свою «сводническую деятельность». «Но дважды счастье не приходит». Пока же Тёмка купил автомобиль, посадил в него жену и любовницу (он был красив и, как тогда говорили, «был очень мил») и
повез их в Швейцарию. На это путешествие, считая и автомобиль, он истратил пятьдесят тысяч франков. Поэтому он хотел поправить свои дела и проиграл в рулетку двадцать пять тысяч франков. Осталось совсем мало. На «семейном» совете решено было прокутить остаток в Ницце у Али (шикарный ресторан). Затем Тёмка продал за бесценок свой «Рено», любовница его бросила, и он почил на лаврах. В результате осталось разбитое корыто и жена, которая его не любила…
* * *
В дополнение к этому хочу рассказать о дальнейших похождениях Тёмки, не вошедших в мои статьи. Между прочим, он был сыном какого-то губернатора и происходил из довольно-таки известной дворянской фамилии.
Случилось так, что он с женой Неночкой (Неонилой) приезжал к нам, но не в Clos de Potas, а в Boulouris sur Мег
[54]. Во время их пребывания у нас я написал стихи под заглавием «Неночка примерная и Мария скверная», в которых повествовалось, что Неночка примерная встает рано, варит превосходный кофе, потом работает целый день. А Мария скверная ничего не варит, а когда принимается готовить какое-нибудь кушанье, то все сгорает и комната наполняется чадом.
Тёмка, который, как и другие, хохотал над этим произведением, сказал мне наедине:
— Василий Витальевич, а вот ваша Неночка примерная мужа не любит…
А Мария Дмитриевна скверная сказала мне тихонько:
— Она его не любит, он же ее насилует.
Тёмка продолжал говорить мне наедине:
— Неночка меня не любит, потому что она любит мерзавца. Я ей изменяю, понимаю, что я дрянь, но все ж таки я не мерзавец. Вот вы увидите, что она меня бросит, уедет в Париж, будет ночи просиживать над иглой, потому что парижские франтихи не платят так щедро, как в Ницце. А сойдется с мерзавцем, который ей гроша не будет давать.
Он оказался пророком, так и вышло. Тёмка остался на юге. В Boulouris sur Мег на своей прекрасной вилле жил Верстрад, бывший французский консул в Москве. Он иногда бывал у нас. Тёмка знал его дочь по Москве, когда оба были еще детьми. Теперь, с досады на Неночку и еще потому, что он был добрый человек и жалел болезненную дочку Верстрада, и еще потому, что у нее была вилла и Тёмке не надо было организовывать Société, он женился на дочери Верстрада, разведясь с Неночкой. Но новая жена его вскоре умерла, Тёмка запил, и что с ним было дальше, я не знаю.
Тёмка был веселым молодым человеком, изобретательным на всякие шутливые проделки. Например, он часто становился на четвереньки и наступал на нашего котенка Гришу. Но Гриша был храбрым молодым котенком, он тоже наступал и грозно шипел.
Однажды, когда в отсутствии Кандауровых к нам пришел консул Верстад, Гриша принял его так грозно, что пришлось котенка унести в другую комнату.
* * *
Но пока Тёмка и Неночка приезжали к нам в Булюрис и внешне все было хорошо. Между прочим, мы гоняли блюдечко. Бывало интересно. После всяких глупостей о Наполеоне и Распутине, с которых обыкновенно начинают, блюдечко вдруг «сказало»:
— Ты, Черносотенец, пиши историю Малороссии. А Мария остральная больна.
Я спросил:
— Чем больна Мария?
— Сердцем. Люби ее, а то она умрет.
Как-то в один из вечеров я до сеанса спрятал в шкаф модель байдарки длиною в один метр и запер шкаф на ключ, а его положил в карман. На сеансе я спросил:
— Что в шкафу?
— Лодка, — немедленно ответило блюдечко.
Все, кроме меня, удивились: как может поместиться лодка в шкафу. Открыли шкаф и вынули модель байдарки. Это было бы совершенно удивительно, если бы не одно обстоятельство. Модель сделал я, но покрыла тонким полотном и зашила ее Неночка. Маловероятно, но, может быть, это она заставила ответить так блюдечко?
* * *
Я еще посылал в Шанхай свои статьи, хотя они мне ничего не платили. Между прочим, пришел к нам однажды в Булюрис почтенный старик в черном сюртуке, несмотря на жару. Он сказал, что подметает улицы по ночам в Ницце. Сам он был русским эмигрантом, бывшим юристом. Его сын хорошо устроился в Париже, но он с ним поссорился из-за его жены. Он одинок и приехал к нам не просить денег, а отвести душу. При расставании я все-таки дал ему кое-что, как давал и другим, но об этом в Шанхай, конечно, не писал. Печальную же долю старика описал, не называя его.
Еще были какие-то «вышивки крестиком», но я их не припомню.
Глава VII
ЮГОСЛАВИЯ
Брак с Марией Дмитриевной Седельниковой
Через некоторое время, в конце августа или в начале сентября [1924 г. —
Р. К.] мы перебрались в Югославию. Мне припоминается, что мы ехали через Вену, где сели на пароход и поплыли вниз по течению Дуная.
Плывя по Дунаю, я осмысливал это путешествие. Мы ехали с тем, чтобы оформить наши отношения, обвенчавшись в Югославии. Развод мне дал с согласия Екатерины Григорьевны митрополит Евлогий в Париже. Она захотела только остаться Шульгиной, что и было исполнено. Конечно, не было никакой абсолютной необходимости в этом разводе. Все же им я причинял некоторые неприятности Екатерине Григорьевне и сыну Дмитрию. Да и Мария Дмитриевна не очень этого желала.
Отношения наши сложились удивительным образом. В Константинополе она пошла напролом, хотя я сказал ей и даже написал, что люблю ту, что умерла, и должен жить один. Она не обратила на это внимания и решила, что та забудется, и что хуже — ее возненавидела. Но мертвые сильнее живых, потому что они не могут себя защищать. Эта ревность к покойной поставила между нами тяжелую преграду. И много-много лет прошло и надо было претерпеть многие испытания, чтобы Мария Дмитриевна, наконец, сказала мне:
— Я ошибалась, она хорошая.
Отношения у Марии Дмитриевны с Екатериной Григорьевной были легче, потому что они познакомились и даже подружились. Когда Екатерина Григорьевна покончила с собой, Мария Дмитриевна, горько рыдая, говорила:
— Это я ее убила.
Но это было неверно. Если кто ее и убил, так это была ее невестка, первая жена Димы. К ней она остро ревновала, считая, что Таня не любит достаточно нашего сына, то есть так, как любит его она, мать. До Екатерины Григорьевны не дошла заповедь: «Да оставит человек отца своего и мать свою, да прилепится к жене своей и да будут двое воедино». Но на самом деле все это были причины второстепенные. Главной причиной было наследственное сумасшествие.
В конце концов Мария Дмитриевна нашла ключ к нашим отношениям в латинской поговорке, которую она хорошо усвоила: «Nec sine te, пес tecum vivere possum»
[55].

Она желала повенчаться только ради своего отца, которого очень любила. Но я не был убежден, что Дмитрий Михайлович этого так желал ввиду того, что я на двадцать два года был старше его дочери, мы с ним были почти одного возраста. Однако на мое письмо, в котором я просил руку его дочери, он ответил очень сердечным согласием.
* * *
И вот мы приплыли в Белград, где поселились на несколько дней у Дмитрия Михайловича. Он жил с сыном и еще одним молодым человеком.
А брак совершился в городке Новый Сад. Этот городок находится ниже по Дунаю, против крепости, откуда некогда бежал во время войны генерал Корнилов. Церковь в Новом Саду была русская. Поручителями были брат Марии Дмитриевны Владимир Дмитриевич, полковник Петр Титович Самохвалов, Николай Дыховичный и кто-то еще. Дружкою была Зина, вдова полковника Барцевича, которая потом вышла замуж за брата Марии Дмитриевны
21.
Генерал барон Петр Николаевич Врангель
После венчания мы поселились в городке Сремски Карловцы, который был в двадцатые годы как бы административным центром русской белой эмиграции. В нем жил Петр Николаевич Врангель и кое-кто из его штаба, из него исходили все нити управления частями РОВС̕а и эмигрантскими объединениями.
За время пребывания в этом городке мы ближе сошлись с Петром Николаевичем и его женою Ольгой Михайловной, урожденной Иваненко. Ольга Михайловна рассказы вала мне много интересного о своем муже.
— Когда мы поженились, оказалось, что он большой кутила и часто возвращался домой только утром. Но я отучила его…
— Это трудно, Ольга Михайловна.
— Совсем не трудно. Он однажды пришел утром и застал меня в столовой. Когда я подала ему кофе, он спросил: «Почему ты встала так рано?» — «Я не вставала». — «Как?!» — «Да так, что я и не ложилась». — «Почему ты не ложилась, что случилось?». Я ответила ему: «Ничего не случилось, я просто ждала тебя». Он вскипел: «Безобразие!». Но так как я продолжала не ложиться пока он не приходил домой, то он стал возвращаться все раньше и раньше и, наконец, бросил кутить вовсе.
Еще она рассказывала интересные случаи, происходившие у них в доме во время войны:
— Когда началась война, я стала жить с матерью Петра Николаевича, урожденною баронессою Корф
22. Во время войны у нас в доме бывало множество офицеров. И была у нас на воспитании девочка, которая очень любила, когда к нам приезжали с фронта офицеры. Ей было всего восемь лет. Она подходила то к одному, то к другому и прикасалась ручкой то к плечу, говоря при этом «в плечико», то к колену, говоря «в коленко» и так далее. Наконец мы поняли, что это значит. Это означало, что офицеры будут ранены в плечо, в ногу, в руку. Узнавать об этом было уже крайне неприятно, и когда она однажды, приложив руку, сказала: «в головку», я ее выставила и больше не впускала в гостиную, когда у нас бывали гости. Предсказания девочки сбывались…
* * *
Разговоры о ясновидении продолжались и в другой плоскости. Ольга Михайловна рассказывала:
— В Константинополе мы жили в русском посольстве. Как-то я спускалась по лестнице, а навстречу мне подымалась незнакомая мне дама. Когда мы поравнялись на площадке, дама улыбнулась мне и только произнесла одно слово: «Мальчик». Никто, кроме меня и мужа, не знал, что я беременна. В положенное время родился Алеша, которого вы знаете. Он, между прочим, ревнует меня к вам и говорит: «Ты опять уйдешь с Шульгиным?».
Действительно, мы втроем, Ольга Михайловна, Мария Дмитриевна и я, часто гуляли и даже плавали. Ольга Михайловна прекрасно плавала, а Мария Дмитриевна — нет.
* * *
С Петром Николаевичем Врангелем мы часто гуляли вдвоем. Он был очень высокого роста и шагал так, что я едва за ним поспевал. Во время прогулок мы беседовали, и кое-что из его рассказов я запомнил.
— Есть только два интересных занятия, — говаривал он. — Война и охота.
— А политика? — спрашивал я.
— Раньше я не имел никакого отношения к политике, но в Крыму мне пришлось этим заняться. Что ж, это тоже интересно — нечто вроде войны.
Он был военным с головы до ног.
— Род у нас такой, Врангелевский. В нашем роду было пять фельдмаршалов и три адмирала. Однако мы военные через поколение. Вот мой отец, например, не был военным. Он писал какие-то записки. А вообще он был совершенно старых воззрений. У него еще были дворовые. Однажды, когда кто-то сказал о каком-то Ваньке или Петьке, что он любит свою жену, мой отец удивленно спросил: «Да разве они могут любить?». Хотя он был человек вовсе не злой и не черствый
23.
* * *
До известной степени это повторяется и нынче. Одна медсестра в инвалидном доме в Гороховце говорила мне:
— Никакой любви мы не знаем. Это только в романах о ней пишется, а на самом деле ее нет.
Выслушав это, я вспомнил няню пушкинской Татьяны:
И полно, Таня, в наши лета
Мы не слыхали про любовь.
Не то разбойница свекровь
Совсем бы согнала со света24.
* * *
Врангель был по образованию инженер. Он поступил в гвардию вольноопределяющимся. Воевал в японскую войну в кавалерии, в казачьем полку, и был почетным казаком.
Во время Гражданской войны он командовал так называемой Кавказской армией, которая в основном состояла из казаков. Когда я был в то время у него в Царицыне, я спросил:
— Известно, что казаки храбры, но также известно, что они грабят. Это в их природе. А у вас они не грабили. Как вы этого достигли?
— Надо знать основы военного дела. Надо понимать, что отдавать приказания следует с осторожностью. Если офицер приказал, а приказание его не исполнено, то это уже не офицер. Я знал, что казаки грабят. Но я выжидал минуты, когда я прикажу им не грабить и они исполнят это приказание. И такая минута однажды наступила. Надо еще вам знать следующее: если достигнута победа, настоящая победа, и она получилась в результате приказания какого-то начальника, то в первую минуту после этой победы он Царь и Бог, все, что он прикажет, будет исполнено. Вот была такая минута, когда благодаря моим личным приказаниям, ставшим известным казакам, победа была одержана. И тут мне докладывают, что казаки грабят. Я вскочил на коня, и сколько конь мог выдержать, помчался, чтобы лично в этом убедиться. Прискакал. Грабят. Через десять минут было повешено восемь человек казаками же. Я был царь и бог, и мое приказание исполнили. И с тех пор они перестали грабить. Меня они полюбили, а я грабежа не допускал.
У Врангеля была характерная внешность. В профиль — хищная птица, а в фас — длинный прямоугольник. Челюсти и виски — на одной линии. Это свидетельствовало о его большой воле. Глаза, если не ошибаюсь, были стального цвета, а взгляд очень тяжелый. Он давил на собеседника. Бывало, что мы с ним о чем-нибудь спорили. Рот выговаривал логические мысли, но глаза безо всякой логики приказывали согласиться. Я трудно поддаюсь гипнозу, но я его чувствовал. При всем при том это ничуть не сказывалось на наших отношениях.
* * *
Ольга Михайловна была несравненно умная и волевая женщина. Тем не менее она увлекалась спиритизмом, точнее сказать, одной из разновидностей спиритизма — верчением блюдечка.
Я относился к этому занятию крайне строго: не осуждал его, но принимал всякие меры, чтобы не было мошенничества сознательного или бессознательного. Так как я знал, что если положу пальцы на блюдечко, то оно не пойдет. Поэтому во время сеанса я занимался наблюдением, контролем и записыванием его показаний. Надо сказать, что если блюдечко возьмется, то оно бегает так быстро, что лица, касающиеся его, не всегда могут отмечать его показания. Не доверяя участникам сеансов, я завязывал им глаза, чтобы они не видели показаний блюдечка. Кроме того, я практиковал немые вопросы, то есть задумывал какое-нибудь слово, не произнося его вслух, и требовал, чтобы блюдечко его сказало. Все это удавалось.
Ольга Михайловна была этим крайне восхищена и стала требовать, чтобы и муж принимал участие в этих сеансах. Но он обычно каменно сидел на диване, не обращая на нас никакого внимания, и читал какой-нибудь журнал. Однажды, когда Ольга Михайловна стала как-то особенно донимать его своею просьбою, Петр Николаевич встал и подошел ко мне. Я, как обычно, сидел в кресле, держа на коленях доску с листом бумаги, на котором записывал буквы, указываемые блюдечком. Врангель встал за мною и сказал:
— Хорошо, я задумал одно слово. Пусть оно скажет.
Блюдечко забегало, я записывал буквы и думал: «Вот досада, все было хорошо, а теперь пишет какую-то ерунду». И сказал вслух:
— Пишет чепуху.
А Врангель неожиданно ответил:
— Совсем не чепуха. Когда я сидел на диване и читал иностранный технический журнал, я нашел в нем слово, ничего не говорящее для незнающих, для инженеров оно обозначает новую машину.
Петр Николаевич был гипнотизером, хотя сам этого и не знал. Единственное объяснение, которое я могу дать тому случаю, заключается в том, что он загипнотизировал меня, и я написал то слово, которое было у него в мыслях. А что написало блюдечко, никто не мог знать.
Не помню, по какому случаю, но вот что он сказал однажды обо мне одному нашему общему знакомому:
— Шульгин очень беспокойный человек. Вот, например, сидит себе кошка где-нибудь, никто ее не трогает, и она себе сидит и дремлет. Но если придет Шульгин, то он ее непременно как-нибудь зацепит.
Мирра Бальмонт и мой сын Дима. Конец Clos de Potas
Еще несколько слов о блюдечке, на этот раз не у генерала Врангеля, а у меня, но без Марии Дмитриевны — она в то время уехала в Париж. Я спросил блюдечко:
— Какое я задумал имя?
Оно яростно поспешило к букве «м». И все решили, что следующая буква будет «а», так как я несомненно задумал имя отсутствующей Марии. Но блюдечко наперекор всем ожиданиям устремилось к букве «и», затем два раза подряд указало на букву «р» и спокойно закончило свое верчение на букве «а». И все в один голос закричали:
— Мирра! Почему Мирра?
Незадолго до этого мой сын Дмитрий написал мне письмо из Франции, куда он приехал погостить к хозяевам Clos de Potas в сопровождении двух своих товарищей-гардемаринов. Они только что кончили курс Корпуса в Бизерте. И еще с ними оказалась, не знаю почему, дочь известного поэта Бальмонта. Вот она-то и носила это имя. Дима писал мне, что Мирра и он полюбили друг друга и хотят пожениться, но не знают, как поступить: сейчас пожениться и сразу же разъехаться, потому что ни у него, ни у нее нет ни гроша, или же сейчас разъехаться, а потом пожениться, когда устроятся материальные дела.
Что на это можно было ответить? Диме девятнадцать, а Мирре шестнадцать. Людей, влюбившихся друг в друга в таком возрасте, бесполезно уговаривать, чтобы они избрали третий путь — в этом возрасте вообще не думать о женитьбе. Поэтому я ответил, что, по моему скромному разумению, лучше разъехаться, пока не устроятся материальные дела.
Кончилось все тем, что Мирра стала заигрывать с товарищами Димы, считая, очевидно, что три поклонника — это немного. Но Дима решил, что это слишком много. И тогда Мирра и два гардемарина куда-то уехали, и больше я о ней ничего не слышал. А Дима остался. А вскоре пришла беда — вместо свадьбы похороны.
* * *
Анна Бернард овна была вообще болезненна. А тут наступил vendange — сбор винограда. Винограда было много, но с ним Анна Бернард овна справлялась. Она снимала виноград с кустов, а Федя подходил с деревянным сосудом, который носил на ремнях на спине, и она клала в него виноградные кисти. Когда сосуд наполнялся, Федя переносил виноград к сборному пункту. А там собранный виноград складывали в ящики и везли на фабрику под прессы, где из винограда выживали сок. С тех пор, как завелась механизация по обработке винограда, во Франции не стало хорошего вина. Потому что вместе с ягодами давились не только косточки, но и веточки, на которых росли ягоды. Эти добавления придавали вину особенный привкус, к которому французы в конце концов привыкли, но мне это вино показалось неприятным. Оно называлось ordinaire, то есть обыкновенным, и было дешевым — полтора-два франка за литр. Мы с Марией Дмитриевной немного позже позволяли себе роскошь покупать испанскую контрабанду. Она стоила семь франков.
Ящики были тяжелые, их надо было подымать на телеги, запряженные лошадьми. В это время по дорогам двигались вереницы этих телег впритык друг к другу. И так как телеги были открыты, то кони с аппетитом ели виноград из ящиков, которые были перед ними.
Да, ящики были тяжелые. Подымая один из них вместе с мужем, Анна Бернард овна надорвалась. Пока нашли доктора, она уже скончалась. Мрачные предсказания сбылись: сначала Mimi, потом Bibi и, наконец, их хозяйка.
Состояние Феди нельзя рассказать. Кто этого не испытал, не поймет, кто испытал, знает без рассказов. Он сказал Диме после похорон:
— Дима, я не могу ни одной минуты больше оставаться в этом проклятом Clos de Potas. Но нельзя все так бросить. Дима, умоляю вас, останьтесь. Справитесь?
— Справлюсь.
И справился. Тут ему небольшую помощь оказала Мамань. На юге Франции проживает много итальянцев, говорят они по-французски очень плохо. Среди них выделялась порядочного возраста итальянка, которую все называли «Мамань», что значит «Мама». Жила она по соседству, иногда работала в Clos de Potas. Познакомилась она и с Димой еще во время первого приезда на каникулы, что ему сейчас и пригодилось.
Она стала готовить Диме какие-то сугубо провансальские блюда, а главное, ему было хоть с кем обмолвиться словом. Но, конечно, она долго не могла помогать, потому что была бедна и у нее были свои дела.
Дима остался один. Первым делом надо было ухаживать за лошадью: кормить, чистить, выносить навоз. Вторым — работать с нею в винограднике. Они уже знали друг друга, и дело спорилось. Затем надо было варить борщ из всего того, что росло на огороде. Варил на неделю. Борщ на второй день действительно вкуснее, чем на первый. Потом какой-то вкус остается, но питательность исчезает.
Еще был пес, которого тоже надо было кормить. Но он доставлял Диме большую радость, вечно прыгая вокруг него с изъявлениями любви.
В общем, из всего, что окружало Диму, можно было извлечь питание, но не было ни одного сантима денег. И однажды с наступлением вечера, задумчиво смотря на таинственные огоньки, которые двигались по горам, Диму осенило: «Деньги там». Его приняли охотно, и он по ночам стал толкать вагонетки.
Так прошло шесть месяцев. Федя, наконец, отошел и вернулся. Поблагодарил Диму и сказал ему:
— Я нашел, кому надо передать Clos de Potas. Это наши, казаки, они выдержат. А мы, интеллигенты, не можем. Эти казаки, между прочим, родственники Плевицкой. А я нашел в другом месте себе дело.
На том и расстались. Он уехал, вскоре прибыли казаки. Дима сдал им Clos de Potas и тоже уехал.
Глава VIII
ПОЕЗДКА В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ. «ТРЕСТ»
Итак, Мария Дмитриевна уехала из Сремских Карловцев в Париж. Я ее не удерживал. Ведь прошло два года с тех пор, как я встретился с Якушевым в Берлине. За это время я его не видел. Но генерал Климович, ведавший контрразведкой в РОВС и находившийся при Врангеле, наладил связь с Якушевым.
Врангель в «Трест» не верил, но не мешал Климовичу возиться с ним. Связь была постоянная, и я увидел, что теперь настало время при помощи Климовича и «Треста» найти моего сына. Благодаря Анжелине я знал, что он находится в доме для умалишенных в Виннице.
Я сказал Климовичу, что хотел бы воспользоваться тем приглашением, которое Якушев сделал в Берлине. Климович согласился мне помочь и запросил Якушева, готовы ли они принять меня. Ответ был утвердительный с добавлением: «Сделаем все, что можем».
При решительном разговоре я спросил Климовича, как он оценивает опасность такого путешествия. Он сказал:
— Шестьдесят процентов за то, что вы вернетесь.
— А на сорок процентов я рискую, — добавил я. На этом и порешили.
* * *
Конечно, мы готовились к этой операции очень конспиративно. Но Врангелю генерал Климович рассказал. И вдруг начали болтать. И болтовня шла от адъютанта Врангеля. Тогда я пошел к Петру Николаевичу и сказал ему:
— Петр Николаевич, я раздумал. Я поеду в Польшу, а не в Советскую Россию. В Польше живет Маша, кормилица моего сына, ее фамилия Бойченко, и она вполне оправдывает это имя. Она проберется в Советскую Россию и все разузнает.
В конце концов наступил день моего отъезда [осень 1925 г. —
Р. К.]. Так как все знали, что я уезжаю надолго в Польшу и вернусь нескоро, то по этой ли причине или по какой-то другой, но провожать меня на вокзал явилась почти вся русская колония с Врангелем во главе. А молоденькие сестры Колчины, с которыми мы были близки, улучив минутку, завели меня за водокачку и надели на меня маленький крестик на шнурочке.
Дело было ясно. Они что-то знали или о чем-то догадывались. Они меня тронули своею заботою и вместе с тем встревожили. Если эти девочки знали, то тогда знали все.
Раздался гудок, и поезд тронулся, затрепетали в прощании руки провожавших, вот поезд прошел тоннель. «Alea jacta est»
[56]. В поезде ехал я недалеко, где-то пересел на пароход и стал подниматься по Дунаю. Конечно, я все время думал о тех, кого оставил, и о том, что меня ждет.
Но интересно было следующее. Погода была прекрасная, я сидел на палубе и не заметил, когда около меня примостилась молодая девушка. Она вдруг затеяла со мною разговор по-русски. Я решил, что она из эмигрантов, но ошибся.
— Я приезжала сюда к своим родным, — и прибавила тише, — из Советской России.
Я насторожился, но подумал: «Если она шпионка, то зачем выдает себя?». В доказательство, что она оттуда, она подарила мне мелкую монетку, на которой были изображены серп и молот.
* * *
На каком-то этапе моего пути моя спутница исчезла. Я пересел с парохода на поезд и на нем приехал в Варшаву.
В Варшаве меня встретил Вацлав Цезаревич Каминьский, которого я известил. Он был поляк, но женат на русской, на Марии Дмитриевне Билимович, брат которой Александр Дмитриевич был женат на моей сестре Алле Витальевне.
Мне необходимо было изменить свою наружность. Всего лучше было это сделать у Каминьского. Он жил в то время в Ровно и пригласил меня к себе. Ему я раскрыл свои планы. Он очень обеспокоился, но еще в Варшаве побежал куда следует. Я сказал ему:
— Передайте там, что всего выгоднее для меня, чтобы меня посадили временно в польскую тюрьму. Там бы я скрылся бесследно и, заросши бородой, вышел бы неузнаваемым.
Но поляки не согласились на это и успокоили Вацлава Цезаревича, сказав, что им все известно и что они будут содействовать.
* * *
Необходимо отметить, что перед моей поездкой возникли недоразумения с польской визой. Когда через генерала Климовича было получено согласие от Якушева на мое путешествие, возник вопрос о польской визе. Климовичу сообщили, что виза для меня уже есть в польском консульстве в Белграде. Я отправился туда, но в консульстве мне сказали, что визы нет. Но у поляков служила одна русская эмигрантка, которая под секретом сообщила мне, что виза пришла, но консул почему-то не верит в ее правдоподобность и телеграфно запросил Варшаву об ее подтверждении. Варшава подтвердила, и я получил визу. Из этого было ясно, что поляки действительно помогают, и Каминьский успокоился.
* * *
И вот мы поехали в Ровно, где радушно встретила нас Мария Дмитриевна Каминьская. Они меня очень баловали, а Мария Дмитриевна дала мне прочесть книги, которыми она увлекалась. Тут впервые я познакомился с учениями индусских йогов, в частности, с Рамачараки. Довольно хорошо я изучил «Хатха-йогу», то есть учение о здоровье, и стал исполнять предписания. Этому я приписываю свое долголетие.
На страницах книги «Миросозерцание индусских йогов» я прочел примерно нижеследующее: «Высшая добродетель — справедливость». Это было изложено в книге так, что произвело на меня глубокое впечатление. И я решил: путешествуя по стране Советов, то есть марксистов, чье учение для меня было неприемлемо, быть справедливым к тому, что увижу. Я стремился войти в Россию свободным от предвзятых мнений. Мне кажется, что мне это удалось до известной степени.
* * *
У Вацлава Цезаревича и Марии Дмитриевны был маленький мальчик. Он любил смотреть, как я играю на скрипке, и называл меня «дядя Тили-тили». Кто знал тогда, что этот милый мальчик через много лет погибнет в автомобильной катастрофе в далекой Америке.
Во время моего пребывания у Каминьского его посещали разные лица, знакомые мне по прежней жизни. В частности, помню бывшего кавалерийского полковника Чихачёва, когда-то моего подчиненного по «Азбуке». Очутившись без средств в Варшаве, он поступил в цирк и выступал в нем как профессионал, показывая класс высшей верховой езды. Одновременно в манеже он давал частные уроки верховой езды. Там он познакомился с графиней Потоцкой
25, дамой шестидесяти лет, очень спортивной. Чихачёв свободно говорил по-польски, графиня была с ним на «ты», что вообще принято у поляков, а в данном конкретном случае обозначало еще и ее дружбу с ним. Обращения на «вы» нет у них. Есть обращение как бы в третьем лице. Например, когда Чихачёв говорил с Потоцкой, то употреблял выражения типа «пани грабиня думает», «пани грабиня считает» и так далее, а не «вы думаете», «вы считаете».
Однажды она попросила его поехать с нею за город верхом. Он отказался, объяснив:
— Ехать за пани грабиней в качестве грума я не могу, я русский полковник, а чтобы я ехал рядом, пани грабиня, вероятно не согласится.
— С некоторыми нашими теперешними офицерами я вообще никуда не поеду, а с тобою другое дело, — ответила графиня.
На обратном пути она позвала его обедать. Он отказался, сославшись на то, что одет не так, как надо. Она рассмеялась и сказала:
— Пустяки.
И посадила его по правую руку от себя. Словом, ничего лучшего желать нельзя было. Это была истинно польско-русская дружба, о которой говорят, что она невозможна. Возможна, если обе нации на высоте.
* * *
Чихачёву надоело служить в цирке, по-видимому, сказывался возраст и он устал. Он сел на своего великолепного коня по имени Император и отправился в дальнее путешествие. Он ехал от ксендза к ксендзу и от помещика к помещику. И всюду его принимали радушно.
На одном из этапов своего пути он добрался и до князей Воронецких. Этот старинный род еще существовал в лице двух стариков, их сына и дочери. Чихачёв рассказал мне, что старики читали мою книгу «Приключения князя Воронецкого» («В стране свободы»). По его рассказу, они были очень несчастны. Их единственный сын жестоко избил их. Они подали на него в суд. На суде сын показал, что вынужден был их избить — они не кормили его. А родители говорили, что они так бедны, что и сами голодают. Судьба их дочери тоже печальна. Она убила своего мужа и попала в тюрьму. Так кончал свое существование именитый в шестнадцатом веке княжеский род…
* * *
Чихачёв доехал до Ровно, со вздохом сожаления продал своего Императора и нашел себе место, в корне переменив профессию. Чешская фирма «Шкода» купила под Ровно сахарный завод, некогда основанный моим отчимом Д. И. Пихно и отчасти мною. Завод действовал — труба дымила. Высоко на трубе виднелись цифры «1913» — год основания завода. Предприятию «Шкода» понадобился так называемый артельщик, перевозивший скрытно крупные суммы из управления в банк. Этим и занимался Чихачёв. Он долго возил деньги благополучно. Но однажды воры выследили его и искусно выкрали всю сумму. Преступники найдены не были, и Чихачёв был в полном отчаянии. Но администрация «Шкоды» настолько доверяла ему, что не рассчитала его, а только сказала, что будет вычитать понемногу из его жалованья.
От азбучника Чихачёва я не считал нужным скрывать, что собираюсь нырнуть в Советскую Россию. И он был так любезен, что взялся меня экипировать. Купил мне простой, но теплый, на овчине, полушубок, высокие сапоги на очень теплой подошве, теплые брюки и соответственную баранью шапку. И еще очень теплые, чистой шерсти, кальсоны. Все это в высшей степени мне пригодилось.
* * *
Пробрался ко мне и один мой знакомый еврей, из бывших перемольщиков. Он постарел, но, посмотрев на меня, заросшего полуседою бородою, с грустью выдавил из себя:
— И что сделала из вас жизнь…
И прослезился.
В Ровно вообще тогда царствовал польский язык. Русские были принижены, на улице громко не говорили. А если кто, не стесняясь, вызывающе и кричал по-русски с соответствующим акцентом, то это были евреи. Они полюбили Россию после того, как очутились под властью поляков. Здесь они были равноправны, но презираемы.
* * *
Я каждый день ходил не меньше десяти километров, тренируясь перед переходом границы. Наконец пришло известие, что надо ехать в Варшаву, где у «Треста» был сообщник, некий Каминьский. Он был обязан содействовать моему переходу через польско-советскую границу. Не знаю, на какие средства он имел прекрасную квартиру…
Жил я у Каминьского в Варшаве, где у него тоже была квартира, однако часто бывал у трестовца Липского. У него была молодая красивая жена. Оба были светские люди и скрывали свои истинные отношения между собой. Но я подсмотрел, что под внешней вежливостью была глухая вражда. Поэтому я поверил, когда позже мне стали говорить, что она была причиной всех бед «Треста».
Дело было так. Когда Якушева за его ревностный труд по специальности («Внутренние воды России») отправили за границу посмотреть, что там делается в этом плане, какая-то москвичка просила передать своему сыну в Варшаве письмо. Письмо было семейное, невинное. Но, явившись к Липскому и передав ему письмо, Якушев стал говорить лишнее о «Тресте». О том, что это подпольная организация, которая борется против советской власти. Это слышали оба супруга.
Затем Липский сообщил своему приятелю Щелгачеву, жившему в Риге, о визите человека «оттуда». Щелгачев, бывший офицер, работал у меня в «Азбуке». Он сообщил об этом азбучнику «Око» (полковнику П. Т. Самохвалову), а «Око» — Климовичу. И вот почему Климович приехал в Берлин, через «Око» вызвал меня к Лампе, и с присоединившимся к нам Чебышевым мы приняли и выслушали Якушева.
Но когда Якушев вернулся в Москву, его арестовали и предъявили ему факсимиле письма Липского к Щелгачеву. Как оно попало к Дзержинскому? Стали подозревать, в частности, сначала «Око», потом жену Липского, ненавидевшую своего мужа. Она будто это устроила. Тогда я вспомнил эту ненависть, которую подсмотрел, скрываемую за внешней учтивостью.
* * *
Мое пребывание в Советской России в течение полутора месяцев описано в книге «Три столицы». Тут я могу только добавить то, чего нет в ней. По прошествии стольких лет стало кое-что ясным, что было тогда непонятным. Кроме того, можно уточнить некоторые детали.
Я перешел границу в конце 1925 года, накануне Рождества, в районе станции Столпы на Минском направлении. Между прочим, один бывший военный из эмигрантов, прочтя «Три столицы», написал: «Как неосторожен Шульгин. Из его писания совершенно ясно, что он перешел границу в Финляндии».
Перейдя границу, мы ехали глухими лесами на Минск, сделав ночью семьдесят километров. Ехали в объезд, чтобы миновать городок, где сидели чекисты. Теперь представляют дело так, что и это было комедией. Но это не так. Провокация «Треста» была известна только очень малому числу чекистов. И потому объезд этого городка был по существу необходим. Еще меньше знали чекисты минские, куда мы, наконец, прибыли.
* * *
Лев Никулин написал книгу «Мертвая зыбь» о «Тресте», в связи с чем мне интересны два следующих вопроса. Во-первых, почему Феликс Дзержинский выпустил меня обратно из Советской России, хотя имел полную возможность этого не делать? Во-вторых, почему он, который, как оказалось, прочел еще в рукописи книгу «Три столицы», ничего не вычеркнул из нее, за исключением одной строчки, когда мог бы вычеркнуть все, что угодно, и я бы этому подчинился?
* * *
Много лет спустя, после моего ареста в Югославии, допрашивавший меня полковник-чекист Кин спросил, почему я с известного времени в эмиграции бросил политику.
— Потому что меня провели как дурака. Так оскандалившись, я решил, что больше уже не годен для политической деятельности.
Кин улыбнулся и сказал:
— И совершенно напрасно. Конечно, позже мы вошли в «Трест» и его ликвидировали путем провокаций. Но когда вы разговаривали с Якушевым в Берлине, «Трест» был «честная» контра. И организации очень сильная и смелая. По-видимому, Якушев был связан не только с поляками, но и с англичанами, точнее, с «Интеллидженс сервис».
Насчет англичан — это было предположение полковника Кина, но участие в нем английского разведчика Сиднея Рейли лишь подтверждает подобное предположение. Что безусловно верно — это связи Якушева с польской разведкой. Он даже обменялся с каким-то офицером из польской разведки револьверами с серебряными вензелями.
* * *
Таким образом, во все это дело Якушева втянул Троцкий. Вернемся же к нему.
На рубеже 1925 и 1926 годов, когда «Трест» уже перестал быть «контрой проклятой», но я об этом не подозревал, я перешел «тайно» границу и полтора месяца прожил в России. В это время Якушев не раз говорил мне, что Троцкий очень хотел бы познакомиться со мною, но знакомство не состоялось.
— Это опасно, — сказал Якушев.
Чего Троцкий боялся? Ведь «Трест» был в руках Дзержинского. Значит ли это, что Троцкий боялся чекистов? Но ведь он должен был быть в самых ближайших отношениях с ними. Понять это возможно вот из чего. Однажды, когда мы были наедине, Якушев спросил:
— Что вы думаете о нас, о «Тресте»?
— Не совсем понимаю вашего вопроса. «Трест» является сильной контрреволюционной организацией, которой вы руководите.
На это Якушев ответил:
— «Трест» — это измена, которая поднялась так высоко, что представить этого вы себе не можете…
Я тогда не очень это понял. Сейчас кое-что понимаю или, по крайней мере, могу делать гипотезы. А гипотезы, по выражению Горького, это «собаки, гоняющиеся за истиной».
Кто же был персонально этими высочайшими лицами, участвовавшими в измене? Троцкий? Дзержинский? Или оба? И сейчас это неясно. Во всяком случае, эти «изменники» были ликвидированы.
Троцкий был выслан и затем погиб в Мексике от руки агента Сталина. Так погиб человек, которого Якушев называли «умная жидюга», человек, который поощрял русских националистов, который руководил советскими войсками во время Гражданской войны, руководил через русских националистов-офицеров Генерального Штаба, которые в своем большинстве оказались на службе у советской власти.
Дзержинский скончался вдруг при загадочных обстоятельствах, не достигнув и пятидесяти лет.
Быть может, пройдет еще некоторое количество годов и выяснится окончательно, кто были эти изменники, о которых говорил Якушев, и кто были те, кому изменяли. Мне кажется, что сам Якушев, несомненно, в этой измене участвовал. Более того, став вынужденно провокатором, он не изменил своим убеждениям и сохранил свои прежние симпатии. Во всяком случае, во всех перипетиях, сопровождавших мое пребывание в Советском Союзе, я чувствовал, что в своей душе он мой человек, а не советский. В особенности это проявилось перед моим возвращением на Запад. Якушев предложил мне, вернувшись в эмиграцию, описать мои приключения и впечатления от поездки. Сначала я ответил решительным отказом:
— Я там буду на свободе писать правду, потому что неправду не имеет смысла писать, а вас здесь по моим писаниям всех перехватают.
Он был очень огорчен моим отказом. Тогда я предложил:
— А нельзя ли устроить так: я буду писать свою книгу и частями пересылать вам для просмотра. Все, что вы найдете опасным, вычеркивайте красными чернилами и пересылайте обратно. Вашей цензуре я всецело подчинюсь.
Он подумал и ответил:
— Это сделать можно.
* * *
И это было сделано. Все, что появилось в эмиграции под заглавием «Три столицы», было просмотрено Якушевым. Красными чернилами была вычеркнута только одна строка, совершенно неважная.
Но позже я узнал, что Якушев не был настоящим цензором. Настоящим цензором был Феликс Дзержинский. Когда я был в России, я этого не знал. Я не знал, что Якушев уже был связан с чекистами, об этом мы все узнали несколько позже. Но что он лично был в руках главного чекиста, я узнал с достоверностью из книги Льва Никулина «Мертвая зыбь», изданной в 1966 году. Из нее, в частности, явствует, что Якушев подал Дзержинскому четыре тысячи рапортов.
Так почему Дзержинский не только меня выпустил из Советского Союза, но и пропустил текст «Трех столиц», где, между прочим, были резкие выпады против Ленина? Ведь Дзержинскому стоило взять красное перо, и эти страницы не были бы напечатаны. Я же получил от Якушева только одно письмо, в котором он писал: «Поменьше идеологии». Это письмо запоздало, потому что «Три столицы» уже были набраны, и притом совершенно непонятно было, к чему эта фраза относится — идеология была всюду.
Объяснение кажется мне простым. Оставим в стороне тот факт, что «Трест» превратился в провокацию, и даже более того, представим себе, что Шульгин легально пропутешествовал по Советской России. И с этой точки зрения рассмотрим, что он написал о ней на переломе 1925–1926 годов.
Общий смысл этого, скажем так, рапорта эмиграции, был в том, что Россия возрождается после ужасов Гражданской войны. Этим возрождением наша страна обязана была НЭП’у, то есть новой экономической политике. Между тем, этот НЭП правильнее было бы назвать СЭП — старой экономической политикой.
Итак, Шульгин, в общем-то враждебный Советам, утверждает, что Россия возрождается благодаря НЭП’у, этому последнему деянию Ленина. Представить Россию западным державам в таком виде, внушить эту мысль Европе, было выгодным для руководства страны.
Вот почему Дзержинский воздержался от красных чернил. Несомненно, в этом чувствовалось и влияние Троцкого, который утверждал, что не следует делать революцию только в одной стране.
* * *
В связи с выходом тогда книги хотел бы сказать несколько слов и о закулисной стороне ее издания. На русском языке она была выпущена берлинским издательством «Медный всадник» тиражом в три тысячи экземпляров. По договору я должен был получить треть стоимости тиража. Не хочу называть имен, но, к моему глубокому разочарованию, издательство обмануло меня, сообщив, что с трудом распродало лишь половину тиража, в то время как почти мгновенно был распродан весь тираж по четыре франка за книгу.
С вариантом книги на французском языке тоже произошли накладки. Половину гонорара, полторы тысячи франков, отдал переводчику, но перевод был таков, что мне пришлось самому весь текст исправлять и переправлять.
Но главное, книга была издана и дошла до читателя.
* * *
Побудительной причиной, погнавшей меня в 1925–1926 гг. в Россию, было желание найти моего больного сына и вывезти его в эмиграцию. Это хорошо понимал Климович. Однако, провожая меня, он сказал:
— Раз уж вы там будете, проверьте этот «Трест».
Насколько мог, я «Трест» проверил и при его помощи искал сына. В Винницу меня не пустили, сказав, что если он меня узнает, то выйдет скандал. Кого-то послали в Винницу. Он вернулся и рассказал, что мой сын там не обнаружен. Тогда послали второго, более «расторопного». И этот не привез ничего нового. Быть может, Якушев вообще никого не посылал, рассуждая, что сумасшедшего невозможно вывезти за границу. Но может быть и другое. Посылали уже в январе 1926 г. А по позднейшим сведениям, мой сын умер в конце 1925 г., и его там, естественно, не могли найти.
Только через много-много лет, в 1960 году, мне удалось лично побывать в Виннице. Разумеется, меня сопровождали. И там я прежде всего побывал на том обрыве, где когда-то, 29 июня 1905 года, был с Марусей. Обрыв сохранился, но городского суда уже не было, было что-то другое, и стоял примерно на том же самом месте памятник Богуну, одному из атаманов, кажется, времени
Богдана Хмельницкого. Я жил в гостинице, а сопровождающие меня лица энергично старались найти следы пребывания моего сына в больнице для умалишенных в 1925 году.
Через некоторое время и я посетил территорию бывшей больницы. Она была велика, некоторые здания не сохранились, не сохранились и больничные архивы. После оккупации Винницы немцы его уничтожили. Часть больных расстреляли, другие разбежались. Дело в том, что недалеко от города немцы строили подземный командный пункт Гитлера, и вся эта зона очищалась ими от нежелательных элементов. Я побывал и там. Действительно, были видны следы этого убежища, но, видимо, оно было взорвано снизу при отступлении немцев, и там царил полный хаос.
* * *
Итак, на месте ничего не удалось узнать о моем сыне. Я посетил больничное кладбище, стоявшее высоко над Бугом. Здесь где-то была безымянная могила моего сына, расположенная среди других могил с номерами вместо надписей.
Дело выяснилось в гостинице. Однажды меня вызвали из моего номера и пригласили в другой, побольше. Я вошел и увидел нечто вроде заседания. За столом были сопровождавшие меня лица — председатель владимирского областного управления КГБ В. И. Шевченко, его подчиненные и местные представители этой организации. Среда! них выделялась незнакомая мне пожилая дама. Когда я вошел, Шевченко сказал, указывая на нее (ее не представили мне):
— Вот врач, который лечил вашего сына.
— Хотя вы уже в пожилом возрасте и в бороде, — заговорила она, как бы продолжая прерванный разговор, — а ваш сын был молодой и бритый, но какое-то сходство есть.
Не раз мне и раньше говорили об этом: «Чем-то вы похожи». Дама продолжала:
— Это было очень давно, в 1925 году, но я запомнила вашего сына, потому что он был трудный больной. Он отказывался от пищи, и приходилось кормить его насильно. Эта операция так же болезненна для больного, как и для врача.
Я спросил:
— Был ли он по имени Вениамин?
— Я забыла, но теперь, когда вы сказали, да, Вениамин.
— Был ли у него шрам на голове?
— Был, и он переходил на лицо с правой стороны.
— Был ли он хромой?
— Не знаю. Я видела его только сидячим. Но это он. Каков его конец? Должно быть, он умер, но я не могу сказать точно, так как была в этой больнице почти до конца 1925 года, а потом уехала. Он мог умереть после этого.
Ее сообщение подтвердило слова Анжелины, которая сказала после моего возвращения из России:
— Он немного вас не дождался. Когда вы приехали, он уже умер. Я вижу его могилу. Он там, где Владимир.
— Какой Владимир? — спросил я.
— Владимир… Он старше вас, такой плотный, на носу золотое пенсне.
— Что-то не могу припомнить.
— Да вы же его прекрасно знали! Вы с ним много работали.
— Какую работу?
— По газете.
Тут я вспомнил. Это был Владимир Германович Иозефи. Мы много с ним работали в газете «Россия» в Екатеринодаре в 1918 году и еще в других газетах. Действительно, я хорошо его знал. Он умер впоследствии от сыпного тифа в ЧК, вероятно, в 1920 году.
Анжелина прибавила:
— Он очень любил Вашего сына, и потому он его встретил там. Бывают души-покровители, и он стал таковым для вашего сына.
* * *
Когда я был в Советской России, я послал много писем разным моим друзьям за границу, в том числе моему другу юности Сергею Андреевичу Френкелю. И случилось чудо — мое письмо дошло к нему. Оно было зашифровано, но не в том смысле, что написано с использованием какого-нибудь цифрового шифра, а из каждой строчки следовало читать только одну букву, но надо было знать, какую. И вот Сергей Андреевич прочел его, не зная секрета. Он дошел до этого каким-то наитием, в результате чего расшифровал два главных слова: «Россия жива». Он сейчас же вызвал моего молодого друга Вовку, который знал секрет моего письма, и тот тоже прочел эти слова.
Затем я писал еще кому-то, в общем, я знал на память порядка двадцати адресов. О чем и зачем писал, сейчас не припомню. Одно из писем было написано так, как будто писал абсолютную чепуху какой-то еврей, совершенный «адиёт». И оно дошло, известив одного из моих друзей, что не только Россия жива, но и я жив.
* * *
Прибыв в Киев, я навестил семью Марии Дмитриевны. Они жили, и очень давно, на Никольско-Ботанической, 25. Меня впустили, но с опаской — ведь мать и сестры Марии Дмитриевны хоть много обо мне слышали, читая «Киевлянина», но никогда со мною не встречались и не знали в лицо.
Меня пригласили в гостиную, в которой никого не было, но я видел, что занавеска, закрывавшая вход в соседнюю комнату, слегка колышется, как будто кто-то меня тихонечко рассматривает. Потом оттуда вошла высокая, стройная девушка. Поздоровалась и спросила, что мне угодно. Не успел я ответить, как вошла ее мать, пожилая дама. Пригласила сесть за стол.
Мы сидели втроем у стола, разговор не клеился. Они меня не узнавали, а я не признавался. Наконец я сказал:
— От Муси вам привет.
— А кто же вы?
— Ее муж, Шульгин.
Но они после моего ответа посмотрели на меня еще недоверчивее. Но я знал способ, который бы заставил их поверить мне. Вся эта семья была кошатницей, и с годами они выработали особый «кошачий» язык. Он был какой-то жеманный, но жеманством молоденькой жидовочки. Как только я заговорил на таком диалекте и стал рассказывать о Мусе, лица прояснились и мать воскликнула:
— Так вы действительно мой зять!
А Варя сказала:
— А мы подумали, что вы Феликс Дзержинский.
Настроение сразу изменилось, а тут пришел муж Вари, оперный певец. Мне предложили ночевать, и до ужина был концерт. Варя кончила музыкальное училище по классу рояля и потому бегло аккомпанировала с листа. У ее мужа был прекрасный тенор, у нее — меццо-сопрано.
«Горные вершины» Рубинштейна, «Рассвет» Чайковского, «Рождественская кантата», кажется, если память мне не изменяет, Фора и прочее…
Еще была там Лиля, шестнадцатилетняя сестра Марии Дмитриевны, и, кажется, бабушка. Словом, вечер был приятный, как в старые добрые времена в семейном кругу.
Не помню, для чего в этом путешествии я таскал с собою скрипку. Уезжая утром, я забыл ее на Никольской-Ботанической.
После моего отъезда из Советской России мать Марии Дмитриевны вызывали в ЧК. Допросили и отпустили. Варя писала Марии Дмитриевне во Францию: «Нас посетил горе-путешественник, но в конце концов все обошлось благополучно».
* * *
Когда я прибыл в Москву, то узнал от «трестовцев», что Мария Дмитриевна, находившаяся в Париже, серьезно больна. Она потом, когда мы увиделись, говорила, что у нее был менингит. Это страшная болезнь, которая кончается или смертью, или слабоумием. Но у нее не было менингита. Врач, ее лечивший, сказал мне, что у нее был опасный грипп с очень высокой температурой, вызвавший мозговые явления. По-видимому, они начались, когда, уже будучи больной, она узнала, что я нахожусь в Советской России. Когда мы встретились, она рассказывала:
— В бреду я очень хорошо видела, как ангел переводил тебя через границу.
Это, конечно, был ангел-хранитель, который, как учит церковь, есть у каждого человека.
Узнав, что она больна, я через Якушева передал ей сообщение, чтобы она ехала на юг Франции, и каким-то образом, уж не помню как, перевел ей довольно крупную сумму денег, на которую она смогла нанять сестру милосердия, которая и отвезла ее в Ниццу.
Глава IX
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭМИГРАЦИЮ
Перейдя границу в другом месте, но все же в Польшу, я поехал в Варшаву показаться Каминьским и затем отправился в Югославию. Когда я приехал в Сремские Карловцы, Врангель сразу же принял меня.
— Удивительно! Вы живы?
— Жив.
Я вкратце рассказал ему о своих приключениях. Он слушал очень внимательно и весело, но все же в «Трест» не поверил и сказал присутствовавшему при нашем разговоре Климовичу:
— Напишите им вежливое письмо от себя. Поблагодарите за Шульгина. Но я остаюсь пока что при особом мнении. Дальше будет видно.
* * *
В Югославии я пробыл только несколько дней — хотел скорее ехать во Францию. Но наткнулся на неожиданное сопротивление. Французский консул принял меня сухо, спросив:
— Зачем вы хотите ехать во Францию? Работать?
Меня взбесил этот допрос, а главное — тон. Какое ему дело? И я ответил:
— Non, pour mon bon plaisir
[57].
Он отказал мне в визе. Тогда я обратился к нашему посланнику в Белграде, человеку влиятельному в местных кругах. Он мне сказал:
— Зачем вы обращались к этому дураку?
Он позвонил по телефону кому-то и объяснил, что, мол, Шульгин ему хорошо известен, что он вполне почтенный и благонамеренный господин и визу во Францию ему можно дать. Визу я получил и вскоре уехал в Париж.
* * *
В. А. Маклаков в это время уже перестал быть послом и с 1924 года был председателем Эмигрантского комитета. Он покинул посольство и поэтому, приехав в Париж, я остановился в гостинице на rue de Gobelins
[58]. Отель был скверный, он имел вывеску поперек тротуара. Это означало, что в эту гостиницу можно приехать в любое время дня и ночи с женщиной. И так как гостиница была дешевой и удобной для ночных шоферов, то в ней было много русских. Среди них я встретил и свою хорошую знакомую балерину Надежду Аркадьевну Полесскую («Ирина» в «1920 году»), которая была замужем за моряком Реймерсом.
Она просидела почти что всю ночь у моей постели, слушая мои рассказы. Выслушав меня, она заметила:
— Бiп (так называли меня сыновья), ты неподражаем. Но Лялю ты все-таки не нашел?
И она заплакала. С некоторого времени все женщины. которые так или иначе сближались со мною, неизменно влюблялись в Лялю.
Затем в редакции газеты «Возрождение» было собрание всех сотрудников издателя Гукасова и еще разных важных лиц, на котором я им рассказал то же, что всю ночь рассказывал «Ирине». Я был в те дни самым популярным человеком в эмиграции. Газеты, даже враждебные, писали статьи на тему «Шульгин и его подвиг».
Все это через короткое время лопнуло, как пузырь. Но об этом позже.
* * *
Вовка обнимал меня и бранил, называя «старым авантюристом». Брат Феди Александр Иванович Филиппов умолял меня приехать к нему пообедать. Я согласился. Интерес к моей персоне увеличивался еще и тем, что я продолжал носить тот же самый наряд, в котором ездил по трем столицам: толстовка, высокие сапоги.
Словом, я приехал к Филиппову. Меня ласково встретила Мария Бернардовна и ее дочь, подросшая и ставшая хорошенькой барышней. Она сказала мне:
— Папа сейчас придет.
Но папа не приходил. Мария Бернардовна нервничала и, наконец, сказала:
— Не пришел, так и не надо. Будем обедать без него.
* * *
У женщин странный вкус, а Сашке Филиппову удивительно везло — у него была восхитительная жена, которая даже в бальзаковском возрасте стала балериной. Но, сверх того, он прельстил другую красавицу, оперную певицу из наших эмигранток. И, конечно, эта злюка не пустила его домой, чтобы досадить Марии Бернардовне. Впрочем, Мария Бернардовна совершенно забыла о безобразном поведении своего мужа по отношению ко мне. Обед был превосходный. После него мы пили ликер и черный кофе, улегшись все втроем на широкой тахте. Но тут мать и дочь нежно меня ласкали, не переходя границ, так как мать все же стыдилась дочки. Словом, я уехал, благодаря Филиппова в сердце своем за его нахальство.
* * *
И, наконец, я вырвался из Парижа. Rapide помчал меня в Ниццу.
Я нашел Марию Дмитриевну где-то на окраине города в одноэтажном доме, где была большая стеклянная веранда и сад. Она лежала на тахте, еще очень слабая после тяжелой болезни. При ней была сестра милосердия, почтенная дама из бывших русских генеральш, и еще молодая и красивая дама по имени Татьяна, которую я хорошо знал по Югославии
[59].
Мария Дмитриевна, несомненно, тогда была счастлива, что я вернулся живым и здоровым. Мы нежно ворковали, а затем стали размышлять, где нам жить. В Ницце жить было невозможно — и жарко, и дорого. Значит, надо искать квартиру где-то на побережье. Взамен оставшегося в Clos de Potas велосипеда я купил себе в Ницце солидный «Routier» («Рутье»), что значит «дорожный». И поехал, можно сказать, куда глаза глядят, но все же придерживаясь моря. Не помню, как и почему я вспомнил, что если свернуть с дороги вправо от моря, то тут будет место, где живет Бунин.
С Иваном Алексеевичем я познакомился в редакции газеты «Возрождение». Он носил картуз и был похож скорее на спортсмена, хотя никаким спортом не занимался. Жил он в долине, окруженной горами, пожалуй, единственной такой во всем мире. Это все были сплошь цветы — от гор до гор. Среди этой красоты стоял маленький деревянный одноэтажный домик о четырех комнатах. Здесь жил Бунин со своею женою и подругой жены. Я у них провел целый день. К вечеру мне надо было продолжать путь. Они пошли меня провожать, причем Бунин шел впереди с подругою жены, а за ними следовала его жена и я. Она сказала мне:
— Иван Алексеевич очень ценит ваши произведения «Дни», «1920 год». Только находит, что слишком много многоточий. Ну, это неважно. Но почему вы не пишете беллетристических произведений? То, что вы до сих пор писали, очень важно и ценно, но это не беллетристика.
Я ответил:
— Потому что мне удается только описание того, что я лично видел. А беллетристика нечто большее. Это сочинительство. К этому, видимо, у меня нет способностей.
— Иван Алексеевич тоже всегда начинает с того, что было и что он видел, то есть начинает в реальной манере, но затем незаметно для читателя он переходит к тому, чего не было, но что могло бы быть.
Я подумал: «А “Солнечный удар” тоже начался с того, что было?». Но не спросил ее об этом. Ведь она была его женою.
* * *
Так разговаривая, мы вышли на дорогу и я, распрощавшись с ними, поехал дальше.
На следующий день я добрался до знакомого места — городка St. Marguerite. И там я нашел подходящий дом — трехэтажную виллу, стоявшую немного отступя от моря. Договорившись о цене, я снял ее и дал задаток хозяйке, почтенной даме средних лет.
Вернувшись в Ниццу и отпустив сестру милосердия, мы вчетвером — Мария Дмитриевна, я, Татьяна Яковлевна и ее пятилетний сын — перебрались в городок St. Marguerite.
Кроме квартиры во втором этаже из нескольких комнат, я снял еще комнатушку в третьем. В ней ничего не было, кроме шкафа и столика. Мне эта комнатка была нужна для работы, где бы я мог уединиться, так как собирался писать книгу, которая получила название «Три столицы». Мне нужен был покой, чтобы писать.
Расскажу о маленьком эпизоде, происшедшем здесь. В том году ласточки, в том числе и большие, называемые стрижами, прилетели вовремя. Но не вовремя резко упала температура. Не стало ни мошек, ни комаров, и птицы стали падать от голода. Все же они старались не падать на землю, потому что ласточка с земли взлететь не может. Два стрижа упали и схватились лапками за выступ стены около моей комнатки. Видя их в беде, я сообразил, что прежде всего их надо согреть. Поэтому я снял их с выступа, чему они не противились, и засунул в шкаф, в котором было несколько полок. Там было гораздо теплее. Они переночевали в шкафу, а днем я бросил их в воздух. Они полетели. А тут, вдруг, потеплело и они были спасены.
После этого случая я всегда с охотой приходил в свою комнатушку и строчил «Три столицы».
* * *
Внизу, во втором этаже, жили мы пока что вчетвером, и Татьяна заделалась заправской кухаркой. Она каждый день ходила на базар, находившийся на городской площади. Площадь, примыкавшая одной стороной к морю, была необычайно красивою. На ней росли толстые платаны с пятиконечными листьями, как у клена, но другой окраски. Ветви этих платанов росли горизонтально и покрывали всю площадь солнечными пятнами.
На базаре Татьяна закупала все необходимое для обеда и покупки складывала в большую плетеную корзину. Я любил ее сопровождать. Кроме платанов, мне нравились тамошние молодые француженки, тоже приходившие на площадь. Так как они встречались нам каждый раз, я дал этим молодым дамам номера для простоты объяснений и говорил Бойчевской: «Вот моя любовь номер один… вот два… а как вам третий номер?» — и далее выделял их характерные особенности.
Два первых номера были ею одобрены, а третий нет. У этой девушки был, как говорили, тип mauresque (мореск). В этих местах когда-то проживали и мавры, оставив после себя потомство. Эта девочка имела явственно выраженные внешние черты мавританки: очень сильный, оливково-золотой загар и губы, как у сфинкса.
Красавица Бойчевская была урожденная Ратмирова.
«Под горячим небом юга
Сиротский твой гарем…»
Так в опере «Руслан и Людмила» поет Людмила какому-то восточному князю Ратмиру.
— У вас дурной вкус, — заметила Яковлевна по поводу третьего номера и неожиданно прибавила: —Дайте, пожалуйста, еще денег, у меня не хватило.
— У меня с собой больше нет денег.
— Забыли?
— Нет, я все деньги отдаю Марии Дмитриевне.
Она посмотрела на меня презрительно и сказала:
— Вы недотепа. Разве можно все деньги отдавать жене?
У нее с Бойчевским были другие отношения — она все деньги отдавала мужу.
* * *
А в общем она все-таки была очаровательной женщиной. В особенности, когда пела. В нашей квартире был хозяйский рояль. Я аккомпанировал ей иногда с нот, иногда без них. Она пела, особенно трогательно-прекрасно у нее получалось:
«Догорали огни, умирали цветы…»
Окна бывали раскрыты, и хозяйка виллы слушала это пение и очень хвалила Татьяну. Хорошо ли она пела? Как когда. Когда бывали гости, она почему-то робела и начинала фальшивить, выходило плохо. Но когда слушала хозяйка, она не робела, зная, что той нравится ее пение, а из посторонних ее никто не слышит. Она заблуждалась. Вилла стояла довольно высоко, и голос ее был слышен и под платанами на площади, и дальше, у моря. Но она этого не знала.
Готовила она хорошо и как-то между прочим, успевая делать массу других дел по хозяйству. Тяп-ляп — и обед готов. Позже, когда появились всяческие ягоды, она подавала на десерт кушанье, называвшееся «пища богов». Тут были клубника, бананы, абрикосы или персики и вино, хорошее белое вино. Это, несомненно, было вкусно.
Ее сынок, пятилетний Арик, был интересный мальчик-бедняжка. У него было то, что сейчас называют детским параличом. И он лежал. Мать сокрушалась, но казачка Ратмирова была идеальной матерью.
Что делать? Наконец, она узнала, что не очень далеко есть католический монастырь, где самоотверженные монашки вылечивают именно таких бедных детей. Она попросила меня отвезти ее с ребенком туда. Я это сделал, и мы сдали Арика монашкам. Татьяна плакала, но появилась какая-то надежда. Монашки же сказали, чтобы мать не приезжала раньше времени, то есть не раньше, чем через месяц.
Через месяц мы поехали опять. Большой зал, выложенный разноцветным мрамором, не очень высокий, что придавало какую-то уютность, и вместе с тем весь пронизанный светом.
Мы ждали с Таней. И вот из одного угла показалась монашка, вся в лиловых шелках, в головном уборе из туго накрахмаленного белоснежного полотна. Она придерживала за плечо ангельски красивого ребенка, и он шел, шел мальчик, который месяц тому назад лежал без движений. Его подвели к матери. Мать, тоже красивая, опустилась на колени и целовала ему ручки, плача от счастья.
Картина, я вам скажу! Я стоял чуть-чуть поодаль. Прошло уже около полувека, но эту картину вижу до сих пор…
Месяц тому назад, когда мы привезли ребенка в монастырь, он говорил только по-русски, говорил правильно, не как ребенок. Теперь он совершенно забыл русский и говорил свободно по-французски с прекрасным акцентом. Просто чудо!
Прошло еще некоторое время, и он сказал по-французски:
— Скоро я буду говорить по-русски.
И действительно, заговорил. С французским акцентом, но по-русски правильно.
* * *
Татьяна была взрослым человеком, но и она была способна к переменам. Я не знал ее в Константинополе, где она все зарабатываемые проституцией деньги отдавала принуждавшему ее заниматься этим промыслом мужу, которого, между прочим, не переставала любить. Как и Неночка, она любила мерзавца. Я познакомился с нею в Сремских Карловцах, где на ней совсем уже не было константинопольского налета. Она бывала с нами у Врангелей, где принимала участие в спиритических сеансах с блюдечком. И здесь, во Франции, держала себя в высшей степени прилично. Так продолжалось и дальше.
Когда мы расстались с нею, она поехала в Париж и зарабатывала себе на жизнь в какой-то большой фирме в качестве манекенщицы. Но каждое воскресенье ездила куда-то далеко к своему сыну. Монашки помогли, но временно. Мальчик снова слег. Далеко от Парижа была больница для таких детей, в которую ей удалось устроить своего мальчика. И она регулярно его навещала.
В этой больнице рядом с ее сыном лежал молодой француз, который с интересом наблюдал, как мать самоотверженно заботится о своем сыне. Этот француз был знатного рода — vicomte d’Ivry. Кончились эти наблюдения тем, что этот больной представитель знатного французского рода влюбился и сделал предложение руки и сердца незнатной, но здоровой и красивой женщине, а главное — идеальной матери.
Татьяна была умна и по-своему горделива. Она ответила:
— Вы знатны, а я простая казачка и поэтому ваше предложение принять не могу. Но если ваш отец, comte d’Ivry, попросит моей руки для вас, то я соглашусь.
В следующее воскресенье приехал отец, которому представили Татьяну. Он был уже наслышан о ней и с чисто французской рациональностью сделал ей предложение в следующей форме:
— Мадам, где я найду жену для моего тяжелобольного сына, кроме вас? Мы очень хорошо понимаем, что так же, как вы самоотверженно ухаживаете за своим сыном, вы будете ухаживать за своим мужем. Поэтому я прошу вашей руки для него.
Татьяна согласилась, и свадьба состоялась в их наследственном имении Ivry. Бойчевский дал развод за хороший куш — и тут заработал на своей жене.
Мы с Марией Дмитриевной получили пригласительную телеграмму на свадьбу, но не поехали — это было нам не по средствам. Ответили поздравительной телеграммой.
* * *
Она сделала это для своего сына — теперь он был обеспечен. Мальчик был крайне способный. Лежа в кровати, он впоследствии сдал все экзамены за школу, получив высший балл.
Но Татьяна счастлива не была. Вольной казацкой душе был очень тяжел этикет знатного дома. Она писала нам жалобные письма и хотела бежать, но не убежала сына ради. А потом письма прекратились — должно быть она привыкла, вошла в роль графини. Словом, больше я о ней никогда и ничего не слышал.
* * *
В St. Marguerite приехали и поселились с нами профессор Александр Дмитриевич Билимович со своею женою и моею сестрою Аллой Витальевной и их дочь Таня.
Таня нестерпимо хлопала дверьми, и мать постоянно ее бранила. Потом к нам присоединился и мой сын Дима. Перед домом была небольшая ровная площадка, на которой Дима выучил свою кузину ездить на велосипеде, и она носилась по ровному кусочку земли без руля.
А с Марией Дмитриевной случилось несчастье, хотя она и не пыталась ездить без руля. Вилла была на горке, и однажды, когда она, как обычно, села на свой велосипед и поехала вниз, руль вдруг свернул набок, она упала вперед на обе руки и ужасно поранила себе ладони. Почему свернулся руль? Я ежедневно — и тогда накануне тоже — крепко заворачивал гайку. По-видимому, вечером кто-то гайку отпустил. Но кто и для чего? Это так и осталось тайной.
* * *
У Марии Дмитриевны и у моей сестры — а моя сестра очень мирная женщина — сразу испортились отношения. Почему? Алла Витальевна нашла, что Мария Дмитриевна слишком мало уделяла мне внимания и слишком много себе. Моя сестра очень меня любила, она была старше меня на четыре года (а Лина Витальевна на четырнадцать лет), мы были с нею почти что ровесники и в детстве и в юности жили одними интересами, делили вместе одни и те же радости и печали. Это я выдал ее за Александра Дмитриевича Билимовича, разъяснив ему кое-что, чего он не понимал, в частности, что моя сестра им интересуется. Брак этот был исключительно счастливый. Но, отпраздновав серебряную свадьбу, моя сестра скоропостижно умерла уже в Югославии в 1930 году.
По-видимому, из-за возникшей неприязни между Аллой Витальевной и Марией Дмитриевной Билимовичи скоро уехали из St. Marguerite, но недалеко. Они сняли виллу в городке St. Aigulfe, где был превосходный пляж. Песок там был такой мелкий, как нигде в окрестностях, потому что это был песок речной. В этом месте какая-то речка впадала в море. Дима уехал с ними вместе.
Мы с Марией Дмитриевной тоже через некоторое время переехали туда, но не в самый St. Aigulfe, а поблизости. Там через лес со всякими колючками проходила узкоколейка и была станция. Вот в этой станции, представлявшей из себя небольшое одноэтажное строение, Madame chef du gare
[60], тоненькая сухонькая женщина, лет тридцати, сдавала комнату на чердаке. Мы там и поселились, в этой чердачной комнате я продолжал писать «Три столицы». У этого жилища было одно неудобство — не было никаких «удобств». Madame chef du gare часто говорила нам:
— Не надо стесняться. Вот вам лесочек.
Обедать ездили на велосипедах в St. Aigulfe. Там давали обычные французские обеды из многих блюд. Но в виде закуски подавали дыню или арбуз. Дыни были хороши, а арбузы никуда не годились. По-французски арбуз называется «водяная дыня» (melon d’eau).
Наша хозяйка имела собачку по имени Follette
[61]. Собачка вдруг ни с того ни с сего начинала ловить свой хвост и при этом бешено кружилась, как вращающийся волчок. Надо сказать, что ее хозяйка тоже была чуть-чуть помешана. Например, однажды она захотела подушиться, забыв, что во флакон с духами зачем-то налила прованского масла. В результате совершенно испортила свою единственную шелковую кофточку.
Затем как-то она заявила нам, что ей совершенно необходимо отлучиться на три дня и что она просит Марию Дмитриевну заменить ее, вступив в должность Chef du gare. Моя кандидатура при этом не рассматривалась, что свидетельствовало о ее невысоком мнении о моих деловых способностях. Мария Дмитриевна, женщина смелая и властолюбивая, согласилась стать на три дня начальником вокзала.
Через станцию в сутки проходили только три поезда, да и те днем. Первый утренний поезд подошел вовремя. Кондуктор соскочил из вагона и закричал:
— Madam chef du gare, ou ktez-vouz?
[62]
Мария Дмитриевна выбежала на платформу и ответила:
— Voila! C’est moi!
[63]
И тут начался балаган, потому что появился новый Chef du gare. Она деловито передала им багаж, который они должны были увезти, дала расписаться им за него в какой-то книге. Свисток. И поезд покатил.
Через три дня настоящая Madame chef du gare вернулась, без конца благодарила Марию Дмитриевну и сказала:
— Меня переводят на другую станцию. Приезжайте ко мне.
Мы как-то приехали к ней. Там была прелестная бухта, в которой мы купались. А квартиру она нам отвела шикарную и бесплатно. Эту квартиру ей поручено было сдать каким-нибудь англичанам-туристам, которые платят английские цены, то есть втридорога. Но пока что мы великолепно выспались, не заплатив ни гроша.
Follette, конечно, переехала с нею.
* * *
Итак, прежде всего мне надо было выполнить обещание, данное Якушеву, описать мои впечатления о полуторамесячном пребывании в Советской России. Я писал это в убеждении, что «Трест» есть «контра проклятая», не зная, что он уже давно превратился в орудие ЧК для борьбы с контрреволюцией. И поэтому я поставил условие, чтобы весь мой текст был прочитан и одобрен Якушевым, то есть в итоге, как это оказалось, Дзержинским.
Чтобы ускорить это дело, я посылал написанное мною частями и получал обратно, ожидая, что красные чернила цензуры будут пущены в ход. Но, к моему удивлению, из всего текста в триста печатных страниц вычеркнута была только одна строка, совершенно неважная.
Технический процесс писания происходил следующим образом. Я диктовал текст Марии Дмитриевне, и приступили мы к этой работе немедленно, как только она несколько оправилась от тяжелой болезни.
Естественно, что когда мы с нею опять увиделись, я хотел ей рассказать на словах о том, что со мною было в Советской России. Но она отказалась.
— Я не могу слушать, буду слишком волноваться, — заметила она и прибавила, — ведь ты будешь все это записывать?
— Да.
— Вот и диктуй мне. Если я буду писать, то не буду так волноваться.
Мы так и поступили. В St. Marguerite она приходила ко мне в комнатку на третьем этаже, и там мы работали — никто нам не мешал. Особенно это было удобно, когда приехали Билимовичи и, следовательно, внизу стало шумно.
Диктовал я ей и на чердаке той станции, где Мария Дмитриевна стала Madame chef du gare. Но иногда мы работали и после обеда в ресторане в St. Aigulfe, а также и на вилле, которую сняли Билимовичи. Там, насколько помню, я кончил работу над книгой, которая тогда же и получила окончательное название «Три столицы».
Не помню, как нашелся издатель, но помню, что я его не искал. Издательство «Медный всадник», находившееся в Берлине, предложило мне свои услуги. Я согласился, но с тем, чтобы предварительно отрывками книга прошла в газете «Возрождение».
Должен сказать, что в отрывках мое произведение как-то вульгаризировалось и стало походить на детективный роман, главным образом благодаря подзаголовкам. Один я помню: «Человек со спичками» и так далее в том же духе. Получалось что-то вроде Ната Пинкертона. Тут дело было в том, что в «Трех столицах» была одна общая идея, которую без знания секретного шифра, каким-то наитием прочел мой друг Сергей Андреевич Френкель, а именно — «Россия жива». А эти подзаголовки типа «человек со спичками» отодвигали основную идею на второй план.
* * *
Вернемся на мгновение в St. Aigulfe. Там явственно происходило сближение моего двадцатиоднолетнего сына Димы с его кузиной Таней Билимович девятнадцати-двадцати лет. А я в это время должен был поехать по каким-то делам в Draguignan (Драгиньян), главный город департамента Вар, и Таня почему-то вызвалась меня сопровождать. По дороге выяснилось, почему. Она заявила, что они с Димой хотели бы пожениться, и хотела бы узнать мое мнение по этому поводу. Я сказал ей:
— Дима уже хотел жениться на Мирре Бальмонт…
Она перебила меня:
— Но это другое, дядя Вася.
— Пусть другое. Я и тогда не препятствовал Диме, но сама Мирра решила вопрос по-своему, как ты знаешь. И сейчас я не препятствую, если вы не предполагаете вступить в брак немедленно.
— Нет, конечно.
Вернувшись, я поговорил об этом с моею сестрою, то есть с матерью Тани, и сказал ей, что они почти однолетки, а это значит, что Дима будет еще молодым, когда Таня начнет стареть. При этом я не подумал о том, что моя сестра была примерно однолетка со своим мужем, если даже и не старше его года на два. Сестра спокойно выслушала и заметила:
— Я скорее жду осложнений со стороны Тани. Она непостоянна.
В конце концов мы решили предоставить времени это дело. Оно и разъяснилось впоследствии. Мы не могли тогда предвидеть, что появится еще одно существо, которое Диму полюбит прочнее других.
* * *
В связи с этими разговорами мне вспомнилось время, когда Диме было пять лет, Ляле — девять, а Васильку — одиннадцать. Я подслушал тогда такой разговор.
Ляля, более живой, обратился к Диме очень строго:
— Мы не женимся!
И затем еще строже:
— Слышишь?!
Дима, конечно, слышал и приготовился к чему-то плохому. Ляля продолжал:
— А ты должен жениться. Для продолжения. Слышишь?!
Дима вдруг заплакал. Ему казалось, что жениться, даже ради продолжения рода, ужасная беда.
Ошибся ли он? Кто знает. Во всяком случае, он повеление братьев исполнил. Он три раза женился. С первой женой — Таней — он не продолжил фамилии. Со второю женою Тосей, Антониной Ивановной Гвадонини, — продолжил. Родился у него сын, а мой внук, Василий, которого дома зовут Пушок. И на этом дело, насколько я знаю, встало. Хотя Пушок женился, но правнука у меня пока что нет.
* * *
Перед Димой, окончившим в Бизерте морское училище, лежало неопределенное будущее. Он хотел бы быть моряком, но попасть во французский военный флот не представлялось возможным. Французские моряки были довольны замкнутым сословием, потомственным, главным образом из оставшейся французской аристократии. Дима, пожалуй, мог бы стать моряком торгового флота, но это не вязалось с его бизертским высокомерием. Поэтому он придумал поступить в знаменитое Сен-Сирское военное училище под Парижем, которое в свое время окончил Наполеон. Как он узнал, Сен-Сир принимал иностранцев, но это было сопряжено с высокой платой. Дима не решился обратиться ко мне, а открыл свое желание Марии Дмитриевне. Она мне об этом и сказала. А так как она сама была из военной семьи и ее брат был военным в одиннадцатом поколении — окончил Киевский кадетский корпус, но в офицеры выйти не успел, затем служил в Добровольческой армии, — то она желанию Димы сочувствовала. И до такой степени сочувствовала, что готова была из нашего бюджета выделять суммы для оплаты обучения Димы в Сен-Сире. И я платил. В общем, за два года я, кажется, заплатил четыре тысячи франков.
Дима окончил Сен-Сир.
* * *
Сен-Сир был известным училищем. Но традиции у него были и почтенные, и глупые. В частности, у них практиковался так называемый цуг. Это явление практиковалось и в России, в том числе в «славном» южном кавалерийском училище в Елизаветграде. Оно заключалось в следующем. Курс обучения был двухлетний, и юнкера старшего курса всячески измывались над юнкерами младшего курса, которых называли «зверями». И юнкера младшего курса этому покорялись. Но какой-то смысл, оказывается, в этом явлении все же был. Его мне объяснил бывший мой подчиненный по «Азбуке» кавалерийский полковник Чихачёв:
— Молодой офицер кончает школу и попадает в полк. В нем у него будут начальники, а начальники бывают разные, в том числе и несносные. А дисциплина есть дисциплина. Но дисциплина не означает унижения одних другими. Надо подчиняться несносному начальнику и давать ему сдачу, не нарушая дисциплины. Этому учит «цуг». Вот старшие юнкера именно изображают будущих несносных начальников и учат младших, как в будущем выходить с достоинством из несносного положения.
В славном Елизаветградском кавалерийском училище «цуг» был обязателен, но в Сен-Сирском по желанию. Диму и двух других русских, поступивших вместе с ним, спросили, желают ли они подчиняться «цугу». Их, между прочим, французы называли les haricots (ле арикó, то есть фасоль). Дело в том, что русские неправильно выговаривали это слово, произнося его как «лезарико», что вызывало добродушные насмешки французов, и последние так русских и звали: «лезарико».
Итак, они дали согласие на «цуг», и «цуг» производился по отношению к ним. Например, делали им ночью немедленную побудку, предварительно спутав и перемешав им все их обмундирование. Атак как оно состояло в том числе из различных деталей, таких как обмотки и так далее, то быстро одеться по полной форме было очень трудно.
Затем, при переходе на второй курс происходила следующая церемония. Младший курс выстраивался и юнкер старшего курса приказывал ему встать на колени. Потом он обращался к коленопреклоненным с повторявшейся из года в год речью на одну и ту же тему примерно такого содержания:
— С тех пор, как существует Сен-Сир, таких совершенных идиотов, как вы, не бывало…
Дальше державший речь курсант в зависимости от своего таланта развивал и углублял эту тему, обосновывая их идиотизм. Заканчивалась она примерно так:
— Но, несмотря на все это, вас по ошибке перевели на второй курс. Господа офицеры, встаньте!
Они вовсе не были офицерами, они только перешли на старший курс, но так полагалось заканчивать эту речь по традиции училища.
* * *
Дима кончил это училище не в первых, но и не в последних рядах. Его балл был средним, но совершенно достаточным для поступления в так называемый Иностранный легион.
Дело в том, что лица, не имевшие французского гражданства, принимались в Сен-Сир à titre d’étranger
[64] и могли после окончания училища выйти только в Иностранный легион.
Но прошло два года учебы, за это время появилось много офицеров-французов, которые тоже желали поступить в Иностранный легион, и им, естественно, отдавалось предпочтение. Офицерской вакансии не оказалось, и ему предложили поступить в легион унтер-офицером с предоставлением впоследствии первой освободившейся офицерской должности.
Дима обиделся и отказался. Служить в Иностранном легионе было, с одной стороны, удобно. От легионеров не требовалось французского патриотизма, и их боевым кличем был: «Vive la Légion!»
[65].
Но с другой стороны, служба в легионе была очень опасной. Он находился в постоянных боях с африканскими племенами, которые пленных не брали и всех убивали зверски. Быть может, лучше было, что Дима туда не попал.
* * *
Вместо Легиона он поступил на инженерный факультет Люблянского университета. Ему пришлось в спешном порядке выучить словенский язык, который отличался от других языков юго-славянской группы тем, что в нем все время звучит «бим-бом». Словенцы народ в бытовом отношении культурный, но с удивительно узким кругозором и маленьким, я бы сказал, провинциальным шовинистическим патриотизмом. Правда, благодаря этому на небольшом клочке земли у них был университет и опера.
В этом университете, после переезда в Югославию, преподавал политическую экономию и профессор Билимович. У него были удивительные способности к славянским языкам. Он говорил хорошо по-польски, сербски и хорватски. Попав в Любляну, Александр Дмитриевич так овладел словенским языком, что сами словенцы говорили: «Если вы хотите услышать чистый литературный словенский язык, слушайте Билимовича».
Но филологическая одаренность Билимовича была ограничена славянскими языками. Ни французского, ни немецкого, а тем более английского языка он не одолел.
А его жена, моя сестра, Алла Витальевна, наоборот, хорошо говорила по-французски и немецки, а по-словенски и сербски — плохо.
Потом Дима перешел в Белградский университет. И тут, в Белграде, он повенчался с Таней Билимович и вскоре опять перевелся в Люблянский университет.
О свадьбе сказать нечего. Екатерина Григорьевна и я благословили их перед свадьбой дома, у моей сестры Лины Витальевны. Шафером был брат Марии Дмитриевны.
* * *
Не знаю как и почему, но после St. Aigulfe мы с Марией Дмитриевной оказались в городке Vence (Ванс). Этот городок стоял далеко от моря и довольно высоко (четыреста метров над уровнем моря). В нем мы сняли комнату у каких-то французов. В другой комнате жила русская эмигрантка, дама почтенная, по фамилии Соловцова. Ее муж недавно умер здесь, в Вансе. В прошлой жизни он был русским адмиралом.
Фамилия Соловцов была мне, как киевлянину, очень знакома. В Киеве процветал некогда драматический театр под управлением Николая Николаевича Соловцова. Он и сам играл самые разнообразные роли: Отелло, Кина и даже в пьесе Толстого «Власть тьмы».
Когда я вспомнил об этом, разговаривая со вдовой адмирала, она сказала с некоторым раздражением:
— Совсем он не Соловцов. Это его сценическая кличка. Я знала его, когда он был молодым актером и изъяснялся мне в любви. Мой муж над этим смеялся, но перестал смеяться, когда этот актеришка стал играть под именем Соловцова. После этого я прекратила с ним знакомство.
И чтобы переменить тему, она стала рассказывать о своем муже:
— Если б вы знали, какой человек был мой покойный муж. К сожалению, ничего от него не осталось…
Она посмотрела куда-то в сторону и вдруг воскликнула:
— Нет, осталось! Вот эта бутылка вина. Такого вина вы не найдете в современной Франции. Мы с ним вынимали косточки из виноградных ягод, потому это вино такое замечательное. Сейчас мы устроим поминки.
И в память адмирала Соловцова мы втроем выпили эту бутылку до дна.
* * *
В Vence прекрасные окрестности. Если выехать из города, то едешь над крутым обрывом, где громадные столетние кактусы — темно-синие, зеленые и полосатые агавы — выбрасывают свою столетнюю «стрелку». «Стрелка» высокая, до двух метров, но она не столетняя, а двадцатипятилетняя. В двадцать пять лет один раз цветет агава, затем умирает и сваливается вниз по крутому обрыву.
Проехав эти агавы, мы понемножку подымались среди волшебных садов. По одну сторону дороги апельсины, по другую — мандарины. Проехав этот пояс и подымаясь еще выше, мы подъезжали к местности, называемой Gorge du Loup
[66]. Там с высоты падает холодная как лед вода и растут красивые, но страшные водоросли. Почему эта местность называлась Волчьим горлом, я так и не понял. Может быть, в отдаленные времена волки приходили сюда лакать холодную воду?
Немного замерзнув у холодного водопада, мы опять погружались в тепло, спускаясь вниз на свободном колесе, и, приехав в Vence, с удовольствием пили горячий кофе на маленькой городской площади. Она была маленькая, но значительная. На ней росли огромные липы, посаженные еще при короле Генрихе IV, то есть в конце XVI века. Здесь же был магазин разных изделий из керамики, которую выделывали где-то близко от Vence.
* * *
Пробыв недолго в Vence, мы поехали с Марией Дмитриевной в Париж. Госпожа Соловцова дала нам адрес своей парижской квартиры, и когда она тоже вернулась с юга, мы иногда навещали ее.
Доживали мы с Марией Дмитриевной 1926 год на окраине Парижа, недалеко от Булонского леса. Метро доставляло нас до станции «Михаил Архангел», а затем трамвай довозил до нашей квартиры.
Мы сняли две комнатушки у невообразимых аристократов по фамилии de Roland. Обедневший потомок того Роланда, племянника Карла Великого, о котором сложена песня, жил тут, ничем не занимаясь. Целыми днями он только что и делал, как листал энциклопедический словарь «Larousse»
[67]. Немолодая уже жена его хозяйничала. Старший сын, кажется, он был моряк, искал богатую невесту, которая могла бы спасти положение, а младший был просто слесарем. Дочь, мадемуазель de Roland, с лицом мадонны и станом прямым, как засохший кипарис, была у нас горничной. Утром она выкуривала Марию Дмитриевну из постели дымом железной печурки, которую она топила, после чего приносила завтрак, очень скромный. Потом отправлялась куда-нибудь в парк, где она толкала
коляски чужих детей в течение нескольких часов, за что ей платили мизерную плату. Наконец она возвращалась домой, принимала ванну, но в длинной рубашке — она была фанатически религиозна и так стыдлива, что стыдилась своего собственного тела.
Затем она подавала нам обед еще более мизерный, чем завтрак. Если бы мы не докупали себе кое-что, то просто бы страдали от голода.
Утешением нашим была черная кошечка с золотыми глазами. Она была очень чистоплотная и умная. По своим делам она уходила через оконце в коридор, но иногда, в отсутствие хозяев, оконце бывало закрыто. Тогда она прибегала к нам с видом полного отчаяния. Мы открывали свое оконце, и инцидент бывал исчерпан.
* * *
Кончилась наша жизнь при аристократах тем, что старший сын при нас нашел богатую невесту, и тогда мы, не ожидая, чтобы нам предложили освободить квартиру, переехали куда-то в другое место. Это, в сущности, было неважно.
В этой новой квартире мы должны были встретить Новый Год. Не спросив меня, Мария Дмитриевна пригласила двух офицеров — братьев Значковских, Олега и Игоря Ивановичей, старинных друзей ее семьи. Против них я решительно ничего не имел, но все же Мария Дмитриевна могла бы со мною посоветоваться, прежде чем их приглашать. И я отомстил ей коварно.
Из города я не вернулся домой к полуночи, а встречал Новый Год у Ефимовских, у которых жила моя первая жена Екатерина Григорьевна. Там было если не весело, то шумно. А с Екатериною Григорьевною мне было о чем поговорить. Я рассказал ей о своем путешествии в Советскую Россию. Она была очень тронута тем, что я искал Лялю, любимого ее сына. Но я не рассказал ей, что искал его в сумасшедшем доме, на нее это произвело бы удручающее впечатление. Она могла бы подумать, что сумасшествие ее отца, перескочив через нее, передалось его внуку. Этого она так никогда и не узнала.
* * *
В это время на новой квартире меня посетили разные лица. Первой была мать «атамана» Клименко, помогшего мне выхлопотать визу в Германию. Сын ее скоропостижно умер в Берлине, и она приехала о чем-то хлопотать. К сожалению, я не смог ей помочь.
Затем нежданно-негаданно явился Якушев. Он приехал главным образом на свидание с Кутеповым, а ко мне явился по совершенно удивительной причине. Когда я уезжал из Югославии, девочки Колчины надели на меня крестик. В ответ на это я решил привезти им из Советской России золотой крест. Но я не мог его найти и поручил это дело Якушеву. Он привез крест, простой, но большой и массивный. Когда мы из Франции окончательно переехали в Югославию, я передал этот крест девочкам Колчиным, но бедняжки жили бедно. В трудную минуту они заложили его в ломбард, вовремя не выкупили, и крест пропал…
Якушев меня этим доброжелательным жестом очень тронул. Это еще раз подчеркивает, что, вопреки всем видимостям, он был мой человек, а не советский.
Его свидание с Кутеповым в моем присутствии состоялось в каком-то ресторанчике. Решительно не помню, о чем говорили.
И приблизительно в это же время пробралась в Париж Мария Владиславовна. И в этом же ресторанчике в отдельном кабинете состоялось ее свидание с Кутеповым и со мною, но без Якушева. Она говорила прямо и резко:
— Я разочаровалась в Якушеве. Он медлит, тянет. Если мы не сделаем переворота сейчас, то потом он станет невозможным. Теперь я возлагаю надежды на другого. Он моложе и энергичнее, но если и с ним дело не удастся, я жить не буду.
О ком она говорила? Она его не назвала, но это был, вероятно, так называемый Оперпут. О нем Анжелина говорила: «Мария его любит. Она с ним живет».
* * *
В начале 1927 года издательство «Медный всадник» выпустило мою книгу «Три столицы». Конечно, она обратила на себя всеобщее внимание. И тогда Маклаков предложил мне издать ее на французском языке. Издательство «Payot» («Пайо») готово было ее немедленно выпустить.
Надо было переводить. Я взял в переводчики бывшего сотрудника «Киевлянина», бельгийца по национальности (фамилию его запамятовал). Он перевел, но таким дрянным языком, что мне пришлось исправлять этот перевод с помощью моего молодого друга Вовки — он в это время хорошо овладел современным литературным французским языком.
Я сам довольно хорошо владел французским, но каким? Времен madame de Segure, урожденной Ростопчиной. Когда я написал одну сказку, то моя знакомая француженка Мария-Луиза, получившая первую премию французской консерватории, сказала мне:
— Эта сказка написана таким языком, что никому и в голову не придет, что автор не француз. Но таким языком писали во Франции лет сто тому назад.
Так или иначе, французский перевод вышел под заглавием «La Renaissance de la Russie»
[68].
* * *
И вдруг — гром среди ясного неба. На той же самой паперти русского храма на rue Daru, где я в 1923 году увидел плачущего Филиппова, я увидел другого человека. Это был варшавянин, русский эмигрант, близкий к Липскому, фамилию его не помню. Он не плакал, но был сильно расстроен.
— Все пропало, — сообщил он мне. — «Трест» — отделение ГПУ. Кутепов вас ждет.
Мы встретились с Кутеповым у него на квартире.
— Я получил одновременно две телеграммы: из Вильно и из Гельсингфорса, — начал он. — Из Вильны телеграфировал муж Марии Владиславовны, из Гельсингфорса — она сама. Обе телеграммы сообщали одно и то же — «Трест» провалился. Я немедленно стал хлопотать визу в Финляндию, получил ее и нашел Марию Владиславовну в гельсингфорсской гостинице. Она рассказала, что Якушев и все остальные оказались связанными с чекистами, кроме Оперпута. Оперпута же финские власти посадили в крепость, но разрешили мне его навестить. Он встретил меня словами: «Я понимаю, генерал, что вы не можете мне верить. Но я дам доказательства, что действительно был и есть на вашем берегу. Тут, в крепости, мне дали русскую машинку и я написал две докладные записки»…
Произнеся это, Кутепов передал мне эти две записки и закончил:
— Прочтите, пожалуйста, а я ухожу, чтобы вам не мешать.
Я прочел их, они были длинные, но за давностью лет не слишком хорошо помню их содержание. Оперпут рассказывал, как на Воробьевых горах застрелил из винтовки Сиднея Рейли некто «товарищ Ибрагим, лучший стрелок ГПУ».
Далее он писал, что давно тяготился своей работой с чекистами и они знали об этом. Он чувствовал, что они его убьют, и поэтому решил бежать, открыв Марии Владиславовне истинную роль «Треста» и ее руководителя Якушева. Они бежали вместе. «Окно» их пропустило, так как на границе не знали об истинных причинах перехода ими границы — оно функционировало, как и раньше…
Вскоре Кутепов вернулся в комнату и спросил меня:
— Что скажете?
— Дело ясное. Наше с вами положение скверное — мы одурачены. Но я думаю, что не надо выпускать инициативы из своих рук. Выгоднее, чтобы мы сами признались в нашем провале, чем если это сделают другие. Я намерен напечатать статью и предотвратить разоблачения, которые неизбежны. Впрочем, о вас я не буду упоминать, все приму на себя. Я — дурак, больше никто.
Но Кутепов не понял и сказал:
— Я на это не согласен. Я дал вам прочесть эти записки доверительно и убежден, что вы это учтете.
— Да, конечно.
* * *
На следующий день я уехал на юг Франции и написал там соответствующую статью на тот случай, если Кутепов вдруг одумается. Но я имел неосторожность переслать ее по почте в Париж моему другу Вовке с просьбой опубликовать ее по получении от меня телеграммы.
В Париже в те годы издавалась русскоязычная газета «Общее дело». Кто ее субсидировал, не знаю, но официальным издателем-редактором газеты значился известный Владимир Бурцев. Он прославился в России до Первой мировой войны тем, что разоблачил провокатора Азефа, организовавшего убийство двух министров.
Здесь же он оскандалился. Когда было Кронштадтское восстание, он аршинными буквами напечатал в «Общем деле»: «Советы свергнуты. Мерзавец Ленин удрал первым». С тех пор Бурцеву не верили, но ведь он все же был разоблачителем Азефа. И он с великим удовольствием разоблачил «Трест» в своей газете.
Бурцев или кто другой, не все ли равно? Это было неизбежно. Но когда я прочел его разоблачение, то понял, что в его руки попала моя статья, которую я отослал Вовке. Последний не мог передать ее Бурцеву. И как моя статья попала к нему, я так никогда и не узнал. Но если бы эта статья была напечатана по моей инициативе и за моей подписью, это был бы тот вариант, который я предлагал Кутепову, и скандал был бы меньший.
Когда я об этом горестно размышлял на юге Франции, ко мне неожиданно приехал Глеб Струве, старший сын Петра Бернгардовича. Струве-отец в это время поссорился с Гукасовым, издателем газеты «Возрождение», и стал издавать другую газету — «Россия и славянство», которую поддерживал Крамарж. Вот для этой газеты Глеб Струве и просил у меня исчерпывающей статьи.
Мы работали целый день до одурения. Вечером он уехал, увозя статью, и через день-два она была напечатана. Сейчас восстановить ее не могу. В общем, я признал факт провала, но рассказал, как это случилось, что я действительно полтора месяца был в России, не зная, что меня возят чекисты. Но мой анализ состояния России правильный, на изложение моих мыслей и выводов чекисты не повлияли.
Потом, в частных разговорах, Петр Бернгардович Струве всегда подчеркивал:
— «Трест» играл на две стороны. Если провалились вы, то точно так же провалились и чекисты. Боролись две партии среди самих чекистов. Одна из них победила, но не надо огорчаться — Шульгин остался Шульгиным. Никто вас не подозревает ни в измене, ни в чем-либо предосудительном.
* * *
Ну, а как французы? Издательство «Пайо»? В. А. Маклаков? Василий Алексеевич держался примерно таких же взглядов, как и П. Б. Струве: война между чекистами. Но дело не в этом. Дело в названии книги «Три столицы» на французском языке: «La Renaissance de la Russie»
[69]. Идея заключалась в том, что Россия не только не умерла под советской властью, но и возрождается. В этом смысле французский вариант книги был очень важен. Что же касается русского издания «Трех столиц», то эта книга быстро разошлась целиком, хотя жуликоватый издатель недоплатил мне гонорар.
Словом, я не помню, чтобы эмигрантская печать всяких направлений меня бранила или высмеивала. Всех строже относился ко мне я сам. И вышел из всех политических организаций.
Разумеется, разоблачение В. Л. Бурцева потрясло русскую эмиграцию. Вспомнили, что в свое время он разоблачил Азефа. Но вскоре Бурцев опять ушел в тень, зато в некоторых газетах стали появляться статьи разных лиц. Некоторые знали Якушева лично, другие знали Антона Антоновича, который на самом деле был Сергей Владимирович, и даже фамилию его установили (не помню ее). Вообще «Трест» в эмигрантской русской печати был обслужен со всех сторон.
* * *
Мои личные, частные дела были маленькие, но сердцу милые. В это время мы уже жили в Boulouris sur Mer. Сначала у нас была квартира у самого железнодорожного пути. Когда проносились rapides, весь дом дрожал, но мы скоро к этому привыкли. Ночью приближение rapide мы слышали за несколько километров. Звук бежал по земле, и стаканы звенели.
Квартиру я нашел неплохую во втором этаже с камином, с садиком. А соседний участок был пустой, заросший кустарником. Там свою первую юность провел Гриша, о котором надо здесь рассказать.
В нескольких километрах от Boulouris sur Mer был еще меньший поселок под названием Agai (Аге). Это испорченное греческое слово
агатон, то есть
неплохой, в данном случае «хорошее место». Однажды мы с Марией Дмитриевной приехали туда и пили кофе в миниатюрном ресторанчике. И видели, как большой кот бьет маленького, а тот забился под шкаф, куда большому было не залезть. Хозяйка рассказала, что некоторое время назад она что-то вязала из нитки серой шерсти. Утром, когда проснулась, то увидела, что моток шерсти лежит на гравии. Она поспешила его убрать, но оказалось, что это был не моток, а маленький котенок, свернувшийся клубком. Вот этот клубочек и был тем котенком, который забился под шкаф.
Разумеется, Мария Дмитриевна, как прирожденная кошатница, умилилась и просила отдать ей этого котенка, на что хозяйка с удовольствием согласилась. Спрятав котенка в карман, мы привезли его в Boulouris, и тут он вырастал на наших глазах. Сначала его бил местный большой кот, а в один прекрасный день Гриша побил уже сам местного кота.
* * *
У меня теперь было много времени, и я решил построить байдарку. Там, в России, строил их Кочановский, тут же его не было. Однако во Франции было много деталей и различных материалов, из которых можно было построить все, что угодно. Я поехал в St. Raphael и заказал в деревообделочной мастерской шесть досок длиною в шесть метров, шириною в десять сантиметров и толщиною в полсантиметра. Мне их тотчас же доставили в Boulouris. Сравнительно легко я сделал шпангоуты. Чертеж байдарки сохранился у меня в голове. Это была «Стрелка», взятая мною из книги Эша, председателя Санкт-Петербургского яхт-клуба «Руководство к парусному спорту».
Эш тоже эмигрировал, жил во Франции, в Ницце, имел четырех секретарей-машинисток из русских эмигранток. Что они писали под его диктовку, я не знаю, но жалованье Эш им платил.
* * *
Гриша принимал посильное участие в постройке байдарки, потому что играл со стружками и щепками. Строилась байдарка в садике под деревом, и работа заняла у меня достаточно времени. Много возни было с брезентом, так как хорошего брезента во Франции нет. Покраска лодки тоже потребовала много труда, потому что ее надо было выкрасить с двух сторон — с внешней и внутренней. Помог в этом деле вовремя приехавший Олег Значковский. Он был шофер и умел красить автомобили, что гораздо труднее, чем построить байдарку.
Затем приехал Дима, который наладил паруса. Две мачты из бамбука — высокий грот и поменьше бизань. Паруса — кливер, косой грот и крошечный бизань. Управление — веслом, руля не было.
Наконец, к весне 1927 года она была готова. Это сооружение торжественно вынесли и спустили на воду. К спуску приехала Неночка и в ее присутствии произошло крещение судна. О нос я разбил горлышко шампанского, и в то же мгновение Неночка громко произнесла:
— La Maroussia!
Значит, байдарка была крещена в честь Марии Дмитриевны? Нет, тут был секрет. Если переставить буквы («La» между «Ma» и «rou…») и сказать по-русски, то выходило «Малая Русь».
Сели Дима и Олег, вышли в море и сейчас же перевернулись. Значковский был хороший шофер, но ничего не понимал в парусном деле. Впрочем, все это пустяки. Эта байдарка потом погибла, но до этого доставила мне много удовольствия. Сначала с Димой, а потом с Вовкой.
* * *
Однажды я получил письмо от русского эмигранта, кажется, из Лиона. Начиналось оно примерно так: «Вы меня не знаете, но я знаком с Вами по Вашим книгам. Почему-то мне захотелось Вам написать. Вероятно, Вы получите мое письмо тогда, когда меня уже больше не будет. Жизнь потеряла смысл…».
Подпись и адрес были. Я сейчас же послал ему письмо авиапочтой. Исходя из того, что он называл себя инженером, я развил ему теорию, что волнообразное движение напоминает не только природу, но и человеческие жизни. Всякая волна имеет гребень и нижнюю точку, провал или даже бездну. «Вы сейчас находитесь в бездне, — писал я ему дальше. — Но через положенное время — какое, я не знаю, — вы очутитесь на гребне. Дождитесь его и, может быть, все будет хорошо».
Через некоторое время я получил ответ. «Вы оказались правы, — писал он. — То, что мне казалось бездной, было закономерною впадиною. Сейчас я на гребне, и мне кажутся смешными мои чувства, те, что я испытывал в бездне».
Конечно, первое письмо доставило мне беспокойство. По выражению «вероятно… меня уже не будет» я определил опасность. Но «вероятно» не значит «наверное».
* * *
В Boulouris я сделал некоторые наблюдения над тамошними обывателями. Здесь проживали так называемые провансальцы, французы, потом смесь провансальцев с итальянцами и чистокровные итальянцы.
К последним принадлежало супружество Compario, приехавшее из Италии и осевшее здесь. Они содержали магазин, кафе и маленькую гостиницу для приезжих. У них была одна дочь, родившаяся уже во Франции, хорошенькая Симона, яростная французская патриотка.
Настало время, когда Муссолини начал пропаганду под лозунгом «Mare Nostra», то есть, что Средиземное море принадлежит Италии, а значит, весь так называемый Лазурный берег не должен принадлежать Франции.
Как-то раз утром я пил кофе у Campario. Симона поставила передо мною чашку и, подбоченясь, как хохлушка, одною рукою и угрожая в воздухе другою, произнесла речь:
— Значит, у Франции больше нет моря?! Та-ак, хорошо! Так пусть он знает, мы покажем ему «Mare Nostra».
Она была просто прекрасна в своем яростном французском патриотизме.
Выпив кофе, я поехал в St. Raphael побриться. В парикмахерской повторилась та же сцена. Жених Симоны, парикмахер, намылил мне щеку и затем стал энергично бить бритвою о ремень. Потом, забыв обо мне, поднял правую руку с отточенной бритвой и яростно кромсая кого-то в воздухе, кричал на южном французском диалекте, очень выразительном потому, что выговариваются все буквы:
— Очень хорошо, прекрасно. Так у нас, значит, больше моря нет. Так знайте же, что этого не будет, это не пройдет. «Mare Nostra» — это значит, что Средиземное море принадлежит Франции.
* * *
Вместе с тем семейство Campario было удивительно предупредительно по отношению к нам. Хорошенькая Симона, не щадя своих рук, чистила для нас картошку, которую нам продавала. Она же исполняла все наши поручения в St. Raphael’е. Ее отец отпускал нам все товары на книжку, то есть открывал нам кредит. А бывало иногда, что деньги, которые я получал от Каминьского, запаздывали. Тогда он давал мне взаймы какую-нибудь тысячу франков без расписки.
Симона не была спортивной девушкой и не чувствовала никакой склонности к туризму. Но достопримечательности окрестностей знала хорошо, хотя никогда нигде не бывала. Она указала мне, куда я могу проехать на велосипеде, где надо велосипед оставить и взбираться пешком. В горах был, как она говорила, «один прекрасный дуб», а от него идет тропинка к маленькой часовне, посвященной памяти какого-то святого. Тропинка шла по таким скользким скалам, что богомолки «держатся за рясу», как пелось в песенке «нашего доброго кюре». Симона пела мне эту песенку.
Затем она говорила, что надо спуститься в глубокое ущелье и идти вдоль ручья, где растут какие-то особые, прекрасные белые цветы. Все это она рассказывала, как будто видела собственными глазами. В крохотной капелле было каменное ложе святого, очень давних времен. Тут же лежали восковые свечи и спички, и никто их не крал.
Таким образом, Симона, не выходя из своего кафе, служила мне вместо самого подробного Бедекера.
* * *
В парфюмерном магазине в St. Raphael’е Мария Дмитриевна купила духи и послала их своей сестре в Киев. Через некоторое время духи возвратились, так как они как предмет роскоши не были пропущены советской таможней.
В St. Raphael’е мне приходилось бывать часто. В нем находилось отделение известного в стране банка «Лионский кредит», в котором я держал свои деньги, поступавшие в него на мое имя из Польши от Каминьского. Бывая в нем регулярно, я постепенно перезнакомился со многими из его служащих, в том числе с одним человеком, отрекомендовавшимся бароном Дризен. Он сказал мне, что принадлежал к французской линии Дризенов, но что они были когда-то и в России. И я вспомнил, что моя сестра Алла Витальевна в 1886 году, когда ей было двенадцать лет, училась в одном классе гимназии с маленькой баронессой фон Дризен. Как-то она пригласила к себе на один из детских праздников мою сестру, меня и моего младшего брата Павлушу. У них были поставлены «живые картины», одну из которых запомнил. Я сидел как будто бы на камне и как будто бы горестно смотрел на своего брата, распростертого на земле. Я был некрасив, но темные глаза при светлых волосах были выразительны, а Павлуша, брюнет, был красивым ребенком. Он изображал спящего, и его закрытые ресницы были необычайно длинны.
Эта непонятная мне картина имела очевидный успех. Девочки, а их там было много, подхватили моего брата, посадили на крышку рояля и сюсюкали вокруг него, а он пел очень верно:
Ой за чаем-чаем, чаем зэлэненьким…
На меня девочки не обращали внимания, чему я был очень рад, потому что презирал всех этих девчонок. Что они знали о тайном обществе «Орлы», которое я основал из своих сверстников? Эти восьми-десятилетние мальчишки должны были совершать подвиги, они, «орлы», жили на Кавказе, в глубоких пещерах с женами. Конечно же, их женами были не эти девчонки. «Орлы» иногда должны были вылетать из пещер, драться, воевать…
Затем мы издавали рукописный журнал с рисунками. Редактором этого, с позволения сказать, журнала был я. Зачем-то нам нужна была «тайнопись», и все буквы русского алфавита мы заменили таинственными знаками. Эту тетрадь я притащил и к фон Дризенам. В отдельной комнате, забившись под тяжелую бархатную занавесь, я продолжал составлять «тайнопись». За этим занятием нашла меня маленькая баронесса, которая вдруг вспомнила, что она хозяйка, и хватилась — куда же исчез один из приглашенных ею мальчиков?
— Что ты тут делаешь?
Я протянул ей с гордым видом «тайнопись», сказав при этом:
— Прочтите.
Она бросила беглый взгляд в тетрадку и ответила:
— Я ничего не понимаю.
— То-то. Хотите, я вас научу?
— Нет, не хочу. Пойдем танцевать.
Она потащила меня в залу, где уже все остальные девчонки теребили моего брата. Меня тоже включили в какой-то хоровод. Я был счастлив, когда, наконец, это кончилось.
* * *
В те же годы я собрался бежать в Америку. В то время все мальчики моего возраста и даже постарше бредили Америкой, начитавшись романов Майн Рида. Вот где был простор для подвигов. Надо было победить арапагеосов, которыми предводительствовал вождь по имени Кровавая Рука, весь обвешанный скальпами. Такими же злыми краснокожими были сиуксы и еще много разных других племен. А дружественными были чиказавы.
Для путешествия в Америку надо было иметь все необходимое. Под чемодан была приспособлена металлическая коробка из-под галет. В него были положены ножик, иголки, нитки, несколько пуговиц, остальное пространство заполнялось галетами.
Однажды, в три часа утра, я разбудил пятилетнего брата, сказав ему, что пора, настало время бежать. Он заплакал, ему хотелось спать. Бежать один я не решился, и на этом все кончилось…
Но когда мы всей семьей возвращались из Петербурга в Киев, то в вагоне моя двенадцатилетняя сестра Алла подружилась с какой-то другой девочкой, примерно ее же возраста. Она стояла в коридоре и плакала.
— Почему ты плачешь? — спросила Алла.
— Я бежала из дома, а теперь не знаю, что делать.
Алла рассказала все старшей сестре и Дмитрию Ивановичу Пихно, нашему отчиму. Они взяли девочку в купе и подробно расспросили ее о ней, о родителях. К счастью, она знала свою фамилию, их имена и отчества и даже адрес в Петербурге. Из Киева им телеграфировали. Родители приехали, все плакали, радовались и они увезли девочку домой. Она так и не смогла объяснить, почему убежала из дома. Во всяком случае, в Америку не собиралась. Может, не хотела учиться? Такое тоже бывало.
* * *
Кое-что из этих случаев я рассказал барону Дризену из «Лионского кредита». Он же рассказал о себе, как хотел пойти по стопам своего старшего брата, мечтая о морской карьере, но не смог, и вот он в банке, что не особенно прилично ему, тем более что женат на графине d’Agay (д’Аге). Are — старинная греческая колония, недалеко от Boulouris’a. Там еще стояла на берегу моря средневековая башня, в которой никто не жил, кроме старика-сторожа. Эта башня была единственным, что осталось от наследственного замка, принадлежавшего потомкам жены барона Дризена.
Он познакомил нас с ней и пригласил в свое имение в глубине материка, примерно в пятидесяти километрах от берега. Это был старинный, но не древний, уютный двухэтажный дом.
Мы приехали туда в обществе двух шоферов — братьев Значковских. Они познакомились и сейчас же подружились с двумя мальчиками лет девяти-десяти и девочкой лет шести — детьми барона. Оба Значковских совершенно свободно говорили по-французски, но на шоферском жаргоне, что восхищало и детей, и их родителей.
Я смотрел на этот дом, и мне думалось: «Вот в таком доме должны были жить отец и мать молодого человека, полюбившего “даму с камелиями”». Бедный отец пел:
О, мой сын ты, дорогой,
Кинул ты Прованс родной,
Где так много чудных дней
Было в юности моей.
* * *
Сейчас в таком же доме барон Дризен рассказывал мне, пока баронесса развлекала шоферов (или наоборот, они развлекали ее?), что жениться на парижанке дота южных аристократов считается неприличным. Вот почему он женился на графине d’Agay, хотя в качестве приданого она принесла ему только полуразвалившуюся башню, не приносившую никаких доходов, но требовавшую расходов на содержание сторожа.
Так же косо смотрели на парижанок и простые провансальцы. Однажды я пришел в магазин, где продавались преимущественно дамские товары, и удивился. Магазин был полон нарядных и изящных женщин, которые курили, говорили громко и сидели на прилавках и подоконниках, закинув ногу на ногу. Удивившись, я скромно отошел в уголок, наблюдая непривычное для этих мест зрелище. Хозяин, знавший меня, подошел ко мне и сказал тихонечко:
— Хорошо, не правда ли?
И тут же добавил снисходительно:
— Это парижанки.
* * *
На самом деле рядовая парижанка у себя дома скромная женщина, ложится спать в десять часов вечера. Если позже по улицам ходят и шумят какие-то «банды», так это русские. Она, конечно, называет своего мужа «mon vieux»
[70], хотя ему тридцать лет, не тратит деньги попусту, крайне экономна и копит себе средства на старость. Пока она молода, она весела и трудолюбива. Бесстыжие француженки обитают в так называемых
boites, то есть в легкомысленных театрах, кафе-шантанах и так далее. Это все дота богатых иностранцев. Рядовая парижанка не ездит на юг купаться в море в обольстительных костюмах, так как на это у нее не хватает средств. Целое сословие так называемых «мидинеток» (от слова midi, что значит полдень, когда они бегут обедать в дешевые рестораны) составляют армию тружениц. Между прочим, это слово
midinet долгое время французская Академия Наук не признавала, но потом отступила перед многочисленными представительницами этого понятия.
Но на юге, в Провансе, на берегу моря, полуфранцуженки-полуитальянки с певучим говором и томными глазами — это все равно, что жемчужины Индии. Как мало они требуют и как много дают.
Я знал двух цветочниц в St. Raphael’e, сестер-сироток. Оставшись одни, они продолжали дело, к которому привыкли с детства. В этом магазине цветы продавали Клара, старшая, и Аннунциата, младшая. Но самих девушек купить за деньги было нельзя. Они дарили свою красоту всем, как те цветы, которыми любуются, не срывая их. Я часто покупал у них цветы для жены и, наконец, они стали считать меня своим. Я пригласил их к нам на пятичасовой чай. Они приехали, и Мария Дмитриевна не могла меня к ним ревновать, такие они были чудные и внутренне чистые. Солнечные цветы, но без солнечных ожогов. Они были так благодарны, что их пригласили, оказали им внимание, оценили.
Вместе с тем между ними была большая дружба, причем двадцатилетняя Клара относилась к восемнадцатилетней Аннунциате как к любимому ребенку. Это было самое красивое, что я видел на южном берегу Франции. А ведь там было темно-синее море, расчерченное белоснежной пеной, как какими-то иероглифами. И прекрасные скалы. Это море иногда шумело прибоем, и Клара, смеясь, говорила своей сестре:
— La mère gronde sa fille
[71].
Но это была игра слов, потому что шумело море, которое пишется
lа mer, а
mère — это мать. Ах, этот смех. Это не был опротивевший мне смех сквозь слезы. Это был радостный смех, радостная улыбка взаимной любви.
Ну, разве можно рассказать прекрасное? Передать можно только безобразное. И то, если оно достигает безобразия медуз. Но и это тоже трудно рассказать. Никакое сильное впечатление словами передать нельзя.
* * *
В один прекрасный день мы с Димой вышли в море на байдарке, носившей имя «La Maroussia», из Boulouris sur Мег в направлении «куда глаза глядят». Особым удовольствием для меня всегда являлось отсутствие плана. «Плыви, мой челн, по воле Божьей, куда влечет тебя судьба».
Судьба повлекла нас вдоль берегов. Дул свежий бриз с моря. В общем, мы держали курс на два островка, из которых больший назывался l’ole de St. Marguerite. На этом острове, по местным преданиям, при Людовике XIV содержался человек, называвшийся «Железной маской». Таинственная личность. О нем существует большая литература. Но какой-то автор утверждал, что «Железная маска» была выдумкою Вольтера.
На другом острове, поменьше, был монастырь. Легенда повествует, что там нельзя было жить из-за змей. Но тот самый святой, которому была посвящена часовенка в горах, приказал морю смыть змей с острова, и с той поры ни одна из них там не появлялась. Впрочем, со змеями легенды обращаются куда проще, чем приходилось это видеть в жизни. На берегу была одна из гор, о которой мне сказали, что туда нельзя подняться из-за змей. Но я взошел на эту вершину и спустился обратно, так и не увидев ни одной змеи. То же самое произошло потом в Югославии.
Но вот что достоверно. На этом островке очень интересный монастырь. Интересен тем, что женщины в храм допускаются один раз в восемьдесят лет. Это рассказал мне любезный монах, встретивший меня у монастырских ворот. В воротах и в других местах были латинские надписи. Я читал их вслух. Монах, сопровождавший меня, заметил:
— Вы читаете по-латыни так, как от нас требует святейший отец Папа. Но мы, французы, никак не можем достичь совершенства в этом языке и коверкаем его.
Я сказал:
— Так нас учили в России.
Тут мы подошли к так называемой «трапезарке», то есть монастырской столовой. Это была очень большая зала с мраморным полом. Я подумал: «Зачем им такая зала, когда тут, по-видимому, кроме сопровождающего меня монаха, никого нет». Но вдруг я увидел в глубине зала стол и вокруг него монастырскую братию за трапезой.
Я остановился на пороге, сказав:
— Не буду мешать…
Монах улыбнулся:
— Вы не помешаете. Пожалуйста, подойдите ближе.
Подошли. Это была картина, изображение всем известной «Тайной вечери», то есть одиннадцати апостолов и Христа, а двенадцатый апостол — Иуда — был уже близок к дверям. Картина изображала тот момент, когда Христос сказал Иуде: «Что делаешь, делай скорее».
* * *
Я вернулся к Диме. Мы стали готовиться к ночлегу на берегу этого острова. Поужинали, затем постелили одеяла на земле и закрылись большой кисеей, столько же от комаров, сколько и от росы. Но мешок с провизией, сделанный из плотного полотна, оставили снаружи.
Спали мы хорошо, комары не могли пробиться сквозь кисею, роса тоже. Однако утром, когда солнце росу высушило и мы встали, то обнаружили, что мешок прогрызен и хлеб наш съеден. Это поработали дикие кролики, так называемые лапины. Досадно, но нечего делать, пили чай из термоса без хлеба.
Затем вышли в море. В проливе между двумя островами море взволновалось в одном месте и как-то снизу. Вдруг в том месте вынырнула подводная лодка, которую я в первый раз увидел вблизи. Мы поспешили убраться подальше и снова пристали к берегу острова, где Дима сфотографировал меня. Я сидел в байдарке, положив весло поперек и подняв все паруса. В увеличенном виде это был превосходный снимок.
После небольшого отдыха решили посетить модный пляж Juan les pins. Байдарка под парусом пошла очень хорошо со скоростью восьми километров в час. Это мы определили по шелестению воды у носа. Материк все приближался, уже хорошо была видна желтая полоса песка и на ней множество ярких цветов. Этими яркими цветами были дамские купальные костюмы и накидки.
Мы шикарно, с полного хода, вместе с волной выбросились на песок, спустив паруса в последнее мгновение. Затем одновременно выскочили из байдарки и удержали ее, чтобы отхлынувшая волна не утащила наше суденышко обратно в море. И тут к нам подбежали двое мужчин.
— Какой у вас флаг?
Мы плыли под маленьким шелковым бело-сине-красным флажком Российской империи. Дима ответил:
— Русский.
Один из подбежавших с жаром сказал другому:
— Вот ты и проиграл. Я же говорил, что русский, а не голландский…
Русский и голландский флаги были очень похожи. Это и не мудрено, как известно, Петр Великий был саардамским плотником и от голландцев заимствовал флаг, лишь изменив порядок расположения цветных полос. А эти два бывших матроса держали пари на бутылку шампанского.
Мы попросили их присмотреть за байдаркой, а сами решили пройтись по пляжу.
Действительно, дамские наряды, да и лица и тела, были красивы. Одни — снежно-белые, только что приехавшие, другие — уже медно-красные, это были блондинки и рыжие, и, наконец, третьи, щеголявшие своею золотисто-оливковою кожей…
В это время какая-то дама стала махать нам рукой и закричала по-русски:
— Сюда!
Это была Этель, жена моего друга Сергея Андреевича Френкеля.
* * *
Один раз благодатный климат Лазурного берега изменил самому себе. Повалил снег и температура упала до четырнадцати градусов мороза. Тулонская обсерватория объявила, что такой температуры не было уже сто лет. Это подтвердили и столетние эвкалипты в три обхвата, которые тогда погибли, при этом не только стволы, но и корни. Целая аллея этих великанов скончалась. Пальмы и мимозы тоже погибли, но сохранили корни. Старики в Ницце стали умирать от холода. Это было бедствие.
А я? Вдруг оказалось, что я настоящий русский. Снег лежал твердо, но солнце сияло. И я опьянел от радости, бросая снежки в увядшую пальму.
Потом опять пришло тепло, все ожили, остались лишь печальные воспоминания — рубили эвкалипты, из которых выходили превосходные дрова. Мы же с Марией Дмитриевной не мерзли, потому что я пошел в ближайший кедровый лес и сбивал с ветвей бамбуковой мачтой нашей байдарки огромные шишки. Эти шишки были необыкновенной красоты. Когда они вскрываются, то видно, что лепестки их красные, как будто они побывали в салоне и там им сделали маникюр. Горели они в железной печурке ярко и при этом еще благоухали. Так среди всеобщего бедствия мы наслаждались, как черствые эгоисты.
Гриша не боялся зимы, но его подруга, маленькая кошечка, очень мерзла и жалась к печке. Дзыга по-нашему, по-киевски, это волчок. Мальчишки стегают дзыги плеткой и они крутятся. Дзыга и без плетки была вертлява, как волчок. Она выдумала такой своеобразный танец. Я шел по дорожке, а она вертелась вокруг моих ног, прижимаясь головкой, точнее сказать, ушком то к одной ступне ног, то к другой. Так, походив по саду, мы выходили на веранду, где стояли две чашки для Гриши и для нее. Поспешно вылакав свою чашку, она маленькой своей лапкой отодвигала большую голову Гришки и съедала его порцию. Как большой джентльмен, Гриша всегда ей уступал. Она жила в соседней усадьбе у каких-то старушек, которые ее кормили, но когда ее хозяйки куда-то уехали, бросив Дзыгу, она первый раз окотилась преждевременно от голода. И это она сделала у нас в саду. От голода она своих котят поела и куда-то спряталась со стыда. Я поставил ей чашку с молоком там, где были котятки. Она вылакала ее, и с той поры мы с ней познакомились и подружились.
* * *
Я хочу рассказать о нашем садовнике, который жил по соседству, и у него я получал бамбук для мачт. Там была большая вилла с большим садом, в которой никто никогда не жил, и всем заведовал этот итальянец по фамилии Piccolo, что значило маленький. Он таким и был.
Piccolo сделал нам цветник и огород, которые был при нашей новой квартире. Он посадил нам маленькие огурцы, «русские», как он пояснил. Они вкуснее, чем огромные местные. Он где-то раздобыл семена подсолнухов, и роскошные желто-черные цветы окружили весь наш участок в 1200 квадратных метров. Под его руководством я получил редиску в январе не в парниках, прямо со своей грядки, которая была прикрыта соломой. Кроме того, я получил идеальную фасоль, чудовищные помидоры и сладкий горошек. Все было первоклассное и очень вкусное и, казалось, обходилось даром. Но это был обман. Они обошлись в ту же цену, что и покупные, потому что я их усердно поливал, а за воду пришлось заплатить солидную сумму. Но зато какое было удовольствие!
А когда приехали молодые Значковские и другие шоферы из Парижа, то поливка обратилась в веселое игрище. Брандспойт держали так, что струя шла горизонтально. Тогда через нее прыгали. Слабое движение брандспойтом вверх, и шофер в белом костюме промокал до нитки. Но жаркое солнце сейчас же его высушивало. При этом, конечно, все ужасно кричали и хохотали. Благодаря этому мы познакомились с нашей соседкой, англичанкой, которая сыграла определенную роль в нашей жизни.
* * *
Как-то во время одной из таких игр, сопровождавшихся страшными воплями, кто-то позвонил в дверь с улицы. Я спустился и открыл. Передо мною стоял молодой, весьма приличный господин. Он слегка поклонился и представился:
— Луи, шофер миссис Бланш.
Он объяснил, что его хозяйка, наша соседка-англичанка, услышав душераздирающие крики, прислала его спросить, не нужна ли помощь. Я попросил передать благодарность нашей соседке за участие и объяснил, в чем дело. Когда возня в садике прекратилась и гости куда-то ушли, Луи пришел вновь и сказал, что
madame желает с нами познакомиться.
Мадам Бланш была дамой почтенного возраста и вообще почтенной во всем. Она была вдовою чиновника, служившего в Индии, а это, как я знал, было хорошим аттестатом покойному, так как Англия посылала служить в Индию только отборных молодых людей. Овдовев, она купила соседний участок. Ее двухэтажная вилла, обставленная с английским комфортом, была побольше нашей. Луи был у нее шофером, а его жена кухаркой. По воскресеньям она одевалась не хуже своей барыни.
Была у почтенной хозяйки и внучка, трехлетняя девочка по имени Моника. Ее мать, к ужасу миссис Бланш, вышла замуж по любви за француза-шофера. Это супружество не жило здесь, и потому бабушка воспитывала внучку. Моника, с которой говорили то по-английски, то по-французски, почти перестала сама говорить. Но она была девочка бойкая и очень общительная. Она подружилась со мной, и мы танцевали, для чего мне приходилось становиться на колени. В благодарность за танцы она притащила из своей комнаты, которая находилась наверху, все свои наряды и разложила их на полу передо мною.
Англичанка, обрадовавшись, что она свободна, затеяла с Марией Дмитриевной серьезный разговор. Она спросила ее, верит ли она в Бога. Это вообще-то противоречило всем английским традициям. Англичане, пережив жестокие религиозные и династические войны, о Боге и о Короле не говорят. Но наша англичанка считала себя как бы миссионеркой. Она исповедовала Christian science — христианскую науку, основанную Марией Беккер в Америке. Эта наука, в смысле богословия, довольно затруднительна для понимания. Я усвоил только то, что Мария Беккер отрицала существование зла. По ее учению, зло — это только дурные идеи, но на самом деле его нет. Однако как же быть с болезнями или ранами, которые сами по себе были злом? Миссис Бланш объяснила, что Мария Беккер выставила в Америке целую армию целительниц, которые лечили следующим образом.
Допустим, у человека рана на руке. Приходит целительница и прежде всего просит оставить ее одну наедине с больным. Затем она чем-нибудь покрывает рану, чтобы ее не видеть, и в течение получаса сильнейшего напряжения отрицает существование раны, убеждая саму себя, что никакой раны нет, что там здоровая ткань или тело, данные Христом. После этого она открывает больное место, и действительно, раны нет.
Это несколько напоминает средневековые стигматы. Подобные явления происходили преимущественно с горячо верующими женщинами. Они думали о ранах на руках и ногах Христа, сделанных гвоздями, когда его распяли на кресте. После нескольких дней этих упорных и настойчивых «видений» у такой женщины появлялись у самой раны в соответствующих местах. А у больных, исцеляемых по методу Марии Беккер, наоборот, раны исчезали.
Эти исцелительницы широко распространились в Америке и вызвали их гонения со стороны обыкновенных врачей, у которых они отбивали хлеб. Надо пояснить, что им их религия запрещала брать плату за исцеление.
Что же касается, так сказать, нравственной стороны учения Марии Беккер, то оно поддерживало обыкновенные христианские добродетели: любовь к ближнему, верность друзьям и в браке. Миссис Бланш говорила, между прочим, Марии Дмитриевне, что хотя ее муж был значительно старше ее, она хранила ему нерушимую верность и что это принесет ей пользу.
* * *
Забегая несколько вперед, хочу сказать, что вскоре миссис Бланш покинула Францию, переписывалась с Марией Дмитриевной и присылала ей ценные и полезные подарки: какое-нибудь доброкачественное теплое пальто и другие необходимые в быту вещи в этом же роде. Еще она предлагала ей, что возьмет ее к себе вроде как компаньонкой, потому что с одним только Луи ей трудно было путешествовать по свету, чего ей так хотелось. Но это не состоялось. Со временем письма перестали приходить. Вероятно, она умерла…
* * *
Однажды она увезла нас в горы. По дороге с крутыми поворотами Луи вел машину на небольшой скорости, не более тридцати километров в час. Поэтому можно было с ним разговаривать. И я узнал, что в свободное время он занимается открытием
perpetuum mobile, то есть вечного двигателя. Я объяснил ему, что вечного двигателя не может быть создано из-за наличия трения, которое прекращает со временем любое свободное движение. Но вечное движение существует в Космосе, поскольку движение планет и светил происходит в так называемом эфирном пространстве, в котором плотность теоретически равна нулю. Может быть, мои «космические» утверждения были и не верны, но так я знал тогда, и, по крайней мере, замедления движения планет и светил до сих пор не обнаружено. Но может быть также и то, что с точки зрения космического времени это замедление нам трудно зарегистрировать.
Теперь же я знаю, что как будто бы в Космосе трение обнаружено. Следовательно,
perpetuum mobile в природе не существует.
* * *
Миссис Бланш платила
супружеству Луи хорошую плату, но прибавляла еще пятьдесят франков в месяц, чтобы он не пил вина. Этим Луи был очень возмущен, хотя и считал ее прекрасной хозяйкой.
— Какое ей дело, пью я или нет, — жаловался он. — Я пью один литр вина «Ординер» в день, а жена пол-литра. Ну, иногда я выпиваю полтора литра и тогда она боится, что я пьяный устрою автомобильную катастрофу. Смешно…
* * *
Мы жили в это время на маленькой вилле «Maisonette» («Домик»). Этот домик имел плоскую крышу, покрытую асфальтом. От сильной жары он плавился и иногда протекал, в результате чего во время сильных дождей в образовавшиеся щели текла вода. Тогда кто-нибудь взбирался на крышу с метлой и гнал воду. Когда я однажды заболел, этим занимались гости, которые, сменяя друг друга, практически были постоянными нашими жильцами.
Как-то во время дождливого периода приехали хозяева этой виллы, которые по обыкновению жили в Лионе. Узнав, что мы собираемся прожить в этом доме еще несколько месяцев, они сейчас же решили сделать нормальную хорошую крышу из кровельного железа. И сделали…
А попали мы в «Maisonette» потому, что нам пришлось оставить прежнюю квартиру, ту самую, где я строил байдарку. Та квартира была во втором этаже, с камином. Нижний этаж хозяева сдавали каким-то французам. Но приехала Таня Билимович, моя племянница. Каждый день она и Мария Дмитриевна до поздней ночи стучали высокими каблуками, и однажды нижний жилец не выдержал и устроил скандал. После этого пришел хозяин дома и сказал, что вынужден будет отказать нам от квартиры, потому что мы разгоним ему жильцов.
Я выбранил моих дам, а хозяину сказал, что мы съедем, как только найду другую квартиру. Стал искать. Искал я отдельную виллу около моря. Обратился в английское бюро «Cock». Там мне сказали, что такая вилла есть, и дали адрес. Я пошел посмотреть. Это был каменный, довольно большой дом в лесочке на берегу моря. Дом сдавался с полной обстановкой. Вилла мне подходила. Я вернулся к «Cock’y» спросить о цене.
— Четыре тысячи франков в месяц, — был ответ.
— Это для меня дорого.
— Очень жалко, — сказала мне служащая, — но дешевле нет.
Обратился во французскую контору. Там мне сказали:
— Если на месяц, то семьсот пятьдесят франков, а если на полгода, то пятьсот франков в месяц.
Я пошел посмотреть. Это и был «Maisonette», на вид хорошенький маленький домик, притом построенный из особого кирпича, очень пористого, спасающего от жары. При нем был и участок в 1200 квадратных метров, пятидесятилетняя пальма, какая-то зелень, кустарники.
Дама из конторы, очень толковая, пошла туда вместе со мною и сдала мне всю обстановку по реестру. В домике было все, что нужно. Две маленькие спальни, в каждой по кровати с матрацами, одеялами и противокомарниками из кисеи, покрывавшей всю постель. Большая комната с набором стульев и кресел, там же стояла маленькая железная печь. Ванная комната, вода в которой нагревалась электричеством, туалет, кухня с газовой плитой и кухонной посудой. Полный набор тарелок, чашек дота супа, набор чайных чашек на шесть персон, столько же ложек и даже пепельница. Все было учтено в реестре, напечатанном на пишущей машинке, который я подписал. Дама сказала:
— За все, что вы разобьете или испортите, заплатите, уезжая.
Забегая вперед, замечу, что мы ничего не испортили. Две-три чайных чашек слегка треснули, но за это ничего не взяли. Дама объяснила:
— Elles sont fêlers
[72].
Перед тем, как я нашел «Maisonette», я пытался снять другую виллу, пожалуй, даже получше, чем «Maisonette». Я даже успел дать за нее задаток. Но мне очень скоро отказали. Вероятно, кто-то заплатил дороже. Задаток, конечно, вернули, но все же хозяин виллы, француз средних лет, чувствовал себя неловко. Он был художником и, чтобы как-то сгладить неприятное впечатление, подарил Марии Дмитриевне картину, написанную маслом и изображавшую море и берег Boulouris’a. Провансальская любезность была приятна.
* * *
Когда мы жили в «Maisonette», я болел две недели — лежал в постели. Пришел врач-француз и сказал: «Простуда желудка». Прописал диету, пока не спадет температура… Очень озабоченный кот Гришка две недели пролежал у меня на животе вместо грелки. Он, очевидно, помнил, как я его спас при помощи валерьянки, когда он отравился крысиным ядом.
В это время у нас опять гостили Значковские и другие. Они ужасно шумели, обедая в соседней комнате, то есть мне казалось, что они шумели, так как любой звук отдавался в мозгу.
Олег еще не был женат, а Игорь был уже женат на Лермонтовой, казачке (он женился уже в эмиграции). Про нее наша
менашка (от слов
femme de ménage — приходящая домашняя работница) говорила: «Elle n’est pas sérieuse»
[73]. Потому что она, Значковская-Лермонтова, в позднее время гуляла под ручку не со своим мужем.
Между прочим, эта
менашка, женщина бедная и необразованная, бравшая с нас ничтожную плату за свои услуги, крайне заботилась о воспитании своего маленького пятилетнего сынка. Для француженки нет большой обиды, как услышать: «Ваш сын плохо воспитан, мадам».
Но ее сыночек был хорошо воспитан, и до того хорошо, что, сидя на одном стуле с Гришой, с которым очень подружился, он позволял догадливому коту слизывать все масло с бутерброда, который давала ему мать.
* * *
Почему же я заболел? В один из погожих дней все наши гости поехали с Марией Дмитриевной по железной дороге на один из прекрасных пляжей. Дома остались мы вдвоем с Вовкой. Мы должны были приплыть на тот же пляж на байдарке под парусами, для чего необходимо было пересечь залив.
Собираясь в путь, я задумал упростить мачту вантами, для простоты сделанными из проволоки. Когда я сделал это, то сказал Вовке:
— Знаешь, я чувствую в воздухе какую-то каламитозносгь.
Это слово обозначает несчастье. Однако из-за такого предчувствия не оставаться же дома, когда нас ждут. И мы поплыли.
Начался неприятный ветер, который дул порывами, как будто плевал. Парус необходимо было спустить, и немедленно. Вовка пополз по байдарке, потому что кливер зацепился за конец ванты, а точнее, за конец неоткусанной проволоки. Для этого Вовке нужно было ползти по правому борту. В это время ветер «плюнул» в кливер слева, и нас положило на левый борт. Все вещи выпали за борт в воду: пляжные махровые простыни оной Лермонтовой и мешочек с инструментами. Мы оседлали легшую на бок байдарку. Все было бы ничего, но она не держалась на боку и стала переворачиваться дальше, и мы в итоге перебрались на днище. И так продолжалось дальше. Высокая мачта смотрела то вниз, то вверх, так как байдарку начало крутить вокруг своей оси. И нам приходилось все время перебираться то на ее палубу, то на борта, то на днище… Необходимо было освободиться от мачты, то есть «срубить» ее, если говорить на морском жаргоне. Но избавиться от нее мы никак не могли, так как ее крепко держали злополучные проволочные ванты. Перерезать проволоку мы тоже не могли, потому что мешочек с инструментами утонул.
В таком беспомощном положении нас несло ветром вдоль берега по направлению к скале
Lion de Mer[74]. Это была опасная скала. В ней была пещера, в которую с диким ревом врывались волны, почему скала и была так названа. Если бы нас затащило в эту пещеру, то нам пришлось бы плохо.
С великими усилиями, гребя веслами, которые удалось спасти, мы направили байдарку на другую скалу,
Lion de Terre[75]. Но все это продолжалось очень долго. Ветер и волны болтали байдарку, и она слушалась нас очень плохо. Потонуло все, что должно было утонуть, но из корзины с провизией выплыли нарезанные кусочки колбасы, и они, как бы насмехаясь, плыли рядом с нами. Вовка проголодался и поел этой колбасы, пропитанной морской водой. От этого у него сделалась спасительная рвота. Я колбасы не ел, меня просто подташнивало от голода и качки.
В таком состоянии примерно через три часа нас стало подносить к скале
Lion de Terre. Тут увидел нас какой-то рыбак в лодке. Он подплыл к нам, взял нас на буксир и хотел помочь. Но ничего не вышло, трос лопнул, и он нас бросил.
Скала все приближалась, а зыбь росла. И вот наступил конец. Нас подняло высоко и со всего размаха бросило на скалу. Вовка попытался поддержать байдарку, чтобы удар не был так силен. Но я понял, что байдарка, наполненная водой, весила не меньше четверти тонны и что она просто раздавит Вовку. Поэтому я толкнул его в живот ногой, отталкивая от байдарки. Она упала в положении мачта вверх с высоты примерно пяти метров. Ударилась дном посередине и сразу же развалилась на две части. Брезентовая обшивка лопнула, как будто бы ее отрезали ножом. Кормовая часть упала в море, носовая же с торчащей вверх мачтой осталась лежать на скале. Около мачты была вделана маленькая иконка мадонны, покровительницы моряков. Я выкрутил ее из гнезда, и это было все, что осталось от байдарки.
Что делать? Надо было срочно известить наших, иначе бы они стали думать самое худшее. Я сказал Вовке, сохранившему на себе белую рубашку, летние штаны и обувь:
— Поезжай поездом, а я в трусах и босой пойду по берегу домой.
Так мы и сделали. Вовка быстро высох на солнце и ветру и сел в поезд. Я же пошел по берегу, но он был крайне извилист. Обходя все эти бухточки, я потратил много времени. Наконец, пришел домой сухой, но что-то мне было холодно. И голодно. На кухне я нашел ризотто — итальянское кушанье — рис с сыром, которое в горячем виде было безопасным блюдом. Но я поел его холодным и больше, чем следовало. Вскоре почувствовал себя неважно, лег в постель, а Гришка лег на мой живот.
Вечером все приехали домой, извещенные о случившемся Вовкой.
* * *
Когда я выздоровел, но еще слабый сидел под пальмой, нахлобучив на голову большую соломенную шляпу с лентами, Мария Дмитриевна принесла мне зеркало:
— Посмотри, на кого ты похож.
Я увидел в зеркале больную в лентах с подведенными глазами. Эта женщина была похожа на мою сестру Аллу Витальевну, тогда еще живую. Такое видение было как бы предзнаменованием. Скоро она скоропостижно умерла в Югославии.
* * *
Байдарка погибла, и некоторая невидимая связь, существовавшая между мною и морем, оборвалась. Незадолго до этого печального события мне удалось совершить одному приятнейшее плавание на этой байдарке. Отчалив из Boulouris’a, я пошел на возвышенный мысок, где было маленькое кафе. Берег кругом был голый, вся растительность была уничтожена незадолго до этого разразившимся пожаром. До пожара тут были большие куриные фермы, на которых выращивались маленькие белые курочки, очень ноские в смысле яиц.
С высокого мыса меня завидели далеко посетители кафе, и они говорили, что к ним идет яхта. По пути я сравнялся с рыбачьей лодкой под мотором. Мы шли некоторое время рядом. Добродушный француз крикнул мне:
— Sa va!
Это обычное одобрительное восклицание во Франции. Действительно, байдарка шла в этот день неплохо. Под высоким мыском в кафе была крошечная бухточка, в которую я вошел, не сбивая парус. Но как только я управился с байдаркой, войдя в воду, на меня набросились осьминоги. Один успел присосаться к ноге. Я оторвал его и бросил в воду. А в Ницце был случай, когда осьминог побольше напал на даму. С большими трудами его от нее оторвали.
Я с удовольствием выпил кофе наверху и поплыл домой обратно, не ударив ни разу веслом в течение всего пути. Словом, я шел как на яхте.
* * *
Еще в юности с горечью я осознал, что нет такой компании, которая бы никогда не распалась. В Boulouris sur Mer нас окружали доброжелательные французы: соседи, владельцы магазинов, кафе, торговцы на рынке. Мы стали для них как бы своими. Нас навещало множество друзей из Парижа и других уголков Франции, с которыми нас связывали прочные узы прежней жизни.
Вот с такого рода людьми расставаться было жаль. А расстаться мы решили. Были две причины для этого.
Во-первых, в Югославии скоропостижно умерла моя сестра Алла Витальевна. Как-то захотелось быть ближе к оставшейся сестре Лине Витальевне.
Во-вторых, общеевропейский кризис 1929 года принудил Каминьского временно приостановить мою «мать-кормилицу», то есть мельницу в Курганах. Это значило, что нам будет не на что жить неизвестно какое время. В Югославии отец и брат Марии Дмитриевны хорошо зарабатывали. Сестра моя Лина Витальевна тоже оперилась. Благодаря Каминьскому, который арендовал также и ее имение в Польше — Агатовку, она купила два доходных дома, один в Белграде, другой еще в каком-то городе. Кроме того, и я рассчитывал что-нибудь заработать в Югославии. Во Франции это было трудно сделать.
Во Франции трудно, но в ее колониях можно было устроиться. В это время мне предложили службу в Марокко. Предложение поступило через Петра Николаевича Балашова. Почему он смог сделать это предложение, я уже не помню.
Предлагаемая служба заключалась в следующем. Французское правительство материально поддерживало французов, живших в Африке. Там дело шло о престиже белого человека. Например, французам было зазорно ездить в Африке в третьем классе, и если их доходы были низкими, им оплачивали подобные услуги. Был слой французов, называемых колонами, которые реально участвовали в колонизации африканских владений Франции, то есть они получили участки земли или открыли на этих территориях какое-нибудь дело. Пока их хозяйства не окрепли, французское правительство оказывало таким колонам денежную помощь. Когда эти люди становились на ноги, они должны были заявлять администрации, что больше в помощи не нуждаются. Но не все это делали. Потребовались контролеры на месте, которые бы объезжали колонистов на местах и в деликатной форме осведомлялись бы в каждом отдельном случае, нужна ли им денежная помощь. Для разъездов выдавался велосипед или оплачивались поездки на поездах и автобусах.
Эта служба была и легкая и трудная, но оплачивалось неплохо — тысяча франков в месяц, что при африканской дешевизне было совсем недурно. Я было уже решился ехать в Марокко, тем более, что там очень хороший климат, но, как это часто бывает с русскими — предполагаешь одно, а делаешь другое, — поехал в Югославию.
Глава X
СНОВА В ЮГОСЛАВИИ
Для въезда в Югославию необходимо было получить паспорта и визы. Наша соседка-англичанка повезла нас в Драгиньян, административный центр департамента Вар. Луи осторожно, но уверенно доставил нас на городскую площадь. Я пошел в ратушу, оставив дам ожидать меня в машине.
В ратуше встретили меня в высшей степени любезно, и через сорок минут я вернулся с двумя паспортами к моим дамам. Оставалось получить визы. Получил и их, но не помню, каким образом.
И вот, собрав наши немудреные пожитки, мы тронулись в путь. Повезли с собою и ставшего членом семьи кота Гришку. Для него нашлась — так принято во Франции — особая дорожная корзиночка с отверстием. В купе, конечно, было очень тесно, и корзинку поставили под сиденье. На нем сидела молодая дама в ажурных чулочках. Вдруг она пронзительно закричала. Гриша, соскучившись в одиночном заключении, протянул в окошечко серую лапку с черными кольцами и попробовал: на чулочках шелк настоящий или искусственный, то есть слегка поцарапал француженку. Наша тайна была открыта, но дама была воспитана и кошколюбива. На этом инцидент и был исчерпан.
* * *
Моя сестра Алла Витальевна умерла в Белграде, но тело ее было перевезено и предано земле в Любляне. Мария Дмитриевна с Гришей проехали дальше в Белград, а я сошел в Любляне.
На вокзале меня встретил Дима, и я провел в доме Билимовичей несколько дней. Муж и дочь покойной были безутешны. И тут я столкнулся — и это было горько сознавать — с эгоизмом глубокого горя. Для них все перестало существовать, и они возненавидели все вокруг. Во время моего пребывания в их доме они ходили на кладбище ежедневно по два раза в сильную жару.
Как я ни любил свою сестру, а Дима свою тетю, все же Александр Дмитриевич и Таня чувствовали, что наши чувства не равняются по глубине их чувствам. Как ни велико было горе, но мы понимали, что надо жить дальше. И Александр Дмитриевич прямо попросил меня уехать, что я и сделал.
Приехав в Белград, я рассказал своей сестре Лине, почему так быстро уехал из Любляны. Она усмехнулась и заметила:
— Я не удивляюсь. Билимовичи особые люди, тут уж ничего не поделаешь. Не огорчайся, это пройдет со временем.
И действительно прошло: Таня вышла замуж за Диму, Александр Дмитриевич женился во второй раз.
* * *
Надо было как-то устраиваться на новом месте. Мария Дмитриевна искала службу, а пока что поселилась рядом с отцом в Белграде — он снял ей хорошую комнату.
Я неожиданно получил приглашение от некоего врача Чекалина, который когда-то был мне подчинен по «Азбуке». Узнав о моем переселении из Франции в Югославию, он по телеграфу просил меня приехать к нему в Рагузу (Дубровник) погостить и перевел мне на дорогу тысячу динар.
И я поехал. В то время в Югославии самолеты еще не летали на берег Адриатики. Надо было ехать по отвратительной железной дороге. Местами она была очень красива, живописна, но сотня туннелей были ужасны. Вагоны наполнялись дымом, который доводил до тошноты. Стало легче, когда поезд пошел вдоль так называемого Попова поля. Среди диких скал, серых и бесплодных, простиралась очень большая и чрезвычайно плодородная долина. Она была совершенно ровная, но на ней не было никаких поселений. Дело в том, что весною из снежной воды здесь образовывалось большое озеро. Если бы эта вода сходила быстро, то с этого поля можно было бы собирать два урожая в год. Оно было плодородно, как берега Нила после разлива. Но вода сходила медленно. Было много проектов ускорить сброс воды из долины. Наконец, этим занялись русские инженеры-эмигранты. Была отправлена экспедиция, в которой участвовал и наш горняк Виридарский, рассказавший мне впоследствии об этой экспедиции. Он тоже был азбучник по кличке «Паж» и был привязан к букве «Веди», то есть ко мне.
* * *
Было известно место, где вода уходит из долины сквозь скалы. Следовало выяснить, что ее задерживает, почему она так медленно уходит. Экспедиция, в состав которой входили только русские специалисты, в том числе несколько дам, продвигалась вдоль ручья и, наконец, подошла к скалам и пещере, в которую ручей втекал. Она углубилась в пещеру, и вскоре пришлось включить электрические фонари, потому что люди вступили в зону абсолютной темноты. Так они шли до тех пор, пока вдруг перед ними не возникло нагромождение камней, которые поднимались до потолка пещеры, если только можно было назвать потолком причудливые, нависшие сверху утесы. Где-то среди этих завалов исчезал ручей. Они стали разгребать камни в поисках путей воды. Иногда она пропадала, потом они снова ее находили. Наконец, они проникли в огромное пространство. Лучи фонарей, направленные вверх, терялись и размывались в пространстве. Ручей, по-прежнему оставаясь мелким, расширился, образовав некое озерцо, вокруг стояло множество колонн явно базальтового происхождения и похожих на чудовища.
Виридарский рассказывал, что всем стало страшно. Каменные великаны, похожие на чудовищных человеко-зверей, нависали над людьми, и их охватило какое-то необъяснимое и непреодолимое уныние, особенно дам. Последовало замешательство, и затем все повернули назад, так ничего и не выяснив.
Выйдя на свет Божий, большинство оправилось, но некоторые временно лишились рассудка и были помещены в психиатрическую лечебницу, где вскоре они пришли в себя. Подобное психическое недомогание я испытал на себе.
В Белграде Мария Дмитриевна места не нашла, более того, она заболела. Я решил, что ей было бы полезно пожить около моря, и потому, переехав в Рагузу, стал строить что-то вроде дома на участке земли, принадлежавшем моей сестре Лине Витальевне. И тут меня скосила болезнь, которую местные врачи называли
нападач, сопровождавшаяся высокой температурой. В итоге меня поставили на ноги и я решил скорее закончить свою стройку, хотя и чувствовал себя как-то неуютно. Когда пришел на строительную площадку, шел дождь. Меня вдруг охватило какое-то беспокойство и в моем больном воображении стропила недостроенного дома, которые торчали на фоне неба, стали казаться мне виселицами. Мне объяснили потом, что
нападач часто дает такое временное психическое расстройство.
Доктор Чекалин хотел сделать мне инъекции, связанные с какими-то звериными вытяжками, но я отказался. Он прописал что-то другое, и вскоре я окончательно поправился.
* * *
Чекалин жил в Рагузе. Он был хороший врач, отлично лечил от малярии, разбирался в сердечно-сосудистых болезнях. У него была большая практика в городе, и платили ему пациенты довольно много. В полном соответствии со своею квалификацией врача у него была хорошая квартира. С веранды были видны кусочек моря и когда-то грозная средневековая крепость. Так как у него были средства, то он смог позволить себе и другую роскошь — иметь домоправительницу, которой была молодая и красивая
коновлянка. Коновляне — это особое племя, живущее в горах и известное своей прямо-таки аристократическою красотою, хотя причины ее мало понятны, во всяком случае, спорны и связаны с историей Рагузы. Но об этом, быть может, позже.
Госпа Мария была очень ревнива. Чекалин так ее боялся, что для своей охраны взял бывшего жандарма, некоего Продьму. Он жил у Чекалина по ночам, когда госпа Мария пыталась прокрасться к ложу Чекалина с ножом в руке. Отсыпался Продьма в другом месте.
Чекалин, пожалуй, был человек веселый, но иногда очень несносный. Своею красоткой он очень гордился, и слух о ней распространился в рагузских кругах русской эмиграции. В результате ему пришлось уговорить свою домоправительницу, чтобы она позировала художнику Волченецкому.
Быть натурщицей, хотя бы и вполне одетой, считалось позором для коновлянки. Поэтому в качестве платы за услугу она потребовала от художника, чтобы он подарил ей ее
слику. Волченецкий пообещал. А понадобилась она ему как натурщица только потому, что у нее была старинная
ношня, то есть древний коновлянский наряд. Он сделал ее на портрете несколько старше, что придавало ей некоторую импозантность.
* * *
В один из дней мы завтракали на веранде и я любовался средневековой башней, когда коновлянка сказала:
— А я была у адвоката.
Чекалин как-то сразу забеспокоился и спросил, почему?
— Потому что ваш
сликарь (художник) не отдает мне
слику, хотя давно ее кончил. И мне кажется, что и не отдаст.
Чекалин взъелся:
— Чтобы русский художник не исполнил своего слова? Этого не может быть!
— Так вот, — твердо заявила она, — пусть эта
слика стоит вот здесь у меня.
— И будет стоять, — заключил Чекалин и продолжал, обращаясь уже ко мне. — Хотите увидеть этот портрет?
— Хочу.
И мы пошли к Волченецкому, который жил недалеко. В Рагузе все недалеко, потому что городок был небольшой, с предместьями всего восемнадцать тысяч человек. По дороге мы встретили Драгомирову
[76], которая тоже занималась живописью. Мы увлекли ее с собой.
Когда вошли в мастерскую Волченецкого, то увидели мольберт, на котором стоял портрет коновлянки. Он мне понравился, и я не скрывал этого. Драгомирова тоже сказала несколько одобрительных слов.
Я обратился к художнику:
— Позвольте вам сказать, хотя это как будто бы и не мое дело. Однако все мы, русские, в чужой стране как-то связаны между собой. По поступкам одного судят обо всех нас. Ваша модель только что заявила нам, что была у адвоката, так как вы не отдаете ей портрет.
— Конечно, я ей отдам портрет, как обещал, — ответил Волченецкий. — Но войдите в мое положение. Этот портрет стоил мне уже достаточно денег. Я посылал его в Париж, где он понравился, и даже была напечатана заметка в газете. Я хочу еще использовать его на выставке в Белграде. Когда он вернется, я ей его отдам.
* * *
Портрет вернулся из Белграда, но он все его не отдавал. И госпожа Мария подала жалобу в суд. Прошло много времени, и я снова приехал в Рагузу (Дубровник) — меня вызвали в качестве свидетеля. К тому времени я немного подучился говорить на дубровачском диалекте.

Интерьер в доме Шульгиных. Югославия. Сремские Карловцы. 1930-е
Судья спросил меня, как было дело. Я показал, что мы посетили художника и разговаривали с ним, стоя перед «сликой», и он сказал, что исполнит обещание, когда портрет вернется из Белграда.
Произнеся эти слова, я обратился к
уметнику, то есть к художнику:
— Правильно ли я изложил нашу беседу перед портретом господжи Марии?
— Правильно и точно, — ответил он мне и продолжил, обращаясь к судьям. — Но я говорил не о самом портрете, а о копии.
Тогда судья опять спросил меня, что я думаю по этому поводу. Я ответил:
— Мы стояли перед подлинным портретом, копии еще не было. Я не могу знать, что было в мыслях у господина уметника.
Вопросов ко мне больше не было, и меня отпустили. После длинной волокиты суд все же решил, что господин уметник должен отдать господже Марии не подлинник, а копию. На этом дело и кончилось.
К тому времени Чекалину его красотка надоела, так как она продолжала бродить по ночам с ножом. Он дал ей откупного тридцать тысяч динар, купил ей еще в придачу бакалейную лавку на Боковой улице в Рагузе и попросил покинуть его дом. Она ушла.
Я посетил как-то ее в лавке. Она уже успокоилась и приняла меня вполне любезно. Я спросил ее:
— Господжа Мария, а вы бы не хотели вернуться к себе на родину, в Конавле?
— В Конавле? Никогда. Я обеспечена навсегда, и мне нельзя возвращаться.
* * *
В Рагузе проживала мой старый друг по войне Мария Николаевна Хомякова. Ее отец был одно время председателем Третьей Государственной Думы. Он был крестником Гоголя, человеком очень обстоятельным, настоящим русским барином, хотя происходил из татар. Хомяк, Аксак
26 и Корсак
27 — три татарина, прибывшие из Орды и давшие начало русским дворянским родам Хомяковых, Аксаковых и Корсаковых.
Во время Первой Мировой войны Николай Алексеевич Хомяков был главою Красного Креста 8-й армии, а его дочь Машенька заведовала передовым санитарным отрядом в Тарнове. Там был католический монастырь, который наш отряд занял. Монашки-польки остались и кормили раненых и больных. Они давали им обыкновенный европейский обед, правда, не роскошный, но достаточно изысканный. Они носили красивые головные уборы, но ими они не привлекали наших солдат, которым не нравилось их питание, главным образом потому, что давали мало хлеба.
— Чертовы аеропланы! Ты мне хлеба дай как надо.
Весь уход за ранеными лежал на русских сестрах. Для сношения с монашками оказалась очень кстати Дарья Васильевна, которая бойко говорила по-польски. И вообще она оказалась «сестра первый сорт», как говорила Хомякова, очень с нею подружившаяся и полюбившая ее. Но она подсмеивалась над Дарьей Васильевной и называла ее не иначе как
heilige Liebe[77]. А меня называла Идолом и неизменно после этого спрашивала Дарью Васильевну:
— Ну что вы в нем нашли? Человек как человек, а для вас он Идол. Стыдитесь.
* * *
Меня там ценили, и вот почему. Через некоторое время я наполнил палаты нашего лазарета ранеными исключительно тяжелыми. Они у нас считались «аристократами», хотя бы они были простые мужики от сохи. Я их привозил по ночам, так как дорога обстреливалась. У меня была небольшая, но очень хорошая санитарная машина, переделанная из легкового автомобиля, то есть имевшая мягкие рессоры. В ней помещались четверо тяжелораненых в ряд. При таких перевозках мне помогал мой племянник Филипп Могилевский, прозванный в отряде «Простофилей» за то, что, поехав в отпуск, растерял всю корреспонденцию, которую ему отдали для передачи в Киеве. Он очень ловко пеленал раненых при помощи одеял и булавок. Их клали в ряд, прижав друг к другу, и потому они лежали спокойно. Но все-таки перед плохой дорогой им впрыскивали морфий, и они засыпали. Через полтора часа (быстрее ехать было нельзя) я привозил их в Тарнов, и если бывали срочные случаи, их сразу же клали на операционный стол.
В нашем отряде была хороший хирург-дама, но в тяжелых случаях я обращался к хирургу-поляку. Сдав раненых, я прямо ехал к нему, будил его глубокой ночью, извинялся и привозил. Почти всегда на мой звонок лазарет открывала Дарья Васильевна, самая бессонная из сестер. В общем, таким образом за короткий срок я привез семьдесят человек, и больше мест не было. Ведь я привозил и тяжелораненых противника, попавших в наши руки.
Отряд работал самоотверженно, по две медали «За храбрость» получили все сестры. Они их заслужили, потому что работали практически в боевых условиях — Тарнов обстреливался «Бертой». Это была двенадцатидюймовая мортира, называвшаяся «короткой Бертой» и стрелявшая с расстояния в четырнадцать километров, в отличие от «длинной Берты», обстреливавшей Париж с дистанции сто километров.
Снаряд «короткой Берты» поднимался на высоту Монблана (четыре с половиной километра), невыносимо ревел и, упав, с грохотом разрывался, делая воронку в семьдесят шагов в окружности и такою глубиною, что всадник мог в ней скрыться. Снаряд весил примерно одну тонну. В общем, «короткая Берта» сделала по Тарнову до ста выстрелов, и пока мортира не расстрелялась, снаряды падали точно. И так как немцы отлично знали, где помещаются лазареты, то по ним не стреляли. Однако, примерно с пятидесятого выстрела «Берта» постепенно стала терять точность стрельбы. И тогда она стала опасной для госпиталя. Снаряды падали все ближе и беспорядочно.
И вот один упал на площади перед монастырем. К счастью, это было ночью и площадь была безлюдной. Снаряд попал в двух лошадей, которых взрывною волною перебросило через трехэтажный дом. Другой раз он разорвался прямо рядом с госпиталем и развалил часть стены так, что стала видна лестничная клетка. Вскоре новый снаряд сотряс сам госпиталь, в результате чего многие раненые попадали с коек. В это время Дарья Васильевна принимала ванну и потом рассказывала мне с ужасом:
— Это была бы такая стыдная смерть.
Но смертей пока не было, все сходило благополучно.
Следствием этих обстрелов Тарнова стала шпиономания — будто бы какие-то лица по подземному телефонному кабелю доносили немцам о том, что делается в городе. Но эти шпионы были довольно странные. Однажды центральную площадь города заполнил целый полк, проходивший через город. Он простоял на ней несколько часов, и немцы за это время не сделали ни одного выстрела по городу. К ночи полк снялся и ушел. После этого прилетели три снаряда на опустевшую площадь. Если бы они прилетели днем, то полк понес бы тяжелые потери.
Но шпиономания всегда должна закончится успокоением обывателей. В шпионаже обвинили горничную одной из гостиниц, ее судили и расстреляли.
* * *
Все это и многое другое было во время войны. А мне хочется рассказать о том времени, когда Дарьи Васильевны уже не было в живых, я и Машенька Хомякова были в эмиграции и жили в Рагузе (в то время ей было сорок лет). Я — у Чекалина, она — на улице
Пут свéтый Якова. Путь этот шел между двумя высокими стенками. В одном месте была дверь, и если войти в нее и спуститься к морю, то там стояла старинная усадьба, бывшая в прошлом епископским дворцом. В мое время это была крайне живописная, поэтическая и романтическая полуразвалина, увитая плющом и диким виноградом. В уцелевшей части сохранилось несколько маленьких комнаток, в которых и жила Мария Николаевна. От Чекалина я перебрался к ней и некоторое время жил в одной из комнаток, где и «молотил» на пишущей машинке.
Большим удобством этого места было то, что оно находилось буквально в двух шагах от моря. Там можно было получать наслаждение от купания, если человек хорошо плавал. Но когда иногда бывал мощный прибой с обилием пены и огромных волн, плавание становилось трудным и даже опасным. Надо было знать, где лежит плоский камень, чтобы на волне стать на него и затем выброситься на берег вместе с пеной. Иначе можно было угодить на острые скалы. Как-то приехал Дима, и он ловил меня, когда прибой выбрасывал меня на камни.
* * *
В это время я служил в Рагузе в строительной фирме «Атлант» чем-то вроде кассира. Брат Марии Дмитриевны, Владимир, в этой же фирме служил строителем. Когда приехал Дима, я передал ему мою должность, а сам занялся Рагузой: достал печатные материалы по ее истории, стал их изучать и начал писать третий том «Приключений князя Воронецкого» — «В стране островов и поэтов». Островов на Ядране, Адриатическом море, было около тысячи. Поэтов было меньше, большинство из них неважные, но иные, как, например, Ветранич, поэт XVI века, были интересны.
Недалеко от Рагузы был островок, имевший восемьсот метров в длину, четыреста в ширину и двести в высоту. В мое время на острове был маяк, на котором служили и там же жили четыре человека. Одна из комнат у них была временно свободна, и мне очень хотелось ее занять. Этот островок славился своими ветрами, и один из служителей рассказывал мне, что побывал на многих маяках и всюду болел, но выздоровел только здесь.
Как я ни пытался, устроиться на маяк мне не удалось, однако с островком я познакомился. Поднявшись на вершину, я обнаружил
копицу (сноп) сжатого хлеба. Это маленькое поле было за каменной оградой. Вдруг из-за ограды выскочила белая козочка, не дикая, домашняя. Она, наверное, страшно скучала наверху и чрезвычайно обрадовалась мне. Прыгала вверх на всех четырех ножках, бодала меня в живот, затем отбегала на несколько шагов и опять подбегала, видимо, куда-то меня звала. Я пошел за ней и дошел до крутого обрыва. Внизу было море. Там, на небольшой глубине, плавали большущие рыбы, в лучах солнца игравшие всеми цветами радуги. Наискосок, по обрыву, шла вниз узенькая тропинка шириною в полметра. Коза побежала по этой тропке и вернулась. Я был не коза, и мне было страшно. Но все же я пошел. Ужас! Слева вверх шла отвесная стена метров в пятьдесят, и справа то же самое вниз. И там, внизу, плавают эти зловещие рыбы. Но что значит сатанинская гордость. Я продолжал идти за козой, пока она не исчезла за поворотом. До него было недалеко, каких-нибудь десять метров, но каких метров! Я остановился в нерешительности. Козочка опять показалась из-за поворота и смотрела на меня, как бы приглашая. Я опять решился, сделал несколько шагов и очутился в безопасности за поворотом. Там была довольно большая пещера размерном примерно десять на десять метров с совершенно ровным полом из утоптанной земли. Как эта земля сюда попала, не знаю. Потолок представлял из себя неправильной формы свод из изломанных камней, вполне защищавших от дождя и солнца.
Коза недаром меня сюда привела. Она тут жила с полным комфортом. А из литературы я узнал, что эта пещера в течение столетий была убежищем для всех монахов, тут живших.
Человек с длинным шестом мог сбросить в море целый отряд, потому что по этой козьей тропинке люди могли идти только гуськом, по одному.
* * *
Поэт Ветранич в XVI веке прожил здесь один-одинешенек двадцать пять лет. Он писал в своих стихах, что когда в море появлялся парус, он, Ветранич, становился белее пены от страха, потому что этот парус мог быть турком или мором (мавром) и эти разбойники могли приковать его «на фусты», то есть к веслам.
На скале, где славлю Бога,
Жалоб слышится немало.
Мне всегда одна дорога —
Вьюсь как чайка в круг синьяла
[78].
Остров мой — моя темница.
Нет людского разговора,
Говорят здесь только птицы
Над пучиной «синя мора»
[79]…
Печальная жизнь. И он прибавляет:
Ну, а если ночью темной
Челн какой к скале пристанет,
Это значит — садик мой порожним станет28…
* * *
Почему же Ветранич обрек себя на это одиночество? Гордость! Его обошли по службе. Ему надо было быть уже епископом, а вместо него назначили другого.
Но прошло двадцать пять лет. При помощи «уничижения паче гордости» Ветранич
«утишил» ее,
superbiam[80], и решил вернуться на материк. Он поселился в прекрасном монастыре, носившем имя Святого Иакова. Оттуда, при закате солнца, виден был островок
Святой Андрий или
Domizella, где он прожил двадцать пять лет. Глядя на него, старик вспоминал свою жизнь. В монастыре
Святого Иакова жить было немного страшнее, чем на острове, где каждый день он ожидал, что его схватят турки или мавры. В монастыре появлялся время от времени «черный монах».
Когда-то двое юношей знатного рода полюбили одну и ту же красавицу. Они не стали соперничать, и один уступил другому и стал монахом. В тот день, когда его соперника вечером обвенчали с красавицей, монах попросил всех присутствовавших при венчании покинуть храм, так как хотел напутствовать молодых в их новой жизни. Все вышли и ожидали на паперти храма. Но когда ожидание затянулось, приглашенные не вытерпели и вошли в храм. У алтаря они увидели три трупа — монах отравил всех в причастии.
С тех пор этот «черный монах» являлся порою, всегда предвещая что-нибудь злое. Бывало, например, пять монахов идут узкою тропинкою, ведущей к монастырю Святого Иакова, и вдруг их стало шесть — это «черный монах» присоединился к ним. Он молча идет рядом, от него веет могильным холодом, и он не ступает, он плывет, чуть касаясь ногами земли.
* * *
В то время, как я жил в развалинах жилища М. Н. Хомяковой, в пустом монастыре Святого Иакова жил один-одинешенек эмигрант из России, некий Роговский
[81], поляк по национальности и композитор по профессии. Он рассказывал мне, что два раза видел «черного монаха». Других монахов уже давно не было в этом монастыре.
— Было очень страшно, — рассказывал Роговский, — и могильный холод шел от него.
Это подтверждали и другие люди, когда-либо встречавшиеся с «черным монахом». И еще Роговский рассказывал, что так как жил один, то на ночь крепко закрывал входную дверь и затем приступал к своим занятиям, то есть играл на фисгармонии. Иногда он засыпал у инструмента, а когда просыпался, то с удивлением видел на нотах длинные записи.
— Может быть, писал это я, — с сомнением в голосе заключил он, — но в бессознательном состоянии и совершенно не помню, для чего.
* * *
С этим монастырем связана еще одна легенда, относящаяся к давним временам. Будто бы привратник, отворив дверь, увидел перед собою незнакомого монаха. Пришелец спрашивал настоятеля монастыря и назвал его имя, но привратник ответил, что настоятель у них другой. Стали выяснять, в чем дело, и оказалось, действительно, был такой настоятель, но двести лет тому назад. Монах объяснил, что он — ему казалось, что это было час тому назад — заслушался песней одной птички, сидевшей на стене. В действительности он слушал птичку в течение двухсот лет, потому что это была особая птичка. Ее в наших русских сказаниях называли птицей Сирин или Гамаюн. Это та же птица, о которой поет в опере «Садко» индийский гость:
Птица с ликом девы,
Кто ту птицу слышит,
Все позабывает.
* * *
Мария Николаевна Хомякова приехала в Рагузу вместе со своими родителями. Отец, как я уже упоминал выше, был председателем Государственной Думы. Родители умерли и были похоронены тут же, на рагузском кладбище. Недалеко от этого кладбища стояли развалины дворца, в котором жила загадочная личность, известная в истории под именем княжны Таракановой. По-видимому, отсюда и похитил ее Алексей Орлов, увезя в Россию.
Мария Николаевна получала от югославского правительства, как и ее сестра графиня Елизавета Николаевна Уварова, небольшую пенсию, очевидно потому, что Хомяковы были известными славянофилами. Но этой пенсии не хватало на жизнь, и Мария Николаевна давала уроки французского языка. Зная хорошо также и английский, служила гидом английским и американским туристам, приезжавшим в Рагузу.
Эта служба обернулась трагически. Прошло много лет, и ее загадочно похитили на пути между Рагузой и Сушаком (Фиумом). С тех пор ее никто и никогда не видел. Бывший жандармский офицер Продьма, который жил в одном доме с Марией Николаевной, отправился искать ее и тоже бесследно исчез. Но все это случилось значительно позже, когда я уже жил в Сремских Карловцах, кажется, в 1944 году.
С ее сестрой графиней Уваровой я познакомился при следующих обстоятельствах. В Белграде жили три брата-казака. Они открыли молочную и, работая в три смены, хорошо торговали. Я зашел к ним однажды и пил у них кофе. За соседним столиком пила кофе русская дама, с кем-то разговаривая. Когда ее собеседник ушел, я подошел к ней и сказал:
— Простите, сударыня. Не правда ли, вы графиня Уварова?
— Да. Но как вы это узнали?
— По говору. Вы говорите совсем как Машенька.
— Как Машенька? — удивилась она. — Вы ее знаете?
— Очень хорошо.
— Значит, вы Шульгин?
Так мы познакомились, и она пригласила меня посетить ее вечером, «чайку попить». Я стал приходить и довольно часто. Она была так очаровательна, что я предпочитал ее общество всем молодым. В ней был ум живой, наблюдательный и совершенно лишенный всякой злости. Ее только беспокоил немного младший сын.
— Ничему он путному не выучился, помешан лишь на моторках. День и ночь что-то возит на какой-то лодчонке через Дунай и очень доволен. А другой мой сын, старший, женился на англичанке. Я к ним ездила в Англию, и если хотите, расскажу вам интересную историю, только вряд ли вы поверите.
— Кому-кому, а вам я поверю, — заметил я.

Интерьер в доме Шульгиных. Югославия. Сремские Карловцы. 1930-е
— Я жила в этой английской семье. Англичане, если кого приглашают, то их гостеприимство не знает пределов. Недалеко от моих хозяев жила другая семья, которая пригласила в гости русского эмигранта, друга главы семьи. И как только их гость приехал, хозяин поднял над старинным английским замком трехцветный русский флаг. Моя хозяйка флага не поднимала в мою честь, но была также гостеприимна во всех отношениях. И что удивительно, все ее собаки, а их было много, тоже приветствовали меня как близкого друга. В один прекрасный день это множество гостеприимных собак вдруг удвоилось. Я спросила хозяйку: «Дорогая, отчего это у вас сегодня так много собак?». Она
ответила: «Простите, я вас не предупредила, сегодня день рождения моего отца». — «Но ведь ваш батюшка скончался?». — «Да. Но собаки помнят, что сегодня его день рождения». — «Это удивительно. Но почему же их стало так много?» — «Потому что пришли и другие собаки, которые здесь уже не живут, но помнят моего отца». — «А они далеко живут?» — продолжала спрашивать я. «Далеко, но мне кажется, дорогая, вы меня не поняли. Они так далеко живут… Ну, словом, поймите, ведь в каждом английском доме должны быть привидения. Так вот, эти собаки и есть привидения».
Графиня Уварова улыбнулась и прибавила:
— Я знала, что вы мне не поверите.
— Верю, верю, — запротестовал я и перекрестился. — Помоги, Господи, неверию моему.
* * *
Граф Уваров, муж Елизаветы Николаевны, умер давно. Старший сын, вероятно, благоденствовал в Англии. С младшим, лодочником, не знаю, что случилось. Не знаю также, как окончила свою жизнь и графиня Елизавета Николаевна Уварова.
* * *
Существовало предание, что некогда Святой Влах, патрон Рагузы, сказал:
— Пока в этом граде будут только католические праведные храмы, он будет сохранять свою самостоятельность. Но он ее потеряет, когда здесь построится схизматическая церковь.
Под схизматической церковью католики подразумевали православную. Предсказание сбылось. Схизматическая церковь была построена, и Рагуза потеряла свою самостоятельность, которую она сохраняла в течение столетий.
Вот в этой схизматической церкви я и находился в один из дней, когда в нее вошли высокие гости — принц Павел с женою принцессою Ольгой и тещей, великой княгиней Еленой Владимировной. Принцесса Ольга была стройной молодой женщиной, принц Павел, который был в форме генерала с флигель-адъютантскими аксельбантами, походил на русского офицера. Интересно, что я их узнал, хотя никто мне ничего не сказал. Да и сказать было некому: в церкви было пусто и никакой видимой охраны.
В этой православной церкви хором управлял поляк Роговский, а басом пел доктор Чекалин. Роговский мне жаловался, что у него голос необычайной силы, неприятный и всех заглушающий.
* * *
Судьба Рагузы была примечательна во многих отношениях. И прежде всего тем, что этот пользовавшийся совершенною внутреннею самостоятельностью город попеременно носил семь
бандьер (флагов) государств, ему покровительствовавших.
Триста знатных родов, управлявших Рагузой, вели очень интересную внешнюю политику. Перед тем, как султан завладел Рагузой, она послала ему добровольно двенадцать тысяч золотых дукатов с обещанием, что будет платить ему эту сумму ежегодно. Султан остался очень довольным и обещал не вмешиваться во внутренние дела.
Сумма эта была, в сущности, небольшая. Существует выражение «figele-migelé». Это исторические латинские слова, обозначающие: «дочери — тысяча дукатов», то есть подразумевается приданое. Если двенадцать приданых были даны туркам, то это значит, что недорого была куплена самостоятельность Рагузы. Точно так же Рагуза платила венграм, венецианцам и другим.
А в отношении искусного шпионажа этот град был непревзойденным. Они, будучи ревностными католиками, шпионили за турками для папы и для турок шпионили за папой. Причем обе стороны были довольны.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой…
писал Пушкин, а я добавил:
Все завидуют их доле
И гондоле золотой.
Дож бросает в море кубок,
Обручается с волной.
Кто ж коснулся алых губок
Догарессы молодой?
А в Рагузе был
кнез, то есть князь, которого выбирали ежемесячно, отчего образовывалось великое множество
«догаресс», которые все ненавидели друг друга. И даже однажды дошло до того, что один подосланный монах откусил нос одной из отставных
«догаресс». Какая-то другая «догаресса», как мне рассказывали, изображена на фронтоне княжеского дворца. Она там танцует с медведем, за что и была казнена по обвинению в скотоложстве.
Дворец этот, небольшой, но очень красивый, был построен, как и почти все остальные здания в Рагузе, из так называемого
корчуланского камня, доставляемого на кораблях с острова Корчула в Адриатическом море. Уж не знаю почему, но по местным поверьям этот камень знал секрет молодости и красоты. Рагуза всегда была нарядная и свежая. Первый раз я приехал в нее вечером, и мне показалось, что я вижу сцену из оперы «Фауст» — сплошное средневековье. Внутренность дворца была замечательна своими украшениями. На дверях зала заседаний Сената была надпись (к сожалению, забыл ее звучание по-латыни), смысл которой был: «Пусть мысли о частных выгодах уступят мыслям о пользах республики».
Интересно также и то, что эта гордая
властела (элита), ревнуя друг к другу, поставила во дворце только один памятник — и человеку, который не принадлежал к знатному роду, но который был большим благотворителем. Он положил очень большую сумму в Генуе на проценты, с которых содержалась до последних времен большая больница в Рагузе и ежегодно давалось богатое приданое четырем бедным девушкам Рагузы. Это было еще и в мое время.
От этих знатных трехсот семей до моего времени сохранился лишь единственный представитель одной семьи по фамилии Гучетич (по-итальянски звучит как Гоце), старик восьмидесяти лет.
Однажды в Рагузу приехала королева Югославии
29, и приехала по-особенному.
Рагуза лежит у берега моря, с остальных сторон она опоясана стеной. Дорога в город идет вдоль берега, подходит к городским воротам, поворачивает, огибает город вдоль городской стены, спускается к морю и у других ворот опять поворачивает и идет вдоль морского берега. В старину одни ворота охранялись черными монахами-бенедиктинцами, другие — белыми монахами, представителями какого-то другого ордена. Эти монахи осуществляли контроль за входом в город и никому не разрешали въезжать в него, ни на осле или лошади, ни в коляске или карете. Разрешалось ходить внутри города только пешком. Этот обычай и сохранился до моего времени.
А королева въехала в Рагузу на автомобиле. Причем, как только автомобиль въехал в город, его окружила толпа и он остановился у фонтана. Люди облепили машину со всех сторон, смотря в ее окна, чтобы увидеть королеву. Затем она проследовала в гостиницу и пригласила на обед последнего представителя
властелы древнего города — старика Гучетича.
* * *
Бедный старик. Его все в городе любили, но обращались с ним малопочтительно. Во время карнавала молодые девчонки в масках теряют обычную сдержанность. Они маскируются еще и другим способом — говорят между собою каким-то особым птичьим голосом. И вот однажды, во время карнавала, я и старик Гоце сидели в одном кафе. Ворвалась стайка девчонок. Они подбежали к почтенному старику, кричали ему что-то на птичьем языке и тихонечко, ласково шлепали его по лысине. Старик Гоце ничуть этим не возмущался, а только сказал, обращаясь ко всем окружающим:
— Ведь я их всех знаю наперечет. И все ж таки не могу узнать, кто из них какая.
Да и никто другой не мог их узнать.
* * *
Покровителем Рагузы издревле считается Святой Влах. Его память празднуется 2-го февраля. Обыкновенно в этот день бывает прекрасная солнечная погода. На Страдуне — так называется главная улица города, — выложенной каменными плитами, появляется процессия. Впереди нее шествуют два молодых человека в черных фраках, за ними идут поющие монахи и всевозможные депутации, прибывшие в город из всех сел и городов бывшей республики в своих исторических костюмах. Далее под балдахином идет епископ, которого с двух сторон поддерживает духовенство в ризах, а он сам держит двумя руками на обнаженной голове сосуд, в котором находятся мощи Святого Влаха, то есть его голова.
К этому надо прибавить, что через каждые три минуты палят старинные пушки с крепостной стены. А тут же по Страдуне идут люди со старинными ружьями, имеющими на конце стволов раструбы. Они тоже стреляют. К вечеру в городе зажигается иллюминация. Сотни электрических лампочек обрисовывают контуры соборов. Но кроме лампочек, горят старинные плошки, наполненные маслом, дающие красноватый свет и много дыма, отчего освещение приобретает фантастический характер.
* * *
В Рагузе я не только изучал интереснейшее прошлое этого края и наслаждался карнавалами и праздниками. У меня еще была и служба. Тут, в Рагузе, уже некоторое время жил брат Марии Дмитриевны, моей жены, так называемый Вольде (Владимир Дмитриевич). Он кончил в Киеве кадетский корпус, но не успел выйти в офицеры. Во время Гражданской войны был, конечно, на стороне белых на каком-то серединном положении — и не офицер, и не рядовой в то же время. После поражения белых он каким-то образом очутился в Польше со своими друзьями. Некоторое время был в лагере, а затем перебрался в Чехию, где жил на свободе. Он и его друзья Значковские зарабатывали свой хлеб, принимая участие в футбольных состязаниях. Затем, узнав, что отец его в Югославии, стали подумывать, чтобы туда перебраться. Это было трудно, потому что надо было переходить тайно границу, сначала между Чехией и Венгрией, а затем между Венгрией и Югославией. Однажды они заночевали высоко в горах на каком-то перевале, и в ту ночь сбылось одно происшествие, давно ему предсказанное.
Это случилось еще до войны, в Киеве. Два мальчика-кадета пошли к некоему поляку, ясновидящему. Он им сказал, что они хотят быть военными, но на самом деле поступят в университет в одной далекой стране. Кадеты искренне возмутились:
— Этого никогда не будет, — категорически заявил Вольде.
Однако предсказатель, тоже сильно рассердившись, заявил им:
— Будет, молодые люди! Я не ошибаюсь. Будет и другое, а именно: вы заночуете в горах, будет холодно, и вы сдерете шинель с мертвеца и укроетесь ею.
Вот именно это и сбылось. Они не заметили, что заночевали на бывшем военном кладбище. Крестов не было. Легли прямо на снег, и было очень холодно. Во сне один из Значковских стащил с Вольде шинель. А Вольде, тоже во сне, стащил, как ему показалось, с него обратно. Но когда рассвело, то они увидели, что Вольде был накрыт голубой австрийской шинелью. Ее он и натянул на себя, содрав с австрийского солдата, лежавшего рядом с ними и припорошенного снегом.
Сбылось и другое предсказание. Значковские не поступили в университет, а Вольде поступил на инженерный факультет Белградского университета. Его отец, Дмитрий Михайлович, был военным инженером, а в Белграде строил, что приходилось, и, между прочим, офицерское собрание с очень красивыми лепными потолками.
Но Вольде не окончил университета. Ему хотелось поскорее зарабатывать деньги, и он сделался подрядчиком. Уехал из Белграда на юг, в Рагузу, и поступил в строительную фирму «Атлант». Этой фирме был нужен кассир, и когда я обосновался в Рагузе, то по рекомендации Вольде на эту должность взяли меня. Обращаясь ко мне, они говорили «господин инженер».
Так я вошел в структуру «Атланта» и познакомился с деятельностью фирмы с внешней стороны, а также узнал ее подноготную. Первое здание, которое мы строили, была военная хлебопекарня. Как только стены были возведены и начали сооружать крышу, к двуногим строителям присоединились крылатые. Две пары ласточек начали лепить свои гнезда. Интересно, что они работали сообща. Вчетвером сначала построили одно гнездо, потом другое. А яйца положили отдельно.
Здесь я сразу наткнулся на подноготную работы фирмы. Подрядчики брали заказы с публичных торгов и, как правило, получал заказ тот, кто брал дешевле. При этом, конкурируя друг с другом, подрядчики понижали цену до уровня, когда работа становилась для них убыточной. Как же они выходили из этого, казалось бы, безвыходного положения? Довольно просто. Они обязаны были примешивать в глину семь процентов чистого цемента. Цемент в ту пору был довольно дорогим материалом. Они же добавляли менее семи процентов, доводя до минимального предела. Предел же был таким, что после постройки здания оно рассыпалось. Примерно в это же время в Париже рухнули два дома, потому что в раствор было вложено всего два процента цемента. До этого рагузские подрядчики не доводили, но вместе с тем офицеры, ответственные за стройку и контролировавшие весь процесс строительства, прекрасно знали, что в растворе семи процентов цемента не было. Они, в свою очередь, закрывали на это глаза, потому что при сервировке традиционного обеденного стола контролирующей комиссии от Военного министерства в салфетки вкладывались соответствующие суммы. В этом случае подрядчики получали дополнительные авансы, чтобы достроить здания. Все эти деньги проходили через меня. И это был принятый порядок не только в фирме «Атлант».

М. Д. Шульгина. Югославия. Сремские Карловцы. 1930-е
Но иногда дело доходило до наглости. У меня, у кассира, служил помощником молодой человек по фамилии Чучка. Я иногда выдавал ему авансовые суммы на всякие мелкие расходы. Однажды мы стояли с ним на трамвайной остановке, и я выдал ему купюру в сто динар
[82], которую он тут же сунул в нагрудный кармашек своей белой рубашки — дело было летом. Мимо проходила компания офицеров, и один из них, член приемной комиссии, вытащил эту купюру из кармашка, засмеялся и пошел дальше. Чучка в ужасе прошептал:
— Вы видели?
— Видел.
— Вы знаете, ведь это доблестный офицер, герой! И ему ничего нельзя сделать.
Да как и что можно было ему сделать, если цемента фирма добавляла в раствор меньше нормы!
Тут надо быть моим племянником Сашей, Александром Александровичем Могилевским, который славился своею честностью и принципиальностью. Но об этом я уже рассказал выше.
* * *
Я во все это не вмешивался, мне, чужестранцу, эту систему было не изменить. Получаемые на строительство деньги вносил в банк, из него же получал деньги для расплаты с рабочими. Эта расплата была на самом деле сложной операцией. Из заработной платы высчитывался некий процент в виде страхования на случай болезни и смерти. Этот процент выражался в копейках. Чтобы упростить дело, я вкладывал зарплату, с вычетом процентов, в конверты, на которых писал суммы и фамилии получателей. На этих конвертах получатели расписывались, забирая из них деньги, и они служили мне оправдательным документом.
Но из этого моего упрощения вышло одно осложнение. Расписываться надо было в особых книгах, к которым я прилагал конверты с росписями. И со временем моя бухгалтерия как-то запуталась. К счастью, в это время приехал в Рагузу мой сын Дима, которому очень хотелось прикоснуться к практической деятельности. Я взял отпуск на месяц и предоставил ему возможность вместо меня распутываться с конвертами.
* * *
Но с «Атлантом» вышло вообще осложнение побольше. «Атлантида», несмотря на все ухищрения, не свела концы с концами и обанкротилась. Нас всех рассчитали. Но это были еще не все неприятности.
Вольде на заработанные деньги купил автомобиль и сейчас же его погубил. Он пригласил Марию Дмитриевну, меня и еще одного своего собутыльника проехаться вдоль берега залива к так называемой тетке Елце. Она содержала свое заведение в глубине залива, напоминавшего фиорд и называвшегося
Омбола. По берегу этого залива мы и поехали. Иногда, когда дорога отходила от берега, она сужалась, проходя между отвесными скалами. Вольде не справился с управлением, и в одном таком месте мы врезались правым крылом в скалу, превратив его в смятую жесть. Затем то же самое он проделал с левым крылом. Тут только я понял, в чем дело: на радостях молодой владелец машины выпил, а править он вообще не умел и трезвым. Но что было делать? Поехали дальше и кое-как доехали до тетки Елци. Там, конечно, выпили вина. Вино было хорошее, но мне не понравилось, потому что у него был привкус полыни.
Надо было ехать обратно. Поехали. Навстречу попался конь-тяжеловоз, тащивший телегу с каким-то грузом. Вольде наехал на него и раскровавил коню голову. Хозяин бросился на машину с палкой. Я выскочил из машины, и когда он поднял палку, чтобы ударить, мне удалось схватить эту дубину с другой стороны. В подобных случаях нападающий становится бессильным.
Кончилось все тем, что Вольде вытащил бумажник и заплатил хозяину за коня. Таким образом, кровавый инцидент закончился денежным штрафом. Но наши приключения на этом не кончились. Я прошел немного вперед и стоял у стенки, поджидая машину. Она ехала на небольшой скорости, но вместо того, чтобы остановиться, стала наезжать на меня совершенно так же, как на коня. Мне деваться было некуда и я прыгнул прямо на радиатор. Машина ехала дальше, я не удержался, упал в сторону и разбил себе руку.
Тогда, наконец, машина остановилась. Я поднялся из пыли и сказал:
— Довольно. Хотите, так ломайте себе свои головы, но Марийке не позволю.
И вытащил свою испуганную жену из машину. Вольде со своим собутыльником уехал по направлению к Рагузе. Потом я узнал, что это были еще не все приключения. При подъезде к Рагузе машину с обломанными закрылками остановил какой-то жандарм. Не долго думая, Вольде дал ему «в морду», но вместе с тем хмель с него как рукой сняло. Ударить жандарма — это уже не шутка. Он вспомнил, что начальник городских жандармов был его приятелем. И он помчался прямо к нему. Добрался благополучно, все ему рассказал и отдал все оставшиеся деньги, чтобы как-то вознаградить побитого жандарма.
Итак, погибла «Атлантида», помятый автомобиль продается за гроши, права отобраны, больше ничего не строится, значит, и заработков нет. И здесь сказались лучшие стороны буйного Вольде. Он перешел на черный хлеб, не теряя хорошего расположения духа, и был всегда трезвый.
* * *
В этом трудном моем положении меня приютили на вилле Сливинского. Раньше он был просто Слива, но эта слива окончила Академию Генерального Штаба с занесением на почетную доску. К началу революции он был уже полковник, эмигрировал, в Югославии стал подрядчиком по строительству дорог, имел хорошие доходы и снимал прекрасную виллу на дороге Святого Иакова. Женат он был на Вишневской, и они пригласили меня перебыть у них тяжелое для меня время. Я начал с того, что написал им стихотворение, начинавшееся так:
Во дни зари моей счастливой
Был мне отрадой скромный сад,
Там были вишенки со сливой —
Тех дней мне не вернуть назад.
Ударил гром. Все баромéтры
Упали в бездну с высоты.
В мой бедный сад ворвались ветры,
И пали древа, как цветы…
Далее в стихотворной форме рассказывалось, как я попал в Дубровник и «…как я вновь расцвел». Эти стишки совместно с многими другими превратились в книжонку под заглавием «Дубровачки дивертишки» («Дубровницкие развлечения»). Неисповедимыми судьбами через много-много лет эти «дивертишки» оказались у московских чекистов, где они, вероятно, и доселе пребывают.
Против же полковника Сливинского возникло обвинение, что он был не только немцефилом, но и немецким шпионом. Однако Сливинский со своею женою давно уже были недосягаемы для Москвы. Где они сейчас — не знаю, не знаю и живы ли они сейчас.
После отступления немцев из Югославии им удалось бежать еще и потому, что Мария Андреевна Вишневская-Сливинская накупила ковров на тридцать тысяч динар. Деньги оказались потерявшими цену бумажками, а ковры превратились в валюту.
* * *
На этой вилле у «Сливовишневских» одновременно со мною оказалось и супружество Северяниных — поэт Игорь Северянин с женой-эстонкой. Последней в связи с нашим знакомством я написал стишки, вошедшие в «дивертишки».
Пленительность эстонки —
Глубины, что без дна.
И чувства, что так тонки,
И долгая весна.
Блажен ваш друг, Фелисса.
Мечты? Мечты его сбылися…
И вот я с ними подружился — с Игорем и Фелиссой Северяниными. Супружество это было, можно сказать, птичками певчими, бездомное и нищее. Она его когда-то нежно любила. Не разлюбила и сейчас, но стала презирать. Он запивал. Этого было бы недостаточно, но он давал священные клятвы, что бросит пить, и этих клятв не сдержал. Некоторое время он ничего не пил, то есть абсолютно ничего. Но если он где-нибудь случайно выпивал маленькую рюмку слабого вина, то кончено — наступал период горького запоя.
Презрение ее выразилось как-то и в следующем. У них был сын-подросток, который остался в Эстонии на попечении бабушки, матери Фелиссы. Но она с горечью в голосе сказала о нем:
— Это не мой сын. Это сын Игоря.
— От первого брака? — спросил я.
— Нет, я его родила, но он не мой сын.
Это, конечно, были чувства, «что так тонки», но нормальным людям непонятные. Она думала, что ее сын неизбежно пойдет по стопам отца, и поэтому презирала и того и другого.
* * *
А пока что наступил февраль и зацвел миндаль.
Миндальный цвет — венчанье роз со снегом.
Еще зима, когда цветет миндаль,
Но сердце ждет весеннего набега,
Стремясь в разбуженную даль30.
В один из уже довольно теплых февральских дней Сливинский предложил нам — Северяниным и мне — проехаться в столицу Черногории Цетинье. У него был автомобиль, и он собирался туда по своим делам.
Поехали. По дороге, хотя это было вовсе и не по дороге, мы заехали в городок Пераст, находившийся в глубине Боки, то есть Которской бухты. Пераст находился в совершеннейшем запустении. Все дома были завиты плющом, и никто в них не жил. Но центральный дом существовал в качестве некоего музея. В этом доме когда-то была школа для моряков. Петр Великий поместил в нее своих молодых людей, сам приезжал сюда и расписался в книге почетных посетителей.
До этого Пераст был средоточием смелых купцов-мореплавателей, которые с течением времени превратились в морских разбойников, и здесь было их разбойничье гнездо, пока его не ликвидировали.
Мы доехали по берегу залива до крайнего уголка городка, который тоже назывался Котор (или Каттаро, как называют его итальянцы), где стояла очень чтимая католическая церковь. В тот день здесь было просто тепло, а летом стояла потрясающая жара. С этого места дорога начинала подниматься в горы. До перевала, находившегося на высоте тысячи метров, она делала двадцать восемь серпантинов, то есть петель. На этой высоте совершенно замерзший в своем худом пальтишке Игорь Северянин уже сочинил стихи, которые так и назвал — «Двадцать восемь серпантин».
Панорама с каждым серпантином разворачивалась все шире и море высоко захватывало небо. Становилось все холоднее, но Сливинский, хорошо и тепло одетый, не замерзал в открытой машине. Движение становилось положительно опасным. Стало темнеть, луна светила мало, серпантины замерзли, машина начала скользить и могла сорваться. Но ничего, никто не боялся, потому что Сливинский вел машину уверенно и в то же время осторожно. Вскоре начался спуск. Цетинье — некогда самая высокая столица в Европе — все же находится на высоте шестисот метров.
* * *
Я забыл рассказать, что на половине подъема Сливинский остановил машину напротив одноэтажного дома, ему знакомого. Мы вошли и увидели, что внутри не было никаких комнат, один большой зал, в центре которого горел костер на земляном полу, вокруг него сидели люди. Наверху не было никакого потолка, только крыша, под которой было облако дыма серо-багрового цвета, излучавшего какое-то тепло. Нас немедленно пригласили к костру, и мы сели на низенькие треножники. На костре варился кофе в маленьких медных стаканчиках с длинными деревянными ручками. Их держали над огнем, пока кофе не вскипал. Тогда предлагали его гостям. Кофе был хорошего сорта. Как бы ни был беден черногорец или серб, он пьет дорогой кофе, который несравнимо лучше той бурды, которую пьют французы.

Мария Дмитриевна Шульгина. Югославия, Шуши. 1930-е
Гостеприимство вообще священно в Черногории, а особенно в отношении русских. Русские могут совершенно свободно идти через эти мрачные скалы, и их никто не тронет. Александр III ежегодно посылал из Одессы большой пароход, груженый мешками с мукой. Это и тогда помнили черногорцы. Но черногорское гостеприимство имеет свои особенности. На ночь расстилается на земляном полу большой ковер, а поверх него такое же одеяло. И там спят все хозяева и все гости. И если ночью какой-нибудь гость позволит что-либо в отношении какой-нибудь девушки или женщины из этого дома, то его не тронут, пока он гость. Когда же он покинет гостеприимный кров, его защищавший, и тем самым перестанет быть гостем, он будет убит.
О черногорцах можно еще сказать, что они своих женщин презирают. Можно встретить на дороге осла, на котором сидит черногорец такой громадный, что ногами достает до земли, а рядом идут жена, дочь, мать и несут поклажу. Если же спросить этих женщин, как же это возможно, они ответят: «Мужчина не должен работать. Если он будет работать, кто же будет нас защищать от врагов?».
В соответствии с этими нравами черногорцы, спустившиеся вниз и ставшие рабочими, работают плохо и очень ленивы.
* * *
На моей памяти в югославской скупщине, то есть в парламенте, в Белграде, были бурные дебаты по какому-то вопросу. Они окончились тем, что депутат-черногорец взошел на кафедру, вытащил револьвер и стал стрелять в своих инакомыслящих коллег. Нескольких убил и ранил, остальные разбежались, и скупщина некоторое время не функционировала. Потом ее восстановил король, который сам, как известно, Карагеоргиевич, то есть потомок черногорца Черного Георгия. Другая династия, Обреновичи, которая в XIX веке дважды сменяла Карагеоргиевичей, не была черногорской. В 1903 году гвардия, бывшая в карауле, совершила дворцовый переворот и убила шашками короля Александра Обреновича и его жену королеву Драгу. Но так как Карагеоргиевичи были русской ориентации, то мы их признали и пригрели.
Будущий король Александр воспитывался в Пажеском корпусе в Петербурге. Говорили, что он хотел жениться на одной из дочерей императора Николая II, но девушка не пожелала этого брака. Его сестра, Елена Петровна, вышла замуж за князя императорской крови Иоанна Константиновича, сына великого князя Константина Константиновича. Елена Петровна покровительствовала русским эмигрантам в Югославии.
* * *
Когда мы, наконец, добрались до цели нашего путешествия, Цетинье засыпало снегом. По обеим сторонам улиц стояли снежные стены высотою до двух-трех метров. За номер в гостинице запросили сорок динар и за отопление еще столько же. Мы, пролетарии (Северянины и я), ничего не платили, за всех и за все расплачивались вишеньки и сливы.
Переночевав, мы без печали и тени сожаления покинули холодную столицу.
* * *
Позже Северянины приезжали в Белград. Там они познакомились с Марией Дмитриевной, и мы подружились семьями, были на их выступлениях в каком-то зале. Фелисса тоже писала стихи на русском языке и читала их с акцентом, но приятно. А Игорь оказался в жизни совершенно непохожим на свои давнишние стихи. Мария Дмитриевна принадлежала к тому поколению русских девочек, которые им увлекались. Им нравилось некоторое нахальство, свойственное стихам Северянина. В подробностях я этого не помню, но в памяти осталась одна строка из его старого стихотворения: «Я повсеместно обэкранен». Уже во времена нашей дружбы я продолжил его:
Он повсеместно обэкранен,
Но обрóнзит свой гранит.
Стал южным Игорь Северянин.
Он иго севера казнит.
Надо сказать, что в это время Игорь уже был в резкой оппозиции к «северу», то есть к советской власти.
Лицо же у него было скорее южное, с темным загаром. Голос? Достаточный для публичных выступлений, но глухой и совершенно «черный» по тембру, так как мне голоса представляются имеющими цвет. Читал он просто и без всякого нахальства. По содержанию стихи были совершенно новые и воспевавшие ушедшую Россию.
Прежние стихи он читал у нас «в подвале кривого Джимми» по просьбе Марии Дмитриевны (так она называла нашу квартиру). Читал с видимым удовольствием, а она в это время вспоминала свои молодые годы, в то время как я изучал пленительность эстонки. Таким образом, квартет был удачным.
Мы не могли предложить гостям ничего, кроме скромного ужина и некоторых развлечений. На письменном столе у меня стояла загадочная фотография. Это был фотографический снимок с рисунка, исполненного пером на манер гравюры. Я ложно объяснял своим гостям, что привез эту фотографию из Рагузы, где в одном из монастырей была эта картина.
На ней, на переднем плане, в очень трудном ракурсе, головой к зрителю, лежала на груди молодая женщина, разметавшая черные волосы по каменным плитам, по всем правилам перспективы уходившим вглубь. А там, в глубине, был вход, зигзагами прорубленный в камне, вход в некую пещеру. По обе стороны этого входа стояли два чудовища. Слева — не то медведь, не то горилла. Справа — на каком-то каменном ящике нечто вроде цербера. Около чудовища-гориллы стояла в белом покрывале совсем юная девушка четырнадцати-пятнадцати лет. Она, казалось, хотела войти в пещеру. Ее видно было со спины и очень мягко вычерчивалась почти детская щека. Она изображала душу. А женщина, лежавшая на полу и которая была постарше, была умершим телом.
А что же было в пещере? Великая теснота человеческих голов. Одна из этих голов мне запомнилась. Я встретился с этим человеком через много лет во Владимирской тюрьме. Эго был венгерский цыган-уголовник, убийца и грабитель.
Всю эту картину обрамляла рама, которая тоже была ломаной скалой. На ней был профиль Данте, очевидно, в связи с Дантовым адом, еще какие-то чудовищные женщины и просто идолы камня.
* * *
Все это я нарисовал сам, не в Рагузе, а в Горажде, недалеко от Сараево. Там я жил в семье Саши Могилевского, моего племянника. Его там не было, он служил в другом месте, а я репетировал его сына и моего крестника кадета Митю. По ночам я плохо спал. В этом старом доме, на чердаке, было огромное количество крыс, и они по ночам бегали там и как будто плясали неистовые мазурки.
Слушая их, я сидел у стола, на котором стояла плохо светившая керосиновая лампа. Стол был покрыт листом оберточной бумаги серо-желтого цвета, прикрепленной к нему кнопками. При слабом свете этой лампы я видел какие-то черточки в разных углах этого листа. Тут же стояла чернильница и лежало перо. Я стал обводить контуры и наводить тени во всех четырех углах листа, и, проведя одну черточку, я рядом проводил такую же другую. Затем еще и еще. Почему и выходило нечто вроде гравюры. Но на первых порах ничего нельзя было понять. Постепенно, в течение многих-многих ночей, появилась эта картина, которая поражала меня самого и всех окружающих, в особенности Валю, мать Мити. Она очень боялась этой чертовщины.

М. Д. Шульгина. Югославия. Сремские Карловцы. 1930-е
Вскоре я познакомился с одним художником, русским, который был учителем рисования в кадетском корпусе. Увидав мою пачкотню, он сказал:
— Знаете, что мне рассказывали старые русские художники? В Академии художеств в класс приносили большую черную доску и предлагали ученикам сосредоточиться, глядя на нее. Профессора утверждали, что через некоторое время на этой доске появятся какие-то белые линии. Тогда ученики должны были перерисовывать на свои листы то, что каждый видел на доске. И вот что оказалось. Видели эти белые линии на черном фоне все, но каждый разное, в зависимости от воображения и прирожденного таланта.
Этот художник сфотографировал мою работу, ее фотокарточку в рамке я поставил на своем столе и сочинил легенду о ее происхождении, которую и рассказывал своим гостям.
* * *
В тот вечер у нас в «подвале» Игорь Северянин рассказал, что им выпущена книжечка, названная «Медальоны». Это были сонеты, посвященные разным лицам русской эмиграции, чем-либо о себе заявившим или привлекшим его внимание. Медальонов было сто. Позднее прибавился сто первый, который уже в книжечку не вошел. Этот сто первый медальон он посвятил моей скромной персоне. Мне совестно его записывать, так как я в этом сто первом медальоне сильно идеализирован. Но, как говорят, из песни слова не выкинешь, поэтому привожу сонет номер 101:
Он — нечто замечательное.
В нем от Дон Жуана что-то есть и Дон-Кихота.
Его удел — опасная охота,
Но, осторожный, шутит он с огнем.
Он у руля — спокойно мы уснем.
Он для России та из гирек,
В которой благородство. В книгах вырек
Непререкаемое новым днем.
...............неправедно гоним
Он соотечественниками теми,
Которые, не разобравшись в теме,
Зрят ненависть к народностям иным
[83].
На это я написал сонет номер 102, где изобразил себя самого гораздо реальнее и ближе к истине. Не помню ничего, кроме одного четверостишия:
Дитя Дюма и Жюля Верна
Шел по дороге верной.
Но, соблазняясь всякой скверной,
Так никуда и не дошел.
* * *
У нас с Северяниным установились очень теплые и дружеские отношения. Мы переписывались, а когда они приезжали в Югославию — виделись.
Между прочим, я написал им без конца и без начала о себе:
Жилец иной эпохи
Иду своей межой.
Мне нынешние плохи,
Я тоже им чужой.
А впрочем, все не ново.
Средь нашей суеты
Я вижу Гончаровой
Знакомые черты.
Так правьте же, «Дантесы»,
Чарльстонющей Землей,
И пусть возьмут вас бесы.
Я — убежденно злой.
Буравя ваша тесто,
Упрям, как волнорез.
Иду в другое место,
Там ждет меня невеста.
Невеста, где Бог любви воскрес.
* * *
Однажды я собрался поздним пароходом плыть по Дунаю в Земун, где мы, собственно, жили, а Мария Дмитриевна в тот вечер оставалась в Белграде. Поджидая пароход, я сидел в маленькой кафане, как вдруг появилась эстонка, ведшая за руку мою жену.
— Никуда вы не поедете, — категорически заявила Фелисса, — а мы сейчас же вернемся в подвал кривого Джимми, где поужинаем и Игоря покормим.
Мария Дмитриевна ее поддержала, и мы отправилась в наше белградское жилище, где и провели тот вечер, читая стихи и рассказывая разные забавные случаи из нашей жизни.
* * *
Где живут птички певчие? Нигде. Они порхают из страны в страну, подлетают к тому окошку, где на подоконнике просо. Иногда стучат в окошко. У них нет никакого имущества, никакого багажа. Они осуществляют полностью римскую поговорку: «Omnia mea mecum porto» — «Все, что у меня есть, несу с собой».
Так и Северяне. Если бы они были совсем дружны, то ничего другого им и не надо было. Другая поговорка говорит: «Легкий багаж — легкие мысли».
Я не очень точно знаю о судьбе Северянина. Мне кажется, что перед смертью он вернулся в Россию и здесь его не очень обласкали, так как в общем его направление было антисоветское. Но и не преследовали. Дали догореть свече.
Она, мне кажется, еще недавно жила в Эстонии, то есть на своей родине в узком смысле. Может быть, Фелисса обо мне помнит, а может, и нет. Надеюсь, на том свете мы когда-нибудь увидимся.
* * *
Но вернусь в Дубровник. Итак, в «Атланте» в качестве моего помощника работал молодой человек из местных по фамилии Чучка. Отец его был мытарем, то есть сборщиком податей. У них был домик, каменный, который назывался «Вилла Кэти» — жену мытаря звали Екатериной. Вот на этой «вилле» мы с Вольде снимали комнату. Окна у нее были на север и печей в ней не было. Поэтому у нас целый день горел примус, на котором я также варил себе обед. Суп из картошки, лука, перца, морковки, лаврового листа и сливочного масла изготовлялся в двадцать минут. На второе были большие волошские
[84] орехи. На третье был чай.

Прогулка в санях. Югославия. Сремские Карловцы. 1930-е
«Вилла Кэтти» стояла недалеко от залива, именуемого Груж (другое название Гравоза). В Рагузе все имеет два названия, начиная с того, что сам город имел второе имя — Дубровник;. Никаких дубов там нет, но дубом они называют сосну, которая растет по горам.
Этот Груж, или Гравоза, очень красивый залив, его окружают скалы, поросшие кипарисами. Это все отражается в воде, которая никогда не бывает совершенно спокойной, почему кипарисы кажутся танцующими на хвостах змеями.
Однажды среди «змей» появилась акула. Они иногда приходят в тамошние воды за океанскими пароходами. Эта посетительница залива танцующих кипарисов погналась за какой-то рыбешкой и развила такую скорость, что выбросилась на берег. Она не смогла вернуться в море, и ее на берегу убили.
Как-то мы шли с молодым Чучкой по набережной вдоль залива и любовались старинными дворцами, тоже отражавшимися в воде. Эти дворцы уже давно пустовали — знатные роды вымерли. Почему? Из-за воды. Сначала я не понял, но мой спутник; объяснил:
— У нас очень мало пресной воды. Поэтому подо всеми этими дворцами были устроены резервуары, в которые собирали дождевую воду, благо дожди бывают часто. И вот, оказалось, что жить над водой очень вредно…
Однажды нам повстречался явно ненормальный человек. Чучка тут же поведал его историю:
— Он был матросом на паруснике. Как-то они шли вдоль африканского берега. Матросу приказали, хотя это запрещалось, выкрасить борт корабля на ходу. Он стоял на специальной доске и работал кистью. И упал в воду. Кричал, но его не услышали и корабль ушел. В результате он очутился в обществе акул. Они ходили вокруг него венцом. На его счастье, он оказался хорошим пловцом и потому лежал на спине неподвижно, только шевелил пальцами, чтобы держаться на плаву. В таком положении он находился четыре часа, пока проходивший мимо французский пароход его не подобрал.
— Почему же акулы не набросились на него? — спросил я.
— Говорят, что акулы боятся красного цвета, а он был в красной майке, — объяснил Чучка.
Может быть, это и не так, но во всяком случае, этот человек сошел с ума.
* * *
В Рагузе была такая дорога, которая называлась «Пут свéтый Яков». На этом пути жили две Марии. Одна называлась Марией Горной — это была Мария Андреевна Сливинская. А другая была Мария Дольная, то есть Нижняя, — это была Мария Николаевна Хомякова. Они друг друга не любили, а я дружил с обеими по поговорке: «Ласковое теля двух маток сосет».
Как я уже упоминал, Мария Николаевна жила в развалинах бывшего епископского дворца и мужественно переносила свои болезни. У нее был рак левой груди, которую пришлось удалить. Но это не мешало ей быть неизменно веселой, приветливой и гостеприимной.
Несколько слов о Горной Марии. Мария Андреевна отличалась большой энергией, и за ней были несомненные заслуги, когда в январе 1918 года Киев заняли большевистские войска под командованием Муравьева и в городе царил террор. Зная ее энергию и сообразительность, я подчас доверял ей в организации «Азбука» рискованные поручения.
Но здесь, в эмиграции, она разменялась на пустяки. Мария Андреевна почему-то невзлюбила доктора Чекалина и болтала всякие небылицы о нем, в частности, что «он Чекалин потому, что служил у чекистов».
Разумеется, это дошло до Чекалина, и он не остался в долгу. В ответ он пустил в обращение сведения, что Сливинский и Вишневская германофилы и служат немцам. Одновременно он подал в местный суд за клевету на Марию Андреевну. Местный суд посчитал дело очень серьезным и передал дело в Белград. Меня вызвали в столицу в качестве свидетеля. Мне пришлось на судебном заседании рассказать, что существовала секретная разведывательная организация «Азбука», которую я возглавлял, и Чекалин входил в состав этой организации и находился в моем подчинении. Пришедшие в январе 1918 года в Киев чекисты мобилизовали врачей и, между прочим, предложили Чекалину посещать арестованных. По моему приказанию он принял это предложение, потому что это был единственный способ проникнуть к арестованным, передавать им и получать от них информацию.
Суд отверг все обвинения Марии Андреевны в адрес Чекалина и присудил ее условно к тюремному заключению на какой-то срок. Смысл такого приговора заключался в том, что если она будет продолжать клеветать, то ее посадят.
В связи с этим русские эмигранты в Рагузе разделились на два лагеря — часть стояла за Чекалина, часть против него, за Марию Андреевну. Все это был один из бесчисленных примеров эмигрантских ссор и распрей не по существу.
Чекалин вообще имел много врагов и до этого случая. Но и не меньше, если не больше, друзей. Бедных он лечил бесплатно, богатых нещадно обирал. Известен один случай, который его прославил.
Умирала русская девочка, дочь эмигрантов. Был созван консилиум врачей, который заключил, что надежды нет никакой. Родители были в отчаянии. И тогда вмешался Чекалин и предложил им, что с их согласия введет их дочери совершенно недозволенную, лошадиную дозу лекарства, вдруг поможет.
И помогло, девочка была спасена. Через шестнадцать лет после этого я видел ее вполне здоровой. Родители боготворили Чекалина, но их восторг несколько остыл, когда он предъявил им счет в тридцать тысяч динар. Правда, они были довольно состоятельными людьми и заплатить смогли, заложив кое-какие драгоценности.
Когда я заболел, Чекалин предложил мне какие-то гормоны. Я отказался, сказав, что обезьяньими лекарствами не лечусь. После этого он стал называть меня неврастеником. Неврастеником я, конечно, был, но только в обществе Чекалина. Он иногда действовал мне на нервы. Однако он очень меня тронул, пригласив посетить одно рагузское кладбище. Там была могила молодой девушки, неизлечимо больной туберкулезом. Незадолго до кончины ее мать сказала Чекалину:
— Доктор, она никогда не любила, но полюбила вас. Может быть, ей будет легче умирать любя.
Так она и умерла, чувствуя себя любимой.
Такие чувства в
человеке, в общем-то, грубом меня тронули.
* * *
Вишневской, когда она серьезно заболела, тоже пришлось созвать консилиум врачей. Не помню уже, что с ней случилось, но на консилиуме она говорила местному врачу:
— Что сделалось с моим красивым животом?
Чекалин, рассказывая мне об этом, называл ее «эта кобыла Марья Андреевна».
Сливинский тоже болел, но к Чекалину не обращался. Он строил дороги. Осматривая их, он, естественно, отдыхал, садясь на придорожные камни, которые зимой были очень холодны. В результате получил жестокий радикулит и принужден был лежать подолгу. Но это не мешало тому, что у них на вилле часто устраивались вечера и гости танцевали модное тогда танго. Одна предприимчивая молодая русская девушка принялась меня учить. Обучение началось так:
— Возьмите меня за бедра крепко и прижмите к животу, а потом только надо ходить вперед и назад — это и будет танго. Еще можете немножко подскакивать в такт музыке, но это не обязательно. Ноги у вас должны быть прямые, иначе выходит неприлично.
Ну, мы и начали танцевать в зале, потом на веранде. Словом, я получил понятие о том, что такое танго, и вспомнил латинский глагол
tango, tetigi, tactum, tangere — трогать, прикасаться, соприкасаться, ощупывать. Дело в том, что раньше, при старых танцах, например, менуэте, ограничивались реверансами и поклонами без всякого прикосновения. Танго открыло новую эру в танцах.
Бедный Сливинский хорошо танцевал танго, пока не заболел. Но так как он был маленького роста, а Мария Андреевна была «кобылой» (по выражению Чекалина), то выходило очень смешно. В дополнение к этому он называл ее публично «крошка». Мария Дольная по этому поводу говорила едко:
— Тут патология, ничего не поделаешь.
* * *
Моя сестра Лина Витальевна Могилевская жила в Белграде. Сначала ей было очень трудно, и таким, как она, дамам сербское правительство помогало в том смысле, что зачислило их служащими в учреждение под названием «Статистика». Там они что-то писали, составляли отчеты, и им кое-что платили.
Но потом она разбогатела благодаря Вацлаву Цезаревичу Каминьскому. Он оказался, что называется, провиденциальным
31 человеком. С детства он не подавал никаких надежд, но его рассмотрела девочка, немного его старше, Мария Дмитриевна Билимович, которая приходилась ему кузиной. Она каким-то чутьем очень рано поняла, что под внешней никчемностью этого юноши таятся большие способности, и именно деловые способности, которыми Билимовичи не отличались. Ко времени революции 1917 года Вацлав Цезаревич Каминьский женился на Марии Дмитриевне Билимович. Они вместе эмигрировали из Киева в Польшу и посетили мою сестру Лину Витальевну. Она в каком-то озарении сказала мне:
— Все, что у нас есть на Волыни, осталось в Польше, куда нам трудно проникнуть. Я даю полную доверенность на управление моим имением этому мальчишке Вацлаву и советую тебе сделать то же. Он, хотя женат на русской, но сам поляк, да еще и католик, и ему легче будет спасти то, что еще можно.
И действительно, «мальчишка», уже тогда взрослый человек, сделал возможное и невозможное. Когда польские правительственные чиновники метали против меня молнии и прокурор бросал на судейский стол номера «Киевлянина», в которых было сказано, что «край этот — русский, русский, русский» (они были сказаны еще моим отцом в первом номере газеты, их повторил мой отчим, унаследовавший редакторское кресло, и я), то Каминьский бросал на тот же стол доверенность, выданную ему мною на управление имением Курганы и вальцовой мельницей там же, и твердо говорил:
— Никакого Шульгина больше нет. Здесь я владею.
В это время часть имения уже была отдана осадникам. Осадниками назывались бывшие польские солдаты, которым правительство раздавало русские земли и «осаживало» их как мелких землевладельцев-хуторян. Но этот план, по существу разумный, не удался. Осадники не хотели тяжело трудиться на земле и превратились в некую буйную вольницу. Каминьский начал постепенно выгонять их с земли, на которую имел полную доверенность. Они грозились его убить, но в общем он их всех выселил, что было самым трудным делом. Затем стал хозяйничать дельно и властно, пустил в ход мельницу, стал получать доход и делиться им с нами, то есть с моею сестрою и мною. В конце концов моя сестра разбогатела и даже стала домовладелицей.
О Каминьском очень многие отзывались плохо, но по отношению к нам он был истинным джентльменом.
* * *
Когда мы с Марией Дмитриевной окончательно осели в Югославии, моя сестра Лина Витальевна поделилась со мною своими деньгами и рекомендовала мне купить в Рагузе кусок земли. В те годы в Хорватии эти драгоценные приморские участки продавались баснословно дешево. Я это сделал, но участок на окраине города, на так называемом
Лападе, купил не на свое имя, а на имя сестры. И на нем стал хозяйничать — поставил сначала барак, а потом накрыл его белой палаткой, что было красиво и предохраняло как от дождя, так и от солнца. С этого места открывался чудесный вид на море и даже по ночам виден был маяк на острове Святого Андрея (другое название — Домидзелла, что значит барышня). Это тот самый остров, на котором двадцать пять лет прожил в одиночестве гордый Ветранич.
Этот дом-палатку я, собственно, строил для Марии Дмитриевны. Она в это время была в Белграде, где заболела какой-то странной болезнью, которую русские врачи не могли определить. Но так как во Франции она очень полюбила море, то я думал, что и Ядран (Адриатическое море) ей поможет. Внутренность барака я украсил к ее приезду коврами и изящным шкафчиком для платья.
Наконец, она приехала. Но, увы, Ядран ей не понравился, и даже наоборот, ей стало хуже. Я обратился к Чекалину. Осмотрев Марию Дмитриевну, он, не изменяя своему стилю, сказал:
— Ваши белградские профессора дураки. Они лечат ее от базедовой болезни, а у нее болезнь совершенно другая. У нее преждевременная климатология. Вот вам два лекарства. Одно она может принимать свободно, другое — очень осторожно, а главное — не подпускайте ее к огню, варите пищу сами. Самое же лучшее, если вы ее увезете отсюда. Ваши родственники Билимовичи живут в прохладной Словении — туда ее и отвезите.
То же постоянно повторял мне человек, приносивший нам ежедневно молоко, сетовавший на жару и называвший ее
гарой:
— Увозите госпожу в горы куда-нибудь.
Я все это слушал, но и сам понимал, что дело плохо, и совершенно извелся. Мария Дмитриевна никогда не засыпала раньше трех часов утра, а в пять часов мне уже приходилось вставать получать молоко и идти на рынок за три километра через горы. Затем мне приходилось таскать воду ведрами от соседей и варить еду, чего, конечно, я не умел.
* * *
В это время я получил письмо от своего друга Николая Васильевича Плешко. Он хотел бы пожить у моря со своей женой, но средств у него не было. Я написал ему: «Мы с Марией Дмитриевной уезжаем, а вы приезжайте. Предоставляем вам наш домик в полное распоряжение».
И мы уехали. Пароход отходил вечером. Мы поместились прямо на верхней палубе — на ней было прохладно, — и Мария Дмитриевна превосходно спала всю ночь. Чекалин был прав — жара для нее была губительна.
Утром пароход, пройдя почти все Адриатическое море с юго-востока на северо-запад, высадил нас в Сушаке (иначе Риека). Этот Сушак вполне оправдывал свое название. Здесь была жара невероятная, и мы, не задерживаясь здесь, поспешили уехать в Словению.
В Сушаке была очень интересная церковь, стоявшая на высокой горе. Она была полна потрясающих картин. Все они изображали Мадонну (или Госпа, как называли ее жители), спасающую корабли от бурь. Откровенно говоря, Айвазовский ничто в сравнении с этими никому не известными маринистами. Они оправдывают поговорку: «Кто на море не бывал, Богу не мóливался».
В этом Сушаке, между прочим, работал молодой брат Марии Дмитриевны Вольде, уехавший сюда после краха «Атланта».
* * *
Наконец мы добрались до Любляны. Нас приняла вторая жена Александра Дмитриевича Билимовича. Любляна находится на высоте трехсот метров над уровнем моря. Врачи же рекомендовали жить повыше, примерно на высоте шестисот метров. Такое место нашлось, это был пансион-ресторан, который назывался
«Под Стóлом»
(Стол — название местной горы) и находившийся в нескольких часах езды от Любляны. Я отвез туда Марию Дмитриевну, и ей там понравилось. Комнаты были очень приятны с обстановкой из резного дерева, обедали в саду. Неизменно присутствовал при обеде большой пес
Медка (от слова медведь), любимец всех гостей.
Оставив Марию Дмитриевну в
«Под Стóлом» (денег на двоих у меня не хватало), я вернулся в Любляну, но раз или два в неделю навещал больную. Тогда мы совершали восхитительные прогулки по окрестностям. Там, между прочим, был висячий мост через пропасть, на дне которой шумел пенный поток. Идти было очень страшно, так как мост дрожал и качался. Однако Мария Дмитриевна храбро перебиралась, держась за перила и закрыв глаза. У нее была боязнь высоты. Перебрались благополучно, затем прошли через какое-то совершенно холодное ущелье и вышли на Блед.
Блед — очень красивое озеро, еще более украшенное лебедями. Лебеди совершенно напоминают белоснежные яхты. Одно крыло они ставили вертикально, как парус, и с помощью его и сильных перепончатых лап передвигались весьма быстро.
* * *
Позже, когда Мария Дмитриевна уехала из пансиона-ресторана, я приезжал на Блед с Тосей, младшей сестрой новой жены Александра Дмитриевича Билимовича.
На Бледе был остров — высокая скала, — на которой стояла церковь. Мы взяли с Тосей лодку и поплыли. Она была веселая и неглупая девушка, с ней было приятно. Лодочник причалил к высокой каменной лестнице. Мы поднялись и вошли в храм. Не было никого. Из-под купола спускалась до пола обыкновенная веревка. Тося знала, что надо дергать за эту веревку, пока колокол не зазвонит. Это было не так просто сделать — синусоида веревки энергично бежала вверх, но звона долго не было. Наконец, колокол ударил и Тося просияла, потому что зазвонивший колокол возвещал удачу. Я знал, какой удачи она хочет. В это время отношения у моего сына Димы уже достаточно испортились с его женой Таней Билимович. Тося это знала, и перед ней открывалась перспектива.
В конце концов она вышла замуж за Диму, но прошли годы, прежде, чем это произошло. Умерла она от рака в Америке, оставив Диме сына Василия, моего внука.
* * *
В Любляне я, между прочим, занимался местным отделением Трудового Союза «Нового поколения». Меня просили учить их красноречию или, как они выражались, «умению говорить». В общем, у них была плохая дикция. Я знал средство и заставлял их говорить шепотом так, чтобы было все слышно.
Тося была талантливой ученицей. У нее был красивый великорусский говор «с продрожцей» и музыкальный звук голоса, быть может, унаследованный от ее отца-итальянца. Ее фамилия была Гваданини.
* * *
Союз «Нового поколения» — дитя эмиграции — объединял часть молодежи, объявившей себя смертельным врагом советской власти. У него была своя программа, которую новопоколенцы должны были знать назубок. Но не это было важно. Для них характерен был запал. Почти все это были круглые бедняки, равнодушные к благам мира сего. Они себя воображали в роли российских эсеров, то есть террористов, и мечтали кого-нибудь убить.
Это им иногда удавалось, но не в России, а в эмиграции. Конради убил советского представителя в Швейцарии Воровского. Был шумный процесс, защищал Конради швейцарский адвокат Обер, и убийца был оправдан. В Варшаве убили советского посла Войкова. Убийцей был, кажется, Коверда.
Такая политика новопоколенцев была совершенно ошибочная. Большевиков совершенно нельзя было свалить путем индивидуального террора. В конце концов покушения стали не удаваться, и руководители этого союза пришли к заключению: «Лучше ничего не делать, чем слушать панихиды».
В Любляне был свой отдел новопоколенцев, и в нем принимал участие мой сын Дмитрий, его первая жена Таня и будущая — Тося.
* * *
Больше, чем в Любляне, я занимался с новопоколенцами в Белграде, где был европейский центр этого союза. Там был устроен так называемый семинар, в котором принимали участие восемь юношей. Вот с ними я и занимался, стараясь отвлечь их от булавочных уколов, когда неизменно ломались только булавки. Мне хотелось, чтобы они больше думали, чем чувствовали. Свое первое занятие я начал примерно со следующего вступления:
— Допустим, в стране произошел переворот. Кто его совершил, говорить не будем. Но мы будем говорить о том, когда, я имею в виду в какое время года, он был сделан.
Тут я сделал паузу и увидел недоумение на всех лицах. Я продолжал:
— Время года имеет самое важное значение. Если надвигается весна, то нужно думать о посевах, потому что для посева необходимо зерно. Благодаря перевороту никакого зерна не будет в запасе. Тогда его надо доставать за границей. А с этим неизбежно связаны отношения с державами, которые могут дать зерно. Это означает, что время, когда произойдет переворот, продиктует ту или иную международную политику. Иначе будет голод, а новое правительство станет ненавистным.
В этом направлении я старался пробудить в них мышление, но это было почти безнадежно. Я говорил:
— Переворот произошел, вы на радиостанции, народ ждет вашего обращения к нему. Говорите!
Никто ничего не говорил, им просто нечего было сказать. Они хотели перемены, но ощущать себя ответственными за эту перемену они не хотели. «Все образуется каким-нибудь образом само собой», — думали они и дальше этой мысли не шли. Это значило море крови.
В конце концов, это новое поколение также неспособно было мыслить, как и старое, которых они называли «трупами». В итоге, когда дело пошло серьезно, то «трупы» взяли винтовки в руки и кое-что делали. Они пошли неправильным путем, так как поступили под команду немцев и образовали так называемые шюцкоры
32, то есть некие батальоны для охраны складов разного рода.
Но молодое поколение Трудового Союза ничего не сделало. Часть была арестована после прихода советских войск в страны Восточной Европы, часть отошла от дел еще до войны. Главный начальник их, бывший ротмистр Байдалаков, бежал в США и открыл там табачную лавку.
Руководителем белградского отделения новопоколенцев был некий Дивнич. Его первая жена, маленькая и живая, в девичестве носила известную фамилию Дурново. Поражала всех тем, что танцевала вприсядку. Еще до войны поехала в Советскую Россию, была там схвачена и расстреляна. Сам Дивнич после войны был осужден, затем, когда его выпустили, стал рецидивистом, опять сидел, вновь вышел, женился на какой-то вдове с двумя сыновьями, жил, кажется, в Иваново. Однажды, когда была еще жива Мария Дмитриевна, он вдруг явился к нам с цветами. Несколько лет тому назад скончался
33.
* * *
У Билимовичей на окраине Любляны была довольно большая усадьба. Там они выстроили двухэтажную виллу. Рядом с их усадьбой стоял такой же дом соседей, почти всегда с открытой верандой на верхнем этаже.
Мое окно выходило на этот соседний дом, но из-за деревьев мне не видно было, что там происходит, но зато было все слышно. Каждое утро там происходил скандал. Кричали двое по-словенски, и я ничего не понимал, что они говорят. Словенский язык отличается от остальных югославянских тем, что в нем постоянно слышны
«бим» и
«бом» («
бом» — это значит «буду», а
«бим» уж и запамятовал, что означает). Все время кто-то кого-то бранил и второй отвечал тоже бранью с удивительной точностью в одно и то же время каждое утро. В конце концов выяснилось, что на веранде никого нет. Нельзя же за кого-то принимать попугая, который, подслушав однажды перепалку, с удивительной точностью будет повторять ее до скончания дней своих.
В газетах того времени печатали, что в Вене существует попугай, который с незапамятных времен душераздирающе повторял по-французски: «Ayez pitié de moi!»
[85]. Этот попугай когда-то принадлежал французской аристократке, которую в Париже схватили якобинцы.
* * *
Второй брак Александра Дмитриевича Билимовича не был удачным — супруги стали ссориться. И это передалось даже животным, обитавшим в доме. У Нины Ивановны был среднего роста красивый шпаньол с шелковой шерстью, но страшно задиристый. А у Александра Дмитриевича, как я уже писал, был огромный волк по имени Перун. Этот пес панически боялся грома и во время гроз, которые в Словении часты, забирался под кровать.
Как только Нина Ивановна появилась в доме, собаки сразу же невзлюбили друг друга и постоянно дрались, в особенности во время прогулок. Поэтому Перуна водили в наморднике, а шпаньола без. Драка начиналась с того, что Перун ударом передних лап валил шпаньола на землю, но укусить его никак не мог, а шпаньол яростно кусал ему лапы. Но вид этой схватки был все-таки такой удручающий, что я садился верхом на Перуна и оттаскивал его назад.
Перун со мной подружился. Когда я ходил гулять с ним одним, то не надевал ему намордник, что он очень ценил. Мы жили за городом, а гулять ходили в город, при этом приходилось пересекать железнодорожные пути, и Перун понимал опасность, исходившую от поездов. Со временем у нас с ним выработался язык жестов, которые он понимал, выполняя мои команды.
Однажды мы стояли у шлагбаума, и Перун вдруг увидел черный круглый камень, величиною с большое яблоко и похожий на метеорит. Пес и раньше проявлял к нему внимание, когда проходили это место. На этот раз Перун схватил его пастью и стал смотреть на меня. Но я знаками показал ему, что идти в город с камнем нельзя. И вот я увидел удивительную вспышку ума в глазах собаки. Перун все понял — камень надо бросить, в то же время он не в силах с ним расстаться. Но его можно спрятать. И он с камнем в зубах бросился бежать обратно. Я перешел железную дорогу, пришел в город и гулял в нем, когда через некоторое время около меня появился Перун, уже без камня. Потом я узнал, что этот камень, который был для него таким драгоценным, он отнес домой на виллу и спрятал его в саду.
Мы долго гуляли с ним, а потом я приказал Перуну возвратиться домой, что он с удовольствием сделал. А я вошел в лифт четырнадцатиэтажного дома, на крыше которого был ресторан. Там я пил кофе и работал, пользуясь словарем Брокгауза на немецком языке. Эти словари было принято держать для публичного пользования в ресторанах и хороших кафенях. Кроме того, с этой высоты была видна чуть ли не вся Словения. Ровные поля, кладбище и амфитеатр гор кругом.
В Любляне я написал какую-то брошюру, даже две. Помню, что одна называлась «Украинствующие и мы»
34, а другая «Фюрер и мы»
35. В первой я писал, по обыкновению, об украинских националистах и она была переведена на французский язык под заглавием «Величайшая ложь двадцатого века». Во второй брошюре я разбирал тезисы Гитлера «один фюрер, один язык, одно государство», в общем, о единстве германского духа. В частности, я писал, что при разумном понимании этого триединства оно было бы полезно и для России.
В те годы в Любляне жили, кроме Билимовичей, еще несколько русских профессоров. В напечатании этих брошюр принимал участие русский эмигрант, киевлянин, профессор Спекторский, обладавший большими знаниями по истории и филологии.
* * *
В это время в «Новом поколении» назревал кризис. Взаимные распри, обвинения, доходившие до смешного, будто кто-то кого-то хотел отравить размельченными алмазами. Откуда могли быть алмазы у этих бедняков, неизвестно.
Михаил Александрович Троицкий
36 подозревал Александра Дмитриевича Билимовича, что он хочет встать во главе новопоколенцев. Это было неверно, но часть молодежи сочувствовала Билимовичу. Воспользовавшись прогулкой в горы, организованной новопоколенцами, мы, захватив Марию Дмитриевну из
«Под Стулом», прошли на высоту восьмисот метров. Там была
коча, то есть нечто вроде туристской базы, где можно было переночевать и поесть. Эти
к очи были распространены в Словении. В ней мы оставили основную массу туристов, а сами в составе небольшой группы прошли на высоту тысячи двухсот метров, где и состоялось никем не подслушиваемое и откровенное объяснение и обсуждение. Было установлено, что если Билимович и желателен в качестве руководителя некоторым новопоколенцам, то он сам этого не добивается
37. Затем установили, что, несомненно, Михаил Александрович Троицкий склонен к интригам, но заменить его некем, к тому же он действительно предан делу. Поэтому желательно оставить его на посту одного из руководителей и постараться внести мир в «Новое поколение». На этом и порешили. Вернулись вниз к основной группе, где и заночевали. На следующий день шли обратно под трехцветным флагом, распевая песни.
Но все же «Новое поколение» не удалось оградить от развала. Окончательно оно погибло как организация уже во время Второй мировой войны
38. Отдельные члены этой организации позднее сидели со мною на Лубянке, например, профессор Троицкий. От меня добивались, чтобы я говорил о нем, от него добивались, чтобы он показал против меня. Грозили очной ставкой, но так ее и не устроили. Это означало, что следователи не могут выяснить, что же они хотят. Как я понял, главным образом их интересовало, были ли руководители организации в связи с немцами.
В это время, помню, приснился мне сон, будто бы из моего левого рукава во время допроса вылезает черная змея. Выползнув наполовину, она сломалась пополам. Голова с половиной туловища упала на пол и заползла в щель в полу. Другая половина осталась у меня в рукаве. Больше ко мне с Троицким не приставали. Ему дали двадцать лет не то тюремного заключения, не то лагерей, но он умер значительно раньше
39.
Загадочным осталось нижеследующее. Его мать не эмигрировала из России, служила где-то сельской учительницей и в конце концов получила пенсию и орден. Был ли Троицкий искренен? Не решусь сказать. Во всяком случае, бывший руководитель белградской группы новопоколенцев Дивнич, когда окончил свое длительное заключение и увиделся со мною, написал мне потом о Троицком: «Какое ничтожество!».
Я не успел расспросить Дивнича, что он имел в виду, потому что и Дивнич скоро умер.
* * *
Троицкий читал в Белграде лекции по древней истории. Он написал брошюрку о сохранившемся законодательстве династии Шульги, предшествовавшей вавилонянам и ассирийцам, династии, которая не была семитской. Если бы он не занялся «Новым поколением», то, может быть, так и продолжал бы трудиться над этими древними цивилизациями.
Семейная жизнь Михаила Александровича Троицкого была невеселой. Он никогда не жаловался, но одно время мы жили рядом в Земуне, на другом берегу Дуная, напротив Белграда
40. И бывали у них. Теща была открыто невозможной, а жена нервической дамой, но хорошо пела в церковном хоре.
* * *
Новопоколенцами издавалась в Белграде газета «За Россию», очень скучная. Я иногда пописывал в ней, но никогда не ставил под статьями своего имени.
Их программа в земельном вопросе была скопирована со Столыпина, однако основная масса новопоколенцев не имела понятия о реформах Столыпина.
Между прочим, сын Петра Аркадьевича жил в Париже и был тоже новопоколенцем, однако ничем себя в этой организации не проявил…
ПЯТНА
Предисловие Р. Г. Красюкова
Нельзя сказать, что Василий Витальевич Шульгин не собирался работать над записками о годах, проведенных на Лубянке и во Владимирской тюрьме. В черновом наброске плана своей автобиографии он писал, что она «должна послужить как бы канвой для описания весьма длительной эпохи, начинающейся с 1878 года и продолжающейся по сей день, с тенденцией захватить столетний срок». «На этой канве личного характера, — писал он далее, — должны быть вышиты события, имеющие общественное и политическое значение, характерные для этого куска времени».
Работа над «Пятнами» не входила в «Программу “великих дел на грядущее десятилетие”», составленную им в феврале 1968 года. Слишком много другого, более важного, по его мнению, В. В. Шульгин хотел осуществить в первую очередь — это воспоминания о Гражданской войне, об эмиграции, работа над многотомным историческим романом «Приключения князя Воронецкого» и др.
«Пятна» были предложены мною в мае 1970 года, когда В. В. Шульгин приехал в Ленинград для работы над циклом своих воспоминаний. Он не отверг их в принципе, но хотел приступить в первую очередь к воспоминаниям о гражданской войне, озаглавленным им «1917–1919» (Лица: Биографический альманах. Вып. 5. М.; СПб., 1994. С. 121–328). Они сложились в его голове задолго до нашей встречи. Поэтому вежливо, но твердо он отверг все мои доводы в пользу тюремных воспоминаний. И мы отодвинули их «на потом». Не спорить же мне было с девяностодвухлетним старцем! Но когда впереди обозначился конец работы над «1917–1919», подошел черед тюремной темы.
Оставаясь днем в одиночестве, Василий Витальевич пытался писать сам. К этому времени даже специальные очки не могли ему помочь. От длительного напряжения слезились глаза и начинала болеть голова. Тогда он стал работать «на ощупь». На темном фоне стола были хорошо видны белые листы раскрытой ученической тетради, по которым он водил школьной «вставочкой» с пером «уточка» или карандашом. За день он исписывал не более четырех-пяти страниц.
Просматривая вечерами написанное, я понял, что это не в полном смысле воспоминания, а скорее их подробный план-проспект. Поэтому было решено, что вечерами в будние дни он будет диктовать «1917–1919», по выходным — «Пятна». Когда же первая работа была закончена, мы целиком переключились на вторую и закончили ее в несколько дней.
Почему «Пятна»? Эти записки не являются в полном смысле воспоминаниями с последовательным изложением событий. В течение долгих двенадцати лет заключения время как бы застыло в четырех стенах камеры с «кормушкой» в двери. И отсчет его велся не по часам, дням, месяцам, годам, а по походу в тюремную поликлинику или в баню. Единственными светлыми пятнами в этом застывшем однообразии, в этой долгой камерной тьме были люди, их судьбы, характеры, поведение в неординарных условиях. Поэтому Василий Витальевич и назвал эти записки кратко, но точно — «Пятна».
Когда тюремная тема была закончена, В. В. Шульгин, сам того не замечая, перешагнул дальше и стал рассказывать о своих первых днях жизни на свободе. Потом он должен был уехать, и мы решили, что в будущем Василий Витальевич вернется к этим воспоминаниям. Установили даже некий рубеж, на котором можно будет поставить точку, — окончание работы над кинофильмом «Перед судом истории». Но этому не суждено было сбыться. После «Пятен» он приступил к большому циклу своих воспоминаний об эмиграции, о семье, Киеве, «Киевлянине». Он стремился в первую очередь заполнить лакуны в описании «весьма длительной эпохи». И это почти удалось. Василий Витальевич не успел лишь поведать о драматических событиях в Югославии, оккупированной немцами во время Второй мировой войны, свидетелем (но не участником) которых он был, проживая в городке Сремски Карловцы на границе Хорватии и Сербии. Правда, этот пробел в какой-то степени восполнила его жена Мария Дмитриевна в своей большой работе «Спуск в Мальштрем».
И еще несколько слов о «Пятнах». Чем дальше я писал и «пропускал» через себя эти записки, тем больше меня охватывало некоторое недоумение. Я не сомневался, что все, о чем рассказывал В. В. Шульгин, было правдой. Но все более я чувствовал какую-то приглаженность и недосказанность. К тому времени нам уже было многое известно из того, что творилось в стране в годы репрессий. И я однажды осторожно высказал свое впечатление.
Василий Витальевич усмехнулся не то с горечью, не то с сарказмом и сказал примерно так:
— Неужели вы предполагали, что я могу написать иначе…
И не договорил. А я не стал развивать эту тему.
Несколько позже, когда я гостил у В. В. Шульгина осенью того же года, он подарил мне свою книгу «Письма к русским эмигрантам» и надписал ее своими каракулями: «Дорогому Ростиславу Григорьевичу на добрую память о временах недобрых. Этой книги я не люблю. Здесь нет лжи, но здесь есть ошибки с моей стороны, неудачный обман со стороны некоторых лиц. Поэтому “Письма” не достигли цели. Эмигранты не поверили и тому, что было неверно, и тому, что изложено точно. Жаль. В. Шульгин. 1970, З.Х».
Тема правдивости отображения действительности была для него принципиальной. Это была его жизненная позиция и самая болевая точка его жизни в СССР. Ему, человеку старой культуры, никогда не лгавшему, было непонятно, почему он должен кривить душой. И снова и снова он возвращался к этому вопросу. Так, в одном из писем к А. М. Кучумову он, в частности, писал:
«Живой интерес к <…> прошлому, обозначившийся с некоторого времени, дает возможность добросовестным историкам восстановить историческую правду, иными словами — и тени, и свет. По законам природы нет света без тени, а те, кто рисует или одной черной тушью, или одними белилами, неизменно служат неправде. Простите меня за эту не очень глубокую философию, но невольно возвращаешься к ней, отдав два года фильму, получившему название “Перед судом истории”.
Мою брошюру, по Вашему желанию, при сем препровождаю [имеются в виду “Письма к русским эмигрантам”. — Р.К] <…>. К сожалению, она не имела успеха среди эмигрантов, которым была предназначена<…>. Какова причина, таково недоверие. Это то, о чем я говорил выше. Действительно, мне пришлось писать почти одними белилами. Там, где я хотел положить тени, мне этого не удалось. И вот почему эмигранты отнеслись отрицательно к моим писаниям. Самые беспристрастные из них все же утверждали, что нет света без тени, а потому усомнились в свете».
Возвращаясь к «Пятнам» после этого отступления, невольно хочется задать вопрос: почему же он не следовал своему принципу отображать свет и тени?
При выходе из тюрьмы Василий Витальевич дал обязательство не разглашать условий тюремного режима. «Я прочел это обязательство несколько раз, не решаясь его подписать сразу — мне, конечно, оно очень не понравилось, — пишет он в «Пятнах». — Каждый заключенный в глубине души таит надежду: “Вот выйду на свободу и расскажу, что тут делается”. Затем я посмотрел на открытую дверь, за которой была свобода <…>. Ходить, гулять, наслаждаться природой! И подписал: “В. Шульгин”».
Оглядываясь сейчас назад, в прошлое четвертьвековой давности, можно сказать, что он не покривил душой. В тюрьме и так было мало света, поэтому и тени выделялись неотчетливо. Само длительное тюремное заключение было сплошной тенью. Он и написал об этом так, как считал возможным в то конкретное время и в тех конкретных обстоятельствах.
Как во всех своих произведениях, он и здесь находится где-то на втором плане. Нет ни озлобленности, ни жалоб на судьбу, как будто все это произошло не с ним, а с кем-то другим. Может даже сложиться впечатление, что он сам запрограммировал свою судьбу. В какой-то степени это так и было.
Летом 1944 года, когда всем было понятно, что крах Германии неизбежен, сын Василия Витальевича предложил ему вместе уехать в одну из нейтральных стран (кажется, в Швейцарию). Дмитрий Васильевич Шульгин, работавший в Польше на строительстве шоссейных дорог, прислал отцу для заполнения и оформления необходимые документы. Но Василий Витальевич их не оформил. В конце заявления, перед подписью, следовало написать: «Хайль Гитлер». А он этого сделать не мог. Принципиально. В течение всего времени оккупации Югославии он ни разу не вступил в разговор ни с одним немцем. Он продолжал хранить верность союзникам России еще по первой войне.
И отъезд не состоялся. Понимал ли он, к чему это приведет? Очевидно, понимал, но не ожидал такого сурового приговора. Но принял его с достоинством и прожил эти долгие двенадцать лет, ни в чем не изменив себе.
* * *
В то раннее морозное утро 24 декабря 1944 года я медленно брел по направлению к своему дому, неся кантицу с молоком. Оно было еще совсем теплое — я только что получил его у Душанки прямо из-под коровы. Было что-то около семи утра, когда я встретил бойца, состоящего при коменданте Сремских Карловцев. Это был высокий, стройный молодой человек, но с совершенно бабьим лицом, что было очень неприятно.
Не здороваясь и смотря куда-то в сторону, он сказал:
— Комендант просит вас зайти на минуту.
— Хорошо, только вот занесу домой кантицу.
— Зачем? — спросил он небрежно. — Ведь только на пять минут.
Я согласился, и мы повернули к ратуше, в которой жил комендант. Городок уже просыпался, попадались первые прохожие, приветствовавшие меня. Это раннее приглашение не вызвало у меня никаких подозрений. С комендантом у нас были хорошие отношения, и он часто приглашал меня то на стакан чаю, то на обед, посылая этого бойца. Раньше, до войны, он был инженером, вдобавок еще и киевлянином, знал Некрасова, бывшего члена Государственной Думы, тоже инженера, участвовавшего в строительстве шлюзов на Московском канале… Так что поговорить нам было о чем.
Но коменданта в ратуше не оказалось. Боец провел меня на второй этаж.
— Подождите тут. К окну не подходите, — приказал он и ушел, грохоча подкованными башмаками.
— Что за вздор! — сказал я себе. Подошел к окну. На площади стояли какие-то люди. Увидев меня, они стали махать руками, делая мне знаки, но я их не понял.
В это время открылась и захлопнулась дверь. Кто-то вошел. Я подумал, что это комендант, и, обрадованный, обернулся. Но это был не он. Передо мною стоял незнакомый мне молодой офицер с лицом «пупса». Он грозно спросил:
— Вы знаете, кто я?
— Должно быть, из ГПУ, — догадался я.
— Это теперь иначе называется. Вы задержаны…
— Арестован? — перебил я, пытаясь уточнить.
— Нет еще. Но это все равно. Оставайтесь здесь и не подходите к окну.
Затем, указав на стол, «пупс» добавил:
— И садитесь писать.
— Что писать?
— Историю вашей жизни, — был ответ.
Он повернулся на каблуках и исчез, хлопнув дверью.
Историю жизни?.. Я начал с выборов в Государственную Думу… Исписал семьдесят листов.
Принесли поесть что-то жирное. Я уже отвык от такой пищи, но голод взял свое. Поел… Расстроился желудок… Меня провели в туалет. Туда уже сопровождали.
Не заметил, как наступили сумерки. Кто-то затопил печку. Наконец пришел комендант, держа в руках мою кантицу. Я понимал, что надеяться не на что, так как я уже переступил порог, отделивший меня навсегда от «той» жизни. Но приход человека, который хоть слабо, но все-таки связывал меня с еще вчерашним днем среди нового и враждебного, невольно радовал и заставлял надеяться.
— Вот ваше молоко, — улыбаясь, сказал он. Затем спросил:
— Вы кончили писать?
— Да, прочтите, пожалуйста, — протянул я свою рукопись. Он присел к печке и долго читал при красном свете пылающих дров. Я молча ждал. Кончив, он сказал:
— Это крайне интересно. Но не знаю, удовлетворятся ли они этим.
«Они», конечно, не удовлетворились. Когда мою рукопись прочитал какой-то капитан, оказавшийся начальником «пупса», то он просто небрежно бросил ее в печку. Но это было уже позже и не здесь…
Комендант ушел, оставив кантицу. Через некоторое время пришел «пупс».
— Пойдем!
Меня вывели из Ратуши на площадь. У подъезда стоял грузовик. С трудом влез в кузов через колесо, «пупс» сел в кабину. Мотор заурчал, грузовик дернулся несколько раз и поехал, подскакивая на ухабах. Была безоблачная морозная рождественская ночь, луна сияла вовсю. Въехали на какую-то улицу, по обеим сторонам которой проплывали и таяли в темноте хорошо знакомые здания, которых мне никогда больше уже не суждено было увидеть.
«Прости, на вечную разлуку…»
Так начался новый период в моей жизни.
* * *
Проехали около одиннадцати километров, и я уже порядком закоченел. Наконец остановились у переправы через Дунай. Мост длиною в 800 метров, некогда стоявший тут, был взорван, и только короткий его огрызок торчал у берега.
Кошка, воспевавшая собственную красоту, декламировала:
Мой хвост, что пушист и не жидок,
Длиннее, чем мост в Уйвидок
[86]…
По-венгерски Уйвидок, по-сербски Нови Сад, что значит примерно «новое строение». Этот город лежал на той стороне Дуная.
Мы погрузились на пароход и направились к противоположному берегу. Вниз по течению шли льдины, которые расталкивал нос корабля. Ему было все равно: сербы, венгры, русские…
Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут…
В Новом Саде ЧК заняла одну из многих бывших фашистских резиденций. Отступившие оставили дом в полном порядке, а пришедшие не успели его еще разграбить. Туда меня и доставили.
«Пупс» передал меня своему начальнику и смылся. Начальник «пупса» был ростом несколько ниже его, но старше возрастом. Носил он черную куртку с глянцем. Еврей, как потом оказалось, из Киева. Фамилия? Что-то вроде Косолапый, точно не помню.
Он показался мне евреем с Подола. Там такого вот типа бойкие купцы отбивали покупателей у евреев с Крещатика. Последние имели шикарные витрины, продавали товары дорого, и в их магазинах торговаться было нельзя. «Prix fixe» — гласила надпись на дверях. На Подоле торговля была обязательна, и этим особенно пользовались модницы. С запрашиваемой цены они давали половину, твердо стояли на своем и уходили, ничего не купив. Мальчишка, сын хозяина, нагонял уже на улице и, запыхавшись, просил:
— Мадам, вернитесь.
Они возвращались и брали ткань или шубу по сходной цене. Потом они обычно хвастались перед подругами:
— Купила на Подоле!
— С уходом?
— Конечно, с уходом.
Иначе было нельзя…
Капитан Косолапый с минуту своими манерами казался мне евреем с Подола. Но вдруг, заговорив, превратился в моего большого и старого друга Володю Гольденберга, окончившего со мною 2-ю гимназию (с золотою медалью) и университет.
«Володя» пригласил меня сесть и начал допрос:
— Когда первый раз был за границей?
— После окончания гимназии.
— С какой целью? — последовал вопрос.
— Увидеть Европу.
* * *
Это было в обычае того времени. Володю Гольденберга родители тоже послали за границу, а к нему присоединился один наш одноклассник Женька Цельтнер. Случайно я встретил их в Швейцарии.
Так как мы были молоды и глупы, то веселились и скандалили, презирая Европу. В Швейцарии издавалась газетка «Fremden Blatt», то есть «Листок для иностранцев», в которой печатались фамилии и адреса иностранных гостей. Это было очень удобно, так как можно было найти соотечественников. Мы пошли и записались как «козаки», а фамилии не привожу, потому что были уж слишком неприличные
1.
В Берне мы играли в Petits Chevaux
[87]. Поставили один франк — выиграли четырнадцать и на «заработанные» деньги ужинали, но Женька разлакомился, пошел еще играть и проиграл все четырнадцать франков. Позже мы попали в очень скромный и тихий английский пансион, где жила моя сестра Алла Витальевна с подругой. Мы вели себя неприлично. Чопорные англичане пели дуэт Мендельсона «Хотел бы единое слово…», а мы под их мяуканье сыпали в пиво горчицу и пили эту бурду, к ужасу соседей.
Потом пригласили к себе в номер двух англичан нашего возраста. Одного называли мы Смокингом, а второго Бараном. Напоили обоих, и все вместе пошли к озеру, где завладели шлюпкой и поплыли. Наступила ночь. Пьяные англичане валялись на дне шлюпки, Володя неумело греб, а Женька стрелял из револьвера в воздух, при этом мы дико орали. Старые англичанки, собравшись на берегу, думали, что «козаки» убивают молодых англичан.
Наконец мы угомонились, причалили к берегу (никого уже не было, все разошлись) и, тихо прокравшись в свою комнату, легли спать. Рано утром пришла моя сестра и попросила нас немедленно уехать, пока нас не попросили освободить пансион. Мы исполнили ее просьбу. Затем разъехались, поняв, что «тройка» не доведет нас до добра. Заводилой всех этих скандалов был еврей Женька Цельтнер. Между прочим, его сестра была замужем за неким Ратнером, убежденным марксистом…
* * *
Капитан с Подола продолжал допрос:
— К какому полпреду являлся? Сознавайся!
Я посмотрел на него соответственно и сказал:
— Полпредов выдумала советская власть. У России за границей были послы, посланники и консулы. Им не было никакого дела до молодых людей, путешествующих за границей ради своего удовольствия, как, впрочем, и нам до них.
Капитан с Подола смутился, и на мгновение в нем проснулся Володя с Фундуклеевской, где у Гольденбергов был трехэтажный дом. Однако это было лишь мгновение.
— В каком отделении немецкой разведки служил? Во внутренней линии?
Кое-что я слышал о внутренней линии. Ее назначением было следить за Врангелем и его окружением. Конечно, эти люди состояли на службе у немцев. Я ответил:
— Внутренняя линия — это немецкие шпионы. Как же я мог с ними сотрудничать?
— Так назовите, кто состоял во внутренней линии? Конкретно! — потребовал он.
— Охотно назвал бы их конкретно, когда бы знал. Правда, одного офицера, состоявшего в линии, генерал Врангель отдал под суд, по решению которого он был исключен из списков русских офицеров.
Он понял, что здесь от меня ничего не добьешься, и атаковал с другой стороны.
— Вы были в НТС? — последовал вопрос.
— В Национально-трудовом союзе нового поколения? Да.
— Расскажите!
— По возрасту я не подходил к новому поколению, но был у них как сочувствующий и учил их кое-чему.
— Расскажите!
— Во-первых, что им нечего изображать из себя русских эсеров и мечтать о террористических актах. На террор отвечают террором. Из этого ничего не выйдет, поэтому надо действовать другим способом.
— Расскажите!
— В борьбе с марксистами надо иметь свою собственную идеологию и ее проповедовать.
— Какую?
— Столыпинскую, — спокойно, но твердо сказал я.
— Что?! Реакция?!
— Наоборот — прогресс! Надо не грабить землю, как советует Маркс, а наоборот — обогащать ее. Кому же она должна принадлежать? Тем, кто ее делает богатой. Если это будут бедные мужики — то им. Если это будут кулаки — то им. Если это будут дворяне-помещики — то им. И если это будут крестьяне-помещики — то им.
— Ну и что же, они это поняли, ваши
новопоколенцы? — язвительно спросил капитан.
— Плохо. Это новое поколение было новым отрядом молодых людей, у которых не было ни кола, ни двора, ни пяди земли. Что они могли понимать в земле?
— Я знаю их всех! — с нескрываемым торжеством заговорил капитан с Подола. И он стал перечислять новопоколенцев белградского отделения.
Я сказал:
— Понятно, что вы их знаете, ведь они работали открыто. Через ваших агентов в Белграде вы могли получить полный список.
— Какие это наши агенты?
— Я сам знал одного, он был военным доктором, галлиполийцем.
— А вы знали галлиполийцев? — удивился он.
— Конечно.
— Расскажите!
— Они как-то пригласили меня читать лекции о столыпинской реформе. Я читал. Позже узнал, что этот доктор, один из самых внимательных моих слушателей, задававший дельные вопросы, был советский агент. После разоблачения сербское правительство арестовало его. Он не отрицал, что служил большевикам, и в конце концов его отпустили.
— Почему?
— Не знаю. Возможно, потому, что разоблаченный агент не опасен.
После небольшой паузы я прибавил:
— Вот вы, капитан, перечислили мне белградских новопоколенцев, а моего сына забыли. Возможно, потому, что жил в Любляне. Так он тоже работал открыто. Когда проповедуешь идеологию, капитан, нельзя проповедовать ее закрыто…
Потом он расспрашивал об «Азбуке»
2. Тут я был осторожнее, так как «Азбука» была конспиративная организация. Правда, секреты давно кончились. Правда и то, что если когда «Азбука» и работала против Советов, то только лишь после заключения Брестского мира, так как острие ее было направлено против немцев. Но, возможно, в России еще были живы бывшие члены этой организации…
На этом допрос пока что закончился. Капитан куда-то уехал. В квартире остался лишь боец, шевелившийся где-то на кухне. Я перешел в соседнюю комнату. Там у стены стоял шифоньер. Зеркало отразило мою фигуру — я очень изменился за эти дни. Теперь бы Ляля уже не сказала мне: «Вы роскошь без старины».
Кстати, о ней, о Ляле. Капитан с Подола задавал мне о ней нескромные вопросы, на которые я отшучивался. Но совершенно неожиданно он заговорил о Марии Дмитриевне, моей жене. Тут из него выскочил опять мой друг Володя Гольденберг, и он заговорил с чувством:
— Вы не стоите такой жены. Она с этой Лялей, в плохой шубенке, в мороз ездила туда-сюда, искала вас…
Тогда можно было, как говорят теперь, голосовать. Пешеход на дороге поднимал руку с бутылкой, в которой была «могая ракия», то есть крепкая местная водка. Машина останавливалась и затем везла голосующих до ближайшего местечка. Этим способом Мария Дмитриевна и Ляля объездили соседние городки, а потом пробрались в Белград, нашли там более высокое советское командование. Марии Дмитриевне сказали, что я жив, но где нахожусь, они не знают. И посоветовали им вернуться в Сремские Карловцы. Предварительно они побывали у моей сестры Лины Витальевны. Она не утешила Марию Дмитриевну:
— Вася там, где Катя
3.
Этим она хотела сказать, что я покончил с собою…
А я, увидев себя в зеркале, подумал об этом. И вдруг увидел на столе кем-то брошенное лезвие безопасной бритвы. Подумал: «Вот это случай. Если, конечно, это случай, а не подброшено».
Но ничего не вышло. На ковер упало несколько капель крови, и лезвие сломалось — руки предательски дрожали.
* * *
А капитан продолжал свою работу, то рядясь в торгаша с Подола, то преображаясь в Володю.
— Вы не стоите такой женщины, — сказал он опять как-то. И туг же добавил:
— Хотите ее видеть? Она здесь.
Я вспомнил свое отражение в зеркале и отрицательно покачал головой. Он же посмотрел на меня взглядом, который меня даже тронул, и сказал при этом:
— У вас не осталось ничего человеческого.
И все-таки это была игра на чувствах, так как Марии Дмитриевны там не было.
Затем вспоминаю какую-то ночь, когда мне было очень холодно. Я стащил со стола большую скатерть и укрылся ею. Спал кое-как. Утром меня разбудил какой-то незнакомый боец. Разбудил тихонько и сказал:
— Замерз, отец? Чаю горячего дам.
Капитана не было. Я вышел в соседнюю комнату, где мне дали кружку с горячим чаем и кусок сахару. Там был еще один боец, намного старший годами первого. Он сказал мне, махнув рукой:
— Вы на нашего капитана не обращайте внимания. Это он так, разоряется поначалу. Потом поутихнет.
Меня поразила ласковость этих двух людей. Действительно, где тени, там и свет. Но старик ошибся, сказав, что капитан поутихнет. Главное представление было впереди.
Придя утром, он начал сразу:
— Довольно! Конкретно — в каком отделении немецкой разведки служишь? Говори! Я могу тебя застрелить, и ни одна собака об этом не узнает.
Я удивился своему равнодушию. Вероятно, это тоже была комедия. Фигляр попал на фигляра. Я ответил:
— Это самое разумное, что вы можете сделать.
— Ах, так?! Ну, так пиши расписку!
— Какую расписку? — удивился я.
— Что не хочешь жить.
Он принес чернила, перо. Я сидел за столом, он же встал за мною. Подумал: «Все, как полагается, в затылок».
Наступило молчание. Я снял с пальца обручальное кольцо, положил на стол и сказал:
— Передайте жене.
Потом взял перо, обмакнул в чернилах.
— Я не знаю, что полагается писать в таких случаях. Диктуйте.
Прошла минута, может быть, две. Молчание продолжалось. Я положил перо, а он отошел от меня и стал ходить по комнате. Выскочил снова Володя Гольденберг, и капитан заговорил:
— Терпеть не могу, когда срываюсь с нареза…
Потом приехали какие-то два офицера, и обстановка несколько изменилась. Одного из них я уже где-то видел. У него были сплошь золотые зубы, потому я его и запомнил.
Мой капитан обратился к одному из бойцов, возившемуся на кухне:
— А нет ли там вина?
— Есть.
— Давай!
Боец принес бутылку и четыре стакана. Пока наливали вино, офицер с золотыми зубами сказал, указывая на меня:
— Вот я прочел его книгу. Он правду сказал, что уже давно вышел из всяких политических организаций. Вот тут это написано.
И он протянул капитану какую-то книжку. Тот раскрыл и быстро перелистал ее. Я узнал в ней «Что нам в них не нравится», мою давнишнюю работу о евреях. В этой книжке иногда употреблялось слово «жид», но не для оскорбления, а по смыслу. О него-то капитан и споткнулся, посмотрел на меня и проворчал:
— Ну, все это так, а ругаться все-таки нельзя.
Мне тоже налили полный стакан хорошего карловацкого вина. Все чокнулись со мною и между собою. Выпили. Затем капитан сказал, обращаясь ко мне:
— Сейчас отправим вас на мотоцикле.
— Куда?
— В Венгрию. Только вот пальто у вас дырявое и шляпа никуда не годится.
Осмотревшись вокруг, добавил:
— Мы вас в одеяло завернем.
* * *
Они усадили меня в коляску и накрыли одеялом поверх шляпы. Тут я перестал что-нибудь видеть. Вскоре мотор затарахтел, и мы помчались. Через некоторое время мотоцикл остановился — что-то было не в порядке. Меня раскутали, и я увидел, что сопровождают меня офицер с золотыми зубами и водитель-боец.
Последний остался возиться с мотоциклом, а мы вдвоем пошли вперед по дороге. Луна светила рассеянным светом сквозь сплошные жидкие тучи. Золотозубый почему-то завел разговор о Ляле. Я спросил его:
— Неужели вы ее расстреляете?
— Да нет, посадим. Она ведь шпионка, но не такая уж опасная.
— Какая она шпионка? — возразил я. — Она ненавидит немцев.
— Ненавидит, ненавидит, а все-таки в немецком поезде выехала добровольно.
— А на что она немцам, такая девчонка?
— Зачем? — золотозубый усмехнулся. — Вот зачем. Война кончится, но, может быть, будет другая война. Им же нужны опорные пункты. Вот такой девчонке они будут переводить маленькие деньги, а потом, когда они снова вернутся, будет у них к кому обратиться.
Помолчав немного, он сказал:
— А она вас лю-ю-бит. Когда показали вашу фотографию, рыдала.
В это время подкатил мотоцикл. Снова расселись по своим местам и помчались дальше. Так как дорога становилась все лучше, то ехали все быстрее. Меня обдавало ледяным ветром, и голова замерзла, несмотря на шляпу и одеяло. Мне казалось, что на нее надели каску из льда.
Где-то остановились. Меня буквально вынули из коляски, ввели в дом, где было светло и тепло. В комнате суетились какие-то люди, накрывая на стол, слышался мадьярский говор. Мы были уже в Венгрии. Подали горячий чай с ромом. Я согрелся.
Затем ехали опять, заезжали еще куда-то, а утром остановились в каком-то городке. Легли отдыхать, причем меня положили на кровать, «золотые зубы» легли на оттоманке, а боец на полу.
Утром боец хорошо побрил меня опасной бритвой. Потом мы снова ехали до переправы через Дунай. Тут столпилось много людей, машин, повозок. Поднялось солнце и слабо пригрело. Меня оставили одного. Я выбрался из коляски и немного размялся. Стояли около переправы долго и начали переправляться на другой берег уже при свете прожекторов.
Ехали со скоростью сто километров в час, опять где-то отогревались чаем с ромом и наконец прибыли в город Дунайфольварк или Дунайварош, точно не помню. Тут меня поместили в хатенке, где я приуныл, так как в комнате была только кровать, на которой сидела старуха с седой растрепанной головой, и деревянная скамейка. Мои спутники указали мне на скамейку и куда-то ушли.
Старуха что-то бормотала и делала движения руками, как будто бы шила. Пришел венгр, как я догадался, ее сын, и стал ее ругать. Старуха встала и, продолжая бормотать и трястись, ушла во двор. Венгр немного понимал по-русски. Я сказал ему:
— Она замерзнет.
— Пусть сдохнет, — последовал ответ.
Все это было очень неприятно. В это время вернулись мои спутники.
— Полковник приказал перевезти вас в другое место, — сказал офицер.
Переехали в другое место. Там картина совершенно изменилась. Просторная, светлая комната со старинною обстановкой, горел камин. Было тепло и уютно. А главное, была молодая и красивая какой-то старинною красотою девушка. Она искренне обрадовалась мне, стала чем-то угощать и без всяких вступительных церемоний стала рассказывать о себе, говоря то по-немецки, то по-французски, то по-чешски (она была чешка).
Она служила вместе с матерью при каком-то консульстве машинисткой, потом была арестована болгарами, но у болгар ее отнял русский полковник, который сюда ее и поместил. Она тут пробудет недолго, а в Будапеште, куда они с полковником скоро уедут, он купит ей новое платье. Зовут ее Лена. При ней безотлучно находятся два бойца, один — кацап, другой — хохол. Ее хорошо кормят и, кроме того, по утрам они приносят корыто и много горячей воды. Она их выгоняет и моется.
Вскоре после того, как она все это рассказала, меня повели к полковнику, который оказался представительным евреем по фамилии Кин. После взаимного обмена приветствиями и любезностями он сказал мне:
— Принимая во внимание ваш возраст, я нашел возможным поместить вас вместе с этой молодой женщиной. Вы можете говорить о чем угодно, кроме как о ваших делах. За что вы арестованы и за что она арестована — об этом тоже говорить не следует. При вашей комнате есть сад, в котором можете с нею гулять. Можете даже выйти на улицу, но лучше этого не делать, так как вас кто-нибудь задержит. А теперь отдыхайте. Беседовать с вами будем завтра.
* * *
Лена оказалась премилой девушкой и фантастически способной к языкам. У нее была изумительная память, и она быстро училась говорить по-русски. Кроме того, она хорошо знала современную литературу, и я показал себя совершенным неучем, слушая имена незнакомых авторов. Не ограничиваясь пересказом книг, она выдумывала всякие игры, тоже требовавшие разносторонней развитости.
Два бойца, которые были к ней приставлены, все время прислушивались к нашему разговору. Поэтому я сказал ей как-то:
— Давайте не будем говорить по-французски и по-немецки. Как-то неловко.
Ей было трудно говорить по-русски, но она справилась. Как-то мы заговорили о романе Гюго «Собор Парижской Богоматери» и что-то или кого-то не могли вспомнить. Вдруг боец-хохол, казалось, дремавший около печки, вступил в разговор и напомнил то, что мы забыли. Я подумал: «Ну, мужички из моего села Курганы этого не могли бы».
* * *
С полковником Кином, человеком культурным, допрос шел в иных формах и иными методами, чем с капитаном «с Подола». Он просил меня рассказать о моей жизни до революции и в эмиграции. При этом однажды удивил меня и даже несколько озадачил. Я рассказывал ему, что после моего провала с «Трестом»
4 я вообще решил отказаться от всякой политики. Почему? Потому что человек, которого могли так провести, не годен был к политике.
Он улучил момент и вставил:
— Совершенно напрасно. Этот самый «Трест», которым мы впоследствии завладели, сначала был настоящей контрреволюционной организацией, очень сильной и смелой. По некоторым признакам, они находились в тесной связи с английской «Интеллидженс Сервис». Так что вам нечего стыдиться, никакого провала тут не было.
Он вел допрос тягуче медленно, требовал подробностей. Наконец как-то не выдержал и сказал:
— Я вызову стенографистку, пусть она запишет ваши показания.
Пришла какая-то девушка в военной форме. Я привык диктовать и стал говорить, как когда-то выступал в Государственной Думе. Но полковник меня остановил:
— Нет, так нельзя.
И стал диктовать за меня. Мысли мои искажались, и выходило все совершенно иначе, а кроме того, так медленно, что было непонятно, зачем нужна стенографистка. Когда он вышел в соседнюю комнату, девушка сказала мне:
— Если так работать, разучишься писать.
Но как бы там ни было, а допрос шел и все ближе подходил к концу. В последнюю ночь полковник заспешил и попросил меня помочь просмотреть материалы допроса, так как машинистки сделали множество ошибок. Этим я занимался с девушками, а он собирал какие-то бумаги и очень спешил, так как необходимо было успеть к самолету. Наконец мы кончили, и он предложил мне идти к себе и поесть перед дорогой.
Мы завтракали с Леной, когда в комнату привели шесть человек, которые стали в углу и жадно смотрели в мою тарелку. Лена сказала мне тихонько:
— Я их знаю. Их тоже везут, но они какие-то другие, им будет очень плохо.
Затем я стал прощаться с нею. Она нежно-нежно меня целовала и подарила на прощание маленькую вещицу: шелковую рубашечку, обшитую тесьмой, рубашечку, которая годилась бы лишь новорожденному. Зачем она была у этой шпионки, этого я не узнал и никогда не узнаю. Но рубашонку долго хранил и при бесчисленных обысках у меня ее не отбирали, пока не пришлось с нею расстаться, так как она вся изорвалась.
* * *
Нас разместили в самолете «Дуглас-2». Это была прескверная машина. Она дребезжала, как старый рыдван. Отопления не было. Мои спутники были одеты еще хуже меня. Они бы замерзли, если бы с мотора не были сняты громадные одеяла, в которые завернули всех нас семерых. Эти шестеро были из Югославии и из Болгарии. Я их не знал, но они меня знали.
Это был первый полет в моей жизни. А между тем, окончив университет, я поступил в Киевский политехникум, на механическое отделение, исключительно для того, чтобы работать в области воздухоплавания. Это было в то время, когда братья Райт еще не совершили своего километрового полета в Америке.
Куда мы летели, мы не знали, а только догадывались. Под нами проплывали высокие горы, занесенные снегом. Очевидно, это были Карпаты. Наконец приземлились в Кировограде, бывшем Елисаветграде. Из-за плохой погоды мы здесь пробыли одиннадцать дней. За неимением другого места нас поместили в милиции. Там, по крайней мере, было тепло. Мы лежали на полу вокруг железной печки, время от времени меняясь местами, так как она очень припекала.
Жизнь в милиции протекала своим порядком. Приводили каких-то людей, выгоняли их, приводили других. А мы все лежали. Чтобы как-то рассеять скуку, решили, что каждый расскажет какую-нибудь историю. Начал этот гептамерон один бывший артиллерийский офицер из Севастополя.
По его рассказу, подходы к Севастополю со стороны моря в Первую мировую войну были минированы специальными минами, взрываемыми или взводимыми в боевое состояние с берега электрически. Он рассказал также об истории с германским крейсером «Гебен», о том, как мы его прозевали. Бомбардируя Севастополь, крейсер зашел на минное поле, но мы не подали электропитания минам, и он, благополучно обстреляв город, ушел…
Второй рассказ был посвящен охоте в Болгарии, когда охотник, пробродив целый день в горах и никого не встретив, под конец увидел медведя, которого и пристрелил. Оказалось, что это был «русский» медведь, с ошейником. На следующий день пошел в храм какого-то местечка и увидел, что цыгане ставят свечи пламенем вниз, на смерть кому-то. Он понял — тому, кто убил медведя.
— Я пока еще не погиб, но вот… — заключил он свой рассказ.
Третий рассказ был мой… Остальные не припоминаю. Каждый день нас водили в какую-то столовую. Кормили плотно. Кругом были надписи на украинском языке, и все неправильные. Я стыдил работников столовой, что нужно писать грамотно, а если не могут, то лучше на русском языке.
Когда нас вели на аэродром, мы проходили мимо железнодорожного вокзала. Собралась толпа. Тыча в нас пальцами, люди кричали:
— Фрицев ведут!
Сопровождавший нас офицер нес какой-то полосатый мешок. Потом дал его мне и спросил:
— Знаете, что тут?
— Нет.
— Ваши рукописи.
Я вспомнил, что во время допросов они спрашивали, где хранятся мои рукописи о Первой мировой войне. Я сказал, что в подвальном хранилище библиотеки Русского дома в Белграде. Туда ездил офицер (кажется, золотозубый). Он заезжал и к Марии Дмитриевне, надеясь найти еще что-нибудь.
Мы опять летели. Сквозь замерзшие окна трудно было что-нибудь разглядеть. Однако удалось заметить город, от которого остались только высоко торчащие трубы. Нам сказали, что это Кременчуг.
Сделали посадку на совершенно голом поле, на котором, однако, было много народу. Нас выпустили размять ноги.
После короткой разминки мы опять закутались в одеяла и влезли в самолет. Снова полет. Сколько летели, не помню. От долгого сидения конечности стали уже коченеть, когда самолет стал снижаться. Объявили, что садимся в Москве. По-видимому, всех нас охватило какое-то беспокойное чувство, так как было ясно, что мы проходим еще один рубеж, который приближал каждого из нас к какому-то концу.
* * *
Когда вывели из самолета, нас сразу же окружил конвой, который сопровождал до посадки в машину без окон. Захлопнулась дверь, и мы погрузились во мрак. Больше я своих спутников уже никогда не увидел.
Автомобиль остановился во дворе какого-то большого здания, которое, однако, мне ничего не говорило. Только потом я узнал, что это знаменитая Лубянка.
Меня высадили одного и тут же повели в баню. Затем стригли всевозможные места, причем парикмахер воскликнул:
— Во, вшей завел!
Да, я ведь уже месяц как не раздевался. Шел конец января 1945 года.
Затем фотографировали в профиль, в фас. Когда показали, не смог себя узнать. И, конечно, дактилоскопия.
Когда все это закончилось, вручили арестантское платье и посадили в камеру, где сидел уже какой-то человек. Мы познакомились. Оказался некто Иванов. Он рассказал, что закончил три академии и пишет работу о том, что у ребенка в возрасте трех-четырех лет наступает перелом, когда у него просыпается собственное «я».
Сидел он уже два года и еще ни разу не был допрошен. Обвинили же в том, что шпионил в пользу японцев. Оказывается, при каких-то обстоятельствах ему поручили шпионить за японцами. Но, как он пояснил, чтобы ему что-то получить, необходимо было и что-то им сообщить. Он делал какие-то вырезки из газет об экономическом положении СССР, суммировал их и передавал эти сведения японцу. Тот, в свою очередь, что-то давал ему. И вот за эти вырезки его и посадили.
Так как он сидел уже долго, то ему к обеду давали прибавку. Обед был невероятно голодный, он же был добр и этими прибавками со мною делился.
Потом, через некоторое время, меня перевели в другую камеру, в которой уже было три человека. Один из них, который уже успел посидеть у бельгийцев, продолжал сидеть и здесь, говоря при этом, что у бельгийцев было куда приличней. Помню, что он интересовался техникой. Двое же других не оставили о себе никаких воспоминаний.
Затем к нам посадили пожилого человека, очень хорошо выбритого. Он поразил нас тем, что сразу же стал угощать всех американскими галетами. Он говорил, что является немецким подданным, затем признался, что он двуподданный, с одной стороны германский, а с другой — американский подданный, из Арканзаса. У них это, кажется, было возможно. Ему вменили в вину то, что он еще до революции имел в Москве завод с двумя тысячами рабочих. Отсюда следовало, что он был шпион.
Трудно, конечно, было понять, в пользу кого он шпионил. По-видимому, в пользу немцев, но не против России. В конце концов он сам запутался или его запутали. По его рассказам, на допросах, которые происходили еще где-то в Германии, генерал бил его резиновой палкой. Однажды, когда этот генерал в припадке яростной ненависти схватился за нож, присутствовавший на допросе полковник вырвал его из рук генерала, тем самым предотвратив убийство.
Затем его лечили от побоев в больнице, и после этого он попал сюда. Он рассказал нам, что когда советские войска вошли в Берлин, то прежде всего они хотели женщин. Это называлось «организовать», то есть организовать пирушку с немками. Свою жену он как-то спрятал, но других «организовывал» для офицеров.
* * *
Затем меня вместе с ним перевели в какую-то другую камеру. Там был очень раздражительный генерал, страдавший сердцем. Он уже сорок раз требовал допроса, но безуспешно.
Этот генерал во время войны командовал, кажется, танковым корпусом. Он рассказывал, что так как получил уже много наград, то расхвастался и в кругу восьми генералов однажды позволил себе говорить то, что думал.
— И вот результат — сижу без допроса, — добавил он.
Так как он был болен и плохо себя чувствовал, то почти ничего не ел, хотя его хорошо кормили. Он угощал меня. Вдруг однажды он поспорил со мною крайне резко. И о чем? Какого качества хлеб, который нам давали. А я как раз перед этим сидел с офицером, который был специалистом по хлебу, и он мне рассказывал, что это не чисто ржаной хлеб, а с добавлениями. Генерал вспылил:
— Я — генерал, а он — лейтенант, как вы можете ему верить?
Я ответил:
— В вопросе о качестве хлеба звания не имеют значения.
Но после этого случая я не стал принимать его угощения. Он заметил как-то:
— Да вы, кажется, обиделись?
И добавил грустно:
— Поймите же, я сердечник.
И мы помирились…
Про нашего немца-американца, у которого было не все в порядке с желудком, генерал сказал:
— Передайте ему по-немецки, что я ему парашу на голову надену.
Я сказал арканзасцу, чтобы он не делал того, что не следует, и тот перестал. Он (арканзасец), между прочим, наводил, как говорят, тень на ясный день, то есть занимался предсказаниями. При этом он как-то особенно смотрел в окно одним глазом и говорил, что видит то, видит другое и так далее. Кое-кто ему верил. Мне же сразу показалось, что он врет. Но одного я не мог понять — посмотрев как-то одним глазом в окно, он сказал:
— Я вижу ваше будущее. Вы будете работать в большой библиотеке, и там вам будет помогать одна девушка, блондинка. Ее фамилия…
Он помолчал, явно наслаждаясь впечатлением, которое произведет, и изрек:
— Бернард!
Такая девушка действительно была в Государственной Думе, но как он об этом узнал? Быть может, я когда-нибудь выболтал? Я побывал с ним еще в других камерах и спрашивал немцев, каким говором говорит этот человек так ясно, раздельно. Они сказали, что у него говор, который немцы называют «отельера», то есть служащего в гостинице, и так же говорят приказчики в магазинах.
Он был очень чувствителен к клопам, которые появились на наше несчастье. И с патетическим отчаянием иногда возвещал:
— Сегодня я убил двух клопов.
Затем клопы размножились в ужасающем количестве. Простыни превратились в шкуры ягуаров от кровавых пятен. Мой рекорд составил семьдесят клопов в одну ночь, а общий итог камеры за сезон исчислялся в тысячах.
Через несколько лет я узнал от людей, прошедших через Лубянку, что там больше клопов нет.
* * *
Некоторое время я сидел с молодым офицером, который оказался соседом по Курганам. Меня он тогда не знал, но от своей матери слышал обо мне.
— Я попал в плен, — рассказывал он. — Мы жили под открытым небом. Вокруг был высокий забор, к которому нельзя было подходить — стреляли. Но некоторые все же подходили, чтобы их убили, не будучи больше в силах переносить голод. Голод был ужасающий. Время от времени через забор перебрасывали трупы лошадей. Тогда все, кто мог, бросались к ним и жрали сырое мясо с шерстью. Было и хуже. Ели умерших людей, иногда еще полуживых.
А рядом с нами был лагерь, где содержались английские офицеры. Меня и нескольких других в один истинно прекрасный день перевели к англичанам. Последние не желали убирать лагерь, и поэтому в качестве денщиков им давали русских. Тут мы не голодали. Для нас это был рай. Но через некоторое время нас перебросили обратно питаться дохлыми лошадьми. Однако скоро появился человек, говоривший по-русски совершенно свободно. Всех, кто еще мог стоять, выстроили, и русский сказал: «Вы могли бы улучшить свое положение. Вас отвезут в Варшаву, там вы будете учиться восемь месяцев. Затем вас перебросят в Россию и вы оттуда будете подавать известия». Я сейчас же согласился, думая: «Только перебросьте».
Дальше я учился в Варшаве. Нам читали лекции и, между прочим, учили, как, попавши в Россию, надо себя держать. Надо было тщательно скрывать, где живешь, поэтому, прежде чем войти в свой дом, каждый должен убедиться, что за ним нет слежки. Но как это делать? «Вот, — говорит преподаватель, — я вам прочту из книги “Три столицы”. Прежде чем войти в свой дом, необходимо пройти через какую-нибудь уединенную улицу, на которой видно достаточно далеко, что никого нет. Если вы один, значит, ваш след потеряли, если только за вами следили».
Когда я закончил восьмимесячные курсы в Варшаве, меня перебросили во Львов. И там устроили выпивку. Зачем? Чтобы выучить, как можно много выпить и не опьянеть. Для этого, оказывается, следовало предварительно выпить целый стакан растопленного масла. Это масло, осев на стенках кишок, препятствует алкоголю проникнуть в организм и воздействовать на мозг. Когда я прошел и это испытание, назначен был срок отлета.
Мы летели совершенно темной ночью. На спину одели парашют и поставили над раскрытым люком. Немецкий офицер, смотря на часы, отсчитывал секунды. Затем меня сбросили в зияющую черную пустоту, а за мною второй парашют с вещами и радиоаппаратурой. Парашют раскрылся сам, и я через некоторое время коснулся земли.
Я спросил:
— Все-таки было сотрясение?
— Да, примерно такое же, как если спрыгнуть со второго этажа.
Я освободился от парашюта, на рассвете нашел другой недалеко от своего места приземления и, спрятав их в кустах, пошел искать дорогу. Найдя ее, пришел в какое-то село и первых встречных попросил доставить меня к военному начальству. Там я все объяснил. Меня очень хвалили. В итоге я наладил связь с немцами при помощи своего радиопередатчика и начал сообщать им то, что мне диктовали. Это называется дезинформацией противника. Потом меня отвезли в Харьков, дали кучу денег, и я кутил вовсю. Прошел еще месяц. Меня повезли в Москву и посадили, не предъявив никаких обвинений. И вот я сижу. А сколько мне еще сидеть и увижу ли я когда-нибудь свою мать в Могилянах и ваш дом в Курганах, не знаю.
* * *
Через некоторое время после моего приезда на Лубянку меня повели на допрос. Допрашивал подполковник Герасимов из отделения следователей для особо важных дел. Он начал:
— Ну что, Шульгин, вы как могильная плита, вас не согнешь.
— Для чего же гнуть?
Он не ответил. Помолчал. Потом продолжал:
— Расскажите, кем и чем вы были? Вы дворянин?
— Да.
— Образование?
— Юридический факультет.
— Значит, высшее. Профессия?
— Профессии, собственно, нет. Занимался литературой.
— Служили?
— Прапорщик запаса полевых инженерных войск. На войне служил в пехоте. Был ранен. Перешел в Красный Крест.
— Ордена?
— Никаких не имею.
— На гражданской службе были?
— Не был. Но десять лет был членом Государственной Думы и гласным в земстве.
— Еще чем были?
— Почетным мировым судьею.
— Все?
— Кажется, все.
Он встал:
— Нет, не все. Самого главного вы не сказали.
— Чего именно?
— Па-а-ме-щи-ком вы были, Шульгин!
— Да, был.
Когда он в другой раз настаивал на зловредности моей, так как я был помещиком, я ответил:
— Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Бунин и прочая так называемая дворянская литература — все были помещиками.
* * *
Затем он стал расспрашивать меня, где я жил в Ленинграде. Я перечислил многочисленные квартиры, какие только мог вспомнить на разных улицах.
— А последняя?
— Последняя была на Большой Монетной, дом 22, во втором дворе, на пятом этаже, квартира номер 29. Тогда квартиры были чрезвычайно дороги, и у меня была маленькая квартира, не отвечавшая моему положению.
— Маленькая? А где же была та, несомненно, большая квартира, где вы купали балерин в шампанском?
Я рассмеялся. Но он сделал серьезное лицо.
Такие случаи бывали. Этим занимались богатые купцы, перед этим выбросив рояль с пятого этажа в окошко. Но следователь подполковник Герасимов в такие тонкости не входил. Купцы, дворяне, члены Государственной Думы, гласные и мировые судьи — все одно, дворяне.
* * *
Он долго меня допрашивал. Я говорил все, мне нечего было скрывать. Эти допросы совершались по ночам, приблизительно с одиннадцати вечера и до рассвета. Часа в три утра следователю приносили что-нибудь поужинать (или, может быть, позавтракать). Обычно чай, хлеб, колбасу. Я сильно голодал в то время. Поэтому жадно смотрел на поднос. Однажды он оставил на нем кусок хлеба. Я попросил разрешения съесть его. Он разрешил и потом спросил:
— Вы очень голодаете?
— Очень.
— Вы вот что сделайте. Напишите полковнику Судакову — он стоит во главе нашего отдела — заявление, что голод мешает вам вспоминать, и это вредит следствию.
Я написал. Через месяц Герасимов спросил меня, дают ли мне добавку к пище. Я ответил:
— Нет.
— Странно.
Как бы там ни было, но прибавки я не получил.
* * *
Однажды Герасимов сказал мне:
— Вас хотят увидеть министры. Пойдемте.
Захватив еще какого-то офицера, мы пришли в большой и роскошный зал с атласной мебелью и картинами в тяжелых золотых рамах. За столом, крытым красной скатертью, сидело множество незнакомых мне лиц. Кто из них были министры, я не знал.
Я подошел к столу и, сделав общий поклон, сказал по-солдатски:
— Здравия желаем.
Один из них сказал:
— Мы желали бы кое-что узнать от вас. Что вы знаете о внутренней линии?
— Весьма мало.
— Как это может быть? Вы ведь были близки к командованию?
— Иногда.
— Объясните.
Я начал:
— Объяснить это не так просто. Вы, в СССР, являетесь хорошо сконструированной и отлаженной машиной, где одна кнопка управляет другими. Я же не был кнопкой. И исполнял свои обязанности как член Государственной Думы, а в отношении власти — я не был с нею связан и работал, как говорится, по вольности дворянской. То же самое было и в эмиграции. Я был близок к Врангелю, но знал то, что меня интересовало. До внутренней линии мне не было никакого дела. Вот и все.
Спрашивавший меня как-то недовольно поморщился и сказал:
— Хорошо, мы поговорим попозже.
Меня увели. Дорогою Герасимов мне сказал:
— Нельзя так разговаривать с министром.
— А что же мне, врать прикажете?
Через некоторое время, примерно через час, меня опять позвали. Неизвестный, который, очевидно, был министром, начал:
— Вы лично принимали отречение у Николая II?
— Да, совместно с Гучковым.
— Расскажите, как это было.
Я рассказал все, что можно было прочесть в книге «Дни». Вся группа, сидевшая за столом, слушала меня крайне внимательно. Когда я кончил, предполагаемый министр поблагодарил меня и отпустил. Герасимов меня похвалил:
— Вот сейчас вы отлично говорили.
* * *
Наконец с Герасимовым было покончено. Я думал, что с допросами уже покончено вообще, и тихо радовался. Не будет больше бессонных ночей. Но не тут-то было. Через несколько дней в одиннадцать часов вечера невыносимо заскрежетал замок и открылась дверь.
— Шульгин, на допрос.
Повели, как обычно. Обычно — это значит со всякими «кунсткамерами». Огромное здание на Лубянке внутри разделено на две половины. В одной половине сидят, в другой допрашивают. Переход из одной части в другую совершается с формальностями. Одна часть выписывает, другая вписывает. При этом сделано нечто вроде турникета, и женский голос спрашивает:
— Имя, отчество, фамилия.
Турникет поворачивается, и другая женщина тоже спрашивает:
— Имя, отчество, фамилия.
Однажды что-то не ладилось, и кто-то сказал:
— Тут что-то не так написано.
Потом меня взяли из турникета и посадили в какую-то маленькую будку, пока выясняли обстоятельства дела. Когда выяснили, вернули в камеру. Допроса не было.
Это меня очень обеспокоило. Фамилия была та же, но имя и отчество другие. Я стал опасаться, что на Лубянке сидит мой сын. Но это, к счастью, не оправдалось.
* * *
Меня снова вызвали на допрос. И опять вели вверх и вниз. Однажды мне показали лифт, и сопровождающий сказал:
— Вот сюда бросился Савинков.
— Убился?
— Конечно. Шестой этаж. И напрасно. Ему бы дали десять лет.
При этом хождении по лестницам сказывалась индивидуальность сопровождающих, которые держали арестованного под локоть. Одни на поворотах делали это бережно, другие резко и бесцеремонно. Чтобы чувствовала эта контра проклятая.
* * *
И вот новый следователь. Майор Цветаев или Цветков, точно не помню. Он был весьма любезен и наговорил мне массу любезностей:
— Последнего сна вы меня лишили. Все читаю ваши произведения.
— Какие?
— Да вот, ваши мемуары о войне. Они ко мне попали. Знаете, что я вам скажу, ведь если бы выбросить там некоторые резкости, касающиеся Ленина, то можно было бы их напечатать.
Я сказал:
— Из песни слова не выкинешь. Навряд ли они кому-нибудь интересны.
— Как не интересны! Ведь теперь даже классиками зачитываются. Я вот, например, прочитаю их всех, а потом снова начинаю.
Под классиками в Советском Союзе разумеются не римляне и греки, как было раньше, а Пушкин, Лермонтов, Тургенев и так далее. Словом, дворянская литература.
* * *
Но все же, при всей любезности Цветаева, он вел допрос по-герасимовски. Всю жизнь от начала до конца надо было снова рассказывать. И я понял эту механику. Когда начинаются эти дубли, то человек, который говорит правду, будет рассказывать то же самое. Когда же он сочиняет, то может забыть, что выдумал. И при последующих допросах говорить не то, что на предыдущих. Тогда его уличали во лжи.
Так как меня нельзя было поймать на лжи, то мне стали верить. Однажды Цветаев сказал мне, что один человек в Югославии сослался на меня, и попросил меня рассказать об этом арестованном русском, которому грозило нечто суровое ввиду того, что он во время войны добровольно поступил в немецкую полицию. Я рассказал Цветаеву, что однажды ко мне приехал в Карловцы этот человек просить совета, так как он совершенно разочаровался в немецкой полиции. «Это грабители и убийцы», — сказал он. Я посоветовал ему бежать куда-нибудь. Он так и поступил, пробравшись в освобожденную часть Югославии, где и попался советским агентам. Цветаев это записал и сказал:
— Вы ему помогли. Вам верят.
* * *
Однако он все ж таки добивался, чтобы я сознался в каких-то связях с немцами.
— Василий Витальевич, ведь вы же почтенный, уважаемый человек. Неудобно вам будет, если на очной ставке не один, не два, не три, а четыре человека будут вас уличать.
Так как ни с одним немцем за всю войну мне не удалось сказать ни одного слова, я ответил:
— Если их будет на очной ставке сорок четыре человека, то не они, а я их уличу, что они лгут.
Больше об очной ставке разговоров не было. Все это делалось для начальства. Сам Цветаев во мне уже отлично разобрался.
* * *
Однажды угрожал мне очной ставкой и подполковник Герасимов.
Крупной фигурой в эмиграции был Михаил Александрович Троицкий, глава новопоколенцев. Он наводил тень на ясный день. Однажды он сказал мне, что поедет к Гитлеру, чтобы у него чего-то добиться, и спрашивал меня, о чем и как следовало бы говорить с «фюрером». Я ответил ему, что о Брестском мире не может быть и речи, мы его никогда не признаем.
Троицкий поехал, однако до «фюрера» не дошел, но говорил с его матерью, и ничего из этого предприятия не вышло.
Герасимов угрожал мне очной ставкой с Михаилом Александровичем. Но и она не состоялась.
Все же Троицкий что-то на этой игре для себя выиграл. Если мне дали двадцать пять лет, то ему надо было дать сорок, а он получил двадцать. Но он умер раньше срока.
* * *
Когда об этом Троицком и об очной ставке с ним шла речь, мне приснился вещий сон. Из моего рукава вылезла змея до половины, затем она сломалась. Одна половина с головой уползла в какую-то щель, а хвост остался в моем рукаве.
Позже один из очень честных новопоколенцев говорил мне с горьким разочарованием о своем бывшем руководителе:
— Какое ничтожество.
* * *
Перед тем, как кончился мой «роман» с Цветаевым, он показал мне номер «Известий», в котором подсчитывались потери от войны. Я прочел: «Убитых 7,5 миллиона человек». Он покачал головой и сказал:
— Минимум пятнадцать. А двадцать пять миллионов без крыш, из них часть тоже погибла.
* * *
Было утро, солнце всходило. Он подвел меня к окну своего кабинета, находившегося на пятом этаже. И вот в первый раз я увидел Москву. Напротив окна, вижу, был вход в метро. Это была площадь Дзержинского.
* * *
От майора Цветаева я перешел к майору Путинцеву. Он опять продолжал эту волынку с моей биографией. Был любезен, но менее интересовался литературой. Впрочем, однажды пришел еще один майор [и сказал], что он читает «Приключения князя Воронецкого», тот том, где я рассказываю об Агасфере. Из этого я увидел, что мои произведения ходят по рукам, и потому нет надежды, чтобы они когда-либо собрались в одном месте. Так оно и случилось. Полосатый мешок с моими рукописями растаял.
После Путинцева я попал на восьмой этаж к начальнику отдела по особо важным делам полковнику Судакову (или Суткову, не помню точно). Но мне было непонятно, зачем он меня вызывал. По-видимому, просто познакомиться.
Чувствовалось, что допросы подходят к концу. Значит, надо было ожидать суда. Суд и состоялся. Но судей я не увидел. ОСО, то есть особое совещание, судило заочно. Поэтому, в сущности говоря, дело решали следователи. Но перед тем, как я узнал о приговоре, меня вызвали к прокурору. Тут же был и Путинцев. Прокурор, положив руку на две толстых папки, заключавших в себе мое дело, сказал:
— Ну что, Василий Витальевич, ведь это все «дела давно минувших дней».
Я ответил:
— Как будто да.
— Так вы признаете себя виновным в том, что тут написано?
— На каждой странице моя подпись. Значит, я как бы подтверждаю свои дела. Но вина ли это или это надо назвать другим словом — это предоставьте судить моей совести.
Это другое слово, которое я не произнес, было моим долгом перед Отечеством.
Наступило молчание. Потом уже Путинцев сказал:
— А что вы думаете, собственно говоря, делать?
Я совершенно его не понял. Думал, что за дела минувших дней два с половиной года, которые я уже отсидел, вполне достаточно. Поэтому сказал:
— Буду зарабатывать свой хлеб. Я слышал, что в Москву из Германии навезли очень много роялей, а настройщиков нет. У меня хороший слух, через три месяца мог бы приступить к работе настройщиком.
Они переглянулись и ничего не сказали.
Прошло несколько дней. Меня вызвали к начальнику тюрьмы. Он был на вид почтенный человек и имел взгляд несколько грустный. Около него стоял молодой офицер развязного вида. Последний протянул мне бумажку, похожую на большую квитанцию, и сказал:
— Распишитесь.
Я прочел: «Шульгин, Василий Витальевич, приговаривается к двадцати пяти годам тюремного заключения по таким-то статьям…»
Этого я не ожидал. Максимум, на что я рассчитывал, — это на три года. Однако, сохраняя достоинство, спросил фатоватого офицера тоже с каким-то небрежным акцентом:
— В приговоре не сказано, что конфискуется мое имущество. Мое имущество — это мои рукописи. Что с ними будет?
Он ответил в том же тоне:
— По отбытии срока заключения вы их получите.
* * *
После этого меня уже не повели в камеру, а привели в так называемый «бокс», где, как в крыловском огурце, «двоим за нужду влезть, и то ни встать, ни сесть». Там я, к удивлению своему, запел какую-то шансонетку. Мне хотелось свистеть, но я не умею.
В «боксе» продержали недолго и спустили в подвал. Там тоже была камера небольшая, но все же можно было лечь. Здесь я пробыл несколько дней. Кормили на убой кашей и хлебом. Но есть не хотелось. Развлечением было ходить в уборную, и тут отказа не было.
Был июнь сорок седьмого года.
* * *
Не помню, как меня везли на вокзал и как попал в вагон. В вагоне было адски тесно. Кроме всего прочего, везли малолетних преступников. Один из них, мальчик на вид лет двенадцати (на самом деле ему было шестнадцать), сел рядом со мною и, так как ребенку хотелось спать, он положил голову мне на колени, а я на нее положил свою руку. Я его как будто приласкал. И благо мне было. Эти малолетние (и меня об этом предупреждали) — искуснейшие воры. И в этот рейд они обокрали многих арестантов. У меня же украли только шапочку, без которой я мог обойтись.
* * *
Куда меня везли, я не имел понятия. Но скоро стало совсем светло, и я понял, что мы двигаемся на восток. Значит, в Сибирь, решил я.
На одной станции против моего окна остановился встречный поезд. На вагонах было написано «Владимир». Владимир мне был совершенно незнаком. Никакой связи с ним я не имел. Знал только, что Владимир-на-Клязьме основан Владимиром Мономахом.
Когда стало сильно жарко, мы приехали. Сопровождающий сказал мне взять вещи. Кое-какие вещи у меня все же собрались на Лубянке. В том числе запас печеного хлеба, которым, когда я сидел в подвале, меня усиленно
кормили. Взяв эти вещи, пошли. Вскоре я пришел к печальному заключению — я так ослабел за два с половиной года Лубянки, что нести свои вещи я не мог. И я их бросил, сказавши сопровождающему: «Не могу». Его это не удивило. Он сказал: «Оставайтесь при вещах, я скоро вернусь».
Действительно, он скоро пришел, взял часть вещей, и мы пошли. И пришли. Куда? К воротам тюрьмы, где мне предстояло досиживать двадцать два с половиной года.
Ворота классического начертания на какой-то открытке были изображены точно такими. Совсем близко от входа был бугорок с зеленой травой. На нем я увидел двух человек с вещами и понял, что их привезли в одном поезде со мною. Познакомились. Тот, который был моложе, назвался:
— Кутепов.
— Кутепов? Сын генерала?
— Так точно.
Кто же не знал генерала Кутепова, прославившегося уже в Галлиполи и похищенного в Париже среди бела дня при помощи дамы в желтом пальто? Эту даму несколько дней искали по всей Франции.
Молодой Кутепов не знал дальнейшей судьбы отца. Я думал, как и все, что его уже нет более в живых. Затем расспросил его сына, как он попал в тюрьму.
— Я был в одном из отрядов, которые служили у немцев. Но это меня совершенно не устраивало. И я добровольно сдался какой-то советской части. Кроме всего прочего, я думал, что, быть может, мой отец жив. Меня взяли, два года допрашивали и дали двадцать пять, как, вероятно, и вам.
Другой заключенный не вступал в разговор, но я его знал. Я с ним сидел на Лубянке. У него было очень тонкое, аристократическое лицо. Он вошел в камеру, где я был один, и сказал:
— Здравствуйте. Пожалуйста, не спрашивайте меня, кто я такой.
— Не буду, — ответил я.
Прошло несколько дней, и мой сосед сказал:
— Я сын простых родителей. Отец мой рабочий, мать тоже была у станка. Вдруг меня схватили и сказали мне, что я князь Волконский. Никаких доказательств они мне не могли привести, но все-таки засадили сюда, на Лубянку. Ведь это же нелепо!
— Совершенно нелепо. Все Волконские известны, установить личность любого из них очень легко. Но я понимаю, откуда происходит это недоразумение.
Он посмотрел на меня тревожным взглядом.
— Недоразумение происходит из-за вашего говора, — продолжал я. — Вы говорите с настоящим петербургским акцентом. Именно так бы говорил князь Волконский. Я знал четверых Волконских в Государственной Думе.
Он пришел в отчаяние:
— Вот и вы тоже.
Сейчас, сидя на травке, он молчал, не вступая в разговор.
* * *
Просидели мы часа два, пока открылись ворота тюрьмы. В каком-то нижнем помещении стали допрашивать: кто, что, почему препровождены сюда. Комедия! Они это знали лучше, чем мы.
И в это время вышло так, что меня в какой-то комнатушке держали с Кутеповым, а перед этим так же держали Кутепова с загадочным «князем Волконским». И Кутепов успел мне прошептать:
— Он сумасшедший.
Сумасшедший или нет, но больше я его никогда не увидел и его дальнейшей судьбы не знаю.
Затем нас разделили и меня отвели в какую-то большую, совершенно пустую камеру. Я остался один. Несмотря на июльскую жару, в этой камере, выходившей на теневую сторону, было холодно. А затем стало голодно, и я стал доедать хлеб, накопленный мною в лубянском подвале.
Здесь меня продержали два дня и, наконец, перевели в камеру, где я занял свое место в ряду других заключенных.
Это была большая камера, в которой находилось человек десять или двенадцать; железные, сложенные из труб койки стояли густо.
Первый, кто ко мне подошел, был человек очень высокий и очень худой. Он сказал мне приятным голосом и с правильным акцентом:
— Я очень похож на еврея, но я не еврей. Корнеев, Иван Алексеевич.
Мы поздоровались, но я не знал еще, какую роль этот человек сыграет в моей дальнейшей жизни.
Второй человек с военной выправкой сказал мне:
— Вы меня не знаете, нам не пришлось встретиться, но я вас хорошо знаю и знаю вашего тестя генерала Седельникова. Мы с ним работали вместе. Впрочем, вы могли бы знать меня еще гораздо раньше — я работал с генералом Маниковским в Особом совещании по обороне. Знаю я также Ирину Добровольскую из Царского Села и ее жениха Матвеева. Сам же я генерал фон Штейн. Здесь никаких «фонов» не признают и меня вызывают на букву «ф» — Фонштейн.
Потом я познакомился еще с одним человеком средних лет, который сказал мне:
— Вы меня не знаете, а я вас знаю.
— Каким образом?
— Я видел вас во сне.
— Интересно.
— Да, очень странно. Трудно поверить. Я будто бы ехал по дороге и увидел вас на обочине по пояс вкопанным в землю.
— Ох!
— Да, на груди у вас была дощечка, на которой крупными цифрами написано: «22,5». И этого я совершенно не понимаю.
— А я понимаю. Мне осталось сидеть в тюрьме двадцать два с половиной года. Простите, кто вы такой?
— Аспирант, экономист.
Осмотревшись, я увидел еще человека, у которого по плечо была отнята рука. Вид у него был очень сумрачный. При знакомстве сказал мне, что он инженер.
Потом я подошел к старику без одной ноги, сидевшему на койке. Эго оказался казачий генерал Ханжин, командир какой-то сибирской дивизии. Ханжин был очень хороший и даже удивительный человек. Ханжа — это, кроме общеизвестного значения, означает что-то вроде самогона. Но он был абсолютным трезвенником. Кроме того, никогда не употреблял матерного слова. Казаки, которые во многом были полной противоположностью генералу, однако, его очень любили. Вероятно, поэтому ему дали двадцать пять лет.
* * *
Возвращаюсь к Лубянке. Другое воспоминание, более тяжелого характера.
Однажды в Сремские Карловцы, где мы жили, нагрянули казаки. Казаки-то казаки по виду, но на службе у немцев. Они поставили своих коней в церковные ограды, но не в церкви, как это сделал бы Наполеон. Затем они в пешем строю набросились на базар, но не для грабежа. Они платили не торгуясь. Только им трудно было понять торговок, а потому я и встрял между ними в качестве переводчика. Лица их мне не очень понравились. Быть может, это заметил их офицер и подошел ко мне. Он спросил меня вполголоса:
— Как мы вам нравимся?
Я ответил:
— За все платят, чего же больше.
Мы отошли в сторонку, и он сказал:
— Я не казак. Я чистокровный петербуржец. Деньги они платят. Немцы дают много. Ведь это деньги особые, только для оккупированных стран, поэтому грабить им незачем. Но мораль их ужасная.
Он распрощался, сказав:
— Сами увидите.
* * *
Я не увидел, но я услышал. Со слезами на глазах рассказывали сербы:
— Немцы, ну так это немцы. Но русские, братья…
— А что?
— Говорят, было несколько покушений на поезда. Кто? Никто не знает. Так вот, оттуда выволакивают мужчин и на бендеры
[88].
Дальше — больше. Со всех сторон шли вести о казачьем злодействе. Затем время пошло своим чередом. Среди других злодеяний забыл я и об этих. Но вспомнил на Лубянке.
В нашей камере был бравый немецкий генерал. Он ничего не ел, все раздавал товарищам по камере. Другие немцы шептали мне:
— Ему грозит смертный приговор.
— За что?
— Он командовал вашими казаками.
— Где?
— В Югославии. И они там усердствовали.
— А он что?
— Он говорит, что таких приказаний не отдавал.
Тем временем он все же не терял бодрости. Нас в камере было семь человек. Мы выстраивались в три пары с генералом впереди и молодцевато маршировали в ногу двадцать минут, которые нам полагались на прогулке. Так как это происходило в глубоком колодце, между стенами, это еще более усиливало мрачность обстановки и безвыходность нашего положения. Раньше нас поднимали «на небеса», то есть на крышу. Оттуда хотя и не видно было Москвы, но туда доносился уличный шум и, главное, там были большие часы.
Часы! Ведь мы часов давно не видали. «Счастливые часов не наблюдают». Время мы узнавали, когда приходил час побудки, обеда, отбоя. Поэтому в первый раз, когда нас подняли на крышу, мы обрадовались часам. Но они стояли и всегда показывали одно и то же время — без четверти час.

Генерал Гельмут фон Паннвиц
Однажды генерала вызвали, и он больше не пришел. Он был казнен.
Собирая казачьи «подвиги», я, конечно, осуждал немецкого генерала
[89]. Командиру первая чарка и первая палка. Но все же, узнав, что приговор приведен в исполнение, я был счастлив, что ни одного слова не проронил о том, что знал о трагедии, разыгравшейся вокруг городка, где я жил.
* * *
Возвращаюсь к камере во Владимирской тюрьме. Несколько слов о безруком инженере.
Однажды нашу камеру посетил главный начальник тюремного управления полковник Кузнецов. Он подошел к инженеру. Тот смотрел исподлобья, отвечал мрачно и неохотно. Это почему-то рассердило Кузнецова. Быть может, потому, что он ко всем обращался вежливо. Он вдруг вспылил:
— Что смотришь волком, злобный какой.
«Волк» не ответил. Могла бы ответить его рука, отрезанная по плечо. Но Кузнецову этого было недостаточно или он не понял, потому что заорал:
— В карцер! Немедленно отвести его!
Безрукого повели. Кузнецов, как бы ища сочувствия, посмотрел вокруг и подошел к одному грузину. Последний был совсем белый, хотя и не был так стар. Кузнецов сказал, обращаясь к нему:
— Отчего он озлобленный такой?
Грузин ответил спокойно и примирительно:
— Он не злой. Но он молодой человек, а руки нет. Свободу ему вернут, а руку нет.
Кузнецов сказал:
— Протез будет.
Но вспышка его прошла.
— Так он не злой?
— Не злой.
— Вернуть, вернуть!
Кузнецов вышел, и вслед за этим однорукий вернулся в камеру.
* * *
Потом привели очень старого человека духовного звания (в эту ли камеру или в другую, не вспомню). Он имел некоторые странности. Например, обедал, стоя на коленях на полу у угла стола. Он бредил во сне, и тогда можно было услышать:
— Белые… белые! Горячие… Понесли…
По-видимому, ему мерещились какие-то небесные кони. Однажды пришел начальник тюрьмы. Мы стояли рядом: он, о котором говорили, что он митрополит, и я. Начальник тюрьмы спросил его, очевидно, желая получить ответ, который знал наперед:
— Кто вы такой?
И, действительно, «митрополит» ответил:
— Странник божий на земле.
— Сколько вам лет?
— Семнадцать.
Начальник обратился ко мне, так как я стоял рядом, и сказал:
— Ему сто лет.
И ушел. А «митрополит» заметил:
— Врет он. Мне больше ста лет.
Такая сцена повторялась неоднократно.
Я недолго был в этой камере и не знаю дальнейшей судьбы «митрополита».
Если уж я начал рассказывать о духовных лицах, то расскажу еще кое-что, о чем помню. Конечно, все эти духовные лица были не в рясах, а в арестантской одежде. Кстати, об одежде. Сначала мы были в темно-синем арестантском платье, а затем в полосатом, что было противно.
Однако, несмотря на полосатое платье, привели человека с истинно апостольским профилем. В этой камере не было ежовского «намордника», то есть окно не было умышленно закрыто жестяным щитом, чтобы заключенные не видели небо. Время ежовских «намордников» прошло, оставив о себе недобрую память. И потому в эту камеру, о которой я сейчас говорю, при закате солнца проникали его лучи.
Этот человек был, несомненно, еврей, но христианского обряда. При последних лучах солнца его профиль на стене камеры был бы достоин знаменитой картины Иванова «Явление Христа народу». Я с ним до некоторой степени подружился. Между прочим, он рассказал мне, что его арестовали вместе с некоей ясновидящей, которая и сейчас здесь, в тюрьме. Он о ней слышал, еще будучи на свободе, и посетил ее, как и многие другие. Когда он вошел, она сказала его имя. Он видел, что хозяева квартиры, где она жила, эксплуатируют ее. Ей за ее гадания люди приносили много денег и продуктов. Он будто бы вступился за нее. Тогда кто-то донес, и их обоих арестовали.
Он принадлежал к какой-то секте и воевал с другим сектантом, который был тут же в этой камере. С тем я тоже подружился. Он знал множество стихов на религиозные темы. Я стихи такого рода никогда не слышал. Разве что когда был в Екатеринодаре во время Гражданской войны, я слышал молодого слепца с совершенно удивительным голосом. Голос был проникновенный, мягкий, но такой сильный, что разносился по всему рынку, и даже длиннорогие волы его слушали. Слов я не запомнил, кроме следующих:
Царица, вечная царица
Народов всех и всех племен,
Ты у Христа царя деница5
Разрушила мой темный плен.
Причем, в слове «племен» он произносил «е», а не «ё».
В этом роде были стихи моего второго сектанта. Этот сидел уже шестнадцать лет. Его несколько раз выпускали, потом брали опять. Вменяли ему принадлежность к секте одного петербургского ясновидящего. Он служил до революции в какой-то малоизвестной купеческой фирме, как будто Чичкиных. Пришел он к ясновидящему, не помню уже почему или по какому поводу. Он вошел в длинную комнату, в которой находилось несколько человек. Все стояли длинным овалом. Отец N. (фамилию его я забыл) обходил этот «круг» и каждому говорил его имя, прежде чем каждый успевал себя назвать. Ему он сказал:
— Ты будешь в тюрьме. Богатства твоих хозяев не станет. Но тебя выпустят, потому что бумаги, которые против тебя составят, сгорят.
Этот необыкновенный человек оставил на моего сектанта неизгладимое впечатление, навеки связав его с религией.
* * *
В другой камере я встретился с двумя людьми, которых немцы (а последних было много в этой камере) называли единодушно «наши святые» (Unsere Heilige).
Оба были чистокровные хохлы. Один из Харькова, другой с Киевщины. Они говорили про себя:
— Нас считают украинцами, но мы, точно говоря, малороссы.
Тот, что был из Харькова, назывался «брат Михаил», а второй — «брат Иоанн». Они так друг друга величали. Брат Михаил молился целый день, прерывая молитву только для принятия пищи. Ел он хорошо. Когда же его хотели оторвать от молитвы во внеурочное время, он отказывался и продолжал молиться. У него было такое светлое и одухотворенное лицо, что его по большей части оставляли в покое. Но раз один грубиян из начальствующих лиц тряхнул его и потянул за собой. Брат Михаил не стал защищаться, он просто упал на колени. Его оставили в покое, и он продолжал молиться.
У него была феноменальная память, хотя он был совершенно безграмотен. Он знал литургию и все службы. Его молитва в том и состояла, что он как будто в церкви и говорил за священника, за дьякона и за хор. Кроме того, он знал все акафисты наизусть. Акафисты — это даже не молитвы, а, скорее, жития тех святых, которым они посвящены. Меня особенно интересовал акафист архангелу Михаилу, архистратигу всех сил Господних. Потому что он покровитель Киева и всея Малыя Руси, как святой Георгий — покровитель Великия Руси. Но кроме того, архангел Михаил — покровитель иудеев и всего рода человеческого. Соответственно этому и составлен этот длиннейший акафист. Его брат Михаил продиктовал мне от точки до точки.
Как и полагалось такому святому, брат Михаил был кроток, как истинный христианин. За обедом он сидел рядом с двадцатишестилетним Колькой, четырехкратным убийцей. Я сидел напротив и иногда слышал:
— Вот, Коля, тебе тюря. Я уже наелся.
Коля благодарил и кушал. Когда последний осушал тарелку, брат Михаил спрашивал его:
— Ну как же это так, Коля? Ты — вор и убийца. Ведь ты только подумай, если все будут красть и убивать, что же это будет?
Коля отвечал с мрачным достоинством:
— Все не будут ворами. Не всякий вором может стать. А если бы такое случилось, что вся власть перешла к нам, то воров и убийц не стало бы вовсе.
Между прочим, этот Коля на одной руке не имел трех пальцев. Кисть здоровой руки была маленькая, не рабочая. Один глаз его видел прекрасно, другой не мог поднять века. Несмотря на это, он был красив какой-то мрачной красотой, а плечи были просто атлетические, и грудь, что называется, косая сажень.
Что сделал бы такой богатырь-чудовище, приди он к власти? Не знаю. Но в камере нашей он сразу всех прибрал к рукам.
Со мною он подружился. Когда он пришел к нам в камеру, то наши два ящичка для хлеба оказались рядом. Я в это время уже не мог съедать целой пайки хлеба после болезни. Поэтому я ему сказал:
— Ты молодой, а я старик. Поэтому я твоей пайки брать не буду, а ты мою оставшуюся бери.
Он ответил:
— Батя-батя! Чтобы я, вор, взял у товарища пайку? Да разве это мыслимо? Разве это вор сделает? И вообще, в камере я красть не буду. Я, чтоб рука не отвыкала, иногда возьму что-нибудь, а потом обратно положу. Никто и не заметит. Вот если кто будет большие передачи получать, то я возьму открыто. Кто мне помешает?
* * *
В этой камере были двое, которые мне досаждали. Дрянь были люди. Коля это заметил и сказал мне:

Генерал кавалерии Эрик Ханзен, бывший сокамерник В. В. Шульгина по Владимирской тюрьме. Гамбург. 1975
— Если они вам, батя, какое слово скажут или посмотрят косо, то им не жить.
* * *
Пока что Коля вел себя тихо. Но однажды сказал мне:
— Я родом из Ленинграда. Могу жить в любом обществе, но все же эта камера не мое общество. Я оттуда уйду.
Я подумал: как же он это сделает? Это было очень непросто — по своему желанию переменить камеру. Но у него были свои методы. Он высмотрел среди немцев одного генерала, которого не любили и его соотечественники — он слишком уж важничал. Однажды Коля в уборной толкнул этого немца. Не ударил, а толкнул богатырским плечом. Генерал заявил охраннику, сопровождавшему нас в уборную, об этом инциденте (он достаточно говорил по-русски, чтобы объясниться):
— Этот человек меня толкнул.
Генерал был, между прочим, одним из разрушителей Севастополя. Его фамилия была Ханзен
[90] (от «Ханс», то есть Иван), а его называли все Ганзен (от «Ганс» — гусь), на что он очень обижался. Ему вменяли ненужную жестокость, он же объяснял мне:
— Война. Приказано было разгромить, я разгромил. Я ведь военный человек, как тут проявить гуманность.
Колю отправили в карцер. Через несколько дней его вели по коридору. Я с некоторым волнением ожидал, вернут ли его к нам. Я ведь понял, что стычка с генералом — только способ дота перевода в другую камеру. А если его вернут, он будет уже не толкать, а бить. Но его провели мимо. Я вздохнул с облегчением, но потом жалел. Мне лично через некоторое время такой Коля очень бы пригодился.
* * *
Возвращаюсь к брату Михаилу. При всей своей кротости он в некоторых отношениях был непримирим. Там, в Харькове, он не вошел ни в какие колхозы, хотя был настоящим хлеборобом. Жил тем, что чинил обувь. Конечно, жил бедно. Однако жена его, оставшаяся на месте, из несчастных своих сбережений прислала ему несколько рублей. А он их не принял. Почему? Хотя он был безграмотен, но расписаться мог. Но расписаться — это значило войти в какие-то отношения с «богопротивной властью». Этого он не мог себе позволить. Я ему сказал:
— Но пищу-то вы, брат Михаил, от «богопротивной» принимаете.
— Это мой грех. Да простит мне Господь милосердный.
Или еще. Ему было шестьдесят лет, а на вид сорок, и был он совершенно здоров. А от дежурств отказывался. Дежурство по камере означало прибрать ее, вымыть пол, что было совершенным пустяком для него. Но он и это понимал как сделку с «богопротивной властью».
Видя, какой дело принимает оборот, я сказал по начальству, чтобы его оставили в покое и что я буду за него дежурить. А я вообще совсем не дежурил. С тех пор, как я попал во Владимирскую тюрьму, неизвестно по какой причине, но не по приказу власти, а по решению камеры, о котором мои сотоварищи заявили начальству («не желаем, чтобы Шульгин дежурил»), я был освобожден от этой обязанности. Это было очень странно, тем более, что генерал фон Штейн, с которым мы были одних лет, особенно на этом настаивал.
Однако мое предложение дежурить вместо брата Михаила очень рассердило начальника тюрьмы, который пришел лично к нам в камеру по этому делу. Он закричал на меня:
— Да вы что, холуй его?!
В результате мне не разрешили дежурить, а брата Михаила послали в карцер на десять дней. Потом срок уменьшили до пяти. Он вернулся похудевшим, но таким же радостным.
К Коле я еще вернусь, а пока хочу рассказать о брате Иоанне. Этот был из киевских хлеборобов. У него было двадцать десятин, значит, он принадлежал к разряду кулаков. Землю у него отняли, но взамен дали четыре десятины в лесу. Однако и на четырех десятинах он снова разбогател. Он рассказывал мне:
— Сохранил я книжечку Столыпина о том, как надо хозяйничать на хуторах. Я ее хорошенько выучил. Вместо трехполья у меня было десятиполье, построил себе домик и жил хорошо. Конечно, этого не стали терпеть. Опять все отняли и арестовали. И жену арестовали. Осталась дома девочка десяти лет. И вот она спекла пирожки и начинила их шелковицей. Потом пошла туда, где я сидел, чтоб тату покормить. Мимо проезжал какой-то начальник, тоже из мужиков: «Ты куда идешь?» Она рассказала. Он вылез из брички, отнял у девочки пирожки и затоптал их в песок. Девочка пошла к своей подруге, такой же, как она. Залегла там и сказала: «Як так, не хочу жить». И умерла. С тоски.
Он остановился, затем продолжал:
— Вы со мною рядом лежите. По ночам, может быть, слышите, как я плачу?
— Слышу.
— Так вот, плачу. Даже не о том, что девочка моя умерла. А о том плачу, что простить не могу. По-христиански все должен простить. А этого, затоптанных в песок детских пирожков, простить не могу.
Затем, успокоившись, он продолжал:
— Выпустили меня. Дома ничего не осталось, кроме образов. И вот пришли. Берут образа. Я сказал: «Не дам». Они стали меня бить каблуками по босым ногам. И я взмолился Богу: «Господи, ужели! Ужели и это возможно?!» И они ушли. Образа остались. Мне только и нужны они были. Опять стал работать. Жена у меня уж очень хорошая… Но вот началась война. И я убежал в лес. Три года жил в лесу.
— Как же? В пещере какой-нибудь?
— Нет, в пещере боялся.
— Так как же вы не замерзли?
— Там кое-где сенокос был, копны стояли. Когда сено сухое, то оно дыма не дает. Дым пускать нельзя было, потому что сразу обнаружат. Так вот, я сухого сена положу, зажгу и над ним стою. И этим согреваюсь.
— А как же с питанием?
— Жена носила и в дуплах прятала. Но очень трудно было. За нею стали следить. Бывало и так, что в течение нескольких дней оставался без пищи, пока ей не удавалось пробраться. И так прошли три года. Война кончилась. Амнистия. Я вернулся. Вернулся в свою хату, и вот что было дальше. Три года голодал, мерз, но не болел. А тут пришел в теплую хату, где поесть можно, и заболел страшною болезнью. Все тело покрылось гнойниками. Жена, есть ли еще такая другая на свете, она меня от смерти неминуемой выратовала (спасла).
— Каким образом?
— Она простыню распарит и положит ее, горячую и мокрую, на меня. И этот компресс гной вытягивал. Я долго болел. Вылечила она и иконы святые, которые стояли в углу хаты. Узнали, что я выздоровел, и зовут работать в колхоз. А я говорю жене: «Уйду опять в лес». Тут кто-то постучался. Вошел незнакомый человек. «Можно переночевать?» — «Пожалуйста». Жена напекла вареников, а он сел к столу и взял книгу (у меня, кроме икон, была еще и Библия). Стал читать, а меня спрашивать, понимаю ли я. Я не все понимал, и он мне разъяснял, а потом сказал: «Ты в лес хочешь уйти. Так я тебе запрещаю». И так он это сказал, что я ответил: «Не пойду». Затем приказал: «Иди завтра на работу и увидишь…». Я пошел. Поставили в хлебном магазине разгребать зерно для просушки. Дали широкую лопату, и я начал работать. И вдруг, чувствую, не могу. Судорога руки свела. Держу лопату, а работать не могу. На меня набросились: «Все ты врешь!» И стали силой пальцы разжимать. Увидели, что я не притворяюсь, позвали врача. Он сказал: «Нервное явление. Судорога. Работать не может». Освободили. Пришел домой, а мне жинка говорит: «Это не простой был человек. Это святой». Тогда вообще стали говорить, что апостолы уже пошли по русской земле, что они ходят, и скоро вернется и семерка.
— Какая же семерка? — спросил я.
— Николай, Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей.
Он продолжал:
— А вот еще что было. Тут в нашем селе однажды вел службу священник. И он же в тот же самый день и час служил в одной из киевских церквей. И это установили точно.
Я вспомнил об известном на Западе чуде, происшедшем в шестнадцатом веке. Франциск Ассизский говорил проповедь в одном из городов Франции, и он же в то же самое время служил мессу где-то в Италии. Поэтому рассказ брата Иоанна меня заинтересовал.
— Человек этот, который не позволил мне идти в лес, пришел еще раз. Мы ему обрадовались. Но он вел себя как-то странно. Жена опять напекла, однако он не стал есть, сказал, что сметана горькая, а на скатерти пятна. Она в слезы, потому что сметана хорошая и пятен на скатерти нет. Стал он придираться к одному, к другому… Она плачет, а я не знаю, как мне быть. Потом он лег спать, а мы с женой так и не сомкнули глаз от огорчения. Утром, когда он поднялся, то сказал: «Я пойду, а вы меня простите. Я вас испытывал. Сметана самая свежая, а скатерть, как снег, бела. Ты только плакала, а он мне худого слова не сказал. Теперь я знаю, какие вы люди…» Потом опять начались религиозные преследования, меня обвинили в религиозной пропаганде и посадили в лагерь. Там я встретился с братом Михаилом.
— Вы не сектанты?
— Нет, мы чистого восточного православия.
— Тяжело вам было в лагерях?
— Как сказать. Очень много народу, и самого разного. И даже трудно вам будет поверить, из-за чего люди могут впадать в безумие. Вот, например. Там все было больше крестьянство. Казалось бы, что по крестьянскому делу должно быть согласие. Но однажды вышел спор, и из-за чего? Вы знаете, конечно, что на серпе, которым жнут, есть зубчики. Спор возник из-за того, куда эти зубчики наклонены: к ручке серпа или в обратную сторону. В этом споре приняло участие около четырехсот человек, и они пришли в такое неистовство, что страже пришлось разнимать их оружием. Не стреляли, но прикладами били и штыками угрожали. Сектанты тоже очень азартные. А в общем были люди плохие и были хорошие…
* * *
Тут я должен вернуться к Коле. Перед тем, как его к нам привели, мы уже полтора месяца не получали газет, которые перед этим нам аккуратно давали каждый день. Кто мог, читал их. Мой друг, австрийский немец, переводил остальным. Он не говорил по-русски свободно, но текст переводил сразу.
Однако для многих было загадочно, почему однажды в течение целой минуты гудели фабричные сирены и вообще все гудки города. Это было торжественно-мрачно. Когда пришел Коля, он стал что-то рассказывать и сказал, между прочим, спокойно:
— Когда Сталин умер…
Тут все бросились к нему: «Как?! Умер Сталин?»
— А вы не знали?
— Нет.
В дневнике, который я вел тогда, я записал сон, который мне приснился на пятое марта. Пал великолепный конь, пал на задние ноги, опираясь передними о землю, которую он залил кровью. Я объяснил себе этот сон в связи с убийством Александра II 1 (13) марта 1881 года. Теперь ясно, что это относилось к Сталину. Это событие и на нас отразилось очень серьезно.
В нашей камере был один японец, который прекрасно говорил по-русски, но сумел скрыть это от начальства. Наши вертухаи (надсмотрщики) думали, что он ничего не понимает, и говорили при нем между собою откровенно. Через него от них мы узнали, что будут большие перемены. Перемены и случились. Отношение к заключенным стало гораздо мягче. И тут можно было понять, что эти люди были строги и придирчивы не по собственному желанию, а по должности. Этого требовали сверху. Вспомнил я и любимую поговорку Врангеля: «Рыба с головы портится».
* * *
Потом мне вспоминается, как однажды брат Михаил, неизвестно по какой причине, затеял со мной разговор, меня удививший.
— Когда вас позовут…
— Куда позовут? — перебил я.
Он поправился:
— Когда вас призовут…
— Как это призовут?
— К власти призовут.
Я понял и сказал:
— Никто меня не призовет, а если бы позвали…
— То что?
— То я откажусь.
— А почему?
— Потому что я не годен к власти.
— Почему? — удивился он.
— Потому что всякой власти придется лить кровь. Если и раньше это было мне трудно, то теперь я к этому не способен совсем.
Он помолчал, затем проговорил:
— Именно поэтому вас и позовут.
— Как это так?
— Кровь прольют другие. Вас позовут тогда, когда не нужно будет крови.
Я привожу запомнившийся мне разговор потому, что, кроме всего прочего, наш «святой», совершенно неграмотный человек, обнаруживал большую проницательность в том смысле, как потекут дальнейшие события. После крутого поворота опять кровь. И затем власть, которая приведет страну в состояние более или менее нормальное и мирное.
Маятник никогда не останавливается сразу, а только после многих качаний. Влево, вправо, опять влево и снова вправо…
* * *
Несколько слов о питании и гигиене во Владимирской тюрьме. Мы по-прежнему голодали. На жалобы отвечали различно. Один начальник тюрьмы сказал прямо: «И надо, чтобы вы голодали. Тюрьма не курорт. Надо, чтобы, когда вас выпустят, вы боялись в нее вернуться». Другой начальник тюрьмы заявил примерно так: «Я еще не видел ни одного сытого заключенного. Да разве может быть иначе? Вам полагается тринадцать граммов жиров в сутки. Это слишком мало».
Это так и было. По-видимому, сытость дают жиры. В смысле калорий пайка в пятьсот или пятьсот пятьдесят граммов черного хлеба достаточна, чтобы быть сытым.
С этой пайкой происходили иногда невероятные нелепости. Обычно съедали все сейчас же по ее получении. Но некоторые хвастались, что они съедали пайку в несколько мгновений. Это было вредно. А были и такие, что день пайку совсем не ели, а на второй день съедали две пайки, и как можно скорее. Это было еще вреднее. Но они отвечали: «Хоть в два дня, но все-таки наемся досыта».
Я лично после болезни потерял настоящий аппетит и не доедал пайки, никогда не просил прибавки (иногда прибавка бывала) и даже не доедал кашу.
Обычный обед состоял из супа, всегда жидкого, и каши. Бывал иногда картофель, который немцы тоже называли кашей.
Несколько слов о гигиене. Клопов не было совсем. Купание каждые десять дней соблюдалось аккуратно. Купание состояло в душах. Вода падала с достаточной высоты, струя была сильная. Температура регулировалась где-то в другом помещении под всеобщие крики: «Горячо!» или «Холодно!» Обыкновенно было достаточно тепло и много пару. В этом тумане голые фигуры принимали какие-то странные очертания. Когда же под душем были калеки без рук или ног, это выглядело зловеще.
Хотя в тюрьме петь не разрешалось, но под душем, под аккомпанемент бегущей воды, дозволялось. Откуда-то появлялся голос, и я заливался:
— Кто ту песню слы-ы-ы,
Ту песню слы-ышит,
Все позабыва-а-а, позабыва-ает…
Все не все, но кое-что.
После купания выдавали чистое белье. Иногда бывали стычки с бельевой сестрой. Одна была красивая и потому дерзкая. Она однажды дала мне белье до того узкое и маленькое, что я не мог его одеть. При этом добавила:
— Другого нет.
Я ответил:
— Нет? Так это оставь себе. Мы не гордые, обойдемся и без белья.
Но за это ей бы влетело. Она принесла белье по моему росту, сказав при этом:
— Вот тебе. Укроти свой гонор.
— Гонор уменьшу, а ноги отрезать не могу.
В общем, купальный день был вроде как праздничный.
* * *
Развлечением для некоторых было записываться к врачу. Это сопровождалось переходом в другое здание, что несколько разнообразило нашу жизнь. Однако это применялось в редких случаях, потому что врачи обходили все камеры два раза в неделю. Это было просто роскошью. Ну кто вне тюрьмы может позволить себе удовольствие восемь раз в месяц подвергаться медицинскому осмотру?
Кроме случая, когда я болел три месяца, я не обременял врачей. Они это ценили и говорили: «Шульгин держится физкультурой. Так и надо». В мою физкультуру входили йогические упражнения, о чем врачи не знали. Дело было только плохо с зубами. Была большая очередь на протезы. Я два года ждал, пока наконец их сделали. Но сделали хорошо, они мне долго служили.
* * *
Как я уже говорил выше, серьезно болел я только раз. В марте была гололедица, и я упал, больно ударившись левой стороной тела, которую сильно расшиб. К этому прибавилось нечто непонятное: рвота, температура. Левая нога укоротилась и не то что болела, а нестерпимо тянула. Кроме того, я совершенно перестал есть. Меня перевели в больницу. Я сидел вдвоем в камере и все отдавал товарищу по камере.
Когда меня в первый раз осматривал врач, она иголками оскультировала ногу на предмет чувствительности. Я спросил ее:
— Антонов огонь?
— Нет, — ответила она, — это не гангрена.
Но что же это было такое, определить не смогли. Однако лечить принялись энергично. Сначала для ноги делались горячие ванны. Это не помогло. Ее продолжало нестерпимо тянуть. Спать я не мог и всю ночь ковылял по тесной камере. Надсмотрщик, который, как всегда, периодически смотрел в глазок, в конце концов не выдерживал и вызывал сестру. Она давала мне морфий, и я засыпал. Но на седьмой раз я отказался от этого, так как не хотел стать морфинистом.
Просто горячие ванны не помогали, поэтому стали применять электролиз. Горячие ванны остались, но одновременно мне надевали какой-то пояс и пускали ток. На стене висел прибор, регистрирующий, по-видимому, силу тока. Постепенно мой ток довели до трех с половиной ампер (предельный по прибору составлял четыре). На этом уровне жгло сильно. Однажды сестра обо мне забыла, а потом прибежала и закричала:
— Жареным мясом пахнет!
Это было, конечно, преувеличение, но в конце концов на двадцать пятом сеансе болезнь уступила. Врач, молоденькая и красивая женщина, сильно «наштукатуренная», искренне обрадовалась. Она каждый день спрашивала меня:
— Ну как, вам легче?
Я неизменно отвечал:
— Трудно сказать. Как будто лучше.
— Когда же будет без «как будто»?
И наконец я сказал:
— Просто лучше. Без «как будто».
Ногу перестало тянуть. Нога стала приближаться к нормальной длине, и я перестал хромать. Стал опять спать. Аппетит появился, но уже никогда во всю мою последующую жизнь не вернулся к прежнему. Во всяком случае, после трех месяцев лечения меня вернули в обычную камеру, но там было всего пять человек, совершенно новых и мне не знакомых.
Один был военный, старик с одной ногой. Другой — офицер средних лет, страдавший радикулитом. Он отличался феноменальной памятью, знал по фамилиям бесчисленное множество русских офицеров. Фамилия его была Кузмин-Караваев. Фамилия старая, новгородская. Были они Кузмины, но когда после очередного раздела Новгорода Москвой некий боярин Иван Кузмин встретил представителей Москвы с хлебом-солью, то к фамилии Кузмин прибавили прозвище «Короваев», ставшее со временем частью фамилии и преобразившееся в «Караваев». Мой сокамерник Кузмин-Караваев после революции жил в Финляндии и оттуда был доставлен в Россию после окончания войны.
И был там человек, которого забыть трудно. Он был еврей по фамилии Дубин. Этот еврей, высокий, худой и сохранивший бороду (что тоже бывало нечасто), немедленно после побудки и обязательного посещения уборной становился на молитву. Это был второй Михаил, но только «отец», который тоже весь день молился. Но Дубин, кроме того, в течение целого дня ничего не ел и не садился, потому что он молился стоя. Он не умел молиться тихо, про себя, а все время что-то бормотал. Иногда это бормотание переходило в плач. Он плакал так, что этому трудно поверить. На полу от слез образовывались лужицы. Сначала на это трудно было смотреть, но потом я привык. Через некоторое время он сказал мне:
— Вы меня не знаете, но я вас хорошо знаю. Какой еврей не знает Шульгина, члена Государственной Думы? Я тоже был пятнадцать лет членом парламента в Риге. Кроме того, я стоял во главе лесных промыслов, и у меня работало четыре тысячи рабочих.
Я спросил его:
— Отчего вы так горько плачете?
Он покачал головой:
— У нас есть такие молитвы, когда положено плакать. Кроме того, у меня было около ста родственников. Все убиты немцами. Только одну сестру мою я сохранил. Она живет в Москве и помогает мне. Но особенно я плачу вот почему. У меня была мать, старенькая. Я старался каждый день у нее бывать. Но вы сами знаете, как парламент и дела отнимают много времени. Надо заботиться о своих рабочих, так как они были в основном русские, и я не хотел, чтобы они устроили еврейский погром. И поэтому бывали дни, когда я не заезжал к матери. Вот теперь я об этом плачу. Как мог я это делать! Ведь она меня ждала. Теперь ее нет. Слава Богу, она умерла до немцев. Я спасся, потому что вместе с сестрой бежал на восток, в Москву. Но меня все-таки арестовали. Я правоверный еврей.
Позже я узнал, что Дубин не только правоверный иудей, но и весьма уважаем религиозными евреями далеко за пределами Риги.
* * *
Простояв на молитве целый день, он вечером садился за стол, за которым больше никого не было. Это было потому, что правоверный еврей не может вкушать пищу с неевреями. Вечером он съедал свою пайку, пил чай. Не помню, ел ли он обед. Кажется, нет. Но в шаббат, то есть в пятницу вечером, он ел рыбу, которую можно было покупать в ларьке. По закону в шаббат надо есть лучше. С первых же дней он предложил мне, что будет покупать для меня в ларьке белый хлеб и сахар. Я отказался. Он спросил меня:
— Почему?
— Мы еще очень мало знакомы. Принимать такую помощь я могу только от друзей.
Он сказал:
— А я вам говорю, что вы возьмете. Слушайте, я вам уже говорил, что немцы вырезали всю мою родню, и не знаю, сколько еще миллионов евреев. Сейчас в этой камере немцев нет. Но где я был раньше, там их было много. Быть может, эти, что были со мною, и не убивали евреев, но все же это немцы. И я долго не мог себя пересилить. Однако в Писании сказано: «Голодного накорми». Не сказано в Писании, что немцев не накорми. А они голодали. И я стал их кормить. И вы возьмете мой хлеб. Вы не захотите так меня обидеть.
Я сказал:
— Давайте. Я возьму ваш хлеб.
И так потекли дни. Дубин молился и плакал. Я привык как к тому, так и к другому.
Теперь я не знаю, что с ним. Вряд ли он поехал в Израиль. Он говорил: «Они не евреи. Евреи веруют в Бога, а эти не веруют. И храма Соломонова они не восстанавливают».
Я ему не сказал, но подумал: «Нельзя восстанавливать храм Соломона. Восстановить его — это значит восстановить кровавые жертвоприношения. Пусть там убивают лишь овец и быков, но все же это кровь. Это невыносимо для современного человека. Современный человек легко переносит бойни, где убивают миллионы животных. Но убивают для еды, а не для того, чтобы насытить кровожадного Яхве».
Этот Дубин обладал, конечно, сильной волею. Иногда эта сила проявлялась в бессилии, как это часто бывает с женщинами. Однажды банный день совпал с субботой, когда по еврейскому закону нельзя мыться. Дубин отказался идти в баню. Но баня обязательна. Поэтому надзиратель сказал ему, что поведут его силой. Как ответил Дубин? По-женски. Он стал рыдать. И грубая мужская сила уступила. Сказав «черт с тобой», надзиратель оставил его в покое.
Замечательно еще то, что у него в тюрьме была библиотека из двадцати религиозных книг на еврейском языке. Они хранились в общей библиотеке, а ему выдавали по мере надобности тот или иной том. Этого не мог бы позволить себе никто другой. Если бы у меня конфисковали Евангелие, которого у меня не было, то ни в коем случае не выдали бы по моей просьбе. Я бы не смог их убедить. Но такой Дубин, который целый день молился и плакал, произнося слова, написанные в этой книге, не входил ни в какие рамки. Он импонировал. Он гипнотизировал. И его уважали, несмотря ни на что.
То же самое наблюдение я сделал гораздо раньше, еще в двадцать пятом году. Не уважали обыкновенных христиан, но уважали раскольников, чувствуя силу их веры. И потому недаром говорится, что вера горами движет.
* * *
В этой камере произошел со мною небольшой инцидент. Там было тесно, и потому я, чтобы не мешать старику с протезом, садился обедать не за стол, а на какое-то возвышение, которое там почему-то было. Вошел надзиратель, еще почти совсем мальчишка, какой-то придурковатый и которого почему-то называли «Астрономом», и сказал мне наставительно:
— Обедают за столом.
— За столом тесно.
Он повторил тем же «астрономическим» тоном:
— Обедают за столом.
Нервы в тюрьме легко расстраиваются. Я швырнул тарелку с кашей на стол и сказал:
— Можно и не обедать.
Этим я совершил проступок, хорошо в тюрьме известный и канонизированный. Это называется «швыряться тарелками».
«Астроном» вышел, и через несколько минут пришел старший.
— Шульгин, вы швыряетесь тарелками.
— Да, швырнул.
— Швыряться тарелками нельзя. Вы читаете книги из библиотеки?
— Читаю.
— Так вот, целую неделю вы их не будете читать.
Старший этим дипломатично вышел из положения. Тарелками швыряться нельзя, за это надо наказывать. Сказать по правде, я и не читал. В этой камере было темновато для чтения. Я ответил старшему:
— Не буду.
И волки сыты, и овцы целы.
* * *
Я не читал, но я писал. Это не было запрещено. Я написал в этой камере несколько стихотворений. Между прочим, о моей первой жене Кате. Эти стихи прочел Кузмин-Караваев. Они ему не то чтобы понравились, а произвели впечатление. В них рассказывалось о ее трагической кончине.
* * *
Надо еще сказать несколько слов о прогулках. Прогулки были обязательны. На Лубянке они ограничивались двадцатью минутами в сутки. Здесь же гуляли два раза в день по часу. Почти все заключенные эти прогулки ценили, но я иногда в большие морозы отлынивал. Меня, ввиду моего возраста, не принуждали.
* * *
Вспоминаю еще историю с моей «голодовкой». Одно время я очень ослабел и после обеда мне нестерпимо хотелось спать, но лежать не позволялось. Мне необходимо было завязать голову чем-нибудь теплым, чтобы прекратить отлив крови. И это запрещалось. Тогда я придумал очень странный метод борьбы. В один прекрасный день я отказался взять пайку. Через три дня это заметили.
— Вы что ж, объявили голодовку?
— Нет, просто не хочу есть.
Надо сказать, что голодовки запрещались. Обычно голодающих кормили насильно, что было сильным мучением, так как засовывали кишку в рот и лили бурду из жидкого хлеба. Поэтому я не объявлял голодовки. Но как-то и кто-то донес начальству, что с Шульгиным что-то неладно. Пришел майор. Спросил:
— Кто тут болен? Вы, Шульгин?
Я объяснил
суть дела.
— Мне надо голову завязывать полотенцем, но этого не разрешают, — закончил я свое объяснение.
Он сказал:
— Голову полотенцем завязывать нельзя.
— Так как же быть?
— Шапку наденьте, если голова мерзнет.
— А шапку можно?
— Можно с особого разрешения. И вот я вам разрешаю.
Это был удивительный отказ от священных правил тюрьмы — разрешить заключенному сидеть в шапке. Но с тех пор, как мне это было разрешено, было навсегда твердо установлено: Шульгин может сидеть в шапке. Однако не за обедом. Это, конечно, было совершенно правильно. Но однажды я забыл снять шапку, когда принесли обед. Раскрылась кормушка, и старший поманил меня пальцем. Я подошел.
— Разве хорошо, Шульгин, обедать в шапке?
— Нет, не хорошо. Но я просто забыл снять. — Затем прибавил: — Обедать в шапке неприлично. Почему? Прежде всего потому, что в комнате икона есть. А где у вас иконы?
Он ответил мне тихонько, чтобы никто не слышал:
— Икона должна быть в сердце у вас, Шульгин.
Да, «русский народ, — писала немка своему мужу, — если не относиться к нему с высокомерием, раскрывает свое истинное золотое сердце». К этому нечего прибавить.
* * *
Однажды к нам в камеру привели нового арестанта, японца средних лет. О нем пришла хорошая информация, поэтому я встретил его любезно, угостил белым хлебом, что было равнозначно пасхальному куличу, и стал с ним подолгу беседовать, благо он свободно говорил по-русски. Его отец был священником и в дореволюционные времена окончил Киевскую духовную академию. Это обещало дружбу. Но «homo proponit, Deus disponit»
[91]. Чисто русская пословица, как думают некоторые.
Мой друг Эрнст Максимович Креннер, который откуда-то и получил о нем хорошую информацию, впоследствии говорил: «Тяжелый психопат». Так оно и было.
В один далеко не прекрасный день, когда мы вернулись с прогулки, японец вдруг заявил:
— Кто-то трогал мой хлеб.
— Украли? — спросил кто-то.
— Нет, но я положил его так, а сейчас он лежит иначе.
Затем он стал развивать эту тему, бросая подозрение в общем на всю камеру, что хотя хлеб и не украли, но, несомненно, хотели украсть. При этом он добавлял:
— У меня есть вещественные доказательства — хлеб лежит не так, как я его положил.
Мне это, наконец, надоело, и я сказал ему серьезно:
— Вы бросаете подозрение на всех нас. Потрудитесь прекратить.
Но он не прекратил. И добился того, что ему объявили бойкот.
Наступили святки. Немцы очень трогательно празднуют сочельник. При этом каждый вспоминал своих близких, которые в это время собрались дома у елок. И Эрнст Максимович со слезами на глазах обратился к японцу:
— Во имя сегодняшнего святого вечера давайте помиримся.
И протянул ему руку. Но это на него не подействовало, и он продолжал свою пасквильную деятельность. И получил за это жестокое возмездие.
Появились в камере еще два лица. Один был венгерский цыган, другой — грек. Цыган сидел и за политику, и за грабеж, и за убийство. А грек был арестован при следующих обстоятельствах. Семнадцать греков укрылись в России, спасаясь от турецких зверств. Их поместили на юге. Они поработали немного и взбунтовались: их-де плохо кормят. Их арестовали и расшвыряли по разным тюрьмам. По разным потому, что, как выразился один начальник тюрьмы, «если их посадить вместе, то они тюрьму разнесут».
Что же произошло дальше? Цыган почему-то объединился с греком, а японец — с каким-то мадьяром, не ладившим с цыганом. И японец начал пакостить по-своему. Он цыгана называл «черным бараном» и в громких разговорах с мадьяром всячески над ним потешался и издевался. А грек, которого посадили рядом с японцем, когда немножко стал понимать по-русски, долго и внимательно слушал. И, наконец, как-то изрек:
— Ты зачем «баран» на него говоришь?
Японец ответил:
— Я дипломат, я никого не называю.
Тогда грек сказал ему наставительно:
— Ты грязный дипломат.
И ударил его так в ухо, что «дипломат» покатился. И тут началось. Его бил то грек, то «баран». Били жестоко. Затем заставили его выполнять всякие работы: мыть пол и свои собственные ноги, а они у него были в ранах. При этом грек и цыган приговаривали: «Потому и в ранах, что не моешь».
С каждым днем дело становилось хуже. Цыган зверел и душил японца за горло. Но этого не позволил Бастамов. Это был человек высокого роста с большими кулаками. Он пригрозил цыгану: «За горло не смеешь!» Но на прогулке однажды цыган ударил японца тяжелым башмаком с размаха в зад так, что образовался черный синяк. Это случилось еще и потому, что Бастамов тоже рассердился на японца. В этом я был виноват.
Мы гуляли во дворике, как всегда. Японец бегал вдоль стен и что-то напевал. И вдруг я понял, что он делает. Он перемешивал шансонетки с русским национальным гимном. Например, так:
— За-а-а красу я получила первый приз,
Уважа-ают все мужчины мой каприз.
И затем:
И потом:
— Мой мальчишка не зевал,
Меня дочиста обобрал.
Я не печалилась о том,
Сошлася я с другим купцом.
И так как я была мила,
То я его обобрала…
И снова:
— Сильный, державный, царствуй на славу нам,
Царь православный…
Потом опять шансонетки и опять «Боже, царя храни». Все это он выделывал, нахально на меня посматривая. Я сказал Бастамову:
— Не подавая виду, прислушайтесь к тому, что он поет.
Бастамов не был таким уж пылким монархистом. Его отец был офицером царской армии, но сын уже считался финским подданным и имел офицерское звание в финской армии. А кроме того, он разделял недовольство финнов Николаем II. Но гнусности японца ему не понравились. Он остановил его и сказал:
— Что это вы делаете, господин дипломат? Вам мало, что вас душит «баран»? Я душить вас не буду, но…
И он сжал свои громадные кулаки. Японец понял, перестал хамить, но злобу против меня затаил.
Я спал по ночам беспокойно. Возможно, из-за этого с меня сползало одеяло. Японец стал указывать на меня и кричать: «Смотрите, Ной!»
Я сказал ему:
— За то, что вы позволяете себе делать, придет день, когда вашу физиономию превратят в кровавую котлету.
Увы, это пророчество исполнилось в буквальном смысле. Страсти накалялись. Бастамов перестал защищать японца. Его били теперь зверски. Мне удалось, заклиная грека своею белой бородой, упросить его так не избивать японца. Грек, конечно, был зверь. Но он был зверь до известной степени справедливый, и на него можно было подействовать. Временно положение смягчилось. Но «тяжелый психопат» опять что-то устроил, и дело пошло к развязке. В один из дней я понял, что грек и «баран» собираются этой ночью убить японца. Или, как говорилось на тюремном языке, избить его так, что его вынесут вперед ногами.
Тогда я сорвался с нарезов. Я подошел к двери и тяжелым сапогом стал бить так, что грохот пошел по всей тюрьме. Кормушка сейчас же раскрылась:
— Шульгин, что такое?! Вы с ума сошли!
— Да, я сошел с ума. Немедленно уведите японца.
Кормушка закрылась. Через некоторое время открылась дверь:
— Шульгин, к дежурному офицеру!
Повели к дежурному. Я сказал ему:
— Сегодня ночью может быть убийство. Уведите японца.
Дежурный подал мне перо и бумагу:
— Напишите заявление.
На восьми страницах я изложил суть дела (ведь писатель же я, наконец, черт возьми): устно я предупреждал всех, и начальника тюрьмы в том числе, что обострение вражды приведет к фатальному исходу, но меня не послушались, и теперь может случиться беда.
Дежурный прочел все очень внимательно и сказал:
— К сожалению, я не имею права перевести японца в другую камеру сейчас же. Но обещаю вам, что завтра это будет сделано.
Придя обратно в свою камеру, я обратился к греку:
— Завтра японца здесь не будет. Оставьте его в покое.
И действительно, на следующий день открылась дверь и раздался голос:
— На «Ле» — с вещами!
Японец вскочил и перекрестился. И прежде чем собрать вещи, обошел всех и, протягивая руку, говорил:
— Простите.
Его прощали, в том числе и «баран», и грек. Я оказался злее всех. Я сказал:
— Бог простит.
Но руки его не принял. Значит, не простил.
* * *
Теперь о другом японце. Это было в другой камере, где нас было совсем мало. Однажды к нам ввели пожилого, очень тихого человека, хотя, как оказалось при знакомстве, и японского генерала. Он очень плохо справлялся с русским языком, но все-таки объяснил мне, что он по религии буддист и что как только вернется на родину, то выйдет в отставку и будет священником.
Между прочим, он был хиромантом. Рассмотрев мою руку, он сказал, что только в книгах видел такие линии. И предсказал мне какую-то необычайную будущность, во что я не поверил. Впрочем, и тогда я знал, что сам мало значу в своей судьбе и не являюсь ее «кузнецом». Она у меня предопределена под знаком зрелой кармы.
Зрелая карма — это то, что не может быть предотвращено человеком. Незрелая карма — это когда человек может повернуть колесо фортуны.
Постепенно я лучше начал понимать русский язык будущего буддийского монаха. И, наконец, то, что он силился мне объяснить, было обточено короткою, но выразительною фразою:
— Япония разбита. Не надо мстить.
Это он начал постоянно повторять при наших дальнейших беседах.
* * *
Позже, по аналогии с законами земного притяжения, я стал рассуждать, что этот японец уже обладает такой скоростью, что может выйти за свою орбиту. Например, при скорости восемь километров в секунду этого сделать нельзя. Но при большей человек может освободиться от земного притяжения и направиться в космос.
Если бы этот японский генерал остался при желании мстить, иначе сказать, мечтал бы о реванше, то он был бы рабом земли. Победив мстительное притяжение, он может идти в небо.
* * *
Третий японец — тоже генерал. Но, в противоположность буддисту, был тем, что называется по-французски «terre à terre»
[92]. Во время пребывания с нами в камере его главная забота состояла в том, чтобы починить свои желтые сапоги. Потому что японский генерал не может ходить со стоптанным каблуком. Он был добродушен и, видимо, когда-то оказывал покровительство русским где-то в Маньчжурии. Он рассказывал, что у него были ордена всех стран мира, потому что он всюду был военным агентом (атташе). В своем военном деле, может быть, он и был сведущим специалистом, но его общее образование было низким. Он не знал названий столиц многих государств, по-французски говорил весьма слабо.
Этот последний генерал захотел пополнить свой французский словарь, а потому мы вместе с ним стали читать роман Жюль Верна «Таинственный остров» на французском языке. При этом обнаружилось его невежество в самых обыкновенных вещах.
* * *
Четвертым японцем был какой-то консул. В тюрьме он страдал желудком. Мне давали в это время белые сухари, хотя я в них не особенно нуждался. Я стал подкармливать его ими. Он захотел меня отблагодарить и сделал это в очень оригинальной форме.
В тюрьме очень много играли в шахматы. Лично я не имею способностей к этой игре, но все же немного играл. Был я, кажется, предпоследним в турнирах. Шахматисты сходили с ума и требовали, чтобы все играли, организуя целые соревнования. Ну, и выпало мне как-то играть с этим японцем, который играл очень хорошо. Но он проиграл мне и, конечно, проиграл сознательно, чтобы доставить мне удовольствие. Но сделал это так хитро, что никак нельзя было установить, что он играет в поддавки.
* * *
И, наконец, пятый японец. О нем я уже раньше упоминал — он притворялся, что не понимает по-русски, хотя владел им отлично. По профессии был часовщиком. Но есть мнение, что все японцы шпионы Божьей милостью. И этот, по-видимому, где-то шпионил. Вместе с тем, он отличался хорошими способностями: обладал тонким музыкальным слухом и актерскими дарованиями. Он разыгрывал у нас в камере японские комедии, и мы хохотали до упаду, хотя ни слова не понимали по-японски.
* * *
Но на нем перечень японцев, с которыми я побывал во Владимирской тюрьме, не кончается. Помню еще одного. Он был очень симпатичным человеком, и я в нем не разочаровался. Им, между прочим, были переведены на японский язык две книги одного русского писателя — «Маньчжурские рассказы» и «Великий Ван» (Мистический тигр). Эти книги были о Маньчжурии еще до русско-японской войны 1904–1905 годов.
Этот японец был настоящий дипломат, а не «грязный». Но это не мешало ему быть веселым и добродушным товарищем по камере. Он развлекал нас тем, что без всяких словесных объяснений представлял любого из нас посредством жестикуляции. Меня, например, он изображал делающим физкультуру одновременно руками и ногами. Все узнали меня.
Он был образованным человеком и познакомил меня со следующим потрясшим меня заявлением: «Для среднего образования достаточно знать пять-шесть тысяч знаков, но чтобы читать все книги, необходимо знать тридцать тысяч знаков».
* * *
Одновременно с этим молодым японцем был у нас в камере старик китаец. Японцы и китайцы, когда говорят, не понимают друг друга. Словарь у них разный. Но они сейчас же хватаются за карандаши и начинают писать. И тогда понимают. Это происходит оттого, что иероглифы представляют не слова, а сами предметы. Например, слово «лошадь» может быть произносимо на китайском и японском языках по-разному, а написание их одинаково.
Этот молодой японец и старый китаец переписывались, сидя за одним столом. Но кончилось это тем, что за этим же столом бедный китаец внезапно умер. Пообедав, он упал на койку, и его не стало.
* * *
Вспоминаю еще один случай во время моего пребывания на Лубянке.
Открылась дверь камеры, и раздался голос:
— На «Ше», к врачу!
Врач оказался молодой женщиной, красивой и накрашенной. Она добросовестно меня оскультировала, выстукивала. Наконец спросила:
— У вас был сифилис?
— Никаких венерических болезней не было никогда.
— Значит, вы пили, — авторитетно заявила она.
— Абстинент.
Она не поняла.
— Трезвенник, — пояснил я.
— В таком случае я не знаю, что у вас такое. Почему у вас сердце такое вялое?
— Работа, — как само собой разумеющееся объяснил я.
— Вы? Работали? — Брови ее удивленно вздернулись.
— В Государственной Думе десять лет.
— Эт-то не работа, — авторитетно отчеканила она.
— Вы думаете, что Государственная Дума — это то же, что и Верховный Совет? Так это не так, смею вас заверить. В Государственной Думе была тяжелая работа, и все на нервах.
Она ничего не ответила. Вряд ли она что-нибудь знала о Государственной Думе. Тогда я обратился к ней:
— Я очень давно уже ношу суспензорий, но здесь его у меня отняли. Это меня ослабляет. Нельзя ли его вернуть?
— Подумаю, — нагловато смотря на меня, ответила она.
Отвели обратно. Через несколько дней пришел «вертухай» (тюремный надзиратель; называли его так потому, что вертит ключом).
— На «Ше», вот вам лекарство, — и он сунул мне бумажку с какими-то порошками.
— Да ведь это что-то не то.
— Это то, что вам надо, — резко ответил вертухай и, уходя, пробурчал: — Контра проклятая.
Я развернул бумажку. В ней оказались дрожжи. Дрожжи вместо суспензория? Конечно. Отсутствие суспензория, по моему же заявлению, меня расслабляет. Но суспензорий вернуть нельзя, потому что он представляет из себя тесьму, далеко превышающую положенную длину. Но почему же нельзя иметь длинную тесьму? Потому что на такой длинной тесьме заключенный может повеситься. Казалось бы, ну и пусть вешается, зачем так дорожить его жизнью. Но, во-первых, самоубийство запрещено, вот и все. А во-вторых, он может повеситься оттого, что не желает открывать какие-нибудь тайны. Такова логика тюремщиков.
* * *
Еще одна смерть в камере. Моим соседом по койке был добродушный не то латыш, не то эстонец. Жена посылала ему передачи, которыми он делился с сокамерниками. Как-то вечером он поел, а в три часа утра я услышал его крик. Вскочил, но сделать ничего не успел — он умер через несколько минут. Вскоре унесли.
И третья смерть. В одной из камер со мною сидел немецкий генерал, человек во всех отношениях очень симпатичный и образованный. Он прекрасно и красиво говорил по-немецки. Я спросил его, откуда у него такой красивый говор. Он ответил:
— Только не с моей родины. У нас плохо говорят. Я говорю на языке, которому научился уже взрослым. Им говорят на сцене, на нем пишут книги, статьи, — в общем, это литературный язык.
Он жаловался на сердце. И как-то ночью застонал. Я подошел к нему. Он молчал, но я увидел, что ему плохо. Через кормушку вызвал медсестру. Она спросила, не входя в камеру:
— Пульс?
Я подошел к генералу, стал искать пульс и ответил:
— Пульса нет.
Засуетились. Дверь открыли, и его вынесли. Больше мы его уже не увидели.
* * *
Было еще трое, которых мы все называли «три богатыря». Они, когда мы гуляли, всегда держались как-то втроем. Один был академиком медицины по фамилии, насколько помню, Панов, другой был профессор военной академии имени Фрунзе, Либерман, и третий — Карташов, в прошлом адвокат, а у нас известный тем, что сидел в немецкой тюрьме, а после войны попал сюда.
Что же случилось с этими «тремя богатырями»? Они всегда требовали, чтобы фрамуги были открыты. Панов получил воспаление легких, Либерман — плеврит, а Карташов умер.
С Карташовым мы иногда менялись продуктами за обедом. Редко, но все же иногда давали половину крутого яйца. А кисель можно было купить в ларьке. Я давал Карташову яйцо, а он мне кисель, и оба были довольны.
Бедный Карташов. Он чем-то заболел, и его увели в больницу. Долго его не было, и мы о нем ничего не знали. Но потом поняли, что он скончался. Как поняли? Нам дали однажды половую тряпку, и мы ее узнали. Это был клетчатый джемпер Карташова. Тряпки были обычно из вещей покойников.
* * *
Были еще ошибочные покойники. Я думал, что Корнеев умер. А он то же самое обо мне. Когда нас освободили, через некоторое время мы встретились. Значит, на другом свете. Конечно, ведь свобода относительно тюрьмы — это другой мир. Тут уместно рассказать, что Корнеев выучил четыре тысячи строчек моих стихов на память. По тогдашним условиям он не мог взять их в письменном виде. Но до этого он сидел с одним немцем, который недурно понимал по-русски. Немец восхитился главой «Христос и Моисей», в которой эти два лица вели между собою спор. Он перевел ее на немецкий.
Впоследствии этот немец попал в нашу камеру. Как-то он мне сказал, что раньше сидел с одним русским, замечательным поэтом. И прочел мне переведенную на немецкий язык главу «Христос и Моисей», прибавив, что, как только его освободят, он опубликует ее в Германии. Не знаю, удалось ли ему это. Я не выдал тайну Корнеева, как и он не выдал меня. Почему-то считалось опасным мое творчество и говорилось, что эти стихи принадлежат Алексею Константиновичу Толстому, творчество которого мало знают.
Чтобы закончить этот эпизод, сообщаю, что поэма эта закончена. Она удлинена главами, написанными самостоятельно Корнеевым, а общее ее заглавие — «Божественная трагедия». Это в пику Данте, который, впрочем, свое произведение назвал просто «Комедией», а уж его поклонники приделали эпитет «Божественная».
* * *
Мои стихи в чтении Корнеева великолепны. Он сам себя опьяняет своим голосом и выразительностью. И поэтому возвел меня в ранг настоящего поэта. Но в чтении кого-нибудь другого почти ничего не остается, кроме мысли, с которой можно не соглашаться. Но в них проглядывает убежденная и самостоятельная оригинальность.
* * *
Нравы тюрьмы постоянно менялись в некоторых отношениях. Было время, когда передать из одной камеры в другую какое-нибудь литературное произведение почиталось безумной мечтой. И все же пришел день, когда я передал Даниилу Леонидовичу Андрееву, сыну известного писателя Леонида Андреева, мою поэму. Но не ту, которая была названа «Божественной трагедией», а о Крыме. Нечто, напоминающее казачьи думы. Произведение слабое. В нем рассказывается, как под рокот дождя, который стучал по кожаному капюшону князя Воронецкого, последний сочинил некую думу о Северине Наливайко.
Но Даниил Андреев, прочтя ее, написал мне: «Рифмы хороши, и в ней есть другие достоинства, но стих неимпозантен и не доходит». Что правда, то правда. Но вот что неправда. Я уже не помню, как Даниил Леонидович узнал о моем историческом романе «Приключения князя Воронецкого». То ли я ему рассказал, когда мы были с ним в одной камере, то ли каким-то другим способом, но, во всяком случае, он не читал этих приключений. Но он написал очень длинную рецензию, причем расхвалил. Писал приблизительно так: «Широко задуманное и прекрасно выполненное полотно мастера. Живо представлена эпоха…» и тому подобное.
* * *
И все это, то есть мои произведения и отзывы на них, беспрепятственно циркулировало между нашими камерами. Повеяло свободой, хотя для себя лично я в нее не верил. Но она пришла и для меня наконец.
Хрущев взял верх над остальными рабовладельцами и стал освобождать немцев и русских.
* * *
Даниил Леонидович Андреев был много моложе меня и сидел за роман, который не был напечатан, но который он читал своим друзьям. В нем было изображено какое-то будущее, сильно отличавшееся от настоящего. Этого было достаточно. Было арестовано человек тридцать, в том числе и жена Андреева, Алла Александровна. Она просидела несколько меньше его. Немедленно после освобождения она стала вытаскивать мужа. Благодаря ли ее усилиям или потому, что ему кончался срок (он был осужден всего на десять лет), Даниил Леонидович вышел на свободу вскоре после меня. Увы, слишком поздно.
* * *
Отчасти он сам был в этом виноват. В тюрьме он вел совершенно нездоровую жизнь. Курил непрерывно и начинал играть в шахматы еще до побудки, а кончал с отбоем. В результате он получил сильнейшее расширение сердца. Алла Александровна ухаживала за ним очень самоотверженно, но допустила одну ошибку: повезла его на юг, в так называемый Горячий Ключ. Это его доконало. Пришлось бежать оттуда. Но и московский воздух уже не мог его спасти.
Перед смертью он прислал мне отпечатанные на машинке свои стихотворения, нигде не напечатанные и очень мистические. Их понимать весьма трудно.
* * *
Было время, когда в числе воображаемых преступлений оказалось и так называемое «Ленинградское дело». Некоторые из этих ленинградцев попали к нам во Владимирскую тюрьму. В числе их был и бывший главный агроном Ленинградской области Таиров. Это был очень симпатичный человек, фанатик своего дела, посадивший многие тысячи фруктовых деревьев и абсолютно не причастный к политике. Он рассказывал мне:
— Я так был далек от всего этого. Я знал, конечно, что кого-то судят, сажают в тюрьмы, но я думал, что это настоящие преступники, уголовники, шпионы и что ко мне это никакого отношения не имело. Вдруг, хлоп. Схватили, следствие. Оказалось, что я крамольник, который замыслил свержение Москвы, возвращение власти в Ленинград и другие какие-то несообразности. И двадцать пять лет.
Слушая его, я думал: «Ну до чего же все это нелепо. Понимаю, я сижу. Так я же знаю, за что сижу. Но вот передо мною политический младенец. Но у него открылись глаза. И несмотря на все его добродушие, он станет, он должен будет стать если не врагом, то противником».
* * *
Однажды привели какого-то Клепикова. Он был, по-видимому, каким-то спекулянтом. И с немцами затевал всякие жульничества. В конце концов, дело было не в этом, а в том, что это был хулиган отчаянный. Первое столкновение у меня с ним было в таком роде:
— Ну, как же вы это, с Николашкой?
Я понял и ответил:
— Если бы вы звались Николаем, то вы были бы Николашкой. А тот, о ком вы говорите, — это его императорское величество Николай Второй.
Он это перенес, но, конечно, с ним никакой дружбы выйти не могло.
А был он вообще-то человек способный. Нас оставляли чистить алюминиевые тарелки. Требовали, чтобы они блестели. Кипяток был, и тряпочки доставали, но натереть тарелку, чтобы она сияла, все же было трудно. У Клепикова же тарелка сверкала не то что как луна, а как серебряное солнце, если бы такое только могло быть. Можно было подумать, что она чище моей. Ничуть. Почему же она горела? Потому что Клепиков достал иголку и ею вырезал на тарелке спиралью невидимые для глаз линии. Они и давали такой блеск. Надзиратели ставили его всем в пример. А Клепиков был очень честолюбив. Хотя бы в этом он хотел быть первым.
Он был музыкален и свистел лучше всякой флейты. Только потихоньку, так как любой громкий звук был запрещен.
Был у него еще талант. Он не был профессиональным боксером, но драться мог.
* * *
Однажды произошла возмутительная сцена. Был у нас в камере немецкий журналист, человек физически слабый. Сидел неизвестно за что. Он был из Франкфурта-на-Майне, города, оппозиционного гитлеровскому режиму. Когда мы не гуляли и не ели, он всегда смирненько сидел на своем месте.
Как-то Клепиков подошел к нему, повернулся своей задницей к его лицу и сделал гадость. Бедный немец, естественно, возмутился. В то же мгновение Клепиков ударил его так, что кровь хлынула из носа. Поднялся скандал, прибежал врач. Но, в общем, Клепикова оставили в камере.
* * *
В этой камере были все сплошь немцы и только двое русских — я и Клепиков. Однажды пришел начальник тюрьмы. Клепиков попросил, чтобы его перевели отсюда, так как тут одни немцы. При этом присутствовала молодая женщина-врач. Она заметила:
— А Шульгин?
— Да, но Шульгин за Николашку.
Тогда она сказала, обращаясь ко всем:
— Шульгин настоящий русский, не то что Клепиков.
* * *
Меня все это удивляло и возмущало. Один хулиган терроризирует в камере двенадцать человек. Конечно, среди немцев было много стариков. Но были и молодые. Среди них был совсем молодой красавец. Это был простой моряк с островов, принадлежавших Германии, но расположенных вблизи Англии. Он был похож на принца из королевского дома. Были и другие, попроще, но и посильнее. Я сказал им:
— И вам не стыдно? Давайте побьем Клепикова так, чтобы он запомнил на всю жизнь.
— А вы будете драться? — спросили удивленные немцы.
— Буду. Но я один не могу.
— А мы не будем.
* * *
Англичане говорят, что у них, англичан, только потому что-то выходит, что порядочные люди у них так же энергичны, как и хулиганы. Видно, у русских и немцев не так. И вот почему, наверное, у нас были возможны джугашвили, а у них гитлеры.
* * *
Под этим было и еще нечто. Молодые немцы были правы, а старый русский — нет. Если бы немцы скопом избили русского, то стали бы говорить, что в русской тюрьме немецкое засилье. И в результате всем немцам в тюрьме стало бы хуже. А меня бы обвинили в «измене Родине», чего в списке моих преступлений до сих пор не числилось.
* * *
Интересно, чем все это кончилось. Клепикова, которого немцы называли «Хлебников», все-таки убрали и посадили в одиночку, чего он страшно боялся. Я три раза просил, чтобы меня посадили в одиночку, и мне каждый раз отказывали. А Клепиков боялся одиночества и получил его. Но потом вымолил, чтобы его вернули в камеру. И его привели обратно в эту же камеру. Я с ним опять встретился. Но это уже был другой Клепиков. Он размяк, как будто действительно был из хлеба.
* * *
В чем же было дело? Он говорил мне:
— Я не хулиган, я больной. Я душевнобольной. Вот, если утром я проснусь в хорошем настроении и, не дай Бог, начну свистеть, то я уже знаю, будет скандал: я кого-нибудь побью. Я болен!
И у него слезы были на глазах, когда он мне рассказывал это. Так что мы с ним вроде как бы подружились. Поняли друг друга.
* * *
Однажды я гулял во дворике в одиночестве. Почему это произошло, не помню. Но благодаря этому я смог услышать, как в соседнем дворике очень тихо, но достаточно правильно женский голос напевал серенаду Тозелли. Эта серенада широко известна в Западной Европе, а в Советской России тогда она была мало известна. Я подумал, что за стеной, должно быть, гуляет бывшая эмигрантка и дает о себе знать такому же бывшему эмигранту. Но вслед за этим разразился какой-то скандал, и этот же женский голос очень громко что-то кричал и возмущался. Я тогда ничего не понял. Разгадка пришла значительно позже, когда ко мне в камеру пришел Шалва, грузин, с которым мы и обитали в ней некоторое время вдвоем. Между прочим, он подал мне бумажку, видимо, давно скомканную в шарик. Шалва объяснил:
— Этот шарик бросили не вам, но о вас.
— Кому же его бросили?
— Бастамову. Он был с другой стороны. Читайте.
На мятом клочке бумаги было написано примерно следующее: «Извините, что я полюбила не вас. Мое сердце отдано старику. Через четыре месяца кончится мой срок, и я уеду в Киев устраивать нашу с ним судьбу».
Когда я прочитал, Шалва сказал:
— Этот старик — вы.
Я ответил, что я старик — это несомненно. Но также несомненно и то, что я этой дамы не знаю.
— Но она вас знает. Она из Киева, — пояснил Шалва. — А другой, кого она не успела полюбить, — это Бастамов.
Мы очень много смеялись, но кто была эта незнакомка, напевавшая серенаду Тозелли, я так никогда и не узнал.
* * *
Несколько слов об «австрийских шпионках» (так их называли). Я спал тогда рядом с одним немецким генералом-кавалеристом. Он был очень воспитанным и милым человеком. Как-то ночью мне пришлось его разбудить:
— Что такое? — спросил он.
— Вы ведь кавалерист, не правда ли?
— Да, но почему вы спрашиваете меня ночью?
— Потому что вам прислали кое-что на коне.
— Ничего не понимаю, — начал возмущаться генерал.
Конечно, и читатель ничего не понимает. На тюремном жаргоне «конь» — это веревка, обыкновенно сделанная из каких-нибудь платков или простыней, на которой можно спустить или поднять небольшую посылку, пролезающую через оконную решетку. Это средство сообщения заключенных, находящихся на разных этажах.
На этот раз спустили сверху дамскую шаль с записочкой, что она предназначена генералу такому-то. Я подал ему шаль, которой он несказанно обрадовался:
— От моей жены! Она здесь!
— По-видимому, над нами.
Бедный генерал заплакал. Затем прибавил:
— Она была в Сибири.
* * *
Теперь я могу приступить к рассказу об «австрийских шпионках». Их было семь. Была ли в их числе супруга генерала-кавалериста, не знаю. Но знаю, что все они были над нами. И узнали о нашем существовании. Они отличались великолепной энергией. Начали с «коня», передавшего генералу шаль его жены. Потом пошли любовные записки к молодым немцам и обратно. Завязались романы, причем в весьма эротическом вкусе. Но энергичные «шпионки» этим не удовольствовались. Им хотелось обнять этих «любовников», присылавших им на «коне» сладострастные излияния. Под одной из коек они начали делать подкоп, на чем их и поймали. На этом и кончились «конские» романы.
* * *
Одно из последних впечатлений — это о человеке с немецкой фамилией Пфефер, что значит по-русски «перец». Он ни слова не знал по-немецки. Наши камеры были в одном коридоре (я в это время сидел в одной камере с Шалвой). Поэтому у нас была одна уборная. В уборной он оставил записку, умоляя дать ему чаю. Он написал, что у него туберкулез желудка и что чай смягчает боли. У нас был чай из посылок. При очередном посещении туалета мы оставили ему пакетик. Он поблагодарил. И потом заложил в секретное место ученическую тетрадь, в которой описывал свою жизнь.
Когда ему было десять лет, он разбил футбольным мячом какое-то стекло. За это его посадили в тюрьму для малолетних. В ней он научился всему. В конце концов бежал и, наконец, кого-то убил. За это и сидел. Написано было не очень грамотно, но очень эмоционально. Мы с Шалвой его пожалели.
Скоро мы узнали, что никакого туберкулеза у него не было. Он был просто чайным алкоголиком. Заваривал невероятно крепкий чай — чифир, действовавший, как водка. Но это не поколебало наших добрых чувств к нему. И даже после того, как он напивался и на весь коридор ругался самыми похабными словами.
* * *
Когда уже меня освободили и я один в камере дожидался продолжения своей судьбы, то я написал этому Пфеферу сердцещипательное письмо: он молодой человек, вся жизнь впереди и перед ним, но он опять попадет обратно в тюрьму, если не исправится. И начертал ему программу. Надо развить волю, для чего перестать ругаться и пить крепкий чай. Если это ему удастся, остальное приложится, и он спасется.
Не знаю, передали ему мое письмо или нет. Но, думаю, даже если и передали, то он все-таки не спасся.
* * *
У заключенных развивается необычайная любовь ко всяким животным и птицам. Как это ни преследовали, потому что голуби пачкали окна, их все-таки кормили остатками хлеба насущного. Также и воробушков, жалко и нахально теснившихся среди голубей. Голуби опровергали свою кротость. Они дрались из-за хлеба, вскакивали друг другу на спину и колотили клювом в голову. Один из них был просто ужасен. Когда он появлялся (мы его уже очень хорошо знали — он был темнее других), все остальные голуби стушевывались перед ним безропотно. Мы называли его Насер, который в это время прославился своим нахальством на Суэцком канале. И мы не могли его прогнать, потому что улетал не он, а все остальные.
Часто на прогулках мы наблюдали различные сцены на небе. Голуби почти все были темно-сизые, но попадались и снежно-белые голубки, блиставшие на солнце. Вдруг появлялся копчик, хищная птица, но не больше голубя. И целая стая голубей бежала от него панически. Он бросался вниз камнем, но часто промахивался. Мы, конечно, сочувствовали голубям, хотя, судя по Насеру, и среди них было много дряни.
Нельзя было не любить воробьев. Надсмотрщики старались нас урезонить:
— Что вам эти воробьи? Их тут четыре штуки на всю тюрьму.
Но Шалва как-то ответил:
— Тридцать! Я подсчитал.
Я подумал: «Врут оба». И «быстрый разумом Ньютон» сложил тридцать и четыре, затем взял среднее арифметическое и с апломбом произнес:
— Их семнадцать.
И действительно, когда мы снова гуляли во дворике, прилетела стайка, расселась у стен, и Шалва должен был признать, что их семнадцать. Я торжествовал.
Но через некоторое время победил Шалва. На этот раз дело шло о спасении пчелы. Она залетела к нам в камеру и, обессиленная, упала на столик. Я рассыпал вокруг нее сахарный песок, зная, что им подкармливают пчел. Но у нее не было сил есть сахар. Она умирала. А у Шалвы сохранилось немного меду. Он помазал им стол около пчелы. Она зашевелилась, подползла к меду и стала есть. И ожила, начала махать крыльями, пока наконец не улетела сквозь решетку.
Она исчезла, утопая
В сияньи голубого дня,
И так жужжала, улетая,
Как бы молилась за Шалву.
А нам остались одни мыши. Мы и их подкармливали, сострадая любовью ко всякой твари. Они появлялись около отопления. Сверху него была сетка, сквозь которую мы засовывали хлеб, и мыши очень хорошо понимали, что это предназначалось дота них.
А еще произошло следующее. Негодяй копчик с голоду бросился на воробья. Последний, видя неминуемую гибель, влетел в нашу камеру и сел на отопление, отчаянно чирикая. Копчик стремительно подлетел к окну и сел на подоконник. Но дальше влететь не посмел.
* * *
В последний год моего сидения разрешили переписку, и я написал письмо своей жене Марии Дмитриевне. Между прочим, и про голубей и воробьев, которых она очень любила. Но этого письма она не получила. Начальство решило, что здесь какое-то иносказание: копчики — это, по-видимому, чекисты, а голуби — их жертвы, заключенные.
* * *
Свое следующее письмо я послал в Белград. Там по этому адресу никого из моих родственников не было, но соседи знали, что брат Марии Дмитриевны в Америке. Мое письмо переслали в США, а оттуда оно было переслано в Венгрию, где его и получила Мария Дмитриевна. Оно находилось в пути три месяца. С тех пор началась переписка. Можно было писать два раза в месяц. Письма проходили через руки начальства, и нас строго предупредили ни в коем случае не писать, что мы находимся в тюрьме. О том, что я в тюрьме, Мария Дмитриевна узнала только от моих друзей-немцев, которые раньше меня вышли на свободу. Они ей и написали.
* * *
Однажды в камеру, где я сидел, вошло большое начальство: начальник главного тюремного управления полковник Кузнецов и с ним еще два каких-то полковника, не считая начальника нашей тюрьмы и их свиты. Они беседовали с арестантами и, между прочим, обратились ко мне:
— Как ваша фамилия?
— Шульгин.
— Какой Шульгин? Знаменитый?
Я ответил:
— Если вы говорите о писателе Шульгине, то это я.
— Ах, вот как. Да, да, я читал, все читал. И «Три столицы» тоже. Вы там все повторяете: «Все как было, но немножко хуже». Ну, теперь совсем не то.
Тут в разговор вмешался другой:
— Он, может быть, и сейчас мог бы кое-что написать.
И, обращаясь ко мне, сказал:
— Это можно было бы устроить.
Посмотрел вопросительно на меня. Я сказал:
— Писать я еще могу, но что из этого выйдет, не знаю.
* * *
Из этого вышло то, что меня перевели в так называемую больницу. Это, собственно, была не больница, а маленькие камеры для двух лиц. Во всяком случае, там режим был мягче. Мне дали большое количество ученических тетрадей, перо, чернила. И посадили в камеру, где уже сидел заключенный. Он принял меня очень радушно, насколько мог. У него была «рожа», вся правая рука была багрово-красная, температура тридцать девять градусов. Когда меня водворили, он представился:
— Князь Долгоруков, Петр Дмитриевич.
* * *
Он очень стоически переносил свою болезнь, бодрился. Его лечили усердно, и, наконец, он поправился. Но каждый день продолжала приходить сестра — она меняла ему перевязки на шее. Петр Дмитриевич объяснил мне, что это за болезнь. Он вообще разговаривал охотно и много, очень бодро, и с тем оттенком, принятым у старой русской аристократии, который состоял в следующем: важность всего личного преуменьшалась, наличествовал оттенок легкой насмешки к самому себе и даже ко всей своей аристократической касте. В этом тоне он и рассказывал мне о себе:
— Ну, конечно, я Долгорукий, Рюрикович. Очень важно. Но у меня есть предки гораздо более старинные, чем Рюрик, Синеус и Трувор. Например, обезьяна.
Я заметил:
— Это общечеловеческий предок. По обезьяне мы с вами родственники.
— Да. Но обезьяна — это все-таки недавний предок. Более старым и потому более именитым предком является лягушка. Разве вы не обращали внимания, что некоторые люди похожи на жаб?
— Совершенно верно.
— Так вот, вы спрашиваете, какая у меня болезнь. Это атавизм, наследие отдаленнейших предков. У меня на шее жабры, которых нет у других людей. И вот эти жабры, так как они мне ни к чему, дышать ведь я ими не могу, вызывают болезненные явления. Сочится какая-то отвратительная жидкость. И сестра, которая меня ежедневно перевязывает, вот с этим и возится. А вы обратили на нее внимание?
— Обратил.
— Не правда ли, она вам понравилась? Как вы ее находите?
Я сказал:
— В Киеве, на Терещенковской улице, стоял дом, который я помню еще в детстве. Над парадным входом был фронтон, который поддерживали две могучие женщины. Кариатиды — это, кажется, называется…
— Да, да, вы совершенно правы, в ней что-то есть от кариатиды. В них имеется что-то классическое — никаких улыбочек и ужимок. И она проста и величественна, не правда ли?
— Прямо от богини происходит, — шутя поддержал я.
— Богиня не богиня, но все-таки это странно.
Легкомысленный человек был князь Петр Дмитриевич. В следующий раз, когда она пришла, он вдруг спросил ее после перевязки:
— Скажите, пожалуйста, сестра, какого вы происхождения?
«Кариатида» посмотрела на него и ничего не сказала. Может, она и не поняла, о чем он спрашивал. Другая на ее месте, быть может, и ответила бы: «Вполне пролетарского». И при этом непременно улыбнулась бы. Но эта была кариатидой. Ни улыбочки, ни ужимки, ни лишнего движения.
Петр Дмитриевич сам виноват в том, что потерял возможность видеть эту девушку, которая ему, несомненно, нравилась. Тот, кто не сидел в тюрьме, не поймет, конечно, этого, а для нас и мышь, и воробей, и пчела уже были светлыми пятнами. Тем более живая кариатида. Она больше не пришла. Пришла другая сестра, с улыбочками и ужимками. Ведь при перевязках всегда присутствовал кто-нибудь из надзирателей, чтобы все было в порядке. Удивительно, как боятся заключенных. Ну что они могут сделать?
Что могут сделать? Понравиться. Вот, например, князь Петр Дмитриевич Долгоруков. После смерти своего брата Павла Дмитриевича он стал старшим в роду Рюриковичей. И если бы на престол опять взошли Рюриковичи, то Петр Дмитриевич стал бы императором. Как же его не бояться!
* * *
В это время в Москве началась подготовка к созданию памятника основателю Москвы князю Юрию Долгорукому. В газетах был опубликован проект памятника, который Петру Дмитриевичу понравился. Я ему сказал по этому поводу:
— У наших правителей мало фантазии. Следовало бы поставить бронзового Юрия на площади, а рядом с ним живого Петра. Вот это было бы эффектно и интересно.
Мы много смеялись по этому поводу, и Петр Дмитриевич охотно поддерживал подобного рода шутки.
* * *
Что было приятно в Петре Дмитриевиче — это такое его свойство, как абсолютное отсутствие какого-либо угодничества и подхалимства. Он обращался со всеми этими людьми, начиная от начальника тюрьмы и кончая уборщицей, совершенно одинаково. И притом как с равными.
Поэтому, не предприняв никаких шагов для устройства своего благополучия в тюрьме, он его получил. Конечно, в пределах, возможных в ней. Ему как-то принесли картошку, приготовленную особенным образом. И когда пришел начальник тюрьмы, Петр Дмитриевич как бы случайно обронил, как если бы он обратился к кому-нибудь из своей среды:
— А знаете? У вас хороший повар. Откуда он?
Откуда он, ему, конечно, не сказали, но после этого повар стал стараться изо всех сил. На этом я выиграл, потому что нас кормили одинаково. Его — за любезность вообще и к повару в частности, а меня — ввиду того, что «он, может быть, еще что-нибудь напишет».
* * *
И «он» писал. Я буквально набросился на перо. И писал в трех направлениях. Написал новый том «Приключений князя Воронецкого». На этот раз, не имея никаких исторических
документов, я несколько изменил сюжет. Воронецкий переживал выдуманные приключения, мистические и не мистические. Затем я писал какие-то мемуары. А третье направление было современным дневником. Но дневник не в смысле того, что было на обед или какая была погода, а нечто вроде Достоевского, «Дневник писателя». Другими словами, это был политический дневник. «Тут-то таилась погибель моя…»
* * *
В это время Сталин обратился к городу Москве с чем-то вроде манифеста по поводу восьмисотлетия города. В этом обращении или поздравлении было проведено несколько мыслей. Первая: заявление «urbi et orbi»
[93], что Москва и после своего восьмисотлетия будет продолжать свою деятельность в борьбе за торжество социализма во всем мире. Вторая мысль содержала заявление, что в советском государстве труд оплачивается. И третья мысль вещала, что, в противоположность всем городам буржуазного мира, в Москве нет так называемых трущоб.
Конечно, «контра проклятая» В. В. Шульгин не мог оставить без ответа такого рода выступление. И свой ответ он настрочил в ученической тетради. Он начал с комплимента Сталину. Звучало это примерно так. В противоположность своим подчиненным, Сталин говорит не трафаретными, надоевшими фразами, а просто, ясно и доступно. Хотя это был и комплимент, но он был искренним.
А затем, с той же искренностью, были отмечены главные тезисы данного «восьмисотлетнего» выступления.
Заявление, что Москва остается цитаделью всемирной революции, равносильно объявлению войны всем буржуазным государствам. И последние сделают свои выводы, а из этих выводов Москва выведет ответные выводы. Следовательно, в ближайшие годы нельзя ожидать прочного мира.
На второе заявление, об оплате труда, было объяснено: ставки определяются советской властью, а это значит, что труд, полезный для советского правительства, оценивается высоко вне зависимости от его качества. В особенности это ярко видно на литературном рынке. Книга, полезная партии, будет оплачена высоко и выпущена огромным тиражом. Оценка народа отсутствует. В то время как в буржуазном государстве в отношении печатных произведений непрерывно осуществляется всенародный плебисцит: книга нравится — ее расхватывают, и автор богатеет. И о третьем фронте, о трущобах, «контра проклятая» написала, что в Москве, может быть, и нет трущоб в том смысле, как это понималось раньше. Но если разделить жилую площадь на число населения города, то площадь, предоставляемая одному человеку, так мала, что всю Москву можно назвать одной огромной трущобой.
* * *
Разумеется, это не могло пройти даром автору дневника. Его незачем сажать в тюрьму, он уже сидел, и со сроком двадцать пять лет. Но его лишили возможности писать. И произошло это вот при каких обстоятельствах.
* * *
Около полугода я строчил беспрепятственно. Но затем меня как-то вызвали к начальнику тюрьмы, сказав, чтобы я захватил свои свежие литературные труды. Я ознакомил начальника тюрьмы с тем, над чем работал: исторический роман, мемуары и дневник.
Он сказал:
— Я просмотрю дневник. Садитесь.
Я сел. Напротив меня были часы. Начальник тюрьмы два часа читал, не отрываясь от моих тетрадей. Мне было скучно, и я рассматривал графин с водой. Поразился, какую дрянь мы пьем — вода была совершенно желтой.
Наконец он кончил читать и промолвил:
— Дневник очень интересный, но его надо послать в Москву. Пока же прекратите писать.
Я вернулся к князю Долгорукову на самое короткое время, потому что вскоре меня перевели обратно в камеру, в которой я сидел раньше. Писанию моему пришел конец. Мы сердечно распростились с князем Долгоруковым, и больше я его не увидел.
Он умер, не досидев положенного ему пятилетнего срока заключения. Не знаю, кто теперь является главою дома Рюриковичей.
* * *
Пока я был с князем Петром Дмитриевичем, ему тоже захотелось кое-что написать. Но так как ему из-за болезней трудно было писать, я предложил, чтобы он мне диктовал. Он хорошо знал Петербург, и под его диктовку я записал рассказы об исторически интересных домах и квартирах, о людях, которые их населяли, об их судьбах. К сожалению, ничего не запомнил. Но если мне дали ученические тетради, то Петру Дмитриевичу выдали очень большую тетрадь, солидно переплетенную. Так как в ней никакой контрреволюции не было, то, может быть, она и сохранилась.
* * *
Еще несколько слов о князе Петре Дмитриевиче. Как-то, узнав, что я мельник, он признался, что тоже был мельником.
— Но только у меня ничего не вышло, — сокрушался он. — Большая дворцовая мельница, которую я выстроил, давала убытки.
— Почему?
— Право, не знаю. Чего-то мы не рассчитали.
Поскольку я уже знал немного Петра Дмитриевича, то понял, что печальный финал его затеи с мельницей был неизбежен. Тем более, что нынешнее мельничное дело довольно сложно. А от Ивана Калиты у Петра Дмитриевича ничего не осталось.
Человеку, который стоит вне ремесла, необходимо уметь пользоваться людьми, которые находятся в деле очень часто целыми поколениями. Это удалось моему отчиму и отчасти мне. Дать хорошую муку легче, взяв толкового крупчатника. А крупчатники обучаются своему делу с детства — от отца и деда. Но недостаточно сделать муку. Надо купить зерно, а муку продать. Это дело коммерческое. Князь Долгоруков, вероятно, не сумел заинтересовать торговцев. У нас же дело было проще. Такого рода людьми у нас были евреи, подчас работавшие в качестве перемолыциков из поколения в поколение. Без них не обойдешься. Но им не надо давать власти над собой. Как это сделать? Довольно просто. На наших мельницах перемолыциками были бедные евреи, не имевшие своего капитала. Мы давали им оборотный капитал и потому держали их в руках. Двадцать лет мы с ними работали, и никогда не было никаких затруднений. У нас был капитал, а у них адреса. Адреса, по которым они отправляли нашу муку. Это был их секрет, и на этом они наживали кое-какие деньги.
* * *
Попытаюсь нарисовать портрет князя Петра Дмитриевича с точки зрения политической. Политикой он занимался, но нельзя сказать, что это тоже выходило у него удачно.
* * *
Как известно, в 1905 году он подписал знаменитое «Выборгское воззвание». «Выборгский крендель», то есть хлеб, изготовленный в Выборге, был вкусен, но «Выборгское воззвание» было и безвкусно, и нелепо. Безвкусно потому, что неприлично было русским гражданам собираться в Финляндии для того, чтобы подписать антирусскую прокламацию. А нелепость сказалась несколько позже, когда выяснилось нижеследующее.
Одним, самым важным, пунктом в этом воззвании было требование, обращенное к русскому народу, не давать рекрутов для русской армии. А кто же набирал рекрутов практически? Это были некие уездные комиссии. Они состояли из разных лиц, но ввиду того, что в этом деле могли быть бесчестные комбинации, во главе комиссий были поставлены уездные предводители дворянства, то есть представители той касты, которая как бы являлась хранителем честности. И вот предводители дворянства, подписавшие «Выборгское воззвание», когда наступило время набирать рекрутов, приехали в свои уезды и председательствовали в этих уездных комиссиях, набиравших рекрутов. Тем самым они показали всей России смехотворность этого воззвания.
Следующим пунктом «Выборгского воззвания» было требование не платить налогов.
Эти два призыва были совершенно революционного характера, а между тем кадеты, главенствовавшие в этом деле, не были революционерами и называли себя конституционными демократами. То есть эти демократы были монархистами. Отсюда следует вся нелогичность и легкомысленность этого выступления.
Русская верховная власть оценила подобное поведение убеленных сединами политиков как мальчишеское, и меры против них были приняты, как по отношению к нашкодившим школярам, — их судили и приговорили к трем месяцам тюремного заключения. Пожалуй, в другой какой-нибудь стране за открытый бунт было бы назначено более суровое наказание, а в коммунистических странах, несомненно, была бы применена высшая мера наказания. Но в России «выборжцев» не приняли всерьез, и для их самолюбия это было более строгим наказанием, чем трехмесячное пребывание в тюрьме.
* * *
В связи с этим хочу рассказать об одном маленьком эпизоде — о том, как отбывал свое наказание за подписание этого воззвания князь Петр Дмитриевич Долгоруков.
Когда он сидел в тюрьме, опасно заболел его сын. Об этом узнал государь, тот император, против которого бунтовали эти аристократы. И он приказал освободить князя и отпустить его домой на время болезни сына.
— Отсидит свое позже, — прибавил государь.
Так и было. Маленький Долгоруков выздоровел, и его отец досидел свои три месяца. Во всем этом деле меня поразила некая психологическая загадка: я не обнаружил у Петра Дмитриевича никакой благодарности и снисходительности к царю. Он это заметил и сказал:
— Император это сделал, потому что я князь Долгоруков. Для другого не сделал бы.
Тут верно то, что о нем сказали царю, а о другом не сказали бы. Но отсюда не следует, что император, этот доброй души человек, не поступил бы точно так же в другом подобном случае. Мне кажется, что у Петра Дмитриевича была какая-то сверхвысокая принципиальность, доходившая до абсурда. Сознаюсь, я искренне благодарен Н. С. Хрущеву за то, что он подарил мне оставшиеся тринадцать лет тюремного заключения. Благодарен простой человеческой благодарностью, вне зависимости от всего прошлого.
* * *
Как низко расценивала русская власть политиков вроде князя П. Д. Долгорукова, показывает следующий эпизод, рассказанный им самим.
В Париже собрались в строгой конспирации князь Петр Дмитриевич и еще два лица, фамилии которых не припомню. Шла русско-японская война, и они собрались во имя чисто пораженческих целей. И ждали четвертого, какого-то южного помещика. Наконец он приехал. Кем он оказался, этот «помещик»? Знаменитым Азефом, профессиональным террористом и провокатором. Разумеется, все, что говорилось и постановлялось на этом собрании «четырех», немедленно же стало известно Петербургу. Но Петербург ничего не сделал, не предпринял против них никаких мер.
* * *
Бастамов был финским гражданином. Отец его служил в старой русской армии. Судили Бастамова за то, что он был офицером финской армии и воевал против Советов. Обычно за участие в войне не судят. Быть может, его судили за то, что он занимался пропагандой против большевиков. Например, устанавливал против советских окопов мощный репродуктор, через который вещал антисоветские лозунги. Его судили потому, что после капитуляции финны выдали его по требованию советских властей.
Хотя Бастамов был финским гражданином, но, по существу, он был русским: и говорил, и писал, и думал по-русски. Однако в одном отношении он чувствовал себя финном. Некогда Государственная Дума по предложению П. А. Столыпина приняла некоторые законы, направленные против Финляндии. Это история сложная. Финны долгое время были лояльны по отношению к России. Отвоеванная у Швеции, эта страна и в составе России сохранила свое самоуправление. У них был свой парламент, свое правительство, своя полиция, наконец, своя монета — все, чего другие национальные меньшинства, входившие в состав Российской империи, не имели. Но затем отношения с финнами испортились. Часть их под влиянием того, что делалось в России, примкнула к русским революционерам. Однако те проблемы, которые были в России, отсутствовали в Финляндии. В России добивались парламента, в Финляндии он был, и на него никто не покушался. Евреи в России добивались равноправия, в Финляндии еврейского вопроса не было. Земельный вопрос, который с такой остротой был раздут в России, в Финляндии отсутствовал. Поэтому поведение финнов в период волнений и революции 1905 года в России было необоснованно. Кончилось это тем, что был убит финляндский генерал-губернатор Бобриков. Когда отношения Петербурга с Финляндией испортились, то на первый план выдвинулась проблема, которую раньше не хотели замечать. Финны имели все права в России, но русские в Финляндии никаких прав не имели. Огромный Петербург охотно принимал на службу финнов. Дело дошло до того, что военным министром империи был назначен финн Редигер. Русские как бы говорили: «Черт с ними, на что нам финские права». Но когда вдруг оказалось, что этот народ носит за пазухой так называемый финский нож, то в общем благодушные и вялые петербуржцы ощетинились. В Финляндии у многих из них были дачи. Там, между прочим, жил Репин. Имела дачу и М. В. Крестовская, довольно известная в начале нашего столетия писательница. Окрестности Петербурга не изобилуют красотами. Финская природа с живописными скалами и озерами была гораздо привлекательнее. А водопад Иматра был гордостью Финляндии.
Когда в Финляндии обострилась враждебность к русским вообще, то это, конечно, почувствовали прежде всего проживавшие там русские. Атак как среди них были влиятельные люди, то в итоге был внесен законопроект в Государственную Думу третьего созыва об уравнении прав русских, проживавших в Финляндии, с правами финнов, проживавших в России.
Я лично не особенно этому сочувствовал и оставался на старой позиции: «Черт с ними». Мне пришлось говорить об этом с кафедры Думы несколько слов. Я сказал, что, по моему мнению, Великое княжество Финляндское сделано великим только потому, что в таком виде оно введено в титул русского императора, который одновременно является и великим князем Финляндским. По существу же оно маленькое княжество Финляндское и не должно вести себя заносчиво.
Это, между прочим, привело в ярость хорошенькую Карин Вольдемаровну Споре, которая служила в Государственной Думе. Мы с ней были как будто бы в дружбе. На ней я мог до известной степени изучать психологию финнов. Покойный отец ее служил в русской гвардии. Сама она нуждалась в средствах, получила место в Государственной Думе, куда немногие могли пробиться. Она была талантлива — у нее был приятный голос, и она училась у самого известного учителя пения в России, у Прянишникова, притом бесплатно. Казалось бы, в ней могли быть какие-то чувства благодарности к России, к русскому народу вообще. Но нет. Эта маленькая женщина вдруг «выхватила» финский нож из-за пазухи и стала им размахивать перед носом мирного волынского хохла. Мы поссорились знатно. Но потом бесчисленное число раз мирились и опять ссорились. Если финны упрямы, то хохлы тоже. Что же нас все-таки заставляло мириться? А Бог его знает. Да это и неважно.
* * *
Так вот, Владимир Владимирович (или Вольдемар Вольдемарович) Бастамов был такой же, как и Карин Вольдемаровна. Конечно, во всей этой русско-финской сваре были виноваты обе стороны. В итоге, за то, что финны поддерживали русские революционные течения, они получили от них благодарность шиворот-навыворот. Финляндию под именем Суоми разгромила не царская Россия, а советская. Поставила их на колени, заставив дважды капитулировать.
И теперь Финляндия существует постольку, поскольку она старается поддерживать отношения с советской Россией. Она имеет независимость, имеет правительство и армию, но это только декорация.
Почему-то Бастамов проникся финским шовинизмом. Впрочем, как он думает сейчас, я не знаю. Он был человек благородный, но неуживчивый. Личная жизнь его была неудачной. Жена его, как и многие другие жены, не имела терпения ожидать, когда вернется муж, и вышла замуж за шведа. Он, вернувшись домой, уже не нашел себе подходящей партии.
* * *
Когда я заболел, меня перевели из большой камеры в двухместную. Сокамерником моим был человек по фамилии Персидский. Персом он не был, но еще в маньчжурскую кампанию попал в Харбин и там прожил остальную жизнь. За что его судили, я так и не понял. Но о Харбине он рассказывал много интересного.
Должен сказать, что и Персидский, и другие харбинцы, с которыми я познакомился во Владимирской тюрьме, были восторженными патриотами своего города. Причем все они считали его чисто русским городом. Но когда я проверил, то оказалось, что в Харбине в те времена насчитывалось восемьсот тысяч жителей, из коих китайцев и японцев было семьсот тысяч, а русских только сто тысяч человек. Но им казалось, что Харбин был чисто русским городом. Потому что эти сто тысяч не были перемешаны с остальными жителями, а жили все вместе отдельною колонией.
У «моих» харбинцев с языка не сходило имя покойного Хорвата, который был главным лицом в русском Харбине, создавшим благосостояние этого города. В нем была опера, где пели по-русски, и семь русских газет. Как опытный газетчик, я спросил: «Чем же эти газеты жили?» Мне торжествующе ответили: «Шантажом!»
— То есть как? — удивился я.
— Сообщали какому-нибудь богатому лицу, что если он не даст денег, то о нем будут писать всякую грязь и пасквили, выворачивая его личную жизнь наизнанку. И он давал.
С тем же торжеством сообщалось, что таких разбойников, «как у нас в Харбине, кажется, нигде нет».
— Вот, например, идет себе человек зимою весь в богатых бобрах. Мчится удалая тройка. На человека в бобрах накидывают петлю и волокут. Никто не догонит!
— Да это что, — подхватывал другой харбинец.
— А что же еще?
— Вы знаете, что такое лупанарий?
— Нет, не знаю.
— По-нашему бардак. Вы думаете, это «Яма» Куприна? Не-ет. Когда лучший из харбинских лупанариев собирался перейти в другое, еще более роскошное помещение, то было напечатано в газете, что номер такой-то по такой-то улице переходит в дом номер такой-то по другой улице и приглашает друзей на новоселье.
Это рассказывал мне Персидский.
— И вы получили приглашение? — спросил я его.
— Еще бы. Я мог бы быть там хозяином. Француженка, владелица этого заведения, была не прочь выйти за меня замуж.
— И как прошло новоселье?
— Блестяще! Все было увешано фонариками, коврами, кругом роскошь. Духи только парижские, самые дорогие. Туалеты из Франции и Америки. Знатные гости, послы и консулы. Музыка — лучшие оркестры. Вообще, понимаете, другого такого города нет.
— Думаю, что так. Вавилон, говорят, был тоже замечателен в этом роде.
— Про Вавилон не слышал, не знаю. Но, если хотите, я вам расскажу про другой городок, маленький. Всего десять тысяч человек населения. Чумной лагерь.
Я удивился:
— Как вы туда попали?
— Я там был начальником.
— Вы врач?
— Нет, я служил в полиции, еще до революции. Знаете, полиция все-таки имеет навык управляться с массами.
— Ужас, — простонал я.
— Да, ужас, но все же и не так ужасно, как думают.
— Но ведь умирают все, — возразил я.
— Нет. Правда, большой процент смертности, но не все.
— Но как вы не заразились?
— Маска. Если строго соблюдать правило, чтобы воздух не поступал прямо в нос или в рот, а непременно только через маску, то можно уберечься. Был большой медицинский и немедицинский обслуживающий персонал. Были, конечно, и среди нас жертвы, но все же большинство выдержало, вынесло и выжило.
Я поинтересовался, как лечили этих несчастных.
— Это скорее был карантин, чем лечение. Тех, что выдерживали карантин, то есть выздоравливали, освобождали. Впрочем, приехал однажды знаменитый восточный врач, китаец. Он начал излечивать от этой болезни. Но потом что-то случилось, и он уехал. Видите ли, облегчало положение то, что трупы незаразительны. Заразительно только дыхание живых больных. А труп безвреден. Его сейчас же уносили и сжигали.
Больше он ничего не мог мне рассказать. Конечно, он не Бунин. Бунин нарисовал бы такую ужасную картину, что человек, прочитав это, мог бы заболеть от воображения.
Я давно заметил, что люди, которые перенесли невероятные потрясения, очень редко могут рассказать толково о том, что они пережили. Вот почему мы читаем «Войну и мир» Толстого и нескольких других авторов. И все. А между тем в последних войнах погибли миллионы людей. Но нет ни одного описания человеческой бойни, которая могла бы выдержать сравнение с рассказом Льва Николаевича Толстого. Он самолично поехал посмотреть, как бьют быков и режут баранов и телят. И стал после этого вегетарианцем. Быть может, если бы с таким же мастерством описать человеческие бойни, то войны прекратились бы.
* * *
Еще несколько слов об одном харбинском патриоте. Он носил знаменитую двойную малороссийскую фамилию. Вторая ее часть — Выговский. Его предок, Иван Выговский, после смерти Богдана Хмельницкого был гетманом Украины.
Этот потомок гетмана говорил с азартом:
— В Харбине даже собаки самые замечательные в мире! Была одна собака, которая не имела хозяина. Она, как говорится, своим умом промышляла. Когда ей приходилось очень плохо, она отправлялась на главную улицу и там усаживалась на островке безопасности. Почему там? Потому что на шестом этаже дома, который стоял напротив, у нее были друзья. И она знала, что если продержится на островке достаточно долго, то ее непременно увидят с шестого этажа, придут за ней, приведут в квартиру, и там она отдохнет и закусит. А более постоянным ее местопребыванием была большая кофейня, хозяин которой, собственно, не был ее хозяином, но не гнал ее и не мешал ей делать представления. Она ходила на задних лапах, кувыркалась, за что ей бросали медяки. Она набивала ими пасть, бежала в булочную и там выплевывала деньги на пол. В булочной ее знали как постоянную покупательницу. Купив таким образом какую-нибудь булочку или рогалик, она его съедала.
Все это он рассказывал серьезно, без тени смущения и с восторгом, всем своим видом как бы говоря: вот, мол, откуда мы и какие мы. Причем патриотизм этот был чисто русский. И если бы ему сказать, например, что Харбин — это китайский город, он, наверное, оскорбился бы.
Я с некоторым недоверием смотрел на потомка гетмана. Он это заметил и сказал:
— Поймите же, что невозможно во всем мире, возможно в Харбине!
* * *
Персидский рассказывал:
— Японцы скрытны. Китайцы более откровенны или представляются такими. Они добродушны и не обижаются, когда русские окликают их: «Ходя, ходя!» Трудолюбивы и очень способны. Мужчины превосходные прачки и повара. Китаянки-аристократки очень красивы. Но их редко можно увидеть. У китайцев не запрещается многоженство. Таким образом, у них имеется нечто вроде гаремов, но своих лиц женщины не закрывают. В Харбине было три полиции: китайская, японская и русская. Я был начальником русской полиции. Однажды мне доносят, что в одном китайском доме умерла русская и есть подозрение, что ее убил муж-китаец. Я решил проверить это, придя под видом гостя. Китаец понял и провел меня в комнату, где лежала мертвая. Никаких признаков насилия я не заметил. Китаец был умен. Он оставил меня наедине с умершей, потом впустил в комнату двух других своих жен, тоже русских. Я мог свободно с ними говорить. Они обе подтвердили, что их подруга умерла от болезни, что муж с ними, русскими, очень хорошо обращается, ничуть не хуже, чем с четырьмя другими женами, китаянками. Он был очень богат и потому мог содержать семь жен.
Оживившись, Персидский прибавил:
— Удивительно! Ведь женщины очень ревнивы. А вот в гаремах прекрасно ладят друг с другом. Ну, пусть китаянки. Но вот три русских! Я прекрасно мог бы их двоих увести, если бы они сказали, что им плохо.
— Чем же кончилась эта история?
— Ничем. Не было никаких данных, чтобы возбудить дело против китайца.
* * *
Быть может, это было на Лубянке. В камеру вошел человек высокого роста. Новый знакомый. По его манерам и по его речи я сразу понял, что он петербуржец. Оказалось, действительно. Он представился:
— Князь Ухтомский.
В ответ я сказал:
— Я знал епископа Андрея, в миру князя Ухтомского.
Я познакомился с ним у Петра Бернгардовича Струве. Когда епископ вошел, все встали. Он посмотрел в правый угол и там увидел вместо иконы статуэтку. Она изображала известнейшего «мыслителя» — химеру с собора Парижской Богоматери. Епископ Андрей принадлежал к аристократической семье, что было редкостью для нашей церкви. Он был воспитанным человеком и вежливо сказал хозяину: «Дорогой Петр Бернгардович, как же это так? Хотел я лоб перекрестить на красный угол, а там у вас черт сидит». Струве ответил: «Безобразие. Но ведь это, владыко, мыслитель». — «Да, но о чем он думает? Не о русской культуре, конечно», — заключил епископ. Тут все поняли, что заключительная фраза была приглашением заняться тем делом, ради которого мы собрались.
На этом собрании был основан журнальчик «Русская культура», идеи которой силился проводить Петр Бернгардович под треск рушащейся России.
Все это вспомнилось мне, когда господин средних лет назвал себя князем Ухтомским. Мы познакомились и даже до известной степени подружились. Потом он мне рассказывал:
— Одно время мы жили с матушкой на Волге. Она была очень набожная и особенно строга в выборе знакомств. Но знаете, с кем она очень подружилась, как это ни странно? С опереточной певицей.
— Действительно! — удивился я.
— Это произошло так, — продолжал князь. — Она у нас пела в оперетте. Красавица не красавица, но очень мила. Хорошо танцевала, но вполне пристойно. И наш предводитель дворянства смотрел на нее и влюбился. Спросил ее, не хотела бы она выйти за него замуж, при условии, что она покинет сцену. Она согласилась и стала у нас предводительшей. По-французски и по-немецки она говорила хорошо и через некоторое время стала уважаемой дамой. И моя мама, несмотря на все свои предрассудки, ее очень полюбила, эту немочку.
Я спросил:
— Как ее звали?
— Габриэль, или Элла Германовна.
— Что-о?! — удивился я.
Он посмотрел на меня не менее удивленно:
— Вы ее знали?
— Да, знал.
* * *
Я не стал ему ничего рассказывать. Мне было пятнадцать лет, а ей семнадцать. Ее сестра, Ольга Германовна, была замужем за красавцем-поляком, инженером. Он строил в селе Томохове шестиэтажную вальцовую мельницу. Первую из четырех, которые выстроил мой отчим Дмитрий Иванович Пихно, чей отец был тоже мельник, но маленький, деревенский. Эта Ольга Германовна со своим мужем поселилась в Агатовке, нашем небольшом имении, купленном незадолго до этого у одного из Злотницких. В нем жила вся наша семья. Ольге Германовне с мужем выделили отдельный домик, и постепенно перебывала в нем вся их многочисленная родня, вернее, родня Ольги Германовны. Их вообще-то родилось двадцать братьев и сестер, но выжило впоследствии только десять человек. Элла только что окончила в Петербурге гимназию, в которой преподавание шло то ли на французском, то ли на немецком языке. Рыженькая, прекрасно сложенная, с лицом куклы, если бы не выражение постоянного оживления, крайне веселая, болтливая и певучая. С ней постоянно происходили маленькие смешные приключения — тогда она краснела и говорила:
— Ah, quelle passage!
[94]
Первый такой пассаж, только это случилось не на балу, а на солнечной площадке против дома, — она потеряла подвязку. Как известно, в Англии точно такое же происшествие вылилось бы в историческое событие. Орден Подвязки известен всему миру. Но там был король. А тут был мальчишка пятнадцати лет, не очень бойкий, но все же его хватило на то, чтобы поднять подвязку. Она произнесла:
— Ah, quelle passage!
И, отвернувшись, потому что тогда носили длинные юбки, подняла ее и водрузила подвязку на место. Затем, должно быть от смущения, запела:
Un petit verre de Clico —
C’est bien peu d’chose…
[95]
В это время вышла из дома Зикока и сказала:
— Oh, mademoiselle. Солдатский вальс?
* * *
Ну, словом, что тут рассказывать. Мы подружились, как водится. Потом переехали в город. Я бывал у них. Затем был какой-то бал. Ольга и Элла приехали на этот бал в виде русалок, сильно раздетые, что шокировало скромный профессорский дом. Женские языки стали работать. В общем, мой лучший друг Виталий, старше меня на целых два года, спросил:
— Ты ведь ее не любишь?
Сказать по правде, мне с нею было весело и хорошо, но на вопрос Виталия я все-таки сказал:
— Нет.
— Тогда зачем же?
И я, мальчишка, идиот, не сумел даже взять пример с Евгения Онегина, который умело, по-джентльменски, объяснился с Татьяной. Вместо этого я написал записочку: «Я должен Вам сказать, что мое увлечение Вами прошло. Простите». На это я получил ответ: «Верните мне мои письма. Я буду ждать Вас в четыре часа на площади против городской думы». Ее письма? Это были совершенно ничего не значащие записочки. Все же я их сохранил. В коробочке, и перевязал ленточкой. Она, вероятно, прочла в каком-нибудь романе, что так поступают. Словом, я ждал ее у Городской думы. Был серый октябрьский день, на фоне которого особенно был выразителен пламенеющий Архангел Михаил над городской думой. Я увидел ее издали, пошел навстречу.
— Вот ваши письма.
Она была в сереньком пальто, такого же цвета, как и тучи. Серенькая, грустная и кроткая. Мы больше не сказали ни слова друг другу и разошлись, как будто навсегда.
Прошло четыре года. Я приехал в Петербург и встретил ее в опере, в фойе. Она привстала, поздоровалась со мною и сказала, подавая карточку:
— Вот мой адрес. Можете завтра вечером? Попьем чайку.
Я приехал. Комната была скромная, чистенькая. В углу, у иконы, лампада. Она налила мне чай и спросила:
— Когда вы кончите университет?
— Через два года. А вы что?
Вместо ответа она произнесла:
— Эдя умер. Скоропостижно.
Эдя — это был тот красавец-инженер, муж ее сестры.
— Что будет делать Ольга, не знаю, — продолжала она. — И мне надо что-нибудь делать, чтобы жить. Пока я учусь пению. Я хочу служить в оперетте.
Я быстро взглянул на икону, на лампаду и подумал: «Разве это приготовление к оперетке?» Она поймала мой взгляд, и из ее ответа я понял, как она чутка:
— Вы думаете, как и все, что в оперетте нельзя вести себя прилично? А я думаю, что это можно.
* * *
Когда я выслушал Ухтомского, я понял, что, действительно, можно. А он продолжал:
— Но все это было давно. Когда я уехал от матери, я оставил ее на попечение Эллы Германовны. Но что с ними случилось потом, во время революции, я не знаю.
— А где же вас самого арестовали?
— На пляже.
— Как на пляже? — удивился я.
— Я там купался.
— Где? — все более удивлялся я.
— Около Харбина.
Когда позднее я познакомился с Персидским и затем с потомком гетмана Выговского, я вспомнил князя Ухтомского и понял, что и способы задержания в этом городе совершенно особые.
Рассказ князя Ухтомского все же оживил эти далекие воспоминания первой юности. Образ этой веселенькой немочки (Вульфиус), как будто ничего из себя не представляющей, вырос в некую доброкачественную молекулу. Из таких частиц составляется та часть германского народа, которая обеспечивает ему право на место под солнцем. В этих маленьких немочках есть нечто конструктивное, что пригодится для Вселенной, когда она будет твориться людьми, а не зверьми.
* * *
И вот пришла пора, потому что всему на свете бывает начало и конец. Этому концу предшествовали некоторые знамения. Не обошлось, конечно, без мистики.
Приснился мне сон, если хотите, замечательный сон. Я увидел императрицу Александру Федоровну, сопровождаемую какой-то фрейлиной. Она протянула мне руку и сказала: «Поздравляю». С чем именно поздравляла меня императрица, выяснилось позже. Пока же, целуя ее руку в перчатке, как полагалось, я был несколько смущен тем обстоятельством, что никак не мог снять левой рукой черную измятую фетровую шляпу. Она так была нахлобучена мне на глаза, что я проснулся, прежде чем снял ее.
* * *
Через две недели явился незнакомый мне следователь.
— Вы знали сестер Яковлевых-Политанских?
— Знал.
— Мне необходимо подробно расспросить вас о них.
И действительно, расспрашивал подробно. Три дня по многу часов он меня мучал расспросами. Не уклоняясь от истины, я дал разную характеристику сестрам, а также говорил о других лицах, встречавшихся с ними. Разумеется, я старался не повредить всем им. Это было не так трудно. Потому что некоторых дрянных типов они не арестовывали, а вот только этих сестер и меня, многогрешного.
Должен тут сказать пару слов о черной шляпе. Эта шляпа, которая мне приснилась, существовала в действительности. Следователь по твердо установленному правилу посадил меня лицом к свету, то есть к окну. Меня это очень утомило, и я попросил разрешения надеть шляпу. Я нахлобучил ее на глаза и весь допрос просидел в таком положении.
Наконец допрос кончился, я подписал бесчисленное количество страниц, как полагалось, и тогда следователь сказал:
— Ну, теперь даем им путевку.
— Какую путевку? — удивился я.
— Да на волю.
— А они разве в заключении?
— В каких-то лагерях сидят.
Последовала пауза. Я мысленно пожалел девочек. Выходило, что они сидят уже одиннадцатый год. Следователь спросил:
— А вы как? Какие ваши планы?
— Мои планы? Я вас не очень понимаю. Мои планы не от меня зависят. Я сижу.
— Да, вы сидите, но я вас спрашиваю на предмет освобождения.
— Освобождения?!
Я чуть не свалился со стула. Многих уже освободили, но со мною дело было плохо. Врачи три раза делали представление властям с предложением освободить меня ввиду преклонного возраста и плохого состояния здоровья. Но им отказывали. А тут следователь говорит о свободе. И я, наконец, понял, с чем поздравляла меня императрица: с освобождением из тюрьмы. И понял роль черной шляпы. Тогда, во сне, когда императрица поздравляла меня, я никак не мог снять с себя этой шляпы, и весть о предстоящем освобождении я тоже получил от следователя после того, как три дня пялил ее себе на глаза.
В отношении мистики довольно. Кое-кому все ясно, а другим никогда не будет ясно.
* * *
Более реально я узнал об освобождении в такой обстановке. Я сидел в камере с Шалвой. Но в коридоре нечто необычайное. Все, кто подолгу просидел в тюрьме, обладают особенным, обостренным слухом, то есть знают все, что происходит в коридоре. Однако сегодня было нечто совершенно необычное. В это время растворилась «кормушка», и медсестра заглянула в камеру. Я спросил ее:
— Что там делается?
— Что делается? На свободу идете.
Тут я понял. И как-то раскис. Первый и последний раз попросил валерьянки, сказав сестре:
— Плакать буду.
Она принесла валерьянки и торжественно произнесла:
— Собирайтесь. Все вещи собирайте.
Но куда? Во что их запихивать? Набралось барахла. Мы с Шалвой придумали гениальную вещь. Незадолго до этого нам выдали новые костюмы — брюки и куртки. Главное затруднение у нас было вот в чем. Последнее время немцы и австрийцы получали массу посылок с родины. Здесь следует отметить большую честность тюремной администрации в отношении этих посылок. При посылках был полный перечень прилагаемых предметов. Этот список по вскрытии посылок проверялся, и решительно все передавалось заключенным. Немцы и австрийцы, зная, что женщины, которые этим ведали, и во сне не видели таких яств, неоднократно просили принять что-нибудь в подарок, но встречали решительный отказ. Когда немцев не стало (их выпустили несколько раньше), я стал получать посылки от них же. Один раз мы остались вдвоем с женщиной, которая вскрывала при мне мою посылку. Я выбрал плитку шоколада и просил ее взять для ребенка. Она в итоге взяла после долгих отказов, объясняя, что это очень строгая ответственность.
* * *
Так вот, и у Шалвы, и у меня набралось всевозможных консервов достаточно. Я не ел ни мясных, ни рыбных консервов, а шоколад копил для Марии Дмитриевны в надежде, что я ее увижу. Больших плиток было шестнадцать штук.
Что же мы придумали? Завязали брюки внизу тесемками и наполнили их по пояс всякой снедью. В куртку напихали мягкие вещи и как-то соединили брюки с курткой. Вышло некое подобие человека, а когда его приподняли, то консервы стучали, как кости скелета. Эти неудобопереносимые «мешки» мы притащили в большую камеру, куда собрали освобождаемых в этот день в количестве девяти человек.
* * *
И вот наступила торжественная минута. Вошел майор в сопровождении молодых офицеров и стал громогласно читать:
— По указу от 14 сентября 1956 года досрочно освобождаются из тюремного заключения нижеследующие граждане…
Он назвал по фамилиям всю девятку.
— Итак, собирайтесь. По закону мы не имеем права задерживать вас ни одного часу после освобождения. Вы все выедете сегодня же.
* * *
Выехали, но не все. Куда, например, мог я выехать? Родственников, которые могли бы меня взять, и притом на поруки, у меня не было. Я обращался в стол розысков с просьбой найти сестер Марии Дмитриевны, но не получил ответа. У Шалвы были родственники, но он не решался им навязываться. Поэтому нам обоим сказали, что мы остаемся еще немного в тюрьме, пока тюремное начальство снесется с домами инвалидов, куда мы и будем направлены. Шалва и я настаивали, чтобы нас отправили вместе в дом инвалидов. Обещали, но в итоге почему-то разделили. Шалву увели в другую камеру. Почему это было сделано, мне неизвестно. Через два дня меня отправили в дом инвалидов в Гороховец, во Владимирской области.
Перед выходом из здания, где было проведено столько лет, мне предложили подойти к столику, за которым сидел дежурный офицер. Он подал мне бумажку и сказал:
— Пожалуйста, распишитесь.
Я прочел, под чем должен был расписаться: «Освобождаемый досрочно такой-то обязуется не разглашать условий тюремного режима». Я прочел это обязательство несколько раз, не решаясь его подписать сразу — мне, конечно, оно очень не понравилось. Каждый заключенный в глубине души таит надежду: «Вот выйду на свободу и расскажу, что тут делается». Затем я посмотрел на открытую дверь, за которой была свобода. Свобода относительная, уже связанная каким-то обещанием, но все же свобода. Ходить, гулять, наслаждаться природой! И подписал: «В. Шульгин». После этого мне дали сопровождающего, и мы вышли на улицу. Он повел меня по дороге, шли недолго и скоро вошли в какое-то закрытое помещение, напоминающее ротонду, где было много народу. А еще больше кошек. Они лазили повсюду и у всех что-нибудь выпрашивали. Это были бездомные кошки, жившие подаяниями. И подавали. Мы пришли на автобусную станцию.
Тут я сделал вывод, что советские люди относятся к животным более по-человечески, чем к иным людям.
Ждали мы долго, потому что пришли слишком рано. Наконец подали автобус. Сопровождающий посадил меня удобно и сам сел рядом.
Я спросил:
— Куда же мы едем?
— В Гороховец, это небольшой городок.
— В каком направлении?
— На Горький.
— А сколько времени ехать?
— Четыре-пять часов.
* * *
Тронулись. Город Владимир, в котором я просидел почти девять с половиной лет, был мне совершенно незнаком. Он проплыл мимо для меня абсолютно незаметно. Я стал ощущать, что я действительно на свободе, когда дорога вошла в лес.
Был солнечный сентябрьский день. Березы, осины были желтые и красные. А ели темнохвойные. Это был сладостный контраст. И для меня новый. На юге еловых лесов нет. До самого Гороховца я упивался природой и про себя декламировал:
Благословляю вас, леса,
Долины, горы, нивы, воды.
Благословляю я свободу
И голубые небеса.
Гор не было, потому что все были ровные долины. Нивы попадались, воды встречались. Но свобода и голубые небеса были.
* * *
В таком хорошем настроении я доехал до Гороховца и вошел в дом инвалидов. Меня приняла сестра-хозяйка Вера Петровна. Директор отсутствовал. И тотчас же у меня с нею вышла стычка. Я сказал:
— Мне обещано, что дадут отдельную комнату, так как я ожидаю свою жену.
Она посмотрела на меня иронически и ответила ехидно:
— Неужели? До сих пор такого не бывало, чтобы супружеству давали отдельную комнату.
Она так и сказала — «супружеству». Я почувствовал, что начинаю сердиться, но сдержал себя и сказал:
— Возможно, что такого не бывало. Но теперь это будет.
Она ответила, несколько снизив тон:
— Во всяком случае, до возвращения директора вам придется поместиться с другим призреваемым мужского пола.
И поместили в комнатушку такого размера, что и в тюрьме не бывает. Другим «призреваемым» оказался мужичок покладистый. Мы с ним объединились на том, что нам было, казалось, жарко, когда считалось, что холодно. В тюрьме градусника я никогда не видел, а здесь висел на стенке градусник и показывал тринадцать градусов по Цельсию. Тут я понял, какая температура была во Владимирской тюрьме. Но я к ней привык. И потому, когда затопили и довели до семнадцати градусов, то нам стало жарко, и мы открыли дверь настежь. Слава Богу, тут можно было открывать дверь, не то что в тюрьме, где она была на двойном запоре.
Затем пригласили к обеду. Но тут я показал зубы, хотя вместо них у меня были протезы. Я объявил изумленным служащим:
— Объявляю голодовку.
Надо сказать, что за двенадцать лет (без трех месяцев), которые я провел в заключении, я голодовок ни разу не объявлял. А попав на свободу, объявил, потому что она является последним средством заключенных. Сразу забегали:
— Как можно!.. Да что это такое!.. Директора нет, но он, наверное, разрешит…
Особенно почему-то забегала милая старушка из «призреваемых». Она принесла мне цветы в горшке, ножницы, зеркало. Зеркала я не видел двенадцать лет. Но я стоял на своем:
— Пока директор не скажет мне лично, что как только приедет моя жена, нам будет дана отдельная комната, я есть не буду.
И вдруг он, директор, явился.
— Я директор. Очень рад познакомиться. Тут выходят какие-то затруднения…
Кто-то вошел в это время в комнату и позвал его к телефону. Он ушел и отсутствовал некоторое время. Вернувшись, сказал:
— Как раз меня вызывал Владимир по вашему делу. Там подтвердили, что, действительно, вам обещана отдельная комната, когда приедет ваша супруга. Но убеждены ли вы, что она приедет?
— Убежден, но когда, не знаю.
— Так вот, если она приедет, у вас будет отдельная комната.
После этого я, конечно, с удовольствием пошел в столовую.
* * *
Незабываемый миг. Двенадцать лет я не обедал по-человечески. Совали миски в «кормушки», туда что-то ссыпали, и обедали мы за ничем не покрытыми деревянными столами.
Здесь же в окнах стояли всякие цветы, фикусы, пальмы. Обедали не за одним громадным унылым столом, а за отдельными столиками. Эти отдельные столики были покрыты скатертями. И на них стояли живые цветы в стеклянных посудах с водой. Подавались блюда не в алюминиевых мисках, а в тарелках. И даже, о ужас, около тарелок лежали
вилки и ножи. Да как же они не боятся, что мы друг друга не переколем и не перережем. Ничего подобного. Хозяйка столовой, Онисья Васильевна, очень приветливо меня приняла, усадила, интересовалась, удобно ли мне. Словом, рай.
* * *
Этот «рай», конечно, только первое время казался раем. Так как я перешел с последней социальной ступени на предпоследнюю, то, разумеется, и я был очень приветлив. Я стал, что называется, «общим любимцем», как охарактеризовала мое положение в доме женщина-врач.
Скоро начали иногда проскальзывать тени. Ежедневно в столовую приходил «подскакивающий». Это был молодой человек, но у него была какая-то болезнь. Когда этот несчастный ступал на какую-либо из ног, он подскакивал чуть ли не на полметра. А один постарше, лет сорока, подошел как-то ко мне, протянул руку, отрекомендовался и сказал:
— Моя мать была проститутка, мой отец был вор.
Я ответил:
— Очень приятно познакомиться.
И он начал рассказывать мне какую-то историю, как он продавал черного кота черту.
— Там, на перекрестке, вы знаете?
— Нет, не знаю.
— Ночью, ровно в полночь. Я пришел, держа кота под мышкой. И он сейчас же появился.
— Какой же он был? — поинтересовался я.
— Не могу сказать. Я очень испугался. А он выхватил кота и убежал.
— И ничего не заплатил.
— Ничего.
— Вот это плохо.
«Подскакивающий» через некоторое время повесился в лесу, оставив записку: «Никого не обвиняю, директор знает».
Потом меня начал «обхаживать» молодой инвалид. У него был детский паралич. На лицо он был довольно красив, мог петь, хотя очень кривлялся при этом. Я с ним занимался математикой, потому что он совсем ее не знал.
Как-то он стал мне рассказывать:
— Меня чуть не задушил один.
— Кто?
— Его сейчас нет здесь. Он, знаете, безногий. Ноги ампутированы полностью, но живой. Но он очень хорошо передвигается по дорогам. Зимой на салазках, а летом на колясочке. У него по палке в каждой руке, и он ими отталкивается. У него развилась такая сила в руках, что он может задушить каждого, кто к нему неосторожно подойдет. Я насилу спасся.
Мне показалось это все-таки диким, чтобы инвалид без ног мог напасть на человека хоть и больного, но с ногами. В тот день, когда он мне все это рассказал, «душитель» подкатил к крыльцу дома инвалидов. На крыльце стоял директор. Последний сказал ему:
— Убирайтесь отсюда, и чтобы я вас никогда здесь не видел.
* * *
Уже потом я узнал, что безногий стоял во главе воровской банды. Он постоянно курсировал по шоссе между Гороховцом и Владимиром. На этой дороге у него было несколько приютов. Там ждали его любовницы, которые были ему преданы, кормили, поили его и услаждали жизнью. Он, оставаясь за кулисами, организовал через своих приближенных грандиозную кражу дров с баржи, стоявшей на Клязьме. Ведь все дело в организации. Чем он кончил, не знаю. Но осталась в памяти эта мрачная фигура.
А была еще молодая женщина без руки, ампутированной по плечо. Она проявляла некоторые признаки психического расстройства, и решено было отвезти ее в специальную лечебницу. Поручили это сестре-хозяйке Вере Петровне, но та по своей беспечности проболталась раньше времени, и безрукая повесилась.
И было третье покушение на самоубийство молодого человека. К счастью, вовремя заметили и его спасли. Я спросил его, зачем он решил покончить с жизнью.
— Тоска взяла, — ответил он.
* * *
Да, тоска. Видимо, тюрьма закаляет. Эти люди не умели ценить того счастья, которое им было дано. Они могли выходить из дома инвалидов, гулять. Я гулял отчаянно. Взбирался на горки, казалось бы, в моем возрасте непреодолеваемые. И ничего. Там, наверху, росли старые сосны. Стоя у их стволов, я вглядывался в далекие дали.
* * *
Гороховец, может быть, и был основан при царе Горохе, но гороха в нем не замечалось. Местные историки объясняли, что это название нужно читать как «Горховец». Что же в таком случае «ховец»? А что такое «Хованщина»? «Хованщина», должно быть, происходит от слова «ховать», то есть прятать. Дело в том, что именно в этом самом Гороховце кончается гряда неких возвышенностей. За ним идут низины, и поэтому из Гороховца можно видеть далекие дали.
* * *
Одно смешное происшествие. Я забыл уже, как и почему я взял ведро и пошел набрать воды из речки. Было довольно скользко, и я упал в речку не только в одежде, но и в бушлате. Вода не показалась мне слишком холодной, но я пришел домой, в свою комнатушку, в довольно жалком виде. Меня раздели, растопили печь, и все обошлось благополучно.
* * *
На огороде была действительно страшная собака. Она признавала только одного человека, у которого «мать была проститутка, а отец был вор». Он мог безбоязненно подойти к ней, и она ласкалась к нему. Я как-то подошел с ним к этой собаке. Она бросилась на меня и укусила бы, если бы не цепь, которая удерживала ее. Задохнувшись оттого, что ошейник надавил ей на горло, она стала еще злее. Тем не менее, я смотрел ей прямо в глаза «гипнотизирующим» взглядом. Я прочел у Владимира Дурова, как он укротил взглядом совершенно неукротимого пса. Но из моего гипноза ничего не вышло. Собака рассвирепела еще сильнее. Я был удивлен. Неужели моему полусумасшедшему спутнику помогали его колоритные родители? Но я не об этом хотел сказать. А вот о чем. У этого сверхзлобного пса было нежное сердце. Бездомный котенок прибился к нему, ничего не подозревая по своей наивной невинности. И цербер не только его не разорвал и не съел, а приютил в своей конуре, позволял ему есть из своей миски и грел в лапах. Так многолика жизнь.
* * *
Молодые инвалиды учились заочно. В этом я, а больше Мария Дмитриевна, когда она приехала, им помогали. Однажды им дали сочинение на предмет пушкинского «Евгения Онегина». И один из них обратился ко мне:
— Ну что я могу написать? Молод, богат, здоров, красив! Девушка хорошая в него влюбилась. Бросил. Друга убил. А почем я знаю, что учителя об этом думают?
Я не мог ему в этом помочь. Советы всячески прославляют Пушкина. Но как они из него выжимают полезное для партии, я не знаю.
* * *
Наконец я узнал досконально, что Мария Дмитриевна едет. На что она рассчитывает? Я подумал и решил продать единственное, что у меня было, — обручальное кольцо. Продал Вере Петровне за триста рублей. Получив их, я обратился с просьбой к какому-то министру, кажется, социального обеспечения, переслать ей эти деньги в Венгрию. Ответа не получил.
Тем временем в Венгрии разразилось восстание. Это заставило Марию Дмитриевну поспешить. Не то чтобы она боялась происходивших событий в Будапеште, она была не из робкого десятка. В Будапеште она была свидетельницей чуть было не разразившейся малой гражданской войны между русскими в Венгрии. Там находились русские части, давно стоявшие в Венгрии. Они как бы сблизились с местным населением. И потому, когда пришли свежие танковые части прямо из Советского Союза и встретились на одной из площадей со старыми частями, то между ними едва не вышло боевого столкновения. В эту передрягу и попала Мария Дмитриевна.
Она пробиралась между танками по площади, когда на нее вдруг кто-то закричал:
— Куда лезешь? Убьют!
Она ответила по-русски:
— Вот мой дом. Мне нужно пройти через площадь.
Тогда какой-то человек выскочил из танка:
— Ты русская?
— Да, русская.
— Что тут делается?
— Не знаю.
— Мы только что из Москвы. Ничего не понимаем.
В итоге Мария Дмитриевна должна была бежать спешно потому, что восставшие венгры, естественно, готовы были вырезать всех русских. Ее вывезли, когда она уже отчаялась. Но вдруг в квартиру ввалилось несколько человек, схватили шесть ее чемоданов и корзину и погрузили в вагон. Поезд пошел через Венгрию, минуя пограничную станцию Чоп, через Киев и наконец дотащился до Москвы. Там ее где-то приютили на вокзале, причем носильщики отобрали последние деньги. Теперь надо было добираться до Владимира. И тут не обошлось без помощи добрых людей — ее доставили до места назначения. Во Владимире она пробилась к каким-то властям, и ей дали машину до Гороховца.
В Гороховце уже все изверились, что моя жена приедет. Поэтому, когда за два дня до ее приезда пришла ко мне какая-то женщина и сказала, что во сне видела, как приехала моя жена, я ответил:
— Не верю.
А когда вечером 6 декабря прибежали какие-то женщины с криком: «Ваша жена приехала!», я сказал:
— Неправда.
— Пойдите и посмотрите сами, — обиделись они.
Я вышел. Была метель. Сквозь эту вьюгу я увидел машину. Подошел. У машины стояла женщина. Увидев меня, она упала на колени в снег. Я поднял ее. Это была она, Мария Дмитриевна, или, как я ее называл, — Марийка, с которой я расстался двенадцать лет тому назад 24 декабря, в сочельник 1944 года.
* * *
Но комната, отдельная комната! Нашлась в тот же вечер. У медицинского персонала была приличная комната с кафельной печью. Их выселили вместе с Верой Петровной и хорошенькой Татьяной Яковлевной, медсестрой.
Словом, все устроилось.
* * *
После тюрьмы я воспринял дом инвалидов как большое улучшение жизни. Наоборот, Марии Дмитриевне, несмотря на то, что она тяжело болела в Венгрии и работала «как негр», инвалидный дом показался «дном». И питание, и все другое показались ей ужасными. И прежде всего моя борода — я никогда бороды не носил.
Мне же ее седина показалась трагической. Она завилась барашком и стала маркизой. Слава Богу, она не красилась. Но все это было ничего, она бы привыкла, если бы не окружающая среда. Все эти инвалиды производили на нее удручающее впечатление, несмотря на то, что она была опытной медсестрой, а в Югославии работала несколько месяцев в больнице для туберкулезных детей. Но там руководство принадлежало холодной, но культурной англичанке, у которой на письменном столе стоял маленький портрет английского короля с его автографом. С Верой Петровной она не сошлась, но выкупила у нее обручальное кольцо за какое-то хорошее платье (в шести чемоданах кое-что нашлось). С Онисьей Васильевной дело было лучше — она была богобоязненна, ходила в церковь. А Мария Дмитриевна после периода, когда она увлекалась так называемой христианской наукой, имевшей большую популярность в Америке, вернулась к православию.
В Гороховце был неплохой хор, который пел в так называемом Красном Селе, примыкавшем к городу.
Но все остальное доводило ее до отчаяния. Однако мне удалось выправить этот крен в ее настроении, потому что я мог тогда совершать прогулки, и Мария Дмитриевна ходила очень хорошо.
Она не сумела поладить с врачом, еврейкой по национальности, с которой я ладил. Последняя говорила Марии Дмитриевне:
— Ваш муж до вашего приезда был общим любимцем.
Это любимец выклянчивал сначала у врача некоторое дополнительное питание для Марии Дмитриевны. Потом это отпало. Мне давали вегетарианское питание, но суп был таков, что однажды я не выдержал и попросил врача отведать его. Она попробовала и сказала, что его нельзя есть. Повар же оправдывался!
— А из чего же я могу сделать лучше?
Был белый хлеб, было масло. Все-таки можно было жить. Я заболел только сильным радикулитом. Хороший врач, но не из дома инвалидов, сделал мне глубокое впрыскивание, и на полгода я избавился от этой болезни. Все-таки нам нужны были какие-то деньги. Мария Дмитриевна продавала вещи, которые она привезла с собою, и посылки, что начали приходить от тех же немцев, главным образом от австрийца Креннера. А одна посылка, в десять килограмм, пришла из Америки, от группы русских писателей. Это была вещевая посылка. И до сих пор я еще ношу эти вещи.
* * *
Все-таки прогулки были нашим главным утешением. Мы пересекали Клязьму по мосту и уходили в леса, которые постепенно становились нам знакомыми. Например, полянка, которую мы назвали «Семидубье».
Однажды случилось комическое происшествие. Я вообще потерял способность ориентироваться на местности. Поэтому, когда мы выбрались из какой-то чащи на дорогу, я не спорил с Марией Дмитриевной в отношении направления движения. Но когда мы долго шли, и уже стало темнеть, то я понял, что мы идем на вечернюю зарю, тогда как нам надо было идти в обратном направлении. Но мы еще продолжали идти. Вдруг откуда-то вынырнула какая-то собака и подбежала к нам. Вероятно, охотничья. Затем подошел и сам охотник. Он спросил:
— Куда вы идете?
— В Гороховец.
— Нет, вы идете не в Гороховец. По этой дороге, если пройти двадцать пять километров, вы придете в бывший монастырь. Идите со мною, я иду в Гороховец.
У него было охотничье ружье через плечо. Мы пошли за ним, но Марии Дмитриевне казалось это невероятным.
— Он нас куда-то заводит, — заявила она мне. Я, поддавшись панике, тихонько прошептал:
— Если он нападет, у меня есть палка. Только это надо сделать неожиданно, пока он сам не напал на нас.
По счастью, скоро стало ясно, что мы действительно идем в Гороховец! И стало стыдно, когда он сказал:
— Надеюсь, вы теперь сами дойдете. Мне направо.
И, попрощавшись, удалился, сопровождаемый собакой.
* * *
Впоследствии я узнал, что этот уже закрытый в наше время монастырь не так давно еще существовал. И даже был местом ссылки некоторых бунтарей. Туда, между прочим, сослали всем известного Илиодора, которого, увы, во время второй Государственной Думы мы привезли с Волыни.
Этот монастырь в былое время поставлял в Гороховец огурцы целыми обозами
6.
6 июня — 16 июля 1970 года
Ленинград
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Документы члена III Государственной Думы Василия Витальевича Шульгина (15.Х.1907–9.IV.1912)
(РГИА. Ф.1278. Оп. 9. Д. 907. Л. 1–22)
Анкета члена Государственной Думы
(Л. 1–1 об.)
СВЕДЕНИЯ.
Член Государственной Думы III созыва
1. Фамилия, имя и отчество
Василий Витальевич Шульгин[96]
2. От какой губернии, области или города
Волынской губ.
3. По какому разряду избран (уполномоченными от волостей, рабочими, мелкими или крупными землевладельцами, городскими избирателями по 1 или 2 разряду)
По разряду крупных землевладельцев
4. Сословие (дворянин, крестьянин — какого уезда, волости, деревни, купец — какой гильдии, священник и пр.)
Дворянин
5. Национальность
Русский
6. Вероисповедание
Православный
7. Время рождения или возраст
29 лет
8. Семейное положение (холост или женат)
Женат
9. Образование (домашнее, низшее, среднее, высшее) и какое именно учебное заведение окончил
Университет Св. Владимира по Юридическому факультету
10. Профессия или занятие до вступления в Думу (рабочий, земледелец, землевладелец, торговец, служащий на частной, общественной, городской, земской или государственной службе, с указанием рода службы и пр.)
Землевладелец
11. Имущественное положение (количество десятин принадлежащей на праве частной собственности земли, стоимость другой недвижимости, размер годового жалованья или заработка)
300 десятин земли
12. Принадлежность к политической партии, фракции или группе (в случае непринадлежности ни к одной из существующих партий — желательно указание, к какой из партий данное лицо приближается по своим политическим убеждениям)
Правый
13. Место постоянного жительства
Волынской губ. Острожского у. имение Курганы
14. Место жительства в С.-Петербурге
Фурштадтская 20, кв. 6.
Подпись:
В. Шульгин
Октября 31 1907 года»
Сведения, собранные Министерством Внутренних Дел о члене Государственной Думы
(Л. 4)
Член Государственной Думы от Волынской губернии
1. Фамилия
Шульгин
2. Имя
Василий
3. Отчество
Витальевич
4. Возраст
29 лет
5. Звание (сословие, чин)
дворянин (прапорщик запаса)
6. Вероисповедание
Православный
7. Народность (по родному языку)
русский
8. Степень образования
окончил Университет Св. Владимира
9. Род занятий (профессия или служба)
Землевладелец
10. Постоянное место жительства
с. Курганы Острожского уезда
11. Состоял выборщиком по
Острожскому уезду от
русского отделения съез
да уездных землевладельцев
12. Ценз (или цензы, если их несколько), по которому участвовал в выборах (земля или иное недвижимое имущество, торгово-промышленное предприятие, квартира, служба и т. д.)
земельная собственность
13. Размер ценза (или цензов)
300 десятин
14. Личный ценз или по уполномочию (родителей, жены)
личный
15. Избран в члены Государственной Думы при баллотировке кандидатов из
общего состава избирательного собрания во время
первоначальных выборов
абсолютным большинством голосов и получил
86 избирательных голосов и
18 неизбирательных.
Листок о принадлежности к партийной группировке
(Л. 5)
«Распорядительная Комиссия, имея в виду предстоящее перераспределение мест в зале заседаний соответственно выяснившейся партийной группировке, просит Г. Г. Членов Государственной Думы дать письменные ответы на нижеследующие вопросы:
1. Фамилия, имя, отчество
Шульгин Василий Витальевич
2. Какой № кресла занимает сейчас
3. К какой фракции (или группе) принадлежит
кр. [айне]
правый
4. Если не принадлежит ни к какой из существующих думских фракций или групп, то к какой из них по политическим убеждениям примыкает или приближается
5. В составе каких фракций желал бы сидеть (при невозможности ответа на п. п. 3 и 4)
Настоящий листок по заполнении просят вручить сегодня же кому-либо из помощников пристава для передачи в Распорядительную Комиссию».
Приложение № 2
Документы члена IV Государственной Думы Василия Витальевича Шульгина (11.XI.1912–13.XII.1916)
(РГИА. Ф. 1278. Оп. 9. Д. 908. Л. 1–21)
Сведения о члене Государственной Думы от Министерства Внутренних Дел
(Л. 1)
Член Государственной Думы от Волынской губернии
1. Фамилия
Шульгин
2. Имя
Василий
3. Отчество
Витальевич
4. Возраст
34 лет
5. Звание (сословие, чин)
потомственный дворянин
6. Вероисповедание
православный
7. Народность (по родному языку)
русский
8. Степень образования
курс университета
9. Род занятий (профессия или служба) состоял членом 3-й Думы
10. Постоянное место жительства
имение Курганы Острожского уезда
11. Состоял выборщиком по
Острожскому уезду от русского отделения съезда полноцензовых землевладельцев
12. Ценз (или цензы, если их несколько), по которому участвовал в выборах (земля или иное недвижимое имущество, торгово-промышленное предприятие, квартира, служба и т. д.)
владение землею
13. Размер ценза (или цензов)
300 десятин
14. Личный ценз или по уполномочию (родителей, жены) личный
15. Избран в члены Государственной Думы при баллотировке кандидатов из
общего числа выборщиков во время
первых выборов и получил
96 избирательных голосов и
11 неизбирательных.
Телеграмма Василия Шульгина из Киева Председателю Государственной Думы от 13.X.1913
(Л. 11)
ПЕТЕРБУРГ ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ ГОСПОДИНУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ВВИДУ МЕСЯЧНОГО ОТПУСКА КОТОРЫЙ СИМ ИСПРАШИВАЮ У ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ПРИНУЖДЕН ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗВАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЛЕНА КОМИССИИ О ПЕЧАТИ == ШУЛЬГИН
Письмо из Главного Штаба от 24.X. 1914 в Государственную Думу (препровождение копии письма Министра Юстиции Военному Министру)
(Л. 13 и 14)
В Канцелярию Государственной Думы
При сем препровождается для сведения копия отзыва Министерства Юстиции от 15 сего Октября за № 49699 с изъяснением ВЫСОЧАЙШЕГО повеления о члене Государственной Думы Шульгине.
Генерал-Лейтенант (подпись неразборчива)».

О таковом Высочайшем повелении мною вместе с сим предложенном Правительствующему Сенату к исполнению, имею честь уведомить Ваше Высокопревосходительство, для сведения и объявления члену Государственной Думы Василию Виталиеву Шульгину, вступившему добровольцем в действующую армию. Подлинное подписал За Министра Юстиции Товарищ Министра, Гофмейстер А. Веревкин. Скрепил: Вице-Директор Лядов».
Приказ Армиям Юго-Западного Фронта от 22.VIII. 1914, № 55
(Л. 15)
1. Член Государственной Думы, прапорщик запаса полевых инженерных войск ШУЛЬГИН определяется в службу в 166-й пехотный Ровненский полк.
Основание: ст. 97 положения о полевом управлении войск в мирное время.
Подписал: Главнокомандующий Генерал-Адъютант Иванов.
Телеграмма из Канцелярии Государственной Думы в Штаб Юго-Западного Фронта [1915 год]
(Л. 17)
ИЗ ПЕТРОГРАДА КАНЦЕЛЯРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЫСОЧАЙШИМ ПРИКАЗОМ 19 ИЮЛЯ ЧЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ КОРНЕТ БАРОН КОРФ И ПРАПОРЩИК ШУЛЬГИН УВОЛЕНЫ СЛУЖБЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТСКИМ ДЕЛАМ БЛАГОВОЛИТЕ ПОСТАВИТЬ ИХ О СЕМ ИЗВЕСТНОСТЬ 18935 АРХАНГЕЛЬСКИЙ.
Приложение № 3
Дело Бейлиса
«Киевлянин», № 266 от 27 сентября 1913 г.
Как известно, обвинительный акт по делу Бейлиса есть документ, к которому приковано внимание всего мира. Со времени процесса Дрейфуса не было ни одного дела, которое бы так взволновало общественное мнение. Причина этому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого одного человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий.
При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллионов человеческих умов, русская юстиция должна была бы быть особенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на высоте своего положения. Киевская прокуратура, взявшая на себя задачу, которая не удавалась судам всего мира в течение веков, должна была понимать, что ей необходимо создать обвинение настолько совершенное, настолько крепкокованное, чтобы об него разбилась колоссальная сила той огромной волны, что поднималась ему навстречу. Ибо народ, который русская прокуратура задумала обвинить в ритуальном преступлении, это народ еврейский, т. е. народ самый энергичный, самый беззастенчивый в отстаивании своих интересов, народ к тому же имеющий возможность путем печати кричать на весь мир голосом, способным разбудить мертвых. Идти на такую борьбу надо с хорошо отточенным оружием.
И вот ныне это «отточенное оружие» мы имеем перед глазами. Увы, не надо быть юристом, надо быть просто здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который мало-мальский защитник разобьет шутя. И невольно становится обидно за киевскую прокуратуру и за всю русскую юстицию, которая решилась выступить на суд всего мира с таким убогим багажом.
Но разбор обвинительного акта не входит в задачу этой статьи. Сейчас на нас лежит иной долг, тяжкий долг, от которого, однако, мы не можем уклониться.
Мы должны сказать о том, при какой обстановке создался этот обвинительный акт по делу Менделя Бейлиса.
Убийство Ющинского, загадочное и зверское, вызвало к жизни вековое предание о том, что евреи для своих ритуальных целей время от времени замучивают христианских детей. Эта версия убийства, естественно, взволновала еврейское население. Со своей обычной неразборчивостью средств евреи стали искать, как бы отвести страшную тучу, нависшую над ними. И с большой наглостью пробовали перекинуть подозрение в убийстве Ющинского на его родных. Эти-то происки и послужили, главным образом, причиной того, что в некоторых слоях русского населения и в политических кругах стали опасаться, что евреи собьют полицию и следствие с истинного пути. Как крайнее выражение этих опасений явился запрос правых в Государственной Думе, обвинявший киевскую полицию в сокрытии истинного характера убийства под давлением евреев. При обсуждении этого запроса член Государственной Думы Замысловский дошел до утверждения, что евреи только в тех местностях совершают ритуальное убийство, где им удалось подкупить полицию. И что самый факт совершения ритуального убийства в какой-либо местности уже свидетельствует о том, что полиция в этой местности подкуплена.
Замысловский не довел своей мысли до конца. Ибо, если евреи замыслили ритуальное убийство христианского ребенка в Киеве только тогда, когда заранее условились с христианской полицией города Киева о цене проданной им христианской крови, то как они могли ограничиться только полицией? Уголовные следствия ведут судебные следователи под руководством прокуратуры и под надзором окружных судов и судебных палат. Что может сделать для евреев полиция, как только следствие передано в ведение судебного следователя и прокурора? Ведь раскрывает преступление следственная власть, которая имеет возможность расстроить всякую махинацию с евреями какого-то околоточного надзирателя или пристава. Конечно, евреи не так бессмысленны, чтобы положиться на полицию в столь опасном деле. Для сокрытия злодеяния, раскрытие которого грозило по меньшей мере повторением Кишинева, они, конечно, не остановились бы на околоточном, а пошли бы гораздо дальше. А потому Замысловский непоследовательно остановился на полдороге. Надо было идти дальше, надо было бросить обвинение в сокрытии ритуальных злодеяний против судебного следователя, против прокурора окружного суда, против прокурора палаты.
Замысловский этого не сделал. Но, по-видимому, эта мысль, затаенная, но гнетущая, привилась, дала ростки. Боязнь быть заподозренным в каких-то сношениях с евреями оказалась для многих непосильным душевным бременем. И мы знали мужественных людей, которые смеялись над бомбами и браунингами, но которые не смогли выдержать гнета подобных подозрений. И как это ни странно, но заявление Замысловского оказало самое решительное давление на киевскую прокуратуру.
По крайней мере, прокурор киевской судебной палаты Чаплинский стал действовать так, будто единственной целью его действий было убедить Замысловского, что он, прокурор палаты, чист как стекло в этом отношении.
Версию о ритуальном убийстве Ющинского нелегко было обосновать на каких-нибудь данных. Начальник киевской сыскной полиции Мищук отказался видеть в изуверствах, совершенных над мальчиком Ющинским, ритуальный характер.
Следуя рецепту Замысловского, рекомендовавшего при расследовании ритуальных убийств немедленно устранять всю местную полицию и посылать «свежих» людей, прокурор Чаплинский устранил Мищука от этого дела. Мищук был предан суду. Судебная палата единогласно оправдала Мищука. Тогда по протесту прокурора из-за формальных нарушений самого пустячного свойства дело было кассировано и сенат передал дело на новое рассмотрение в харьковскую судебную палату. Нам доподлинно известно, что среди лиц, дорожащих и болеющих за русскую власть, дело Мищука вызвало самые серьезные к тревожные размышления.
Устранив Мищука, судебная власть призвала на помощь жандармского подполковника Иванова, а этот последний пригласил известного сыщика Красовского. Красовский — это тот самый ловкий человек, который несколько лет тому назад нашел убийц семьи Островских.
Нам неизвестна точка зрения подполковника Иванова. Но Красовский, как и его предшественник Мищук, тоже решительно отверг ритуальный характер убийства и приписывал преступление шайке профессиональных негодяев, группировавшихся около Веры Чеберяк. В этом направлении Красовским было произведено серьезное расследование, результаты которого были доложены прокуратуре.
Когда точка зрения Красовского выяснилась, он, как и Мищук, был устранен от дела и так же, как и против Мищука, против Красовского было выдвинуто какое-то обвинение, — он был предан суду.
Когда таким образом два начальника сыскных отделений были устранены, дело пошло…
Вся полиция, терроризированная решительным образом действий прокурора палаты, поняла, что если кто слово пикнет, т. е. не так, когда хочется начальству, будет немедленно лишен куска хлеба и, мало того, посажен в тюрьму. Естественно, что при таких условиях все стихло и замолкло, и версия Бейлиса стала царить «рассудку вопреки, наперекор стихиям», но на радость г. прокурору палаты.
Мы не пойдем за г. Замысловским. Как мы не верим тому, чтобы евреи могли подкупить всю полицию города Киева для такого ужасного дела, так мы не верим в то, что г. Чаплинскому удалось терроризировать всех своих подчиненных. Мы убеждены, что и в среде маленьких людей найдутся честные люди, которые скажут правду даже перед лицом грозного прокурора. Но мы утверждаем, что прокурор Чаплинский запугал своих подчиненных и задушил попытку осветить дело со всех сторон.
Мы вполне взвешиваем значение слов, которые мы сейчас произнесли. Но мы должны были их сказать, и мы имеем право говорить.
Мы были и всегда будем истинными друзьями русского суда, мы верим в великое дело Александра II. И в тяжкие минуты, когда на русский суд сыпались несправедливые, незаслуженные обвинения, мы защищали его всеми доступными нам средствами. Защищали и на скромных страницах «Киевлянина», защищали и с всероссийской трибуны Государственной Думы.
И мы будем говорить… Мы не устанем повторять, что несправедливое дело не даст желанных плодов. Мы не устанем повторять, что суд не должен быть орудием ни левых, ни правых, а должен быть просто судом — тем прибежищем, где можно найти защиту против несправедливостей, продиктованных политической страстью. И как ни казалось бы выгодным и нужным с точки зрения партийной доказать существование ритуальных убийств, прокурорская власть не должна была, не имела права заниматься поставкой живого объекта, необходимого для возникновения такого рода процесса.
Меж тем это именно и было сделано.
— Что нам Бейлис! Нам нужно доказать ритуал! А Бейлис… Его хоть пусть оправдают.
Вот что говорят.
Но вы не смеете говорить так! Не смеете, потому что это чудовищная теория, потому что, рассуждая так, вы, твердящие о ритуале, сами совершаете человеческое жертвоприношение. Пусть ничтожен этот Мендель Бейлис, но все же вы не имели права засадить его в тюрьму, раз вы не имели убеждения в его виновности. Именно в вашей убежденности все дело! И вы не только не были убеждены в его виновности, но совсем не думали о нем, вы относились к нему, как к кролику, которого кладут на вивисекционный стол.
Ужас в том, что вы до сих пор не поняли всей недопустимости такого дела, ужас в том, что вы сейчас твердите на все лады:
— Что нам Бейлис?
О, господа, берегитесь! Есть вещи, есть храмы, которых нельзя безнаказанно разрушать. Кто знает, быть может, когда-нибудь придет пора, когда вместо прокурора Чаплинского, ищущего ритуальных убийств, станет во главе суда человек, «добывающий» еврейских погромщиков. И что вы скажете, если кого-нибудь из вас тогдашнее судебное ведомстве наметит для этого рода операции? И как вы себя будете чувствовать, если сквозь стены вашей тюрьмы до вас будут долетать равнодушно-циничные возгласы:
— Что нам Замысловский? Что нам Шмаков? Пусть их хоть оправдают! Ведь нам нужно осветить организацию еврейских погромов!
Горько нам писать все это. Но, приняв редакторское перо из умолкнувшей руки Дмитрия Ивановича Пихно, — мы над гробом его поклялись, что неправда не запятнает страниц «Киевлянина».
«Киевлянин», № 267 от 28 сентября 1913 г.
Вчерашний номер «Киевлянина» конфискован.
За свою полувековую жизнь «Киевлянин» много перевидел, пережил, перечувствовал. Было и светлое солнце в его жизни, были дни ненастья, были и грозовые бураны. «Киевлянин» благодарил Бога за хорошие времена и, сколько хватало сил, держался против бури.
Так будет и впредь.
Во всякий день и во всякий час, когда «Киевлянин» признает это нужным, он скажет свое мнение и скажет именно теми словами, которые в данном случае найдет уместными.
Приложение № 4
Открытое письмо Вас. Шульгина г-ну Петлюре
Милостивый Государь.
Ровно год тому назад, когда Киев, как и сейчас, сжимался кольцом большевиков, ко мне явился некий француз из миссии по имени, который заявил мне следующее.
Украинцы разделились. Явно изменническая политика Грушевского и Винниченко, продавшихся или предавшихся немцам, глубоко возмущает г-на Петлюру, почему он тайно организовал Младо-Украинскую Партию ( ), которая желает работать с Антантой и быть в теснейшей связи с Россией.
Друзья Петлюры желали бы переговорить со мной и поискать, не найдется ли у русской партии г. Киева, во главе которой я стоял, общих точек соприкосновения.
Тогда я не знал, кто такой г-н, как не знала его французская миссия, доверявшая ему. Теперь этот господин на совершенно определенном счету и ему грозит суд. Но тогда этого никто не знал, и я согласился при его посредстве познакомиться с друзьями г-на Петлюры.
От них я узнал следующее:
Петлюра хочет порвать с Грушевским и Винниченко. Они в сущности большевики, а кроме того, всецело преданы интересам Германии и ненавидят Россию. Он же, Петлюра, имеет только двух врагов: немцев и большевиков… и только одного друга — Россию. Поэтому разрыв неминуем.
Выслушав с интересом заявление о зарождении Молодой Украйны, я спросил, чем я могу быть ей полезен.
Мне ответили, что Киев в страшной опасности и что украинцы своими силами защитить его не могут, ибо украинские войска это одно недоразумение и стихийно переходят на сторону большевиков. Что около меня как редактора «Киевлянина» группируется очень много русских офицеров и что я мог бы помочь защитить Киев, если бы заключил соглашение с молодой Украйной, направив офицеров в украинские части.
Подумав, я ответил, что ввиду опасности, угрожающей моему бедному (?) народу, я готов заключить соглашение с Молодой Украйной и условия мои не будут тяжелы. При этом я подчеркнул, что, вероятно, эта минута никогда не повторится уже больше в смысле уступчивости политических требований.
Мои условия были следующие:
Эта страна, в которой мы живем и о которой спорим, обе стороны будут называть «Русью-Украиной» и народ ее населяющий «русско-украинским». Будет провозглашено равноправие языков русского и украинского. Офицеры, которыми хотят воспользоваться, образуют русский полк, во главе которого станет русский генерал. Затем следовали технические условия формирования. Все это было изложено мною в письменной форме.
Не знаю, показались ли эти условия неприемлемыми или по другим причинам, но дальше разговоров не шло. Однако за два дня до вступления большевиков сам собой образовался русский отряд, под прикрытием которого Вы, Милостивый Государь, убегали из Киева.
И вот тут-то начинается Ваша история, столь противоречащая заявлениям Ваших друзей младо-украинцев.
Вы утверждали, что немцы Ваши злейшие враги. Однако это не помешало Вам действовать с ними в добром согласии, когда старо-украинцы осуществили давно задуманный ими изменнический план и позвали немцев в Киев. Вы, Милостивый Государь, торжественно вступили в Киев с ничтожной горсточкой Вашего украинского отряда за полчаса до того, как «Украинскую» столицу заняли немцы. Ни малейшего протеста, хотя бы даже в виде газетной статьи, которую позволил себе Ваш покорный слуга Вашим злейшим врагам, Вы не оказали.
Правда, Вас скоро посадили в тюрьму, но ведь то же самое произошло и со старо-украинцами, преданнейшими друзьями немцев, и доказывает лишний раз только одно: у немцев нет друзей, а есть только слуги, которых наказывают, когда они провинятся.
Таким же покорным рабом немецких велений был и гетман Скоропадский, опозоривший свою звонкую фамилию. Когда «Его Светлость», заслышав, что из Одессы должен прибыть г-н посильнее, требующий Единой России, он пробовал пропищать что-то не согласное с планами немцев.
Взбунтовавшегося раба решено было немедленно наказать. И тогда из тюрьмы выпустили Вас, Милостивый Государь, и приказали Вам съесть Скоропадского. В Киеве прекрасно известно Вам помещение, где заседали совместно украинцы (уже переставшие делиться на молодых и старых), немцы и большевики. На этих совместных заседаниях и было все решено. Немцы, обратив внимание на огромное число военнопленных, голодных и полуголых, возвращавшихся из плена, предложили Вам накормить, одеть и вооружить этих людей, для чего открыли Вам шестьсот складов, находившихся в их распоряжении на территории Тит же окрещенной Украины.
Так и образовалась, Милостивый Государь, Ваша армия при деятельной помощи злейших врагов немцев.
Но этого мало. Во главе этой армии Вы поставили австрийских офицеров и во главе Киева беснуется капитан австрийской службы и по всей вероятности давнишний австрийский шпион, как большинство Ваших сотрудников.
В дополнение картины вернувшийся из Берлина Шелухин (из субъектов вроде Галипа, переживающих все режимы), сделал доклад так называемой Директории, в которой и Вы самозванничаете, в том смысле, что он, Шелухин, подписал от имени Украинской Республики союзный договор с Германией. При этом Директорией было высказано, что единственный настоящий друг Украины — это немцы и что Германии нужно держаться во всяком случае. Должен сознаться, что в этом случае Директория держится совершенно правильных взглядов.
Из этого, Милостивый Государь, я делаю заключение, что Вы обманывали Ваших друзей младоукраинцев, заявляя им, будто немцы Ваши злейшие враги.
Теперь перейдем к большевикам, с которыми Вы будто бы боретесь. В этом случае очень характерен рассказ про то, как Вы ссорились с Винниченкой: «Дошло до того, что Петлюра… выхватил револьвер…». Никогда до ничего большего и не дойдет. Вы все будете только выхватывать револьвер, но никогда не пустите его в дело. Почему?
Да потому что все Ваши ссоры это одна комедия. Разве Вы не подписывали квитанции о том, что каждый Ваш солдат получит 25 десятин земли? Разве Вы не понимали, что это чисто большевистский отвратительный прием самого низкого разбора (?) — пули в лоб Вы дадите этим несчастным обманутым мужикам, а не землю. А меж тем обманутые надеждой раздразненные аппетиты, когда обман обнаружится, заставят их бросаться на грабеж, насилие, убийства, чтобы чем-нибудь залить чувство обиды, которую Вы нанесли Вашими обманными обещаниями.
Генерал Бартоло недаром публично признал Вас виновником всех ужасов, совершающихся по краю. Да Вы и есть автор всех этих ужасных убийств и зверств, которым подвергается интеллигенция в городах и все мало-мальски зажиточное крестьянство, на которых Вы Вашими воззваниями натравили преступные или неустойчивые элементы.
Нет, большевики отнюдь не злейшие враги Ваши. Это тот элемент, из которого Вы почерпнули Ваши войска, и Вы воевать с ними не можете. Они убьют Вас, если Вы не убежите, как только Вы попробуете оказать им какое-либо сопротивление. И они будут правы. Нельзя так бессовестно обманывать массы, как Вы это делали.
Вы утверждаете, что боретесь с московскими большевиками. На здоровье. Но борьба с Лениным вовсе не есть борьба с большевизмом, если вместо Ленина в Киеве будет г-н Винниченко, Ваш друг и приятель. Они отличаются так мало, что в конце концов еще большой вопрос, что лучше, Ленин, уже напившийся кровью, или Коновалец, капитан австрийской службы, только что начавший кровавую оргию.
Из этого я делаю заключение, что Вы обманывали Ваших друзей младоукраинцев, когда говорили, что большевики Ваши злейшие враги. Вы как Марта Швеерлей готовы вступить в союз хоть с самим сатаной, лишь бы Вам пародировать на Украине политическую жизнь.
И, наконец, перейдем к третьему Вашему утверждению: Россия — Ваш единственный друг. Было бы смешно, если б не было так больно, говорить об этом сейчас.
Вы отлично знаете, что по переписи 1917 г. 62 % населения города Киева считает родным своим языком русский язык и только 9 % [— украинский]. И вот Вы, называющий себя демократом, в угоду этим 9 % запретили все русские газеты, сняли или варварским образом уничтожили все вывески и надписи на русском языке, заменив их безграмотным жаргоном галицийского происхождения. Под страхом смертной казни Вы запретили в русском городе Киеве, который считается колыбелью Руси, Вы запретили всякое проявление национальных стремлений, называя это государственной изменой. Подкованный сапог Коновальца, австрийского капитана, измывается над городом должно быть во исполнение программы Вильсона о правах народа.
А что сделали Вы с русскими офицерами, помощи которых Вы просили год тому назад, и кто знает, не попросите ли сейчас? Захватив в плен город, сданный Вам презренным Скоропадским, Вы по тайному списку, составленному Коновальцем, расстреливаете по ночам беззащитных людей. Вы заперли их в музей, заманив туда обманным образом, и обрушили на их головы стеклянный потолок, искалечив сотни людей, доверившихся великодушию Петлюры. Вы арестовываете их по всем дорогам, когда они бегут из Киева, сделавшегося огромным застенком.
А вся та бешеная ненависть, которая проявляется в каждом слове Ваших друзей, которая струится со страниц печати, которой полны Ваши воззвания, о чем свидетельствует все это? Только об одном: Вы злейший враг России.
Я кончаю. Цель настоящего моего открытого письма сказать Вам перед лицом России и Франции, что Вы или обманщик или ничтожный человек, которым руководят другие. Горе тем, кто пойдет за Вами и доверится Вам. Вы предадите в самую трудную, самую последнюю минуту, как Керенский, на которого Вы очень похожи, предал Корнилова.
К этому я могу только прибавить, что Главнокомандующий Добровольческой Армией генерал Деникин, от которого я получил телеграмму, ни на какие соглашения с Вами и Вам подобными вступать не намерен.
В. Шульгин
Приложение № 5
Возможно ли признание украинского государства?
(Мотивы отказа В. В. Шульгина и А. И. Савенко от украинского гражданства)
2 августа 1918 года В. В. Шульгин и А. И. Савенко подали представителю украинского правительства заявление об отказе их от принятия украинского гражданства. Заявления эти, идентичные по содержанию, содержат в себе всестороннюю научно-историческую, юридическую и политическую мотивировку,
посвященную доказательству того положения, что для создания особого украинского государства не имеется абсолютно никаких объективных оснований.
Для обоснования указанного положения авторы заявлений приводят следующие данные и соображения.
Для существования государства необходимы:
1) Историческая основа.
2) Если исторической основы нет и государство вновь нарождается, то необходимы такие обстоятельства современности, которые повелительно требуют возникновения нового государства.
3) Международное положение, делающее возможным бытие государства в ряду других, соседних держав.
Имеется ли наличность этих обстоятельств или условий для Украинской Державы?
Рассмотрим каждую из трех указанных сторон вопроса в отдельности.
1. Историческая основа. Многочисленными кропотливыми и добросовестными исследованиями установлено совершенно непреложно, что Украинской Державы никогда не существовало.
Историю земель, тяготеющих к Киеву, можно делить на несколько периодов. Первый период — древний, когда под властью князей дома Рюрика собралось сильное государство с Киевом во главе. Все неоспоримые исторические акты, как русские, так и иностранные, единогласно всегда и всюду называют это древнее Киевское государство Русью, всех князей дома Рюрика — князьями русскими и все земли, находившиеся под властью этих русских князей, — землями русскими. Ни о какой Украинской Державе никогда не было и речи.
Древнее русское государство, разрушенное столько же нелепым порядком престолонаследия, сколько татарами, покончило свое существование в тринадцатом веке. Его заменили два новых центра, постепенно складывавшихся. На восток от Киева образовалась держава, впоследствии ставшая Московским царством. На запад от Киева формировалось Галицко-Волынское королевство. Оставляя в стороне восточное образование, рассмотрим, не было ли Галицкое государство искомой Украинской Державой? Ничуть. Историческими исследованиями установлено, что галицко-волынские князья, принявшие титул «королей русских», об украинском государстве имели столько же представления, как об украинском языке, украинской литературе и украинском народе, т. е. ровно никакого. Они свою державу считали русской, свой язык называли словено-русским, свою письменность обозначали выражением «письмо руськое», а про свой народ говорили: «народ руськый веры греческой». Иностранные государства и народы называли Галицко-Волынское королевство Малой Русью. Это название было впервые введено в употребление греческими патриархами, называвшими так Галицкую Русь в отличие от Московской, но никто никогда не оскорблял Галицкое королевство названием Украины, т. е. окраины.
Третьим периодом надо считать эпоху после падения Галицко-Волынского княжества до Богдана Хмельницкого. В эту эпоху никакой Украинской Державы не было уже хотя бы потому, что территория, на которую распространяют это название, не была независимой, а вошла в состав Польско-Литовского королевства. И в эту эпоху никакого украинского народа и украинского языка наш край не знал, а знал только народ русский и язык русский. Термин «Малая Русь» в эту эпоху территориально расширился, перейдя и на левый берег Днепра, но общее название нашей страны по-прежнему было просто — Русь. В титуле королей польских мы читаем: «Божьей милостью такой-то, король польский, великий князь литовский, русский и пр.», но не найдем ни одного случая, чтобы глава государства назывался королем или великим князем украинским.
Следующим периодом в истории нашего края надо считать эпоху Богдана Хмельницкого. Совершенно бесспорным представляется нижеследующее: Богдану Хмельницкому никогда и в мысль не приходило создание какой-то Украинской Державы. Надежды знаменитого гетмана обрисовались с совершенной определенностью в фразе, которая вырвалась у него в эпоху наивысшего расцвета его славы: «выбью з лядськой неволи увесь наш народ руськый», — так сказал Богдан Хмельницкий. Но еще с большей ясностью эта же терминология проведена в знаменитой речи Богдана Хмельницкого на Переяславской Раде 8 января 1654 года. Богдан говорит, что он боролся за то, чтобы поляки не уничтожили
самое имя русское, и край, который он отдавал под высокую руку московского царя, называет Малой Русью. Ни о какой Украине даже и речи не было.
Последний период — это эпоха после Богдана Хмельницкого и до наших дней. Никакой Украинской Державы за эти два с половиной века не было по той простой причине, что все русские земли, тяготеющие к Киеву, были разделены между Москвой и Польшей. При этом постепенно Москва отбирала их от Польши одну за другой. Этот процесс собирания русских земель закончился при Екатерине II-ой. Изменническая затея Ивана Мазепы никакого последствия не имела, кроме разве одного: Малороссия была еще теснее соединена с остальной Русью, причем орудием Императора Петра I-го в этой области был гетман Скоропадский.
Итак, просмотрев всю историю Малороссии, мы убеждаемся, что никогда, ни в какую эпоху Украинской Державы не существовало. Земли же, которые ныне зачисляются во вновь сфабрикованную Украинскую Державу, всегда и неизменно считали себя русскими, причем в более древний период назывались просто Русью, а в позднейший — Малой Русью.
Это, впрочем, вполне понятно. Слово «Украина» означает то, что находится «у края», т. е. оно равносильно слову «окраина». Независимое государство не может быть украиной, т. е. окраиной. Если бы оно было окраиной, то оно было бы зависимо от того государственного целого, окраиной которого оно является. Земли, которые обозначались термином «Украина», всегда и являлись окраиной какого-нибудь государства — Руси, Польши, Литвы, Москвы. Существовали у нас даже окраины отдельных провинций, называвшиеся также украинами. Так, были Украины Тульская, Рязанская, Смоленская, Псковская и т. д.
И если при настоящих обстоятельствах наш край будет называться Украиной, т. е. окраиной, то невольно возникает вопрос: чьей же окраиной он будет?
Как бы ни отвечать на этот вопрос, тем не менее ясно, что украинского, т. е. окраинного гражданства по существу быть не может. Это совершенная бессмыслица и фальшь.
Но эта фальшивая бессмыслица имеет вполне реальную и очень злую цель. Термины: Украины, украинцы, украинский язык, Украинская Держава имеют одно назначение: вытравить в умах местного населения сознание, что этот край русский, что жители его — самые русские из всех русских, что языком развитой части населения его является литературная общерусская речь, в то время как наша деревня пользуется
малороссийским просторечием, точно так же, как деревня в Великороссии пользуется великорусским просторечием. Но мы, природные жители этого края, дорожащие своей принадлежностью к единому русскому народу, народу, которому, несмотря на все выпавшие ныне на его долю испытания, суждена еще великая будущность, мы, сыны великого народа, не хотим отрекаться от славного национального имени наших предков, за которое они столько веков боролись, и не можем перевертываться в каких-то украинцев без роду и племени: мы русскими родились, русскими и останемся.
2. Современные условия. Итак, исторические исследования показывают, что Украинской Державы никогда не было. Но, может быть, современные обстоятельства таковы, что повелительно требуют ее возникновения?
Тщательное обдумывание этого вопроса приводит к совершенно обратным выводам. Еще можно было бы до известной степени понять временное существование отдельного Южно-Русского государства, пока север России находится во власти большевиков, т. е. можно разделять точку зрения, высказанную атаманом Войска Донского Краснова. Но образование не только Украинской, но даже отдельной Южно-Русской Державы, так сказать, на вечные времена не имеет под собой решительно никакого основания. Материальные и духовные узы так тесно связывают север России с югом, что ни одна из частей единого русского государства порознь не может рассчитывать на действительно независимое и благополучное существование. Мы не должны забывать того обстоятельства, что русский народ в его совокупности только тогда получил действительную независимость и безопасность со стороны соседей, когда началось соединение Великорусского и Малорусского племени. Петр Великий строил свою Великую Русскую Державу на фундаменте, заложенном Богданом Хмельницким. В частности, наша Родина — Малороссия до указанного воссоединения всегда была раздираема как ее соседями, так и внутренней анархией. И каковы бы ни были ныне планы и намерения соседних держав, север и юг России, искусственно разгороженные китайской стеной 20-го века, будут неудержимо стремиться к соединению и в конце концов соединятся. Но борьба за объединение русского народа вызовет новые потоки крови, новые потрясения и войны. Кто не желает приложить руку к тому, чтобы поставить на пути русского народа новые неисчислимые бедствия, одинаково страшные как для севера, так и для юга, тот не должен и участвовать в создании Украинской Державы.
Но, может быть, мы стоим перед неодолимым, стихийным национальным украинским движением? Может быть, русский народ, живущий на территории Южной России, вдруг почувствовал себя «украинским» народом и стихийно жаждет создать свое собственное Украинское государство? Может быть, надо склониться перед эти стихийным движением?
Люди, изо дня в день наблюдающие то, что происходит у нас, знают, что ничего подобного нет и не было. Украинское движение, несмотря на военную и материальную поддержку из-за границы, не захватило ни культурного класса, ни низов южно-русского народа. Лучшее доказательство этому — Киев, который украинцы называют «столицей Украинской Державы».
Эта столица Украинской Державы по переписи 1917 года дала 55 процентов русского населения и 12 процентов украинского. Оказалось, что украинцев в столице Украинской Державы даже меньше, чем евреев, потому что последних насчитано 18 процентов. Самой сильной партией в январе 1918 года на выборах в Украинское Учредительное Собрание в Киеве оказался «Внепартийный блок русских избирателей», т. е. та политическая группа, которая самым резким образом отрицает Украинскую Державу и стоит за единую Россию. Университеты Киевский, Харьковский, Одесский, равно как и Киевская Духовная Академия и Киевский Политехнический Институт, также решительно высказались против украинского отщепенства. Члены Государственных Дум от южно-русских губерний всех четырех созывов также отрицали в своем подавляющем большинстве украинский сепаратизм. Словом, интеллигенция, культурный класс Южной России, которой навязывают украинскую идею, чувствует к ней совершенно определенное отвращение.
Что же касается деревни, то настроения ее характеризуются очень хорошо известным украинским деятелем Ефремовым, который писал по этому поводу в газете «Новая Рада» нижеследующее: «В селе не знают партий. В селе не понимают программ. В селе не разбираются в партийных спорах. Здесь могут идти или за известными всем людьми, значит, по принципу особенному, или за яркими лозунгами, простыми, каждому ясными, как например, магический лозунг “без выкупа”. А так как людей, всем хорошо известных, у нас прежняя жизнь не выдвинула, то остался, очевидно, принцип громких лозунгов, иначе говоря, бессовестная демагогия!».
Вот этой-то бессовестной демагогией и занимались господа украинцы, внедряя украинство в село. Крестьянам было объяснено, что только
украинцы получат землю. Естественно, что после этого малорусская деревня объявила себя украинской — точно так же, как несколько лет тому назад некоторые малороссийские губернии сплошь записались в «Союз русского народа».
Однако жизнь учит. И если бы теперь перед деревней ясно и прямо поставить вопрос, желает ли она Украинской Державы, то после того, как деревня испробовала, какие прелести принесли ей украинцы, ответ получился бы точно такой же, как при Богдане Хмельницком: «Волим под Царя Восточного Православного».
И во всяком случае мы, здешние природные жители, свидетельствуем и заявлением о следующем: культурный класс в Малороссии высказал совершенно определенно свое отрицательное отношение к Украинской Державе; низы же народа по вопросу об отделении от остальной России опрошены вовсе не были, так что отделение от России и провозглашение «украинской самостийности» произведено помимо воли населения: народ в этом акте никакого участия не принимал.
Можно ли при таких условиях утверждать, что среди нашего населения существует стихийная потребность образования Украинской Державы? Ни один добросовестный человек утверждать этого не посмеет.
3. Международное положение. Но если нет и, по нашему мнению, и не может быть серьезного движения в пользу Украинской Державы среди малорусского населения, то было бы в высшей степени неправильным утверждать, что вообще не существует мощных сил, которые эту Украинскую Державу поддерживают.
Эти силы суть так называемые центральные государства.
Не подлежит никакому сомнению, что создание квази-самостоятельной Украинской Державы с очень давнего времени входит в планы как Австро-Венгрии, так и Германии. Многочисленная литература совершенно определенно свидетельствует о том, как австрийская и германская политическая мысль сходилась на положении, что расчленение России будет благотворно для держав центрального блока. Недавно изданная в Вене немецкая карта является показателем того, как немцы рисуют себе будущее России: Россия должна быть разбита на 16 самостоятельных государств.
В этом плане раздела Российской Империи отделение Южной России от Северной под видом образования Украинской Державы являлось всегда самым важным шагом. Теперь этот шаг сделан и мы видим, что Украинская Держава поддерживается всей мощью держав центрального блока.
И тем не менее, несмотря на такую поддержку, международное положение Украинской Державы отнюдь не может считаться сколько-нибудь прочным, ибо против центральных держав воюют не менее мощные силы держав Согласия. Война продолжается и в настоящую минуту, в августе месяце 1918 года, крайне трудно решить, на чьей стороне будет окончательный перевес.
Если бы образование Украинской Державы входило в планы обеих воюющих между собой сторон, то таковую державу можно было бы считать в международном отношении прочной, ибо она удерживалась бы независимо от исхода войны. Но так как державы Согласия определенно поставили на своем знамени в числе главных целей войны и восстановление России в ее прежних границах, то существование Украинской Державы находится в прямой и неизбежной связи с тем или иным исходом войны.
В случае, если перевес окажется на стороне держав Согласия, — Украинской Державы не будет.
Приложение № 6
Аншлусс и мы1
I.
Самостийники, халатники, аншлусс и имя русское
Некоторые думают, что
аншлусс произошел 13 марта 1938 года. Это верно, но — это второй аншлусс. Первый был 8 января 1654 года.
Знаменитая
Переяславская рада началась словами Богдана Хмельницкаго: «Враги… хотят, чтобы самое
имя русское не произнеслось в нашей земле»; продолжалась, прерываемая решительными возгласами: «Волим
под царя»; окончилась вдохновенной молитвой: «Боже, утверди! Боже, сохрани!.. Дабы мы все
едины были».
В переводе на немецкий язык все это происшествие не может быть изображено более точно, чем словами:
Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer![97]
Хмельницкий воссоединил два русских народа,
северный и южный, в
единый русский народ. Ein Volk!
Гетман включил
великую Русь и
малую Русь в одно государство. Ein Reich!
Батько Богдан поставил во главе обоих русских народов одного вождя:
царя. Ein Fiihrer!
Таким образом,
Адольф Гитлер в 1938 году полностью повторил то, что совершил Богдан Хмельницкий еще в 1654 году. Но есть и разница: Гитлер соединил в себе два лица — и гетмана, и царя. С Шушнигом, который мог бы быть «за Хмельницкого», что-то такое приключилось, почему в Австрии персонажа, аналогичного нашему гетману, не оказалось. Впрочем, в этом и не было особой необходимости. Судьба устроила так, что во главе
северного Reich’a стал человек из
южного; иначе сказать — во главе
Германии был
австриец. Если бы «великий государь
Олексей Михайлович» «был из хохлов», то, может быть, Хмельницкого и не понадобилось бы — в качестве инициатора
аншлусса 1654 года: царь знал бы сразу все то, что он ясно понял только после настояний гетмана.
Это единственная разница между двумя аншлуссами. Во всем остальном они представляют разительное сходство. И это сходство знаменательно.
* * *
Часто приходилось слышать от людей, не понимающих сущности так называемой
Украинской проблемы, нижеследующее:
— И чего это В. Шульгин и его единомышленники такое значение придают
словам? Ну, не все ли равно, называться
русскими или
украинцами? Важно единственно то, чтобы Украина не отделилась от России!
При свете
аншлусса, может быть,
теоретические сторонники
одного Reich’a поймут, наконец, то, что давно отчетливо знают самостийники, то есть люди, которые
практически добиваются разделения России на
два Reich’a.
* * *
Пока есть налицо
ein Volk, два
Reich’a могут быть только явлением временным. История идет своей дорогой: она собирает людей воедино, то есть в известные группировки, по тем или иным признакам. Один из сильнейших таких магнитов взаимного влечения — это сознание своей принадлежности к
единому народу. Для XX века это притяжение по национальному признаку есть сила
первенствующая.
Если в иные времена
единый Reich формировал
единый Volk, то сейчас проблема поставлена обратно:
единый Volk делает
единый Reich. Аншлусс Адольфа Гитлера этому ослепительное доказательство.
* * *
Украинцам их руководителями была в свое время дана определенная задача: разорвать единую Россию на
два Reich’a! Талантливые исполнители чужих предначертаний, они очень хорошо усвоили, что такая установка есть
эфемерид, пока
два Reich’a не опираются на два
Volk’a. Поэтому-то с такой страстностью и упорством они стремятся создать эти два народа:
украинский и
русский. В случае успеха, то есть если эти два народа «таки да»
будут сделаны, установка
«два Reich’a» обопрется на серьезный фундамент. Если же будет
два Reich’a, но
один Volk, два государства, но один народ, то этот последний, рано или поздно, сломает искусственные границы государств, эти условные заборы из таможен, виз и полиции; сломает и сольется в одно органическое национальное тело, как на наших глазах слились Австрия и Германия, хотя их разделяла вековая история самостоятельного существования.
Все это хорошо знают упорные создатели
бифуркации, но столь же ясно знаем это и мы, сознательные адепты
единого русского государства. По этой-то причине мы первее всего бережем
имя русское, по завету незабываемого нами никогда батьки
Богдана Хмельницкого.
* * *
Перед нами мутная эпоха: о ней мы можем только гадать. Весьма возможно и то, что внешние силы при ликвидации
великого коммунистического опыта не удовольствуются тем, что Россия, положенная на вивисекционный стол, своими неслыханными мучениями
раскрыла глаза остальной Европе. Народ, отданный на заклание
ради блага всех, казалось бы, имеет некоторое право на то, чтобы иные народы, воспользовавшиеся его страданиями как спасительным для себя уроком, уважали его послеболезненную слабость. Но как раз этого может и не случиться. Жадность и жестокость могут победить; и в период ликвидации большевизма может произойти земельный грабеж исконно русских территорий.
Если эти территории отойдут под чужое владычество, высоко держа над собой
имя русское, грабители недолго будут пользоваться плодами своего ослепления и своей непоследовательности. Те же причины, что уже вызвали немецкий аншлусс (13 марта 1938 года), вызовут когда-то и
новый аншлусс, аншлусс русских земель. В подходящую минуту, когда ослабеет аркан, захвативший запад и юг России, с неодолимой силой взмоет вопль:
Ein Volk! Ein Reich! Ein Fiihrer!
Стальные птицы и бронированные скороходы в течение нескольких часов займут те территории, откуда
русская земля пошла стала есть. И тот или та, что тогда будет стоять во главе России, отчеканит новую медаль со старой надписью:
«отторженное возвратихъ».
* * *
Отторжение русских земель только что изображено нами в виде грабежа. Но процесс можно мыслить и иначе, в форме —
благодеяния.
Жить «под большевиками» есть такое удовольствие, что освобождаемое из-под их власти население будет чувствовать себя как бы наново на свет Божий народившимся. Это в высшей степени важное соображение, забывать о котором больше чем преступление, ибо это была бы
грубая ошибка. Я об этом ни минуты не забываю; но существо дела, и принимая во внимание эту сторону вопроса, остается неизменным.
Ведь благодетельствованными можно быть как под своим именем, т. е. именем
русских, так и под псевдонимом
украинцев.
Разберем оба случая:
Когда большевики падут не только на
отторженных территориях, но и в остальной России, установка
«благодеяния» найдет свое естественное завершение. Тогда начнет работать лозунг:
Ein Volk! Ein Reich! Ein Fiihrer! — и, в конце концов, восторжествует. Ведь не от Сталина была, в самом деле, освобождена Австрия: только от Шушнига! А его, даже при большом воображении, нельзя перерядить в чудовище. Тем не менее
аншлусс произошел при неслыханном воодушевлении масс. Почему? Вот почему: хотя Австрия с одной стороны, и королевства, объединившиеся в 1870 году в Германскую империю, с другой, — имели весьма продолжительное существование, тем не менее граждане всех этих областей всегда сознавали себя по национальности
немцами. Немцы соединились с немцами! Что может быть естественней, проще и законней?
Но совершенно было бы иначе, если бы австрийские граждане уже не считали себя немцами. А это было бы в том случае, если бы в силу естественных причин или под влиянием искусственной переработки они стали называть себя другим национальным именем. Например, если бы на вопрос о народности они отвечали: «Нет, мы не
немцы, мы — австрийцы».
При таких обстоятельствах
аншлусс не произошел бы или был бы причиной какой-нибудь новой мировой войны.
Именно это ждет нас, если мы не сохраним
русского имени, несмотря на то, что его сберег Богдан Хмельницкий. Если на вопрос о народности будущие обитатели
южной России будут отвечать «Нет, мы не русские, мы —
украинцы», то есть, если они будут сознавать себя другим народом, наше дело будет проиграно. Великая связь порвется; мощный магнит потухнет; захлопнется тысячелетняя дверь. На ней мы прочтем роковую надпись:
Lasciate ogni speranza
[98]…
* * *
Русские воссоединились с русскими при Алексее Михайловиче. Русские воссоединились с русскими при Екатерине II. Русские воссоединятся с русскими и в будущем, как бы их ни расторгали. Но если русские станут
украинцами, дело Александра Шульгина будет выиграно… до нового
русского ренессанса, а его, быть может, придется долго ждать.
В семье Шульгиных, так судьбе было угодно, это понимают отчетливо. Вот почему Александр Шульгин также упорно борется за
украинское имя, как Василий Шульгин, его старший родственник, —
за имя русское. Шульгины хорошо знают, wo liegt der Hund begraben!
[99]
Ein Volk, поздно или рано, восстановит
ein Reich, если государство, в силу международных осложнений, и будет разорвано. Но если образуется
zwei Volker[100], то, поздно или рано, эти
два народа растащат
ein Reich на две половины, чего и добивается мой двоюродный племянник.
* * *
В семье Шульгиных, таким образом, если не все гладко, то все ясно. Того же нельзя сказать про некоторые другие семьи. Там царит туман, в котором «своя своих не познаша».
Иные семьи, которые считают себя яростными сторонниками
одного Reich’a, на самом деле ежедневно и ежеминутно помогают творцам
разделения. Искренно думая о себе, что они
унитарии, люди в то же время делают дело сепаратистов. Каким образом?
Они делают это, предавая то, что Богдан Хмельницкий считал самым важным,
предавая имя русское. Они делают это, приняв терминологию
самостийников. Они делают это, когда всю южную Россию называют
Украиной, вопреки исторической правде; когда южно-русский народ, и в настоящем и в прошлом, безграмотно крестят
украинским; когда, говоря о
южнорусском языке, называют его
украинским, хотя он от века назывался «русским», а позднее
малороссийским.
Каждый раз, как эти мнимые защитники
единого Reich’a украиноблудствуют, они лепят новый кирпич для той стены, что разделит на века, если не навсегда,
север от юга.
Своим
украиноляпаньем они крепят идею
украинского народа, а сей
Volk, если только будет сделан, повернет колесо истории вспять, и, к сведению господ
украиноблудников «из кацапов», он обратит
север России в то, чем этот край был до Богдана Хмельницкого, то есть низведет его до ранга
Московии.
* * *
Украиноблудство, по важности вытекающих из него последствий, есть преступление перед лицом
единого Reich’a. Но сторонники этого последнего, подверженные сему блуду, совершают свои злодеяния, конечно, неумышленно. Причины их странного поведения естественны, их две:
незнание и халатность.
Иные не понимают, с чем шутят, когда вот так
«украинствуют». А есть и такие, что понимают, но им —
лень! Да — лень, старая русская хороба
обломовщина их обуяла. Этим
халатникам удобнее говорить то, что с таким упорством навязывают им энергичные
самостийники, и они говорят! Говорят, не заботясь о последствиях. А последствия нашего
халатизма неумолимы: создание
украинского народа. Этот народ, хотя и созданный искусственно, точнее сказать — именно потому, что он искусственный, нарочитый, выращенный насилием политической секты, — этот
украинский народ направит свое сектантство и употребит свое насилие прежде всего против кого? Против халатников. С полей «Малороссии счастливой» он погонит их туда, где проживает la mère de Kouzka
[101],
геть до Московины!
На московском морозе
халатники, конечно, очнутся, начнут скрести затылок; воскресший Тургенев вновь определит, что «у русского народа мозги набекрень», но это делу, к сожалению, не поможет.
* * *
Плыть по течению всегда
удобнее. Однако создавали
русскую потамократию (державу на реках) только те, что не боялись взяться за весло, когда надо; те, что умели ради ясно сознаваемой цели преодолевать и
течение. Надо надеяться, что такие найдутся, что они исправят зло, совместно творимое
самостийниками и
халатниками; что они вспомнят глубоко продуманные слова поэта Малороссии, Алексея Толстого-старшего:
«Други, гребите! Напрасно хулители
Мнят оскорбить нас своею гордынею:
На берег вскоре мы, волн победители,
Выйдем торжественно с нашей святынею,
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение.
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!»
Эти люди, когда наступит
их час, вопреки
самостийникам и несмотря на
халатников, совершат очередной в истории
аншлусс: восстановят
имя русское там, где его колыбель; там, где с незапамятных времен, на берегах Днепра, то красуется, то скорбит —
мати градам русьцем…
II.
Разговорчики
Каждый из нас, простых смертных, коим не выпала доля, завидная или печальная,
творить историю, должны по необходимости рассматривать иные события, как фатум, независимый от нашей воли. Если Гитлер и Муссолини перефасонивают мир, то нам дано только читать не нами перевернутые страницы из книги Бытия. Не только эти листы перевернуты не нами, но может быть и такой случай, что они перевернутся вопреки нашим скромным желаниям. Из этого, конечно, не следует, что, являясь простыми читателями книги Судьбы, мы не должны и «сметь свое суждение иметь». Можно, а иногда и должно, промолчать, но не обязательно быть
Молчалиными. Пусть страница перевернута не нами, но выводы при ее чтении мы сделаем сами, и сообразно этим выводам и будем поступать.
* * *
Странное дело. Как только произошел
аншлусс (австрийский), все у нас, в русской среде, как по команде, заговорили:
— Так Гитлер отберет и Украину!
Некоторые этого очень испугались, другие этому обрадовались. Испугались те, кому дорога идея
великого русского государства. Обрадовались
украинцы, то есть те, что спят и видят, как бы оторвать русский
юг от русского
севера. Но обрадовались и те, которые рассуждают приблизительно так:
— Что бы ни было, но всякое освобождение всякой пяди русской земли от большевиков — есть благо!
В одном все были согласны:
— Гитлер непременно сделает с «Украиной» то же, что с Австрией.
И странное дело, никто не заметил следующего:
если бы фюрер «отобрал Украину», то это было бы не то же, что с Австрией. Не только «не то же», но
«совсем наоборот».
Что сделал Гитлер путем австрийского аншлусса? Это ясно: вождь немецкого народа
немецкий юг воссоединил с
немецким севером. Другими словами, он сделал то же самое, что Богдан Хмельницкий сделал в 1654 году, когда он
русский север воссоединил с
русским югом.
Но если Гитлер «отберет Украину», он поступит не только несогласно с Богданом Хмельницким, но и
вопреки самому себе, как творцу недавнего аншлусса. Почему? Потому, что он не только не воссоединит
север с
югом, как было в случае
Австрия — Германия, а наоборот — он оторвет
юг от
севера. Мне кажется, это бесспорно: Гитлер должен изменить самому себе, чтобы совершить то, что ему несколько преждевременно навязывают.
* * *
Я предвижу град, если не возражений, то восклицаний, к которым мы, русские, более приспособлены, например:
— Как?! Вы, значит, не хотите освобождения вашего родного края из-под власти большевиков; вы, значит, хотите, чтобы и дальше эти звери вырезывали и вымаривали ваших земляков всеми своими дьявольскими способами; вы, значит, хотите, чтобы ваши единомышленники и дальше сидели в этой ужасной яме, в этом страшном клоповнике, носящем имя СССР: вот, значит, чего вы хотите!
Чего я хочу, я скажу в другой раз. О, не беспокойтесь, господа, скажу. И может статься, что мои мысли будут слишком радикальны для вас. Но сейчас я хочу объяснить другое, а именно: как я поступлю, если, согласно вашим ожиданиям, Адольф Гитлер «отберет» юг России под именем
«Украины».
Я человек маленький. Поэтому то, что я сейчас буду декламировать, «прозвучит гордо». Тем не менее, я это скажу. Вот:
— К сему деянию я причастен ни в каком случае не буду; и штемпеля своего к сему акту не приложу. Пусть это делает мой родственник, Александр Шульгин: ему и книги в руки!
Спросят:
— Почему вы становитесь в такую позицию?
Отвечаю:
— Потому, что я всемерно сочувствую аншлуссу в частности и аншлуссам вообще: потому, что я за
единение, а не за
сепаратизм; потому, что я
за единый немецкий народ; потому, что я
за единый русский народ.
Скажут:
— Итак, пусть пропадает ваша родина под властью Сталина?
Отвечаю:
— Да, нет же, какой там Сталин! Там будет действовать Александр Шульгин. Если хотите быть его подручным, записывайтесь в «украинцы»…
— Мы не хотим быть украинцами с Александром Шульгиным!
— Знаю. Вы, быть может, хотите быть украинцами с Василием Шульгиным? Но этого вы от меня не дождетесь. И не потому, что «каждый барон желает иметь свою фантазию». Я не титулован, я — скромный. А потому, что должны же быть хоть какие-то люди, что сохранили память и сознание! Или вы хотите, чтобы все, без исключения, тридцать миллионов русских, живущих от Карпат до Кавказа, забыли, как их зовут?
— Итак, вы в конечном счете за большевиков?
— Никогда я не был столь антибольшевик, как сейчас. Когда я борюсь за
имя русское, я борюсь именно с большевиками. Именно с ними, потому что именно они вот уже скоро двадцать лет
украинствуют. Они установили в своих основных законах
«Украинскую республику». Они ввели
«украинский» язык. Они твердят на всех перекрестках, внутренних и внешних, об
«украинском» народе. Поэтому отнюдь не я, а те, кто принимают и ширят
украинскую терминологию, суть пособники и потакатели большевиков. Никто иной, как Ленин, был первым
[102], кто прокламировал независимую
«Украинскую» республику.
— На словах!
— А вы полагаете, что Адольф Гитлер подарит Александру Шульгину по-настоящему самостоятельную
украинскую державу?
— Чего же вы хотите?
— Я хочу, чтобы ни вы, ни Гитлер не впадали в противоречие сами с собой. Я хочу, чтобы вы боролись с большевизмом на всех путях. Не стоит всячески трудиться над примирением классов и вместе с тем,
выдумывая несуществующие народы, натравливать друг на друга родных братьев, не говоря уже о двоюродных племянниках…
— Но как же вы соедините все это?
— Весьма просто. Ведь дело идет о
словах, Значит, и выход из положения должен быть на путях терминологии.
— Слова?
— В
начале бе Слово и Слово бе к Богу и Бог бе Слово… Сила слова выше всякой другой…
— Итак, что вы предлагаете?
— Вот что. У меня есть
большая программа — о ней потом. Сейчас мы будем рассматривать
малую программу. Малая программа — на тот случай, если у Адольфа Гитлера и его союзников не хватило бы сил столкнуть большевиков оттуда, где их престол, то есть из Кремля. Если они останутся в Москве, но будут выброшены из Киева, что тогда делать с югом России?
— Да, в этом весь вопрос!
— Вопрос не останется без ответа. Когда ребенок родится (а освобождение от большевиков есть новое рождение на свет), когда ребенок родится, ему надо дать имя. То имя, что юг России носит у большевиков, т. е.
«Украинская республика», это имя должно быть сметено, как и многое другое, большевицкое.
Умытый святым Крещением ребенок должен получить новое имя. Под этим именем
новорожденный, вырванный из-под грубого восточного варварства, войдет в семью западных народов.
— Какое же это имя?
— Его узнаете в следующей главе.
III.
«Лютор», или «Великое Княжество Русское», или Малая программа
Юрий Немирич бесспорно принадлежит к тем ненемногочисленным людям, что не прошли бесследно по этой земле. Жилец XVII века, он занимателен и в наши дни. Молодость его прошла в служении самой аристократической, но и самой утопической религии того времени; жизнь вернула его было на землю в виде низового казацкого православия: но Москва, к которой он примкнул вместе с батькой Богданом, не могла удовлетворить природы, рожденной для свободы духа. Вместе с гетманом Выговским он обратился вспять, к Польше, обещавшей новую, лучшую, светлую жизнь. Этой жизни не суждено было вкусить никому. Ни Немиричу, создателю сей новой утопии, на этот раз политической; ни его убийцам, казакам, не желавшим ничего слышать о ненавистных ляхах.
* * *
Если в XVI и XVII веках были люди, аристократы не только по рождению, но и по образу своего мышления, то это, конечно, были те, что известны под именем Fratri Polonici (Польские Братья) и еще под многими другими кличками, как-то «унитарии», «антитринитарии», «новокрещенцы», «нечестивые ариане» и т. д. Самое, так сказать, ортодоксальное их наименование —
социниане. Оно происходит от имени главного их учителя Фауста Соция.
Это имя провиденциально для сей секты. Социниане были действительно учены, как доктор Фауст: во всяком случае, они считались и считаются самыми образованными людьми своего времени. Но они же, как бы мы сказали сейчас, были наиболее
социабельны.
Знания и начитанность их были таковы, что при бесконечных спорах, которые тогда вели между собой разные религии (кстати сказать, тогдашние религии сильно походили на наши политические партии), люди разных исповеданий звали социниан себе на помощь, когда им самим приходилось круто. И они защищали всех против всех. В этом и состояла их вышеупомянутая социабельность: они стояли за полную веротерпимость и, подобно герою рассказа
«Проезжий», всегда были на стороне побеждаемых. Немало пользовалось их услугами и Православие. В защиту Греческой церкви против Латинской, свирепо грызшей при помощи
собак божьих (так называли сами себя иезуиты) веру
«руськую», написано немало вдохновенных страниц никем иным, как польскими братьями.
Социабельность их была еще и в другом. Социниане уже в XVI веке задумывались над вопросами, которые мы ныне называем
социальными. Сильно не нравилось им и крепостное право. Но попытки их в этом направлении были робки. Почему? Разгадку этого надо искать в том, что они прежде всего вели борьбу за свободу духа. Однако значение и влияние их в этом деле были прямо пропорциональны тому, насколько передовые их борцы были
великие паны. Сильными в ту эпоху нельзя было быть, не имея крепостных. Чтобы создать иной порядок, надо было бы низы повести против верхов, то есть против самих себя. Когда такое движение все же произошло, под видом казацких восстаний, социниане наравне с другими панами всех верований, в том числе и православными, узнали, что такое взбунтовавшаяся народная стихия. Это испытал и Юрий Немирич, ревностный социнианин. И ему пришлось защищать жизнь свою и своих от ужасов казацкой сваволи
[103]. Если лично Хмельницкий был головою выше своего современника Стеньки Разина (ныне большевицкого святого), то некоторые сторонники обоих атаманов не особенно разнились «в способах действия». Недаром батьке Богдану, по миновании военных действий, приходилось их вешать, как «элемент уголовный», сказали бы в наши дни.
Несчастное южнорусское дворянство! Поистине оно оказалось между молотом и наковальней. По национальности и вере оно было с восставшим русским народом; по социальному положению — с ляхами. Ни в одном стане они не были «у себя дома». Вроде, как и мы сейчас. В одном смысле мы с Адольфом Гитлером, поскольку этот новый Зигфрид борется с современным Драконом — коммунизмом. Но если Зигфрид захочет
«отобрать Украину»? В конце концов узы крови и другие причины заставили Юрия Немирича, как и некоторых других южнорусских дворян (после краткого пребывания у шведов, где они укрывались от неистовства ультракатолической польской партии), примкнуть к Хмельницкому, забыв ужасы «классовой войны». Несомненно, что уже при Хмельницком Юрий Немирич занял влиятельное положение среди казацкой старшины. Это было естественно: он был умен, образован, смел, знал военное дело. Однако его способности развернулись только при преемнике Богдана Хмельницкого, Иване Выговском.
Подозрительная, нетерпимая, но малограмотная в делах веры Москва скоро допыталась, что у Выговского есть на службе
Лютор, как она выражалась о Юрии Немириче, хотя последний давно уже вернулся к вере своих предков, то есть Православию. Москва требовала
Лютора прогнать
2. Но и вообще Москва не могла быть радостной и приятной южнорусским дворянам, по крайней мере, в некоторых отношениях. Как ни анархична была Польша, но все же это была
страна свободы. Если эта свобода на деле постоянно попиралась со всех сторон, то все же она признавалась законом; за эту свободу можно было бороться словом и делом, пером и саблей. У польских граждан было много собственных типографий и, кроме того, законом обеспеченное право бунта, что называлось
конфедерацией. Людям, так выросшим и так воспитанным, московский воздух, принципиально не признававший никакой свободы, был тяжел, это не могло быть иначе.
Эти и другие причины привели к тому, что произошел
Польский рецидив. Гетман Выговский порвал с Москвой и заключил с прежним отечеством известный в истории
Гадячский договор, в 1658 году. Душою этого дела и автором этого знаменитого договора был наш
Лютор, Юрий Немирич.
По смыслу этого договора Южная Русь соединялась с Польшей на правах
самобытного государства. Последнее должно было иметь свой собственный верховный
трибунал, своих государственных
сановников, свое
казначейство, свою
монету, свое
войско. В этом государстве должно было быть две
академии с университетскими правами — в Киеве и другом месте, где окажется удобным, множество школ с свободным преподаванием и с
совершенно вольным книгопечатанием. Весною 1659 года Юрий Немирич вместе с послами казацкими прибыл в Варшаву на Сейм, созванный для подтверждения Гадячского договора. Немирич произнес на Сейме большую речь, договор был утвержден. Король ласково принял его автора и, по ходатайству Выговского, назначил Юрия Немирича канцлером нового государства.
Но озаривший бедного Лютора блеск был только кратким сиянием падающей звезды. Не успел Немирич вернуться в созданное им государство, как новоявленные граждане этого последнего, дорогие, значит, соотечественники, взбунтовались: они не желали никаких договоров с ляхами! Немирич был не только даровит, он был мужествен. Он попытался усмирить восстание. Его окружили под селом Свидовцы (Черниговской губ., Козелецкого уезда) и изрубили в куски.
Sic transit gloria mundi
[104]… Но разметанные в XVII столетии куски Немиричева несчастного тела как будто проявляют в наше время какое-то шевеление. Не хотят ли они воссоединиться, чтобы его образ восстановился перед нашими духовными глазами? Немиричу есть что сказать — нам, южноруссам XX века.
* * *
По другим причинам, но в гораздо большей степени, и нам нестерпим воздух современной нам Москвы, этой
«Черной Вежи», la sepultura degli vivi
[105], этого «Гроба живых» — так называлась одна страшная тюрьма во времена Юрия Немирича. Это сближает нас с автором Гадячского договора.
Как и Немирич, мы готовы искать союза с лютором, готовы искать сближения с Европой. Но для чего? Вот тут мы расходимся с нашим Лютором.
Для него его Гадачский договор был
действие окончательное. Создание
самобытного государства, в союзе с Польшей пребывающего, для него — самоцель. Для нас аналогичный акт был бы только этапом. Под водительством Св. Михаила, патрона южной Руси, вырвать Киевщину из объятий той Москвы, где повержен Св. Георгий, а властвует Змий, не может быть для нас конечной целью; ибо последнее наше устремление —
Ein Volk! Ein Reich! Ein Fiihrer!
Мы хотели бы в союзе с Западом, который еще раз показал себя не
гнилым, а просвещенным, свернуть
ориентальную башку
Чингисхану наших дней, принявшему личину
Сталина.
* * *
Но как обеспечить себя от того, чтобы наши
западные союзники, кто бы они ни были, не свернули на пути, ими, впрочем, уже испробованные?
Польша, Швеция, Австрия, Германия в своем Drang nach Osten
[106], в разное время, применяли римский принцип divide et impere
[107]. Но эта тактика, удававшаяся Риму в отношении многих народов, дота подражателей, по крайней мере в отношении русского народа, оказывалась неизменно неблагоприятной. Видимо,
мойра была против этого метода; во всяком случае, Судьба методично разрушала самые хитрые сплетения ума человеческого. Может быть, поэтому лучше было бы ныне применить другой принцип, гласящий:
— Не рой другому яму…
На этом пути нам снова приходит на помощь наш враг и друг, трагический
Лютор. Не столько, впрочем, он сам, как его
терминология, отражавшая
народное самосознание его эпохи.
* * *
Мы умышленно до сих пор не говорили о том, под каким именем Юрий Немирич создал свою кратковременную державу. Мы предоставили
самостийникам и халатникам думать, что это государство,
самобытное, в союзе с Польшей, без всякого сомнения должно было носить излюбленное в наши дни, «такое удобное» во всех смыслах имя
«Украины».
Увы, это не так…
«О, как паду и горестно и низко.
Не одолев смертельные мечты…»
Так говорил Александр Блок. Известно, что поэтическое произведение тем лучше, чем смысл его туманнее. Александр Блок не очень понимал, о чем его «смертельная мечта», но зато Александр Шульгин, мой двоюродный племянник, очень хорошо знает (хотя и молчит об этом) то, что Василий Шульгин ему сейчас напомнит.
Юрий Немирич, один из образованнейших людей своего времени, равно как и гетман казацкий Иван Выговский, не назвали свое государство
Украиной; называться
Пограничьем эти государственные люди считали бы зазорным для территории, которая от века почиталась
колыбелью Руси, дота страны, «откуда Русская Земля пошла стала есть». Во всяком случае,
новую державу они назвали ее старым историческим именем, и это имя:
«Великое Княжество Русское»[108].
Под этим именем новое государство было утверждено Польским Сеймом и
польским королем. Впрочем, дота последнего в этом не было никакой новины; с тех пор, как южно-русские земли вошли в состав Польско-Литовского государства, польский король, уже столетия, носил титул:
«Великий Князь Русский».
* * *
— Неужели это так важно? — спросят.
Важно ли это? Мы это сейчас проверим.
Прежде всего мы спросим Александра Шульгина (а он был большим
сановником «Украины» и при Петлюре, и при Скоропадском), соблаговолит ли добродий быть
канцлером Великого Княжества Русского, если бы таковое в наши дни было восстановлено?
В ответе можно не сомневаться. И даже за канцлерство Александр Шульгин не согласится расстаться с
украинским именем. Почему же для Василия Шульгина
имя русское должно быть quantité négligeable
[109]?
В начале бе Слово… За словами
Украина и
Великое Княжество Русское скрываются два разных пути.
Украина есть средство и способ навеки отделиться от остального русского народа.
Великое Княжество Русское есть путь к будущему…
аншлуссу.
* * *
Представим себе, что наши
западные союзники отойдут от
украинской терминологии и примут для новообразованной державы титул
Великого Княжества Русского. Что в наши дни это будет обозначать?
Это будет значить, что в их психологии совершился коренной переворот; что они целиком стали на сторону доктрины:
«Не рой другому яму»; что они желают искренней дружбы с русским народом; и что на этом базисе они желают строить свое собственное будущее благополучие.
Наоборот, приятие самостийной
«Украины» обозначает, что наши западные соседи готовят великую вековую борьбу с русским народом. Почему? Потому, что последний треть своего численного состава и лучшую часть своих территорий без жестокой борьбы оторвать от себя не позволит.
Великое Княжество Русское обозначает непреклонную борьбу с мировым коммунизмом, борьбу за
весь русский народ. «Украина» значит сепаратный мир с московскими коммунистами. Кто этому последнему не верит, пусть вспомнит
Брестский мир: за одним столом сидели немцы, украинцы и московские большевики. Так было, так будет. С той только разницей, что за будущим Брестским столом появится еще четвертый партнер:
поляки. За этот стол, может быть, на уголок, присядет и Александр Шульгин. Но Василия Шульгина там, наверное, не будет. Итак, от выбора
слова зависит два решения; два пути; две истории — для нескольких народов…
В начале бе Слово.
* * *
Великое Княжество Русское есть дверь и ключ к совершенно новой эпохе в международных отношениях. Являясь
малой программой, оно есть прелюдия
большой. И притом дверь, ключ и прелюдия — весьма удобные. Когда придет
большая программа, Великое Княжество Русское не придется ломать: оно
останется.
* * *
В так называемой
украинской проблеме есть, кроме фольги всяческих фальсификаций, и нечто, заслуживающее самого серьезного внимания. Именно об этом, к сожалению, часто забывают противники
самостийности. И это: осознанная и зрелая потребность в
краевом самоуправлении. В качестве автономной провинции
Великое Княжество Русское войдет в состав возрожденной
Российской державы. Если в последней восстановится
монархия, этой провинцией будет, на правах
наместника, управлять тот, кому будет передоверен титул:
Великий Князь Русский[110].
Итак, и с этой точки зрения Великое Княжество Русское есть
дверь удобная.
* * *
Но все же это только дверь или
преддверие. Это
малая программа. Это только ступень к
Большой.
Приложение № 7
Документ на проживание В. В. Шульгина в СССР
[Книжка формата паспорта, зеленая картонная обложка, по центру, немного вверху, герб СССР. Под ним надпись:]
Вид на жительство в СССР для лиц без гражданства
[С.1 (оборотная, внутренняя, сторона обложки)]
Герб СССР
Вид на жительство в СССР для лиц без гражданства
Действителен по
„20“ Сентября 1969 г.
1. Фамилия
Шульгин
Имя
Василий
Отчество
Витальевич
2. Число, месяц и год рождения
1878 г.
3. Место рождения
Гор. Киев
4. Национальность
русский
5. Гражданство на день прибытия в СССР
Б. Российское
БГ № 540002
Круглая гербовая печать
Подпись В. В. Шульгина (подпись владельца)
[На этой странице, как и на всех последующих, снизу вверх по центру идет надпись, напечатанная коричневыми буквами: ] БЕЗ ГРАЖДАНСТВА.
[С.2]
6. Семейное положение
В браке состоит
7. Когда прибыл в СССР
В 1945 г.
8. Цель приезда
Уроженец СССР
9. Кем выдан вид на жительство
УООП Владимирского облисполкома
10. На основании каких документов выдан вид
Закона о гражданстве СССР
Начальник отдела
Упр. Охраны Общественного порядка Подпись
Круглая гербовая печать
Вид выдан
„20“ Сентября 1967 г.
БГ № 540002
[С.З]
11. Дети, вписанные в вид. [Не заполнено. —
Р. К.]
[С.4]
ОТМЕТКИ О ПРОДЛЕНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
Срок действия вида на жительство ПРОДЛЕН по
“20“ Сентября 19
71 г.
Начальник отдела УВД Владимирского облисполкома подпись
Круглая гербовая печать
„
20“
сентября 19
69 г.
Срок действия вида на жительство ПРОДЛЕН по „
20“ сентября 19
73 г.
Начальник отдела УВД Владимирского облисполкома подпись
Круглая гербовая печать
„
20“ сентября 19
71 г.
[С.5]
ОТМЕТКИ О ПРОДЛЕНИИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
[Два незаполненных места. —
Р. К.]
[С.6]

В. В. Шульгин
Фотография для вида
на жительство в СССР
для лиц
без гражданства
1956–1957
Разрешено проживать в
Гор. Владимире
Начальник отдела подпись
Круглая гербовая печать
„20“ сентября 1967 г.
Разрешено проживать в [Не заполнено. —
Р. К.]
Разрешено проживать в [Не заполнено. —
Р. К.]
БГ № 540002
[С-7]
[Три незаполненные графы о разрешении проживать. —
Р. К.]
[С-8]

[На с. 8 еще один такой незаполненный раздел. —
Р. К.]
Приложение № 8
«Ныне отпущаеши…»
(Памяти В. В. Шульгина)
15 февраля 1976 года в 11-м часу утра во Владимире скоропостижно скончался Василий Витальевич Шульгин. Последний оставшийся в живых член русского Парламента умер на 99-м году жизни неожиданно для всех окружавших его в эти последние годы людей. Все, как ни странно, были уверены, что Шульгину предстоит еще жить и жить, ибо видели, что столетний старец нисколько не стареет духом, сохраняет прекрасную память, духовную бодрость и веселие. Его более чем скромная комнатка в провинциальном Владимире, которую он делил со своей опекуншей, простой русской женщиной, ухаживавшей за ним, была буквально местом паломничества. Каждый, кто хоть сколько-нибудь сердечно интересовался историей последних лет старой России, побывал здесь. Все слои, все направления искали у Шульгина ответов на мучительные вопросы: что было? как случилось? почему? Гостеприимный старец часами отвечал приезжающим, знаменитым и безвестным, которые часто в увлечении историей не щадили его немощей. А как радовался Василий Витальевич, когда выпадала возможность помузицировать с приезжим другом! Старенькая скрипка служила ему до последних дней: он играл, сидя на кухне, долгие ночные часы…
Весть о смерти Шульгина мгновенно облетела Россию. Чувство утраты причинило боль каждому, кто знал Шульгина лично. Для всех нас Василий Витальевич был живым воспоминанием провала нашей исторической памяти, очевидным свидетельством обаяния старой русской культуры.
Василий Витальевич Шульгин родился еще при Александре Освободителе, в расцвете сил встретил наступление последнего конституционного периода истории Российской империи, был одним из популярнейших членов Государственной Думы и активнейшим участником белого движения. Когда в 1944 г. он был арестован в Югославии, специальным самолетом доставлен в Москву и на первом же допросе услышал стандартное: «Партийность?» — Шульгин ответил кратко: «Монархист».
После двух лет Лубянки и 10 лет Владимирской тюрьмы Василий Витальевич был освобожден Хрущевым. И люди, собравшиеся спустя 20 лет у его гроба, знали этого позднего Шульгина, автора наивных «Писем к русским эмигрантам», человека, давшего увидеть себя на пропагандистском экране миллионам зрителей. Фильм «Перед судом истории» демонстрировался, надо сказать, очень короткое время, потому, вероятно, что вопреки желанию инициаторов киносудилища, 90-летний «рыцарь монархии» неизменно вызывал симпатии советских зрителей.
Шульгин так и не принял советского гражданства. В его «Виде на жительство» в графе «Подданство» до конца дней стояло: «Российское».
Василий Витальевич говорил близким людям, что в изданиях последнего времени ему не дали сказать того, что он хотел сказать на самом деле. Полное издание книги «Годы» не состоялось, так как было связано с такими купюрами, на которые Шульгин не мог согласиться. Его многократные призывы издавать его сочинения без купюр, как это было при Ленине, не были услышаны.
«…Мы, дети черных дней России, забыть не в силах ничего…». Эти Блоковские слова, которыми Василий Витальевич надписал свои «Дни», можно по праву считать эпиграфом и главной темой лучшей, значительной части его творчества. Память «черных дней России» Шульгин хранил до конца дней своих и до конца дней передавал ее нашему поколению. А тот, кто судит грешных, пусть вспомнит апокалиптическое пророчество о тех «днях» и «годах», когда дано было черным силам вести войну со
святыми и победить их.
Загадочным для всех было долголетие нестареющего душой старца, которому довелось испытать так много бурь. Когда-то в Париже, ему, уже изгнаннику, было предсказано. Нам, друзьям его последних лет, глядя на него, казалось, что и действительно, Василий Витальевич непременно доживет до эсхатологически важных перемен в России.
В религиозных вопросах Шульгин был вольнодумцем, хотя в Бога и бессмертие души верил несомненно. В последнее время заметно стало, что его бодрый ум, всегда ищущий и требовательный, все более смирялся перед Соборным Разумением Св. Церкви. Искреннее уважение к традиционным формам русского православного благочестия никогда не покидало Василия Витальевича, и умер он под иконами, у которых горела лампадка. Среди нескольких икон Василия Витальевича было две маленьких, особенно им любимых — Св. Дмитрия Солунского — ради сына Димитрия, о котором он давно не получал известий из США и очень беспокоился, и Сретения Господня. Ее и возложили на него, положенного во гробе.
Умер Василий Витальевич точно в день Сретения Господня в час, когда в наших храмах оканчивается литургия оглашенных и начинается литургия верных. Почему и провожавшие его в последний путь нет-нет да и возвращались мыслями к Евангельскому Симеону, пережившему века, чтобы воочию убедиться, что «не изнеможет у Бога всяк глагол». В наш быстротекущий век политический деятель и писатель Шульгин пережил несколько эпох трагической русской истории. Осталось тайной, что предстало в час смерти его духовному зрению. Кто знает, может быть, его духовное око увидело спасение и славу многострадальной России «перед лицом всех людей»? Это вопрос веры, веры в Россию, и упрямо твердит сердце, что эта вера нас не постыдит.
Иеродиакон Варсонофий (Хайбулин)
Москва, февраль 1976 года.
Приложение № 9
Свидетельства кончины В. В. Шульгина
1. Письмо Людмилы Егоровны Марининой, опекунши В. В. Шульгина
5/III-76 г.
Здравствуйте Ростислав Григорьевич и все остальные ваши родные!
Ростислав Григорьевич отвечаю на ваше письмо, опишу о Василие Витальевиче, он все себя чувствовал хорошо, но в январе месяце переболел гриппом, два дня ничего не кушал, затем поправился, но в ночь на 15 февраля он почувствовал боль в груди и принимал таблетки от грудной жабы, затем утром полчаса восьмого пошол спать, как обычно он ночью сидел, а днем спал и я пошла в магазин ему сказала, что я пошла и скоро вернусь, прихожу а он лежит уже мертвый, я даже не поверила думала он спит, но он мне не отзывался и я пошла в больницу пришел врач и сказал, что он скончался вот так быстро и всё был на своих ногах. Хоронили мы его 17 февраля возили его в церковь там был он всю обедню, гроб у него был обитый шолком и с кистями, затем из церкви прямо на кладбище, схоронили рядом с женой. Было много народу из Москвы вообщем всем очень понравились похороны и все уехали довольные. Но конечно мне досталось всех больше хлопот. Ну вот у меня пока всё. Досвидание.
2. Письмо Екатерины Федоровны Зубаревой, соседки В. В. Шульгина по дому (Владимир, ул. Фейгина, Дом 1, кв. 18).
Г. Владимир
19
марта 1976 г.
Здравствуйте дорогие друзья
Ростислав Григорьевич и Галина если я не ошибаюсь со своей дочкой и бабушкой
желаю вам хорошего здоровья на долгие годы. Получив ваше не ожиданное письмо я узнала, что вы услышали о смерти Василия Витальевича, но узнали поздно. Конечно если бы я была у Василия Витальевича, то я вам сообщила, но я была не хозяйка.
Ростислав Григорьевич вы спрашиваете о его смерти, я вам опишу, все что я знаю и видела здесь после меня т. е. после ухода за ним. Конечно ему было хорошо, но не очень это он мне много раз так говорил когда я к нему заходила навестить. Но он говорил что я назад пятками не хожу, пусть мне хуже но это сделал я сам, чтобы была опекунша. Но хорошо это все прошло.
Теперь опишу о смерти, что я знаю и что я видела последнее время. Весной 75 года была у него его племянница. Она мне говорила чтобы я кое-когда к нему заходила, но к нему попасть я могла очень редко, потому, что не было у меня ключа. Когда была здесь Ольга Витал, я ей отдала ключ и она когда уехала Людмила мне ключа не отдавала, но я всетаки пошла в М.В.Д. и мне велели отдать, она отдала и я к нему заходила когда ее не было дома, она уезжала к дочьке в деревню и пробывала там по 2 дня. вот в эти дни, я заходила к нему и с ним разговаривала и спрашивала пишут ли кто, кто приезжает, но он все забывал, а больше мне никто не мог сказать. Вот так он и жил последнее время.
Но вот когда ему было 98 лет, я к нему заходила его поздравлять, и мы с ним договорились, мне тоже 50 лет а ему 98 лет. Он мне сказал, я тебе на 50 л. подарю 50 руб. а ты мне если я буду жив дашь сто рублей, я говорю дам. Вот у нас какой был уговор. Но она эта Людмила пожалела и не отдала. Но я не много на них обиделась, конечно не на Василия Витальевича а на опекуншу. Теперь перед смертью я была он чувствовал себя не важно я с ним распрощалась и ушла, говорю ему возможно я вас не увижу когда с вами будет совсем плохо. Потому, что я хожу к вам редко. Теперь в одно прекрасное время я была дома приходит ко мне молодой человек и говорит вы меня не сможите провадить к Василию Витальевичу Шульгину я спрашиваю, а вы кто он сказал я из Ленинграда, но говорю я из Ленинграда кое-кого знаю, а кого я говорю Красюкова, Конкина, а вот я от Конкина я его друг. Но я пошла туда, но попасть к нему не могла потому, что личина была другая, мне конечно было очень не удобно перед любыми которых я не смогла пустить к нему, но я спросила как он чувствует себя они сказали хорошо. Это было числа 12 февраля 1976 но потом я работаю, прихожу с работы мне мальчики говорят Мама мы тебе скажем плохую весть умер В.В. я конечно испугалась и стою среди комнаты и не знаю что мне делать, но все же я пошла, прихожу Он лежит на койке мертвый, окутан одеялом теплым, я ей говорю что же теперь будете делать, мне сказали будем подавать телеграммы. Но я ушла, мне показалось обидно что она меня обидела последним путем. Но все равно, он умер 15 февраля утром часов в 9, Она говорила, что у него ночью мучала грудная жаба, он пил нитроглецирин но утром она ушла ее дома не было, пришла она он уже мертвый, и лежал до 5 часов, весь закреп, рот был открыт и уже не могли закрыть. Я конечно долго сидела дома, но думаю надо последний долг пойти отдать, пришла и стали мы его одевать. Когда одели, я ушла домой пошла в ночь, на работу, прихожу с ночи, и В.В. меня очень просил чтобы мы его схоронили вместе с Марией Дм. Я сходила в серый дом все разказала и нам дали разрешения похоронить рядом с ней. Вообщем его никто не видел как он умер. Похороны были хорошие, половина похорон дали бесплатно хороший гроб. И могила хорошая хорошо, что рядом с женой. Дорогие друзья опишу, кто были на похоронах, из старых друзей были Коншины, из Москвы были, Кушнорович. Микита, Олег. Вера Алексеевна сестра Корнеева, Коля Колдун. Ворсанофий. а еще были какие то художники я их мало знаю. Вот дорогие друзья какие дела и что я вам могла сообщить о В. В. Теперь не много о себе. Мальчишки мои кончили училище П.Т.У. Стали слесари-кистроминтальщики Они получили по 3 разряду и уже с августа месяца работают получают хорошо. мне помогают
Вот пока и все что я могла вам написать. Если еще что будет вас интересовать пишите я вам опишу.
Вот еще что забыла когда умер В.В. пришли из Серого дома все его писульки забрали говорят будет все в архиве.
С приветом к вам ваши друзья Катя Зубарева со своими ребятами,
еще опишу если вы захотите поехать к нам в Владимир то прошу заходите к нам не беспокойтесь у нас места хватить.
2. Письмо Ольги Витальевны Градовской, племянницы В. В. Шульгина
24/III-76 г.
Многоуважаемый Ростислав Григорьевич!
Вчера получила Ваше письмо и спешу ответить, так как сочувствую и вполне понимаю Ваше горестное желание поскорее обо всем узнать. Ведь я сама была недавно в таком положении, получив 16/II телеграмму о кончине Василия Витальевича моего родного дяди. Выехать, по ряду причин, не могла и вынуждена была ожидать ответа на свою телеграмму и письма. Получив телеграмму 16/II и выехав 17/II я не попала бы даже на похороны!
14 февраля Василий Вит. три раза будил свою опекуншу Людмилу Егоровну и принимал нитроглицерин, так как ему было плохо. 15 февраля в S 8-го Люд. Ег. его уложила в кровать, хорошо накрыла и пошла в магазин и на базар. Хорошо, что она не уехала в Камышки к матери и дочери, ведь было воскресенье, а осталась при Вас. Вит. Вернувшись домой, она испугалась и бросилась к соседям сказать, что Вас. Вит. плохо, пришел сосед, друг Вас. Вит., Михаил Сергеевич и обнаружил, что сердце уже не бьется. По всему можно было заключить, что Вас. Вит. умер во сне, глаза его были закрыты.
Он был счастлив тем, что не заметил ни своей смерти, ни своего одиночества…
Упомянутый Михаил Сергеевич, оказывается писал мне, что Вас. Вит. не важно себя чувствует, но я этого письма не получила. Перед своим днем рождения — 14/1, он болел гриппом и сильно ослабел, но как-будто уже поправился, так как аппетит вернулся к нему и жизнь потекла нормально, ничего плохого не предвещая. Все мы думали, что будем праздновать его столетний день рождения, а пока ему исполнилось 98 лет. Тяжело, что меня не было возле него, но хоть утешение то, что этим летом я гостила у него, и 2 лета подряд.
Похоронили его возле жены Мар. Дм. Отпевали по всем правилам долго в церкви, гроб был хороший, отделан кистями, на кладбище отвезли автобусом. Были друзья местные и из Москвы. Похоронив собрались на поминки и много хорошего говорили о нем и как о человеке и как о писателе и публицисте. Он был действительно добрый и отзывчивый и исключительно честный во всем, бескорыстный и обладал каким-то редким обаянием!..
25 марта будет 40-й день его смерти и Люд. Ег. готовится отметить этот день, так как все, кто был на похоронах, хотят приехать во Владимир <…>
Память о Василии Витальевиче останется самая светлая, а мои соболезнования и мое письмо пусть будут Вам в утешение.
С приветом О. Градовская.
ПРИМЕЧАНИЯ
ТЕНИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ
Гимназия
1 Бывшие государственные крестьяне, образовались из служилых людей, детей боярских, стрельцов, рейтар, драгун, солдат, копейщиков, пушкарей и др., селившихся в XVI–XVII вв на восточной и южной границах Московского государства для защиты его от ногайских и крымских татар.
Мои друзья
2 Судебный процесс в Киеве в 1913 над евреем М. Бейлисом по ложному обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика, вызвавший протест как в России, так и за рубежом; суд присяжных оправдал Бейлиса.
3 Николай Яковлевич Шульгин был старшим братом Виталия Яковлевича. Согласно данным фонда Департамента герольдии Российского государственного исторического архива (РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Ед. хр. 2968, на 27 листах), он родился примерно в 1818 году, происходил «из дворян, по окончании курса наук в лицее князя Безбородко» (Нежинского лицея) в 1836 году был «определен на службу к делам Киевского Военного, Подольского и Волынского Генерал Губернатора». Так в генерал-губернаторской канцелярии он и прослужил всю свою службу, пройдя путь от коллежского регистратора до коллежского советника и последней должности чиновника особых поручений VII класса, занимаясь текущими делами, в основном подготовкой докладов генерал-губернатору: по делам и долгам графини Ржевусской, по управлению государственным имуществом в подведомственных губерниях, по наблюдению за исполнением инвентарных правил для управления частными населенными имениями, по окончательному рассмотрению судебных дел «по претензиям разных лиц к Графу Михаилу Потоцкому», «по обеспечению православного духовенства и по устройству православных церквей в помещичьих имениях» и многими другими. Возлагались на него обязанности и по заведованию секретною частью канцелярии, а также он исполнял семь каких-то секретных поручений. За время службы «аттестовался способным и к повышению чином достойным», был награжден четырьмя орденами и знаком отличия беспорочной службы за выслугу XV лет.
По-видимому, не случайно Виталий Яковлевич Шульгин так трепетно относился к своему брату. В канцелярии генерал-губернатора переплетались узлом все проблемы края, и братья, живя вместе и будучи духовно близкими людьми, в откровенных беседах, наверное, делились ими. Надо полагать, что знание истинного положения дел в крае сформировало мировоззрения Виталия Яковлевича как русского патриота.
Осенью 1856 года «согласно прошению Высочайшим приказом по Гражданскому ведомству» Николай Яковлевич Шульгин был «уволен по болезни от службы с мундиром» и 31 января 1857 года «38-ми лет от роду скончался от чахотки, быв напутствован к смерти исповедию и Св. Таин причастием Священником Феодором Мысловским, и февраля 2-го дня погребен на Лыбедском кладбище тем же Священником Мысловским».
От брака с дочерью статского советника Марией Евстафьевной Рудыковской он имел сына Якова, родившегося в 1851 году, и трех дочерей: Надежду (род. в 1848 году), Александру (род. в 1852 году) и Веру (род. в 1855 году). Все они были крещены в Старо-Киевской Георгиевской церкви, и крестным отцом у них был их дед Яков Игнатьевич Шульгин.
Согласно тем же архивным данным, Николай Яковлевич Шульгин с семьею, а впоследствии и его вдова проживала с детьми «;в г. Киеве Лыбедской части в доме Статского Советника Виталия Шульгина».
Моя жена Екатерина Григорьевна
4 В Елизаветграде (ныне г. Кировоград) находилось Елизаветградское кавалерийское училище.
5 Резонёр (франц. raisonneur), в старом русском театре сценическое амплуа; актёр, исполнявший роли рассудочных людей, склонных к назидательным рассуждениям.
Еще о Екатерине Григорьевне. Ее трагическая кончина
6 5-й саперный батальон квартировал в Киеве и входил в состав полевых саперных батальонов инженерных войск.
7 Английский титулованный дворянский род, родоначальником которого был Джеймс Фицджеймс, внебрачный сын английского короля Якова II и Арабеллы Черчилль.
8 Племянница Василия Витальевича, Ольга Витальевна Градовская, писала в одном из своих писем: «;Еще отрывок из воспоминаний. Мама говорила, что у дедушки Григория Кон<стантиновича> была сестра, очень красивая, рыжего цвета волосы, так и с ней было неблагополучно и она выбросилась из окна, тоже какое-то психическое расстройство».
9 Газета «Новое Русское Слово» от 20.05.1994 на 53-й странице переопубликовало заметку шестидесятилетней давности (май 1934 г.):
«САМОУБИЙСТВО ЖЕНЫ В. ШУЛЬГИНА. Нам пишут из Белграда:
Сильное впечатление на русскую колонию произвело самоубийство жены известного политического деятеля и писателя В. В. Шульгина — Екатерины Григорьевны Шульгиной.
В последнее время Е. Г. Шульгина страдала, несомненно, обострившейся душевной депрессией, вызванной гибелью в СССР любимого сына. Между прочим, поиски этого сына и имел, главным образом, в виду В. В. Шульгин, совершивший фантастическую поездку по СССР при содействии пресловутого «Треста», оказавшегося, как известно, большевицкой провокаторской организацией. Сын не был найден.
Но в результате поездки появилась наделавшая много шума книга «Три столицы», которая, что тоже позже стало известно, была предварительно просмотрена и одобрена к печати тем же «Трестом».
Провал «Треста» на много лет оторвал В. В. Шульгина от политической деятельности.
Таковы истоки страшной трагедии несчастной матери. Русский Белград знал Е. Г. Шульгину, тревожно искавшую духовного равновесия то в повышенной, доходящей до экзальтации религиозности, то в отчаянии отходящей от церкви… И, наконец, она бесследно исчезла, ушла из дому и больше не возвращалась. И на днях в Панчево, ниже Белграда, в Дунае был найден ее труп. Она бросилась в воду, предварительно связав себе ноги. (Очевидно, бросилась в Дунай с тзв. «Панчевского моста» — единственного через Дунай в Белграде — прим. А. Арсеньева). Е. Г. Шульгина была дочерью известного публициста Т. К. Градовского и сама одно время много предавалась публицистике. Работала в разных изданиях и писала под псевдонимом Алексей Ежов. Под этим именем Е. Г. помещала злободневные политические статьи в «Киевлянине», выходившем под редакторством ее мужа.
(Сообщил А. Б. Арсеньев).
Виталий Григорьевич Градовский
10 Вадим Витальевич Градовский.
11 Рассказывая о судьбе семьи своего двоюродного брата Виталия Григорьевича Градовского, Василий Витальевич Шульгин был чрезвычайно скуп на подробности. Пройдя суровую школу Гражданской войны, эмиграции, немецкой оккупации Югославии, двенадцати лет тюрьмы в Советской России и последующей жизни в ней, он очень бережно относился к судьбе связанных с ним тем или иным образом людей, которые были еще живы, и старался лишнего на всякий случай не говорить.
Много позже мне довелось познакомиться с Ольгой Витальевной Градовской и ее мужем Николаем Дмитриевичем Дьяковым и быть их гостем в Архызе, где они скромно жили в однокомнатном домике с кухней-передней, служившей и столовой…
После смерти отца она некоторое время еще заведовала детским домом, потом ее уволили после очередной чистки — не подходила на руководящую работу по происхождению. Всегда ее преследовал страх, что будет в чем-то разоблачена, и старалась куда-нибудь спрятаться. Вышла замуж за Курдюмова, бывшего офицера, участника 1-й Мировой войны, сражавшегося в Гражданскую против большевиков. Они решили покинуть Воронеж и отправились в Ставрополь, где Ольге Витальевне как грамотной удалось поступить работать в местное отделение Госбанка. У мужа открылся туберкулез, и не было никакой возможности спасти его. Так и прожили до сорок второго года.
Когда немецкая армия захватила Ставрополь, она с матерью и мужем решила отправиться в Германию. Поездом пересекли юг России, затем Польшу и осели в одном из городков на Балтийском побережье. Там она начала хлопотать об устройстве мужа в один из туберкулезных санаториев, что ей в конце концов и удалось сделать. При этом она боялась, останется ли он живым — в то время среди перемещенных в Германию лиц распространился слух, что немцы не занимались лечением всякого рода хронически больных, а просто уничтожали их. Отправляя мужа в санаторий, она умоляла представителя немецкого Красного Креста сказать, оставят ли его живым. Больше она не имела никаких известий о нем…
Рассказывая мне о событиях почти сорокапятилетней давности, Ольга Витальевна волновалась и переживала, не содействовала ли невольно гибели своего мужа. В начале девяностых годов я занимался составлением некрополя русского православного кладбища в Берлине («Тегель»), Просматривая кладбищенские книги, я наткнулся на следующую запись: «Курдюмов Николай Андреевич, капитан. 2.10.1891–4.12.1950». Был ли этот человек мужем Ольги Витальевны или только его однофамильцем, мне неизвестно. Незадолго до этого она скончалась…
После войны она вернулась с матерью в Ставрополь. Но ее по-прежнему преследовали страх и желание зарыться куда-нибудь поглубже. Она вышла замуж за человека намного моложе ее, и, взяв мать, они покинули Ставрополь и переселились в одну из станиц. В послевоенные годы русские стали заселять земли, на которых испокон веков жили карачаевцы, выселенные советской властью в конце войны в среднеазиатские республики. Ольга Витальевна переселилась в Архыз, расположенном на берегу узкой, но быстрой горной реке Большой Зеленчук. Дальше бежать было некуда: дорога, ведшая в Архыз из курортных городов, упиралась в горы Большого Кавказского хребта, которые нависли над поселком и по которым проходила граница с Абхазией. В отличие от других русских семей, занявших все четыреста с лишним домов карачаевцев, они на свободном участке построили свой собственный небольшой домик. И это их спасло от дальнейшего переселения.
В пятьдесят седьмом году карачаевцы начали возвращаться на свою родину. Их дома были заняты, и никто ничего им не предоставлял. Но обошлось без кровопролития. Карачаевцы семьями селились прямо на улицах перед своими бывшими домами и стали жить под открытым небом. Русских они не замечали, как будто бы их не было. Так продолжалось с неделю-две. Сначала не выдержала одна семья и покинула дом, за ней другая. Потом отъезд принял массовый характер. В итоге в Архызе осталась одна русская семья — Ольга Витальевна Градовская и ее муж. К ним у карачаевцев не было никаких претензий.
В начале шестидесятых годов, когда имя В. В. Шульгина стало появляться в печати, Ольга Витальевна и ее мать разыскали его и с тех пор поддерживали с ним постоянную связь. Удалось им разыскать и Вадима Витальевича Градовского, брата Ольги Витальевны и сына Наталии Владимировны. Юношей он участвовал в Гражданской войне и вместе со всеми в ноябре двадцатого года покинул Крым, став вечным изгнанником. К тому времени, когда они его нашли, он жил в одном из пригородов Парижа, где и скончался в шестьдесят девятом году…
12 Помню, мы молча стояли у окна. Василий Витальевич только закончил диктовать страницы с описанием кончины Дарьи Васильевны. Он заметно разволновался. Я спросил: «Вы сильно любили ее?» — «Я люблю ее и сейчас», — тихо проговорил он…
Как и большинство из нас, он был суеверен. Например, не любил фотографироваться вдвоем, считая, что это к смерти. Однажды мы втроем — Василий Витальевич, Владислав Михайлович Глинка и я — подошли к дому 12 на Миллионной улице, в котором на квартире князя Путятина происходила заключительная трагедия с отрешением Романовых от власти, когда акт об отречении подписывал великий князь Михаил Александрович. Я предложил сфотографировать Василия Витальевича с В. М. Глинкой у входа в подворотню дома. Он наотрез отказался. Тогда мне пришлось остановить первого попавшегося прохожего и попросить его быть третьим. Так на снимке и стоят В. М. Глинка, В. В. Шульгин и неведомый мне молодой человек.
Когда спрашивали у него разрешения познакомить с какой-нибудь женщиной, он первым делом справлялся, не Верой ли ее зовут, и если Верой, то отказывался. Это тоже было недоброе предзнаменование. Еще в начале века в Петербурге он познакомился с ясновидящей Анжелиной Сакко и впоследствии постоянно пользовался ее услугами, в том числе в эмиграции. О Дарье Васильевне Анжелина говорила: «Она настолько чиста, что находится очень далеко». (О другой покойнице, некогда близкой Василию Витальевичу, «Анжелика» говорила: «Вижу ее, она стоит прямо за вами»).
Он верил в сновидения, в течение многих лет записывал сны и пытался толковать их. Однажды я получил от него письмо следующего содержания: «Дорогой Ростик! Продолжаю вчерашнее письмо. Этой ночью меня посетила, т. е. приснилась моя сестра Алла Витальевна, но не обманная, а настоящая. Она нашла меня в Киеве, в доме высоком, мне не знакомом. Для чего? Вы, дорогой, не знаете <…> кто была Дария Васильевна, но знаете, чем она была для меня. Сестра А. В. сказала мне, что имя (фамилия) Д.В. в настоящее время Облодова (или Абдолова) и что живет она в Киеве, по Тарасовской улице д. № 20. Я сейчас же туда поспешил. Дом тоже оказался очень высокий. Бродя из этажа в этаж, я наткнулся на свирепую женщину. Она пристала: “Зачем ты не женат?!” Вероятно, на предмет налога. Отделавшись от нее, я встретился с любезной женщиной. Она указала мне дверь Облодовой и прибавила: “Она дома, не пошла на службу, сегодня воскресенье”. — “Где она служит?” — “У Абдолова”. — “Он ей муж?” — “Нет”. — “Любовник?” — “Нет”. После этого я вдруг очутился в какой-то комнате, где на стене висел портрет Дарьи В., писанный маслом, очень похожий. После этого открылась в коридор другая дверь и я увидел ее, самое, т. е. Д. В. Она посмотрела на меня нерасказуемым взглядом, а горничной (любезной женщине) сказала: “Голубушка, уйди, пожалуйста, мешаешь”. При этом она куталась в какой-то пеньюар, видно, вскочила прямо с постели. Но еще из другой двери выскочили мальчишки. Я сказал весело: “Теперь конец! Не дам я вам больше тут около нее юлить”. Мальчишки радостно побежали вниз по лестнице… И тут я, увы, проснулся. Дорогой Ростик, сохраните это письмо».
Вскоре я отправился в Киев, нашел Тарасовскую улицу и дом двадцать. Это был, по-моему, трех- или четырехэтажный дом начала века. На первом этаже лестницы на стене висела доска с фамилиями жильцов и номерами квартир. Просмотрев его, я не обнаружил ни Облодовой, ни Абдоловой…
…Продолжая вглядываться в сумрак белой ночи за окном, Василий Витальевич заключил: «Она снится мне очень редко, за эти годы всего раза три. Как-то раз приснилась и сказала: “Ты помни, я тебя найду”». Так он и прожил свою жизнь с этой надеждой.
Моя сестра Павла Витальевна
13 Александр Могилевский был фиктивным мужем Павлы Витальевны. Ольга Витальевна Градовская, племянница Василия Витальевича, писала мне: «После смерти Марии Константиновны <…> Пихно Дм. Ив. полюбил Павлу Вит. Шульгину. Но поскольку такой брак был бы несколько неудобен, так как по браку с Мар. Конст. она приходилась ему дочерью, нашли выход. Был найден Могилевский, полковник в отставке (штабс-капитан. —
Р. К); с ним договорились, что если он юридически, но отнюдь не фактически, вступит в брак с Павлой Вит., то ему будут выплачивать ежемесячно соответствующую пенсию. Таким образом, Павла Вит. вступила в брак с Могилевским, а была женой Дм. Ив. Пихно <…>. Дети, носившие фамилию Могилевского, были детьми Дмитрия Ив. Пихно».
Мои братья Павел и Дмитрий Дмитриевичи Пихно
14 В результате Балканских войн историческая область Македония была разделена между Грецией, Сербией и Болгарией, противоречия между которыми обострились после 1-й мировой войны, особенно между новыми государствами — Албанией и Королевством Сербов, Хорватов и Словенов (СХС, будущей Югославией). С августа 1921 правительство королевства СХС стало принимать на службу в Пограничную стражу русских офицеров, унтер-офицеров и солдат с правом ношения русской формы и знаков отличия в русских ротах этой стражи. Не доверяя полностью русским в связи с их склонностью к болгарам, их не посылали на границу с Болгарией, не было их также и на границе с Грецией. В основном они находились на границе с Италией (на островах Адриатики) и, главным образом, на границе с Албанией (в Македонии или Южной Сербии, как она тогда называлась), на которой непрерывно шли военные стычки и проводились диверсии. В частности, в 1924 один из отрядов добровольцев из состава Русской армии ген. П. Н. Врангеля совершил вылазку в Албанию, свергнул левого президента Ф. Ноли и привел к власти будущего короля Албании Ахмета Зогу (сообщил И. Н. Качаки).
15 Член Государственной Думы Георгий Васильевич Скоропадский был женат на вдове Надежде Ивановне Марковой, урождённой Кондояки. От первого брака у нее была дочь Наталия Павловна Маркова.
Василий Иванович Пихно
16 Копулировка (от лат. copulo — соединяю), один из способов прививки: сращивание привоя (черенка) и подвоя (1–2-летней ветки дерева), имеющих одинаковую толщину.
17 Окулировка (от лат. oculus — глаз, почка), один из способов прививки плодовых и декоративных растений: пересадка на подвой почки (глазка) культурного сорта (привоя), из которой развивается новое растение.
18 Пойнтер (англ. pointer, от point — делать стойку), порода короткошёрстных легавых собак, выведенная в Англии в XVIII веке. Используется для охоты на болотных, степных и лесных птиц.
19 Эхинококкоз — заболевание, вызываемое пузыревидным паразитическим ленточным червем эхинококком, который во взрослом состоянии живёт в кишечнике собак и других плотоядных животных; личиночная форма эхинококка обитает преимущественно в печени и лёгких главным образом травоядных животных и человека.
Несколько слов о ценах
20 В истории меня всегда интересовала не только борьба идей и связанные с нею политические события, но и, на первый взгляд, мелкие бытовые подробности переживаемой эпохи. Как, например, «неистребимость почты» (Владимир Набоков) и путешествие в Крым в период Гражданской войны. Подчас эти бытовые свидетельства придавали особый аромат тому времени, на фоне которого происходили эти события.
К подобным свидетельствам отношу и цены, бытовавшие в России в предреволюционные годы. Поэтому и попросил Василия Витальевича рассказать о них. Он начал свой рассказ со студенческих обедов без всяких вступлений, как будто продолжал недавно прерванное повествование.
21 Между прочим, Мария Сергеевна Орлова, давнишняя знакомая Василия Витальевича по Киеву и сама уроженка этого города, всплеснула руками и возмутилась, когда я рассказал ей об этом.
— Помилуйте, вот уж не знала, что у Василия Витальевича такой вкус. Француженки были премиленькие девочки с очень изящными манерами. И madame Жорж Мандель очень следила за ними — в десять часов вечера они должны были лежать в своих постельках.
Великий князь Николай Михайлович
22 Газета «Возрождение» была основана нефтепромышленником А. О. Гукасовым и известным экономистом, философом и публицистом П. Б. Струве, который первое время был редактором газеты; являлась органом русской национальной мысли в эмиграции умеренно-консервативного направления, ориентировавшегося в основном на интеллигенцию, выходила в 1925–1940 годах. После ухода П. Б. Струве с поста редактора газета превращается в промонархическое издание правого направления, с 1936 года из ежедневной
становится еженедельной.
23 Шульгин В. В. Приключения князя Воронецкого. Изд. in 4° б.м., б.г. (Киев, 1913).
В журнале «Исторический Вестник» (1914, май. Т. 136. С. 713) была опубликована следующая рецензия на этот роман:
«По внешности издания не подлежит сомнению, что даже не переверстанные столбцы фельетонов какой-нибудь провинциальной газеты, вернее всего киевской, — отсюда обилие пробелов, в виде пустых страниц.
Очень жаль за роман, что его внешность и неизвестность издания обрекают его на малую распространенность.
Русскому читателю с легкой руки Горького и Л. Андреева в достаточной мере набили оскомину всяческие пакостничества, обильно расточаемые Куприными, Арцыбашевыми, Ф. Сологубами, Каменскими, Белыми и пр., под предлогом истинного реализма и жизненной правды. Поэтому чем-то совершенно необычайным, светлым и поэтичным веет со страниц романа В. В. Шульгина. Это — horribile dictu![111] — роман исторический из истории Юго-Западного края XVI века, напоминающий несколько по своей фактуре романы Сенкевича и посвященный описанию борьбы южно-русского элемента с польскими завоевателями. Роман написан с большим знанием истории Юго-Западного края, и нам думается, что историческою подоплекою своего произведения автор обязан своему соименнику — историку В. Шульгину, профессору киевского университета, основателю газеты «Киевлянин» и знатоку судеб Юго-Западного края. Роман этот принадлежит к типу романов de cape et d’épée, описывает приключения обедневшего потомка знатного южно-русского рода, ведущего свое родословие от Владимира Красное Солнышко. Получив образование в Западной Европе в итальянском и парижском университете, юный князь по дороге домой к отцу попадает в гущу столкновений между иерархом русской православной церкви и неистовствующими насильниками поляками. Оказывая чудеса храбрости, князь Воронецкий — истый Баярд — вовлекается, благодаря увлечению одною очень не щепетильною панночкою, в борьбу между наследниками князя Андрея Курбского с Гедройцами и Фирлеем, так как к ним перешли маионтки, которыми был поверстан Андрей Курбский на ленном праве; очень картинно описывается весь ужас наездов, т. е. частных войн, которые губили состояния и будущность юго-западных поместных владельцев. В конце концов князь Воронецкий, тяжело раненый, попадает на попечение сиротки-девушки, живущей у старика монаха, носителя русского знатного имени, сиротливо доживающего свой век в ограде полуразрушенного русского монастырька, приютившегося на островке.
На выздоровлении князя и сборах его к дальнейшим подвигам и останавливается роман, который неминуемо должен иметь продолжение.
Роман написан с теплым поэтическим чувством, очень талантливо и с большим знанием истории, быта эпохи и даже ее языка, на котором излагается переписка между действующими лицами. В. Ш.»
24 В 1844 г. Киевский генерал-губернатор Д. Г. Бибиков предложил помощнику попечителя Киевского учебного округа М. В. Юзефовичу принять участие в работе Временной комиссии для разбора древних актов в архивах, присутственных местах и монастырях Киевской, Подольской и Полтавской губерний, которая впоследствии проводилась в рамках деятельности Киевской археологической комиссии, возглавлявшейся с 1857 г. М. В. Юзефовичем. Результатом деятельности Комиссии было издание источников по истории Украины XIII–XVIII вв. в многотомном «Архиве Юго-Западной России» под редакцией М. В. Юзефовича (8 частей, включающих 35 томов, за период 1859–1914).
Великий князь Николай Николаевич
25 Палантин (франц.) — меховая или бархатная накидка в виде широкого шарфа на плечи у женщин.
26 Я спросил Василия Витальевича, почему же он лично не познакомился с великим князем Николаем Николаевичем? «Не было случая, — ответил он, — а сам я никогда первым не делал попытки познакомиться с кем-либо».
1917–1919
Глава I
МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
1 В оригинале: «Самый правый из блока, В. В. Шульгин, мог бы войти в правительство, если бы захотел; но он отказался и предпочел остаться в трудную для родины минуту при своей профессии публициста»
(Милюков П. Н. История второй русской революции. Т. 1. Вып. 1. Киев, 1919. С. 27).
2 Имеется в виду «Киевская мысль», либеральная газета, выходившая с 30 декабря 1906 по декабрь 1918; закрыта властями Украинской Директории.
3 «Киевлянин. Литературная и политическая газета Юго-Западного края». Выходила с 1 июля 1864. С конца 1879 издавалась ежедневно. Газета возникла «по предложению высшей администрации Киева», центра Юго-Западного края, «для проведения в массу населения этого края здоровых, на неопровержимых фактах истории основанных понятий об исконном русском характере края». Газете предоставлялась субсидия от казны — 6 тыс. рублей в год. См.: Виталий Яковлевич Шульгин: Некролог и речь, произнесенная над его гробом. Киев, 1879. С. 30. Редактировали газету: В. Я. Шульгин (1864–1878), Д. И. Пихно (1878–1885, 1887–1907), В. И. Пихно (1885–1887), К. И. Смаковский (1907–1913), В. В. Шульгин (1913–1914), с 1914 по 1917 разновременно К. И. Смаковский и В. В. Шульгин. Издателями газеты были: В. Я. Шульгин (1864–1878), М .К. Шульгина (Пихно) (1873–1883), с 1883 по 1913 — наследники М. К. Пихно, с 1913 — В. В. Шульгин и П. В. Могилевская.
4 «Курская газета» выходила с 1911 г. 3–4 раза в неделю. Редактором-издателем газеты считался Н. А. Берестецкий. Прекратилась в апреле 1917 г..
5 Сведений о том, что Временное правительство передало в распоряжение Шульгина Петроградское телеграфное агентство, обнаружить не удалось. Между тем известно, что комиссаром Временного комитета Государственной думы в ПТА был П. П. Гронский, кадет, депутат Думы.
6 Ср. фрагмент из статьи Шульгина «Цари ушли…»: «И вот цари ушли, призывая всех русских граждан подчиниться правительству, вступившему им на смену. Они ушли. Но что с нами? Что с Россией? Какой образ правления наступит? Не будем об этом говорить. Тяжкий молот судьбы потребовал проверки государственного устройства России, и пусть эта проверка совершится в этом будущем Учредительном собрании, которого требуют» (Киевлянин. 1917. 5 (18) марта).
7 Временное правительство отменило смертную казнь 12 (25) марта. На факт отмены смертной казни Шульгин отозвался передовой статьей, переданной из Петрограда по телеграфу, в которой он писал: «Легко и радостно теперь отменить смертную казнь. Легко еще потому, что нынешний министр юстиции А. Ф. Керенский, которого нам удалось близко рассмотреть в эти страдные дни, когда нежданно-негаданно поток взволнованных масс обрушился на Государственную Думу, в эти и страшные и великие дни — А. Ф. Керенский показал себя действительно благородным, культурным человеком. Он сумел воспользоваться прирожденной незлобивостью русского народа и, в особенности, русского солдата — и не позволил обагрить кровью Таврический дворец, когда привели Протопопова, Сухомлинова, Штюрмера и других» (Киевлянин. 1917. 16 (29) марта). Ранее В. В. Шульгин выступал в Государственной Думе против отмены смертной казни.
8 При открытии Московского Государственного совещания А. Ф. Керенский заявил: «Еще министром юстиции я внес во временное правительство отмену смертной казни (Аплодисменты. Возгласы “Браво!”). И я же (пауза), как военный министр, внес во временное правительство частичное восстановление смертной казни (возгласы “Правильно!” Аплодисменты). Как можно аплодировать, когда идет вопрос о смерти? (Бурные аплодисменты). Разве вы не знаете, что в этот момент и в этот час была убита частица нашей человеческой души. Но если будет нужно для спасения государства, если голос наш, предвещающий великие испытания, не дойдет до тех, кто и в тылу развращает и разнуздывает армию, мы душу свою убьем, но государство спасем (Бурные аплодисменты)» (Русское слово. 1917. 13 (26) августа). Комментируя выступление Керенского, В. В. Шульгин писал: «Последняя фраза потрясающая. Никогда такая трагедия не разыгрывалась на подмостках московского театра. Трагедия в том, что душа Керенского двоится невыносимым противоречием» (Киевлянин. 1917. 15 (28) августа).
9 Эти слова Пимена из «Бориса Годунова» А. С. Пушкина (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»), по-видимому, часто вспоминали в 1917 году в семье Шульгиных. Е .Г. Шульгина взяла их эпиграфом для своей статьи, в которой она выступала против «очернения прошлого»
(А. Ежов [
Шульгина Е. Г.]
. Прошлое // Киевлянин. 1917. 25 марта (7 апреля)).
10 В статье «На зубок новорожденному <…> “новому” правительству» В. И. Ленин писал: «Не запугаете, г. Шульгин! Даже когда мы будем у власти, мы вас не “разденем”, а обеспечим вам хорошую одежду и хорошую пищу, на условиях работы, вполне вам “подсильной” и привычной!»
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32. М., 1962. С. 34). Статья была напечатана в «Правде» 6 (19) мая 1917. К выступлению Шульгина Ленин возвращался в работах «Война и революция» и «Неминуемая катастрофа и безмерные обещания» (Там же. С. 94–95).
11 Заславский Д. О., Канторович В. А. Хроника Февральской революции. Т. I. Пг., 1924. С. 245 (Далее: Хроника… —
Р. К.)
12 Хроника… С. 245–246.
13 Выступая на съезде делегатов фронта 29 апреля (12 мая) 1917 г., А. Ф. Керенский сказал: «Вы умели исполнять обязанности, которые налагала на вас ненавистная царская власть; вы умели стрелять в народ, когда она этого требовала. Неужели же именно теперь пришел конец вашему терпению? Что же, русское свободное государство есть государство взбунтовавшихся рабов?» (Русское слово. 1917. 30 апреля (13 мая)).
14 В ходе июньского наступления 1917 года корпус генерала В. А. Черемисова, входивший в состав 8-й армии генерала Л. Г. Корнилова, переправился через реку Ломница и после упорных боев занял 28 июня (11 июля) город Калуш. Однако войска противника наносили мощные контрудары, при этом использовался новый боевой газ «Желтый крест», от которого не спасали противогазы. Разлив Ломницы затруднял снабжение войск. В ходе боев многие русские части отказывались исполнять приказы. 3 (16) июля Калуш был оставлен, войска отступили на другой берег Ломницы. Через несколько дней австро-германские войска нанесли новые удары. Несмотря на свое численное превосходство, русские части отступали по всему фронту. Некоторые подразделения отходили в полном беспорядке, снабжение и управление отсутствовали. Ряд населенных пунктов был разгромлен деморализованными солдатами, мирные жители стали жертвами диких насилий.
15 Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.) — слова, которыми идущие на битву гладиаторы приветствовали императора Клавдия; выражение восходит к «Жизни двенадцати цезарей» Светония (Божественный Клавдий, XXIII).
16 Временное правительство было создано 2 (15) марта.
17 Хроника… С. 298.
18 В ходе апрельского кризиса был поставлен вопрос о реорганизации Временного правительства; в него должны были быть включены представители социалистических партий. А. И. Гучков объявил о своей предстоящей отставке 29 апреля (12 мая) — он протестовал против революционных преобразований в армии, свое намерение он осуществил 1 (14) мая. П. Н. Милюков подал в отставку 2 (15) мая — он протестовал против включения социалистов в правительство и считал, что следует занять жесткую позицию по отношению к Совету и партиям, его поддерживающим.
19 Хроника… С. 263.
20 Во время боев июля — августа 1917 российская армия потеряла свыше 150 тыс. человек.
21 Очевидно, Шульгин вспоминает события вечера 4 (17) июля. 1-й запасной пехотный полк, демонстрировавший под большевистскими лозунгами у Таврического дворца, направился в свои казармы. В то же время от Дворцовой площади был двинут отряд, состоящий из двух сотен казаков и двух орудий. Перед ними была поставлена задача «всеми мерами вплоть до открытия огня рассеять толпу, осаждающую Государственную Думу». По дороге казаки рассеивали группы демонстрантов. В девятом часу они атаковали колонну 1-го запасного пехотного полка и были встречены огнем. Казаки отступили, бросив одно орудие. В результате этого столкновения 6 человек были убиты, 25 получили ранения. См.:
Знаменский О. Н. Июльский кризис 1917 года. М.; Л., 1964. С. 104–105.
22 «Киевлянин» с марта 1917 постоянно вел кампанию за восстановление бело-сине-красного флага. Начало положила статья за подписью Ник.
Я. «Где же русский флаг?» (Киевлянин. 1917. 23 марта (5 апреля)). В ней говорилось: «Неужели оно (Российское государство.) не имеет право на государственный флаг, им этим флагом должно быть признано красное знамя международного интернационального пролетариата, от которого, впрочем, отреклись на время войны почти все социал-демократы и Германии, и Франции». 23 апреля (6 мая) учащаяся молодежь Киева устроила демонстрацию в честь французского авиационного отряда, отправляющегося на фронт. Многие демонстранты имели розетки и банты российских национальных цветов, на отдельных домах были вывешены и российские флаги. Вторая манифестация учащихся под национальными флагами не была столь многочисленной, как первая, и не обошлась без эксцессов. По мнению либеральной печати, киевская демонстрация с флагами «была использована черносотенцами» (Русские ведомости. 1917. 4 (17) мая). Левые организации Киева, в том числе Исполком Совета рабочих депутатов, потребовали принятия «самых решительных мер». Шульгин призвал своих молодых сторонников воздержаться от новых демонстраций. См.: Киевлянин. 1917. 23, 24, 30 апреля (6, 7, 13 мая), 9 (22) мая.
23 Под именем Дарьи Васильевны Данилевской в тексте упоминается Любовь Антоновна Попова (ум. 1918), жена П. Д. Пихно.
Глава II
КИЕВ В 1917 ГОДУ
24 «Киевлянин» описывал историю посылки телеграммы Витте следующим образом: «Мы сочли своим долгом высказать ему в это время свое мнение в той откровенной и резкой форме, в которой не считали еще нравственно себя вправе говорить со смущенным, перепуганным и крайне нервно расстроенным русским обществом. <…> Мы послали 1 ноября гр. Витте частную депешу, которая никому не была известна. Ответ гр. Витте был получен на следующий день, в 5 час. утра, а уже в 10 час. нашему сотруднику со злостью сказали: “А ваш редактор опять занялся доносами. Мы знаем его телеграмму Витте и ответ. Мы за вами следим”. <…> Уже через два дня, 4 ноября, появилось в “Киевской газете” известие, что, по достоверным сведениям, гр. Витте приглашает г. Пихно в Петербург для беседы. Затем в другой газете была текстуально приведена депеша гр. Витте. Мы молчали» (Киевлянин. 1905. 13 ноября). 7 ноября краткое изложение телеграммы Пихно опубликовала газета «Киевское слово», а 12 ноября «Киевские новости» перепечатали полный текст депеши, допустив ряд ошибок. 13 ноября телеграфную переписку опубликовал «Киевлянин». Текст телеграммы Пихно был очень резок, он значительно отличался от тогдашних материалов «Киевлянина». Автор писал о «злополучном 17 октября». Обращаясь к Витте, Пихно заявлял: «Ни вы, ни ваши товарищи по кабинету так же не подготовлены к совершению новой политической деятельности, как и вся Россия». Он требовал: «Реальные основы нашего строя — самодержавие. <…> Нужно отбросить все проекты, отменить или остановить действие манифеста 17 октября». Витте отвечал: «Из Вашей телеграммы усматриваю, что Вы еще более нервно расстроены, нежели я. Ваши советы, как многие, многие получаемые, имеют некоторое основание, но чтобы судить об общем положении, нужно иметь сведения, которыми вы не располагаете. Очень был бы рад с Вами увидеться и переговорить. Граф Витте». Пихно ответил: «Приехал бы немедленно, но не могу оставить Киев» (Киевлянин. 1905. 13 ноября).
25 См. главы «Первый день “конституции” (18-е октября 1905 года)», «Второй день “конституции”», «Третий день “конституции”» книги В. В. Шульгина «Дни».
26 Об отношении «Киевлянина» к еврейским погромам свидетельствует выдержка из статьи Д. И. Пихно (напечатана 19 октября 1905): «Вчерашний день в Киеве показал все ужасы междоусобицы. Толпы народа разгромили в разных частях города массу еврейских магазинов, разгромлено, к счастию немного, частных квартир. Происходили ужасные сцены. Это был стихийный взрыв оскорбленных чувств за поругание народной святыни, обратившийся на евреев»
(Пихно Д. И. В осаде: Политические статьи. Киев, 1906. С. 48).
27 Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» («Сеятель знанья на ниву народную!..», 1876).
28 Выборы в городскую думу Киева состоялись 23 июля (5 августа). Группа В. В. Шульгина получила 25 тысяч голосов (14,08 % от общего числа) и провела 18 гласных. При этом она уступила социалистическому списку (37 %, 44 гласных) и списку украинских социалистов (20 %, 24 гласных).
29 От большевиков было избрано семь гласных: А. В. Иванов, М. С. Богданов, Р.-И. В. Гальперин, А. И. Маевская-Массальская, И. М. Фиалек, Г. Л. Пятаков, М. Л. Леонтьев.
30 Среди большевиков — гласных городской думы Киева не было человека по фамилии Гинзбург. Возможно, подразумевается Абрам Моисеевич Гинзбург (Г. Наумов, 1878-?), известный киевский меньшевик, в 1917 — товарищ городского головы; фактически именно он руководил городским хозяйством.
31 Вспоминая свой арест (об этом см. далее в воспоминаниях), Шульгин указывал:
«Я уцелел потому, что за меня заступился известный большевик Пятаков»
(Шульгин В. В. Три столицы. М., 1991. С. 390).
32 Заседание Киевской городской думы, посвященное выдаче пособий семьям солдат, состоялось 21 августа (3 сентября) 1917. Кроме немедленной выдачи денежного пособия, жены запасных требовали также и выдачи дров, а после отказа начали угрожать гласным. В зал была введена милиция, к зданию подтянуты подразделения казаков и конной милиции. 19 сентября (2 октября) состоялось новое чрезвычайное собрание думы, посвященное выдаче пособий. На нем присутствовало 11 делегаток. Было решено увеличить размер пособий до 25 рублей (прибавлялось 3 рубля). Внезапно одна из делегаток закричала: «Дров нам давайте бесплатно, дров давайте, буржуи!» С некоторыми делегатками происходила истерика. См.: 1917 год на Киевщине: Хроника событий / Ред. В. Манилов. Харьков. 1928. С. 250.
33 Выборы во Всероссийское Учредительное собрание проходили в Киевском избирательном округе 26–28 ноября (9–11 декабря) 1917, 77 % получили украинские социалисты, 6 % — еврейский национальный блок, 4 % — большевики, 3,3 % — внепартийный блок русских избирателей (группа В. В. Шульгина). Соответственно, украинские социалисты получили право послать 20 депутатов, еврейский национальный блок и большевики — по одному. Группа В. В. Шульгина нужного количества голосов не набрала. «Киевлянин» не раз критиковал организацию выборов, писал о нарушении правил голосования в сельской местности. При этом в самом Киеве Внепартийный блок русских избирателей получил 20,5 % голосов, уступив лишь украинским социалистам, которые набрали 25,6 % (за последних особенно активно голосовали военнослужащие — 46,1 % солдат гарнизона), таким образом, среди собственно горожан группа B. В. Шульгина пользовалась серьезной поддержкой. Сведения о выборах см. в кн.:
Спирин Л. М. 1917 год: Из истории борьбы политических партий. М., 1987. С. 289.
34 11–17 (24–30) сентября 1917 городская управа Киева проводила перепись населения, квартир и владений. По данным переписи в Киеве 50,26 % населения составили русские, 12,21 % — украинцы, малороссами назвали себя 4,47 %. В качестве родного и разговорного языка русский назвали 62,9 %, украинский — 9,23 %. См.:
Грушевский С. Г. Национальный состав населения города Киева // Малая Русь. Киев, 1918. Вып. 3. С. 54, 57.
35 В тексте рассказа И. С. Тургенева «Бригадир» (1867): «наша великорусская Украйна»
(Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 тт. Сочинения. Т. 8. М., 1981. С. 39).
36 Речь идет о плакате «Группы малороссов». См.: Украинская культура // Киевлянин. 1917. 23 июля.
37 Здесь В. В. Шульгин упоминает события 1919 г. (они описаны в главе XI — «Возвращение в Киев» публикуемых воспоминаний). В августе, перед вступлением белых войск в Киев, было опубликовано «Обращение главнокомандующего к населению Малороссии». Составлено оно было в управлении народного просвещения при близком участии проф. П. И. Новгородцева. В нем осуждались «былые ставленники немцев» — Петлюра и «его соратники». Декларировалось, что «в основу устроения областей Юга России будет положено начало самоуправления и децентрализации при непременном уважении к жизненным особенностям местного быта». В местных учреждениях, земских, присутственных местах и суде каждый мог говорить «по-малорусски». Частные школы, содержимые на частные средства, могли вести преподавание на любом языке. В казенных школах могли вводиться факультативные уроки «малорусского народного языка в его классических образцах». В младших классах «для облегчения учащимся усвоения первых начатков знания» допускалось также употребление «малорусского языка». Не ограничивалось и употребление «малорусского языка» в печати. (См.
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Paris, 1926. Т. 5. С. 143). Даже многие сторонники белого движения из числа украинцев считали такие меры недостаточными, к тому же на практике они часто нарушались. Особенно непримиримым отношением к «украинствующим» отличались сторонники В. В. Шульгина. Интересно, что Деникин не упоминает Шульгина в числе авторов «Обращения».
38 Созыв Украинского Учредительного собрания был объявлен III Универсалом Центральной Рады от 7 (20) ноября 1917. В Киеве выборы состоялись 7–9 (20–22) января 1918. Внепартийный блок русских избирателей получил 29,47 % голосов, из числа же собственно горожан (т. е. исключая солдат гарнизона) — 33,22 %. 9 апреля 1918 В. В. Шульгин получил удостоверение № 153 от окружной комиссии по выборам о том, что он избран в Учредительное собрание (текст — на украинском языке)
(Москвич А. Г. Несколько слов о выборах в Украинское Учредительное собрание // Малая Русь. Киев. 1918. Вып. 3. С. 47, 48, 52;
Грушевский С. Г. Национальный состав населения города Киева // Там же. С. 53). В Киевской губернии результаты выборов были таковыми: избрано 38 украинских социалистов-революционеров (75,8 % голосов), 3 большевика (6,4 %), 3 представителя еврейского национального комитета (6 %), 1 представитель внепартийного блока русских избирателей (2,9 %). Украинское Учредительное собрание должно было открыться 12 мая 1918. Об избрании В. В. Шульгина см. также:
Adams В. The Extraordinary Career of Vasilii Shulgin // Revolutionary Russia. 1992. Vol. 5. № 2. P. 198.
39 Анатолий Иванович Савенко (1874-?) проводил антиукраинскую линию; генерал А. М. Драгомиров писал, что сам Шульгин «еще терпим», «но Савенко — это какой-то фанатик идеи»
(Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 5. С. 143).
40 Главы «Первый день “конституции” (18 октября 1905 года)» и «Второй день “конституции”» книги «Дни».
41 Публицист Д. А. Жуков утверждает, что Александр был сыном А. В. Билимович. В 1941, во время нападения Германии на Югославию, он был офицером югославской армии. Когда его подразделение проходило по улицам какого-то города, то некая женщина выстрелила в него из окна
(Жуков Д. Ключи к «Трем столицам» //
Шульгин В. В. Три столицы. С. 430).
Глава III
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
42 Термин «Украина» В. И. Ленин упоминает, в частности, в материалах к реферату «Империализм и право наций на самоопределение» (октябрь 1915), «украинцы» — в работе «Рабочий класс и национальный вопрос» (май 1915).
43 Н. И. Кареев так описал встречу с Шульгиным: он «не переставал в своей киевской газете утверждать, будто я в I Государственной Думе советовал изничтожить даже самое имя России. На мое заявление он ответил, что только повторял общую молву, имевшую веру в его кругах, но что он готов дать место в своей газете моему опровержению»
(Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 270).
44 С 28 июня (11 июля) по 30 июня (13 июля) 1917 в Киеве проходили переговоры группы членов Временного правительства (разновременно — А. Ф. Керенский, М. И. Терещенко, И. Г. Церетели, Н. В. Некрасов) и украинских политических деятелей. В результате переговоров 2 (15) июля появилась «Декларация Временного правительства», объявлявшая Генеральный секретариат «высшим органом управления краевыми делами на Украине». Состав его должен был определяться правительством по соглашению с Центральной Украинской Радой. Он должен был быть пополнен на справедливых началах представителями других народностей, проживающих на Украине, в лице их демократических организаций. Партия кадетов протестовала против этого соглашения, оно послужило формальным поводом для выхода представителей этой партии из правительства. Центральная Рада своим вторым универсалом от 3 (16) июля поддержала соглашение. Однако декларация Временного правительства от 4 (17) августа, конкретизировавшая соглашение, была оценена Радой как нарушение первоначальных договоренностей. Возник новый конфликт правительства и Центральной Рады.
45 18 (31) июля Шульгин опубликовал протест против положения о Генеральном секретариате. На следующий день его поддержали некоторые представители киевской профессуры. Подписчикам «Киевлянина» рассылались специальные листовки с текстом протеста против «насильственной украинизации Южной Руси». Рекомендовалось подписывать их и возвращать в редакцию. Списки лиц, подписавших обращение, стали регулярно печататься в «Киевлянине»,
46 «Не о любви, свирепый волк, / Тебе бы петь, возьми ты в толк! / Не можешь даже и понять, / Что счастьем я хотел назвать»
(Вагнер Р. Тангейзер / Пер. Г. А. Лишина, СПб., 1908. С. 33. Действие 2-е, явление 4-е).
47 Приводится по книге: Государственное совещание. Архив Октябрьской революции. 1917 г. в документах и материалах / Под ред. М. Н. Покровского и Я. А. Яковлева. М.; Л., 1930. — Р. К.
48 Завершая выступление в Государственной думе 10 мая 1907, председатель Совета министров П. А. Столыпин заявил: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» (Государственная дума: Стенографические отчеты. 1907 г. СПб., 1907. Т. 2. Стлб. 445). Как вспоминал член Государственного Совета П. П. Менделеев, автором этой знаменитой фразы был член Совета министерства внутренних дел И. Я. Гурлянд
(Ганелин Р. Ш. Материалы по истории Февральской революции в Бахметьевском архиве Колумбийского университета // Отечественная история. 1992. № 5. С. 166).
49 «И уж действительно “все промелькнули перед нами”. Изящный и тонкий Набоков, бурный Родичев, выпаливающий слова, как из пистолета; огромный и медленный Родзянко, начавший журить Временное правительство, тыкая в него пальцем; изысканный ядовитый умница Шульгин…»
(Толстой А. Н. Московское совещание // Русское слово. 1917. 20 августа (2 сентября)). В. Маклаков в этой статье не упоминается.
50 О масонстве В. А. Маклакова см.:
Берберова Н. Люди и ложи: Русские масоны XX столетия. New York, 1986. С. 235–256.
51 Очевидно, упоминается книга:
Марков Н. Е. Войны темных сил. Париж: Изд-во «Долой зло», 1928–1930. Т. 1–2.
52 «Уснувший» — отошедший от деятельности масонской ложи. Н. Берберова пишет, что П. Н. Милюков «никогда не был масоном»
(Берберова Н. Люди и ложи… С. 30). В «Списке лиц, принадлежащих или же подозреваемых в принадлежности к русскому масонству начала XX в.», составленном С. Ф. Ивановой, П. Н. Милюков называется. При этом дается ссылка на архивные материалы Охранного отделения Департамента полиции. См.: Из глубины времен. СПб., 1992. № 1. С. 185. Неясно, впрочем, отнесен ли Милюков к «принадлежащим» или к «подозреваемым». Зарубежные исследователи масонства не упоминают П. Н. Милюкова среди масонов:
Smith N., Norton В. Т. The Constitution of Russia Political Freemasonry (1912) // Jahrbücher für Geshcichte Osteuropas, 34. 1986. H. 4. 5. 499.
53 Книга В. В. Шульгина «Что нам в них не нравится? (об антисемитизме в России)» была переиздана в 1992 петербургским издательством «Хоре» и национально-республиканской партией. Публикаторы указывают, что они использовали 2-е издание (Париж, 1930).
54 На мой вопрос, что следует понимать под благостью в евреях, Василий Витальевич ответил: «Моральность высокая, доброта во всей нации».
55 В. А. Маклаков и В. В. Шульгин выступали во 2-й Государственной думе по законопроекту об отмене военно-полевых судов 12 марта 1907.
56 «Быстрых разумом Невтонов» — образ из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» М. В. Ломоносова.
57 Под влиянием сведений, полученных от А. В. Сакко, В. В. Шульгин предпринял путешествие в Советскую Россию, описанное в книге «Три столицы».
58 «Перед судом истории» (1965) — историко-документальный кинофильм (режиссер— Ф. М. Эрмлер), построенный как развернутое интервью с В. В. Шульгиным.
59 Князь Илларион Сергеевич Васильчиков (1881–1969) — предводитель дворянства в Ковенской губернии, член Государственной думы (группа центра) — был женат на Лидии Леонидовне, урожденной княжне Вяземской (1886–1948). На княжне Софии Николаевне Мещерской был женат двоюродный дядя И. С. Васильчикова — князь Борис Александрович Васильчиков, главноуправляющий землеустройством и земледелием (1906–1908), член Государственного Совета.
60 Кн. И. С. Васильчиков жил в 1917 в доме № 1 по Гагаринской ул. Кн. Б. А. Васильчиков жил в доме № 49 по Большой Морской ул., принадлежавшем князьям Мещерским.
61 Неточная цитата из романса «У камина» (1901); слова С. А. Гарфильда (С. А. Гарина), музыка Я. Ф. Пригожего; в оригинале: «Ты сидишь молчаливо и смотришь с тоской, / Как печально камин догорает» (Песни русских поэтов: В 2 тт. Т. 2. Л., 1988. С. 364).
62 По-видимому, имение Васильчиковых Орлино Царскосельского уезда.
63 Петр Максимович Виридарский в октябре 1919 в Киеве приступил к созданию Всероссийского союза православных приходов. План получил поддержку А. М. Драгомирова, в инициативную группу по созданию союза вошли митрополит Антоний, архиепископ Евлогий, В. В. Шульгин и др.
Глава IV
ОСЕНЬ СЕМНАДЦАТОГО В КИЕВЕ. МОЯ ПОЕЗДКА В НОВОЧЕРКАССК
64 Очевидно, имеется в виду Александр Константинович Анохин (сообщил Б. И. Колоницкий).
65 Очевидно, упоминается сын депутата Государственной думы А. А. Лодыженского, который играл большую роль в политических предприятиях Ставки.
Шульгин был арестован в ночь на 30 августа (12 сентября), первоначально он содержался на гауптвахте, с 10 часов вечера переведен под домашний арест. Утром 28 августа (10 сентября) депутаты Совета и милиция произвели обыск типографии Кушнарева, в которой печатался «Киевлянин», и конфисковали листы «Против украинизации». Вечером того же дня в редакцию прибыл представитель «Комитета по охране революции в городе Киеве», он просматривал гранки номера. 29 августа (11 сентября) гласные — представители внепартийной группы русских избирателей не явились на заседание думы, протестуя против цензуры «Киевлянина». 30 августа (12 сентября) «Киевлянин» вышел с белыми полосами — вместо статей Шульгина и А. Ежова (Ж. Шульгиной).. На следующий день издание газеты было приостановлено, однако 2 (15) сентября «Киевлянин» вновь стал выходить.
66 12 ноября 1708 в Глухове украинское духовенство объявило «анафему и вечное проклятие вору и изменнику Мазепе». В тот же день в московском Успенском соборе духовные власти объявили анафему Мазепе (Костомаров Н. И. Мазепа. М., 1992. С. 259–260).
67 Очевидно, Шульгин так называет сторонников Сергея Михайловича Богданова, профессора Киевского университета и одного из основателей и председателей Киевского клуба русских националистов (1908).
68 Объявление России республикой Шульгин оценил следующим образом: «Это провозглашение узурпирует права Учредительного собрания, ибо главная задача Учредительного собрания — учредить форму правления» (Киевлянин. 1917. 5 (18) сентября). Он заявлял также, что отказывается признать и провозглашение республики, и правительство, узурпировавшее права Учредительного собрания. 7 октября Шульгин направил письмо в Совет московских общественных деятелей, в котором он заявил о своем отказе входить в Совет Российской республики (Киевлянин. 1917. 11 (24) октября).
69 К концу октября 1917 в Киеве действовали три властные структуры: штаб Киевского военного округа (его опору составляли юнкера нескольких военных училищ), Генеральный секретариат, созданный Центральной Украинской Радой (он опирался на украинизированные части), и большевистский ревком, который поддерживали солдаты 3-го авиапарка, 2-го понтонного батальона, артиллеристы и ряд других частей, а также рабочая Красная гвардия. При этом ревком и украинские власти действовали подчас как союзники в борьбе с Временным правительством. Был создан совместный Краевой комитет охраны революции, что значительно обострило отношения штаба округа и Центральной Рады. Правда, Малая рада осудила восстание в Петрограде, и большевики в ответ на это 26 октября (8 ноября) покинули Краевой комитет. Но перед этим Г. Пятаков заявил украинским политическим деятелям: «знайте, что, несмотря на все это, в тот момент, когда вы будете погибать под ударами российского империализма, мы будем с вами с оружием в руках». Эти слова были встречены шумными аплодисментами. Правда, 27 октября (9 ноября) Пятаков заявил (в другой аудитории), что «Центральная Рада вонзила нож в спину революционного Петрограда». Вместе с тем отношения Центральной Рады и округа продолжали обостряться, дело доходило до взаимных арестов. Но основным противником штаб округа все же считал ревком. 28 октября (10 ноября) в Киев и его окрестности прибыли подкрепления с фронта (казаки, ударный полк, чехословацкие части). Получив эту поддержку, штаб округа приступил к активным действиям: в ночь на 28 октября (10 ноября) ревком был арестован. Но Рада потребовала освобождения большевиков-ревкомовцев. В то же время был создан новый ревком. Во второй половине 29 октября (11 ноября) войска, поддерживавшие большевиков, начали восстание. Бои продолжались несколько дней. На их исход повлияла позиция Центральной Рады и ее войск. С одной стороны, украинские политические деятели вели переговоры со штабом округа, с другой — украинские части снабжали войска ревкома боеприпасами, а иногда и сражались на стороне последних: 30 октября (12 ноября) в бой вступили части Богдановского полка. Перевес восставших в артиллерии обеспечил им победу: в ночь на 1 (14) ноября штаб округа бежал из города. Перед этим было заключено соглашение с Центральной Радой: войска округа выводились из Киева, военные училища переводились на Дон. Л. Л. Пятаков направил телеграмму в Совет народных комиссаров: «Дружным усилием большевистских и украинских солдат и вооруженных красногвардейцев — штаб принужден сдаться». Современники называли эти события «треугольным боем» (1917 год на Киевщине: Хроника событий. С. 323, 354).
70 Еще в ходе боев, 30 октября (12 ноября), Центральная Рада провозгласила себя высшей властью на Украине. На следующий день украинские подразделения установили контроль над ключевыми объектами города. 7 (20) ноября была провозглашена Украинская народная республика, при этом заявлялось, что она будет «полноправным организмом в мощном союзе свободных народов России». 3 (16) ноября киевские большевики признали Центральную Раду краевой властью на Украине, но, вместе с тем, выступили за реорганизацию власти путем созыва всеукраинского съезда Советов. В Киеве продолжал действовать большевистский ревком, который боролся с Центральной Радой за влияние над частями гарнизона и готовил новое выступление. Но в ночь на 29 ноября (12 декабря) подразделения 1-й украинской гвардейской (сердюцкой) дивизии окружили и разоружили большевистские части, их личный состав немедленно высылался за пределы Украины.
71 Шульгин выступил на заседании городской думы 1 (14) ноября. Он заявил, что произошел переворот, причем «в Киеве роль большевиков сыграли украинцы». «Как мы относимся к перевороту? — продолжал он. — Также, как и к оккупации чужеземными силами. Сейчас произошла украинская оккупация, но она — преддверие к австрийской оккупации. Мы уступаем физической силе. Дума не должна вмешиваться в дело Генерального секретариата и Рады для установления порядка» (1917 год на Киевщине: Хроника событий. С. 351).
72 В. В. Шульгин предполагал возобновить в Новочеркасске издание «Киевлянина». Однако атаман А. Каледин высказал опасения, что настроения казачества требуют обращения «очень осторожного и не столь определенного, как лозунги “Киевлянина”» (К истории осведомительной организации «Азбука»: Из коллекции П. Н. Врангеля архива Гуверовского института / Публ. В. Г. Бортневского // Русское прошлое. 1992. Кн. 4. С. 162).
73 31 октября (13 ноября) 1917 вышел 254-й номер газеты «Киевлянин» (это была единственная русская газета, вышедшая в городе). В тот же день в редакцию явилась группа солдат 2-го украинского полка и, руководствуясь постановлениями комитета части, приостановила издание, конфисковав тираж последнего номера. Было также реквизировано помещение клуба русских националистов. 1 (14) ноября в редакцию явилась рота украинских солдат (с портретами Т. Шевченко и Б. Хмельницкого). Предъявив ордер коменданта при Генеральном секретариате Центральной Рады, они реквизировали помещение для нужд Рады. Через два дня украинские солдаты очистили помещение, оставив его в разгромленном состоянии. 5 (18) ноября помещения редакции, контора газеты и типография, в которой «Киевлянин» печатался, были реквизированы по решению большевистского ревкома (документ подписал Л. Л. Пятаков), они передавались газете «Пролетарская мысль». 6 (19) ноября городская дума осудила действия ревкома. 16 (29) ноября «Пролетарская мысль» очистила помещения. 255-й номер «Киевлянина» вышел 19 ноября (2 декабря).
74 28 ноября со ссылкой на московскую газету «Утро России» «Киевлянин» опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что в момент убийства Духонина в толпе находился матрос, который «никому не был известен». Далее сообщалось: «По полученным в Петрограде сведениям, это был офицер австрийской службы. Он служил в австрийской контрразведке и знал Духонина лично; незадолго до войны он арестовал Духонина в Австрии. Духонин служил в то время в русской контрразведке». Уточненная версия предлагалась через несколько дней: «Распоряжение судьбой Духонина осталось в руках германского шпиона Тауэра и других из числа 18 немецких офицеров, заседавших в Смольном при обсуждении и исполнении плана захвата власти большевиками. Фигура Тауэра была наиболее заметна, потому что в 1915 году он был арестован в Тарнове по подозрению в шпионстве, но за недостатком улик был оставлен в подозрении и сослан в Сибирь, откуда бежал. Этот Тауэр сам когда-то арестовал Духонина в Берлине»
(Лохов А. К убийству генерала Духонина // Киевлянин. 1917. 6 (20) декабря).
75 Михаил Леонидович Пятаков.
76 Имеется в виду Леонид Леонидович Пятаков.
Глава V
ЗАХВАТ КИЕВА БОЛЬШЕВИКАМИ
77 Роль рабочих «Арсенала», по-видимому, действительно преувеличивалась в советской исторической литературе. Но вряд ли можно считать, что восстания вообще не было: «Неудача в стенах Центральной Рады не остановила большевиков. В ночь с 13 на 15 января они подняли восстание в Киеве, захватив арсенал на Печерске (рабочие арсенала были главным оплотом большевиков)», — вспоминал их политический противник. См.:
Дорошенко Д. И. Война и революция на Украине // Революция на Украине по мемуарам белых. М.; Л., 1930. С. 93.
78 Об интенсивности обстрела Киева свидетельствует приказ М. А. Муравьева от 25 января (7 февраля): «Командарму 1. Егорову. Сего дня усилить канонаду, громить беспощадно город, главным образом Лукьяновку с Киева-Пассажирского»
(Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. Т. 1: Октябрь в походе. М., 1924. С. 152).
79 Журнал «Малая Русь» выходил в Киеве в 1918 под редакцией В. В. Шульгина, первый номер поступил в продажу не позже апреля. Номер 2-й должен был быть посвящен памяти лиц, расстрелянных в январе 1918. В журнале сотрудничали друзья и родственники Шульгина.
80 Имеются в виду дети Михаила Ивановича Драгомирова: Владимир Михайлович, Катерина Михайловна — жена графа Д. Ф. Гейдена и Софья Михайловна — жена генерала А. С. Лукомского.
81 В. В. Шульгин был арестован в ночь на 27 января (9 февраля) 1918 и провел в заключении 15 дней. В его освобождении большую роль сыграла городская дума. По указанию командующего 2-й революционной армией газета «Киевлянин» была ликвидирована, имущество и бумага на 80 тыс. рублей — реквизированы. В ночь на 3 (16) февраля был разгромлен клуб русских националистов (Киевская мысль. 1918. 24 февраля (9 марта)).
82 Возможно, упоминается Александр Васильевич Угнивенко.
83 О характере репрессий в Киеве свидетельствует приказ Муравьева: «Войскам обеих армий приказываю беспощадно уничтожать в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции» (
Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне. Т. 1. С. 154). Только в списке, собранном редакцией журнала «Малая Русь», упоминалось 58 человек, в том числе 3 сестры милосердия (Голос Киева. 1918. 10 (23) апреля). В докладе ЦК Российского Красного Креста указывалось, что в феврале 1918 в Киеве было убито свыше тысячи офицеров (Архив русской революции. Т. 6. Берлин, 1922. С. 339).
84 Возможно, упоминается частный поверенный Соломон Соломонович Амханицкий.
85 Очевидно, речь идет о солдатах 1-го запасного Георгиевского полка, сформированного в Киеве 1 августа 1917 (командир — И. К. Кириенко). Вскоре полк раскололся — украинские солдаты сформировали отдельную часть. После Октября 25 чинов полка перебрались на Дон, вскоре они были влиты в Корниловский полк.
Глава VI
НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ
86 «Азбука» — конспиративная организация, созданная В. В. Шульгиным и А. М. Драгомировым. Замысел создания подобной организации возник еще в ноябре 1917. Важнейшими направлениями деятельности «Азбуки» были вербовка и переброска людей в Добровольческую армию (за первые два месяца на Дон было отправлено 1,5 тысячи человек, которым предоставлялись документы и денежные средства) и сбор средств для нужд Добровольческой армии. Большое значение придавалось также сбору информации, которая затем направлялась командованию Добровольческой армии, московским подпольным антибольшевистским организациям, миссиям союзников, лицам императорской фамилии. Историки полагают, что разведывательная
информация, направлявшаяся «Азбукой», была ценнее той, которую поставляли органы военной разведки. «Азбука» вела также пропаганду (издательство «Русь», газеты), конкурируя при этом с «Освагом». Информационные центры «Азбуки» были созданы в Варшаве, Кишиневе, Вильне. Агенты «Азбуки» совершали также отдельные акции саботажа на военных предприятиях и железных дорогах. Организация несла большие потери — уже в первые месяцы существования она потеряла до 50 % своего состава. См.:
Kenez Р. Civil War in South Russia, 1919–1920. Berkley; Los-Angeles; London, 1977. P. 66–71; К истории осведомительной организации «Азбука»… С. 160–193.
87 Статья В. В. Шульгина из последнего номера «Киевлянина», опубликованная 10 (23) марта 1918, произвела большое впечатление на современников: ее перепечатывали многие газеты, ее переписывали в личные дневники, она ходила в списках. Шульгин писал: «Карта Европы будет вычерчена на кровавых полях Франции, где произойдет последняя решительная битва. <…> Так как мы немцев не звали, то мы не хотим пользоваться благами относительного спокойствия и некоторой политической свободы, которые немцы нам принесли. Мы на это не имеем права… Мы были всегда честными противниками. И своим принципам не изменим. Пришедшим в наш город немцам мы это говорим открыто и прямо. Мы — ваши враги. Мы можем быть вашими военнопленными, но вашими друзьями мы не будем до тех пор, пока идет война. У нас только одно слово. Мы дали его французам и англичанам, и пока они проливают свою кровь в борьбе с вами за себя и за нас, мы можем быть только вашими врагами, а не издавать газету под вашим крылышком». Показательно, что политические противники В. В. Шульгина отмечали: «Это было сказано очень хорошо — красиво и благородно. В этом было национальное достоинство»
(Заславский Д. О. Рыцарь черной сотни В. В. Шульгин. Л, 1925. С. 64. См. также:
Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний // Революция на Украине: По мемуарам белых. С. 26–27).
88 Возможно, упоминается Джон Пиктон Багге (Бэгг), британский консул в Одессе.
89 Возможно, упоминается Владислав Иосифович Вондржих.
90 Ляля — Вениамин Васильевич Шульгин (см. Именной указатель).
91 Имеется в виду Всеволод Александрович Голубович (1885-?) — инженер, украинский социалист-революционер. В 1917 генеральный секретарь путей сообщения, генеральный секретарь торговли и промышленности. Глава Совета министров Украинской Народной Республики (январь — апрель 1918). Возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Германией и ее союзниками. После переворота П. П. Скоропадского осужден германским военным судом за организацию похищения банкира A. Ю. Доброго. В 1921 осужден советским судом, в том же году амнистирован. Служил в Совете народного хозяйства Украины.
92 Имеются в виду Василий Васильевич Кочубей (1892–1971) и Василий Леонтьевич Кочубей (1640–1708).
93 Очевидно, упоминается Владимир Германович Иозефи (см. Именной указатель).
94 Во время франко-прусской войны 1870–1871 в районе Седана (департамент Арденны, Франция) 1–2 сентября 1870 была разбита и пленена французская Шалонская армия. В руки немецких войск попали 83 тыс. человек, свыше 550 орудий, был пленен и император Наполеон III.
95 Ср.: «Отслуженная панихида вызвала ряд патриотических манифестаций, закончившихся кое-где столкновениями с самостийниками» (Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля. Frankfurt am Main, 1969. С. 67–68).
96 О попытках русских монархистов организовать спасение царской семьи сообщает бывший начальник канцелярии Министерства императорского двора А. А. Мосолов. По его данным, группа киевских монархистов, в состав которой входили князь A. C. Кочубей и герцог Г. Н. Лейхтенбергский, заручилась поддержкой некоторых влиятельных военных из состава командования германских оккупационных войск на Украине и получила от них известные денежные средства. В Екатеринбург были направлены два офицера, затем к ним должен был присоединиться большой отряд офицеров. Однако план не был реализован из-за того, что германские дипломатические представители на Украине отказались его поддержать
(Мосолов А. А. При дворе последнего императора: Записки начальника канцелярии Министерства двора. СПб., 1992. С. 245–246).
97 Имеется в виду композитор Василий Георгиевич Врангель (1862–1901). Романс «В душе моей зима царила…» написан на стихи Н. Д. Бенардаки.
98 Ср.: «В Киев я прибыл вечером. На следующее утро я позвонил во дворец гетмана справиться, когда Скоропадский может меня принять. Мне ответили, что гетман просит меня к завтраку» (Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля. С. 62).
99 Газета «Голос Киева» выходила с 1 (14) апреля 1918 под редакцией Н. Строева. Редакция заявляла, что “Голос Киева” стремится стать газетой тех бывших граждан, которые с мучительным чувством стоят сейчас на перекрестке двух государственностей: от одной отброшены, к другой пристать не торопятся». Под псевдонимом А. Ежов в газете сотрудничала Е. Г. Шульгина.
100 П. Н. Врангель неоднократно встречался в это время с П. П. Скоропадским. См.: Воспоминания генерала барона П. Н. Врангеля. С. 62, 63, 68.
Глава VII
МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ГЕНЕРАЛОВ АЛЕКСЕЕВА И ДЕНИКИНА
101 Газета «Россия» выходила в Екатеринодаре с 15 августа 1918. Редактировали газету В. В. Шульгин, А. А. Васильев и А. А. фон Лампе. Последний, 88-й номер газеты вышел 2 декабря. Вместо нее начала выходить газета «Великая Россия». Указывалось, что издатель газеты — товарищество «Россия», в качестве ее «основателя» назывался В. В. Шульгин, первоначально газету редактировали А. Васильев и А. Лампе, затем состав редакции сменился, газету возглавили Н. Н. Львов и В. М. Левитский. В августе 1919 издание было переведено в Ростов-на-Дону. В газете сотрудничали П. Струве, Н. Чебышев, И. Наживин, А. Ксюнин, Е. Трубецкой. В 1920 издание было возобновлено в Крыму, его высоко оценивал П. Н. Врангель.
102 Имеется в виду песня:
Пусть кругом одно глумленье,
Клевета и гнет,
Нас, корниловцев, презренье
Черни не убьет!
Мы былого не жалеем,
Царь нам не кумир!
Нет, надежду мы лелеем
Дать стране лишь мир.
Автор песни — А. Кривошеев. См.:
Суворин А. Поход Корнилова. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону, [1919]. С. 22.
103 Очевидно, упоминается тайная организация, созданная графом полковником А. П. Паленом.
104 В Кубанской раде доминировали представители так наз. группы «черноморцев», которые выступали за широкую автономию Кубани, включая и создание самостоятельной кубанской армии (по некоторым оценкам, до половины войск А. И. Деникина состояло из кубанцев). Между властными структурами Кубани и окружением А. И. Деникина, придерживавшимся позиции «единой и неделимой России», назревал конфликт, командование Вооруженных сил Юга России готовило переворот на Кубани. Кризис разразился, когда из публикаций грузинской печати стало известно, что представители кубанцев в Париже подписали с меджлисом горских народов договор, в котором признавались независимость и суверенитет сторон (в это время войска Вооруженных сил Юга России вели бои против горцев). 25 октября (7 ноября) Деникин приказал судить участников кубанской делегации военно-полевым судом. В ноябре 1918 B. Л. Покровский, опираясь на войска, отведенные с фронта «на отдых», произвел переворот: к власти было приведено правительство группировки «линейцев», ориентировавшейся на А. И. Деникина. Сторонники «черноморцев» были подвергнуты репрессиям, священник А. И. Калабухов (Колабухов), входивший в состав парижской делегации, по приговору военно-полевого суда был повешен в ночь на 7 (20) ноября. Часть кубанских политиков была выслана в Турцию. Управление областью было реорганизовано. Переворот (так наз. «кубанское действо») отрицательно сказался на боевом духе кубанских частей.
105 B. Л. Покровский был убит при попытке перейти болгаро-югославскую границу: «преданный своим же офицером <…>, стал жертвой организованного нападения большевиков, поддержанных болгарским вооруженным отрядом, и 9 ноября 1922 года был убит в гор. Кюстендиле. Над его трупом было совершено надругание». См.: Белая Россия: Альбом № 1. Нью-Йорк, 1937. (Репринт: СПб.; М., 1991). С. 96.
106 Особое совещание было создано 18 (31) августа 1918 в Екатеринодаре как «высший орган гражданского управления» при верховном руководителе Добровольческой армией (М. В. Алексееве), затем оно стало совещательным органом в области законодательства и верховного управления при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России (А. И. Деникине). Положение об Особом совещании было составлено «по наброску» В. В. Шульгина и утверждено М. В. Алексеевым
(Соколов К. Н. Правление генерала Деникина: Из воспоминаний. София, 1921. С. 30). Положению была присуща известная «путаница понятий» (Там же. С. 32). Первоначально Особое совещание возглавлял генерал А. М. Драгомиров, затем — генерал А. С. Лукомский. 30 декабря 1919 в Новороссийске Особое совещание было упразднено, вместо него создавалось Правительство при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. Текст положения см.: Архив русской революции. Т. 4. Берлин, 1922. С. 242–243. В. В. Шульгин участвовал и в обсуждении других важных документов, а также кандидатур на важнейшие должности (Там же. С. 37, 42). «В. В. Шульгин состоял членом Особого совещания так сказать “без портфеля” — звание, положением 18 августа, собственно, не предусмотренное» (Там же. С. 44).
107 Е. П. Гегечкори прибыл в Екатеринодар 12 (25) сентября 1918, он вел переговоры с командованием Добровольческой армии и с Кубанским правительством. Переговоры с командованием Добровольческой армии завершились безрезультатно, так как обе стороны претендовали на Сочинский округ (сообщил Б. И. Колоницкий).
108 Ясское совещание открылось 16 (29) ноября 1918. Продолжало свою работу в Одессе. В работе совещания приняли участие дипломатические и некоторые военные представители Великобритании, Франции, США, Италии. В российскую делегацию входили монархисты, кадеты, умеренные социалисты (представители правых эсеров и народных социалистов). Совещание высказалось в пользу немедленного прихода союзных вооруженных сил и восстановления единства России. Последнее заседание состоялось 6 (19) декабря.
109 В своих донесениях командованию Добровольческой армии агенты «Азбуки» по-разному оценивали деятельность Гришина-Алмазова: одни были его сторонниками, другие считали, что он плохо управляет ситуацией, и подозревали его в разложении.
(Kenez P. Civil War in South Russia… P. 69–70). После того как Гришин-Алмазов распустил одесское городское самоуправление, его конфликт с различными политическими силами обострился. В. В. Шульгин, вспоминая деятельность А. Н. Гришина-Алмазова, отмечал: «при нем я был, так сказать, на ролях действительного тайного и явного советника»
(Шульгин В. В. Что нам в них не нравится… С. 66).
110 Однострочное стихотворение В. Я. Брюсова (1894), впервые опубликованное в альманахе «Русские символисты» (Вып. 3. М., 1895) и вызвавшее скандальный эффект в читательской среде.
111 См. прим. 9.
Глава VIII
ОДЕССА. ИНТЕРВЕНЦИЯ
112 Имеются в виду слова Городничего из «Ревизора» Н. В. Гоголя (действие 1-е, явление 1-е): «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? От этого убыток казне».
113 Генерал Бориус вызвал к себе Гришина-Алмазова и передал ему, что он намерен вступить со своими войсками в город с музыкой. На это Гришин-Алмазов возразил, что ввиду враждебного настроения петлюровцев эта операция невозможна и что сперва следует очистить город от «петлюровских банд». Бориус согласился. Бои начались 5 декабря. По сведениям белых, в ходе боев петлюровцы обстреляли французские суда. Отряд Гришина-Алмазова потерял около 24 человек убитыми и около 100 — ранеными.
114 Поэма И. П. Котляревского впервые была издана без ведома автора в Петербурге в 1798. В 1809 была издана автором под названием: «Виргилиева Энеида на малороссийский язык переложенная И. Котляревским».
115 А. Н. Гришин-Алмазов отдал следующий приказ всем учебным заведениям г. - Одессы и ее района, по которому «преподавание украинской мови (галицийского языка)» упразднялось, «в соглашении с существующими законоположениями» разрешалось «в виде опыта» до конца учебного года преподавание в качестве необязательного предмета «малорусского языка» («языка Шевченко, Котляревского») — родители и опекуны должны были подать специальное письменное заявление; вместо преподавания истории и географии Украины вводились история и география Юга России (Россия (Одесса). 1919. 17 (30) января).
116 Газета «Россия: одесское издание» выходила с 9 (22) января 1919 по 25 января (2 февраля). Главный редактор — В. В. Шульгин, редактор одесского издания — Е. А. Ефимовский, издатели — В. В. Шульгин и В. Г. Иозефи. Преемницей издания стала газета «Южная Русь», выходившая с 9 (22) февраля по 22 марта (4 апреля) 1919. Редактор — Е. А. Ефимовский, издательство — товарищество «Русь».
117 Возможно, упоминается полковник Святополк-Мирский, командир 1-й Киевской добровольческой дружины.
118 Сатирическую зарисовку жизни в гостинице «Лондон» дал Ф. А. Могилевский: «“Штабурюз” представляет сокращенное название “Штаба буржуазии Юго-Западного фронта”, сформированного в Киеве и переехавшего в Одессу. Штаб помещается в Лондонской гостинице. Оперативная часть разместилась в номерах на втором и третьем этажах, а хозяйственная, разведывательно-осведомительная и разговорная — в ресторане гостиницы»
(Эфем. Штабурюз: фельетон // Россия (Одесса). 1919. 22 января (4 февраля)).
119 Прибыв в Одессу в середине января 1919, д’Ансельм заявил Шульгину: «Мы должны поддерживать у вас все элементы порядка, а до того, кто за единую Россию, кто против — нам нет дела»
(Гуковский А. И. Французская интервенция на юге России. М.; Л., 1928. С. 12). После объявления в Одессе особого положения (март 1919) к д’Ансельму перешла вся власть в городе. Окружение А. И. Деникина отрицательно оценивало политическую деятельность д’Ансельма: «С приездом в Одессу генерала д’Ансельма и начальника его штаба полковника Фредамбера консул Энно, доброжелательно относившийся к Добровольческой армии и отлично осведомленный о всех местных делах, был отстранен, и политика французского командования резко изменилась <…> новый представитель Франции занял резко враждебную позицию к представителям командования Добровольческой армии и совершенно не считался с заявлениями, делавшимися от имени генерала Деникина»
(Лукомский А. С. Воспоминания. Берлин, 1922. Ч. 2. С. 260).
Глава IX
ГРИШИН-АЛМАЗОВ. ОТЪЕЗД ИЗ ОДЕССЫ
120 Имеется в виду Мишка-Япончик (Михаил Я. Винницкий), глава одесских налетчиков.
121 Осваг — Осведомительное агентство, затем Отдел пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. Летом 1918 при Верховном руководителе Добровольческой армии возникло Осведомительное отделение (его возглавлял С. С. Чахотин). В сентябре оно было преобразовано в Осваг, его возглавил ростовский миллионер кадет Н. Е. Парамонов. Деятельность последнего была оценена как излишне либеральная, в марте 1919 главой Освага стал К. Н. Соколов. К осени Осваг состоял из сотен местных отделов, пунктов и подпунктов, в которых работало до 10 тыс. человек. В рамках Освага действовала сеть издательств, газет, агитационных поездов. Вместе с тем эффективность пропаганды, по признанию многих участников белого движения, была весьма низкой. По форме она копировала пропаганду большевиков, в целом ей уступая. В этих условиях Осваг использовал и методы так наз. «черной пропаганды»: издавались фальшивые номера газет «Беднота», «Наша красноармейская правда» и др., их содержание должно было провоцировать шовинистические, антисемитские настроения. В марте 1920 Осваг прекратил существование, его функции стал выполнять Отдел печати правительства Юга России.
122 Фриденберг (у Шульгина — Фреданбер, в литературе упоминается также как Фрейденберг, Фредамбер) — французский полковник, начальник штаба генерала д’Ансельма. Прибыл в Одессу в январе 1919. Д’Ансельм уполномочил его вести переговоры с российскими политическими деятелями. Фриденберг выступал за объединение всех антибольшевистских сил. По его мнению, во французской зоне влияния должны были быть созданы две властные структуры, русская и украинская, контролирующие определенные территории и располагающие своими вооруженными силами. Координацию их действий должны были осуществлять французские представители. Фриденберг считал петлюровцев реальной силой, был сторонником расширения контактов с ними, разрешил выход в Одессе украинских газет, враждебных Добровольческой армии. Соответственно, его отношения с представителями А. И. Деникина стали скоро весьма натянутыми, в добровольческих кругах распространялись слухи о том, что Фриденберг и д’Ансельм были подкуплены украинцами. В то же время украинские политические деятели считали изменения политики французского командования недостаточными, к тому же Фриденберг выступал за отставку С. Петлюры и В. Винниченко как излишне «левых» «радикалов».
123 Речь идет о формировании т. н. «бригады микст». Офицеров должно было назначать командование Добровольческой армии — но только из уроженцев Украины. В солдаты на добровольной основе также зачислялись жители Украины. Предполагалось, что в каждом полку бригады будет находиться определенное число французских офицеров и унтер-офицеров. Бригада играла определенную роль в планах Фриденберга: она должна была играть роль буфера между украинскими и русскими формированиями, находясь под контролем французских властей. А. И. Деникин запретил своим представителям участвовать в формировании этого соединения и выразил протест французскому командованию.
124 Осенью 1918 Д. Ф. Андро с небольшим отрядом конной стражи пробился сначала к Киеву, затем к Одессе. В Одессе был выдвинут Фриденбергом: с 15 марта 1919 помощник генерала д’Ансельма по гражданской части, видный деятель «Шварцевского комитета» (см. прим. 203). «Правительство» Д. Ф. Андро, в которое входили как российские, так и украинские политические деятели, воспринималось командованием Добровольческой армии как орган, маскирующий французский «колониальный режим» в Одессе
(сообщил Б. И. Колоницкий).
125 Во время работы Парижской мирной конференции, 22 января 1919, президент США В. Вильсон от имени держав-победительниц обратился ко всем правительствам России с предложением о заключении перемирия и созыве конференции на основе сохранения занятых к этому времени территорий. В качестве места проведения предполагаемой конференции назывались Принцевы острова (в Мраморном море). Правительства РСФСР и других советских республик из тактических соображений приняли это предложение. А. В. Колчак и другие лидеры белых через Русское политическое совещание в Париже отказались принимать участие в конференции. На предложение В. Вильсона Шульгин отозвался статьей «Вермишель» (Россия (Одесса). 1919. 13 (26) января). Он писал: «Но что же из этого выйдет через десять лет, кого мы будем благословлять, а кого проклинать — пусть подумают об этом те, кто ныне устраивает веселый пикник на Принцевом острове, где Антанта будет кушать вермишель à la Vilson: из оскорбленных друзей и торжествующих предателей».
126 Очевидно, подразумеваются статьи:
Эфем. Мистер Вильсон и мистер Эдисон // Россия (Одесса). 1919. 16 (29) января;
Он же. Сущность опытов м. Эдисона на Принцевых островах // Там же. 19 января (1 февраля).
127 8 февраля 1919 был выпущен специальный листок «От редакции газеты “Россия”» (указывалась цена — 50 коп.). В нем были напечатаны: статья В. В. Шульгина из последнего номера газеты «Киевлянин» (за 25 февраля 1918), приказ (по-французски и в русском переводе) о закрытии одесской газеты «Россия», письмо Гришина-Алмазова генералу д’Ансельму. В последнем выражалось «живейшее огорчение» по поводу того, что «Россия» была закрыта «помимо русской власти» и «против установленных ею правил», чем подрывался ее авторитет. Против закрытия «России» протестовали и некоторые оппоненты Шульгина, включая одесскую организацию Союза возрождения. Группа В. В. Шульгина начала выпускать газету «Южная Русь».
Глава X
НЕДОЛГАЯ СЛУЖБА ВО ФЛОТЕ. ПОЕЗДКА В ЦАРИЦЫН К ВРАНГЕЛЮ
128 Ср.: «Потом отпал В. В. Шульгин, впервые после долгого отсутствия появившийся в Особом совещании 28 мая и теперь окончательно нас покинувший»
(Соколов К. Н. Правление генерала Деникина… С. 138).
129 Возможно, упоминается контр-адмирал (1920) Алексей Николаевич Заев (1881 1966): после занятия Царицына он должен был возглавить вновь формирующуюся флотилию, для этого 8 катеров было переброшено на нижнее течение Волги.
130 Кавказская армия П. Н. Врангеля заняла Царицын 17 (30) июня 1919.
131 Ростовская газета «Великая Россия», издававшаяся группой В. В. Шульгина, 21 августа (3 сентября) 1919 опубликовала изложение беседы «своего корреспондента» с П. Н. Врангелем. В нем, в частности, говорилось: «Налет генерала Мамонтова имеет значение главным образом в смысле расстройства снабжения и нарушения связи с фронтом противника».
Глава XI
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ
132 А. И. Деникин писал: «Особой нетерпимостью в украинском вопросе отличался киевский “блок русских избирателей” В. В. Шульгина. Оттуда, по словам генерала Драгомирова, раздавались требования, “совершенно игнорировавшие какие бы то ни было особенности малорусского края”. Там не переносят слова “украинцы” и чтобы его вырвать с корнем, требуют самой решительной борьбы, до насильственного перекрашивания вывесок включительно»
(Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 5. Вып. 8. С. 143). К. Н. Соколов вспоминал: «Генерал Драгомиров был всегда политически и лично очень близок к В. В. Шульгину, группа которого оказалась особенно устойчивой и в области внутренней “ориентации”, и претендовала теперь на преобладающее влияние в Киевщине. В. В. Шульгиным было проведено в мое отсутствие и назначение А. И. Савенко на должность начальника киевского отдела информации, назначение, наделавшее много шума и спорное со многих точек зрения»
(Соколов К. Н. Правление генерала Деникина… С. 174).
133 См. прим. 37.
134 Очевидно, упоминается жандармский полковник Леонид Давидович Щучкин.
135 «Москва… как много в этом звуке / Для сердца русского слилось!»
(Пушкин А. С. «Евгений Онегин». Гл. 7. Строфа XXXVI). Шульгин прибыл в Киев 18(31) августа 1919.
136 «Киевлянин» вновь начал выходить с 21 августа (3 сентября) 1919 (редактор — В. В. Шульгин, издатель — П. В. Могилевская).
137 Газета группы Шульгина описала столкновение украинцев и добровольцев в Киеве следующим образом: 18 (31) августа в Киеве над городской думой был поднят трехцветный флаг, украинцы попытались его снять. После этого галицийский полк был обезоружен и выведен из Киева
(Львов Н. Двойная победа // Великая Россия. 1919. 25 августа (5 сентября)).
138 Ср.: «Новичкам в нашей партии мы не даем ходу. Съезд назначил даже особую перерегистрацию. Пойманных бандитов, рвачей, авантюристов мы расстреливаем и расстреливать будем»
(Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. М., 1963. С. 222).
139 Статья «Пытка страхом» была опубликована в «Киевлянине» 8 (21) октября 1919. Перепечатана в кн.:
Шульгин В. В. Что нам в них не нравится: Об антисемитизме в России. СПб., 1992. С. 81–82. Статья Шульгина с негодованием была встречена киевской еврейской общественностью: «Спокойное и холодное издевательство над евреями переходило границы обычного антисемитского цинизма»
(Заславский Д. О. Рыцарь черной сотни В. В. Шульгин. С. 64). «Эти дни Шульгин назвал пыткой страха для евреев. Я не стану входить здесь в оценку такого определения; о нем в свое время уже достаточно было говорено, скажу только, что одним страхом пытка не ограничивалась»
(Л-я Л. Очерки жизни в Киеве в 1919–20 гг. // Архив русской революции. Т. 3. Берлин. 1923. С. 220–221). О реакции И. Г. Эренбурга на статью В. В. Шульгина см.:
Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Т. 1. М., 1990. С. 602., примечания.
140 В действительности в ноябре — декабре 1919 в Киеве происходили наиболее жестокие еврейские погромы. После того как белые отбили налет красных на город (см. прим. 228), в городе распространились слухи о том, что еврейское население принимало участие в боях на стороне красных. В первом номере газеты «Вечерние огни», вышедшем после налета, печатались имена и адреса евреев, якобы стрелявших по отступавшим белым отрядам. На следующий день либеральная «Киевская жизнь» и городской голова опровергли эту информацию (указанные адреса оказались ложными, иногда даже отсутствовали дома под указанным номером). Однако подобные публикации способствовали распространению погрома. Генерал А. И. Деникин потребовал прекратить погромы и наказать тех военнослужащих, которые в них участвовали. См.:
Kenez P. Pogroms and White Ideology in the Russian Civil War // Pogroms: Anti-Jewish Violance in Modem Russian History / Ed. J. D. Klier, S. Lambrosa. Cambrige, 1992. P. 298, 301, 306, 308.
Глава XII
«ДОГОРАНИЕ»
141 Очевидно, упоминается 1-я Интернациональная стрелковая бригада (командир С. Частек), входившая в состав 12-й Красной армии.
142 24 сентября 1919 корабли «Троцкий», «Мандельштам», «Верный» обстреляли Киев.
143 1 (14) октября 1919 красные войска заняли центральные районы Киева (в боях участвовали и подразделения интернационалистов — венгры, китайцы). Белые отошли на окраины и в пригороды. Было создано несколько сводных офицерских рот (оружие раздавалось и тем офицерам, которые до налета красных находились в тюрьме по подозрению в сотрудничестве с большевиками). А. М. Драгомиров лично повел подразделения в бой, некоторые кварталы несколько раз переходили из рук в руки. 4 (17) октября налет был отбит.
144 Статья В. В. Шульгина «Как сделали поляки…» была опубликована в «Киевлянине» 3 декабря 1919.
145 Мария Андреевна Сливинская — член «Азбуки». Полковник Генерального штаба А. В. Сливинский был начальником (атаманом) украинского Генерального штаба в начале 1918, продолжал исполнять эту должность и во время правления П. П. Скоропадского.
146 42-й Якутский полк участвовал в октябрьских боях за Киев.
147 См. главу «Новогодняя ночь» книги В. В. Шульгина «1920 год».
ЭМИГРАЦИЯ
Глава I
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
1 «Азбука» — разведывательно-осведомительная конспиративная организация, созданная в декабре 1917 года В. В. Шульгиным. Занималась переброской офицеров в Добровольческую армию на Дону, боровшуюся с большевиками, а также сбором информации для командования Добровольческой армии, московских подпольных антибольшевистских организаций, миссий союзников и лиц императорской фамилии.
2 Русский Совет — совещательный орган, образованный генералом П. Н. Врангелем под его председательством в конце 1920 года в Константинополе после эвакуации Белой армии из Крыма; занимался текущими вопросами и планированием организации будущей жизни белой эмиграции на Западе.
3 РОПИТ был образован в январе 1857 года с целью поддержания морского и речного пароходного сообщения.
4 Кронштадтское восстание — выступление моряков Балтийского флота и Кронштадтского гарнизона против большевиков в марте 1921 года, которое было жестоко подавлено.
5 В сентябре 1924 года генерал Врангель преобразовал Русскую армию, эвакуированную из Крыма, в Русский Общевоинский Союз (РОВС) с целью сохранения кадров армии в эмиграции. Формально верховное руководство над РОВС принял на себя вел. кн. Николай Николаевич, фактическим руководителем РОВС и вождем Белого движения оставался генерал П. Н. Врангель, переехавший в начале 1927 года из Сремских Карловцев в Бельгию, а штаб РОВС — в Париж.
6 На мой вопрос, что это за лицо, В. В. Шульгин ответил: «Князь Юсупов».
7 «Трест» — кодовое название операции советской службы безопасности (ОГПУ), образовавшей с провокационной целью в начале 1920-х годов якобы антисоветскую организацию.
Глава IV
ЧЕХИЯ
8 Пражскую виллу на Баште Карел Крамарж возводил в 1912–1915 годах. В настоящее время она является резиденцией чешского премьер-министра.
Глава V
ГЕРМАНИЯ
9 Имеется в виду P. P. Кейхель (см. Именной указатель).
10 Высший Монархический Совет (ВМС) был образован на Съезде хозяйственного восстановления России, который провели в баварском курортном городке Бад-Рейхенталль 29 мая — 7 июня 1921 года представители монархически настроенной белоэмигрантской колонии в Германии. Своей целью ВМС ставил консолидацию монархических сил в русской белоэмигрантской среде. Вскоре после своего образования ВМС переехал из Берлина в Париж.
11 «Россия» — газета, выходившая с 15 августа по 2 декабря 1918 года (всего 88 номеров) в Екатеринодаре, столице Белого движения на Юге России.
Глава VI
ПАРИЖ
12 К.-Д., кадеты — сокращенные названия конституционно-демократической партии России (1905–1917), придерживавшейся либерально-монархических взглядов (конституция, парламентарная монархия).
13 Озургеты— уездный город Кутаисской губ., население 4964 чел. (1897 г.), в Озургетском уезде 92 212 чел.
14 Земские организации являлись выборными органами местного самоуправления, ведавшими здравоохранением, просвещением, строительством дорог; в данном случае, во время войны, земские организации при Юго-Западном фронте (ЮЗОЗО) занимались организацией санитарного дела.
15 Старинная русская мера длины, равная около 1067 м, употреблявшаяся для определения расстояния между населенными пунктами. —
Р. К.
16 Социниане — представители рационалистического направления в Реформации, последователи религиозного учения итальянцев Лелия Социна (1525–1562) и особенно его племянника Фауста Социна (1539–1604). Социниане отвергали догмат о Троице и признавали единство Бога, Христа считали не богом, а человеком, но наделенным божественными свойствами, отрицали «первородный грех», требовали веротерпимости, признания свободы воли, уделяли много внимания образованию.
17 Осенью 1972 или 1973 года, точно не помню, В. В. Шульгин рассказал мне, что он встретился с Вольфом Мессингом. Он не был с ним знаком, но от своих знакомых и посещавших его лиц знал о необычных способностях этого человека знать прошлое и предугадывать будущее. С молодых лет будучи суеверным (он, например, никогда не фотографировался вдвоем, считая, что это к смерти одного из двоих, и просил всегда пригласить кого-либо третьим), часто пользуясь услугами гадалок и ясновидящих, В. В. Шульгин не мог упустить случая побеседовать с таким человеком.
Узнав, что артист прибыл на гастроли во Владимир, Василий Витальевич заказал такси и отправился в гостиницу «Владимир». Вольф Гершикович принял его, и они долго беседовали. В. Мессинг, в частности, сказал ему, что является ясновидящим, а не иллюзионистом, как его представляет официальная театральная администрация. Узнав от В. В. Шульгина о его встречах с Анжелиной Сакко, В. Мессинг сказал, что знаком с нею. «Нет, мы никогда не встречались, — пояснил он, увидев изумление на лице своего гостя. — Просто мы, ясновидящие, иногда мысленно общаемся друг с другом, и я с нею тоже. Она еще жива».
Затем он предсказал В. В. Шульгину блестящее будущее: он проживет 117 лет и сыграет еще важную роль в русско-германских отношениях. На этом они и расстались.
Не думаю, что Вольф Мессинг ошибся. Он видел перед собою глубокого старика, которому не мог сказать, что он умрет через три года. Мне также показалось, что и Василий Витальевич с некоторой долей скептицизма отнесся к этому предсказанию — он ведь чувствовал себя и свои возможности. Но открыто подвергать сомнению предсказание не решился. Ведь это был Вольф Мессинг, который общался с Анжелиной Сакко!
18 Имеется в виду «Русская газета», выходившая в 1923–1925 годах в Париже, редактором которой был А. И. Филиппов. Газета ориентировалась на РОВС, финансировалась ген. П. Н. Врангелем и занимала крайне правую позицию. В ней печатались И. А. Бунин, А. И. Куприн, Г. П. Струве, И. С. Шмелев, В. В. Шульгин. Статьи о Гражданской войне, политическом будущем России, необходимости интервенции с целью свержения советской власти в России, о вел. кн. Николае Николаевиче.
19 Кантонисты — в России в 1805–1813 гг. так назывались солдатские сыновья, числившиеся со дня рождения за военным ведомством.
20 Мария Мариусовна Петипа, дочь балетмейстера М. И. Петипа, никогда не была замужем за Б. В. Домбровским. По-видимому, речь идет о Марии Александровне Сапелкиной, внучке Всеволода Васильевича Маурера, артиста Императорских театров (Итальянской оперы). Ее дочь, Галина Вениаминовна Сапелкина, вышла замуж за Бориса Яковлевича Скидельского, внука Лейбы Шимановича Скидельского, крупного железнодорожного подрядчика Южно-Уссурийского края.
Глава VII
ЮГОСЛАВИЯ
21 В метрических книгах Русского православного прихода при часовне Св. Василия Великого в Епархиальном доме сербского православного епископа бачского, в центре города Нови Сад, о венчании В. В. Шульгина записано:
«8/21 сентября 1924 года.
Жених: Потомственный дворянин Василий Витальевич ШУЛЬГИН, вторым браком, 46 лет.
Невеста: Дочь потомственного дворянина Мария Дмитриевна СЕДЕЛЬНИКОВА, первым браком, 25 лет.
Поручители: Поручик Николай Лазаревич Дыховичный; поручик Борис Николаевич Бенар;
Полковник Петр Титович Самохвалов; Вольноопределяющийся Владимир Дмитриевич Седельников».
(Сообщил А. Б. Арсеньев).
22 Матерью барона П. Н. Врангеля была баронесса Мария Дмитриевна Врангель, урожденная Дементьева-Майкова (1857–1944).
23 Этот эпизод относится к деду барона П. Н. Врангеля, барону Егору Ермолаевичу Врангелю. Сын последнего, барон Николай Егорович Врангель, писал в своих воспоминаниях об отце: «Как и большинство его современников, он смотрел на людей исключительно как на существа только телесные. О том, что у человека, помимо его тела, есть и душа, он не догадывался, а если и подозревал, то, вероятно, смотрел на это как на “дурь”, на “блажь”, на “фанаберию” <…>. Но вернее всего, что он над “такими пустяками” не задумывался. Помню, как он был удивлен, а потом от души хохотал, как будто услышал потешный анекдот, когда однажды старшая сестра <…> просила его разрешить одному из наших лакеев жениться не на “девке”, ему в жены отцом предназначенной, а на другой, в которую он, по словам сестры, был влюблен. “Федька влюблен! Федька поэтическая натура!” — закатываясь от смеха, повторял отец. Это невероятное событие так ему пришлось по сердцу, благодаря его нелепости, что не только разрешение было дано, но Федька под венец был отправлен в карете самого отца с его личным камердинером вместо выездного. “Поэтам, — пояснил отец, — подобает достойная обстановка”» (Н. Е. Врангель. Воспоминания. От крепостного права до большевиков. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 22).
24 Неточная цитата из Пушкина. Ср. Евгений Онегин, III, XVIII: «И, полно, Таня! В эти лета / Мы не слыхали про любовь; / А то бы согнала со света / Меня покойница свекровь».
Глава VIII
ПОЕЗДКА В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ. «ТРЕСТ»
25 Установить личность графини Потоцкой не удалось, ею могли быть: 1) графиня Елизавета (1861–1950), урожд. княжна Радзивилл, 2-я жена графа Романа Потоцкого (1852–1915), тайного советника, наследственного члена Верхней палаты австрийского Государственного Совета, кавалера ордена Золотого Руна; 2) графиня Елена (1874–1958), урожд. княжна Радзивилл, сестра предыдущей, жена графа Иосифа Альфредовича Потоцкого (1862–1922), егермейстера росс. имп. двора (в 1890 и 1893 внесен в 4-ю часть дворянской родословной книги Волынской губ.; брат графа Романа Потоцкого); 3) графиня Кристина (1866–1952), урожд. графиня Тышкевич, жена графа Андреаса Потоцкого (1861–1908), императорского и королевского камергера, тайного советника, наместника Галиции и Лодомирии, наследственного члена Верхней палаты австрийского Государственного Совета, рыцаря ордена Золотого Руна; 4) графиня Елена (1864–1946), дочь графа Станислауса Потоцкого (1836–1882) от брака с графиней Марией Островской.
Глава X
СНОВА В ЮГОСЛАВИИ
26 Родоначальником рода Аксаковых был Иван Федорович Аксак Вельяминов (XV в.), потомок в 12-ом поколении Шимона Африкановича, который, по преданию, «выехал в 6535/1027 году к великому князю Ярославу Владимировичу в Киев из Варяжской земли». Вместе с тем «тюркское происхождение фамилии Аксаков не вызывает сомнений. В основе ее лежит прозвище Аксак», т. е. хромой. «Таким образом, фамилия Аксаков состоит из основы — прозвища <…> “хромой”, слова, встречающегося в подавляющем числе тюркских языков, + суффикс — ов» (см.:
Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М.: «Наука», 1979. С. 142, 143).
27 «Фамилия Корсáковых начало свое восприяла от выехавшего из Литвы в Москву Венцеслава Жегмунтовича Корсáка. Потомки его Корсáковы в 7187/1649 м и других городах за разные службы жалованы были поместьями» (см. «Общий Гербовник Дворянских родов Всероссийской Империи…», часть 1. С. 83). «Фамилия Корсаков имеет своей основой русское слово корсак— вид небольшой лисы <…> заимствованное из тюркских языков кыпчакской группы» (см.
Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. С. 73).
28 Стихи Ветранича. Перевод и примечания к ним В. В. Шульгина.
29 Королева Мария, жена короля Александра I.
30 Стихи В. В. Шульгина.
31 Провиденциальный (от латинского providentia, т. е. провидение) — предопределённый, роковой; якобы ниспосланный провидением, божеством.
32 Шюцкор — от шведского skyddskår, то есть охранный корпус.
33 «Печальная также судьба Евгения Ивановича Дивнича, бывшего председателя Белградского отделения НТС. Одно время он был в Берлине, но затем вернулся в Белград. В числе других членов НТС, почему-то не бежавших из Югославии при отступлении немецкой армии, был доставлен “органами” в Москву и, конечно, свидетельствовал о делах НТС в нужном чекистам духе. В дальнейшем советский листок “Голос родины” не раз печатал выгодные для власти статьи Дивнича. Верю в то, что в душе Дивнич остался новопоколенцем, советчину принять искренно он не смог, но орудием советской пропаганды для эмигрантов он, несомненно, стал. Большая душевная драма. После отсидки в концлагере он жил в Иваново, там и умер в конце шестидесятых годов» (см. Прянишников Б. В. Новопоколенцы. Сильвер Спринг, Мэриленд, США, 1986. С. 232).
(Сообщил А. Б. Арсеньев).
34 «Украинствующие и мы». Белград, 1939.
35 «Аншлюс и мы». Белград, 1938.
36 «Как сообщил мне А. Б. Арсеньев, бесспорный авторитет в области истории русских в Югославии, в 1930-х годах в ней действительно жил проф. Троицкий, богослов, теолог и юрист, но звали его не Михаилом Александровичем, а Сергеем Викторовичем. Кроме него, А. Б. Арсеньев нашел еще трех Троицких, но о М. А. Троицком А. Б. Арсеньев ничего не слышал и ни в каких справочниках этого имени не обнаружил. Он высказал предположение, что В. В. Шульгин назвал проф. Михаила Александровича Георгиевского Троицким»
(Сообщил Р. В. Полчанинов).
37 Проф. Александр Дмитриевич Билимович (1875–1963) не мог быть по возрасту членом НСНП. До 1938 г. членами НСНП могли быть только родившиеся не ранее 1895 г., а более старшие, сочувствующие Союзу, объединялись в комитетах содействия. Проф. А. Д. Билимович был членом комитета содействия. Его труды «Марксизм (изложение и критика)» и «К вопросу об экономической программе национальной России» были изданы брошюрами Главным Комитетом Содействия НСНП в Белграде в 1936 г. и обе вошли в сборники НПП — Национально-политической подготовки, известные под названием «Зеленые романы».
(Сообщил Р. В. Полчанинов).
38 По мнению Р. В. Полчанинова, свои воспоминания В. В. Шульгин писал на старости лет в Советском Союзе, не имея возможности ни проверить, ни с кем-либо посоветоваться. «Новое поколение» (НТС) не погиб как организация во время Второй мировой войны, а сохранился. В годы Холодной войны НТС, с центром во Франкфурте-на-Майне (Западная Германия), был для большевиков врагом № 1, а после развала СССР вернулся из эмиграции в Россию. Центр НТС и издательство «Посев» находится теперь в Москве (127051), ул. Петровка, 26/2–96.
В Белграде 5 декабря 1935 г., как пишет Б. В. Прянишников в своей книге «Новопоколенцы» (С. 54–56) «вспыхнуло нашумевшее в эмиграции дело Линицкого — Коморовского. Оказывается, что «органы НКВД протянули свои щупальца и в Белград, завербовав к себе на службу несколько чинов РОВС-а» — Русского Общевоинского Союза. Белградская криминальная полиция предупредила председателя НСНП В. М. Байдалакова, что предполагается ограбление его квартиры и квартиры М. Д. Пепескул, которая была казначеем и членом Исполнительного Бюро. Линицкий и другие были арестованы и осуждены на разные сроки заключения, а Коморовский был выслан в Болгарию. М. Д. Пепескул влюбилась в Коморовского и в начале 1936 г. порвала с НСНП. Пепескул занялась подрывной работой против руководства НСНП. В течение почти двух лет она пыталась сколотить оппозицию в среде Белградского отделения. Встречаясь с членами Союза, она агитировала против Байдалакова и особенно яростно против профессора Георгиевского»
(Прянишников Б. В. Новопоколенцы. С. 56).
(Сообщил Р. В. Полчанинов).
39 М. А. Георгиевский был арестован в 1944 г. партизанами Тито и передан в руки СМЕРШ, ему дали не 20 лет заключения, а 25 июля 1950 приговорили к смертной казни.
(Сообщил Р. В. Полчанинов).
40 М. А. Георгиевский действительно был одним из руководителей НСНП, жил в Земуне, читал в Белграде лекции по древней истории и публиковал статьи на эту тему. В исключительно полной Библиографии трудов русских эмигрантов в Югославии (Библиографjа радова. Београд, 2003), составленной по-сербски И. Н. Качаки, упомянута статья проф. М. А. Георгиевского «Памятники Ассирийского законодательства» в «Сборнике Русского Археологического Общества в Королевстве СХС», Белград, 1937 г. Статья была выпущена в ограниченном количестве как отдельный оттиск, который, вероятно, запомнился В. В. Шульгину как брошюра.
ПЯТНА
1 На мою просьбу сообщить фамилии
В. В. Шульгин мне сказал: «Семижопов, Голопузов и еще какая-то, уж не припомню».
2 Подпольная разведывательно-осведомительная организация, созданная В. В. Шульгиным в марте 1918 в Киеве в интересах Добровольческой армии и работавшая на территории Юга России, занятой в разное время немцами, украинцами и большевиками.
3 Имеется в виду Екатерина Григорьевна Шульгина (урожд. Градовская; 1869 — ок. 1934) — первая жена и двоюродная сестра Шульгина (по матери), которая покончила жизнь самоубийством в Югославии.
4 «Трест» возник в СССР в начале 1920-х как подпольная антисоветская организация, вскоре был поставлен под контроль чекистов и действовал в их интересах в течение некоторого времени по отношению к зарубежным эмигрантским организациям.
5 Рукавица, варежка.
6 На этих строках воспоминания Василия Витальевича Шульгина обрываются. Он не успел их закончить.
ПРИЛОЖЕНИЯ
АНШЛУСС И МЫ
1 Печатается по следующему изданию: Шульгин В. В. Аншлус и мы / Издание Н. З. Рыбинского. Белград: Типография «МЕРКУР», 1938. Шифр ГПБ: Шульгин В. В. Аншлюс — РЯ 12/863. Русс. Заруб. — С/А — 6580.
2 Московское правительство обратилось к гетманским послам с запросом: «кто у них в войску лютор Юрьи Немирич, и для чего гетман подавал ему городы: Кременчуг, Переволочно, Кишеньку, Кобеляк, Велики, Санджаров и сколько давно гетман ему те городы дал, и для чего лютеров при войску держит» и посланцы говорили: «есть де у них в войску лютор Юрьи Немирич, а пришел в войско еще принебожчике при прежнем гетмане Богдане Хмельницком, а нынешний гетман ему тех городов не давывал… а называл он те городы прежними своими местностями и хотел о тех городах бить челом великому государю…» На это последовало замечание: «и гетману того лютра в войску не держать… и говорить, чтобы он его из войска выслал» (Акты Юго-Западной России. Т. VI. С. 204, 205).
При подготовке комментариев с любезного разрешения Б. И. Колоницкого были использованы его примечания к публикации «1917–1919» в 5-м номере биографического альманаха «Лица». Кроме того, большую помощь в комментировании предлагаемого издания оказали Д. Б. Азиатцев, Б. В. Ананьич, И. Л. Афанасьев, В. Г. Бортневский, В. Ф. Верстюк, Р. Ш. Ганелин, B. C. Дякин, Н. Л. Елисеев, В. Д. Ермаков, А. Е. Иоффе, В. Е. Кельнер, Д. А. Коцюбинский, А. Я. Лапидус, А. А. Павлов, В. Ю. Черняев, С. В. Яров. Использованы сведения, содержащиеся в личных архивах и картотеках В. Г. Бортневского, А. А. Павлова.
Всем им комментатор приносит свою благодарность.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абрамов, актер елизаветградского театра в середине 1890-х 40, 41
Абрикосов, торговое товарищество «Абрикосов А. И. и сыновья» (кондитерская фабрика), основанное в 1847 (Москва, Красносельская ул., собственный дом) 97
Абрикосова Надежда Николаевна, см.
Крамарж Надежда Николаевна
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1881–1925), русский писатель, в юмористических рассказах высмеивал мещанскую пошлость нравов, после 1917 в эмиграции 291
Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913), историк, писатель, журналист, окончил историко-филологический факультет Киевского университета Св. Владимира (1862), в 1865–1868 соредактор В. Я. Шульгина по газете «Киевлянин», впоследствии чиновник МВД и МНРП, статский советник 17
Aгe д’, графиня, см.
Дризен, баронесса
Аденауэр Конрад (1876–1967), канцлер ФРГ в 1949–1963 75
Азеф Евно Фишелевич (1869–1918), провокатор. С 1892 секретный сотрудник департамента полиции, один из организаторов партии эсеров, руководитель ряда террористических актов. В 1901–1908 выдал полиции многих членов партии и «Боевую организацию». В 1908 разоблачен B. Л. Бурцевым, приговорен ЦК партии эсеров к смертной казни. Скрылся в Германии 384, 385, 507
Айвазовский Иван Константинович (1817–1900), русский живописец-маринист 435
Акацатов Николай Епифанович, петербургский врач, доктор медицины, специалист по внутренним болезням, занимался частной врачебной практикой 78
Аксак, см.
Вельяминов Иван Федорович, по прозвищу Аксак
Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), русский публицист и общественный деятель, один из идеологов славянофильства 18
Александр I Карагеоргиевич (1888–1934), с 1921 король Югославии (до 1929 Королевство сербов, хорватов и словенцев) 108, 425, 605
Александр II Николаевич (1818–1881), император Всероссийский с 1855, убит народовольцами 79, 479, 537, 566
Александр III Александрович (1845–1894), император Всероссийский с 1881 113, 424
Александр Македонский (356–323 до н. э.), царь Македонии с 336 до н. э., выдающийся полководец 218, 597
Александр Михайлович (1866–1933), великий князь 116
Александр Обренович (1876–1903), сербский король с 1889, человек с крайне слабой волей, всегда являвшийся орудием в руках других лиц, установил режим деспотической диктатуры, во внешней политике придерживался проавстрийской ориентации. В результате заговора, организованного офицерами белградского гарнизона, был убит 425
Александр Юрьевич Смоленский, по прозвищу Монастырь, князь, середина XIV в. 16
Александра (1863–1925), английская королева, урожд. принцесса Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская, с 1863 принцесса Датская и жена принца Альберта-Эдуарда Уэльского, с 1901 короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII 226
Александра Федоровна (1872–1918), императрица Всероссийская, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, жена императора Николая II 115, 225, 226, 478, 515, 516
Александрович Александр Иванович, статский советник, во время «дела Бейлиса» (1913) был товарищем (заместителем) прокурора Киевского окружного суда 275
Александрович, офицер, сын А. И. Александровича 275
Александровский, у В. В. Шульгина написано ошибочно, см.
Александрович Александр Иванович
Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918), генерал от инфантерии, участник Белого движения, один из организаторов Добровольческой армии, с весны 1918 ее верховный руководитель 170, 193, 194, 202, 203, 205, 206, 209–211, 237, 596
Алексей Михайлович (1629–1676), русский царь 549, 552
Алексей Николаевич (1904–1918), наследник-цесаревич, великий князь, сын императора Николая II, расстрелян в Екатеринбурге 115, 478
Алексинская Нина, жена врача А. С. Алексинского 30
Алексинский Алексей Семенович, статский советник, профессор, врач Хотинской гимназии Одесского учебного округа, участник Белого движения. В ноябре 1920 эмигрировал из Крыма в Константинополь (генерал П. Н. Врангель включил его в состав «Русского Совета»), затем перебрался во Францию, жил в Париже, в 1930-х годах уехал в Марокко, где и погиб 29, 30, 274, 282
Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967), участник российского социал-демократического движения, член II Государственной Думы, белоэмигрант, двоюродный брат А. С. Алексинского 30
Али, владелец ресторана в Ницце 317
Альбицкий, одноклассник В. В. Шульгина 37
Альвенслебен, германский офицер, военный представитель Германии при гетмане П. П. Скоропадском, сопровождал гетмана во время его поездки в Германию 190, 194, 203
Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), русский писатель, журналист. Фельетоны и беллетристические произведения из жизни русского дореволюционного общества. После 1920 в эмиграции 272
Амханицкий Соломон Соломонович («Саша») (? — конец 1920-х), участник установления советской власти в Киеве в январе 1918. Сын частного поверенного, выпускник (1914) киевской Александровской гимназии (серебряный медалист). После революции 1917 примкнул к большевикам, был рекомендован в члены партии братьями И. В. и С. В. Косиорами 184, 185, 187, 593
Анастасия (Стана) Николаевна (1867–1935), великая княгиня, урожденная принцесса Черногорская, жена великого князя Николая Николаевича младшего (в 1-м браке за князем Георгием Максимилиановичем Романовским, герцогом Лейхтенбергским) 123
Анастасия Николаевна (1901–1918), великая княжна, дочь императора Николая II, расстреляна в Екатеринбурге 478
«Анастасия Николаевна», см.
Андерсон Анна
Андерсон Анна (?—1984), в замужестве Андерсон-Манехэн. С 1920 выдавала себя за дочь императора Николая II великую княжну Анастасию Николаевну, якобы спасшуюся во время расстрела царской семьи в Екатеринбурге. С 1933 участвовала в многочисленных судебных процессах, на которых с переменным успехом отстаивала право на титул, имя и царское наследство. В 1970 Верховный суд ФРГ положил конец ее притязаниям 305
Андреев Даниил Леонидович (1906–1959), русский поэт, прозаик, сын писателя Л. Н. Андреева. По окончании Высших литературных курсов работал художником-оформителем. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях под Ленинградом. В 1947 арестован по обвинению в подготовке террористического акта и осужден на 25 лет тюрьмы, срок отбывал во Владимирской тюрьме. Освобожден в 1957 494
Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), русский писатель 494, 581
Андреева Алла Александровна (1915–2005), урожд. Бружес, художник-график, жена поэта и писателя Д. Л. Андреева (1945), в 1947 арестована по обвинению в антисоветской агитации, в участии в контрреволюционной группе, в подготовке террористического акта и осуждена на 25 лет лагерей строго режима. В 1956 освобождена со снятием судимости 494
Андрей (в миру князь Ухтомский Александр Алексеевич) (1872–1937), епископ Уфимский и Мензелинский (с 1913), во время Гражданской войны руководитель духовенства 3-й армии адмирала А. В. Колчака, арестован в феврале 1920, но вскоре выпущен за объявленную им лояльность по отношению к советской власти. В 1925 перешел в старообрядчество, в 1928–1931 в заключении, с 1932 в ссылке. Расстрелян в Ярославском политическом изоляторе 512
Андрей, кучер в имении В. В. Шульгина Агатовка 76
Андрияшев Павел Иванович, двоюродный брат В. В. Шульгина 48, 56, 58
Андрияшева Софья Константиновна, урожд. Попова, тетка В. В. Шульгина 48
Андро (Андро де Ланжерон) Дмитрий Федорович (1866—?), правнук Новороссийского ген. — губ. А. Ф. Ланжерона (его внебрачный потомок). Окончил Пажеский корпус, служил в л.-гв. Казачьем полку. Крупный землевладелец, ровненский уездный предводитель дворянства (по назначению) Волынской губ., депутат I Государственной Думы от Волынской губ., в 1912–1917 глава ровненского уездного земского собрания, председатель ровненского отдела «Союза 17 октября». В мае 1918 П. П. Скоропадский назначил его старостой (начальником) Волынской губ. Участник Гражданской войны на Украине 239, 599
Анжелина, см.
Сакко Анжелина Васильевна
Анненков Николай Николаевич (1799–1865), генерал от инфантерии, в 1862–1865 Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор, с 1864 одновременно командующий войсками Киевского военного округа 18,
Аннунциата, владелица цветочного магазина совместно с сестрой Кларой 392
Аносов, см.
Анохин А. К.
Анохин Александр Константинович (1882–1919), доктор медицины, талантливый журналист, педагог, спортивный деятель, автор многочисленных работ, посвященных медицине и спорту. Председатель Киевского олимпийского комитета (1913), организатор 1-й Российской олимпиады. Руководитель масонской ложи ордена Андрея Первозванного (ложа «Нарцисс»). После Февральской революции был помощником начальника киевской милиции, заведующий ее административной и наружной частью, отстранен от должности в начале ноября 1917. Покончил жизнь самоубийством после случайного ареста и дачи показаний о руководимой им масонской ложе 167, 590
Антон Антонович (Сергей Владимирович), связан с организацией «Трест» 386
Антоний (Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1936), архиепископ (до 1906 — епископ) Уфимский (1900–1902), Волынский (1902–1914), Харьковский и Ахтырский (1914–1917). Член Государственного Совета (1906–1907), правый. При Временном правительстве 01.05.1917 уволен на покой, но 19.08.1917 постановлением собора восстановлен на Харьковской кафедре. Был кандидатом правой части духовенства при избрании патриарха, после избрания Тихона возведен в сан митрополита. С 19.05.1918 — митрополит Киевский, прибыл в Киев в июне, но П. П. Скоропадский признал его лишь митрополитом Харьковским. В декабре 1918 был арестован властями украинской Директории, затем польскими властями. Освобожден по настоянию представителей А. И. Деникина. 16(29).09.1919 торжественно прибыл в Киев. В эмиграции в Сербии. В 1921 председательствовал на Карловацком соборе, вынесшем постановление о восстановлении в России дома Романовых 256, 590
Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883–1939), советский государственный деятель, член КПСС с 1917. Во время октябрьского 1917 переворота секретарь Петроградского Военно-революционного комитета, руководил захватом Зимнего дворца. В 1917–1919 один из организаторов Красной Армии, командовал советскими войсками Юга России, в 1921 руководил подавлением крестьянского восстания («Антоновского») в Тамбовской и Воронежской губ., в 1922–1924 начальник Политуправления Рев. Воен. Совета СССР, в 1924–1934 на дипломатической работе, с 1934 прокурор РСФСР, с 1937 нарком юстиции РСФСР 592, 593
Ариман, в зороастризме бог тьмы, дух и первоисточник зла, один из братьев-близнецов, сыновей верховного божества Ахурамазды 53, 54
Аристархов, владелец киевского магазина сливочного масла 97
Арсеньев Алексей Борисович (род. 1946), историк, публицист, библиограф, биограф, родился в семье выходцев из России, вывезенных детьми из Крыма в 1920 во время исхода Белого движения. Окончил машиностроительный факультет Новисадского университета (Югославия), по профессии инженер-теплоэнергетик. Помимо профессиональной работы занимается историей Белой эмиграции в Югославии, автор многочисленных трудов на эту тему. Проживает в г. Нови Сад (Сербия) 577, 604, 605
Архип, служащий в имении В. И. Пихно Палац при селении Ставки Радомысльского уезда Киевской губ. 93
Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), русский писатель 581
Багге (Бэгг) Джон Пиктон (1877–1967), британский дипломат 191, 594
Байдалаков Виктор Михайлович (1900–1967), хорунжий Донского казачьего войска, участник Гражданской войны, в эмиграции в Югославии, основатель и бессменный председатель Национального Союза Нового поколения (1928). Во время 2-й мировой войны работал над созданием антисоветских подпольных организаций среди советских военнопленных и на оккупированной территории СССР. После войны выехал в США, где основал Российский Национально-Трудовой Союз (1955) 437, 606
Балашов Петр Николаевич (1872 — после 1927), камергер. Брацлавский уездный предводитель дворянства, действительный тайный советник, русский политический и общественный деятель. Окончил юридический факультет Петербургского университета, некоторое время служил в армии, камер-юнкер, впоследствии пожалован в должность егермейстера. Инициатор создания Союза русских избирателей Юго-Западного края, его председатель. Один из основателей Всероссийского национального союза (1908), председатель его Главного совета, член III и IV Государственной Думы (председатель фракции русских националистов), член Романовского комитета. В эмиграции во Франции 110, 112, 213, 292, 402
Балашов N. Петрович, сын П. Н. Балашова 213
Балашова Мария Григорьевна (1871–1943), урожд. княжна Кантакузина, жена П. Н. Балашова 112
Балицкий Лев Алексеевич, коллежский секретарь, старший помощник заведующего библиотекой Государственного Совета, русский общественный деятель, учредитель и директор ряда средних профессиональных учебных заведений в Петрограде (бухгалтерских курсов, сельскохозяйственно-гидротехнического училища и 4-классного училища сельского строительства) и Петроградской мужской гимназии в Лесном 120
Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942), русский поэт-символист, с 1920 в эмиграции во Франции 354
Бальмонт Мирра Константиновна, дочь поэта К. Д. Бальмонта 354, 377
Бартоло, генерал 541
Барцевич Владимир Петрович (1887–1920), полковник Генерального штаба, из потомственных почетных граждан Могилевской губ., окончил Киевское военное училище (1907), служил в 16-м Саперном батальоне (Вильна, 1907–1910), учился в Императорской Николаевской военной академии (1910–1913), которую окончил по 1-му разряду с причислением к Генеральному Штабу, затем служил в Туркестанском военном округе. Во время Гражданской войны член организации «Азбука» (псевдоним «Фита», начальник ее киевского отделения). В 1919, после занятия Киева белыми, был его градоначальником. Впоследствии расстрелян киевской ЧК 193, 252, 275, 280, 281, 350
Барцевич Зинаида Ивановна, см.
Седельникова Зинаида Ивановна
Баскаков Николай Александрович (1905–1995), тюрколог, доктор филологических наук, профессор 605
Бастамов Владимир Владимирович (1906 после 1978), сокамерник В. В. Шульгина, сын офицера Свеаборгского крепостного артиллерийского батальона, чин финляндского подотдела РОВС, состоял в кадрах Марковской артиллерийской бригады, во время советско-финских войн 1939–1940 и 1941–1944 служил в финской армии, занимался формированием русских отрядов из пленных красноармейцев. В апреле 1945 в числе 20-ти человек был арестован финскими властями по требованию советских представителей в Контрольной комиссии и отправлен в Москву, где был осужден Особым Совещанием при НКВД СССР на 20 лет, свой срок отбывал во Владимирской тюрьме. Освобожден через 10 лет и вернулся в Финляндию 487, 488, 497, 507, 509
Батюшков Помпей Николаевич (1810–1892), издатель сборников по археологии и этнографии северо- и юго-западных окраин России, в том числе и «Волынь. Исторические судьбы Северо-Западного края» (1888, с 2 хромолитографиями и 69 гравюрами) 119
Бах (Bach) Иоганн Себастиан (1685–1750), немецкий композитор и органист 74
Бедекер (Baedeker) Карл (1801–1859), немецкий издатель, основавший в 1827 в Кобленце издательство путеводителей по различным странам. Слово «Бедекер» стало названием путеводителей, которые продолжает выпускать фирма Бедекер 389
Безак Федор Николаевич (1865—?), землевладелец Бердичевского уезда Киевской губ. (1800 дес.). Окончил Пажеский корпус, служил в Кавалергардском полку (1885–1901, полковник в отставке), камергер (1901), шталмейстер (1911), член III и IV Государственной Думы (член фракции русских националистов), в 1913 сложил полномочия члена Государственной Думы, член Государственного Совета (1913–1916), губернатор Киевской губернии (1912–1917), киевский губернский предводитель дворянства (с 1913), участник монархического съезда в Киеве в июне 1917, один из руководителей киевского «монархического блока» (1918) 196
Безак, жена Ф. Н. Безака 196
Безбородко Александр Андреевич (1747–1799), князь, государственный деятель, на средства которого был основан Нежинский лицей 575
Бейлис Менахем-Мендель Тевелев (1874–1934), киевский мещанин, отец пятерых детей. В молодости служил в русской армии, затем работал экспедитором на кирпичном заводе, был ложно обвинен царской юстицией (1913) в ритуальном убийстве русского мальчика, за что и был отдан под суд. Единственным правым органом печати, выступившим с разоблачением этого дела, была издаваемая В. В. Шульгиным газета «Киевлянин». Бейлис был признан невиновным. После суда эмигрировал в Палестину (Яффа), в начале 1920-х перебрался в США (Нью-Йорк), где работал страховым агентом 27, 167, 254, 275, 321, 535, 538, 575
Беккер (Бейкер-Эдди) Мария, американская проповедница, основательница секты «Христианская наука» 396, 397
Белавин Василий Иванович, см.
Тихон, патриарх.
Белый Андрей (наст, имя Бугаев Борис Николаевич) (1880–1934), русский писатель и поэт, символист 581,
Беляев Григорий Николаевич (1845–1910?), дворянин, помещик Подольской губ. (1600 дес.), член 2-й и 3-й Государственной Думы (умеренный правый), почетный мировой судья, земский гласный 257
Бенар Борис Николаевич, белоэмигрант, свидетель при венчании В. В. Шульгина с М. Д. Седельниковой 604,
Бенардаки Николай Дмитриевич, поэт 595
Берберова Нина Николаевна (1901–1993), писательница, жена поэта В. Ходасевича. С 1922 в эмиграции во Франции. Литературный сотрудник парижской газеты «Последние новости», после войны — в США, преподавала в Принстонском и Йельском университетах. Автор многочисленных романов, рассказов и исторических исследований 589
Бердяев Николай Александрович (1874–1948), русский философ, идейный противник марксизма и коммунизма. В числе нескольких сотен представителей русской интеллигенции был выслан из России в 1922. В 1922–1940 жил во Франции, издавал журнал «Путь», противопоставлял марксизму христианский экзистенциализм. В 1940 переехал в Англию, где и скончался 304
Берестецкий Н. А., в 1911 редактор-издатель «Курской газеты» 582
Бернард Нина Георгиевна, дочь штабс-капитана, служащая Канцелярии Государственной Думы 459
Берс Татьяна Андреевна, см.
Кузминская Татьяна Андреевна
Бессонов, полковник русской армии, сокамерник В. В. Шульгина по Владимирской тюрьме 305
Бетховен (Beethoven) Людвиг ван (1770–1827), немецкий композитор, пианист и дирижер 91
Бех Степан Иванович, надворный советник, в 1880-е учитель латинского языка во 2-й киевской мужской гимназии 26
Бехи, род околичной шляхты на Украине 26, 145
Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792–1870), русский государственный деятель, генерал от инфантерии (1843), генерал-адъютант (1843), сенатор (1837), в 1837–1852 Киевский военный генерал-губернатор и одновременно подольский и волынский генерал-губернатор, министр внутренних дел (1852–1855), в период губернаторства отстаивал интересы малороссийского населения против польских землевладельцев, заменил русскими деятелями местных чиновников, не считавших Россию своим отечеством 582
Бикерман, представитель русской эмигрантской колонии в Берлине в начале 1920-х годов 304
Билимович Александр Дмитриевич (1875–1963), экономист, профессор Университета св. Владимира и Киевских высших женских курсов. Сотрудник газеты «Киевлянин». В 1917 исполнял обязанности председателя Киевского военно-промышленного комитета. Сотрудник газеты «Великая Россия». В годы гражданской войны участвовал по заданию А. И. Деникина в разработке аграрного законодательства. Начальник Управления землеустройства и земледелия Особого совещания (1919). Член Совета Государственного объединения. В 1920 эмигрировал в Югославию, профессор Люблянского университета (1922–1944) и украинского университета в Мюнхене (1944–1947). С 1948 в США (Калифорнийский университет в Беркли) 27, 84–87, 167, 175, 178, 194, 357, 374, 375, 380, 403, 404, 434–436, 438, 439, 606
Билимович Алла Витальевна (1874–1930), урожд. Шульгина, сестра В. В. Шульгина и первая жена проф. Александра Дм. Билимовича. Эмигрировала в Югославию, жила и скончалась в Любляне 26, 55, 84–86, 178, 184, 187, 240, 244, 245, 256, 346, 357, 374, 375, 377, 380, 389, 390, 401–403, 448, 449, 579, 587
Билимович Антон Дмитриевич (1879–1970), ученый математик и механик, окончил с золотой медалью физико-математический факультет Киевского университета Св. Владимира, работал при университете, в 1918–1920 был ректором Новороссийского университета (Одесса). Эмигрировал в Югославию, работал в Белградском университете, профессор, директор Математического института при философском факультете Белградского университета, основатель Белградской школы механиков, принимал деятельное участие в работе Русской академической группы и Русского научного института в Белграде, член-корреспондент (1925), действительный член (1936) Сербской академии наук и искусств 54, 73, 74, 86, 87, 175, 222
Билимович Арсений Антонович (1918–1944), врач, окончил Медицинский институт в Белграде. Сын Антона Дмитриевича и Елены Андреевны Билимовичей 87
Билимович Елена Андреевна (1878–1974), урожд. Киселева, художница, жена Антона Дм. Билимовича 74, 86
Билимович Мария Дмитриевна, см.
Каменская (Каминская) Мария Дмитриевна
Билимович Нина Ивановна (1891–1956), урожд. Гвадонини, вторая жена Александра Дмитриевича Билимовича 85, 86, 434–436, 438, 439
Билимович Татьяна Александровна, см.
Шульгина Татьяна Александровна
Билимовичи, семья 84, 87, 175, 194, 376, 433
Бланш, англичанка, вдова чиновника 396–398
Блейман Михаил Юрьевич (1904–1974), советский кинодраматург, критик, написал свыше 40 сценариев фильмов (некоторые в соавторстве). Государственная премия СССР (1948) 12
Блок Александр Александрович (1880–1921), русский поэт-символист 560
Бобриков Николай Иванович (1839–1904), генерал-майор, генерал-адъютант, начальник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа, финляндский генерал-губернатор (1898–1904), убит финским националистом 508
Бобринский Алексей Александрович, граф (1852–1927), сенатор, гофмейстер, председатель III Государственной Думы, член Государственного Совета с 1912, во время войны товарищ министра внутренних дел и министр земледелия в 1916 79
Богаевский Петр Михайлович (1866–1929), историк, юрист, этнограф. Профессор Киевского университета по кафедре международного права. Печатался в газете «Киевлянин». Гласный Киевской городской думы, председатель внепартийной русской группы. Товарищ председателя Русского союза на Украине, член совета общества «Русь» 178, 179
Богданов М. С., гласный Киевской городской думы от большевиков (август 1917) 586
Богданов Сергей Михайлович (1859—?), действительный статский советник, профессор Киевского университета Св. Владимира по кафедре агрономии, член 3-й и 4-й Государственных Дум 590
Богров Григорий Григорьевич, сын писателя Г. И. Богрова, богатый киевский домовладелец, присяжный поверенный, был известен в городе своею благотворительностью. Отец Д. Г. Богрова, убийцы П. А. Столыпина 181
Богров Дмитрий Григорьевич (1887–1911), убийца П. А. Столыпина. Участник социал-демократического движения с гимназических лет, учился в Киевском университете (1906–1910), где примкнул к эсерам, в 1906 перешел к максималистам (фракционная группа эсеров), после окончания университета был помощником присяжного поверенного. Повешен по приговору Киевского военно-окружного суда 181
Богун Иван (?—1664), герой освободительной войны украинского народа, сподвижник Б. Хмельницкого 364
Бойчевская Татьяна Яковлевна, см.
д’Иври Татьяна Александровна, виконтесса
Бойчевский Арик, сын адвоката Бойчевского 37–374
Бойчевский, московский адвокат 370, 372–374
Бойченко Мария, кормилица Вениамина Шульгина, второго сына В. В. Шульгина 356
Болван Жан, разносчик газеты «Киевлянин» 56
Борис III (1894–1943), царь Болгарии (с 1918), герцог Саксонский, сын царя Фердинанда I (1861–1948) от брака с Марией-Луизой, принцессой Бурбон-Пармской (1870–1899) 287
Бориус (Borius), французский генерал, начальник 156-й пехотной дивизии, командовал первым эшелоном французских войск, высадившихся в Одессе в ноябре 1918, начальник гарнизона города. Потребовал вывода из Одессы петлюровских войск, назначил А. Н. Гришина-Алмазова военным губернатором. Впоследствии был подчинен генералу д’Ансельму 217, 219, 227, 597
Бортневский Виктор Георгиевич (1954–1996), российский историк, окончил Ленинградский государственный университет, занимался исследованием вопросов истории Гражданской войны в России и Белой эмиграции, с 1991 работал в США, главный редактор российско-американского историко-документального альманаха «Русское прошлое» (1991–1996), автор многочисленных статей и трудов по этой теме 592, 607
Бочаров, киевский хирург конца XIX в. 95
Брага Каэтано (Braga Caetano) (1829–1907), итальянский виолончелист и композитор, длительное время жил и творил в Париже и в Лондоне 313
Брасова Наталия Сергеевна (1880–1952), урожд. Шереметевская, в 1-м браке Мамонтова, во 2-м — Вульферт, с 1911 морганатическая жена великого князя Михаила Александровича (1878–1918). После признания брака в России (1915) ей было дозволено принять фамилию Брасовой (графское достоинство не было пожаловано) 219
Бродский Лев Израилевич (1851–1923), киевский промышленник-сахарозаводчик. В эмиграции в Германии (Берлин) 27
Броз Тито Иосип (1892–1980), лидер югославских коммунистов, с 1953 президент Югославии 606
Бронский, польский ученый XVI в. 321
Бронштейн Лев Давыдович, см.
Троцкий Лев Давыдович
Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, основоположник русского символизма. При советской власти занимался общественно-педагогической деятельностью 597
Будённый Семен Михайлович (1883–1973), в Гражданскую войну командир конного корпуса и командующий 1-й Конной армией (1919–1921), впоследствии занимал руководящие посты в Вооруженных Силах СССР, вплоть до 1-го зам. наркома обороны. В Великую Отечественную войну в 1941–1942 главнокомандующий войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, командующий Резервными Северо-Кавказскими фронтами. В послевоенное время руководящих постов не занимал. Депутат Верховного Совета СССР (1937–1973), член Президиума Верховного Совета СССР (1938–1973) 248
Булат Андрей Андреевич (1873–1941), депутат Государственной Думы, председатель левой фракции Трудовой группы. С 1918 в Литве, в 1940–1941 член правительства советской Литвы. Расстрелян немцами 315
Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919), землевладелец в Саратовской и Рязанской губ. (более 3-х тыс. дес.). Окончил Имп. Училище правоведения с золотой медалью (1871), судебный следователь, почетный мировой судья Зарайского уезда Рязанской губ. (1878–1902), предводитель дворянства Зарайского уезда (1881–1887), московский губернатор (1893–1902), гофмейстер (1896), пом. московского ген.-губ. (1902–1905), министр внутренних дел (янв.-окт. 1905), под его председательством работало совещание, в результате которого возник манифест 6.08.1905 о законосовещательной думе (так наз. «Булыгинская Дума»), член Государственного Совета (1905–1917), председатель Комитета для устройства празднования 300-летия царствования Дома Романовых (1912), статс-секретарь, главноуправляющий канцелярией по учреждениям императрицы Марии. Расстрелян 5.09.1919 по приговору Рязанской губ. ЧК 225
Булыгин Павел Петрович (1896–1936), окончил Владимирскую гимназию (1915), Александровское военное училище (1916), участник 1-й мировой войны (л. — гв. Петроградский полк), участник Гражданской войны (1-й Ледовый поход), командовал особым отрядом по охране дворца имп. Марии Федоровны в Крыму, по ее поручению прибыл к Колчаку, которым был назначен помощником следователя Н. А. Соколова при расследовании убийства царской семьи. После Гражданской войны около 10-ти лет проводит в Эфиопии инструктором в армии имп. Хайле Селассие. В 1934–35 организовал русскую колонию «Балтика» в Парагвае, где и скончался. В 1928 в Риге в газете «Сегодня» (№№ 174, 176–222) опубликовал воспоминания «Попытка спасения Николая II и царской семьи» и в 1935 в Лондоне — об обстоятельствах их убийства
(Булыгин П. Убийство Романовых. Лондон, 1937, на англ. яз.; см. также: The Murder of the Romanovs. The Authentic Account. Westport, Conn., 1975;
Павел Булыгин. Убийство Романовых. М.: «Academia», 2001. 228 с., илл.) 225, 226
Бунге Николай Христофорович (1823–1895), экономист, министр финансов (1881–1887), с 1887 председатель Комитета Министров и член Государственного Совета 32
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), писатель, поэт и переводчик. С 1920 в эмиграции во Франции, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года 21, 370, 461, 511, 603
Бунина Вера Николаевна (1881–1961), урожд. Муромцева, жена писателя И. А. Бунина 370
Бурбоны (Bourbons), королевская династия во Франции (ответвление династии Капетингов) в 1589–1792, 1814–1815, 1815–1830 227
Бурцев Владимир Львович (1862–1942), русский публицист, народоволец, дважды арестовывался царским правительством и высылался в Сибирь, после первой высылки бежал из Иркутской губ. за границу, занимался пропагандой террора, за что был осужден к 18 месяцам каторжной тюрьмы в Англии (1897) и выслан из Швейцарии (1903), издатель журнала по истории революционного движения в России «Былое» (1900–1904 в Париже и Лондоне, 1908–1913 в Париже). По возвращении в Россию (1905) занимался разоблачением провокаторов в русском революционном движении и агентов русской политической полиции. В 1920 эмигрировал во Францию 384, 385
Бутович Владимир Николаевич (1873—?), помещик Полтавской губ., крупный землевладелец. С 1898 директор народных училищ Бессарабской губ. Был женат на Екатерине Викторовне Гошкевич, с которой против своей воли и заочно был разведен в 1909 г. 146, 147
Вагнер (Wagner) Рихард (1813–1883), немецкий композитор, дирижер, реформатор оперы, стремился к органическому слиянию музыки, слова и сценического действия. Большинство его музыкальных драм основано на обработке сюжетов из национальной мифологии 158, 159, 588
Вангельгейм Антонина Петровна, см. Пихно Антонина Петровна
Вангельгейм Ольга Петровна, сельская учительница, на свои средства основала с сестрою Антониной Петровной и ее мужем Василием Ивановичем Пихно частное среднее сельскохозяйственное училище в селе Ставки Радомысльского уезда Киевской губ. 90, 91, 93, 94, 96
Варвара (Варюша), прислуга Е. Г. Шульгиной 40
Варсонофий (Хайбулин), иеродиакон, автор некролога В. В. Шульгину 567, 570,
Васильев А.А., в 1918 один из соредакторов газеты «Россия» (Екатеринодар) 595
Васильева Вера Евгеньевна, член организации «Азбука» (секретарь отделения при Ставке командования Вооруженными силами Юга России), шифр «Принцесса» 122–123
Васильчиков Борис Александрович (1860–1931), князь, крупный землевладелец Воронежской, Ковенской, Новгородской и Тамбовской губ. (более 31 тыс. дес.), окончил Имп. Училище правоведения (1881), был причислен к министерству юстиции, много лет служил в местных земских учреждениях, губернатор Псковской губ. (1901–1904), член Главного управления и главноуполномоченный Российского общества Красного Креста на Дальнем Востоке (1904–1906), председатель Главного управления этого общества (1906), главноуправляющий Главного управления землеустройства и земледелия (1906–1908), член Государственного Совета (1906–1917). В эмиграции в Финляндии, Англии и во Франции 589
Васильчиков Илларион Сергеевич (1881–1969), князь, окончил юрид. ф-т СПб. университета с золотой медалью, служил в 1-м деп. Сената, Ковенский губ. предводитель дворянства (1909), член IV Государственной Думы (фракция октябристов), комиссар Временного правительства при Главном управлении Российского общества Красного Креста (1917), член Главного управления этого общества в России и в эмиграции (1917–1969). В эмиграции в Литве (1919–1940) и в Германии (1940–1969) 165, 166, 197, 198, 204, 589
Васильчикова Лидия Леонидовна (1886–1948), княгиня, урожд. княжна Вяземская, жена князя Иллариона Сергеевича Васильчикова 165, 166, 589
Васильчикова София Николаевна (1867–1942), княгиня, урожд. княжна Мещерская, жена князя Бориса Александровича Васильчикова 589
Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926), русский живописец, передвижник 35
Вельяминов Иван Федорович, по прозвищу Аксак (жил во 2-й половине XIV в.), родоначальник фамилии Аксаковых 408, 605
Вера Петровна, сестра-хозяйка в доме инвалидов в Гороховце 519, 522–524
Вербицкий Федор Васильевич (1881–1971), профессор, врач. В эмиграции в Югославии, в 1929–1934 был личным врачом югославского короля Александра I, в 1945–1948 жил и работал в Германии (Мюнхен, декан медицинского факультета Интернационального университета), с 1949 жил в Аргентине, работал в институте микробиологии 85
Вергилий (Vergilius) Марон Публий (70–19 до н. э.), римский поэт 222
Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), живописец-баталист, был близок к передвижникам 112
Верн (Verne) Жюль (1828–1905), французский писатель, один из создателей жанра научно-фантастического романа 26, 111, 155, 428, 490
Верстад, см.
Верстрат
Верстрат Морис Поль Альфред (Verstraete, Maurice-Paul-Alfred) (1866 — после 1945), французский дипломат и банкир, в 1894–1897 во французском консульстве в Москве, в 1897–1902 секретарь французского посольства в С.-Петербурге, затем его коммерческий атташе, в 1902–1918 французский генеральный консул в Петербурге; в 1901–1910 директор Северного банка (С.-Петербург), с 1910 вице-председатель Русско-Азиатского банка. Автор воспоминаний «Mes cahiers russes. L’ancien régime, le gouvernement provisoire, le pouvoir des Soviets». Paris: Crès, 1920 («Мои русские тетради. Старый режим, Временное правительство, власть Советов». Париж. 1920) 347
Верстрат, см. Кандаурова
Веселовский Степан Борисович (1876–1952), русский и советский историк, академик АН СССР (1946), труды по социально-экономической истории России XIV–XVII вв., источниковедению, генеалогии 15, 16
Ветранич [правильно:
Ветранович Чавчич (Vetranoviж Иаvиіж) Мавро-Никола (1482–1576), хорватский поэт, сын рагузского купца, с 1507 бенедиктинский монах. Высокообразованный представитель рагузской ренессансной литературы, наряду с сатирами и политическими злободневными стихами писал прежде всего духовные представления («Posvetiliљte Abramovo», издано в 1853) и оставил незаконченным морализаторско-аллегорический автобиографический эпос «Piligrin» 411, 412, 605
Викентий, лакей в киевском доме В. В. Шульгина 114
Виктория Федоровна (1876–1936), великая княгиня, урожд. принцесса Саксен-Кобург-Готская, принцесса Великобританская и Ирландская, жена (1905) великого князя Кирилла Владимировича, в первом браке (1894) за Эрнстом Людвигом, великим герцогом Гессенским (Дармштадт) 112
Вильгельм II (1859–1941), германский император и прусский король в 1889–1918, сын императора Фридриха III 196, 202, 317, 320
Вильсон (Wilson) Томас Вудро (1856–1924), 28-й президент США (1913–1920) от Демократической партии, инициатор вступления США в 1-ю мировую войну 542, 599
Винницкий Михаил Я., см.
Мишка-Япончик.
Винниченко Владимир Кириллович (1880–1951), украинский писатель и политический деятель, член ЦК Украинской социал-демократической партии. Один из организаторов Центральной Рады (1917), председатель Генерального секретариата (правительства) Украинской народной республики (ноябрь 1917 — январь 1917), секретарь по внутренним делам. Председатель Украинского национального союза (с авг. 1918), председатель Директории (ноябрь 1918 — февраль 1919), боровшейся с гетманом П. П. Скоропадским. В феврале 1919 покинул этот пост как «левый». Один из организаторов так наз. «зарубежной группы Украинской Коммунистической партии». Пошел на контакты с властями Советской Украины, в 1920 зам. председателя Совета народных комиссаров Украины, в том же году эмигрировал. В эмиграции занимался преимущественно творческой деятельностью 167, 539, 541, 598
Виридарский Петр Максимович (?—1947), горный инженер, штабс-капитан инженерных войск, подполковник (1920), с 1.12.1917 член организации «Азбука» (начальник особого отдела), шифр «Паж». В эмиграции во Франции 166, 192, 198, 200, 201, 204, 212, 225, 261, 263, 271, 273, 404, 405, 590,
Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф (1905), управляющий министерством путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), статс-секретарь (1896–1915), председатель Комитета министров (с 1903) и Совета министров (1905–1906), член Государственного Совета (1903–1915, принадлежал к внепартийной группе). Инициатор винной монополии (1894), денежной реформы (1897), строительства Сибирской ж.д., разработал основные положения столыпинской аграрной реформы (1903–1904), подписал Портсмутского мира с Японией (5.09.1905), автор Манифеста 17 октября 1905 142, 585
Вишневская Мария Андреевна, см.
Сливинская Мария Андреевна
Владимир I (?—1015), князь новгородский (с 969), киевский (с 980), младший сын Святослава. В 988–989 ввел в качестве государственной религии христианство. Канонизирован русской церковью 232, 581
Владимир Кириллович (1917–1992), князь императорской крови, сын великого князя Кирилла Владимировича 113, 114
Владимир Мономах (1053–1125), великий князь киевский с 1113 466
Владимиров В., автор сценария фильма «Перед судом истории» 12
Владислава, сестра М. Незабудько, русская эмигрантка в Чехии, знакомая В. В. Шульгина 292
Влах, святой, покровитель Дубровника 414, 417
Вовка, см.
Лазаревский Владимир Александрович
Войков Петр Лазаревич (1888–1927), деятель российского революционного движения (с 1903), террорист, член ВКП(б) (с 1917), полпред СССР в Польше (с 1924) 436
Волконский Владимир Михайлович (1868–1953), князь, крупный землевладелец Тамбовской губ., товарищ председателя III и IV Государственной Думы 107–109
Волченецкий (правильно:
Волчанецкий) Всеволод, художник, белоэмигрант, жил в Югославии (г. Дубровник) 405–407
Вольтер (Voltaire) (настоящее имя Мари Франсуа
Аруэ, Arouet) (1694–1778), французский писатель и философ-просветитель 393
Вондрак Вацлав (Вячеслав Иосифович) (Vondrák) (1880—?), чешский политик, доктор юридических наук, волынский помещик. В 1906 начал издавать в России журнал «Русский чех», с 1907 уполномоченный Чешского национального комитета в России, в 1916 председатель Союза чешских обществ, ходатайствовал перед русским правительством о признании Союза представителем чешского народа в России и об организации чешской армии. В 1917 вступил в русскую армию, во время оккупации Киева немцами в 1918 находился в заключении, с конца 1918 в ВСЮР, был послан ген. А. И. Деникиным с особой миссией в Чехословацкую республику 194, 195, 295, 594
Воровский Вацлав Вацлавович (1871–1923), советский государственный и партийный деятель, публицист, член КПСС с 1894. С ноября 1917 посол в Скандинавских странах, с 1921 полпред в Италии 436
Воронецкие (Woronieckie), последние представители литовского княжеского рода, происходящего от князя Федора Васильевича Збаражского, потомка в 7-м колене великого князя Гедимина (ум. 1328) 359
Врангели фон, баронский род скандинавского происхождения, ведущий начало от Доминика Тука Вранге, начальника Ревельского гарнизона в 1219 283, 305
Врангель Алексей Петрович (род. 1922), барон, сын генерала барона П. Н. Врангеля 351
Врангель Василий Григорьевич (1862–1901), барон, композитор. Учился в Пажеском корпусе, служил в МВД, окончил С.-Петербургскую консерваторию по классу теории композиции. Автор музыки для двух балетов, сюиты для большого оркестра, фантазии для фортепиано и оркестра, симфонии, особенно много им написано романсов 202, 595
Врангель Егор Ермолаевич, дед барона П. Н. Врангеля 604
Врангель Мария Дмитриевна (1857–1944), баронесса, урожд. Дементьева-Майкова, мать барона П. Н. Врангеля; ошибочно названа В. В. Шульгиным урожденной баронессой Корф 283, 351, 604
Врангель Николай Егорович (1847–1923), барон, отец барона П. Н. Врангеля 351, 352, 604
Врангель Ольга Михайловна (1882–1968), баронесса, урожд. Иваненко, жена барона П. Н. Врангеля, в годы 1-й мировой войны сестра милосердия перевязочного пункта 283, 350, 351, 353, 373
Врангель Петр Николаевич (1878–1928), барон, окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1910), участник 1-й мировой и Гражданской войн, прошел путь от командира эскадрона полка до командующего кавалерийским корпусом, генерал-майор (1916), кавалер ордена Св. Георгия. В марте 1920 в Крыму возглавил ВСЮР, преобразованные им в Русскую армию. Разработал план эвакуации армии из Крыма в Турцию и осуществил его в ноябре 1920. В 1923 основал и возглавил Русский Общевоинский Союз (РОВС), надеясь сохранить кадры армии в эмиграции. Скончался в Брюсселе, похоронен в Белграде. Оставил «Воспоминания», тт. 1-й и 2-й, которые опубликованы в 5-й и 6й книгах сборника «Белое
Дело», Берлин, издательство «Медный Всадник», 2-е издание в одной книге — издательство «Посев», 1969, Франкфурт на Майне 31, 63, 122, 123, 202, 203, 247–249, 272, 273, 279–283, 288, 289, 305, 306, 328–331, 350–354, 356, 368, 373, 479, 580, 592, 594, 595, 600, 602, 603,
Вуич Федор Николаевич, из дворян Херсонской губ., поклонник артистического таланта Е. Г. Шульгиной 31, 38–40, 43
Вульфиус Ольга Германовна, знакомая В. В. Шульгина 513–515
Вульфиус Элла Германовна, актриса оперетты, знакомая В. В. Шульгина 513–515
Выговский (наст, фамилия
Выговский-Веселовский) Николай Павлович (1899—?), уроженец Симбирской губ., в эмиграции в Манчжурии (Харбин), журналист, занимался литературной деятельностью; арестован 23.09.1945 по обвинению в «помощи международной буржуазии», осужден 10.04.1947 Особым совещанием при МГБ СССР на 10 лет тюремного заключения. Освобожден 23.09.1955 по окончании срока наказания 511
Выговский Иван Евстафьевич (?—1664), малороссийский гетман (1657–1659). Подписал Гадячский договор 1658, по которому Украина переходила под власть Польши. В ходе восстания И. Богуна в 1659 низложен, бежал в Польшу, где был расстрелян по обвинению в измене 511, 557–560
Вяльцева Анастасия Дмитриевна (1871–1913), русская эстрадная певица (сопрано), исполнительница цыганских романсов, артистка оперетты 284
Гальперин Р.-И.В., гласный Киевской городской думы от большевиков (август 1917) 586
Гарфильд (Гарин) Сергей Александрович (1873–1927), писатель, поэт, драматург 589
Гвадонини (Гваданини) Антонина Ивановна, см. Шульгина Антонина Ивановна
Гвадонини (Гваданини) Иван Александрович, в начале 1900-х действительный статский советник, Тамбовский городской голова и корреспондент Главного управления Государственного коннозаводства по Тамбовской губернии 85, 436
Гвадонини (Гваданини) Нина Ивановна, см. Билимович Нина Ивановна
Гегечкори Евгений Петрович (1881–1954), меньшевик, член III Государственной Думы. После Февральской революции — член президиума Тифлисского Совета, председатель Закавказского комиссариата. С мая 1918 министр иностранных дел Грузии. В марте 1921 эмигрировал во Францию 210, 596
Гедройц, литовский княжеский род 581
Гейден Дмитрий Федорович (1862–1927), граф, действительный статский советник, винницкий уездный предводитель дворянства Подольской губ. 593
Гейден Екатерина Михайловна (1876—?), графиня, урожд. Драгомирова, жена графа Д. Ф. Гейдена, председателя Союза хлеборобов, игравшего большую роль во время гетманского режима, дочь генерала от инфантерии М. И. Драгомирова 593
Гелиотовская Ольга Николаевна, урожд. Градовская, жена подполковника Гелиотовского, в 1-м браке фон Крузе, двоюродная сестра Е. Г. Шульгиной 37, 38
Гелиотовский, подполковник, 2-й муж О. Н. Градовской, погиб на фронте в 1915 37
Генриетта, сестра М. Незабудько, русская эмигрантка в Чехии, знакомая В. В. Шульгина 292
Генрих IV (1553–1610), первый французский король из династии Бурбонов (с 1589), во время Религиозных войн глава гугенотов, в 1593 перешел в католицизм 381
Георгиевский Михаил Александрович (у В. В. Шульгина ошибочно назван Троицким Михаилом Александровичем) (1888, Бежица, Орловская губ. — 1950, Москва), профессор древнееврейского и латинского яз., историк и общественно-политический деятель. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1913), преподаватель-доцент того же университета (1913–1917), доцент Варшавского университета (1918–1919), переведенного в 1915 в Ростов-на-Дону, в конце 1919 эмигрировал в Югославию. Профессор древнееврейского языка богословского факультета Белградского университета (1920–1929), преподаватель латинского и русского яз., философии и истории в 1-й русско-сербской гимназии (1920–1929). Член-основатель Русского археологического общества в Югославии (1921), член Русского научного общества в Белграде (1928), исследователь памятников ассирийского законодательства, пионер в исследовании так наз. «Винчанского письма». В начале 1931 вступил в русский Союз национальной молодежи, преобразованный затем в Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП), один из идеологов этого движения и секретарь его Исполнительного бюро, автор Программы (1933) и Устава (1935) движения. После нападения Германии на СССР вышел из состава этого движения. В октябре 1944 был арестован в Земуне органами СМЕРШ 2-го Украинского 439, 440, 465, 605, 606
Герасимов, подполковник НКВД, следователь на Лубянке во 2-й половине 1940-х годов 460–465
Гинзбург Абрам Моисеевич (1878–1937), Деятель российского социал-демократического движения, экономист. Социал-демократ с 1896, после II съезда РСДРП (1903) меньшевик. После Февральской революции 1917 член Киевского комитета РСДРП, в 1917–1919 зам. киевского городского головы. В 1919–1920 работал в кооперативном движении. В начале 1920-х вышел из РСДРП. С 1921 г. на хозяйственной и преподавательской работе, профессор Института Народного хозяйства им. Плеханова, консультант ВСНХ СССР. В 1930 арестован, в 1931 осужден по делу т. н. «Союзного бюро ЦК РСДРП(м)» к 10 годам лишения свободы. В 1937 расстрелян 143, 172, 183, 586
Гитлер (Hitler) Адольф (1889–1945), глава фашистской Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), глава (рейхсканцлер) германского фашистского правительства (с января 1933) и после смерти президента Германии Гинденбурга (30.08.1934) взял на себя функции президента, присвоив себе титул фюрера — верховного вождя «третьего рейха» 439, 445, 465, 549, 550, 554–556, 558
Глинка Владислав Михайлович (1903–1983), научный сотрудник Гос. Эрмитажа, писатель 578
Говорухо-Отрок Софья Абрамовна (1902–1990), урожд. Драгомирова, жена бывшего офицера Говорухо-Отрока 406
Говорухо-Отрок, офицер, белоэмигрант, жил в Париже 406
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), русский писатель 32, 408, 461, 597
Гокье, дипломат, французский представитель при ген. А. И. Деникине в Екатеринодаре в 1918 году 210–213
Голембиовский, киевский владелец булочной 179
Головин Александр Васильевич (1821–1886), камергер, тайный советник, в 1861–1866 министр народного просвещения 34
Голубовский Всеволод Александрович, украинский политический деятель (эсер), после 1921 советский служащий 594
Гольденберг Владимир, юрист, друг и соученик В. В. Шульгина по гимназии и университету. Эмигрировал в Германию, жил в Берлине 27, 28, 46, 48, 262, 448–452
Гольденберг Елизавета Давыдовна, мать Владимира Гольденберга 27
Гольденберг, жена Владимира Гольденберга 27, 28
Гольденберг, управляющий киевского сахарозаводчика Л. И. Бродского 27
Гольденберги, семья 449
Гольденвейзер Алексей Александрович (1890–1955), юрист, литератор, журналист. В 1912 г. закончил юридический факультет Киевского университета. С 1921 г. в эмиграции в Германии. Член исполкома Союза русских евреев, правления Союза русской присяжной адвокатуры в Германии. После прихода в Германии к власти нацистов переехал в США. Автор книг: «Киевские воспоминания» (1921); «Я. Л. Тейтель (1850–1935)» (1944); «В защиту права» (1944) 594
Гомер 26
Гончаров Иван Андреевич (1812–1891), русский писатель, автор ряда романов, отражавших состояние и настроения русского общества в 1840–1860-х гг. Путевые очерки «Фрегат Паллада» впервые изданы в 1855–1857 гг. 35, 341
Гончарова Наталья Николаевна, жена А. С. Пушкина 429
Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917), русский государственный деятель, министр внутренних дел (1895–1899), председатель Совета министров (апрель-июль 1906 и 1914–1916) 330
Горький Максим (настоящие имя и фамилия — Алексей Максимович
Пешков) (1868–1936), русский советский писатель и общественный деятель, основоположник литературы социалистического реализма 362, 581
Гофман, хозяин пансиона в Биркенвердере под Берлином 300, 301
Гофман, сын хозяина пансиона 302
Гоце, см.
Гучетич
Гошкевич Виктор, отец Е. В. Сухомлиновой 35
Гошкевич Екатерина Викторовна, см. Сухомлинова Екатерина Викторовна
Гошкевич, мать Е. В. Сухомлиновой 35
Гошкевичи, дворянский род шляхетского происхождения, записанный в 1 часть родословных книг Виленской, Подольской и Херсонской губ. 35
Градовская Евгения Константиновна, урожд. Попова, мать Е. Г. Шульгиной 18, 37, 38, 40, 43, 44, 51, 56, 58
Градовская Екатерина Григорьевна, см.
Шульгина Екатерина Григорьевна
Градовская Наталия Владимировна (1874–1965), урожд. Мазюкевич, жена В. Г. Градовского 57, 59, 578
Градовская Ольга Витальевна (1907–1990), двоюродная племянница В. В. Шульгина, дочь В. Г. Градовского, в 1-м браке за Курдюмовым, во 2-м — за Н. Д. Дьяковым 59, 570, 571, 576–579
Градовская Ольга Николаевна, см.
Гелиотовская Ольга Николаевна
Градовская Софья Григорьевна, см.
Смаковская Софья Григорьевна
Градовская, жена С. Г. Градовского 55
Градовская, урожд. Ангелова, жена херсонского помещика К. Градовского, бабушка Е. Г. Шульгиной 51
Градовские, три старинных дворянских рода литовско-русского происхождения; род писателя Григория Константиновича Градовского, отца Е. Г. Шульгиной, внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Херсонской губернии 35, 37, 38
Градовский Вадим Витальевич, сын В. Г. Градовского 59, 577, 578
Градовский Виталий Григорьевич (1876–1932), брат Е. Г. Шульгиной, податной инспектор 37, 43, 56–59, 224, 514, 577
Градовский Григорий Константинович (1842–1915), известный писатель и журналист последней трети XIX в., отец Е. Г. Шульгиной 37, 38, 50, 52, 55, 59, 382, 576, 577
Градовский Константин, херсонский помещик, дед Е. Г. Шульгиной
Градовский Николай Константинович, дядя Е. Г. Шульгиной, херсонский помещик, владелец имения Макаровка 37
Градовский Сергей Григорьевич, статский советник, непременный член Полтавского отделения крестьянского поземельного банка (1916), брат Е. Г. Шульгиной 37, 43, 55–58
Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (у Шульгина, ошибочно, — Алексей Александрович) Гришин-Алмазов (наст. фам. Гришин; 1887–1919) — полковник (1917). Руководитель сети подпольных антибольшевистских организаций в Сибири (псевдоним — Алмазов). Накануне подхода чехословацких войск к Новониколаевску в ночь на 27 мая поднял восстание и захватил город. Военный министр Западно-Сибирского комиссариата. После образования в Омске Временного Сибирского правительства — командующий Сибирской армией (июнь — октябрь 1918), произведен в генерал-майоры. Из-за разногласий с миссиями союзников покинул Сибирь и выехал к А. И. Деникину. Был послан на Ясское совещание для информации о положении в Сибири. Командующий войсками Добровольческой армии в районе Одессы и военный губернатор г. Одесса (с 18 ноября) 86, 212, 217–222, 226–234, 237–241, 264, 277, 338, 596, 597, 599
Гронский Павел Павлович (1883–1937), общественно-политический деятель, правовед, историк, прозаик, член ЦК партии кадетов, член 4-й Государственной Думы, товарищ министра внутренних дел в правительстве ген. А. И. Деникина. В эмиграции во Франции (Париж) 582
Грушевский (Грушевський) Михаил Сергеевич (1866–1934), украинский историк и политический деятель. Возглавлял кафедру истории Восточной Европы при Львовском университете. Председатель Украинского научного общества. Основной научный труд — 10-томная «История Украины-Руси». После Февральской революции входил в руководство украинских социалистов-революционеров. В 1917–1918 председатель Центральной Рады. В 1919 эмигрировал. В 1924 по разрешению Всеукраинского ЦИК вернулся в УССР, возглавил историческое отделение Украинской Академии наук. С 1924 — член АН Украины, с 1929 — академик АН СССР 145, 147, 181, 188
Грушевский Сергей Григорьевич (1893—?), гласный киевской городской думы, профессорский стипендиат по кафедре русской истории Киевского университета (1917). С 24.09/07.10.1917 товарищ председателя Киевского клуба прогрессивных русских националистов 145, 539, 586,587
Грушевский Сергей, отец М. С. Грушевского 181
Гукасов Аршак Осипович, крупный бакинский нефтепромышленник, стоял во главе правлений ряда крупных нефтепромышленных обществ и товариществ, после большевистского переворота 1917 эмигрировал во Францию; издатель газеты «Возрождение» в Париже 113, 385, 581
Гуковский Александр Исаевич (1865–1925), юрист, публицист, эсер, член правительства Северной области (1918–1919), в эмиграции в Париже, соредактор журнала «Современные записки» (1920–1925), покончил жизнь самоубийством 597
Гуниа Евгения Константиновна, урожд. Смаковская, жена Гуниа 58, 59
Гуниа, венгр, офицер русской армии во время Гражданской войны 59
Гурджиев Георгий Иванович (1877–1949), психолог и мистический философ; в период 1896–1922 в качестве странника посетил многие страны Азии и Европы. Его психологические воззрения восходят к христианским, исламским и буддийским эзотерическим источникам и к монашеским, дервишским и йогическим практикам. С 1922 жил во Франции, где организовал под Парижем «Институт гармонического развития человека» 271, 326
Гурлянд Илья (Илия-Максимилиан) Яковлевич (1868 — не ранее 1921), прозаик, драматург, критик, публицист, историк. Писал под псевдонимом Григорий Г., действительный статский советник, один из ближайших сотрудников П. А. Столыпина, член Совета министра внутренних дел (1907–1917) 588
Гучетич (итал.
Гоце), последний представитель одной из древних дубровчанских аристократических фамилий 416, 417
Гучков Александр Иванович (1862–1936), председатель III Государственной Думы, октябрист, член Государственного Совета по выборам (с 1915), в марте-апреле 1917 военный и морской министр 1-го Временного правительства 12, 138, 338, 462, 584
Гюго (Hugo) Виктор Мари (1802–1885), французский писатель 29, 454
Д‘Ансельм Филипп, французский генерал, в 1919 командующий войсками Антанты в Одессе 227, 239, 597–599
Данилевская Дарья Васильевна, бабушка Л. А. Поповой 60
Данилевская Дарья Васильевна, см. Попова Любовь Антоновна
Данилевская Каролина Михайловна («тетя Карольца»), сестра П. М. Поповой, бабушки В. В. Шульгина 58
Данилевская Полина Михайловна, см.
Попова Полина Михайловна
Данте Алигьери (Dante Alighieri) (1265–1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка 426, 493
Датько-Фельдман Александр (?—1919), одесский анархист, был назначен комиссаром в полк М. Я. Винницкого (Мишки-Япончика). Застрелен в Одессе 3 (16) октября 1919 648
Демидов Игорь Платонович (1873–1946), помещик, член IV Государственной Думы, кадет. До начала 1919 один из руководителей киевской организации Национального центра. Сотрудник «Азбуки» (псевдоним «Буки», «Покой»). Впоследствии в эмиграции 191, 198, 200
Демосфен (ок.384–322), афинский оратор, вождь демократической антимакедонской группировки 45
Демченко Всеволод Яковлевич (1875–1933), помещик, крупный домовладелец, предприниматель, инженер путей сообщения. Гласный Киевской городской думы, председатель Киевской земской уездной управы. Член IV Государственной Думы, националист, затем прогрессивный националист. В 1918 — видный деятель режима П. П. Скоропадского. В эмиграции в Италии 32, 141, 213, 213, 216
Демченко, профессор гражданского права киевского университета Св. Владимира в конце XIX — начале XX в. 45, 46
Демченко, урожд. Штраус, жена В. Я. Демченко 32
Деникин Антон Иванович (1872–1947), генерал-лейтенант (1916), один из главных руководителей борьбы Белого движения с большевиками, в апреле 1918 — январе 1919 возглавлял Добровольческую армию, в январе 1919 — марте 1920 Главнокомандующий Вооруженными Силами Юга России. После поражения Белой армии и эвакуации ее из Новороссийска в Крым передал командование генералу П. Н. Врангелю 122, 123, 147, 169, 193, 202, 203, 205–207, 212, 218, 219, 225, 228, 229, 238, 239, 241, 248–250, 252, 542, 587, 595, 596, 598–601
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), советский государственный и партийный деятель. Из мелкопоместных польских дворян. Один из организаторов Октябрьского переворота в 1917. Создатель советских органов государственной безопасности, отличавшихся крайней жестокостью в борьбе за утверждение власти большевиков в Советской России и СССР 360–363, 376
Дивнич Евгений Иванович (1907—?), сын русского офицера, окончил русский кадетский корпус в Югославии, один из создателей Национально-трудового союза, в 1934–1940 председатель его правления. В 1944 арестован в Югославии органами СМЕРШ, осужден на 25 лет, амнистирован в 1956 437, 438, 440, 605
Дивнич, урожд. Дурново, первая жена Е. Н. Дивнича 437
Добровольская Ирина Николаевна, дочь тайного советника, егермейстера, сенатора Н. А. Добровольского 469
Добровольский, лодочник 195
Доброглав, чех по национальности, мелкий землевладелец на Волыни, депутат III Государственной Думы от Волынской губернии 298
Добрый А. Ю., банкир 594
Долгорукий Юрий (90-е XI в. — 1157), древнерусский князь, считается основателем Москвы 502
Долгоруков Александр Николаевич (1872–1948), князь, генерал-лейтенант, начальник штаба у гетмана Украины П. П. Скоропадского 117, 223
Долгоруков Михаил Петрович (1907–1993), сын кн. П. Д. Долгорукова 506
Долгоруков Павел Дмитриевич, князь, брат Петра Дмитриевича Долгорукова 502
Долгоруков Петр Дмитриевич (1866–1951), князь, политический деятель. Окончил историко-филологический факультет Московского университета, участник Боденского съезда (1903) по созданию Союза Освобождения, один из основателей Конституционно-демократической партии, член I Государственной Думы от Курской губернии, в которой был товарищем ее председателя. В эмиграции в Чехословакии, в 1945 арестован органами СМЕРШ и депортирован в Москву. Осужден 10.07.1946 ОСО при МВД СССР по статье 58–4, 58–11 на 5 лет тюремного заключения. Во Владимирской тюрьме с 14.09.1946, скончался 10.09.1951 501-507
Домбровская Мария Николаевна, см.
Петипа Мария Николаевна
Домбровская, жена писателя Ю. О. Домбровского 340
Домбровский Борис Витальевич (?—1931), адвокат, присяжный поверенный, в Гражданскую войну — поручик в Вооруженных силах Юга России. В эмиграции во Франции 338–340, 603
Домбровский Юрий Осипович (1909–1978), советский писатель, учился на Высших литературных курсах. В 1932 впервые арестован и сослан в Алма-Ату, где работал научным сотрудником в музее. Впоследствии трижды арестовывался, отбывал наказания на Колыме и Крайнем Севере. С конца 1950-х годов жил в Москве. Широко известны его романы «Хранитель древностей» (1964) и «Факультет ненужных вещей» (1978) 340
Доре (Dore) Гюстав (1832–1883), французский график, иллюстрации к «Дон Кихоту», Библии 257
Дорошенко Д.И., автор воспоминаний «Война и революция на Украине», опубликованных в сборнике «Революция на Украине по мемуарам белых» (М.; Л., 1930) 592
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), русский писатель, член-корр. Петербургской Академии наук (1877) 103, 288, 503
Драга (Драга Луньевица) (1867–1903), королева сербская, жена (с 1900) короля Александра Обреновича, в 1-м браке за сербским полковником Машиным 425
Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955), генерал от кавалерии, сын генерала от инфантерии Михаила Ивановича Драгомирова, окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1893). В 1917 командовал 5-й армией, Северным фронтом. В Киеве поддерживал внепартийный блок русских избирателей, который выдвигал его кандидатуру на выборах в Учредительное собрание. Один из создателей организации «Азбука». С конца 1917 — на Дону. С августа 1918 — помощник верховного руководителя Добровольческой армии (фактически замещал на этой должности М. В. Алексеева ввиду его болезни), председатель Особого совещания при А. И. Деникине. В 1919 выехал за границу со специальной миссией. По возвращении — главнокомандующий группой войск в районе Киева и главноначальствующий Киевской области. В марте 1920 — председатель Военного Совета, собранного по приказу ген. А. И. Деникина в Севастополе с целью избрания его преемника (ген. П. Н. Врангеля). В эмиграции проживал сначала в Сербии, затем в Париже. Активный деятель Русского Общевоинского союза, председатель Общества офицеров Генерального штаба 170, 199, 206, 207, 209, 212, 228, 237, 251, 253, 254, 258–260, 266, 587, 590, 593, 596, 601
Драгомиров Владимир Михайлович (1867–1928), сын Михаила Ивановича Драгомирова, генерал, офицер Генерального штаба, умер в эмиграции в Югославии 593
Драгомиров Михаил Иванович (1830–1905), русский военный теоретик и педагог, генерал от инфантерии (1891), участник русско-турецкой войны 1877–1878 (командовал дивизией), начальник Академии Генерального Штаба (1878–1879), командующий войсками Киевского военного округа (с 1889), член Государственного Совета (с 1903) 299, 593
Драгомирова Екатерина Михайловна, см. Гейден Екатерина Михайловна, графиня
Драгомирова Софья Михайловна, см. Лукомская Софья Михайловна
Драгомирова, см.
Говорухо-Отрок
Драгомировы, семья 177
Дрейфус Альфред (1859–1935), офицер французского Генерального штаба, еврей, в 1894 по сфабрикованному делу был обвинен в шпионаже в пользу Германии, в 1906 оправдан 535
Дризен, барон, служащий банка «Лионский кредит» 389–391
Дризен, баронесса, урожд. графина д’Аге, жена барона Дризена 389–391
Дроздовский Михаил Гордеевич (1881–1919), окончил Владимирский кадетский корпус (1899), Павловское военное училище (1901), Академию Генерального штаба (1908). Полковник, командующий 14-й пехотной дивизии (1917). В декабре 1917 в Яссах и Одессе начал формировать 1-ю бригаду русских добровольцев (800 бойцов), во главе которой в марте 1918 выступил на Дон. 25 апреля (8 мая) его отряд, выросший до 3 тыс. человек, занял Новочеркасск, затем дроздовцы соединились с Добровольческой армией. Начальник 3-й пехотной дивизии, генерал-майор. В бою получил тяжелое ранение, перенес ампутацию ноги. Умер 4(17) января. 2-й Офицерский стрелковый полк был переименован во 2-й Офицерский стрелковый генерала Дроздовского полк. Газета В. В. Шульгина отозвалась на смерть М. Г. Дроздовского некрологом: Россия (Одесса). 1919. 16 (29) января 188, 237
Дубин, сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 482–484
Дурново, см.
Дивнич
Дуров Владимир Леонидович (1863–1934), артист цирка, дрессировщик 522
Дуся, цыганка из «Аполло» 101–107
Духонин Николай Николаевич (1876–1917), русский военный деятель, генерал-лейтенант (1917), окончил Академию Генерального Штаба (1902). С началом 1-й мировой войны на Юго-Западном фронте, генерал-квартирмейстер штаба фронта (1916), начальник штаба Юго-Западного (май — нач. августа 1917), Западного фронта (август — сентябрь 1917), начальник штаба Верховного главнокомандующего (10.09–01.11.1917), и.д. Верховного главнокомандующего (01–19.11.1917) 174, 592
Душечкин, киевский владелец булочной 179
Дыховичный Николай Лазаревич, русский белоэмигрант в Югославии, свидетель («поручитель») В. В. Шульгина при его венчании с М. Д. Седельниковой 350, 604
Дьяков Николай Дмитриевич (род. 1929), второй муж О. В. Градовской 577, 578
Дюбюсси, французская знакомая В.В. и М. Д. Шульгиных 345
Дюма Александр (1802–1870), французский писатель 428
Евлогий (Георгиевский Василий Семенович) (1866–1946), с мая 1914 архиепископ Волынский и Житомирский, в эмиграции в Югославии, митрополит Русской зарубежной церкви 349, 590
Егоров, командарм 592
Ежов А., псевдоним Е. Г. Шульгиной
Екатерина II Алексеевна (1729–1796), императрица Всероссийская с 1762, урожд. принцесса Анхальт-Цербстская, с 1744 жена вел. князя Петра Федоровича (императора Петра III в 1761–1762) 17, 146, 544, 552
Елена Владимировна, вел. княгиня (1882–1957), дочь вел. князя Владимира Александровича от брака с герцогинею Марией Мекленбург-Шверинской (вел. княгинею Марией Павловной). Была женою (1902) принца Николая Греческого (1872–1938) 415
Елена Петровна (1884–1962), княгиня императорской крови, урожд. княжна Карагеоргиевич, с 1902 принцесса Сербская, жена (с 1911) князя императорской крови Иоанна Константиновича (1886–1918), сестра югославского короля Александра I Карагеоргиевича 108, 425
Елизавета Маврикиевна (1865–1927), великая княгиня, урожд. принцесса Саксен-Альтенбургская, жена великого князя Константина Константиновича 108
Елизавета Петровна (1709–1761), российская императрица 589
Елце, содержательница винной лавки под Дубровником 420
Ефимов — Акционерное общество «Ефимов Валентин» шоколада и конфет Демиевской паровой фабрики, основанное в 1897 в с. Демиевка Киевского уезда 97
Ефимовская Зоя Григорьевна, урожд. Ушакова (1898–1984), дочь священника, жена прапорщика Е. А. Ефимовского 202, 303, 304, 333, 334, 344, 382
Ефимовский Евгений Амвросиевич (1885–1964), историк, адвокат, окончил юридический и историко-филологический факультеты Московского университета. Во время 1-й мировой войны окончил Александровское военное училище (1916), воевал на Румынском фронте (1917). Кадет, в 1918 протестовал против прогерманской ориентации киевской организации партии. Входил в организацию «Национального центра» в Киеве. С весны 1918 председатель Главного совета Русского союза на Украине. Член «Азбуки» с 1 мая 1918, курьер. В конце 1918 — начале 1919 редактор одесских изданий В. В. Шульгина «Россия», «Южная Русь». В эмиграции (сначала в Германии, затем во Франции) занял крайне монархические позиции, в 1922 руководитель группы монархистов-конституционалистов. Автор воспоминаний «В русском Киеве в 1918 году: Отрезок времени» (Возрождение. Париж, 1958. № 78. С. 129–137). В эмиграции сначала в Германии, затем во Франции 201, 202, 303, 304, 333, 334, 344, 382, 597
Ефремов Сергей Александрович (1876–1939), украинский политический и общественный деятель, публицист 547
Ещенко, киевская певица, жена В. Вондрака 295
Жаров, руководитель казачьего хора в эмиграции 113
Живоглядов Антон Иванович, статский советник, в 1890-х годах киевский полицмейстер 47
Живоглядов, сын киевского полицеймейстера, студент киевского университета Св. Владимира в начале 1900-х гг. 47
Жорес Жан (1859–1914), французский общественный деятель, руководитель Социалистической партии, антимилитарист. Убит французским шовинистом в канун Первой мировой войны 319
Жуков Дмитрий Анатольевич (род. 1930), русский советский писатель, публицист, литературовед, автор серии «Русские биографии» 587
Жуковский Василий Андреевич (1783–1852), русский поэт 26
Жуковский Николай Егорович (1847–1921), русский ученый, основоположник современной аэродинамики, труды по теории авиации 31
Жюль Верн, см.
Верн Жюль
Забугин Николай Платонович, действительный статский советник, управляющий киевским (губернии Киевская, Подольская, Волынская) отделением Государственного дворянского земельного банка 57
Забугин Платон Николаевич, сын управляющего киевским отделением Государственного дворянского земельного банка, приятель молодых Градовских 57
Завадский Сергей Владиславович (1871–1935), автор воспоминаний «На великом изломе. Отчет гражданина о пережитом в 1916–17 годах» (Архив русской революции. Берлин. 1923. Вып. 8) 678
Заев Алексей Николаевич (1881–1966), окончил Морской корпус (1902), служил на кораблях Черноморского флота, капитан 1 ранга (1917), начальник Волжской флотилии, контр-адмирал (1919), участник операции по высадке десанта на Кубани (1920). В ноябре 1920 ушел с флотом в Бизерту (Тунис). В эмиграции в США, долгие годы был председателем Общества офицеров Императорского флота 599
Замысловский Георгий Георгиевич, член III и IV Государственной Думы, черносотенец, участвовал в расследовании дела Бейлиса, добивался обвинительного приговора 536–538
Зарудная (Зарудная-Иванова) Варвара Михайловна (1857–1939), певица (сопрано) и педагог. Пению обучалась в музыкальном училище РМО в Харькове; окончила Петербургскую консерваторию (1882). Бывала на музыкальных собраниях в домах Н. А. Римского-Корсакова, В. В. Стасова, А. П. Бородина, Ц. А. Кюи. Подлинно творческое сотрудничество объединило Зарудную и композитора М. М. Ипполитова-Иванова (с 1883 — муж В. М. Зарудной), вместе с ним организовала в Тифлисе музыкальное училище (1883). В 1883–1893 пела на сцене Оперного театра в Тифлисе. Обладала голосом теплого, мягкого тембра, исключительной музыкальностью, тонким вкусом. В 1893–1924 — профессор Московской консерватории, участвовала в создании Оперной студии консерватории 346
Заславский Давид Иосифович (1880–1965), фельетонист и очеркист газеты «Правда», член КПСС, автор книги «Рыцарь черной сотни В. В. Шульгин» (Л., 1925) и совместно с В. А. Канторовичем — книги «Хроника Февральской революции» (Пг., 1924) 135, 138, 583, 594
Зина, см.
Седельникова Зинаида Ивановна
Злотницкие, польский дворянский род 513
Знаменский Олег Николаевич (1927–1993), выпускник ЛГУ, историк, заведующий отделом Ленинградского отделения Института истории АН СССР 584
Значковская, урожд. Лермонтова, жена И. И. Значковского 399, 400
Значковский Игорь Иванович (1896–1980), ротмистр 7-го Белорусского гусарского полка, участник 1-й мировой и Гражданской войн, близкий друг семьи генерала Д. М. Седельникова. В эмиграции во Франции, впоследствии священник, настоятель православной церкви в г. Бари (Италия) 382, 391, 395, 399, 417
Значковский Олег Иванович (1898–1982), офицер, участник 1-й мировой и Гражданской войн, друг семьи генерала Д. М. Седельникова, в эмиграции во Франции 382, 387, 391, 395, 399, 417
Зогу (
Zogu) Ахмет (1895–1961), албанский король (1928–1939), бывший полковник австро-венгерской армии 580
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958), русский советский писатель, в своих сатирических произведениях разоблачал психологию мещанства 291
Зубарева Екатерина Федоровна, соседка В. В. Шульгина во Владимире 568, 570
Зудерман (Sudermann) Герман (1857–1928), писатель, представитель натуралистического течения в немецкой литературе, антибуржуазная драма «Родина» написана в 1893 39
Зюль (Зикока), гувернантка 251, 260, 261, 514
Иван Иванович, шеф-повар в имении Шульгиных-Пихно Агатовка 83, 84
Иван Калита, князь московский (1325–1340) и владимирский (1328–1340) 505
Иванов Александр Андреевич (1806–1858), русский живописец 472
Иванов Андрей Васильевич (1888–1927), революционер, большевик, в августе 1917 избран гласным Киевской городской думы, один из руководителей Январского 1918 восстания, затем на государственной службе 586
Иванов ПА., жандармский подполковник, участник расследования по делу Бейлиса 537
Иванов, арестант в Кременчуге 457
Иванова Светлана Федоровна (род. 1964), санкт-петербургский историки психолог, занимается изучением истории российского масонства 589
Ивков Петр Петрович, ротмистр (в 1910 подполковник) 11-го уланского Чугуевского Ее Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка (г. Дубно Волынской губ.) 82–84
д’Иври (d’lvry), виконт, второй муж Т. Я. Ратмировой (Бойчевской) 373, 374
д’Иври (d’lvry) Татьяна Яковлевна, виконтесса, урожд. Ратмирова, в первом браке за адвокатом Бойчевским 370–374
д’Иври (d’lvry), граф, отец виконта 373, 374
Игнатюк, крестьянин, депутат Государственной Думы от Волынской губернии 70
Игорь Константинович (1894–1918), князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича 107–109
Илиодор (Труфанов), иеромонах, член «Союза русского народа» 526
Ильин Иван Александрович (1882–1954), русский религиозный философ, представитель неогегельянства. В 1922 был выслан на Запад, жил и работал в Германии, затем в Швейцарии 304
Иконников B. C., профессор 17
Индржижка, чех, владелец магазина музыкальных инструментов в Киеве 105
Иоанн Константинович (1886–1918), князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича, штабс-капитан, флигель-адъютант, поддьякон русской православной церкви 108, 425
Иоанн, сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 473, 476–478
Иозефи Владимир Германович (18737—1920), гласный Киевский городской думы, возглавлял городской дровяной отдел. Кандидат Внепартийного блока русских избирателей на выборах в Учредительное собрание. Издатель ряда газет, редактировавшихся В. В. Шульгиным. Член организации «Азбука». Был арестован одесской ЧК, умер от тифа 198, 206, 207, 222, 251, 255, 261, 264, 365, 594, 597
Иозефи N. Владимирович, сын В. Г. Иозефи, участник Гражданской войны, в 1919 находился в числе лиц, состоявших при генерале А. А. Гришине-Алмазове 238
Ипполитов-Иванов (наст. фам. Иванов) Михаил Михайлович (1859–1935), русский композитор и дирижер, народный артист Республики (1922). С 1899 дирижер Московской частной оперы, с 1925 Большого театра. Профессор (с 1893), ректор (1905–1922) Московской консерватории. Оперы «Ася» (1900), «Измена» (1910), «Оле из Нордланда» (1916) и др. музыкальные произведения 346
Ирина Александровна (1895–1970), княжна императорской крови, дочь великого князя Александра Михайловича и жена князя Ф. Ф. Юсупова графа Сумарокова-Эльстон 116
«Ирина», см.
Полесская Надежда Аркадьевна
Казем-Бек Александр Львович (1902–1977), из дворян Казанской губ., участник Гражданской войны, в эмиграции во Франции и США, лидер движения «младороссов», сторонников великого князя Кирилла Владимировича, в 1956 реэмигрировал в СССР 113
Калабухов Алексей Иванович (ок.1880–1919), казак Кубанского казачьего войска, окончил Ставропольскую духовную семинарию, приходской священник, в 1918 член Кубанского областного правительства по внутренним делам, за ведение сепаратистской политики за спиною белых был выдан Кубанской радой генералу В. Л. Покровскому и повешен по приговору военно-полевого суда 596
Каледин Алексей Максимович (1861–1918), генерал от кавалерии (1916), Донской атаман (1917–1918), не видя возможности продолжения борьбы с наступавшими большевиками, сложил с себя 29.01.1918 полномочия атамана и в тот же день покончил с собою 591
Калисман Елена («Лёля»), киевская знакомая юных лет В. В. Шульгина 27
Калисман Людмила («Людя»), сестра Е. Калисман 27
Калишевский Яков Степанович (1856–1923), композитор, украинский хоровой дирижер. В 1919 один из руководителей Хоровой капеллы им. Н. В. Лысенко 224
Каменская (Каминская) Мария Дмитриевна (1889–1986), урожд. Билимович, жена В. Ц. Каменского и сестра Александра и Антона Дмитриевичей Билимовичей, в эмиграции после 2-й мировой войны в США 87, 357, 358, 368, 433
Каменский (Каминский) Вацлав Цезаревич (?—1968), муж М. Д. Билимович, свойственник В. В. Шульгина и арендатор его владений в Польше близ Ровно в 1921–1939 87, 338, 357, 358, 368, 388, 389, 402, 433, 434
Каменский (Каминский) Олесь («Олесенька») Вацлавович, сын Вацлава Цезаревича Каменского 87
Каменский Василий Васильевич (1884–1961), поэт-футурист 581
Каминьский, агент «Треста» в Варшаве 360
Камский, актер елизаветградского театра 41
Кандауров Артемий Дмитриевич (1899–1967), офицер л.-гв. Петроградского полка 3-й гвардейской пехотной дивизии (так называемая «Варшавская гвардия»). В эмиграции во Франции, служил во французской армии (лейтенант), масон 346–348
Кандауров Дмитрий Дмитриевич, в 1900–1903 коллежский секретарь, Ромненский уездный исправник Полтавской губ., в 1905 титулярный советник и полицмейстер Пензы, в дальнейшем не служил, отец АД. Кандаурова 347
Кандаурова Неонила, первая жена А. Д. Кандаурова 347, 348, 373, 387
Кандаурова, урожд. Верстрат, дочь французского дипломата и банкира Мориса Верстрата, вторая жена АД. Кандаурова 347
Кандауровы, русский дворянский род, внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Курской, Полтавской, Рязанской и Тульской губерний 347
Канневельский, херсонский помещик 39, 40
Кантакузен, княжна Мария Григорьевна, см. Балашова Мария Григорьевна
Канторович Владимир Абрамович, журналист, совместно с Д. О. Заславским написал книгу «Хроника Февральской революции» (Пг., 1924) 135, 138, 583
Карагеоргиевичи, княжеская в 1808–1813, 1842–1858 и королевская в 1903–1918 династия в Сербии, в 1918–1929 в Королевстве сербов, хорватов и словенцев и в 1929–1945 (фактически до 1941) в Югославии 425
Карагеоргий (настоящее имя и фамилия Георгий Петрович) (1768–1817), руководитель Первого сербского восстания 1804–1813 против турецкого ига, основатель династии (1808) Карагеоргиевичей 425
Каракозов, журналист, помощник В. В. Шульгина по изданию газеты «Россия» (1918–1919) 210
Каракозова Софья, дочь журналиста Каракозова 210, 211
Каракозова, жена журналиста Каракозова 211
Кареев Николай Иванович (1850–1931), русский историк, член-корреспондент Петербургской Академии наук (с 1910), почетный член Академии наук СССР. Труды по аграрной истории Франции 2-й половины XVIII в., истории Великой французской революции; курс по новой истории Западной Европы 155, 588
Карл Великий (742–814), франкский король с 768, из династии Каролингов, с 800 император 381
Карсунский Владимир Николаевич, коллежский советник, учитель математики во 2-й киевской мужской гимназии в конце 1880-х — начале 1890-х 25
Карташев, бывший адвокат, сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 493
Качаки Иоанн Николаевич (род. 1939), врач, доктор медицинских наук, специалист по медицинской микробиологии и иммунологии. Родился в Белграде (Югославия) в семье потомственных военных, бежавших во время исхода Белого движения из Крыма в 1920 в Турцию и затем в Югославию. Окончил медицинский факультет Белградского университета (1962), кандидатуру медицинских наук Рочестерского университета (США, 1970), докторат медицинских наук Радбоудского университета (Неймеген, Нидерланды, 1979). Помимо профессиональной работы занимается историей русской эмиграции в Югославии, автор многочисленных трудов на эту тему. Проживает в Зваммердаме (Нидерланды) 580, 606
Кейкулатова, княжна, см. Урусова, княгиня
Кейхель (Клименко) Ричард Ричардович (ум. 1924), полковник, участник Гражданской войны, служил в армии гетмана П. П. Скоропадского, в эмиграции в Германии, затем во Франции, скончался в Париже 254, 602
Керенский Александр Федорович (1881–1970), русский политический деятель. Адвокат, лидер фракции трудовиков в IV Государственной Думе. Во время Февральской революции член Временного комитета Гос. Думы. Во Временном правительстве: министр юстиции (март — май), военный и морской министр (май — сентябрь), с 8/21.07.1917 министр-председатель, с 30.08/12.09.1917 Верховный главнокомандующий. В эмиграции в США 130, 131, 136, 155, 156, 158–160, 260, 542, 583, 588
Кий, вместе с братьями Щеком и Хоривом легендарный основатель г. Киева и первый его правитель 167, 323,
Кин, офицер государственной безопасности СССР, проводивший первые допросы В. В. Шульгина, арестованного в декабре 1944 в Сремских Карловцах (Югославия) 361, 454, 455
Кира Кирилловна (1909–1967), княжна императорской крови, дочь великого князя Кирилла Владимировича, жена Луи Фердинанда, принца Прусского 113, 114
Киргейм, киевский немец-кондитер 97
Кириенко Иван Касианович (1888–1971), генерал Белой армии, командир 1- го запасного Георгиевского полка в Киеве в 1917 г., в эмиграции в Югославии, затем в Бельгии 593
Кирилл Владимирович (1876–1938), великий князь, в 1922 объявил себя местоблюстителем императорского престола, ас 1924 — Всероссийским императором 112, 113
Киселев Андрей Петрович (1852–1940), русский и советский педагог и ученый-математик, автор учебников по математике для средней школы 86
Киселева Елена Андреевна, см. Билимович Елена Андреевна
Кистяковский Игорь Александрович (1876–1940), брат известного философа Б. А. Кистяковского; московский юрист, специалист в области гражданского права. Окончил 2-ю киевскую гимназию (1894), юридический факультет Киевского университета (1899), преподавал в Московском университете (1903–1918), юрисконсульт ряда организаций и банков. Кадет. В 1918 бежал на Украину, входил в состав правительства П. П. Скоропадского: генеральный судья, государственный (державный) секретарь, министр внутренних дел. В эмиграции во Франции, член правления одного из банков в Париже, товарищ председателя Союза русских адвокатов за границей. Масон. Умер в Париже 201
Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.), римский император 584
Клара, владелица цветочного магазина совместно с сестрою Аннунциатой в Сан-Рафаэле 392
Клемансо (Clemenceau) Жорж (1841–1929), французский государственный деятель, премьер-министр Франции (1906–1909, 1917–1920), неоднократно министр. Один из организаторов борьбы Антанты с советской властью. Председатель Парижской мирной конференции 1919–1920 190, 193
Клепиков, сокамерник В. В. Шульгина по Владимирской тюрьме 495–497
Клименко (?—1925/1926?), бывший офицер русской императорской армии, в 1918 служил на Украине в армии гетмана П. Скоропадского. В эмиграции в Германии 299, 300, 310, 382
Клименко, мать офицера Клименко 382
Климович Евгений Константинович (1871—?), кадровый офицер, в 1898 перешел служить в Отдельный Корпус жандармов, последний директор Департамента полиции МВД (март 1916 — март 1917), сенатор (1916). В эмиграции состоял при генерале П. Н. Врангеле 306, 307, 356, 357, 360, 364, 368
Клинков Жан, разносчик газеты «Киевлянин» 56
Книппер (Книппер-Чехова) Ольга Леонардовна (1868–1959), жена писателя А. П. Чехова, русская и советская актриса, народная артистка СССР (1937). С 1898 играла в Московском Художественном театре, первая исполнительница ролей в пьесах А. П. Чехова 164, 312, 313
Коверда Борис Софронович (1908–1987), уроженец г. Вильны, служащий газеты «Белорусское слово» (Вильна). За убийство в 1927 советского полпреда в Польше Войкова осужден на бессрочные каторжные работы, замененные впоследствии на 15-летний срок, освобожден по амнистии в 1937. В 1944 переселился в Германию, с конца 1940-х проживал в США 436
Козелл-Поклевский Станислав Альфонсович, см. Поклевский-Козелл Станислав Альфонсович
Коковцов Владимир Николаевич (1853–1943), русский государственный деятель, граф (1914), помещик Новгородской губ., в 1904–1905, 1906–1914 министр финансов и в 1911–1914 одновременно председатель Совета министров 110
Колумб (лат. Columbus, итал. Colombo, исп. Colyn) Христофор (1451–1506), мореплаватель, в 1492–1493 руководил испанской экспедицией для поиска кратчайшего морского пути в Индию, во время которой открыл Америку 141
Колчак Александр Васильевич (1873–1920), вице-адмирал. Окончил Морской корпус, участвовал в ряде арктических экспедиций, участник русско-японской и 1-й мировой войны, командующий Черноморским флотом (1916–1917). Участник Гражданской войны, военный и морской министр в правительстве Уфимской Директории (октябрь — ноябрь 1918), после переворота 18.11.1918 в Омске — Верховный правитель и Верховный Главнокомандующий всеми русскими армиями. Признан в этом качестве генералами Деникиным, Юденичем и Миллером. 15.01.1920 выдан чешскими войсками эсеро-меньшевистскому Политическому центру, который передал его Иркутскому Военно-революционному комитету, по решению которого был расстрелян 7.02.1920 169, 226, 237–239, 247, 599
Колчины, дочери Родиона Родионовича Колчина, в 1920-х гг. преподавателя русской гимназии в Сремских Карловцах (Югославия): Наталия Родионовна (1897–1970, Белград), в замужестве Волкова; Евгения Родионовна (1899–1983, Си Клиф близ Нью-Йорка), учительница в Белграде; Людмила Родионовна (1907–1973, Киев), архитектор, в замужестве Крат; Ирина Родионовна (1909–1989, США), врач, в замужестве Милитонова; Анна Родионовна (1911–1983, Нью-Йорк), в
замужестве Лобан. Три последние сестры короткое время учились в католическом монастыре в Бельгии, после чего вернулись в Югославию и дольше всего жили в Сремских Карловцах 356, 382, 383
Кемеровский, ротмистр, деятель Русского Общевоинского союза 606
Компарио (Compario), семья итальянских эмигрантов 388, 389
Кондояки Надежда Ивановна, см. Скоропадская Надежда Ивановна
Коновалец Евгений Алексеевич (1891–1938), деятель украинского националистического движения 541, 542
Конради Морис (Александр Александрович) (1896 — после 1931), сын швейцарского предпринимателя в России, уроженец С.-Петербурга, учился в Петроградском технологическом институте. Участник 1-й мировой войны в рядах русской армии. Во время Гражданской войны служил в Белой армии, капитан. В эмиграции в Швейцарии. 10.05.1923 убил главу советской делегации на Лозаннской конференции В. В. Воровского, был оправдан судом присяжных во время процесса 5–16.11.1923 в Лозанне. Впоследствии служил во французском Иностранном легионе 436
Константин Константинович (1858–1915), великий князь, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, президент Академии наук (1889), почетный академик (1900), главный начальник военно-учебных заведений, поэт 107–109, 294, 425
Коншин, юнкер Елизаветградского кавалерийского училища 41
Корганов Геннадий Осипович (1858–1890), русский композитор, учился в консерваториях Лейпцигской и Петербургской, написал ряд фортепьянных пьес и романсов, в том числе романс «Серенада Дон Жуана» 95
Корецкие, княжеский род 80
Корнеев Иван Алексеевич (1902—?), историк, редактор, библиограф Госкультпросветиздата, арестован 17.4.1946 органами МГБ по обвинению в участии в антисоветской церковной организации. Особым Совещанием при МГБ СССР 30.10.1946 осужден на 7 лет, до сентября 1951 отбывал заключение во Владимирской тюрьме, затем был переведен во Внутреннюю тюрьму МГБ СССР (Москва). 17.4.1953 выбыл в распоряжение УМВД Северо-Казахстанской обл. (г. Петропавловск) с последующим направлением в ссылку на поселение по месту жительства его семьи 469, 493
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918), генерал от инфантерии. Окончил Сибирский кадетский корпус, Михайловское артиллерийское училище и Академию Генерального штаба (1898). Участник русско-японской и 1-й мировой войн. В апреле 1915 попал в плен, из которого бежал в конце 1916. После Февральской революции командовал войсками Петроградского военного округа, 8-й армией, Юго-Западным фронтом и с 19 июля по 27 августа 1917 был Верховным Главнокомандующим. Отрешен от должности Керенским, арестован и заключен в Быховскую тюрьму. 19.11.1917 бежал из тюрьмы в Новочеркасск и вместе с ген. М. В. Алексеевым создал Добровольческую армию, ее первый командующий в Кубанском (Ледяном) походе. Погиб при штурме Екатеринодара 31 марта 1918 169, 193, 237, 542, 584, 595
Коровицкий Андрей Иванович, священник, учитель закона Божьего во 2-й киевской мужской гимназии в конце 1880-х — начале 1890-х 25, 26
Корсак Вячеслав Жигмунтович, родоначальник фамилии Корсаковых 408, 605
Косолапый, сотрудник НКВД в середине 1940-х годов 447, 448
Костомаров Николай Иванович (1817–1885), русский историк и писатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1876), профессор (1859) 590
Котляревский Иван Петрович (1769–1838), украинский писатель 222, 597
Кочановский Василий, служащий в имении В. В. Шульгина Курганы 66, 67, 386
Кочубей Василий Васильевич (1892–1971), полковник Генерального штаба. Окончил Царскосельское реальное училище, Николаевское кавалерийское училище (1912), корнет Кавалергардского полка. Участник 1-й мировой войны, окончил Академию Генерального штаба (1917), старший адъютант в корпусе ген. П. П. Скоропадского (1917), уволен от службы в декабре 1917. В апреле 1918 вернулся на службу и был личным адъютантом гетмана П. П. Скоропадского до вступления немцев на Украину. В эмиграции в Германии, сотрудник журнала «Часовой», писал на военные темы 196, 594
Кочубей Василий Леонтьевич (1640–1708), представитель украинской старшины, генеральный судья. Придерживался российской ориентации, предупреждал Петра I о готовящейся измене гетмана И. С. Мазепы. Петр счел донос клеветой и выдал Кочубея Мазепе. Кочубей был казнен 196, 594
Кочубей Виктор Сергеевич (1860–1923), генерал-адъютант, генерал-лейтенант, начальник Главного управления делами Министерства Императорского Двора. В эмиграции в Германии 594
Кояндер Николай Андреевич, инженер-подпоручик, сын коллежского асессора, окончил Петроградский университет и в 1917 школу подготовки прапорщиков Инженерных войск. Участник Гражданской войны, член организации «Азбука» с 1(14).12.1917 (псевдоним «Како», помощник начальника информационного отдела) 192
Крамарж (Kramář) Карел (Карел Петрович) (1860–1937), чешский политический деятель, в конце XIX — начале XX вв. лидер младочешской партии, стремился к преобразованию Австро-Венгерской монархии в федеративное государство, глашатай панславянства и сторонник сближения с царской Россией, депутат австрийского парламента и чешского сейма. За свою антинемецкую позицию был в 1915 арестован и приговорен к смертной казни, замененной на 20-летнее тюремное заключение, летом 1917 был амнистирован. После провозглашения 14.11.1918 независимой Чехословацкой республики был первым председателем правительства (до июля 1919). Основатель и председатель государственно-правовой демократической партии. Поддерживал Белое движение в России и русских белоэмигрантов. Был женат на Надежде Николаевне Абрикосовой, урожд. Хлудовой 294, 295, 385, 602
Крамарж (Kramář) Надежда Николаевна (1862–1936), урожд. Хлудова, единственная дочь и наследница Николая Назаровича Хлудова, совладельца Кренгольмской мануфактуры. В первом браке с 1879 была за А. А. Абрикосовым, совладельцем торгового дома «Абрикосов и сыновья», после развода с ним в 1900 вышла замуж за чешского политического деятеля Карела Крамаржа. Оказывала широкую благотворительную помощь русским белоэмигрантам 294
Краснов Петр Николаевич (1869–1947), генерал-лейтенант, участник русско-японской, 1-й мировой и Гражданской войн, военный писатель, сын военного историка генерала Н. И. Краснова. По приказу А. Ф. Керенского вел наступление на Петроград, потерпел поражение и был арестован. Выехал на Дон. В 1918 был избран атаманом Войска Донского, сторонник независимого казачьего государства на Дону, придерживался прогерманской ориентации. Из-за разногласий с А. И. Деникиным и его окружением покинул пост. С 1919 в эмиграции в Германии. Автор ряда исторических романов. В 1939–1945 сотрудничал с нацистами, в 1941–1945 начальник Главного казачьего управления на территории Германии. Казнен по приговору Верховного суда СССР 205, 207
Красовский Н.А., сыщик, участник расследования по делу Бейлиса 537
Кратохвиль Эмиль Осипович, чех, инженер 297, 298
Крафт Анна Петровна, владелица шоколадной фабрики в С.-Петербурге в конце XIX — начале XX в.
Кремер Иза Яковлевна (1889–1956), эстрадная и опереточная певица, в 1912–1914 училась пению в Италии, жила в Одессе, много гастролировала по России. В 1920 эмигрировала во Францию, в последующие годы гастролировала по многим странам Европы и Америки, снималась в кино, с конца 1930-х прекращает публичные выступления, выступив лишь однажды перед главами СССР, США и Великобритании на Тегеранской конференции (1943). Последние годы жила в Аргентине 276, 277
Креннер Эрнст Максимович (1896-?), уроженец г. Любляны (Югославия), по национальности австриец, по профессии юрист, бывший представитель Германских министерств экономики и военной промышленности в Румынии; арестован 05.11.1944 по обвинению в шпионаже, осужден Особым совещанием при МГБ СССР 03.11.1948 на 25 лет тюремного заключения с конфискацией изъятых при аресте ценностей; 10/Х-55 г. Репатриирован в Германию в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28/IX-55 г. 93, 486, 525
Крестовская Мария Всеволодовна (1862–1910), русская писательница 508
Кривошеев А., автор слов одной из песен, выражавших республиканские идеалы сторонников Белого движения во время Гражданской войны 595
Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921), главноуправляющий землеустройством и земледелием (1908–1915), ближайший сотрудник П. А. Столыпина по крестьянской реформе. Член Государственного Совета, статс-секретарь. Главноуправляющий Российским обществом Красного Креста (1915–1917). Участник антибольшевистского подполья, член «Правого центра». В сентябре 1918 бежал в Киев, товарищ председателя Совета государственного объединения России. Член русской делегации на Ясском совещании. С ноября 1919 начальник управления снабжения в правительстве при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России. С июня 1920 помощник главнокомандующего Русской армией П. Н. Врангеля по гражданской части, председатель правительства Юга России. Эвакуировался из Крыма в ноябре 1920. Умер в Берлине 208
Крузе Ирина, дочь О. Н. Градовской от брака с Ф. В. Крузе 37, 38
Крузе Кира, дочь О. Н. Градовской от брака с Ф. В. Крузе 37, 38
Крузе Ольга Николаевна, см. Гелитовская Ольга Николаевна
Крузе Федор Валерьянович, полковник л. — гв. 2-го стрелкового батальона, 1-й муж О. Н. Градовской 37
Крук Мария, жена Н. Крука 151–154
Крук Назар, слуга в доме Пихно-Шульгиных 151–153
Крупенский Александр Николаевич (1886–1939), камергер, член Государственного Совета, бессарабский помещик, монархист, предводитель дворянства Бессарабской губернии. Участник 1-го Монархического съезда (был избран председателем) в Рейхенгале (Германия, 1921), председатель Высшего Монархического Совета (1925). В эмиграции во Франции 233
Крутиков, киевский владелец цирка 197
Крылов Иван Андреевич (1769–1844), русский писатель, баснописец 36, 346
Ксения Александровна (1875–1960), великая княгиня, сестра императора Николая II и жена великого князя Александра Михайловича 305
Ксюнин Алексей Иванович (1882–1938), журналист, писатель, сотрудник газет «Новое время» и «Вечернее время». По убеждениям монархист. Член Совета «Товарищество А. С. Суворина “Новое время”». Участник Белого движения на юге России, руководитель одного из лучших белых агитационных поездов, сотрудник газеты «Великая Россия». В эмиграции в Югославии (Белград), член Монархического Совета, доверенное лицо А. И. Гучкова, один из руководителей информационной сети, собиравший сведения в том числе и на территории Советской России. Покончил жизнь самоубийством, узнав, что генерал Скоблин оказался агентом НКВД 128, 595
Кузминская Татьяна Андреевна, урожд. Берс, сестра графини С. А. Толстой, жены писателя графа JI.H. Толстого 35
Кузминский Михаил, сын Т. А. Кузминской, в начале 1900-х гг. соученик В. В. Шульгина по Киевскому политехническому институту 35
Кузнецов, полковник НКВД 471, 472, 500
Кузьмин Иван Иванович, после взятия вел. князем Иваном III Новгорода был в Москве боярином (1478) 482
Кузьмин-Караваев, Дмитрий Дмитриевич (1892—?), род. в С.-Петербурге, бывший офицер русской армии, сокамерник В. В. Шульгина по Владимирской тюрьме. Согласно карточке Владимирской тюрьмы на момент ареста проживал в Хельсинки, «место работы — Зав. рестораном, б/п нац., русск. гражд. белоэмигрант. Арестован 22.04 1945. Характер преступления — помощь международной буржуазии». Осужден Особым совещанием при МВД СССР 20.10. 1945 на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, замененных в 1947 на тот же срок тюремного заключения. 14.10.1947 прибыл во Владимирскую тюрьму из Сиблага МВД. 3.06.1955 «освобожден и направлен в Ачульский дом инвалидов с. Ачул Ирбитского р-на Красноярского края под надзор органов МВД» 482, 485
Кульженко Михаил, соученик В. В. Шульгина по гимназии и друг его детских и юношеских лет. Эмигрировал во Францию, жил в Париже 27–29, 175
Кульженко, владелец типографии и писчебумажных магазинов в Киеве
Кульженко, муж оперной певицы Е. И. Мусатовой-Кульженко 175
Куприн Александр Иванович (1870–1938), русский писатель 510, 581, 603
Курбский Андрей Михайлович (1528–1583), князь, государственный деятель 581
Курдюмов Николай Андреевич (1891–1950), капитан русской армии, похоронен на кладбище «Тегель» в Берлине 577
Курдюмов, офицер русской армии, первый муж О. В. Градовской 577
Кусонский Павел Алексеевич (1880–1941). Генерал-лейтенант (1922). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1911). Участник 1-й мировой и Гражданской войны. В 1920 нач. штаба одной из армий в Крыму. После эвакуации Крыма был назначен помощником нач. штаба армии генерала Врангеля, в эмиграции в Бельгии. Погиб в немецком концлагере 283
Кутепов Александр Павлович (1882–1930), кадровый офицер, участник 1-й мировой и Гражданской войн. В Русской армии генерала П. Н. Врангеля командовал 1-й армией. В эмиграции во Франции, после смерти генерала П. Н. Врангеля возглавил РОВС. В январе 1930 был похищен в Париже советской разведкой и скончался от сердечного приступа на советском корабле по пути к Новороссийску 283, 289, 311, 328, 346, 382–385, 467, 468
Кутепов, Павел Александрович (род. 1925 в Париже), сын генерала А. П. Кутепова, инструктор при офицерских курсах в Белой Церкви (Югославия). Арестован 17.12.1944 органами Смерш, в заключении находился во Владимирской тюрьме. По распоряжению Тюремного Управления МВД СССР 28/2/2008 от 29.6.1954 выбыл 3.7.1954 во Внутреннюю тюрьму КГБ при Совете министров СССР (Москва). Дальнейшая судьба неизвестна 467, 468
Кучумов Анатолий Михайлович (1912–1993), музейный работник, главный хранитель Павловского дворца-музея (1956–1977), один из руководителей его восстановления 12, 444
Кушман, американский конструктор лодочных моторов 67
Кушнирев (Кушнерев), владелец типографии (товарищество «И. Н. Кушнеров и К°») 35, 189
Лазаревский Владимир Александрович (1897–1953), журналист, друг В. В. Шульгина, сотрудник газеты «Киевлянин», участник 1-й мировой (поручик инженерных войск) и Гражданской войн, входил в ближайшее окружение В. В. Шульгина, участник антибольшевистского подполья, член организации «Азбука» (сотрудник в Киеве). В годы Первой мировой войны поручик инженерных войск, служил в 12-й армии Северного фронта. С конца 1917 в Киеве, сотрудник «Азбуки». Упоминается в книге Шульгина «1920 год» как Владимир Александрович Л. Входил в «отряд В. В. Шульгина», участвовал в антибольшевистском подполье. Впоследствии в эмиграции. По-видимому, брат штабс-капитана Евгения Александровича Лазаревского (убит в 1923), который в годы Гражданской войны был также близок к Шульгину. Члены семьи Лазаревских активно участвовали в движении русских националистов в Киеве. В эмиграции сначала в Чехословакии, потом во Франции, окончил юридический факультет Русского университета в Праге, сотрудничал в парижской газете «Возрождение», основатель и первый редактор парижской газеты «Русская мысль» 52, 53, 202, 261–263, 271, 291, 365, 369, 383–385, 387, 399–401
Лазаревский Евгений Александрович (1898–1923), брат предыдущего, штабс-капитан, окончил киевскую Александровскую гимназию ив 1916 ускоренный курс военного времени Николаевского артиллерийского училища (Киев), после чего служил во 2-й батарее 4-го запасного артиллерийского дивизиона (Харьков). Участник 1-й мировой и Гражданской войны, входил в ближайшее окружение В. В. Шульгина. В эмиграции в Югославии 271
Лампе Алексей Александрович, фон (1885–1967), генерал-майор, окончил Академию Генерального штаба (1913), участник 1-й мировой и Гражданской войн. С апреля 1918 член «Азбуки» (шифр «Люди»). В начале эмиграции был военным представителем Русской армии в Дании, Венгрии и с 1923 в Германии. После 2-й мировой войны жил во Франции, в 1957–1967 возглавлял РОВС 11, 204, 305–307, 595
Ланжерон Александр Федорович, граф (1763–1831) — генерал от инфантерии. Служил во французской армии, после революции перешел на русскую службу. Участник русско-турецких и русско-шведской войн. Начальник Новороссийского края (1815–1822), одесский градоначальник (1815–1822). В одесском Парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко имеется «арка Ланжерона» 239
Левитский В. М., в 1919 был редактором газеты «Россия» (Ростов-на-Дону) 595
Левченко Василий, почтовый чиновник, отец киноактрисы Веры Холодной 277
Левченко, Вера Васильевна, см. Холодная Вера Васильевна
Лейхтенбергский Георгий Николаевич (1872–1929), герцог, князь Георгий Николаевич Романовский, сын князя Николая Николаевича Романовского, герцога Лейхтенбергского от морганатического брака с Надеждой Сергеевной Анненковой. Служил в л.-гв. Конном полку, полковник в отставке (1905), председатель Императорского общества ревнителей истории (1912–1917). Во время 1- й мировой войны состоял при Российском Обществе Красного Креста, затем офицер для поручений в штабе Юго-Западного фронта, в мае 1917 уволен в отставку приказом военного министра. В 1918, в Киеве, занимал крайне монархические позиции. Сторонник прогерманской ориентации, инициатор создания так называемой Южной русской армии. В эмиграции основал издательство «Медный всадник». Умер в Баварии 202, 203, 594
Лена, арестантка в Дунайфольварке 454, 455
Ленин (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924), основатель Коммунистической партии в России, организовал и осуществил большевистский переворот в Петрограде в октябре 1917, в 1917–1924 глава советского правительства 30, 134, 136, 145, 155, 181, 210, 253, 273, 295, 308, 363, 385, 464, 541, 556, 567, 583, 588, 600
Леонкавалло Роджеро (1857–1919), итальянский композитор, один из основателей оперного веризма 84
Леонтьев М. Л., один из семи гласных, выбранных от большевиков в городскую думу Киева 23.07(05.08.) 1917 586
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), русский поэт 461, 464
Лермонтова, см. Значковская
Лесков Николай Семенович (1831–1895), русский писатель 34
Лешник фон, полковник, начальник немецкой политической полиции при оккупационных войсках на Украине в 1918 193, 194
Либерман, профессор военной академии, сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 493
Лиза, горничная в петербургской квартире В. В. Шульгина 117, 118
Линицкий Леонид Леонидович (1900–1954), советский агент в Белграде, сотрудник ОГПУ 606
Линниченко Иван Андреевич (1857–1926), украинский историк, профессор Киевского и Одесского университетов 88
Липские, супружеская пара, близкая к белоэмигрантским кругам в Варшаве, связные организации «Трест» 360
Липский, деятель организации «Трест» 360, 383
Литвинов-Фалинский Владимир Петрович (1862–1929), инженер-технолог, экономист, окончил С.-Петербургский технологический институт, служил в фабричной инспекции при Департаменте торговли и мануфактуры, в отделе промышленности Министерства финансов, в 1905–1915 управляющий отделом промышленности Министерства торговли и промышленности, в годы войны с Германией член эвакуационной комиссии. Эмигрировал в Великобританию, преподавал в Русском народном университете в Лондоне, участвовал в различных объединениях русских эмигрантов 120, 121
Лихотинский, учитель латинского языка во 2-й киевской мужской гимназии в конце 1880-х — начале 1890-х 26
Лишин Г. А., переводчик оперы «Тангейзер» Р. Вагнера (СПб., 1908) 588
Лодыженский Александр Александрович, действительный статский советник, почетный опекун, член IV Государственной Думы от Тверской губ. 167, 590
Лодыженский, сын А. А. Лодыженского 167, 590
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), русский ученый, поэт 589
Лотарев Вакх Игоревич (1922—?), сын поэта Игоря Северянина от брака с Фелиссой Круут 422
Лотарев Игорь Васильевич, см. Северянин Игорь
Лотарева Фелисса Михайловна, см. Северянина Фелисса
Лохов А., автор статьи в газете «Киевлянин» 7(12).12.1917 об убийстве ген. Н. Н. Духонина 592
Лохов С., в годы 1-й мировой войны младший унтер-офицер одного из гусарских полков в действующей армии, в 1917 посылал корреспонденции с фронта в газету «Киевлянин» 170, 171, 176
Луи, шофер миссис Бланш 396–398
Лукомская Софья Михайловна (1871—?), урожд. Драгомирова, жена генерала А. С. Лукомского, видного деятеля Белого движения, дочь генерала от инфантерии М. И. Драгомирова. Известные портреты С. М. Драгомировой были созданы И. Е. Репиным и В. А. Серовым 593
Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939), генерал-лейтенант (1916), начальник штаба Верховного главнокомандующего (июнь-август 1917), участник выступления ген. Л. Г. Корнилова, был арестован, бежал на Дон. Один из организаторов Добровольческой армии. Член Особого Совещания (правительства), начальник военного управления и помощник главнокомандующего. Председатель Особого Совещания (сентябрь-декабрь 1919). Возглавлял правительство при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России (январь-март 1920). С марта 1920 представитель при миссиях союзников в Стамбуле. В эмиграции во Франции и в США, похоронен в Париже 212, 228, 237, 593, 596, 598
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), советский государственный и партийный деятель, член КПСС с 1895, писатель, критик, академик АН СССР (1930), нарком просвещения (1917–1929) 29
Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925), князь, председатель Всероссийского земского союза (1914), один из руководителей Земского и городского союзов («Земгора», 1915). В марте-июле 1917 глава Временного правительства. В эмиграции во Франции 130, 156
Львов Николай Николаевич (1867–1944), земский деятель, помещик, юрист, один из основателей «Союза освобождения» — партии мирнообновленцев и прогрессистов. Депутат I, III и IV Государственных дум (кадет, мирнообновленец, прогрессист). Сотрудничал в газете «Киевлянин». Кандидат киевского Внепартийного блока русских избирателей на выборах в Учредительное собрание. Участник Белого движения, сотрудник ряда изданий В. В. Шульгина, издатель газеты «Великая Россия». С 1920 в эмиграции 115, 116, 170, 595, 600
Любавина, примадонна елизаветтрадского театра в середине 1890-х годов 41
Людовик XIV (1638–1715), король Франции с 1643 из династии Бурбонов 392
Л-я Л., автор воспоминаний «Очерки жизни в Киеве», опубликованных в «Архиве русской революции» (Том 3. Берлин, 1923) 600
Ляля, см.
Шульгин Вениамин Васильевич
Ляля, югославская знакомая В.В. и М. Д. Шульгиных 450, 451, 453
Магеровский Лев Флорианович (1896–1986), юрист, журналист, с 1920 в эмиграции в Праге, член политической группы «Общее дело», один из основателей Союза русских писателей и журналистов в Чехословакии, один из основателей и зав. отделом Русского заграничного исторического архива (с 1924), с 1945 жил в Германии 290
Маевская-Массальская А.И., была избрана в гласные Киевской городской думы от большевиков (август 1917) 586
Мазепа Иван Степанович (1644–1709), гетман Украины (1687–1708), стремился к отделению России от Украины. Во время Северной войны (1700–1721) перешел на сторону вторгшихся на Украину шведов. После Полтавской битвы (1709) бежал с Карлом XII в турецкую крепость Бендеры, где и умер 167, 196, 544, 590
Мазюкевич Леонид Владимирович (1876—?), мировой судья, друг и соученик по гимназии В. Г. Градовского 57
Мазюкевич Наталия Владимировна, см. Градовская Наталия Владимировна
Макаров Александр Александрович (1857–1919), товарищ министра внутренних дел, директор департамента полиции (1911–1912), статс-секретарь (1909–1911), министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов (1911–1912), министр юстиции (1916) 129
Макаров Степан Осипович (1848/49–1904), вице-адмирал, русский флотоводец, океанограф, в начале русско-японской войны командующий Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. Погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшемся на мине 112
Макензен (Mackensen) Август, фон (1849–1945), германский генерал-фельдмаршал, во время 1-й мировой войны, командуя 11-й армией, прорвал в мае 1914 оборону русского Юго-Западного фронта на участке Горлице, Громник, заставив его оставить Галицию 141
Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957), сын профессора, окончил юридический факультет Московского университета, адвокат, один из лидеров кадетов, член II, III, IV Государственной Думы от Москвы. В июле 1917 был назначен Временным правительством послом во Францию, но прибыл туда уже после Октябрьской революции, осуществлял свою деятельность до признания Францией СССР (1924), затем председатель Эмигрантского комитета, выдававшего удостоверения русским эмигрантам 12, 30, 160–163, 167, 169, 198–200, 310–312, 314–322, 326, 339, 368, 383, 385, 589
Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918), русский государственный деятель и крайне правый политик, брат В. А Маклакова. Министр внутренних дел (1913–1915), член Государственного Совета (1915). Расстрелян большевиками 318
Маклакова Мария Алексеевна (1879–1957), сестра В. А. и Н. А. Маклаковых 161, 163–165, 311–314, 318, 325, 326
Максимыч, см.
Виридарский Петр Максимович
Малашонок, фельдфебель 5-го саперного батальона 49
«Мамань», итальянка 355
Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович (1869–1920), полковник (1912). В начале 1918 сформировал отряд из казаков 2-го Донского округа, затем командовал рядом казачьих соединений, с февраля 1919 командир 4-го Донского конного корпуса. Генерал-лейтенант (1919). 10 августа — 19 сентября 1918 возглавил рейд казачьей конницы по тылам советских войск Южного фронта, в октябре — декабре потерпел поражение в боях с конным корпусом С. М. Буденного. В декабре П. Н. Врангель отстранил его от командования за разложение подчиненных частей. 1 (14) февраля 1920 умер в Екатеринодаре от тифа 248
Мандель Жорж, киевский француз-кондитер 97
Мандель, жена киевского кондитера Жоржа Манделя 580
Маниковский Алексей Алексеевич (1865–1920), генерал от артиллерии (1916), в 1915–1917 начальник Главного артиллерийского управления, с сентября 1917 товарищ (заместитель) военного министра, с 1918 в Красной Армии 469
Маниковский Алексей Алексеевич (1865–1920), генерал от артиллерии (1916), начальник Главного артиллерийского управления (1915–1917), товарищ военного министра (с сентября 1917). С 1918 в Красной Армии. Работы о боевом снабжении в 1-ю мировую войну 120, 469
Манилов В., редактор сборника «1917 год на Киевщине: Хроника событий» (Харьков, 1928) 586
Маринина Людмила Егоровна, опекунша В. В. Шульгина во Владимире 568–571
Мария (1900–1961), урожд. принцесса Румынская, с 1922 королева сербов, хорватов и словенцев, с 1929 королева Югославии (жена короля Александра I) 416, 605
Мария Владимировна, учительница музыки в детские годы В. В. Шульгина 83
Мария Владиславовна, участница антисоветской подпольной организации «Трест» 383, 384
Мария Николаевна (1899–1918), великая княжна, дочь императора Николая II, расстреляна в Екатеринбурге 478
Мария Федоровна (1847–1928), императрица, урожд. Дагмар, принцесса Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская, с 1863 принцесса Датская, жена императора Александра III 114, 115, 225, 226
Мария, жительница Дубровника, прислуга в доме врача А. Чекалина 405–407
Мария-Луиза, французская знакомая В. В. Шульгина 383
Марков (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1866–1945 или 1947), помещик, инженер, член губернской земской Управы. Основатель партии народного порядка, слившейся впоследствии с «Союзом русского народа» и «Союзом Архангела Михаила». Член 3-й и 4-й Государственной Думы, крайне правый. В 1920 эмигрировал во Францию, входил в состав Высшего монархического совета 128, 161, 304, 305, 315, 316, 329, 330, 589
Марков Сергей Леонидович (1878–1918), генерал-лейтенант Генерального штаба (1917), участник русско-японской, 1-й мировой и Гражданской войн, один из организаторов Добровольческой армии. Погиб в бою в самом начале 1- го Кубанского похода 237
Маркова Надежда Ивановна, см. Скоропадская Надежда Ивановна
Маркова Наталия Павловна, см. Могилевская Наталия Павловна
Маркс Карл (1818–1883), немецкий философ, экономист, общественный деятель, основатель марксизма 145, 154, 450
Марто, учитель игры на скрипке в Киеве 74
Масарик (Masaryk) Томаш (1850–1937), чехословацкий политический деятель и философ-позитивист религиозно-этического направления, в 1900–1920 руководитель либеральной Чешской народной, затем Прогрессистской партии, Председатель Чехословацкого национального совета, в 1918–1935 президент Чехословакии 294, 295
Масленников Григорий Егорович (Георгиевич) (1891—?), старший лейтенант, служил на Черноморском флоте, участник 1-й мировой и Гражданской войн. Член московской подпольной офицерской организации. Был связным между московским «Национальным центром», подпольными организациями юга России и командованием Добровольческой армии. Член «Азбуки» с 1.12.1917 (псевдоним «Немо»), начальник информационного отдела, помощник начальника отделения при Ставке 71, 192, 204, 205, 245, 246, 278
Масловский, ротмистр 240, 241
Маурер Всеволод Васильевич, артист Императорских театров 603
Маурер Мария Александровна, см. Сапелкина Мария Александровна
Матвеев, жених И. Добровольской 469
Медведев, киевский певец конца XIX в. 95
Мельниковы, см.
Миллер Бернард, Анна и Мария Бернардовны
Менделеев Павел Павлович (1863—?), отставной гвардии штабс-ротмистр, тайный советник, почетный мировой судья Ефремовского уезда Тульской губ., Тверской губернский предводитель дворянства, член Государственного Совета по выборам от дворянских обществ 588
Мендельсон (Мендельсон-Бартольди, Mendelssohn-Bartholdy) Якоб Людвиг Феликс (1809–1847), немецкий композитор, дирижер, пианист, органист. Основатель первой немецкой консерватории (1843, Лейпциг) 448
Меньшиков Михаил Осипович, корреспондент газеты «Новое Время» 109
Меркулов N. Михайлович, сын председателя житомирского окружного суда М. М. Меркулова 80
Меркулов Александр Михайлович, сын председателя житомирского окружного суда М. М. Меркулова 79
Меркулов Илья Михайлович, сын председателя житомирского окружного суда М. М. Меркулова 79
Меркулов Михаил Моисеевич, действительный статский советник, в 1890-х гг. председатель житомирского окружного суда 79, 84
Меркулов Семен Михайлович, сын председателя житомирского окружного суда М. М. Меркулова 79
Меркулова Варвара Валерьевна, урожд. кнж. Урусова, жена М. М. Меркулова 79, 84
Меркулова Екатерина Михайловна, дочь председателя житомирского окружного суда М. М. Меркулова 79
Меркулова Елена Михайловна, см. Могилевская Елена Михайловна
Меркулова Мария Михайловна, см. Пихно Мария Михайловна
Мессинг Вольф Григорьевич (Гершкович) (1899–1974), артист эстрады. Выступал с телепатическими опытами («отгадывание мыслей»). Гастролировал во многих странах. С 1939 года жил и выступал в СССР. Заслуженный артист РСФСР. Автор книги «О самом себе» 603
Милица Николаевна (1866–1951), великая княгиня, урожд. принцесса Черногорская, жена великого князя Петра Николаевича 123
Миллер (Мельникова) Анна Бернардовна, см. Филиппова Анна Бернардовна
Миллер (Мельникова) Мария Бернардовна, см. Филиппова Мария Бернардовна
Миллер Бернард, владелец магазина красок на Фундуклеевской ул. в Киеве, в 1914, с началом войны, изменил свою фамилию на Мельникова 333
Миллер Евгений Карлович (1867–1937?). Генерал-лейтенант. Во время Гражданской войны генерал-губернатор и главнокомандующий войсками Северной области (г. Архангельск). С февраля 1920 в эмиграции. После похищения в 1930 советской разведкой генерала А. П. Кутепова возглавил РОВС. В сентябре 1937 был тоже похищен советской разведкой 283, 328, 329, 637
Миллер, жена генерала Е. К. Миллера 284
Мильтон Джон (1608–1674), английский поэт 257
Милюков Павел Николаевич (1859–1943), русский политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов и руководителей партии конституционных демократов («кадетов», член ЦК), член Государственной Думы. В марте-мае 1917 министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава. После прихода к власти большевиков в эмиграции во Франции 104, 127, 135, 138, 149, 158, 162, 198–200, 203, 217, 315, 582, 584, 589
Митрофан (Дмитрий Краснопольский, 1869–1919), епископ Могилевский в 1907–1912. Окончил Воронежскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию (1896), член III Государственной Думы от Могилевской губ., правый, расстрелян большевиками в Астрахани 66
Михаил Александрович, великий князь (1878–1918), младший сын императора Александра III; в его пользу отрекся от престола его старший брат император Николай II. Был расстрелян большевиками в июне 1918 под Пермью 169, 219, 315, 578
Михаил, сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 473, 474, 476, 478, 479, 482
Михайловская Вера, знакомая молодых Градовских 57
Михайловский Семен Никифорович, директор правления товарищества «И. Н. Кушнеров и К°» 189
Михельсон, владелец одной из киевских бань в конце XIX — начале XX вв. 35
Михельсон, дочь владельца киевской бани 35
Мишка-Япончик (Михаил Я. Винницкий) (?—1919), глава одесских налетчиков. Во время погромов 1918–1919 возглавил отряды еврейской самообороны, возникшие еще во время так наз. «пьяных беспорядков» в августе 1917. Современники полагали, что его формирования достигали 10 тыс. человек. 31 января (18 февраля) 1919 Гришина-Алмазова посетила депутация одесских торговцев и членов биржевого комитета, они указали на участившиеся случаи налетов и грабежей. Гришин-Алмазов просил письма бандитов с требованием денег передавать ему или градоначальнику, «члены делегации тут же вручили г. губернатору несколько таких писем» (Россия (Одесса). 1919. 1 (19) февраля). После прихода в Одессу 3-й Красной армии ее Реввоенсовет удовлетворил просьбу М. Я. Винницкого о формировании полка под его командованием, комиссаром полка был назначен известный одесский анархист А. Датько-Фельдман. Весной 1918 полк был направлен на фронт, однако боевых качеств не проявил, люди М. Я. Винницкого бежали, бежал и он сам, вместе со своим штабом. По официальной советской версии, он был расстрелян комиссаром Вознесенского уезда H. Н. Урсуловым 232, 233, 598
Мищук Е.Ф., начальник киевской сыскной полиции, участник расследования по делу Бейлиса 536, 537
Могилевская Валентина Вильгельмовна (у В. В. Шульгина «Васильевна») (1888–1967), урожд. Фринцель, жена А. А. Могилевского. В эмиграции сначала в Югославии, после 2-й мировой войны в США 70, 73, 427
Могилевская Елена Михайловна (1888—?), урожд. Меркулова, жена Ф. А. Могилевского 79
Могилевская Наталия Павловна (1908–1989), урожд. Маркова, жена И. А. Могилевского 73, 74,580
Могилевская Павла Витальевна (Паулина, «Лина», Павлина) (1864–1945), урожд. Шульгина, сестра В. В. Шульгина, заведовала хозяйственной и литературной частью газеты «Киевлянин». С 6 июня 1917 (после смерти К. И. Смаковского) и до приезда в Киев В. В. Шульгина редактировала газету. Редактировала ее и позднее, во время кратких отъездов В. В. Шульгина из Киева. Эмигрировала в Югославию, чиновница государственной статистики в Белграде 18, 36, 40, 43, 51–54, 63, 71, 73, 80, 86, 87, 140, 148, 203, 211, 249, 251, 260, 261, 266, 374, 380, 390, 402, 405, 433, 434, 451, 579, 582
Могилевский Александр Александрович (1891–1941), племянник В. В. Шульгина. По окончании сокращенного курса Алексеевского инженерного училища I. 11.1916 выпущен прапорщиком инженерных войск, участник Гражданской войны. В эмиграции в Югославии, служил офицером в югославской армии, в составе которой участвовал в войне с немцами 63–66, 70–73, 152, 278, 279, 420, 426, 587
Могилевский Александр, отставной штабс-капитан, фиктивный муж П. В. Шульгиной 63,579
Могилевский Дмитрий Александрович (1916–1989), сын А. А. Могилевского 73, 426, 427
Могилевский Иван Александрович (1903–1992), племянник В. В. Шульгина 63, 73, 179, 194
Могилевский Филипп Александрович (1885–1920), племянник и друг В. В. Шульгина. Студент Академии художеств, скульптор, журналист (печатался в «Киевлянине»). В годы Первой мировой войны служил под началом В. В. Шульгина в санитарном отряде Юго-западной земской организации. Сотрудник газет «Великая Россия» (Екатеринодар), «Россия» (Одесса). В 1920 в «отряде В. В. Шульгина». Арестован одесской ЧК, расстрелян 18, 63, 64, 99–105, 107, 152, 188, 222, 240, 408, 597
Можайский Николай Николаевич (1865—?), камергер, окончил С.-Петербургский университет, поручик в отставке, Браиловский уездный предводитель дворянства, член IV Государственной Думы, националист 112
Моляров Иван Иванович, приятель молодых Градовских 57
Молярова, урожд. Мурашко, жена И. И. Молярова 57
Монастырев Александр Федорович по прозвищу Шуйга или Шульга 15, 16
Монастырь, см.
Смоленский Александр Юрьевич
Моника, внучка миссис Бланш 396
Мороз, киевский домовладелец 174, 177
Москвич А.Г., журналист, автор статьи «Несколько слов о выборах в Украинское Учредительное собрание» (см.: Малая Русь. Киев, 1918. Вып. 3) 587
Мосолов Александр Александрович (1854–1939), генерал-лейтенант (1908), начальник канцелярии министерства императорского двора (1900–1916), посланник в Румынии с 1916, один из организаторов «Общероссийского монархического съезда» в баварском г. Райхенхаль (1921), член руководства Союза объединенных монархистов. В эмиграции во Франции (Антиб), с 1933 в Болгарии 594
Муравьев Михаил Артемьевич (1880–1918), подполковник (1917). С 1917 член партии левых социалистов-революционеров. 28 октября (10 ноября) был назначен начальником обороны Петрограда, командовал войсками, боровшимися против частей Краснова — Керенского. С декабря — начальник штаба Южного революционного фронта, с января 1918 — главком Южного фронта, после занятия Киева установил режим жесточайших репрессий. С середины марта начальник штаба Верховного главнокомандующего Украинской Народной (Советской) Республики. В апреле выехал в Москву, где был арестован за злоупотребления властью, но вскоре освобожден. С 13 июня — командующий Восточным фронтом. После выступления левых эсеров в Москве поднял мятеж 10 июля, на следующий день был убит 176, 181, 592
Мурашко, заведующий рисовальной школой
Мурашко, см. Молярова
Мусатова-Кульженко Елизавета Ивановна, артистка оперы (сопрано), камерная певица и педагог. С 1897 выступала в Киеве (на оперной сцене и в консерватории) 175
Муссолини (Mussolini) Бенито (1883–1945), фашистский диктатор Италии в 1922–1943 388, 554
Муся, см.
Шульгина Мария Дмитриевна
Мысловский Федор, священник церкви при киевском Лыбедском кладбище 576
Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915), полковник, с 1892 служил в отдельном Корпусе жандармов. В 1901–1909 начальник Вержболовского отделения жандармско-полицейского управления С.-Петербургско-Варшавской железной дороги (Вержболово было пограничной станцией с Германией). Был одним из лиц, приближенных к военному министру генералу В. Сухомлинову, с 1909 ведал у него вопросами контрразведки. В развернувшейся во время войны кампании либеральных членов Государственной Думы против В. Сухомлинова был обвинен в шпионаже в пользу Германии, предан военно-полевому суду Варшавской крепости и по приговору последнего повешен в 1915 330
Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922), один из основателей конституционно-демократической партии, депутат I Государственной Думы, после Февральской революции — управляющий делами Временного правительства 589
Наживин И.А., сотрудник газеты «Великая Россия», выходившей в 1919 в Ростове-на-Дону 595
Наливайко Северин (?—1597), казацкий предводитель, возглавивший антифеодальное восстание на Украине 494
Наполеон I (Napoléon, Наполеон Бонапарт) (1769–1821), император французов в 1804–1814 и в марте — июне 1815 141, 183, 329, 378, 470
Наполеон III (Шарль Луи Наполеон Бонапарт) (1808–1873), племянник Наполеона I, в 1848–1852 президент Франции, в 1852–1870 император 594
Насер Гамаль Абдель (1918–1970), президент Египта с 1956 499
Наталия Ивановна («Наташа»), русская эмигрантка, знакомая В. В. Шульгина 300, 301
Науменко Владимир Павлович, преподаватель русского языка во 2-й киевской мужской гимназии, впоследствии директор частной «Киевской гимназии В. П. Науменко», участник издания ежемесячного исторического журнала «Киевская Старина» (выходил с 1882) 37
Науменко Вера Николаевна (1855—?), дочь Н. Я. Шульгина и двоюродная сестра В. В. Шульгина 37, 576
Незабудько Мария, русская эмигрантка в Чехии, знакомая В. В. Шульгина 292, 293
Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877/1878), русский поэт 143, 586
Некрасов Николай Виссарионович (1879–1940), инженер-технолог, профессор, один из лидеров левого крыла кадетской партии,
III и
IV Государственной Дум. Во время Февральской революции член Временного комитета Государственной Думы, один из руководителей Земгора, член Временного правительства (министр путей сообщения, зам. председателя Совета министров, министр финансов). В сентябре-октябре 1917 генерал-губернатор Финляндии. После Октябрьского переворота работал в кооперации. В 1921–1930 член правления Центросоюза РСФСР и СССР. В последующие годы на преподавательской работе 446, 588
Нелютка, имя неизвестной дамы, которой был посвящен романс П. Д. Пихно 77
Немирич Юрий Степанович (1612–1659), украинский политический деятель при гетманах Богдане Хмельницком и Иване Выговском 556–560, 607,
Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), русский живописец 664
Нестор, древнерусский писатель, летописец XI — начала XII вв., монах Киево-Печерского монастыря. Традиционно считается одним из крупнейших историков средневековья — автором первой редакции «Повести временных лет» 145
Ник. Я., псевдоним неизвестного автора, публиковавшегося в «Киевлянине»
Николаев, артиллерийский офицер Белой армии генерала А. И. Деникина, знакомый М. Д. Шульгиной 31
Николай I Павлович (1796–1855), император Всероссийский с 1825, сын императора Павла 34
Николай II Александрович (1868–1918), император Всероссийский в 1894–1917, сын императора Александра III 12, 19, 112, 121, 123, 169, 181, 196, 201, 202, 204, 305, 315, 317, 322, 330, 331, 425, 462, 478, 488, 495, 496, 506, 507
Николай Михайлович (1859–1919), великий князь, внук императора Николая I, военный деятель и историк, председатель Русского исторического общества. По окончании Академии Генерального штаба в 1884–1903 был на командных должностях в русской армии 114–120, 581,
Николай Николаевич, великий князь (1856–1929), генерал от кавалерии, внук императора Николая I. Во время 1-й мировой войны Верховный Главнокомандующий русской армии (1914–1915), затем наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказским фронтом. В эмиграции во Франции 120, 122, 123, 225, 281–283, 306, 307, 329–331, 582, 602, 603
Николай («Коля»), сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 474–476, 478, 479
Никулин Лев Вениаминович (1891–1967), русский советский писатель, член КПСС, автор романа «Операция “Трест”» 361, 363
Новгородцев П. И., профессор, участвовал в подготовке «Обращения главнокомандующего к населению Малороссии» перед вступлением частей ген. А. И. Деникина в августе 1919 в Киев 587
Ноли (Noli) Фан (1882–1965), албанский государственный и политический деятель, писатель и историк, участник албанского национально-освободительного движения; окончил Гарвардский университет (1912). В июне-декабре 1924 глава демократического правительства Албании, после прихода к власти А. Зогу в эмиграции (США) 580
Носарь Георгий Степанович, см.
Хрусталев.
Ньютон (Newton) Исаак (1643–1727), английский
математик, механик, астроном и физик, создатель классической механики, член (1672) и президент (с 1703) Лондонского королевского общества 164, 312, 499
Нюра, цыганка из «Аполло» 101–106
Н. Юрий, сотрудник «Азбуки» 261, 265
Обер Теодор, швейцарский адвокат, защитник бывшего штабс-капитана А. Полунина, обвинявшегося в пособничестве М. Конради, который убил советского представителя на Лозаннской конференции В. В. Воровского. Процесс, проходивший в Лозанне 5–16.11.1923, стараниями прежде всего Обера превратился в суд над большевизмом и оправданием обвиняемых 436
Обреновичи, княжеская (1815–1842, 1858–1882) и королевская (1882–1903) династия в Сербии 425
Олег Константинович (1892–1914), князь императорской крови, сын великого князя Константина Константиновича 107–109 Олег Вещий, древнерусский князь 167
Ольга Николаевна (1895–1918), великая княжна, дочь императора Николая II, расстреляна в Екатеринбурге 478
Ольга, принцесса Югославская (1903–1997), дочь принца Николая Греческого от брака с вел. княгинею Еленою Владимировною. Была замужем с 1923 за принцем Павлом Югославским 415
Ольденбург Сергей Сергеевич (1888–1940), историк, публицист, эсер, сын академика С. Ф. Ольденбурга. Участник Белого движения, в эмиграции в Берлине (1920–1922), затем в Праге. Член редакционного комитета газеты «Россия и славянство», был одним из ведущих авторов правых эмигрантских изданий — журнала «Русская мысль», газет «Возрождение», «Россия», «Россия и славянство». Автор книги «Николай II» 304
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934), востоковед, академик, в 1930–1934 директор Института востоковедения АН СССР 304
Онисья Васильевна, хозяйка столовой в доме инвалидов в Гороховце 520, 524
Оперпут, сотрудник ЧК, внедренный в организацию «Трест» 383, 384
Орешкевич Александр Николаевич, в начале 1900-х гг. командир роты 5-го саперного батальона 49
Орлова Мария Сергеевна (1891–1976), киевская знакомая В. В. Шульгина 580
Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич, граф, в должности церемониймейстера, член IV Государственной Думы 110, 413
Ормузд или
Ахурамазда, в зороастризме имя высшего божества древних иранцев, возникшего из чистейшего света, святейшее божество, дух, источник всего доброго, творец солнца, луны, звезд, неба, земли, вод, деревьев и людей, друг и охранитель добра, враг лжецов, мститель за неправду, источник добрых мыслей, слов и дел 53, 54
Островерхий Николай, учащийся Николаевского морского коммерческого училища 59
Острожский Константин Константинович (1526–1608), князь, Рюрикович, украинский магнат, киевский воевода. Защищал православное население от окатоличивания и полонизации, основал школы в Турове (1572), Владимире-Волынском (1577) и типографию в Остроге 118, 321
Павел, принц Югославский из династии Карагеоргиевичей (1893–1976), сын принца Арсена Югославского от брака с Авророй Павловной Демидовой, княгиней Сан-Донато. Был женат (1923) на Ольге, принцессе Греческой и Датской. В 1934–1941 регент при юном короле Петре II 415
Павлов, второй муж Т. А. Билимович, в первом браке Шульгиной 85
Павлова Анна Павловна (1881–1931), артистка балета, с 1899 в Мариинском театре, в 1909 участвовала в «Русских сезонах» в Париже, с 1910 гастролировала с собственной труппой во многих странах мира 288
Пален Алексей Петрович (1874–1938), граф фон дер, генерал-лейтенант (1919), офицер лейб-гвардии Конного полка, участник 1-й мировой войны. После Февральской революции совместно с ген. бароном П. Н. Врангелем организовал подпольную офицерскую организацию, во время Гражданской войны командовал 1-м стрелковым корпусом в Северо-Западной армии ген. Н. Н. Юденича. В эмиграции в Латвии 595
Панвиц (Pannwitz) Гельмут фон (1898–1947), генерал-лейтенант, казачий полевой атаман. Происходил из верхнесилезской дворянской семьи, окончил кадетский корпус (1914), участник 1-й мировой войны. В 1920–1933 управляющий имением в Польше. В 1935 ротмистр и командир эскадрона кавалерийского полка № 2 в Ангербурге (Восточная Пруссия). Во время Польской кампании командир разведай 45-й дивизии. В 1942 подполковник, занимался формированием казачьих частей на Украине, в марте 1943 командир 1-й казачьей кавалерийской дивизии, генерал-майор (июнь 1943). Осенью 1943 его дивизия была передислоцирована в Хорватию для борьбы с партизанами, в январе 1945 генерал-лейтенант, был избран полевым атаманом казачьего войска. 01.02.1945 назначен командиром XV казачьего корпуса, который привел в мае 1945 в английский плен. После того, как англичане в конце мая — начале июня 1945 выдали Красной армии всех казаков, пожелал разделить судьбу со своими подчиненными и сдался советским властям. Был препровожден в Москву на Лубянку и в 1947 приговорен Военной коллегией Верховного суда к смертной казни через повешение (его прах захоронен на территории Донского монастыря). В 1996 приговор был отменен и генерал Панвиц посмертно реабилитирован. В Тристахе близ Линца (Австрия) ему установлен памятник 471
Панина Варвара (Варя) Васильевна (1872–1911), урожд. Васильева, цыганская певица 100, 137
Панов, академик медицины, сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 493
Парамонов Н. Е., ростовский миллионер, в сентябре 1918 — марте 1919 возглавлял Осведомительное агентство при Главнокомандующем Вооруженными силами Юга России 598
Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968), русский советский писатель, мастер лирической прозы 300
Пельцер, врач, эмигрировал в Югославию, жил в Белграде 30, 32
Пепескул Мария Дмитриевна, член Исполнительного бюро Русского Общевоинского союза 606
Персидский, сокамерник В. В. Шульгина 509–512, 515
Петипа Мариус Иванович (1818–1910), балетмейстер Императорских театров 338, 603
Петипа Мария Мариусовна (1857–1940), дочь балетмейстера М. И. Петипа 603
Петипа Мария Николаевна, см. Сапелкина Мария Александровна
Петлюра Симон Васильевич (1877–1926), украинский националист, один из лидеров Украинской социал-демократической партии. После Февральской революции основал и возглавил Украинский фронтовой комитет. Возглавлял военное ведомство Центральной Рады Украинской народной республики. В период «гетманщины» — председатель киевского губернского земства и Всеукраинского союза земств. С ноября 1918 член украинской Директории и головной атаман. С февраля 1919 — председатель Директории. Во время советско-польской войны выступил на стороне Польши, участвовал в наступлении ее войск на Украине. С лета 1920 в эмиграции во Франции 188, 189, 223, 539, 540–542, 561, 587, 598
Петр I Алексеевич (1672–1725), русский царь с 1682, российский император с 1721 228, 394, 423, 545, 546
Петр Николаевич (1864–1931), великий князь, внук императора Николая I, генерал-инспектор инженерных войск 123
Пикколо (Piccolo), садовник-итальянец 395,
Пиленко Александр Александрович (1873–1920), статский советник, юрист, ординарный профессор международного права Александровского лицея, Высших женских курсов и С.-Петербургского университета (после Февральской революции лишен звания профессора университета «как незаконно назначенный»). Журналист, сотрудник «Нового времени». Член Государственного Совета, гласный Петербургской городской думы. При гетмане участвовал в деятельности правых организаций на Украине, сотрудничал в газете «Голос Киева». В 1919 издавал в Одессе газету «Призыв», был членом Совета государственного объединения России 128
Пильц Александр Иванович (1870–1944), землевладелец, правовед, действительный статский советник. Могилевский губернатор (1910–1916), товарищ министра внутренних дел (1916), иркутский генерал-губернатор. Участник Ясского совещания. А. Н. Гришин-Алмазов назначил его помощником военного губернатора Одессы по гражданской части (его именовали также гражданским губернатором, «главой правительства»). Впоследствии исполнял должность управляющего ведомством внутренних дел в правительстве А. И. Деникина; в крымском правительстве П. Н. Врангеля возглавил комитет призрения 222
Пихно N. Ивановна, см. Стрижевская N. Ивановна
Пихно Авдотья Игнатьевна, жена И. И. Пихно, мать Д. И. и В. И. Пихно 88
Пихно Алексей Иванович, брат Д. И. Пихно 88
Пихно Антонина Петровна, урожд. Вангельгейм, жена В. И. Пихно, вместе с мужем и сестрою основала частное среднее сельскохозяйственное училище в селении Ставки Радомысльского уезда Киевской губ. 89–93, 95
Пихно Василий Иванович, сельский хозяин, брат Д. И. Пихно 88–96, 582
Пихно Дмитрий Дмитриевич (1883–1920), брат В. В. Шульгина по матери, помещик Подольской губ… Был арестован Крымской ЧК, умер накануне расстрела от инфаркта 74, 77–80, 82, 83, 324, 325, 579
Пихно Дмитрий Иванович (1853–1913), юрист, экономист, профессор Университета св. Владимира (Киев). Издатель и редактор газеты «Киевлянин» (1878–1885, 1887–1907). Член Государственного Совета по назначению (1907–1913). Отчим В. В. Шульгина, отец Д.Д. и П. Д. Пихно 18, 19, 27, 36, 37, 43, 57, 75, 76, 84, 86, 88, 89, 93–95, 129, 142, 151, 177, 297, 359, 390, 513, 538, 579, 582, 585
Пихно Иван Игнатьевич, сельский хозяин, мельник, владелец хутора Нестеровка. Отец Д. И. и В. И. Пихно 88
Пихно Лукерья Ивановна, сестра Д. И. Пихно 88
Пихно Мария Ивановна, см. Щегельская Мария Ивановна
Пихно Мария Константиновна (1844–1883), урожд. Попова, в 1-м браке за В. Я. Шульгиным, во 2-м — за Д. И. Пихно. Мать В. В. Шульгина, А. В. Билимович, П. В. Могилевской, П.Д. и Д. Д. Пихно. Издательница газеты «Киевлянин» 18, 34, 35, 36, 80, 82, 171–172, 579, 582
Пихно Мария Михайловна (?—1910), урожд. Меркулова, жена Д. Д. Пихно 79, 80, 82, 84, 324, 325, 364
Пихно Мария, дочь киевского торговца оптикой и жена П. Д. Пихно 75
Пихно Николай Иванович, брат Д. И. Пихно 88
Пихно Павел Дмитриевич (1880–1919), брат В. В. Шульгина по матери, журналист, поэт. Вел в «Киевлянине» раздел «Письма ко всем». Часто печатался под псевдонимом Paul Viola 43, 60, 74–77, 79, 80, 83, 84, 179, 181, 188, 224, 240, 258, 265, 389, 579, 585
Плевицкая Надежда Васильевна (1884–1941). Певица (меццо-сопрано), исполнительница русских народных песен и романсов. Жена генерала Н. В. Скоблина, с которым в ноябре 1920 эмигрировала из Крыма. Жила в Париже. Завербованная советской разведкой, была причастна к похищению руководителей РОВС’а генералов Кутепова и Миллера. Осуждена французским судом на каторжные работы. Скончалась в заключении 283, 284, 355
Плешко Николай Васильевич, белоэмигрант, знакомый В. В. Шульгина 435
Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), русский государственный деятель, юрист. В 1880–1905 обер-прокурор Св. Синода, имел исключительное влияние на императора Александра III 291
Подвысоцкий Павел Федорович, протоиерей, законоучитель в Фундуклеевской женской гимназии (г. Киев) в конце 1880-х — начале 1890-х 26
Поклевский-Козелл Станислав Альфонсович (ок. 1868–1937), дипломат, камергер, с 1913 российский посланник в Румынии 123
Покровский Виктор Леонидович (1889–1922), военный летчик. В 1917 принимал участие в деятельности правоэкстремистских организаций в Петрограде. В начале 1918 начал формировать добровольческие части Кубанской рады, произведен в полковники, затем в генералы (с 1919 генерал-лейтенант). В Добровольческой армии командовал бригадой, дивизией, корпусом. Командующий Кавказской армией (декабрь 1919 — февраль 1920). С мая 1920 в эмиграции. Эмигрировал в Германию, затем в Болгарию (апрель 1920). Организатор террористических групп, предназначенных для борьбы с военнослужащими белых армий, желавшими вернуться в Советскую Россию. Был убит болгарскими коммунистами 208, 209, 237, 253, 289, 596
Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), советский историк, партийный и государственный деятель 588
Полесская Надежда Аркадьевна («Ирина» в «1920 году» В. В. Шульгина), балерина, жена морского офицера Реймерса 52, 273, 274, 369
Половцов Иван Федорович (1870—?), помещик Витебской губ., уездный предводитель дворянства, член 4-й Государственной Думы (Половцов 2-й), националист, прогрессивный националист 170
Полупанов Андрей Васильевич (1888–1956), рабочий, член РСДРП с 1912. В годы Первой мировой войны — матрос Черноморского флота. В январе 1918 командовал отрядом моряков, действовавшим на Украине против Центральной Рады, участник восстания в Киеве. Комендант Киева (январь 1918). Командир бронепоезда, командующий Днепровской военной флотилией (март — сентябрь 1919). С 13 сентября 1919 Днепровскую флотилию возглавлял П. П. Смирнов 255, 259
Полчанинов Ростислав Владимирович (р. 1919), член Руководящего круга НТС. Сын полковника, служившего в Штабе Верховного Главнокомандующего во время 1-й мировой войны, в штабах главнокомандующих ВСЮР и Русской армии во время Гражданской войны. Учился заочно на юридическом факультете Белградского университета (Югославия). С 1931 в скаутском движении, с 1936 член НТСНП (ныне НТС). В 1941–1945 гг. вел подпольную скаутскую работу в Югославии, Польше и Германии, в 1943 преподавал Закон Божий в Пскове. С 1951 в США, член инициативной группы по созданию Конгресса русских американцев (1971). Проживает в Нью-Йорке 606
Попов Алексей Алексеевич, учитель истории и директор 2-й киевской мужской гимназии в середине — второй половине 1880-х 26
Попов Антон Владимирович (1857–1904), капитан 166-го пех. Ровненского полка (г. Киев) 42-й пех. дивизии (Киевский военный округ). Был трижды женат, от 1-го брака дети Вадим, Сергей и Любовь 60
Попов Вадим Антонович (1886—?), сын капитана А. В. Попова, брат Л. А. Поповой. В 1910-х гг. поручиком служил в 6-м пех. Либавском полку (г. Белы) 1- й пех. дивизии (Варшавский военный округ) 60, 61
Попов Константин Григорьевич, из дворян Киевской губ., дед по матери В. В. Шульгина 34
Попов Сергей Антонович, сын капитана А. В. Попова, братЛ.А. Поповой 60, 61
Попова Вера, жена А. В. Попова и мать Вадима, Сергея и Любови Поповых 60
Попова Евгения Константиновна, см. Градовская Евгения Константиновна
Попова Любовь Антоновна («Данилевская Дарья Васильевна») (1884–1918), в 1-м браке за Ткаченко, во 2-м за П. Д. Пихно, единоутробным братом В. В. Шульгина, впоследствии секретарь последнего. Сестра милосердия военного времени, прошла обучение в Одесской Касперовской общине, зачислена на службу 15 июля 1915, первоначальное место назначения — г. Киев 32, 51, 60, 61, 107, 117–119, 129, 130, 133, 137, 140, 141, 151, 173, 174, 177, 184, 188, 189, 192, 194, 195, 204, 205, 207, 208, 210–216, 224, 230, 235, 236, 242–244, 251, 256, 277, 349, 408, 409, 578, 579, 585
Попова Мария Константиновна, см. Шульгина Мария Константиновна
Попова Полина Михайловна, урожд. Данилевская, жена КГ. Попова, бабушка по матери В. В. Шульгина 34, 36, 58
Попова Софья Константиновна, см. Андрияшева Софья Константиновна
Потоцкая, графиня 358
Потоцкий Александр Александрович, потомственный дворянин, член IV Государственной Думы от Подольской губ., монархист 112
Потоцкий Михаил Александрович (1790–1855), граф, сенатор и воевода Царства Польского 575
Потоцкий, автор сочинения «De bello cosacorum» 146
Прасковья («Параска»), няня в семье Д. И. Пихно 78
Пригожий Я. Ф., композитор, сочинил музыку к романсу «У камина» (1901) на слова С. А. Гарфильда (С. А. Гарина) 589
«Принцесса», см.
Васильева Вера Евгеньевна
Продьма, бывший жандармский офицер 405, 413
Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1917/18), последний министр внутренних дел императорской России, расстрелян большевиками 583
Прянишников Борис Витальевич, деятель белого движения, писатель 606
Прянишников, учитель пения 508
Пузыно Афанасий, архиерей на Волыни в XVI в. 300
Пузыно, сотрудник газеты «Новое Время» в С.-Петербурге 300, 301
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920), крупный землевладелец. Чиновник Министерства внутренних дел (1901–1906). Лидер черносотенных организаций «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела». Депутат 2-й, 1- й и 4-й Государственных дум. Участник убийства Г. Е. Распутина. После Октябрьской революции — организатор антибольшевистского подполья. Был арестован и приговорен 3 (16) января 1918 к 4 годам принудительных работ. Освобожден по амнистии Петросовета к 1 мая того же года. Выехал на юг, участник Белого движения 21, 104, 108, 127, 134, 315
Путиловы, белоэмигранты, представители фамилии русского промышленника Путилова 335
Путинцев, майор НКВД, следователь на Лубянке 465, 466
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), писатель, поэт, создатель русского литературного языка 216, 286, 288, 415, 461, 464, 523, 583, 604
Пфефер, сокамерник В. В. Шульгина по Владимирской тюрьме 498, 499
Пясецкий Онисим Иванович, действительный статский советник, директор 1-й киевской мужской гимназии в конце 1880-х — начале 1890-х 26
Пятаков Георгий Леонидович (1890–1937), сын крупного киевского сахарозаводчика Л. Т. Пятакова. С 1904 в революционном движении. Один из основателей и лидеров Коммунистической партии Украины, участник Февральской и Октябрьской революций. В 1917 председатель Киевского комитета большевиков, с 5 (18) октября — председатель Исполкома Киевского Совета рабочих депутатов, с 25 октября (7 ноября) — председатель ревкома. В дальнейшем — советский партийный и государственный деятель. Зам. председателя ВСНХ с 1923, председатель правления Госбанка в 1929, член Президиума ВСНХ с 1930, 1-й зам. наркома тяжелой промышленности в 1934–1936, член ВЦИК и ЦИК СССР. В 1937 осужден по делу «параллельного антисоветского троцкистского центра», расстрелян 172, 175, 586, 591
Пятаков Леонид Леонидович (1888–1917/1918), сын крупного киевского сахарозаводчика Л. Т. Пятакова, инженер-химик; социал-демократ, большевик (член партии с 1915). Возглавлял большевистскую солдатскую организацию в Киеве. В декабре 1917 вел пропаганду в украинских войсках. В ночь на 25 декабря 1917 (8 января 1918) был похищен группой украинских офицеров и убит (особняк Пятаковых был разграблен). Его труп обнаружили лишь после прихода в Киев красных. О похищении писала газета В. В. Шульгина: Два обыска // Киевлянин. 1917. 29 декабря (1918. 11 января) 143, 175, 591, 592
Пятаков Леонид Тимофеевич, инженер, киевский сахарозаводчик. Член правления Политехнического института Императора Александра II от киевского отделения Императорского русского технического общества, товарищ председателя Императорского русского технического общества, член общества скорой медицинской помощи 143, 175
Пятаков Михаил Леонидович, брат Георгия и Леонида Леонидовича Пятаковых 175, 592
Пятакова Александра Ивановна (?—1917), урожд. Мусатова, жена инженера и крупного киевского сахарозаводчика Л. Т. Пятакова, мать Г. Л., Л. Л. и М. Л. Пятаковых. Была известна своей благотворительной деятельностью, входила в руководство Общества народных детских садов. В годы Первой мировой войны — сотрудница передового санитарного отряда Государственной думы, в котором работал и В. В. Шульгин. О ней см.:
Гауг Е. Памяти А. И. Пятаковой // Киевлянин. 1917. 24 февраля (9 марта) 175
Пятаковы, семья киевского сахарозаводчика Л. Т. Пятакова 175
Раабен Надежда Сергеевна, фон (?—1939), вдова полковника лейб-гвардии Измайловского полка, член «Азбуки» с 1 января 1919. В эмиграции в Югославии 240–245, 248, 250–252, 256–261, 266
Раабен, фон, полковник, муж Н. С. фон Раабен 252, 261
Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (1859–1918), болгарин, перешедший на русскую службу, генерал от инфантерии (1914), участник 1-й миров ой войны, командовал 7-м армейским корпусом, 3-й, затем 12-й армией. После Февральской революции вышел в отставку. Убит большевиками в Пятигорске 317
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), атаман донских казаков, предводитель восстания 1670–1671 558
Разумовская Зинаида Ивановна, см.
Седельникова Зинаида Ивановна
Райт (Wright), братья: Уилбер (1867–1912) и Орвилл (1871–1948), американские авиаконструкторы и летчики, пионеры авиации 456
Рамачараки (настоящее имя Уильям Лоррен Аткинсон) (1862–1932), теософ, врач и судья из штата Пенсильвания (США), популяризатор йоги, благодаря которому о ней в конце XIX века узнали в Европе и в Америке 358
Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872–1916), из крестьян Тобольской губ., в качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние на императора Николая II, его жену императрицу Александру Федоровну и их окружение, вмешивался в государственные дела; убит монархистами 115, 116, 123
Ратмирова Татьяна Яковлевна, см.
д’Иври Татьяна Яковлевна
Ратнер, марксист, муж сестры Е. Цельтнера 449
Ревякин Юрий Владимирович, киевский знакомый Шульгиных и Пихно, спирит 76
Редигер Александр Федорович (1853–1918), российский генерал, в 1905–1909 военный министр 508
Рейли (Reilly) Сидней (Розенблюм Зигмунд Георгиевич) (1874–1925), сотрудник британских спецслужб, лейтенант британской армии. Уроженец Одессы, занимался коммерческой деятельностью в С.-Петербурге. В годы 1-й мировой войны жил в Великобритании, принял британское подданство, женился на ирландке и принял фамилию жены. В 1918 по заданию британских спецслужб прибыл в Сов. Россию, занимался разведывательной деятельностью, установил связи с антибольшевистским подпольем. На Парижской мирной конференции 1919–1920 был советником по русским вопросам британской делегации. Поддерживал тесные контакты как с белой эмиграцией, так и с представителями советских спецслужб (Красиным, Г. Ягодой, В. Я. Свердловым и др.). Осенью 1925 нелегально перешел границу СССР, был арестован под Москвой и расстрелян без следствия и суда 361, 384
Реймерс, морской офицер 369
Рекашев Исидор Григорьевич (18657—1918), математик, преподаватель начертательной геометрии в ряде киевских учебных заведений (Университет, Политехнический институт, Высшие женские курсы). Председатель Киевского педагогического общества им. К. Д. Ушинского. Гласный городской думы. Кандидат внепартийного блока русских избирателей на выборах в Учредительное собрание. Первый председатель общества «Русь» 177
Ремнев Иван Иванович, поручик, левый эсер. Участник Октябрьского восстания. Был близок к Муравьеву, командовал частями Красной армии, действовавшими на Украине (2-я революционная армия, «сводные колонны», Северная армия). Затем — командующий Особой армией. Весной 1918, после ареста Муравьева, также был арестован ВЧК. Его арест вызвал протесты со стороны анархистов 182, 185
Ренненкампф Николай Карлович, действительный статский советник, в 1887–1890 ректор Киевского университета Св. Владимира, впоследствии заслуженный ординарный профессор того же университета 42
Репин Илья Ефимович (1844–1930), русский живописец, передвижник 86, 508
Ржевуская, графиня 575
Роговский Людомир Михал (1881–1954), русский композитор польской национальности, белоэмигрант, жил и работал в Югославии. На либретто своего друга И. Н. Голенищева-Кутузова написал в Дубровнике пятиактную оперу «Марко Королевич» по мотивам югославских эпических песен 412, 415
Родзянко Георгий Михайлович (1890–1918), сын председателя Государственной Думы, окончил Александровский лицей, во время войны — капитан л.-гв. Преображенского полка. Был расстрелян 26 января (8 февраля) 1918 182, 183
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924), крупный землевладелец, помещик Екатеринославской губ. Один из лидеров партии октябристов, член III и IV (с 1911 г. — ее председатель) Государственной Думы, в феврале-марте 1917 председатель Временного Комитета Государственной Думы. После Октябрьской революции бежал на Дон. С 1920 в эмиграции в Югославии 110, 112, 113, 122, 134, 135, 138, 150, 160, 170, 182, 318, 589
Родзянко Татьяна Николаевна (1892–1933), урожд. княжна Яшвиль, художница, общественная деятельница. Ее имение Сунки было центром кустарной промышленности. При работе над картиной «Святая Русь» М. В. Нестеров писал с Т. Н. Яшвиль одного из поводырей. В 1917 вышла замуж за Г. М. Родзянко. В Гражданскую войну была связана с Добровольческой армией, при Врангеле работала в Севастопольском управлении Красного Креста. В эмиграции в Чехословакии, член-основатель археологического института им. академика Н. П. Кондакова 182, 183
Родичев Федор Измайлович (1854–1933), помещик, юрист, земский деятель, один из организаторов кадетской партии, предводитель дворянства Весьегонского уезда Тверской губ. Член четырех Государственных Дум. После Февральской революции — комиссар Временного правительства по делам Финляндии. В эмиграции в Швейцарии 136, 137, 589
Розен, баронесса, см.
Френкель
Розов Иван Алексеевич, в начале 1900-х киевский книготорговец, гласный киевской городской думы 292
Роланд (Хруотланд), маркграф, племянник Карла Великого и герой «Песни о Роланде» 381
Роланд де (Roland de), представители французской дворянской фамилии, потомки маркграфа Роланда (Хруотланда), племянника Карла Великого 381, 382
Романовский Иван Павлович (1877–1920), генерал-лейтенант (1919). В 1917 генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем. Как участник корниловского выступления был арестован. С ноября 1917 на Дону, один из организаторов Добровольческой армии. Начальник штаба Добровольческой армии, Вооруженных сил Юга России (февраль 1918 — апрель 1920), член Особого совещания. После отставки А. И. Деникина покинул эти посты и выехал вместе с ним в Турцию. Убит в здании российской миссии поручиком М. А. Харузиным (ранее — членом «Азбуки») 206, 207
Романовы, династия русских царей и российских императоров, правившая в России в 1613–1917 гг. 119, 131, 166, 272, 330
Ронжин Сергей Александрович, генерал-майор Генерального штаба, в 1914–1917 гг., начальник военных сообщений при Верховном Главнокомандующем, в 1920 генерал для поручений при Главнокомандующем Русской армией в Крыму генерале П. Н. Врангеле 280
Ростопчина, см. Сегюр
Ростоцкий Владимир Иванович, статский советник, учитель математики во 2-й киевской мужской гимназии в конце 1880-х — начале 1890-х 25
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), русский композитор, пианист, дирижер, музыкально-общественный деятель; основатель Русского музыкального общества (1859) и первой русской консерватории (1862) 91, 288, 366
Рудановская Софья Ипполитовна, секретарь газеты «Киевлянин» 35, 346
Рудольф (Рудольф Франц Карл Иосиф) (1858–1889), эрцгерцог, наследник австро-венгерского престола, сын императора Франца Иосифа 297
Рудыковская Мария Евстафьевна, см. Шульгина Мария Евстафьевна
Рудыковский Евстафий, статский советник, отец М. Е. Шульгиной 576
Рузвельт (Roosevelt) Теодор (1858–1919), 26-й президент США (1901–1909) от республиканской партии 297
Рыбинский Н. З., издатель 607
Рыжая Злата, жительница побережья р. Стырь 67
Рюрик, князь, согласно летописной легенде начальник норманнского (варяжского) военного отряда, призванный ильменскими славянами вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в Новгород. Основатель династии Рюриковичей 305, 543
Рюриковичи, русский княжеский и царский род потомков князя Рюрика, основателя Русского государства, а также целый ряд княжеских фамилий — потомков этого рода 119, 166, 504, 543
Савенко Анатолий Иванович (1874—?), журналист, окончил юридический факультет Киевского университета Св. Владимира, сотрудничал в «Киевском Слове», «Киевлянине», «Новом Времени», гласный Киевской городской думы, затем депутат 4-й Государственной думы от Киевской губернии, националист, затем прогрессивный националист. В годы Первой мировой войны — особо-уполномоченный по водным перевозкам в районе военных действий (по июль 1917). Был арестован в дни корниловского мятежа. Кандидат на выборах в Учредительное собрание от внепартийного блока русских избирателей. Член «Азбуки» (псевдоним «Аз»), курьер, сотрудник газеты «Великая Россия». Член Совета Государственного объединения России. Автор книги «Малорусский или украинский народ». По настоянию В. В. Шульгина был назначен начальником киевского отдела пропаганды после занятия города белыми в 1919 32, 147–150, 191, 192, 198, 211, 249, 261, 543, 587, 600
Савенко Василий Анатольевич (?—1920), сын А. И. Савенко. Был арестован одесской ЧК и расстрелян 261
Савинков Борис Викторович (1879–1925), с 1903 эсер, один из руководителей «Боевой организации», организатор многих террористических актов. Во Временном правительстве товарищ военного министра. Руководитель заговоров и мятежей против советской власти. Эмигрировал во Францию. Арестован в 1924 при переходе советской границы. Покончил жизнь самоубийством 463
Садыков Александр Николаевич, потомственный дворянин, надворный советник, секретарь Родзянко (официальная должность — делопроизводитель отдела Общего собрания и общих дел Канцелярии Государственной думы) 113
Сайн-Витгенштейн Екатерина Николаевна (1895–1983), княжна, дочь князя Н. Н. Сайн-Витгенштейна, с 1922 замужем за графом Андреасом Вольфгангом Фердинандом Эмануэлем Разумовски ф. Вигштейн (Razumovsky v. Wigstein) (1892–1991) 21
Сакко Анжелина Васильевна, ясновидящая и теософ, практиковала в Санкт-Петербурге, где с ней впервые познакомился В. В. Шульгин. Во время исхода белых из Крыма в 1920 эвакуировалась из Севастополя в Турцию, впоследствии жила в Париже 165, 214, 236, 243, 270, 322–328, 356, 365, 383, 578, 589, 603
Сакко, дочь А. В. Сакко 327, 328
Самохвалов Петр Титович (1869–1946), из крестьян Симбирской губ., окончил Казанское пехотное юнкерское училище (1894), в 1895–1904 служил в Колыванском пехотном полку (г. Моршанск) 10-й пехотной дивизии, в 1894 прикомандирован к Отдельному Корпусу Жандармов (Варшавское, Иркутское, Киевское губернские жандармские управления), с 1915 начальник Отделения по сохранению порядка и общественной безопасности в Варшаве (1915), полковник. Во время Гражданской войны в антибольшевистском подполье, член организации «Азбука» с 1.04.1918 (помощник начальника организации; шифр «Око»). В 1920 занимал должность начальника армейской контрразведки в Русской армии генерала П. Н. Врангеля. В эмиграции в Югославии 204, 270, 271, 275, 281, 305, 306, 350, 360, 604
Самохвалов, профессор киевского университета Св. Владимира в конце ХIХ — начале XX в. 46, 48
Самохвалова Ася, дочь профессора Самохвалова 46
Самохвалова, жена профессора Самохвалова 46
Санников Александр Сергеевич (1866–1931), генерал-лейтенант Генерального штаба, окончил Киевский кадетский корпус и Павловское военное училище, служил в кавалерии, в 1892 окончил Николаевскую военную академию, служил в Киевском военном округе на штабных должностях, в 1910–1913 генерал-квартирмейстер штаба Приамурского военного округа, в 1913–1914 начальник штаба Одесского военного округа. Во время 1-й мировой войны начальник штаба 2-й армии, в 1917 начальник снабжения Румынского фронта. В 1918 короткое время был одесским городским головой, с августа 1918 в Добровольческой армии, начальник снабжения ВСЮР. В январе 1919 ген. А. И. Деникин назначил его главноначальствующим и командующим войсками Юго-Западного края, однако французский генерал д’Ансельм не признал его полномочий. Впоследствии начальник снабжения ВСЮР. В эмиграции сначала в Югославии, затем во Франции 228, 229
Сапелкина Галина Вениаминовна, дочь М. А. Сапелкиной и жена Б. Я. Скидельского 338, 603
Сапелкина Мария Александровна, дочь потомственного почетного гражданина и чиновника Экспедиции изготовления бумаг Александра Всеволодовича Маурера от брака с Марией Модестовной Нееловой 276, 338, 339, 603
Святополк-Мирский Леонид Сергеевич, князь, офицер 166-го пехотного Ровненского полка, участник 1-й мировой войны. Во время Гражданской войны участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода. В ноябре-декабре 1918 командир 1-й Офицерской добровольческой дружины в Киеве. Впоследствии полковник в ВСЮР и Русской Армии (Марковская дивизия). После эвакуации Крыма был в Галлиполи, потом в Болгарии и окончательно осел в Бразилии 597
Сева, офицер 286, 287
Северянин Игорь (настоящие имя и фамилия Игорь Васильевич Лотарев) (1887–1941), русский поэт. После 1917 в эмиграции в Эстонии 422, 423, 425, 426, 428, 429
Северянина Фелисса (Лотарева Фелисса Михайловна) (1902–1957), урожд. Круут, дочь эстонского деревенского плотника, окончила гимназию, в 1921 вышла замуж за поэта Игоря Северянина. Под сценическим псевдонимом Ариадны Изумрудной принимала участие в поэтических турне мужа по странам Европы в 1922–1934. От этого брака сын Вакх Лотарев 422, 423, 425, 426, 429
Сегюр де (Ségur de) Софья Федоровна (1799–1874), графиня, урожд. Ростопчина, дочь генерала Ф. В. Ростопчина и Е. Протасовой, в 1819 вышла замуж за графа Эжена де Сегюра (Eugéne de Ségur), популярная французская детская писательница 383
Седельников Владимир («Вольде») Дмитриевич (1902–1967), брат М. Д. Шульгиной. В эмиграции в Югославии, после 2-й мировой войны в США 87, 334, 350, 380, 402, 410, 417, 418, 420, 421, 430, 435, 604,
Седельников Дмитрий Михайлович (ок.1862–1943), генерал-майор, отец М. Д. Шульгиной. В эмиграции в Югославии 278, 334, 350, 402, 418, 469, 500
Седельникова Варвара Дмитриевна, сестра М. Д. Шульгиной 366
Седельникова Елизавета Дмитриевна (ок. 1910—?), сестра М. Д. Шульгиной 366
Седельникова Зинаида Ивановна, урожд. Разумовская, жена Седельникова Владимира Дмитриевича, брата 2-й жены В. В. Шульгина; в 1-м браке была за полковником В. П. Барцевичем 270, 271, 274, 275, 281, 350
Седельникова Мария Дмитриевна, см.
Шульгина Мария Дмитриевна
Седельникова Мария, урожд. Жданова, жена генерала Д. М. Седельникова и мать сестер Седельниковых и их брата В. Д. Седельникова 366
Седельникова София («Люля») Дмитриевна (?—1920), сестра М. Д. Шульгиной 52, 53, 275
Седельникова Татьяна («Таталия») Дмитриевна, (?—1920), сестра М. Д. Шульгиной 52, 53, 275
Седельниковы, семья М. Д. Седельниковой, второй жены В. В. Шульгина 52
Седов Георгий Яковлевич (1877–1914), русский гидрограф и полярный исследователь 109–111
Седова, жена Г. Я. Седова 111
«Семал», см. Семен Алексеевич
Семен Алексеевич («Семал»), белоэмигрант, знакомый В. В. Шульгина, жил во Франции 336, 337, 344–346
Сенкевич Генрик (1846–1916), польский писатель 581
Сент-Элер Август-Феликс де (1866—?), граф, с 1917 французский посланник в Румынии 190
Серкаль, французский разведчик. Сотрудник «Азбуки» (псевдоним «Добро»). Осенью 1918 именовался «секретарем французского консульства» в Одессе, «атташе французского консульства». В это время регулярно совершал поездки в Киев, где вел переговоры с украинскими политическими деятелями. А. И. Деникин считал его «представителем французской разведки в Киеве»
Серов Валентин Александрович (1865–1911), русский живописец и график
Синеус, легендарный князь, правивший в конце IX в. в Белоозере, брат Рюрика 305
Ситроен, владелец французской автомобильной компании «Сосьете аноним отомобиль Андре Ситроен», выпускавшей с 1919 автомобили марки «Ситроен» 313
Скарги, иезуит 321
Скидельские, крупные железнодорожные подрядчики Южно-Уссурийского (Приморского) края и благотворители конца XIX — начала XX в. 338
Скидельский Борис Яковлевич, внук подрядчика Л. Ш. Скидельского 338, 603
Скидельский Лейба Шиманович, железнодорожный подрядчик 603
Скоблин Николай Владимирович (1894–1937?), генерал-майор (1920). Участник 1-й мировой и Гражданской войн. В русской армии генерала П. Н. Врангеля в Крыму был начальником дивизии. В эмиграции во Франции, в сентябре 1930 был завербован советской разведкой и выполнял ее задания вплоть до похищения председателя РОВС’а генерала Е. К. Миллера в сентябре 1937. Был разоблачен и бежал, по-видимому, в Испанию 283, 284
Скоропадская Надежда Ивановна, урожд. Кондояки, в 1-м браке Маркова, во 2-м за Г. В. Скоропадским 73, 580
Скоропадский Георгий Васильевич (1873—?), окончил юридический факультет Киевского университета Св. Владимира, председатель Сосницкой уездной земской управы Киевской губ., член III и IV Государственной Думы от Черниговской губ., октябрист 73, 580
Скоропадский Павел Петрович (1873–1945), украинский военный и политический деятель, в 1918 гетман Украины 117, 166, 195–198, 201, 203, 204, 211, 222, 223, 239, 540, 542, 561, 594, 595, 601
Скоропадский Иван (1646–1722), гетман запорожского войска, союзник Петра I 545
Слащёв Яков Александрович (1885–1929). Генерал-лейтенант (1920), окончил Николаевскую академию Генерального Штаба. Участник 1-й мировой и Гражданской войн. В Русской армии генерала П. Н. Врангеля в Крыму командовал армейским корпусом. В ноябре 1920 эмигрировал в Турцию, в 1921 реэмигрировал в Сов. Россию. Преподавал тактику в школе командного состава «Выстрел» советской армии. Убит в помещении школы, якобы из личной мести, хотя по времени его убийство совпадает с волной репрессий, обрушившейся на бывших офицеров белых армий 279, 280
Сливинская Мария Андреевна, урожд. Вишневская, жена А. В. Сливинского 183, 185, 262, 421, 422, 425, 431–433, 601
Сливинский Александр Владимирович (1886–1953), полковник. Окончил Академию Генерального штаба, во время 1-й мировой войны начальник штаба кавалерийской дивизии, после Брестского мира служил в воинских формированиях Центральной Рады, с апреля 1918 в Вооруженных силах Украинской державы гетмана П. П. Скоропадского — начальник его Генерального штаба, затем военный министр. После падения гетмана находился в Вооруженных силах Юга России. В эмиграции сначала в Югославии (1920–1925), потом в Германии и с 1951 в Канаде 421, 422, 423, 425, 431, 432, 433, 601
Слинко, киевский домовладелец 177
Смаковская Евгения Константиновна, см. Гуниа Евгения Константиновна
Смаковская Мария Константиновна, дочь К. И. Смаковского 58
Смаковская Софья Григорьевна («Сошка») (1873–1920), урожд. Градовская, сестра Е. Г. Шульгиной, жена Л. И. Смаковского, во втором брак за Гуниа 18, 28, 37, 56–60
Смаковский Григорий Константинович, сын К. И. Смаковского 58
Смаковский Константин Иванович (18?? — 1917), сотрудник газеты «Киевлянин», был женат на С. Г. Градовской, сестре жены В. В. Шульгина 18, 57–59, 582
Смаковский Михаил Константинович (?—1920), сын К. И. Смаковского 58, 59
Смирнов Андрей, друг В. В. Шульгина 43, 257
Смирнов П. И., командующий Днепровской флотилией с 13.09.1919 660
Смоленский Александр Юрьевич, по прозвищу Монастырь, предок семьи Шульгиных 16
Соколов К. Н., в марте 1919 — марте 1920 возглавлял Осведомительное агентство (Осваг) при Деникине, автор воспоминаний «Правление генерала Деникина: Из воспоминаний». София, 1921 598—600
Соколов Николай Алексеевич (1882–1924), судебный следователь по важнейшим делам Пензенского губернского суда. После октября 1917 скрывался в деревне, затем пробрался в Сибирь; следователь по особо важным делам Омского окружного суда. В феврале 1919 А. В. Колчак поручил ему расследовать обстоятельства смерти царской семьи. Свое расследование Н. А. Соколов продолжил и в эмиграции. Автор книги «Убийство царской семьи» (первое издание — 1925) 226
Соколовские, род околичной шляхты на Украине 145
Соловцов Владимир Владимирович (1856 — около 1926), капитан 1 ранга (1902) 19-го флотского экипажа. В службе с 1873, гардемарин (1876), мичман (1877), в 1894–1902 был старшим офицером и командиром ряда броненосцев береговой обороны Балтийского флота («Лава», «Латник», «Адмирал Сенявин», «Чародейка»), с 1909 в отставке. В эмиграции во Франции, скончался и похоронен в Вансе (Vence) на юге Франции 380, 381
Соловцов Николай Николаевич (сценический псевдоним Федорова, 1857–1902), актер, режиссер, антрепренер; происходил из дворянской семьи, в 1880-х годах выступал в Петербурге на императорской сцене, потом играл в Москве. В Киеве создал «Соловцовский театр», в Одессе — городской, где, кроме драмы, организовал итальянскую оперу; в 1897–1898 издавал «Киевскую газету» 39, 380
Соловцова, вдова капитана 1 ранга В. В. Соловцова 380, 381
Сологуб Федор Кузьмич (1863–1927), русский поэт, писатель 581
Социн Лелий (1525–1562), итальянец, деятель Реформации, дядя Ф. Социна, вместе с ним стоявший у истоков учения социниан 603
Социн (Socyn, Socinus, Sozzini) Фауст (1539–1604), итальянец по происхождению, деятель Реформации в Польше, занимавший в вопросах веры крайне антикатолические позиции 320, 557, 603
Спекторский Евгений Васильевич, коллежский асессор, и. д. экстраординарного профессора Университета Св. Владимира (Киев), читал энциклопедию права 146, 439
Спирин Л. М., автор книги «1917 год: Из истории борьбы политических партий». М., 1987. 586
Споре Карин Вольдемаровна, дочь полковника, служащая Канцелярии Государственной Думы 508, 509
Сталин (наст, фамилия Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879–1953), советский политический и государственный деятель. Установив в СССР диктаторский режим, являлся единоличным руководителем государства в 1924–1953 143, 362, 479, 503, 551, 555, 559
Стамболийский Александр Стоименов (1879–1923), болгарский политический деятель, демократ и республиканец по убеждению. Происходил из крестьян, получил образование в Германии, лидер (с 1902) Болгарского земледельческого народного союза, в 1919–1923 премьер-министр Болгарии, провел ряд демократических реформ. Убит после военного переворота 287, 288
Стамболийский, болгарский крестьянин, отец Александра Стамболийского 287
Стамболов Стефан (1854–1895), болгарский государственный и политический деятель, участник национально-освободительной борьбы против турецкого ига, после освобождения Болгарии избирался в Учредительное собрание, затем в Национальное собрание (парламент), лидер Народно-либеральной партии. В 1887–1894 глава правительства, установил в стране режим диктатуры, во внешней политике ориентировался на Австро-Венгрию и Германию. В 1894 был отстранен от власти князем Фердинандом 287
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863–1938), русский и советский режиссер, актер, педагог, теоретик и крупнейший реформатор русского театра. В 1898 совместно с В. И. Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр. Почетный академик Петербургской Академии наук (1917), народный артист СССР (1936) 164, 312
Стахович Михаил Александрович (1861–1923), русский общественный и политический деятель, из дворян Орловской губернии, в звании камергера, действительный статский советник, Орловский губернский предводитель дворянства, член I и II Государственной Думы, член Государственного Совета по выборам от Орловского губернского земского собрания, один из основателей «Союза 17 октября», а затем либерально-центристской «Партии мирного обновления». После Февральской 1917 года революции был финляндским генерал-губернатором, в сентябре 1917 Временным Правительством был назначен послом в Испанию, однако прибыл на место после прихода к власти большевиков, не успел вручить верительные грамоты испанскому правительству и не был им признан официальным представителем России 37, 284, 314
Степанов Василий Александрович (1871–1920), двоюродный брат писательницы З. Н. Гиппиус; горный инженер, директор Богословского горного округа. Депутат 3-й и 4-й Государственных дум, кадет, член ЦК партии. После Февральской 1917 года революции товарищ (заместитель) министра торговли и промышленности; летом 1917 — управляющий министерством торговли и промышленности. В конце 1917 — начале 1918 — член Донского гражданского совета. Участник антибольшевистского подполья, один из основателей «Правого центра» (Москва, март 1918). Член «Азбуки» (псевдоним «Слово»), заместитель
начальника организации. В 1918 участвовал в разработке «конституции» Добровольческой армии. В 1918–1919 возглавлял контрольный аппарат Особого совещания. Во время отъезда Шульгина из Екатеринодара в 1919 возглавлял «Азбуку». С марта 1920 в эмиграции 192, 249
Столыпин Аркадий Петрович (1903—?), сын П. А. Столыпина 440
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), русский государственный деятель, министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 1906), определял правительственный курс после подавления 1-й русской революции 1905–1907, руководитель аграрной реформы, направленной на наделение крестьян землею 115, 181, 194, 318, 440, 476, 507, 588
Стрижевская N. Ивановна, урожд. Пихно, сестра Д. И. Пихно 88, 160
Стрижевский Василий Иванович, племянник Д. И. Пихно 88
Стрижевский Иван, муж сестры Д. И. Пихно 88
Строев Н., редактор газеты «Голос Киева», выходившей вместо «Киевлянина» с 1 (14).04.1918 595
Струве Глеб Петрович (1898–1985), сын П. Б. Струве, поэт, переводчики крупнейший литературовед Белой эмиграции («Русская литература в изгнании», 1956, 1984 и 1996). В эмиграции сначала во Франции, затем в США 385, 603
Струве Петр Бернгардович (1870–1944), русский экономист, философ, историк, публицист, автор манифеста I съезда РСДРП, участник лондонского конгресса II Интернационала (1896), виднейший представитель «легального марксизма». В начале 1900-х порывает с марксизмом и переходит в лагерь либералов, с образованием партии конституционных демократов («кадетов») становится одним из ее лидеров (член ЦК), член Государственной Думы. Редактор журнала «Русская мысль». В 1917 редактировал еженедельник «Русская свобода» (в нем печатался В. В. Шульгин). С августа 1917 член Совета общественных деятелей. В том же году организовал Лигу русской культуры (В. В. Шульгин упоминался в числе учредителей и членов Временного комитета Лиги). В декабре 1917 член Донского гражданского совета. Участник антисоветского подполья («Национальный центр»). В 1919 представитель ген. Юденича в Великобритании и Франции. Вернулся на юг России, член Совета государственного объединения России, сотрудник газеты «Великая Россия». С апреля 1920 начальник управления иностранных сношений Правительства Юга России. В эмиграции во Франции 113, 116, 140, 144, 145, 273, 292, 294, 385, 512, 581, 595
Суворин А. А. (1862—?), сын издателя А. С. Суворина, участник 1-го Корниловского похода, автор воспоминаний «Поход Корнилова» (Изд. 2-е. Ростов-на-Дону, [1919]) 287, 288, 595
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912), русский журналист и издатель, издавал в С.-Петербурге газету «Новое время» (с 1876), журнал «Исторический вестник» (с 1880), сочинения русских и иностранных писателей, научную литературу, а также адресные книги и др. 127, 128, 288
Суворина, жена А. А. Суворина 287, 288
Суворов Александр Васильевич (1730–1800), русский полководец 16
Суворов, служащий в имении Шульгиных-Пихно Агатовка 83
Судаков, полковник НКВД, начальник одного из следственных отделов на Лубянке 462, 466
Судьбинин, актер елизаветградского театра 41
Сулима, помещик 89
Суходрев Всеволод Михайлович, сотрудник газеты «Новое время», автор путеводителя по С.-Петербургу 128
Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), русский военный деятель, генерал от кавалерии (1906), командующий войсками Киевского военного округа (1904–1908), начальник Генерального штаба (1908–1909), военный министр (1909–1915). Был арестован в апреле-октябре 1916 и вновь — после Февральской революции за бездействие, превышение власти, государственную измену и служебный подлог. В сентябре 1917 осужден на пожизненные каторжные работы. 1 мая 1918 освобожден как достигший 70-летнего возраста; эмигрировал 121, 122, 146, 583
Сухомлинова Екатерина Викторовна (1882—?), урожд. Гошкевич, в 1-м браке Бутович, жена военного министра генерала В. А. Сухомлинова. В 1916 была привлечена в качестве обвиняемой, в августе-сентябре 1917 судилась вместе с мужем. Вердиктом присяжных заседателей от 14 (27) сентября была оправдана 35, 64, 97, 121, 146, 244
Таиров, агроном, сокамерник В. В. Шульгина по Владимирской тюрьме 494
Тараканова Елизавета (ок. 1745–1775), самозванка, выдававшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и объявившая себя претенденткой на русский престол. В 1775 была заключена в Петропавловскую крепость 413
Татьяна Николаевна (1897–1918), великая княжна, дочь императора Николая II, расстреляна в Екатеринбурге 478
Татьяна Яковлевна, медсестра в доме инвалидов в Гороховце 524
Тауэр, германский офицер 174
Терещенко Михаил Иванович (1886–1956), сахарозаводчик, был близок к партии прогрессистов. В 1917 министр финансов, затем министр иностранных дел во Временном правительстве 155, 156, 588
Тессейр, учитель игры на скрипке 74
Тимошенко Иван Илиазарович, учитель древнегреческого языка во 2-й Киевской мужской гимназии в конце 1880-х — начале 1890-х 26
Тихон (Белавин Василий Иванович) (1865–1925), патриарх Московский и Всея Руси с 1918 612
Ткаченко Александр Павлович, прапорщик, член «Азбуки» с 1.05.1919, старший отдела связи в Киеве 261, 263
Ткаченко, первый муж JI.A. Поповой 60
Тодт (Todt), Фриц (1891–1942), рейхсминистр вооружения и боеприпасов фашистской Германии. Инженер-строитель, участник 1-й мировой войны, член нацистской партии (1923), штандартенфюрер СС (1931), возглавлял созданную в 1933 организацию, занимавшуюся строительством наиболее важных военных объектов, в том числе оборонительных сооружений и скоростных автомагистралей. В 1940–42 Тодт возглавлял министерство вооружения и боеприпасов. Погиб в авиационной катастрофе 62
Тозелли (Toselli) Энрико (1883–1926), итальянский пианист-виртуоз и композитор (музыка для сцены, оркестровые произведения и камерная музыка), учился у Джованни Сгамбати 497, 498
Толстой Алексей Константинович (1817–1875), русский писатель 493, 553
Толстой Алексей Николаевич (1882–1945), русский советский писатель. В начале Гражданской войны эмигрировал на Запад, затем вернулся в СССР. Его книги считаются классическими произведениями «социалистического реализма», своим творчеством способствовал утверждению коммунистической идеологии в литературе, за что был обласкан властями (академик, депутат Верховного Совета, неоднократный лауреат Сталинских премий по литературе) 160, 318, 589
Толстой Лев Николаевич (1828–1910), русский писатель 206, 511
Трепов Федор Федорович (1854–1938), генерал-адъютант (1909), генерал от кавалерии (1909), киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (1908–1914). В годы 1-й мировой войны генерал-губернатор областей Австро-Венгрии, захваченных русскими войсками. В эмиграции во Франции 147
Троицкий Михаил Александрович, см. Георгиевский Михаил Александрович
Троицкий Сергей Викторович (1878, Томск — 1972, Белград), профессор, историк церковного и канонического права. Окончил Петербургскую Духовную академию. Магистр богословии, приват-доцент Историко-филологического факультета Новороссийского университета в Одессе (на кафедре церковной истории). В 1920 г. эмигрировал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. Профессор богословского факультета в Белграде (1920–29, 1941–45), ординарный профессор церковного права юридического факультета в г. Суботица (1929–41), профессор Сергиевского подворья-академии в Париже (1947–48). Автор многих книг, научных работ и статей, опубликованных в европейских странах, а после 1945 г. — даже в СССР 605
Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) Лев Давыдович (1879–1940), советский партийный и государственный деятель, соратник В. И. Ленина, в социал-демократическом движении с 1897, участник революции 1905–1907, председатель Петербургского Совета. Во время Октябрьского 1917 переворота председатель Военно-революционного комитета в Петрограде, в 1918–1924 народный комиссар военных и морских дел и председатель Революционного Военного Совета Республики, организатор и руководитель Красной Армии, член ЦК ВКП(б) в 1917–1927, член Политбюро партии в 1919–1926. После смерти Ленина потерпел поражение в борьбе за власть, был обвинен в антисоветской деятельности и выслан из СССР. В эмиграции в Мексике, где был убит по указанию Сталина 149, 150, 308, 361–363
Трубецкой Е.Н., князь, в 1918–1919 сотрудничал в газете «Великая Россия», которую издавал сначала в Екатеринодаре, затем в Ростове В. В. Шульгин 595
Трувор, легендарный князь, правивший в конце IX в. в Изборске, брат Рюрика 305
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), русский писатель 146, 461, 464, 553, 586
Уваров И.А., граф, бельский уездный предводитель дворянства, камер-юнкер, статский советник 414
Уварова Елизавета Николаевна (1899–1959), графиня, урожд. Хомякова, жена графа И. А. Уварова. В эмиграции в Югославии, затем в Аргентине 413, 414
Угнивенко Александр Васильевич, в прошлом офицер 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 181, 182, 184–188, 593
Урсулов Н. Н., комиссар Вознесенского уезда Херсонской губернии 651
Урусов Валерий Семенович (?—1893), князь 79
Урусова, княгиня, урожд. княжна Кейкулатова 79
Урусова Варвара Валерьевна, княжна, см. Меркулова Варвара Валерьевна
Урусова Екатерина Валерьевна, княжна, сестра В. В. Меркуловой 79, 84
Ухтомский Николай Александрович (1895–1953), князь, окончил Симбирскую гимназию, с 1919 в эмиграции, жил в Харбине (Китай), занимался журналистикой. В августе 1945 был интернирован и отправлен в Москву. 30.08.1946 Военной коллегией Верховного суда осужден по делу атамана Г. М. Семенова на 20 лет каторжных работ. Скончался 18.08.1953 в одном из Воркутинских лагерей 512, 513, 515
Ушакова Зоя Григорьевна, см. Ефимовская Зоя Григорьевна
Фальц-Фейн Владимир Эдуардович (1877—?), крупный землевладелец (9890 десятин). Депутат III Государственной Думы, октябрист 152
Фальц-Фейн, дед В. Э. Фальц-Фейна 152
Фальц-Фейн, жена В. Э. Фальц-Фейна 152, 153
Фальц-Фейны, семья 152
Фатинна Николаевна, сотрудница сельскохозяйственного училища, основанного сестрами А. П. Пихно и О. П. Вангельгейм 95
Ферберн, учительница английского языка 40
Фесенко, свидетель В. В. Шульгина по делу об обвинении его в выступлении против прокурора Чаплинского, разбиравшемуся Киевской судебной палатой 321
Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892), русский поэт 100
Фиалек Иван (Ипполит) Михайлович (1875–1936), польский революционер, член Киевского Совета рабочих депутатов (1917), один из руководителей Январского 1918 года восстания в Киеве. В 1918–1928 на подпольной работе в Польше, с 1927 постоянно жил в Киеве, работал в редакции газеты «Коммунист» 586
Фиалковский Юрий Евгеньевич, подпоручик, член «Азбуки» с 15.04.1918, сотрудник ее осведомительного отдела в Киеве 250, 252, 253
Филиппов Александр Иванович (1882–1942), литератор, белоэмигрант, в Париже редактировал совместно с Б. А. Сувориным монархическую газету «Русская газета», затем «Русское время» 329, 331–334, 369, 383, 603
Филиппов Федор Иванович, белоэмигрант, брат А. И. Филиппова, жил на юге Франции 331–337, 342, 344, 345, 354, 355, 369
Филиппова Анна Бернардовна, урожд. Миллер (Мельникова), жена Ф. И. Филиппова 333, 334, 336, 337, 342, 344, 345, 354, 355
Филиппова Мария Бернардовна, урожд. Миллер (Мельникова), жена А. И. Филиппова 331, 333, 344, 345, 369
Филиппова, дочь А.И. и М. Б. Филипповых 344, 345, 369
Филипповы 334
Филоневич Екатерина, дочь киевского торговца оптикой Марто 75
Филоневич, корреспондент газеты «Известия» в 1960-х гг. 75
Фирлей, польский дворянский род 581
Фирсов Игорь Николаевич (1906–1979), в 1965–1975 директор Центрального Государственного исторического архива (ЦГИА, Ленинград) 12
Фицджеймс Джеймс (Fitzjames James), герцог Берквик-апон-Твид (Berkwick-upon-Tweed), граф Тинмаут (Tinmouth), барон Босворт (Bosworth) (1670, Мулен, Франция — 1734, Филиппсбург, Вюртемберг), принадлежал к английскому титулованному дворянству, маршал Франции, выдающийся французский полководец первых войн XVIII в. Был внебрачным сыном герцога Йоркского (впоследствии английского короля Якова II Стюарта) и Арабеллы Черчилль, родоначальник рода Фицджеймсов. Образование получил во Франции, в 1687 Яков II возвел его в герцоги Бервик-апон-Твид, после свержения отца с престола бежал во Францию, поступил на службу во французскую армию с чином генерал-лейтенанта. В 1704 командовал войсками против мятежников-гугенотов в Лангедоке, в 1706 отобрал Ниццу у Евгения Савойского за что получил звание маршала Франции. Участник войны за испанское наследство, освободил от англичан Мадрид, в 1707 разгромил их в битве при Альмансе и очистил от них Арагон, тем самым дав королю Филиппу V Бурбону, внуку Людовика XIV, сохранить за собою корону. Был пожалован Филиппом V грандом Испании (1704) и герцогом де Лириа и де Ксерика в Валенсии (1707), а Людовиком XIV — герцогом и пэром Фицджеймсом (1710). В 1714 штурмом взял Барселону, последний оплот каталонского сопротивления Филиппу V. Вторжение Фицджеймса в Испанию в 1719 положило конец притязаниям Филиппа V на регентство во Франции. Был убит пушечным ядром при осаде Филиппсбурга (Вюртемберг) во время войны за польское наследство 51, 576
Фицджеймсы, английский титулованный дворянский род 51
Флора, имя румынской медсестры 213–215
Фонштейн (у В. В. Шульгина — Штейн) Николай Ильич (1878—?), офицер-артиллерист, военный инженер, во время 1-й мировой войны занимался формированием подразделений тяжелой артиллерии, в апреле 1916 назначен командиром 2-го запасного артиллерийского тяжелого полка (Царское Село), генерал-майор (06.12.1916). В эмиграции в Югославии (г. Панчево). Арестован органами Смерш 15.6.1945, осужден 21.12.1945 Особым Совещанием при НКВД СССР на 8 лет, тюремное заключение отбывал во Владимирской тюрьме. Выбыл 17.9.1953 в Дубровлагерь МВД СССР (ст. Потьма Моск. — Рязанской ж.-д.) через Московскую пересыльную тюрьму. Дальнейшая судьба неизвестна 469, 476
Форе (Fauré) Габриель (1845–1924), французский композитор и органист, ученик Л. A. Нидермейера и К. Сен-Санса, один из основателей и активных членов Национального музыкального общества (1871), в 1905–1920 директор Парижской консерватории Среди произведений Ф. выделяются камерно-инструментальные, фортепианные пьесы, хоры, романсы, музыка к спектаклям драматического театра, ряд опер 366
Франц-Иосиф I (1830–1916), австрийский император 294
Франц-Фердинанд (1863–1914), эрцгерцог, наследник австро-венгерского престола, племянник императора Франца-Иосифа 1103
Франциск Ассизский (1181–1226), итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев 478
Франше д’Эсперре Луи Феликс Мари Франсуа (1856–1942), французский генерал, с июня 1918 командующий Восточной армией в Македонии, с октября 1917 главнокомандующий союзными войсками на Балканах и в Крыму (ставка — в Салониках). В 1919 командующий французскими войсками в Одессе. Маршал Франции (1921) 227
Фреданбер, см. Фриденберг
Френкель Александр Андреевич, старший брат Евгения и Сергея Френкелей, друзей В. В. Шульгина 31
Френкель Андрей Федорович, киевский присяжный поверенный, отец Александра, Евгения и Сергея Френкелей 27
Френкель Евгений Андреевич, друг В. В. Шульгина. Эмигрировал во Францию 27, 31
Френкель Сергей Андреевич, друг и соученик В. В. Шульгина по 2-й Киевской мужской гимназии. Окончил юридический факультет университета Св. Владимира и математический факультет Льежского университета. В 1906 вернулся в Россию и открыл первую кинематографическую прокатную контору и свой кинотеатр на 300 мест в Киеве. В 1909 был учредителем «Первого русского акционерного кинематографического общества» с капиталом в сто тысяч рублей. Эмигрировал во Францию, жил и скончался в Ницце в конце 1920-х 27–29, 31, 57, 302, 303, 365, 377, 394
Френкель Этель, жена С. А. Френкеля 28, 29, 302, 303, 394
Френкель, урожд. баронесса Розен, жена киевского присяжного поверенного Андрея Федоровича Френкеля 27
Фриденберг (у Шульгина — Фреданбер), французский полковник, начальник штаба генерала д’Ансельма 239, 598, 599
Хаджи-Поп, уроженец северного Кавказа, отец капитана А. В. Попова 60
Ханжин Михаил Васильевич (1871–1961), генерал от артиллерии (1919), из уральских казаков. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1893) и Михайловскую артиллерийскую академию (1899). Участник русско-японской (1904–1905) и 1-й мировой войн. После Февральской революции генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем. Во время Гражданской войны в армии адмирала А. В. Колчака: командир Уральского корпуса, командующий Западной отдельной армией Восточного фронта, военный министр в правительстве А. В. Колчака. В эмиграции в Китае, начальник Дальневосточного отдела РОВС. Арестован в августе 1945 в Манчжурии органами СМЕРШ. Осужден на 10 лет тюремного заключения, в 1954 по амнистии вышел на свободу, жил в Казахстане 469
Ханзен (Hansen) Эрих (1889–1967), генерал кавалерии. В 1907 поступил на прусскую военную службу Fahnenjunker’oм, принимал участие в 1-й мировой войне. В 1916 капитан, прикомандирован к Генеральному штабу. Генерал-лейтенант (1939), генерал кавалерии (1940), в том же году в качестве главы германской военной миссии отправлен в Румынию. В 1944 выдан румынскими властями советским войскам, депортирован в Москву и приговорен к 25-летнему тюремному заключению. В 1955 вернулся в Гамбург 475, 476
Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (ок.1595–1657), гетман Украины, руководитель освободительной борьбы русского народа в Малороссии против польского господства в 1648–1654. На Переяславской Раде провозгласил воссоединение Малороссии с Россией 167, 171, 364, 511, 544, 546, 547, 549, 550, 552–554, 557, 558, 592, 607
Холодная Вера Васильевна (1893–1919), урожд. Левченко, популярная актриса русского кино, снималась с 1914. Умерла в Одессе 17.02.1919 242, 243, 276, 277
Хомяк, см. Хомяков Борис
Хомяков Борис (первая половина XVI в.), родоначальник Хомяковых 408
Хомяков Николай Алексеевич (1850–1925), окончил Московский университет, член II, III и IV Государственных Дум, один из учредителей и лидеров партии «Октябристов» («Союз 17 октября»), в 1907–1910 председатель 3-й Государственной Думы. В 1918–1920 возглавлял Общество Красного Креста в Добровольческой армии и Вооруженных силах Юга России 408
Хомякова Елизавета Николаевна, см. Уварова графиня Елизавета Николаевна
Хомякова Мария Николаевна, дочь Н. А. Хомякова, во время 1-й мировой войны возглавляла передовой санитарный отряд Государственной Думы, в годы Гражданской войны член организации «Азбука» с 1.01.1919 133, 208, 408–410, 412, 413, 431, 433
Хомяковы, семья 413
Хорват Дмитрий Леонидович (1858–1937), генерал-лейтенант (1912). Окончил Николаевское инженерное училище (1878) и Николаевскую инженерную академию, участник русско-турецкой войны 1877–1878, начальник Уссурийской и Закаспийской железных дорог (1899–1902), управляющий Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) в Маньчжурии (с 1902), во время Гражданской войны представитель адмирала А. В. Колчака в Маньчжурии. В эмиграции с 1920 в Китае 509
Хорив, согласно летописи, брат Кия, один из основателей Киева 323
Хрусталев Петр Алексеевич (Носарь Георгий Степанович, 1877–1918), помощник присяжного поверенного. Член нелегального политического объединения русской интеллигенции «Союза освобождения». В 1905 — председатель Петербургского Совета рабочих депутатов. В 1906 осужден, приговорен к ссылке. Бежал за границу. В годы Первой мировой войны вернулся в Россию и был арестован, прокуратурой возбуждался вопрос о его освобождении ввиду нервного расстройства. В дни Февральской революции был освобожден, руководил поджогом Окружного суда. Уехал на Украину, стал председателем земской управы в Переяславе-Хмельницком. Сотрудничал с П. П. Скоропадским и с С. В. Петлюрой. По некоторым данным, опубликовал брошюру «Как Лейба Троцкий-Бронштейн расторговывал Россию». Был расстрелян советскими властями. В. В. Шульгин преувеличивает роль Хрусталева-Носаря в событиях 1905 года. Прокурор, который вел его дело, вспоминал: «Хрусталев был простою пешкой революции, идя в поводу, как и многие другие, у Троцкого…»
(Завадский С. В. На великом изломе. Отчет гражданина о пережитом в 1916–17 годах // Архив русской революции. Берлин, 1923) 142, 148–150
Хрусталев-Носарь, см.
Хрусталев Петр Алексеевич.
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971), советский партийный и государственный деятель. Член КПСС с 1918, с 1931 на партийной работе. В 1953–1964 первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и в 1958–1964 Председатель Совета Министров СССР 11, 494, 507, 566
Цветков (Цветаев?), майор НКВД, в 1946 следователь на Лубянке 463–465
Цезарь (Caesar) Гай Юлий (102 или 100–44 до н. э.), римский полководец и диктатор 141, 584
Цельтнер Евгений, одноклассник В. В. Шульгина по 2-й киевской гимназии 448, 449
Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1959), член РСДРП, один из лидеров меньшевизма. Глава социал-демократической фракции во 2-й Государственной думе. После разгона Думы был арестован, приговорен к каторжным работам. С 1912 на поселении. Вернулся из ссылки после Февральской революции. Член Исполкома Петроградского Совета. Министр почт и телеграфов (май — июль), министр внутренних дел (июль — август). Депутат Учредительного собрания. Министр правительства Грузинской республики. С 1921 в эмиграции. Один из организаторов Социалистического Интернационала 135–137, 155, 156, 588
Чайковский Петр Ильич (1840–1893), русский композитор, крупнейший симфонист, музыкальный драматург и лирик 91, 366
Чаплинский Георгий Гаврилович, действительный статский советник, во время «дела Бейлиса» (1913) был главным прокурором Судебной палаты Киевского судебного округа 275, 321, 536–538
Частек Славонир (1894–1920), бывший офицер австро-венгерской армии, сдавшийся в 1917 в русский плен, член РКП(б) с июня 1918. В марте 1918 сформировал в Пензе интернациональный отряд, который участвовал в подавлении крестьянских выступлений против большевиков и в боевых действиях против частей армии адмирала А. В. Колчака, с января 1919 военком по формированию интернациональных групп Красной Армии, командовал 1-й Интернациональной стрелковой бригадой 12-й Красной армии 601
Чахотин С. С., руководитель Осведомительного отделения, организованного при Деникине летом 1918 (в сентябре было преобразовано в Осваг — Осведомительное агентство, а затем в Отдел пропаганды) 598
Чеберяк Вера Владимировна, одна из подозреваемых в убийстве А. Ющинского 537
Чебышев Николай Николаевич (1865–1937), российский судебный деятель. Окончил С.-Петербургский университет, с 1890 служил по ведомству Министерства юстиции — товарищем прокурора Смоленского и Московского окружных судов, товарищем прокурора и прокурором Московской и Киевской судебных палат. Имел репутацию честного судебного деятеля, сторонника строгого соблюдения закона. В 1917 г. Временным правительством назначен сенатором уголовно-кассационного департамента Сената. Во время Гражданской войны возглавлял управление внутренних дел Особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами Юга России. В эмиграции состоял при ген. П. Н. Врангеле, сначала возглавлял бюро печати при главном командовании Русской Армии, затем был начальником гражданской части канцелярии ген. Врангеля. После упразднения канцелярии с 1926 жил в Париже, работал в редакции газеты «Возрождение», входил в состав правления Союза русских литераторов и журналистов в Париже» 288, 306, 307, 360, 595
Чекалин Алексей, врач, член организации «Азбука», в эмиграции в Югославии (г. Дубровник) 404–407, 409, 410, 415, 431–435
Черемисов В.А., в ходе июньского наступления 1917 года русской армии командовал корпусом в 8-й армии генерала Л. Г. Корнилова 584
Черносвитов Александр Михайлович, коллежский секретарь, пошехонский уездный предводитель дворянства Ярославской губ., член IV Государственной Думы (от Ярославской губ.) 335
Черносвитова, жена А. М. Черносвитова 335
Черный Георгий, см. Карагеоргий
Черчилль Арабелла
(Churchill Arabella) (?—1715), дочь Уинстона Черчилля де Уоттон-Бессет, сестра Джона Черчилля, первого герцога Марльборо (Marlborough) 576
Чехов Антон Павлович (1860–1905), русский писатель, драматург 313
Чингисхан (Темучин) (1162?—1227), монгольский хан, выдающийся завоеватель, основатель Монгольской империи 559
Чихачев (Чихачев 1-й) Дмитрий Николаевич (1876–1917), помещик, председатель Подольского сельскохозяйственного общества. Шталмейстер, член III и IV Государственных Дум, националист, прогрессивный националист. Во время 1-й мировой войны прапорщик 17-го Донского полка, дислоцированного в Киеве. В 1917 кандидат Внепартийного блока русских избирателей на выборах в Учредительное собрание 171
Чихачев Владимир Сергеевич, ротмистр, член организации «Азбука» с 1.01.1919 (курьер). В эмиграции в Польше 358, 359, 378
Чихачев Д. А., член Государственной Думы, монархист 112
Чихачев Даниил Сергеевич (1883—?), старший лейтенант, служил на Черноморском флоте. Летом 1917 на выборах в городскую думу Киева был выдвинут кандидатом от Внепартийного блока русских избирателей. Сотрудник «Азбуки» в Киеве 204
Чичкины, русский купеческий род, в конце XIX — начале XX вв. занимался производством молочных продуктов 473
Чучка Екатерина, жена сборщика податей 430
Чучка, служащий строительной фирмы «Атлант» в Дубровнике, сын сборщика налогов 419, 429–431
Чучка, чиновник, сборщик податей в Дубровнике 429, 430
Шалва, сокамерник В. В. Шульгина во Владимирской тюрьме 497–500, 517, 518
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), русский певец (бас), крупнейший представитель русского исполнительского искусства, в 1922 эмигрировал на Запад 31, 32, 159, 318, 319
Шатилов Павел Николаевич (1881–1962). Генерал от кавалерии (1920). Окончил Николаевскую академию Генерального Штаба (1908). Участник 1-й мировой и Гражданской войн. В Русской армии генерала П. Н. Врангеля в Крыму был начальником ее штаба. Под его руководством штаб разработал операцию по эвакуации армии из Крыма. В эмиграции — сначала при генерале П. Н. Врангеле, в 1924–1934 — начальник 1-го отдела РОВС’а во Франции 280, 281
Шаховская, княжна 157, 158
Шварц Алексей Владимирович (1874–1953), генерал-лейтенант, известный военный инженер. Окончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую инженерную академию (1902). Участник русско-японской войны (оборона Порт-Артура). В 1914 комендант крепости Ивангород, в 1916 начальник Трапезундского укрепленного района. С марта 1917 начальник Военно-технического управления Генерального штаба. После октября 1917 — военный специалист Красной армии, командовал Северным и Петроградским участками обороны. Бежал на Украину. 21 марта 1919 по инициативе Фриденберга французское командование назначило его командующим русскими войсками в союзной зоне и генерал-губернатором Одессы. При поддержке союзников А. В. Шварц начал формирование т. н. Южно-русской армии, в которую входили как русские, так и украинцы. После эвакуации союзников в апреле 1919 выехал сначала в Италию, затем — в Аргентину. Профессор аргентинских Академии Генерального штаба и Высшей технической академии 239
Шевченко В. И., председатель КГБ по Владимирской области 364
Шевченко Николай Михайлович, поручик, член «Азбуки» с 1(14).12.1917, комендант отделения при Ставке 210, 211
Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861), украинский поэт 171, 222, 592, 597
Шекспир (Shakespeare) Уильям (1564–1616), английский драматург и поэт 41
Шелухин С.П., профессор Киевского университета, министр юстиции в Центральной Раде 540
Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759–1805), немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения 85
Шимон Африканович (XI в.), выходец из Норвегии на службе у Ярослава Мудрого, предок Аксаковых, Воронцовых и Вельяминовых 605
Шмаков Алексей Семенович (1852–1916), общественный деятель, публицист 538
Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), русский писатель, с 1922 в эмиграции 603
Шопен Фредерик (1810–1849), польский композитор, пианист 74, 215
Штакельберг Владимир Флорович (1876–1918), барон, окончил юридический факультет Киевского университета Св. Владимира, камер-юнкер, статский советник, чиновник особых поручений при министре внутренних дел 47
Штакельберг Флор Александрович (1843—?), барон, тайный советник, в 1898–1905 киевский вице-губернатор, в 1905–1909 волынский губернатор, с 1912 член совета министра внутренних дел, почетный попечитель Киевского благотворительного общества 47
Штейн фон, см. Фонштейн
Штраус, см.
Демченко
Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917), российский государственный деятель 583
Шуберский Эраст Петрович (ок. 1882–1932), в 1917 начальник Управления железных дорог 85
Шуйга, см.
Монастырев Александр Федорович
Шульга, см.
Монастырев Александр Федорович
Шульги (2093–2046 до н. э.), второй и самый значительный царь III династии Ура (Шумер), совершал завоевательные походы от Элама до Малой Азии, прославлен крупным храмовым строительством 440
Шульгин Александр Сергеевич (17?? — 1841), генерал-майор (1814), молодым офицером участвовал в Итальянском и Швейцарском походах А. В. Суворова, участник войн с наполеоновской Францией: Аустерлиц (1805), Гейльсберг и Фридланд (1807), Фершампенуаз и взятие Парижа (1814); московский (1815–1825) и санктпетербургский (1825–1826) обер-полицмейстер 16
Шульгин Александр Яковлевич (1889–1960), сын Я. Н. Шульгина и двоюродный племянник В. В. Шульгина, украинский националист, один из основателей Украинской Народной Республики (УНР), в ноябре 1917 — январе 1918 первый министр иностранных дел УНР («Генеральный секретарь международных дел»). При гетмане П. П. Скоропадском посол УНР в Болгарии. Впоследствии в связи с изменением политической ситуации в стране эмигрировал за границу, работал в должности профессора в украинских вузах в Праге, в 1926–1936 министр иностранных дел УНР в изгнании (Франция), в 1939–1940 глава правительства УНР 37, 292, 552, 555, 556, 560, 561
Шульгин Василид Васильевич (Василек) (1899–1918), старший сын В. В. Шульгина. Входил в состав студенческой дружины, оборонявшей Киев от петлюровцев. Убит 1 декабря 1918. Обстоятельства его смерти В. В. Шульгин изложил в письме В. А. Степанову от 6 (19) января 1919. (См.: К истории осведомительной организации «Азбука»… С. 169–170) 50, 117, 140, 192, 195, 198, 204, 205, 207, 222–225, 341, 377
Шульгин Василий Дмитриевич (род. 1942), внук В. В. Шульгина 51, 62, 378, 436
Шульгин Венедикт Макарович, мелкопоместный дворянин Полтавской губ. в 1820-х 16
Шульгин Вениамин Васильевич («Ляля») (1901–1925?), средний сын В. В. Шульгина. С 1 января 1919 член «Азбуки» (курьер). В 1920 юнкер флота, в ноябре 1920 участник обороны Перекопских укреплений в Крыму во время наступления Красной армии (в составе 3-го Марковского полка), ранен. После 1920 судьба неизвестна; предположительно умер в доме умалишенных в Виннице 50, 52, 53, 116, 195, 222, 223, 242, 243, 251, 255, 261–264, 270, 277, 322–324, 327, 341, 356, 364, 365, 369, 377, 382, 576, 594
Шульгин Виталий Яковлевич (1822–1879), профессор университета Св. Владимира (1839–1859), автор ряда учебников по истории древнего мира, средних веков и нового времени (1856–1862), Основатель, редактор и издатель газеты «Киевлянин» (1864–1878). Гласный Киевской городской думы (1870–1878). Отец В. В. Шульгина. О нем см.: «Киевлянин» под редакцией Виталия Яковлевича Шульгина (1864–1878). Киев, 1880 15, 17, 18, 19, 32, 34–37, 171, 257, 575, 576, 582
Шульгин Дементий Ефимович, капитан, участник штурма Измаила в 1790 16
Шульгин Дмитрий Васильевич (1905–1999), младший сын В. В. Шульгина. С 1920 в эмиграции. Моряк российской эскадры, дислоцировавшейся в Бизерте. Затем во Франции, работал фермером, шахтером, учился в военном училище Сен-Сир. Впоследствии проживал в США 50–54, 61, 62, 85, 86, 222, 223, 261, 265, 341–344, 349, 354, 355, 374, 377–380, 387, 392–394, 403, 404, 410, 420, 436, 437, 445, 567
Шульгин Дмитрий Егорович, капитан, мелкопоместный дворянин в Курском наместничестве в конце XVIII в. 16
Шульгин Дмитрий Иванович, штабс-капитан, участник Бородинского сражения в 1812 16
Шульгин Захарий Петрович, в 1840-х гг. участвовал в Кавказской войне 16
Шульгин Иван Екимович, унтер-офицер, участник русско-турецкой войны 1787–1791 16
Шульгин Макарий, капитан, участник русско-турецкой войны 1768–1774 16
Шульгин Михаил Петрович, помещик Новгородской и Тамбовской губерний 16
Шульгин Николай Данилович, участник заграничного похода 1813, впоследствии чиновник артиллерийского департамента 16
Шульгин Николай Яковлевич (1818–1857), дядя В. В. Шульгина, чиновник канцелярии киевского генерал-губернатора (1836–1856) 36, 575, 576
Шульгин Яков Игнатьевич, дед В. В. Шульгина 17, 32, 576
Шульгин Яков Николаевич, сын Н. Я. Шульгина и двоюродный брат В. В. Шульгина, преподаватель русского языка одной из киевских гимназий 36, 37, 576
Шульгина Александра Николаевна (1852—?), дочь Н. Я. Шульгина и двоюродная сестра В. В. Шульгина 576
Шульгина Алла Витальевна, см. Билимович Алла Витальевна
Шульгина Антонина Ивановна, урожд. Гвадонини, вторая жена Д. В. Шульгина 62, 85, 378, 436, 437
Шульгина Вера Николаевна, см. Науменко Вера Николаевна
Шульгина Екатерина Григорьевна (1869–1934?), дочь публициста Г. К. Градовского, актриса и публицист, двоюродная сестра и 1-я жена В. В. Шульгина (с 1899). Сотрудничала в газете «Киевлянин» — писала политические статьи под псевдонимами: Алексей Ежов, А. Ежов, Е. А.; вела в «Киевлянине» рубрику «Впечатления». Во время Гражданской войны член организации «Азбука». В 1918 — товарищ председателя киевского национально-культурного общества «Русь». Покончила жизнь самоубийством в Югославии. О ней см.:
Лазаревский В. Об ушедших друзьях //Часовой (Брюссель). 1934. № 129/130 18, 27, 31, 37–44, 50–57, 60, 63, 86, 95, 140, 180, 181, 184, 191, 193, 195, 202, 204, 222–224, 251, 253, 261, 265, 291, 349, 382, 451, 485, 576, 577, 583, 595, 607
Шульгина Мария Дмитриевна («Муся»), урожд. Седельникова (1901–1968), вторая жена В. В. Шульгина, дочь генерала Д. М. Седельникова 29, 31, 32, 35, 51–53, 72, 86, 87, 236, 252, 270–275, 278, 279, 286, 287, 290–294, 297, 299–301, 303, 309, 324, 328, 334, 335, 337, 338, 340, 342, 343, 345–351, 354–356, 366, 367, 369–372, 374–376, 378, 381, 382, 386, 387, 389, 392, 395–399, 401–405, 410, 417, 419–421, 424–427, 429, 434–436, 438, 439, 444, 451, 456, 500, 517–520, 523526, 570, 571, 604
Шульгина Мария Евстафьевна, урожд. Рудыковская, жена Н. Я. Шульгина 35, 576
Шульгина Мария Константиновна, см.
Пихно Мария Константиновна
Шульгина Надежда Николаевна (1848—?), дочь Н. Я. Шульгина и двоюродная сестра В. В. Шульгина 576
Шульгина Павла (Павлина, Лина) Витальевна, см.
Могилевская Павла Витальевна
Шульгина Татьяна Александровна, урожд. Билимович, двоюродная сестра и первая жена Д. В. Шульгина 54, 62, 85, 86, 349, 374, 375, 377, 380, 398, 403, 404, 436, 437
Шульгины, семья 87, 552
Шушниг Курт фон (1897–1977), австрийский государственный деятель, федеральный канцлер Австрии в 1934–1938 549, 551
Щегельская Людмила Николаевна («Людя»), племянница Д. И. Пихно 75, 76, 88
Щегельская Мария Ивановна, урожд. Пихно, жена Н. Щегельского и сестра Д. И. Пихно 88
Щегельский Николай, агроном, муж М. И. Пихно 88
Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918), министр юстиции в 1906–1915, председатель Государственного Совета в январе-феврале 1917 108
Щек, князь, согласно летописи, брат Кия, один из основателей Киева 323
Щелгачев Всеволод Иванович, штабс-капитан. С 1.08.1918 сотрудник организации «Азбука» (обер-офицер для поручений, комендант) 360
Щербинда Владимир Иванович, учитель истории во 2-й киевской мужской гимназии 26
Щербинда Петр Иванович, статский советник, учитель географии во 2-й киевской мужской гимназии в конце 1880-х — начале 1890-х 26
Щучкин Леонид Давидович (1875—?), жандармский полковник, с 1907 помощник начальника Варшавского губернского жандармского управления. В 1919 начальник киевской контрразведки 250, 251, 253, 600
Эдисон (Edison) Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель и предприниматель 599
«Эдя», муж О. Г. Вульфиус, инженер 514, 515
Энно Эмиль, французский вице-консул в Киеве, возглавлял деятельность французской секретной службы. В ноябре-декабре 1918 представитель держав Согласия на Украине — «консул с особыми полномочиями». Один из организаторов Ясской конференции. После переезда в Одессу пытался создать правительство из делегатов конференции, требовал выхода из города украинских войск. Сочувствовал Добровольческой армии. В марте 1919 был отозван во Францию 77, 190–192, 195, 212, 213, 216–219, 224, 227, 230, 233, 598
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), русский советский писатель и общественный деятель 600
Эрмлер Фридрих Маркович (1898–1967), советский кинорежиссер, народный артист СССР (1948), Государственные премии СССР (1941, 1946 — дважды, 1951) 12, 589
Эсперре Франше д’, французский генерал 227
Эш, председатель Санкт-Петербургского яхт-клуба 386
Юденич Николай Николаевич (1862–1933), генерал от инфантерии (1915), во время Гражданской войны главнокомандующий Северо-Западной армией (1919) в борьбе с советской властью 639, 657, 671
Юзефович Михаил Владимирович (1802–1889), действительный тайный советник, помощник попечителя Киевского учебного округа (1845–1858), председатель Киевской археологической комиссии (1857), под его редакцией издавалось многотомное издание «Архива Юго-Западной России» 114, 582
Юлиан Отступник (Julianus Apostata) (331–363), римский император с 361. Получил христианское воспитание, но, став императором, объявил себя сторонником языческой религии; от христианской церкви получил прозвище Отступник 26
Юлий Цезарь, см.
Цезарь
Юсупов Феликс Феликсович, князь, граф Сумароков-Эльстон (1887–1967), один из представителей придворных кругов, был женат на племяннице Николая II. Участник убийства Григория Распутина. В эмиграции никакой политической роли не играл 116, 282, 602
Ющинский Андрей, киевский школьник, убийство которого в 1911 стало поводом для известного «дела Бейлиса» 535, 536
Яков (Яша), эмигрант, студент Русского университета в Праге 295, 304
Яков II Стюарт (James II Stuart) (1633–1701), сын английского короля Карла I из династии Стюартов. Вступив на престол в 1685 после смерти старшего брата короля Карла
II, распустил парламент и стал править единолично, укрепляя позиции католической церкви, что привело к консолидации оппозиционных сил в стране и свержения его с престола в 1688. Бежал во Францию 576
Яковлев Я. А., один из редакторов изданной в 1930 книги «Государственное совещание» («Архив Октябрьской революции. 1917 г. в документах и материалах». М., Л., 1930) 588
Яковлевы-Политанские, сестры, Варвара и Татьяна Васильевны Яковлевы (1912–1914? — после 1944), которые после Гражданской войны с первой волной беженцев оказались в Югославии; вторая фамилия по второму браку их матери с К. А. Политанским. В 1932 обе сестры окончили Харьковский девичий институт в городке Нови-Бечей (Сербия). С начала 1940-х проживали с отчимом, фотографом в городке Сремские Карловцы, в конце 1944 были арестованы органами СМЕРШ и исчезли в советских концлагерях 516
Якушев Александр Александрович (?—1937), статский советник, чиновник Министерства путей сообщения, специалист по водным путям сообщения, после революции служил в советских учреждениях, негласный сотрудник советской службы безопасности (ОГПУ), провокатор, один из главных участников «Операции “Трест”». В 1934 был арестован и впоследствии расстрелян 122, 306–309, 325, 356, 360–364, 367, 376, 382–384, 386
Ярослав Владимирович (978–1054), великий князь киевский 605
Яхненко, агроном 88
Яхненко, сельский хозяин на Чигиринщине в середине XIX в. 88
Яшвиль Владимир Николаевич (?—1918), князь, вольноопределяющийся 9-го Бугского полка 686
Яшвиль Наталия Григорьевна, княгиня, урожд. Феликсон, жена князя Николая Владимировича Яшвиля 182, 183
Яшвиль Татьяна Николаевна, см. Родзянко Татьяна Николаевна
Adams В. 587
Kenez Р. 601
Klier J.D. 601
Lambrosa S. 601
Norton B.T. 589
Smith N. 589
Публикатор приносит свою благодарность Б. А. Арсеньеву (Нови Сад, Сербия), А. В. Банковской (Москва), В. И. Векслеру (Париж), Н. Н. Волковой (Белград), P. P. Гафифуллину (С.-Петербург), М. С. Глинке (С.-Петербург), В. Э. Гуриновичу (Владимир), H. Л. Дунаевой (С.-Петербург), Ю. А. Иващенко (Киев), Б. И. Колоницкому (С.-Петербург), И. Г. Лильп (Москва), В. М. Лупановой (С.-Петербург), Д. А. Митрофанову (С.-Петербург), С. Г. Решетову (Одесса) и Л. И. Тютюнник (Москва), оказавшим большую помощь при подготовке примечаний и биографических справок к именному указателю.
* * *
Все книги издательства «Нестор-История» можно приобрести в магазине издательства «ДМИТРИЙ БУЛАНИН» по адресу: СПб., ул. Петрозаводская, д. 9, Литер А тел.(812)490-64-99 или заказать:
postbook@dbulanin.ru «Книги почтой»
По вопросам оптовой торговли обращайтесь:
СПб., Петрозаводская, д. 7, тел. 8-965-048-04-28 ТД «Гуманитарная Академия», тел. (812)430-99-21
www.humak.ru

Примечания
1
Центральный государственный архив литературы и искусства, ныне Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).
(обратно)
2
«Перед судом истории» — художественный фильм (1965), режиссер Ф. Эрмлер, автор сценария В. Владимиров (при участии М. Блеймана).
(обратно)
3
Центральный государственный исторический архив в Ленинграде, ныне Российский государственный исторический архив (С.-Петербург).
(обратно)
4
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ныне Российская национальная библиотека (С.-Петербург).
(обратно)
5
Веселовский С. Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев. М., 1969. С. 375–378, 381–382;
Веселовский С. Б. Ономастикон. М., 1974. С. 203, 373–374.
(обратно)
6
Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 585.
(обратно)
7
Биографические сведения о Шульгиных почерпнуты из архивных документов (РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Ед. хр. 2972, 2973, 2981–2984, 2986, 2987).
(обратно)
8
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского университета Св. Владимира (1834–1884) / Сост. и ГОД. под ред. ординарного проф. B. C. Иконникова. Киев, 1884. С. 760.
(обратно)
9
Авсеенко В. Г. Школьные годы. Отрывки го воспоминаний. 1852–1863 // Исторический вестник. 1881. Т. IV. С. 729–730.
(обратно)
10
Биографический словарь профессоров <...> университета Св. Владимира (1834–1884). С. 772.
(обратно)
11
Биографический словарь профессоров <…> университета Св. Владимира (1834–1884). С. 772.
(обратно)
12
РГИА. Ф. 1162. Оп. 6. Ед. хр. 415.
Л. 1–6.
(обратно)
13
Сайн-Витгенштейн Е. Н. Дневник (1914–1918). Paris, 1986. С. 157–158.
(обратно)
14
Текст приводится со слов В. В. Шульгина.
(обратно)
15
Обезьяна
(укр.).
(обратно)
16
Эй, би, си… Повторите, пожалуйста!
(англ.).
(обратно)
17
Во время войны законы молчат
(лат.).
(обратно)
18
Тени, которые проходят
(франц.).
(обратно)
19
Не пустим!
(укр.).
(обратно)
20
Почему оно закрыто?
(укр.).
(обратно)
21
А что вы искали?
(укр.).
(обратно)
22
Простите, вот глупые бабы!
(укр.).
(обратно)
23
Во время войны законы молчат
(лат.).
(обратно)
24
Ныне Ленино.
(Примеч. В. В. Шульгина).
(обратно)
25
Чтобы это было сделано
(польск.) во что бы то ни стало!
(франц.).
(обратно)
26
Ты ничего, милый друг, не понимаешь
(цыганск.).
(обратно)
27
О войне с казаками
(лат.).
(обратно)
28
Украина нечто вроде провинции, расположенной у границ государства
(лат.).
(обратно)
29
У него вид беглого каторжника
(франц.).
(обратно)
30
Ужасно сказать!
(лат.).
(обратно)
31
Вот это человек!
(франц.).
(обратно)
32
Что есть «содействие»?
(нем.).
(обратно)
33
Благодарю вас за привет и любезность
(укр.).
(обратно)
34
Антоний Тирро. Сделано в Вене, в году 17..
(лат.).
(обратно)
35
Переведите, Дорогой друг
(франц.).
(обратно)
36
Генерал Гришин-Алмазов будет его сопровождать
(франц.).
(обратно)
37
Рим высказался
(лат.).
(обратно)
38
Ну да, это я
(франц.).
(обратно)
39
А эта дама?
(франц.).
(обратно)
40
Мой друг
(франц.).
(обратно)
41
Бог мой! А Екатерина?
(франц.).
(обратно)
42
Давно прошедшее время?
(в латинской грамматике).
(обратно)
43
Бог помогает храбрым
(лат.).
(обратно)
44
Der Strohmann — соломенное чучело; подставное лицо, марионетка
(нем.).
(обратно)
45
Он не действует мне на кожу
(франц.).
(обратно)
46
Скорым поездом
(франц.).
(обратно)
47
Мешок с блохами
(франц.).
(обратно)
48
Толкайте!
(франц.).
(обратно)
49
Вот моя мачеха
(франц.).
(обратно)
50
«Я ищу мою Титюну…»
(франц.).
(обратно)
51
Общественного фонтана
(франц.).
(обратно)
52
Это бандит!
(франц.).
(обратно)
53
Я не бандит, вы бандит!
(искаж. франц.).
(обратно)
54
Булюрис на море
(франц.).
(обратно)
55
«Я не могу жить ни с тобою, ни без тебя
(лат.).
(обратно)
56
«Жребий брошен»
(лат.). По преданию, фраза Цезаря при переходе через Рубикон.
(обратно)
57
Нет, для собственного удовольствия
(франц.).
(обратно)
58
улице Гобеленов
(франц.).
(обратно)
59
Татьяна Яковлевна Ратмирова, казачка; в Москве вышла замуж за адвоката Бойчевского. —
Примеч. В. В. Шульгина.
(обратно)
60
Мадам начальник вокзала
(франц.).
(обратно)
61
Маленькая сумасшедшая
(франц.).
(обратно)
62
Где вы?
(франц.).
(обратно)
63
Здесь! Это я!
(франц.).
(обратно)
64
В качестве иностранцев
(франц.).
(обратно)
65
Да здравствует Легион!
(франц.).
(обратно)
66
Волчье горло
(франц.).
(обратно)
67
Лapycc (авторитетнейшая серия французских словарей, изд. с 1856 г.)
(обратно)
68
Возрождение России
(франц.).
(обратно)
69
Возрождение России
(франц.).
(обратно)
70
Мой старик
(франц.).
(обратно)
71
Мать бранит свою дочь
(франц.).
(обратно)
72
Смысл фразы: это нормальная порча при употреблении
(франц.).
(обратно)
73
Она не серьезна
(франц.).
(обратно)
74
Морской лев
(франц.).
(обратно)
75
Земной лев
(франц.).
(обратно)
76
Одна из дочерей генерала А. М. Драгомирова. Впоследствии вышла замуж в Париже за Говорухо-Отрока, служившего швейцаром в одном из состоятельных французских домов. —
Примеч. В. В. Шульгина.
(обратно)
77
Святая любовь
(нем.).
(обратно)
78
Сигнала, то есть маяка
(сербохорв.).
(обратно)
79
Синего моря
(сербохорв.).
(обратно)
80
Гордость
(лат.).
(обратно)
81
Роговский постоянно жил в Рагузе и писал по заказу югославского правительства какую-то оперу; дальнейшая судьба его мне неизвестна. —
Примеч. В. В. Шульгина.
(обратно)
82
Один динар на золото в начале 1930-х годов был равен трем копейкам. —
Примеч. В. В. Шульгина.
(обратно)
83
И. Северянин подразумевает в последних строках, что некоторые соотечественники ошибочно видят у меня ненависть к евреям и украинцам. —
Примеч. В. В. Шульгина.
(обратно)
84
Волохи или влахи, то есть итальянцы. —
Примеч. В. В. Шульгина.
(обратно)
85
Пожалейте меня!
(франц.).
(обратно)
86
Уйвидок — буквально Новый Город (венг.) —
Примеч. В. В. Шульгина.
(обратно)
87
Рулетка
(франц.).
(обратно)
88
Фонари.
(обратно)
89
Имеется в виду генерал Панвитц, который в 16 лет уже был офицером.
(Сообщил В. В. Шульгин).
(обратно)
90
Генерал Эрих Ханзен, командующий немецкой артиллерией во время осады Севастополя в 1941–1942.
(Сообщил В. В. Шульгин).
(обратно)
91
Человек предполагает, а Бог располагает
(лат.).
(обратно)
92
Совершенно земной, ползающий по земле
(франц.).
(обратно)
93
Городу и вселенной
(лат.).
(обратно)
94
Ах, какое происшествие!
(франц.).
(обратно)
95
Маленький стаканчик клико —
Это пустяк…
(франц.).
(обратно)
96
Текст, выполненный курсивом, в подлиннике написан чернилами от руки.
— Р. К.
(обратно)
97
Один народ! Одна страна! Один вождь!
(нем.).
(обратно)
98
Оставь надежду всяк сюда входящий
(ит.).
(обратно)
99
Где собака зарыта
(нем.).
(обратно)
100
Два народа
(нем.).
(обратно)
101
Кузькина мать
(франц.).
(обратно)
102
Еще когда он сидел в особняке Кшесинской, т. е. в апреле 1917 года.
(обратно)
103
Своеволие, произвол
(укр.).
(обратно)
104
Так проходит мирская слава
(лат.).
(обратно)
105
Гроб живых
(итал.).
(обратно)
106
Стремление (натиск) на Восток
(нем.).
(обратно)
107
Разделяй и властвуй
(лат.).
(обратно)
108
Нынешние губернии: Полтавская, Черниговская, Киевская, восточная часть Волынской и южная Подольской.
(обратно)
109
Ничтожно малое количество, которым можно пренебречь
(франц.).
(обратно)
110
Если возобладают республиканские устремления, управлять югом России будет Гетман Великого Княжества Русского.
(обратно)
111
Страшно сказать
(лат.).
(обратно)
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
ТЕНИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ
1917–1919
Глава I
МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
Глава II
КИЕВ В 1917 ГОДУ
Глава III
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
Глава IV
ОСЕНЬ СЕМНАДЦАТОГО В КИЕВЕ.
МОЯ ПОЕЗДКА В НОВОЧЕРКАССК
Глава V
ЗАХВАТ КИЕВА БОЛЬШЕВИКАМИ
Глава VI
НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ
Глава VII
МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ГЕНЕРАЛОВ
АЛЕКСЕЕВА И ДЕНИКИНА
Глава VIII
ОДЕССА. ИНТЕРВЕНЦИЯ
Глава IX
ГРИШИН-АЛМАЗОВ. ОТЪЕЗД ИЗ ОДЕССЫ
Глава X
НЕДОЛГАЯ СЛУЖБА ВО ФЛОТЕ.
ПОЕЗДКА В ЦАРИЦЫН К ВРАНГЕЛЮ
Глава XI
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ
Глава XII
«ДОГОРАНИЕ»
ЭМИГРАЦИЯ
Глава I
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Глава II
ПЕРЕЕЗД В БОЛГАРИЮ И ПОХОД В КРЫМ
(УТРАЧЕНА)
Глава III
ВОЗВРАЩЕНИЕ В БОЛГАРИЮ
Глава IV
ЧЕХИЯ
Глава V
ГЕРМАНИЯ
Глава VI
ПАРИЖ
Глава VII
ЮГОСЛАВИЯ
Глава VIII
ПОЕЗДКА В СОВЕТСКУЮ РОССИЮ. «ТРЕСТ»
Глава IX
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭМИГРАЦИЮ
Глава X
СНОВА В ЮГОСЛАВИИ
ПЯТНА
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Документы члена III Государственной Думы Василия Витальевича Шульгина (15.Х.1907–9.IV.1912)
Приложение № 2
Документы члена IV Государственной Думы Василия Витальевича Шульгина (11.XI.1912–13.XII.1916)
Приложение № 3
Дело Бейлиса
Приложение № 4
Открытое письмо Вас. Шульгина г-ну Петлюре
Приложение № 5
Возможно ли признание украинского государства?
Приложение № 6
Аншлусс и мы1
Приложение № 7
Документ на проживание В. В. Шульгина в СССР
Приложение № 8
«Ныне отпущаеши…»
(Памяти В. В. Шульгина)
Приложение № 9
Свидетельства кончины В. В. Шульгина
ПРИМЕЧАНИЯ
ТЕНИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДЯТ
1917–1919
ЭМИГРАЦИЯ
ПЯТНА
ПРИЛОЖЕНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
*** Примечания ***