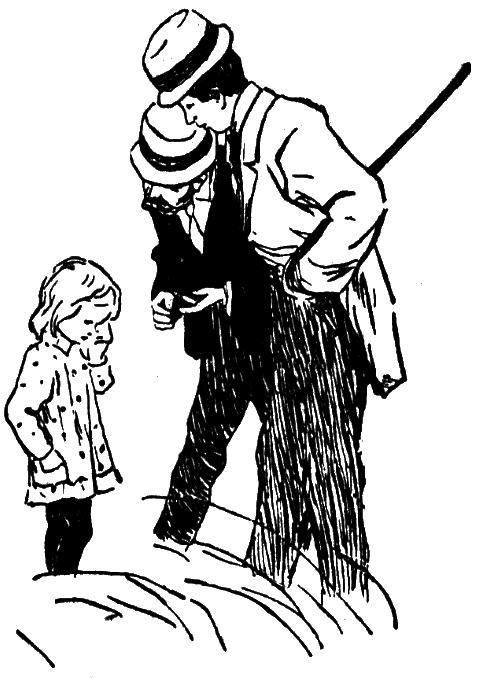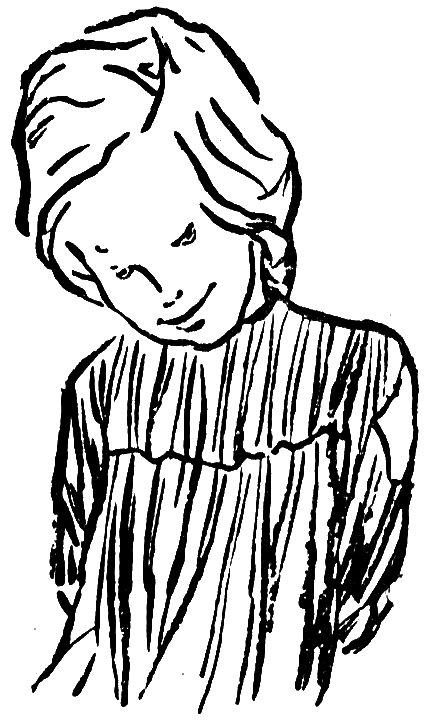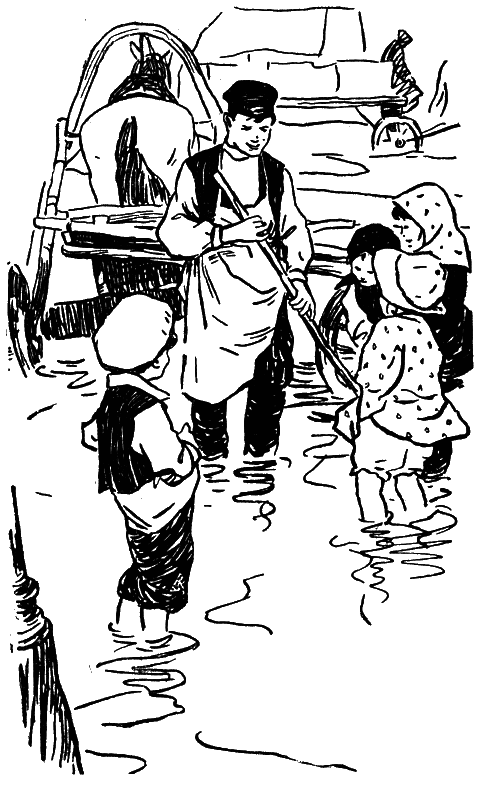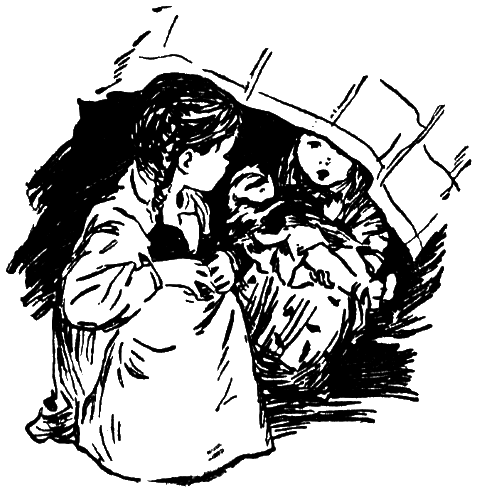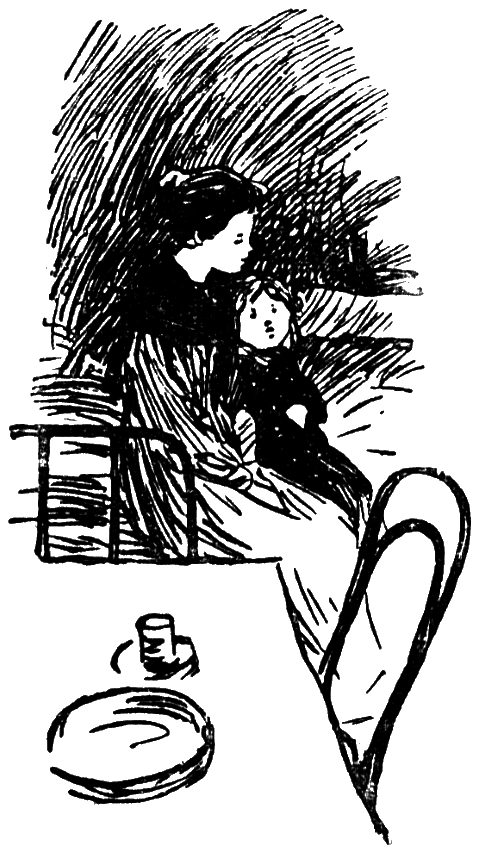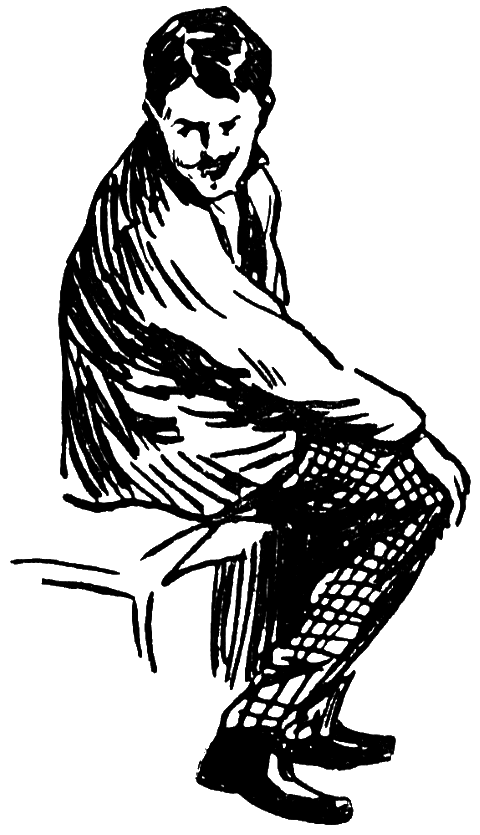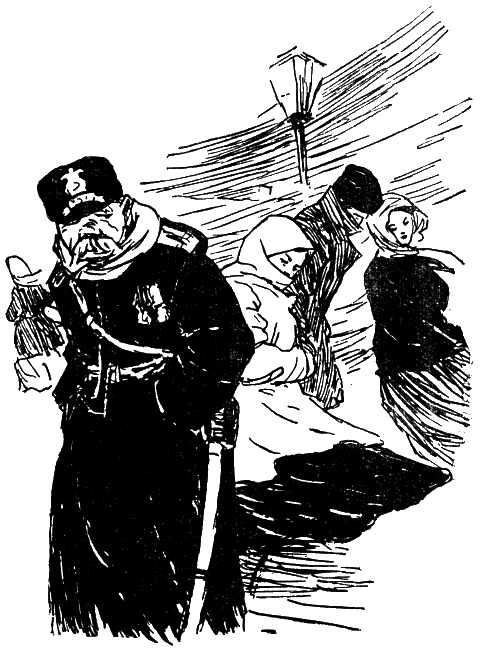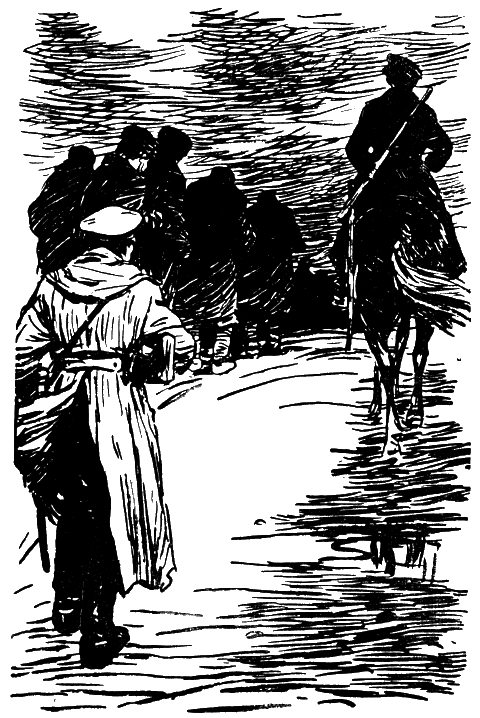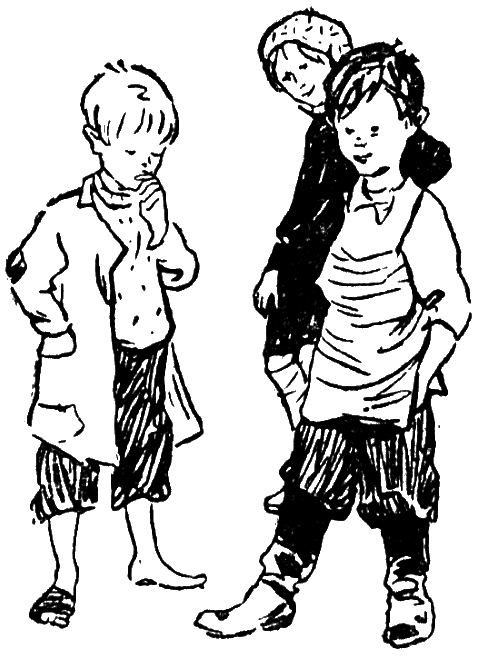Любовь Федоровна Воронкова
Детство на окраине

До революции улица Дурова называлась Старой Божедомкой. Старая Божедомка была и не велика и не широка, немножко кривая, немножко горбатая. Двухэтажные деревянные дома стояли тесной чередой, окруженные дощатыми заборами, с колодцами и сараями во дворах.
В одном из этих домов, одетом в белую штукатурку, жила та маленькая девочка, Соня Горюнова, о которой пойдет рассказ. Дом этот редко бывал белым, его белили только раз в году — к пасхе. А так он обычно пестрел грязными брызгами, которые летели из-под колес с булыжной мостовой. На воротах этого дома висела дощечка — вывеска, на которой был нарисован коричневый кувшинчик. Вывеска означала, что во дворе живет молочница. А молочница эта была Сонина мама.
Утро
Первым во дворе проснулся дворник Федор. Все лето, до самых заморозков, он спал в дощатой, с почерневшей крышей сторожке. Часов у него не было. Но, как только начинала сквозить в щелястые стены утренняя свежая голубизна, Федор вставал, надевал картуз, брал метлу и шел разметать двор.
Федор подметал всюду очень старательно — он боялся хозяина. А то выйдет старый домовладелец Лука Прокофьич, глянет туда-сюда из-под седых бровей, да и заметит где-нибудь мусор — рассердится. А рассердится, так и прогнать может. Дом — его, двор — его и дворник — его. Хочет — держит Федора, а хочет — прогонит. А куда пойдет Федор, если у него никакого ремесла нет в руках?
Пока дворник широко размахивал метлой, во двор вышел Иван Михайлович Горюнов, Сонин отец. В выцветшем картузе, в холщовом фартуке, в рубахе с заплатами, в грубых сапогах, он прошел на задний двор. Там, тесно прижавшись друг к другу, ютились сараи. В одном из этих сараев стояла большая рыжая лошадь ломового извозчика Алексея Пучкова, которого прозвали Пуляем. В другом лежало сено, жмых, овес. А в самой глубине помещался коровник.
Сонин отец прошел по дощечкам, лежавшим среди никогда не просыхающей здесь грязи, и открыл обитую рогожей дверь. Теплый запах жмыха и сена вырвался оттуда. Три толстые коровы повернули к хозяину свои рогатые головы и, лежа, смотрели на него, ленясь подняться.
— Ну, ну, вставайте! — негромко прикрикнул на них Иван Михайлович. — Эко, вы!
Коровы одна за другой, сопя и вздыхая, начинали подниматься, погромыхивая цепями, висевшими у них на шее. Приходилось держать их на цепях; коровам было тяжко и скучно стоять в душном коровнике, и они постоянно рвались на волю. Особенно неспокойной была рыжая с белыми пятнами, крупная, как буйвол, Дочка. Как донесет ей иногда ветер запах травы, запах свежей зелени, так она и начинает бушевать. Другой раз вырвет цепь из стены, выскочит во двор и примется бегать, прыгать, хвост трубой, как у маленького теленка, а сама ревет, радуется, озорничает. Весь двор изроет копытами.
А народ в это время со двора бежит кто куда. Бегут наверх, к Горюновым:
«Скорей! Корова оторвалась!»
Но и хозяина своего Дочка не очень слушалась. Подпустит поближе, поглядит на него озорными глазами и опять ринется бегать по двору. Пока-то он ее поймает, ухватит за цепь и отведет обратно в коровник…
Сонин отец открыл коровник, взял вилы и принялся чистить стойла. Утро стояло свежее, тихое, только вдали, за воротами, позванивали трамваи. Пахло тополями, которые зеленели над забором соседнего двора. Дочка подняла голову и начала принюхиваться, выкатив свои круглые озорные глаза.
— Я тебе погляжу! — пригрозил ей Иван Михайлович. — Я тебе!
А сам подумал:
«Травки бы им! Да где ж взять-то?»
Иван Михайлович дал коровам сена, взял две большие бадьи и отправился на колодец за водой.
Колодец стоял посреди двора, он был словно маленький островерхий голубой домик с большим железным краном и с длинной железной ручкой. К этому колодцу женщины приходили полоскать белье, ставили корыто прямо под кран, полоскали, синили и тут же выливали воду. Около колодца всегда было мокро, и ручьи от него, мыльные, подсиненные, бежали по канавке на улицу.
Не сочтешь, сколько раз ходил Сонин отец туда и обратно с тяжелыми бадьями — воды коровам нужно много. Иван Михайлович был молодой, голубоглазый, с желтыми усами и румяным лицом и никакой работы не боялся. А все-таки тяжелые бадейки понемножку горбили ему спину.

Пока отец таскал с колодца воду, вышла доить коров Сонина мать, Дарья Никоновна. Не хотелось ей каждое утро вставать в шесть часов. Все во дворе еще спят, занавески в окнах задернуты, а она с белым ведром и бидоном идет в коровник. Но что же поделаешь! Полежала бы подольше, да коровы не дадут, начнут сердиться, реветь — доить пора, молоко подошло!
В эти голубые утренние часы Соня очень любила выходить во двор. Никого нет, все ребята еще спят, лишь куры копаются под забором. А Соня, тоненькая, со светлыми, слабо вьющимися волосами, стоит одна среди чисто подметенного, словно праздничного двора, смотрит кругом и молчит. Во дворе свежо, тихо, над головой широкие ветки старого клена, нарядные зубчатые листья чуть-чуть покачиваются, и солнечные лучи желтыми кружочками падают сквозь них на землю…
Соня вышла из-под клена, подняла кверху глаза. Над крышами голубело чистое небо. Зеленые тополя поблескивали веселой листвой. Их ветки склонялись к самому забору. А за этим забором дом Подтягина — чужой двор, чужие мальчишки и девчонки. Хорошо, что забор такой крепкий и плотный, а то бы они прибегали сюда и дрались. Ребята с чужих дворов всегда дерутся.
Соня немножко попрыгала через канавку с засохшей синькой. Нашла куриное перышко-пушок и пустила его по ветру. Ветерок подхватил перышко и понес его все выше, выше… Соня долго глядела, как оно исчезло где-то в синем солнечном воздухе…
Потом Соню поманила к себе деревянная лавочка, врытая в землю у забора под тополями. В сумерки на этой лавочке обычно сидят жильцы дома Прокофьева, сидят, дышат воздухом, отдыхают после работы. Сонина мама тоже иногда выходила посидеть, поболтать с соседками. Она брала с собой бидон с молоком и кружку. И если кто-нибудь приходил за молоком, то мама кричала:
«Сюда! Сюда, пожалуйста!»
И тут же, на лавочке, наливала покупателю молока.
Сейчас на лавочке никого не было, теплый солнечный свет лежал на ней. Соня села, поболтала ногами. В эти часы весь двор был ее — и клен ее, и лавочка ее, и колодец ее… Она запела тонким голоском песенку. Тишина во дворе была тоже ее — какую хочешь песенку, такую и поёшь!
Отец и дворник Федор встретились у колодца, приподняли картузы, поздоровались.
— Что, голова, — сказал Иван Михайлович, — никак, тебя вчера опять к Исусу звали?
Соня перестала петь, прислушалась. Как это — к Исусу? К Исусу Христу? А разве он живет где-то здесь и к нему можно ходить?
Дворник оперся на метлу, поправил картуз, крякнул:
— Ходил.
— По каким же делам?
— Да все то же да про то же. Эва, уж сколько лет прошло, а все про пятый год поминают! На Прохоровской фабрике, видишь, опять рабочие пошумели…
— Ну? Шибко?
— Да не шибко. Кому шуметь-то? После пятого — кто в тюрьме, кто в могиле. А уж хозяева напуганы. Похватали кое-кого. А кто успел — убежали.
— Ну, а тебя-то чего звали? Ай, ты фабричный?
— Да за старое все. — Федор усмехнулся, покачал головой. — С пятого года на заметке. Мальчишкой совсем тогда я был. Студенты на нашей улице начали баррикаду эту самую строить. Гляжу — ворота снимают со дворов да тащат на мостовую. Я тут и подхватись им помогать. А потом и со своего двора ворота снял — тоже в эту баррикаду стащил. Доски тащим, камни, что попало. И я тут стараюсь. Спроси — зачем? А я и не знаю. Только думаю: если за рабочее дело, значит, помогать надо! И вот поди ж ты, приметил меня городовой. С поста-то он убежал, а сам из-за угла поглядывал.
— Что ж ты, в тюрьме сидел за это?
— Не сидел. Оружия-то при мне никакого. Ну, и отпустили. А на заметку, вишь, взяли. Как где пошумят, так и меня за бока. Не снимаю ли я, дескать, опять ворота…
Соня слушала и ничего не понимала. Какие-то баррикады, зачем-то ворота надо было снимать да тащить на мостовую… Она слезла с теплой от солнца скамейки и направилась к отцу. Вот она сейчас подойдет к нему, ухватится за край его холщового фартука и получше прислушается, о чем это они говорят.
Но тут Соня увидела, что в глубине двора над зубчатым забором покачиваются красные цветы. Откуда они взялись? Когда они распустились? Словно боясь вспугнуть чудесное видение, Соня направилась к этому забору. Это был очень высокий забор и такой плотный, что ни одной щелочки не сквозило в нем и никак нельзя было поглядеть на этот двор. Над забором поднимались огромные деревья с темной листвой, словно оберегая какую-то тайну. Но однажды из-за этого неприступного забора прилетело несколько ярких маковых лепестков. И Соня все поняла. Там, за темными деревьями, цветет волшебный сад, полный алых цветов. И в саду стоит волшебный домик, весь золотой и серебряный. И в том домике живут веселые феи. У них всегда праздник, они поют, играют и танцуют, у них всегда солнце… Но они сторонятся людей, прячутся от них, потому и построили себе такой высокий забор.
И вот сейчас Соня увидела краешек того чудесного сада. Над серыми зубцами поднялось и расцвело за ночь несколько стеблей с красными цветами. Цветы покачивались от ветерка и глядели сверху на Соню, показывая свои золотые сердечки.
— Ой, какие! Ой, какие! — шептала Соня, слегка всплескивая руками. — Ой же, какие!
Соня еще в жизни своей не видела таких необыкновенных цветов. Ну, разве это не правда, что там в волшебном саду живут феи?
Утро разгоралось. В домах начали открываться окна. Уже несколько раз сходила на колодец за водой чернобровая прачка Паня. Уже Сонина мать прошла из коровника с полным бидоном парного молока. Ломовой извозчик Алексей Пуляй запряг свою рыжую лошадь в огромную плоскую телегу — полок — и уехал. Скоро выбегут ребята из всех квартир — и Сонино утро кончится, и она уже не будет владеть двором.
А пока еще двор принадлежит ей. Соня нашла острую щепочку и, откидывая рукой волосы, которые то и дело свешивались на глаза, принялась рисовать на земле под кленом. Места было много, рисуй что хочешь; это не то что листок бумаги, где ничего не умещается. И Соня нарисовала домик с трубой, из которой шел дым. Нарисовала целую стаю петухов и кур, каждая курица была ростом с домик. А потом принялась рисовать барыню. Соня больше всего любила рисовать людей и особенно барынь в шляпах, которых видела на улице. «Барыню» она затеяла большую. Под кленом уместилась только голова и шляпа, а руки и юбка потянулись через весь двор, к колодцу.
Но в это время во двор въехал водовоз. Смирная пегая лошадка прошла мимо колодца и встала копытами прямо на Сонину «барыню». На телеге у водовоза стояла огромная бочка со свежей водой; слышно было, как она плещется о деревянные стенки.
— Вода приехала! Вода приехала! — закричал во весь голос молодой водовоз, чтобы всему двору было слышно.
Он налил ковшом воды в высокие узкие ведра и понес в квартиры. Это была чистая вода, а из колодца воду люди пить не могли — она пахла плесенью и железом.
Соня побежала домой. Водовоз привез воды — значит, мама сейчас будет ставить самовар. Соня поднималась по деревянной лестнице с узкими перилами и точеными балясинами к себе домой, на второй этаж. А следом за ней поднимался, тяжело ступая по скрипучим ступенькам, водовоз с двумя ведрами, полными воды.
В кухне мама уже поджидала его. Она приготовила водовозу два пустых ведра и две копейки денег — по копейке за ведро воды. Водовоз перелил воду, взял деньги и загремел сапогами вниз по лестнице.
А в кухне уже дотапливалась большая русская печка, и мама выгребала кочергой грудку горячих оранжевых углей для самовара. Во всех комнатах уже шевелились и переговаривались жильцы.
Начинался день.
Жильцы
Сонин отец, Иван Михайлович, снимал у домовладельца Прокофьева квартиру из четырех маленьких комнат. Он считался квартирным хозяином, а Дарья Никоновна — квартирной хозяйкой.
В то время в Москве народу было не так много. И квартир было свободных сколько хочешь, где нравится — там и снимай. Однако простой рабочий люд ютился в тесных комнатушках, а то и вовсе в углах, на «койках», потому что платить за хорошую комнату было не под силу.
Так и здесь получилось. Квартирные хозяева Иван Михайлович и Дарья Никоновна могли бы занять хоть все четыре комнатки. Однако они жили в одной, да и то в проходной, а остальные три сдавали жильцам. Тесно и неудобно им было, но приходилось терпеть, иначе и концов с концами никак не сведешь.
Через их комнату ходили жильцы — Сергей Васильевич, приказчик из магазина богатого обувщика Видонова, белесый, прилизанный, всегда чем-то недовольный, и его жена Дунечка, гладильщица из прачечной Палисандровой.
В другой комнате, с окном во двор, жили слесарь Дмитрий Кузьмич и его жена Анна Ивановна. Кузьмич, тихий, строгий человек, рано уходил на работу. Анна Ивановна работала дома: она была цветочница, делала искусственные цветы.
В комнатке за печкой, самой маленькой, жил молодой художник Никита Гаврилович. Он был горбатый, грустный и очень бедный. Ничем не покрытый стол, две табуретки, закапанные краской, узкая койка, застланная серым одеялом, — вот и все, что у него было.
Зато среди комнаты стоял мольберт, и Соня очень любила, пробравшись к художнику, смотреть, как он пишет. Отец звал его «богомазом», потому что он ради заработка иногда писал иконы для церквей. Он и маме написал икону за несколько кружек молока. На этой иконе была нарисована святая Дарья и святая Софья. А над ними, на облаках, сидел сам бог, с большой седой бородой. Эта икона висела в углу над маминой кроватью, и все крестились на нее, садясь обедать или ужинать.
У Дарьи Никоновны жильцы жили подолгу. Комнатки были тесные, зато дешевые, а для бедного человека это было главное. Дарья Никоновна умела ладить с людьми, в квартире у нее был порядок, никто никогда не ссорился, никто не запирал своих дверей. Так и жили, будто одна семья: вместе стряпали у большой русской печки, вместе проводили вечера после трудового дня, вместе праздновали праздники.
Соня входила ко всем жильцам когда хотела — и все встречали ее приветливо: она была тихая, застенчивая, никому не мешала.
Соня любила смотреть, как работает Анна Ивановна, как она быстро и ловко приклеивает обернутые зеленой бумагой проволочки — стебельки — к зеленым лакированным листочкам.
С Дунечкой у Сони была нежная дружба. Дунечка давала ей поиграть хорошенькими фарфоровыми куколками, которые стояли у нее на столике у зеркала. Что это за куколки были! Крошечные маркизы в розовых и голубых нарядах, кавалеры в кафтанах с золотом и в белых чулках. Там была и маленькая фарфоровая карета с лошадками. Золотые дверцы кареты открывались, и в нее можно было сажать этих куколок и катать по столу. Соня играла, а Дунечка в это время что-нибудь рассказывала ей — то сказку, то басенку, — то учила петь какую-нибудь песенку.
Но эти теплые счастливые минуты длились недолго. Хлопала входная дверь, и в кухне слышался голос Сергея Васильевича. Соня тотчас вылетала от Дунечки в свою комнату. Дунечка поспешно убирала игрушки и, вся какая-то трепетная и настороженная, встречала мужа. Дунечка почему-то его очень боялась, она всегда кротко глядела на него своими синими глазами, будто в чем-то виноватая. А он, насупив белесые брови, проходил в комнату, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь.
Анна Ивановна иногда удивлялась:
«И что это она дрожит перед ним, как тростинка на ветру? Уж был бы красавец какой, а то ведь ни кожи, ни рожи. Так — обмылок!»
Жильцы все вставали рано. Когда Соня прибежала со двора, Кузьмича уже не было — ушел на работу. И Дунечка ушла. Сергей Васильевич тоже собирался уходить. Он вышел с чайником в кухню побритый, с напомаженными волосами и при галстуке. Только один Сергей Васильевич во всей квартире носил галстук — может, поэтому он и глядел на других свысока.
— Самовар поспел? — спросил он.
— Поспел, Сергей Васильич, — приветливо ответила Дарья Никоновна, — заваривайте!
Большой самовар, с медалями на «животе» и с именем заводчика Баташова, уже пускал пары, стоя на полу у печки. Сергей Васильевич заварил себе чаю и, забыв сказать спасибо, ушел в свою комнату. Он каждый раз это делал небрежно и снисходительно, будто Дарья Никоновна сама должна говорить спасибо за то, что он берет кипяток из ее самовара, и за то, что он разговаривает с ней, и за то, что он живет у нее на квартире.
Соня умылась над кадушкой свежей холодной водой и побежала в комнату утираться.
Дарья Никоновна загребла жар, поставила в печку чугунки — и свои и жильцов. Пришел Иван Михайлович — он наконец управился с коровами. Вымыв руки, он подхватил кипящий самовар и отнес его в комнату.
Можно бы уже сесть за стол, напиться чаю, отдохнуть, но не тут-то было. Начали приходить покупатели.
— Кружку молока.
— Две кружки.
— Полкружечки, пожалуйста.
Кружка молока стоила пять копеек. Но иным покупателям и это было дорого, приходилось брать всего лишь полкружки — для ребенка.
Покупатели приходили одни и те же, из года в год. Недалеко, на углу Четвертой Мещанской, торговала молочная известного в Москве Чичкина. Это была хорошая молочная, вся блестевшая белым кафелем. Там всегда были отличные продукты — сливки, сыр, масло. И все-таки многие шли за молоком к Дарье Никоновне. Одни любили парное молоко, прямо из-под коровы, а для других было важно, что оно здесь хоть чуточку, да подешевле.
Наконец молоко кончилось, хозяйка управилась.
— Анна Ивановна, чай пить!
— Иду!
Отец уже сидел за столом с газетой в руках. Анна Ивановна пришла со своей чашкой, с сахаром и хлебом. Она была как своя в этой семье. Небольшая, ладная, с бойкими светло-карими глазками, с маленьким пучком на макушке, она проворно и легко ходила по квартире, охотно разговаривала, охотно смеялась. На Сонин взгляд, Анна Ивановна была некрасивой. Соня почему-то накрепко была убеждена, что красивым может быть лишь тот человек, у которого черные волосы и черные глаза, а ведь Анна Ивановна была вся светлая, пепельная. Маму Соня считала гораздо красивее: у мамы волосы темные, с блеском, и ресницы темные, и брови. Только вот жалко — у нее были светлые серые глаза!
Соня уселась рядом с отцом. Мама налила всем чаю с молоком. Соне выдала шесть малюсеньких кусочков сахару — это была ее порция. Сахар в доме экономили: не господа, чтобы внакладку пить…
— Богомаза-то зовите, — сказал отец, не отрываясь от газеты.
— Никита Гаврилыч, идите чай пить! — крикнула Дарья Никоновна.
— Спасибо, не хочу, — глухо отозвался из-за стены художник.
— Гордец! — Анна Ивановна покачала своей пепельно-пушистой головой. — Губы толще — брюхо тоньше.
— Снеси ему, что ли… — сказал отец маме.
Но Соня быстро вскочила со стула:
— Я снесу!
Мама налила чаю в большую кружку, положила на нее сверху ломоть ситного и кусок сахару:
— Неси. Не урони смотри!
Соня взяла двумя руками кружку и тихонько, шаг за шагом, стараясь не плескать чай, отправилась к художнику. Вышла в кухню, обогнула большую печку, благополучно прошла мимо ухватов, стоявших в углу, мимо лестницы, по которой лазили на печку. Вот и дверь…
— Откройте, — тихо попросила Соня.
Художник молча открыл. В левой руке он держал круглую палитру с красками. Соня, не поднимая головы, поставила чай на пеструю от красок табуретку и поскорей убежала.
— Отнесла! Не уронила! — весело похвалилась она и снова залезла на свой стул.
— Спасибо-то хоть буркнул? — спросила Анна Ивановна.
— Нет.
— Я так и знала.
— А уж вам непременно поклоны нужны! — сказал отец. — Эко вы какие! Легко ли человеку куски-то принимать? Лучше дать, чем принять.
— Да мы ничего не говорим, — остановила его мама. Она уже испугалась, как бы он нечаянно не сказал Анне Ивановне чего-нибудь обидного.
— Пап, а где Исус живет? — вдруг спросила Соня.
Все переглянулись, отец опустил газету.
— Какой Исус?
— Ты что это? — удивилась мама. — Как это — где живет? Раз он сын божий, значит, и живет на небе.
— А как же Федор к нему ходил? Он сам папе сказал.
Анна Ивановна рассмеялась, а мама пристально посмотрела на отца:
— Опять что-нибудь глаголил?
— Да ничего не глаголил! Чего мне глаголить? Чего ты все боисси? В участок Федора звали, ну и всё тут.
— А он сказал — к Исусу ходил! — вмешалась Соня.
— Так это и есть к Исусу! — объяснила Анна Ивановна. — В участок, значит, в полицию. А что к Исусу — так это только говорится.
Соне стало скучно. А она-то уж думала, что и правда люди могут к Исусу ходить.
— Помню я этот пятый год! — начала Анна Ивановна. — Понесла я одной купчихе заказ, букет она заказала. Богатый букет! Сирень фарфоровая с шелковыми листьями, недели две сидела с этой сиренью. Иду, и вдруг — батюшки! — на Тверском бульваре солдаты из ружей палят. В кого же, думаю, али война? Гляжу — молоденькие бегут студенты, в шинельках своих. Бегут и падают. А тут их сестры милосердия из-под пуль тащат, раненых-то, тоже молоденькие! Они этих раненых на извозчиков — увезти скорей, чтобы не забрали. А офицер команду дает — стрелять по извозчикам! Ну, уж тут я вижу — спасаться надо, да и давай бог ноги. Ужасти, что было!
— Да, было… — задумчиво сказал отец. — Рабочие за свои права воевали. Только война-то неравная была. У них прокламации, а у солдат пушки.
— А студентам чего было лезть? — возразила Анна Ивановна. — Учишься — ну и учись!
— Молодежь-то, она всегда горячо за справедливость встает…
— Ну и как же вы, Анна Ивановна, тогда выбрались? — прервала его мама. — С Тверской-то? Помню, тогда и переулки проволокой запутаны были…
— Уж и не знаю. Бежала без памяти, весь букет растрепала. Как берегла его, а все-таки попортила. Фарфор-то — он нежный, кое-где осыпались цветочки. Опомнилась, гляжу — я в Гранатном переулке. Ну, тут тихо, спокойно. Дома старинные, особняки. Барское место, бунтовать некому.
— А чего барам бунтовать? — сказал отец. — Кабы они погнули спину-то от зари до зари да в получку получили бы, что и считать нечего, может, и они бы…
— Пей чай-то, остыл совсем! — снова остановила его мама. — Да скажи, что там в газетах новенького?
— Происшествия какие есть али нету? — спросила и Анна Ивановна.
— Вот тут новости-то какие! — Отец поудобнее сложил газету. — Пишут — скоро и у нас, на Божедомке, тоже водопровод прокладывать будут.
Всем стало интересно. И больше всех — Соне.
— Какой водопровод?
— Да такой. Вода по трубам прямо в квартиру пойдет.
— Хорошо бы! — вздохнула мама. — Лей сколько хочешь. И водовозу не платить. А то ведь шестьдесят копеек каждый месяц выложи.
— И до чего додумаются люди, а? — сказала Анна Ивановна. — Уму непостижимо!
— А как же она будет по трубам на второй этаж течь? — не унималась Соня.
Но никто этого не мог объяснить — ни мать, ни отец, ни Анна Ивановна. Они еще и сами никогда не видали водопровода.
А Соне уже и тут померещилась какая-то сказка. Случится что-то чудесное, что-то необыкновенное. Для нее всюду случались чудеса!
Соня заблудилась
День стоял очень жаркий. Во дворе почему-то никого не было. Соня послонялась по двору, нарисовала на заборе углем девочку и собачку, поискала стекляшек, но ничего не нашла. Скучная, сонная, жаркая тишина повисла над двором, над домом, над всей улицей. Только изредка с резким звоном проходил мимо ворот трамвай.
И тут Соне пришло в голову: а что, если сходить к Макарихе?
Соня тихонько подошла к воротам, открыла калитку и выглянула на улицу. Мама не велела ей одной выходить со двора, она каждый раз строго наказывала:
«Только смотри на улицу не ходи! Заблудишься! Под трамвай попадешь!»
Да Соня и сама не ходила на улицу — боялась. Она только открыла калитку и остановилась. Неподвижный густой зной лежал на узком тротуаре, на булыжной мостовой. Среди булыжника жарко блестели трамвайные рельсы.
Прохожих было мало, народ словно попрятался от жары.
Вот проехал извозчик на пролетке. Везти ему некого, он слез с козел, да и уселся в пролетку сам. Сидит и дремлет с вожжами в руках. И лошадка его, переступая нога за ногу, наверное, тоже дремлет…
Соня осмелела и вышла на тротуар. Отсюда, от ворот с кувшинчиком, начинался огромный, чужой, полный опасностей мир. Если посмотришь направо — улица уходит в гору и теряется среди незнакомых домов. А влево — бежит вниз, к самому Екатерининскому бульвару. А там, около бульвара, на углу сидит их соседка Макариха.
Макариха была торговка. А весь товар, которым она торговала, весь ее магазин помещался в небольшой белой корзинке. Но сколько радостей лежало в этой корзинке! Пряничные рыбки — розовые и белые, пряничные петушки, лошадки, человечки… Конфеты в бумажках и с картинками. Конфеты без бумажек — зеленые, похожие на крыжовник, красные, словно малина, желтые как мед… Мармеладные лапоточки, прозрачные, разноцветные, обсыпанные сахарным песком. Маленькие румяные яблочки. Жесткие темно-коричневые сладкие стручки. Китайские орехи в шершавой узорчатой шелухе…
Вот эта корзинка и вызывала теперь Соню со двора, она-то и заманивала ее в страшную и неизвестную даль на угол, к Екатерининскому бульвару.
Соня облокотилась на каменную тумбу, которая стояла у ворот, и долго смотрела в ту сторону. И вдруг решилась, и с душой, полной страха, пустилась в путь.
То бегом, то шагом, Соня пробиралась по улице. Если встречались прохожие, она съеживалась и, уступая дорогу, почти прижималась к стене. Чужие дома глядели на нее строго и недружелюбно. Чужие калитки грозили опасностью. Мало ли кто может выскочить оттуда! Или собака, или какой-нибудь мальчишка, который обязательно отколотит. Или вдруг выйдет нищий с сумой, схватит ее за руку, да и уведет куда-то…
Может, остановиться? Может, вернуться, пока еще недалеко родная калитка с коричневым кувшинчиком?
Но Сонины ноги то шли, то бежали все дальше и дальше. Вот уж и вернуться стало нельзя: калитка теперь так же далеко, как и тот угол, где сидит Макариха.
Казалось, что прошло очень много времени. Волосы на лбу у Сони взмокли от жары, сердце устало от страха. И зачем только ушла она со своего двора!.. Но тут она увидела, что улица кончается. Вот большой светлый дом с башенкой, вот Уголок Дурова, где живут дрессированные звери, а вот и бульвар видно… И на углу, около входа на бульвар, сидит со своей корзинкой ее Макариха в цветастом платье.
Соня без оглядки перебежала мостовую, бросилась к Макарихе и с размаху обняла ее за шею. Вот теперь-то можно вздохнуть свободно, теперь-то ничего не страшно! И на сердце сразу стало легко и весело.
Макариха еще издали увидела Соню. Ее широкое с крупными морщинами лицо ласково улыбалось:
— Ах ты, коза-дереза! Глядите-ка, и сюда прибежала! А уж я давно гляжу — кто это бежит, волосенки по плечам треплются?!
Соня уселась рядом с Макарихой на низенькой скамеечке — эту скамеечку Макариха приносила сюда вместе с корзинкой. Она жадными глазами заглянула в корзинку: много ли еще там добра и есть ли какие обломки? Добра было много, а обломков что-то не заметно. Она вздохнула и поближе прижалась к черной сборчатой юбке Макарихи, усеянной мелкими цветочками. Соня глядела, как подходили чужие люди и брали из корзинки то яблоко, то длинную, как свеча, прозрачную конфету, то горсть орехов… Соня с завистью смотрела на этих людей.
— А зачем ты им все отдаешь? — наконец сказала она Макарихе. — Лучше бы сама съела!
— Если я буду пряники есть, то у меня и хлебушка не станет, — ответила Макариха.
Соня поглядела на нее с удивлением:
— А разве хлеб-то лучше? Небось пряник слаще!
Но Макариха заправила волосы под платок и покачала головой:
— Да я, вишь, что-то сладкого не люблю!
За спиной зеленел старый бульвар. Он был обнесен деревянной решеткой — деревянными палочками, поставленными крест-накрест и покрашенными в темно-бордовый цвет. Но краска полиняла от дождей, выгорела от солнца, видно покрасили эту решетку давным-давно, да так и забыли про нее.
Слева, на зеленом пригорке, красовалась красная кирпичная церковь Ивана-Воина, ее маленькие золотые главы горели на солнце. На перекрестке Старой Божедомки и Самарского переулка жарился на солнце неподвижный городовой с саблей на боку и в фуражке с кокардой. От булыжной мостовой несло зноем, хотя солнце уже склонялось к невысоким трубам домов. Наверное, это и есть тот самый городовой, который потянул Федора к «Исусу». Вишь, хитрый какой, будто и не смотрит ни на кого, а сам все примечает!
Соня встала и подошла к изгороди бульвара. Ох, какой там огромный тенистый лес, какие полянки, полные травы и цветов, какие светлые дорожки!
— Можно, я похожу по дорожкам? — спросила Соня.
— Заблудишься, — ответила Макариха.
— Не заблужусь! Я недалеко.
— Смотри только цветы не рви, а то тебя городовой в участок заберет!
Соня робко вошла на бульвар. И сразу оказалась в прекрасной волшебной стране. Купы деревьев поднимались в самое небо — так они были высоки. В зеленых кустах щебетали птицы. Ровные, чисто выметенные дорожки, пестрые от солнечных зайчиков, заманивали Соню куда-то в зеленую солнечную даль. По обе стороны поднималась высокая густая трава. А в траве цветы! Какие-то белые с зубчатыми лепестками, и желтые, блестящие, будто сделаны из золота, и лиловые маленькие колокольчики с желтым язычком…
Соня забыла наказы Макарихи и про городового забыла. Она перешагнула через низенькую загородочку и вошла в траву. На бульваре никого не было, никто не видел Соню. Она ходила по траве, еле пробираясь в густой свежей зелени, наклонялась к цветам. Каждый цветок удивлял Соню, каждый цветок ее радовал. Она разглядывала их лепестки, их тычинки и надивиться не могла — как же хорошо они все сделаны, как красиво раскрашены! «Не рви цветы». Да зачем же она будет их рвать и портить?
Соня ходила по луговине под деревьями и смеялась — такая она была счастливая! И сама не заметила, как под деревьями сгустились и потемнели тени.
Вдруг она вспомнила, что обещала не уходить далеко. Она выскочила на дорожку и побежала к Макарихе.
На бульваре стояла сумеречная тишина. Соне было и страшно одной и весело. Ветерок раздувал ее загнутые на концах волосы, ноги так сами и подпрыгивали. Вот сейчас дорожка повернет к выходу, и Соня выбежит прямо к Макарихе. А потом они еще немножко посидят и пойдут домой. И уж тогда-то Макариха обязательно достанет ей со дна корзинки какой-нибудь попорченный, не годный к продаже гостинец. Но сломанный пряник разве не такой же сладкий, как целый?
Дорожка повернула и… уперлась в плотную решетчатую изгородь. Соня остановилась с разбегу. Что такое? Ведь это та же самая дорожка, по которой она вошла в парк! Откуда же тут взялась изгородь? Может, ее поставили, пока Соня бегала по траве?
Она подошла ближе. Нет, изгородь старая и земля около нее твердая, как асфальт. Соня поглядела сквозь изгородь, хотела позвать Макариху, чтобы она выручила ее. Но и Макарихи на углу не было. Неужели она ушла домой и оставила Соню здесь одну, среди деревьев и наступающего вечера?
Соня отошла от изгороди и, растерянная, побрела по дорожке. Весь мир вдруг как-то перевернулся, выход из парка закрылся, Макариха пропала, Старая Божедомка исчезла… И Соня осталась одна.
Соня не знала, что ей делать. Она шла и тихонько плакала. По бульвару изредка проходили какие-то люди. Но Соня боялась подойти к ним.
Неожиданно перед Соней остановились двое незнакомых людей — один совсем молодой, другой с бородкой и с усами. Бородатый наклонился к ней:
— Девочка, ты что плачешь?
Соня посмотрела на них сквозь слезы. Это были «господа» — в шляпах и штиблетах. У них во дворе всех, кто носил шляпу, называли господами.
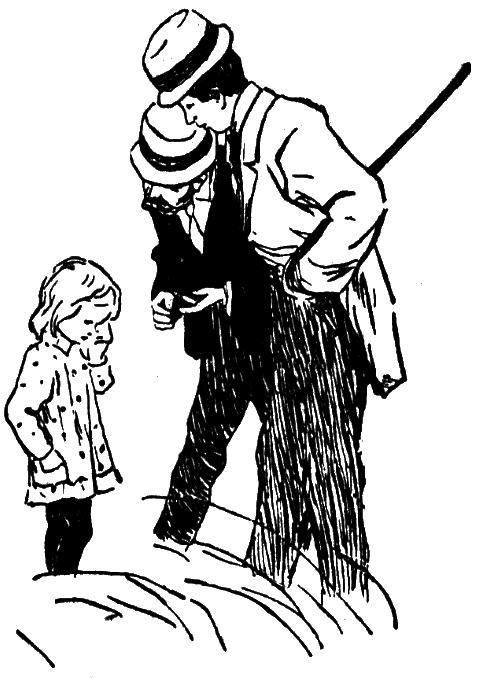
Соня всхлипнула и сказала, что заблудилась. А сама подумала:
«А что спрашивают? Ведь они же чужие, нашего дома не знают!»
— Ты где живешь? Как улица твоя называется?
Соня ответила без запинки:
— Старая Божедомка, дом номер шестнадцать, квартира номер четыре.
Они оба рассмеялись:
— Какая маленькая, а свой адрес знает!
Ведь им было неизвестно, что мама, наверное, сто раз заставила Соню повторить этот адрес. Вот и пригодилось!
Господа взяли Соню за руки и повели. Ей казалось, что они ведут ее куда-то совсем в другую сторону. Соня ничего не узнавала вокруг и совсем примолкла от страха.
Они уже вышли из парка — выход почему-то оказался совсем не там, где его искала Соня. Изгородь словно сама раздвинулась, и дорожка свободно вышла на тротуар. А вот и зеленый пригорок и церковь Ивана-Воина с уже погасшими куполами… А вот и знакомый угол, где всегда сидит Макариха, на земле даже ямки от ее скамеечки видны. А там, дальше, Уголок Дурова и дом с башенкой.
Соня сразу повеселела:
— Теперь я сама!
Но бородатый не выпустил ее руки.
— Нет, нет, уж мы тебя, сударыня, до самого дома доведем!
Они довели ее до самой калитки с коричневым кувшинчиком. И во двор вместе вошли. Чернобровая прачка Паня как раз полоскала белье у колодца.
— Где квартира номер четыре? — спросил у нее бородатый.
Паня испуганно посмотрела на него и на Соню. Что такое случилось?
— Это молочницына девочка, — сказала Паня. — Ступайте на задний двор, там ее мать сейчас коров доит.
Соня опять попробовала отнять руку, но бородатый господин, а за ним и молодой повели ее к матери.
На заднем дворе было грязно, пахло навозом. Но бородатый не остановился. Ступая по настланным дощечкам, он вошел в коровник. Мама с удивлением взглянула на него из-под коровы.
— А вы знаете, где ваша дочь? — строго спросил у нее господин.
Мама испугалась, вскочила. Отец давал коровам сено — охапка вывалилась у него из рук.
— Надо лучше смотреть за детьми! — сказал Сонин провожатый. — Вот мы привели ее вам.
Отец и мама очень благодарили этих людей, которые тут же и ушли. Иван Михайлович проводил их до ворот с картузом в руке.
А потом отец стал кричать на маму, что она совсем за Соней не смотрит. А мама побежала к Макарихе и стала ее упрекать, что она Соню бросила. А Макариха начала божиться, что не видала, куда Соня скрылась, думала, что она домой убежала. А тихий горбатенький художник Никита Гаврилович вдруг раскричался на всех — вот сколько народу в квартире, а девчонку бросают без призора. Он так бранился, что даже закашлялся. А мама кончила тем, что отшлепала Соню и еще раз строго-настрого запретила выходить за ворота. Ведь некогда же ей было все время смотреть за девчонкой!
Соня подняла рев. И тут отцово сердце не выдержало. Он сходил к Макарихе и принес Соне зелененький мармеладный лапоток, искристый от сахара. Отец не мог выносить, когда кто-нибудь плакал, а уже если плакала Соня — то и подавно.
Свалка
Коровы тосковали в тесных и душных стойлах. У них от долгого стояния безобразно отрастали копыта, приходилось подрезать. Донимала жара, мухи, тянуло на волю… Коровы принимались мычать — то тихо и жалобно, то изо всех сил. Особенно старалась Дочка — ревела на всю Старую Божедомку.
— Травки, что ли, им нарвать где-нибудь… — сказал отец, придя из коровника. — Ревут…
— А ты, Иван Михалыч, сходи к Ивану-Воину, — посоветовала Анна Ивановна. — Я вчера мимо шла — там во какая травища, ужасти!
— Там рвать не велят — церковная!
— А ты потихоньку. Кто увидит-то?
Отец взял мешок и отправился за травой. Соня тоже увязалась с ним: она хотела помогать.
Соня шла рядом с отцом, придерживаясь за край его холщового фартука. Сейчас она уже никого не боялась — ни собак, ни мальчишек, ни нищих. А чего их бояться? Вот он, отец-то!
Как-то незаметно дошли до угла улицы. Зазеленел впереди Екатерининский парк. Вот она и церковь Ивана-Воина — красная с зеленой крышей — красуется на зеленом бугре.
Отец с Соней перешли мостовую, мимо городового, как всегда стоявшего на перекрестке. Городовой то и дело снимал фуражку и вытирал платком голову — жарко ему было стоять на посту среди сонного, залитого солнцем пыльного перекрестка. Соня дернула отца за фартук:
— Пап, а если городовой увидит?
— А что ему — горсти травы жалко, что ли? — ответил отец. — Не с косой ведь идем.
Церковь стояла тихая, безмолвная. Высокая колокольня поднималась над деревьями. Кругом, по бугру, ютились маленькие деревянные домики с ясными окошками — тут жили дьячки, псаломщики. Наверху, у самой церкви, блестел окнами хороший дом из толстых бревен с железной крышей. В этом доме жил сам батюшка, священник церкви Ивана-Воина.
Отец и Соня вошли в ограду. Около церкви никого не было. А трава и в самом деле поднималась кругом выше колен — густая, свежая, цветущая…
— Вот Дочка обрадуется! — сказала Соня.
Они начали рвать траву. Но и охапки не нарвали, как кто-то строго окликнул их. Соня испуганно подняла голову. Отец чуть мешка не выпустил из рук. Прямо перед ними на желтой дорожке, ведущей к церкви, стоял батюшка. Он был осанистый, в черной рясе, с круглой бородой и длинными волосами, падавшими на плечи из-под шелковой шляпы.
Отец сорвал с головы картуз, растерялся.
— Грабитель, — грозно сказал батюшка, — святотатец! Ты знаешь, что за оскорбление церкви — каторга?
— Батюшка, простите… — упавшим голосом сказал отец. — Маленько травы… коровам… Простите, батюшка!
— Простить! — Батюшка повысил голос, глаза его засверкали. — Как я могу тебя простить? Ты не у меня украл. Ты… — он показал рукой на небо, — ты у бога украл!
— Да неужто богу горсти травы жалко?
— А ты еще и кощунствуешь? Придется тебя, братец, отправить в участок. За воровство в святой церкви… Городовой!

— А ты еще и кощунствуешь? Придется тебя, братец, отправить в участок.
Соня заплакала — сейчас отца заберут в участок! Отец тоже сильно испугался. Он стоял понурив голову, мял в руках свой рыжий картуз и только повторял:
— Простите, батюшка… Я ведь не думал… Ведь и трава-то зря у вас пропадает. Простите, батюшка, ради бога!
Батюшка еще долго ругал, стращал и стыдил отца. Слова были страшные, они грозили бедой и на этом и на том свете. А потом сказал:
— Только ради нашего господа бога прощу тебя на этот раз. А придешь еще — не прогневайся! Безбожники, нет у вас смирения перед господом! Уже на богово руку подымаете. Бог — он все видит и слышит! Накажет он тебя, накажет! Я наказывать не буду на этот раз, а он все равно накажет!
Наконец батюшка отпустил их, вернее — выгнал со своего церковного бугра. Даже нарванную траву велел вытрясти из мешка. Отец и Соня пришли домой огорченные, обиженные и с пустым мешком.
— «Не у меня украл. Ты у бога украл!» — с обидой и возмущением повторял отец слова священника. — У бога! Скажи ты пожалуйста! Бог-то велел все богатство нищим да неимущим раздать! А ему — вон что! Горсти травы ему жалко, а он на бога сваливает! «У бога украл»!
— Скажи на милость! — качала головой и Анна Ивановна, которая тут же вышла из своей комнаты. — Углядел долгогривый! Ему из окон-то все видно. С ними, с попами, не связывайся. Упекут, не оглянешься.
— Вот скажу Кузьмичу, как вы тут выражаетесь, — пошутила мама, — он вам даст «долгогривого»!
— А ну его к шутам! — отмахнулась Анна Ивановна и пошла в свою комнату. — Разве старовера переспоришь!
Кузьмич вырос в семье рогожских староверов. Торжественные обряды богослужений, долгие молитвы, непрестанные внушения, что все на свете от бога и что человек прежде всего должен почитать бога — в этом дурмане религии проходило его детство. Ребенок поверил во все — и в то, что бог всемогущ, и в то, что он требует полного повиновения от человека, и в то, что не повиноваться богу нельзя. Так оно есть, так было, так будет.
Детство сложилось нерадостно. Отец умер очень рано. Мать отдала парнишку в учение к меднику. Это был грубый и вспыльчивый человек. Он гонял ученика за водкой, а когда напивался, то все медные тазы и чайники, принесенные для починки, летели парнишке в голову. Только успевай увертываться!
Мальчик подрос, начал понемногу зарабатывать и уже надеялся, что в семье у них начнется хорошая жизнь. Тяжелое разочарование встретило его. Он увидел, что набожная мать его давно уже пьет запоем. То молится, то пьет и что попало тащит из дома.
А потом — трудно и стыдно вспоминать Кузьмичу об этом! — она стала приваживать к водке и его красивую четырнадцатилетнюю сестру Душатку. Кузьмич попробовал образумить их, пристыдить. Но там все уже было утрачено — и совесть и разум. Юноша в горе и в ужасе ушел из дома. А когда мать умерла от белой горячки, он решил, что, значит, так надо было богу. И ни разу не возникло у него мысли о несправедливости и странном жестокосердии бога, которому он молился.
Задумываться Кузьмич стал позже. Он работал слесарем в артели по ремонту домов. Всегда трезвый и до щепетильности честный, Кузьмич видел, что не все на свете устроено правильно. Вот они, мастеровые, работают с утра до ночи, работают трудно, до полной отдачи сил, а заработок — только-только прожить. Может быть, надо бы хозяину платить своим мастеровым побольше и поменьше оставлять себе… Ведь он богатеет их трудами, не своими…
Вот ведь, слышно, шумят на заводах рабочие, требуют, чтобы заработок им повысили, чтобы лечили их бесплатно, чтобы не изнурял их хозяин на работе. Но ведь там, на заводах, их много, рабочих-то. Соберутся все вместе — сила! Да и образованные люди к ним заглядывают, подсказывают, объясняют, что надо делать и как надо делать. А здесь, в артели, что? Попробуй открой рот — хозяин тебя сейчас и по шапке!
Жизнь кружилась однообразно, без ярких событий. Чуть свет — на работу! Придет с работы — поесть, посмотреть газету «Копейку», а там уже и ночь, спать пора. Может, потому он и держался так крепко за своего бога. Религия была для него и отдыхом, и утешением, и праздником. Исконных староверских обычаев Кузьмич не сохранил. Пил и ел из общей посуды, ходил в обычную, не староверскую церковь. Но строго соблюдал все церковные обряды и каждый день, утром и вечером, подолгу молился в своей комнате перед золоченым киотом. Часто слышно было, как он журит Анну Ивановну:
«Аннушка, ты что же ложишься не помолившись?»
«Да я уж молилась, Мить! Ей-богу, молилась!»
«Что же я не видал?»
«Да молилась я, Мить, ей-богу!»
«Ленива ты молиться, Аннушка! Как только бог твои грехи терпит! Неужели спина заболит поклониться? Плохо тебе будет на том
свете!»
Анна Ивановна не возражала… Но молиться и в самом деле не любила. Перекрестилась — и ладно. Однако при Кузьмиче непочтительно выражаться о церкви или о священниках остерегалась. За это он, тихий человек, мог даже и стукушку дать.
…А коровы по-прежнему жалобно ревели на заднем дворе.
Вечером пришла коровница старуха Степаниха с Четвертой Мещанской.
Тогда на московских окраинах немало стояло по дворам коров, лошадей. В маленьких деревянных домах жил народ пришлый, из деревень. В подмосковных деревнях мало сеяли хлеба, да и не очень-то он родился на лесных заболоченных пустырях. Больше жили Москвой. Накосят сена — в Москву, на рынок. Накопят масла, яиц — в Москву. А из Москвы везут хлеба.
Если же хозяйство такое немощное, что и на хлеб продать нечего, шли в Москву на заработки — в полотеры, в дворники, в извозчики. Или заводили коров, торговали молоком. Хорошая корова тогда стоила десять рублей, а плохонькую, деревенскую буренку можно было купить и за пять. Ходить за коровами, кормить, доить хоть и тяжело, но деревенскому люду привычно. Да и за какую же еще работу возьмешься? Никакому ремеслу деревня не обучила.
Молочники держали по три, по четыре коровы. Но прибыль от них была так невелика, что еле хватало прожить с семьей. В деревне скот все лето на пастбище, а тут круглый год надо было покупать коровам и сено, и жмых, и отруби. И за квартиру надо было платить хозяину, и за сараи, да одеться, обуться. А молоко стоило всего пять копеек кружка.
Так и жили: коровы сыты и сами сыты, да и крыша есть над головой. А работа — с утра до ночи, и в будни и в праздник, на всю жизнь, пока руки не отсохнут.
У Степанихи было всего две коровенки, и жили они со своей дочерью рябой Дуницей совсем бедно. Однако Степаниха никогда не унывала, вечно у нее шутки да присказки. А что ж унывать? От этого жизнь не получшает!
— Погонимте коров на свалку, там травка поднялась хорошая, — сказала Степаниха. — Нефедов вон третий день гоняет своих. Городовой видел — ничего не сказал!
Поговорили, посоветовались и решили на другой день отвести коров на свежую травку.
Наутро мама и отец отвязали своих коров и повели на свалку.
— И я! — закричала Соня. — Девчонок позову!
И побежала к своей подруге Шуре.
Шура Селиверстова жила в сером флигеле, и старый клен, который стоял во дворе, глядел прямо к ним в окна.
Соня поспешно поднялась по белой каменной, чисто промытой лестнице. Но не успела она войти в сени, как из квартиры вышла Шурина мать. У нее в руках была большая банка варенья — Шурина мать вышла отнести варенье в чулан.
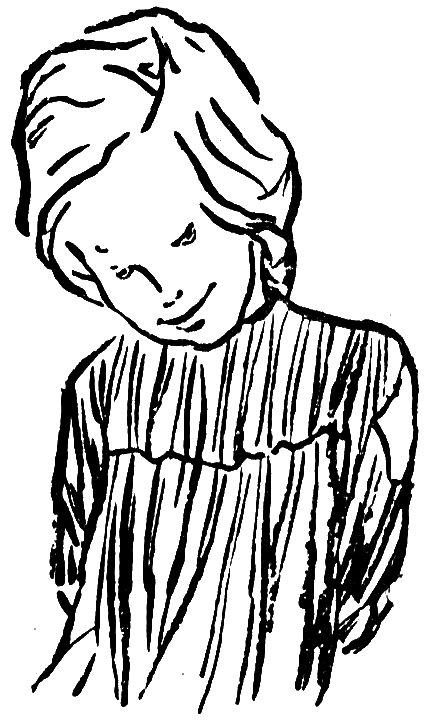
— Я к Шуре, — робко сказала Соня. — Мы на свалку идем.
— А кто еще идет? — спросила Шурина мать.
— Папа и мама идут. С коровами.
Шурина мать чуть-чуть задумалась, отпирая чулан. А потом покачала светло-русой головой:
— Нет, Соня, твои папа и мама будут смотреть за коровами, а не за вами. Нет, Шура не пойдет на свалку!
Соня огорчилась — Шуру никогда никуда не пускают без мамы! Но она ничего не сказала, спустилась с лестницы и побежала к Лизке.
Лизка была дочка сапожника. Входить к ним надо было с улицы — прямо в сапожную мастерскую. У них над облупленной дверью висела вывеска: «Починка сапог и бареток. Сапожник Очискин», — и по обе стороны двери смотрели на улицу два мутных, вечно забрызганных грязью окна.
Соня только чуть приоткрыла дверь, а Лизка уже увидела ее.
— На свалку? — радостно просипела она. — Пойдем!
Лизка, когда была еще совсем маленькой, очень сильно простудилась. С тех пор у нее почти пропал голос. Она не говорила, а сипела и смеялась так, что и не понять было: не то смеется, не то просто хрипит. Во дворе ее звали Лизка Хрипатая, и она на это нисколько не обижалась.
Уж Лизка-то обрадовалась свалке по-настоящему! У них в комнате никогда не бывало солнца. Да и свету почти не было — грязные окна не пропускали его. Комната была только одна. В углу, под окном — «починка сапог и бареток». Длинный верстак, за верстаком, на «липке», — Лизкин отец, сапожник Очискин. Рядом — его мастер, угрюмый рябой мужик, и мальчик — ученик Ванька, по прозвищу «Лук — Зеленый, молодой». А в другом, в темном углу — кровать, маленький стол и тусклое зеркало. Тут жила, спала и ела семья сапожника Очискина — Лизка и ее мать.
Соня робко стояла у дверей, пока Лизка пыталась причесать свои густые белесые волосы. Сапожник и его подмастерья работали молча, мрачно, с каким-то злым нетерпением. Все они сидели неумытые, со всклокоченными волосами. Мрачнее всех, всех угрюмее и злее работал сам хозяин, Лизкин отец.
На полу, загромождая почти половину комнаты, кучей лежала обувь, принесенная для починки, — сапоги, туфли на высоких, покривившихся каблуках, башмаки на пуговицах… В комнате стоял густой душный запах пыли, вара и старой кожи. Как же не обрадоваться Лизке этой возможности — побежать на свалку, где светит солнце и растет трава!
Когда Иван Михайлович и Дарья Никоновна повели коров по двору, то к ним, вслед за Соней и Лизкой, слетелись почти все ребятишки — Оля Новожилова с третьего этажа, ее сестренка, стриженая Тонька, Сенька-Хромой из шестой квартиры, его брат, худенький, сухопарый Коська, Матреша, дочка ломового Алексея Пуляя, недавно приехавшая из деревни… И все гурьбой отправились на свалку, вслед за коровами.
Сонин отец шел впереди с огромной веселой озорницей Дочкой и маленькой пугливой Рыжонкой. Дочка поднимала свою красивую голову с большими рогами, раздувала ноздри, норовила вырваться. А Рыжонка, наоборот, жалась к хозяину — она боялась трамваев и чужих людей, и ее надо было крепко держать, чтобы она не побежала со страху куда глаза глядят.
Дарья Никоновна вела смирную белогрудую Красотку. Красотка только с любопытством поглядывала по сторонам и послушно шагала рядом с хозяйкой.
Всей гурьбой прошли самое опасное место — мостовую и трамвайные рельсы. Спешили — боялись: вдруг налетит трамвай! Но трамвай по Старой Божедомке ходил так редко, что можно было успеть целое стадо перегнать и еще время осталось бы.
По переулку ребята побежали вперегонки. Коровы тоже прибавили шагу — увидели зеленую траву. Они зафыркали от радости, а Дочка подпрыгнула всей своей многопудовой тушей.
В конце Тополева переулка, примерно в тех местах, где сейчас стадион «Буревестник», лежал пустырь, заросший травой. Среди невысокой травы изредка сверкал золотой цветок куриной слепоты или розовела маленькая веточка гравилата. А ребятишкам казалось, что они попали в зеленый сад. Они с радостными криками побежали по широкой луговине, босиком по мягкой траве — ведь у них-то во дворе и травинки никогда не росло!
На пустыре уже паслись чьи-то коровы. Иван Михайлович и Дарья Никоновна пустили к ним и своих коров, а сами пошли потолковать со знакомыми молочницами, которые сидели среди луговины на старом, давно повалившемся дереве.
Соня глядела кругом так жадно, будто хотела все забрать в свои глаза и унести с собой. Зеленая трава, солнце, цветочки… А дальше, у забора, деревья с темными стволами и длинными, густыми ветвями. И под этими деревьями маленькая речка Синичка. Но туда не стоит ходить — там сумрачно и вязко. И потом, один раз у этой речки нашли мертвого старика нищего, который лежал лицом у самой воды…
— В салочки! — крикнула Оля.
Она прыгала и резвилась. Розовые гладкие щеки ее разгорелись, глаза блестели, и светлые серебристые волосы потемнели и взмокли на лбу от пота.
— В салочки, чур, не я! — подхватила Лизка.
— Ладно! Я вожу! — сказал Сенька-Хромой.
Сенька и в самом деле был хромой, одна нога у него почему-то согнулась в колене и не разгибалась.
Несмотря на хромоту, Сенька бегал очень быстро. Когда случалось играть в «Коршуна», его всегда заставляли быть «наседкой». Ребятишки, уцепившись друг за друга, прятались за широкой Сенькиной спиной от «коршуна». «Коршуном» чаще всего был Сенькин братишка Коська, худенький, белобрысый, цепкий, как репей, и очень азартный. Коська настоящим коршуном носился вокруг, стараясь вырвать кого-нибудь из вереницы. Но Сенька-«наседка» умел защитить своих «цыплят» от самого быстрого «коршуна».
— Я вожу! — еще раз крикнул Сенька и сразу бросился ловить ребят.
Все с визгом и криком разбежались по луговине. Соня очень любила играть в салочки, только почему-то страшно боялась, что ее поймают. Она визжала и убегала изо всех сил, сердце у нее билось, дух захватывало… А Сенька бросился за одним, бросился за другим, да вдруг и припустился за Соней.
Соня бежала, не помня себя, перелетала через кочки, через канавки, бросалась вправо, влево… И вдруг увидела прямо перед собой высокие густые заросли лопухов. Она вскрикнула и, уже забыв, что Сенька ее осалит, бросилась прочь от этого страшного места.
Когда-то давно на этот пустырь привозили всякий городской мусор. Потому и называлось это место свалкой. Потом на этих мусорных кучах, будто на холмах, густо и плотно разрослись могучие лопухи. Они стояли непроходимой чащобой. Серые колючие шарики — «собаки» — целыми корзинками поднимались над огромными листьями. Ребятишки боялись этих зарослей — в них можно было затеряться… И еще неизвестно — может, там жил кто-нибудь страшный… может, прятались какие-нибудь бродяги…
Соня с разбегу бросилась к ребятам.
— Не буду играть! — почти со слезами крикнула» она. — А чего он к лопухам гонит? Хромой бес, пошел в лес!
— А ты чего туда бежишь? — ответил Сенька, будто и не слышал «хромого беса», и тоже с опаской поглядел на неподвижные, дремлющие под солнцем серо-зеленые заросли.
Все притихли.
— А пойдемте вокруг света? — замирающим голосом сказала Оля. Голубые глаза ее стали совсем круглыми от предвкушения приключений и опасности.
У Сони сжалось сердце от сладкого страха.
— Пойдемте… — еле слышно сказала она.
— Только пускай Сенька впереди, — прохрипела Лизка.
— А я, чур, в середке! — поспешно заявила Соня.
— А сзади кто — я, что ли? — крикнул задиристый Коська.
Коська был очень вспыльчивый: сразу покраснеет, как петух, — и в драку. Но его никто не боялся, потому что он был худенький и совсем не сильный.
Наконец договорились и отправились всей гурьбой, держась друг за друга, к дальнему забору, который стоял за лопуховой рощей и огораживал всю свалку. Вдоль забора поднималась зеленая насыпь с узенькой тропочкой поверху. Эта тропочка вела далеко-далеко, на другой конец свалки.
Сенька шел впереди. Хоть и хромой он был, но зато коренастый, сильный и смелый. Ему нравилось, что вся эта мелюзга прячется за его спиной, цепляется за него. И, если бы не он, они бы сейчас все умерли со страху. Но никто не знал, что у Сеньки и у самого замирала душа.
Тропочка шла вдоль забора вокруг всей свалки кате раз над самыми лопухами. Сорвешься с тропочки, так прямо скатишься в лопухи. Ребята шли молча, затаив дыхание, словно боясь громким словом или восклицанием пробудить таинственную жизнь в сумраке бурьяна.
Глухо и пустынно было в этом конце пустыря. Далеко, так далеко, что не докрикнешь, ходили по траве коровы, сидели на упавшем дереве люди. Мама и отец тоже сидели там, Соня видела их. Ей сейчас очень хотелось бы очутиться возле них на солнышке, среди зеленой луговины. Но уже ничего не сделаешь, бурьян загородил дорогу.
— Я один раз видел, как из лопухов оборванец вылез… — обернувшись к ребятишкам, прошептал Сенька. — Морда красная, сам в лохмотьях.
— Ой… — Ребята совсем замерли. Торопливо, боясь хоть чуточку отстать, шагали они по узенькой тропочке.
Соня с тоской поглядывала на лопухи. Ей уже казалось, что верхушки лопухов покачиваются, будто кто-то крадучись пробирается понизу…
«Больше никогда не пойду! — думала Соня. — Только бы пройти! И больше никогда, никогда!..»
А тропке, казалось, и конца нет!
Но вот лопухи стали пониже, пореже. Уж и солнечные просветы начали появляться между ними… А вот лопухи и совсем кончились. Ура!
Сенька с веселым криком бросился с насыпи вниз, на зеленую луговину, на солнечный простор. И все ребятишки со смехом, с выкриками побежали следом. Страхи миновали, опасности остались позади. Если кто и вылезет теперь из страшных лопухов, то их уже не поймает.
Соня подбежала к маме, прижалась к ней.
— Ты чего это дрожишь вся? — спросила мама.
— Очень страшно было, — созналась Соня.
— А зачем же ходить туда?
Соня молчала, опустив глаза.
— Ведь вот боишься, — сказала мама, — а в следующий раз опять туда побежишь!
Соня не отвечала, а сама думала: побежит она туда еще раз или не побежит? Наверное, все-таки опять побежит!
Гроза
Дарья Никоновна осталась пасти коров, а Иван Михайлович пошел домой таскать воду коровам, готовить корм. Ребятишек он забрал с собой: побегали — и хватит, еще малы оставаться на свалке без присмотра. И только одна Соня осталась около своей мамы. Она тихонько бродила неподалеку от нее, отыскивала зубчатые шершавые листья травки-манжетки и собирала «просвирки». Просвирками ребята называли маленькие круглые, как лепешечки, семена манжетки. Соня собирала их и ела, и они казались ей очень вкусными.
Вместе с Дарьей Никоновной пасла коров Степаниха. А на другом краю луговины играли и возились друг с другом двое мальчишек-пастушат Ванюшка и Лешка. Они пасли коров богатого хозяина Нефедова. У Нефедова коров было целое стадо, и сам он их пасти не ходил.
Мама и Степаниха весело разговаривали. Степаниха любила побалагурить. Придумает какую-нибудь смешную историю и уверяет, что это все с ней самой случилось.
— Ну и выпила я рюмочку, — рассказывала она маме, — а закусить нечем. Пошарила по полкам — нашла огурец. Сижу жую. А зубов-то нету. Так и спать легла, а сама все этот огурец жую. Утром просыпаюсь — чем же такое у меня рот набит? Кричу своей: «Дуница! Что это у меня во рту?..» А дочка-то у меня, сама знаешь, какая ласковая: «А я почем знаю! В рот, что ли, я тебе полезу смотреть?..»
Обе, и мама и Степаниха, залились смехом.
— «Зови, говорит, Филата на помощь, а что ко мне пристаешь!» — продолжала рассказывать Степаниха. — А Филат — это садовник, на нашей улице живет. Ну с Филатом-то у нас вот что получилось. Шла я как-то мимо его сада, гляжу — ох, малина хороша! И растет у самого забора. Поглядела я в щелочку — Филата не видать в саду. Оглянулась кругом — и на улице никого нету. Думаю, дай-ка перелезу я через забор, поем малинки, да и обратно тем же путем. И что ж скажешь — полезла. Вскарабкалась. А юбка-то у меня широкая — ну и зацепись я за этот забор, да и повисни! Ой, батюшки! Вишу на заборе — ни взад, ни вперед! Хоть бы юбка-то разорвалась, думаю. А она коломянковая у меня, трещать трещит, а рваться — не рвется! То боялась, как бы этот Филат меня не увидел, а потом гляжу — так и всю ночь провисишь. Давай я этого Филата звать: «Филат! Филат! Сними меня, батюшка!..» Ну что ж скажешь? Пришел, снял. А уж посмеялся надо мной — ну, досыта!..
Сидели, балагурили, хохотали над приключениями Степанихи. И не заметили, как поднялась над луговиной черная туча. Вдруг потемнело, коровы забеспокоились. Дарья Никоновна вскочила — гроза идет! А у нее три коровы и Соня здесь!
Сразу хлынул дождь, засверкала молния. Степаниха повязала потуже платок, потому что ветер срывал его с головы, и поспешно погнала своих коров. Дарья Никоновна не знала, что делать; она старалась удержать около себя Дочку, подзывала Рыжонку и Красотку и совсем растерялась. Иван Михайлович уже бежал ей на помощь. Отец и мама схватили коров за ошейники и почти бегом повели их домой. Соня побежала за ними. Дождик сразу промочил ее клетчатое сарпинковое платье. Но дождик был теплый. Только очень страшно полыхала молния и грохотал гром.

Улицу еле перешли — по канавкам мостовой уже бежали бурливые ручьи. Соне вода была по колено. Она подняла повыше платье, хотя оно и так было мокрое, и перешла ручьи.
Мама с отцом повели коров в стойло, а Соне велели сейчас же идти домой. Анна Ивановна, вся встревоженная, встретила ее:
— Снимай скорее все! Чего же вы домой не шли — видите, гроза?! Ужасти гроза какая, а они там ждут чего-то!
Гром все грохотал, и молнии освещали квартиру белым огнем.
— Ой, батюшки! — Анна Ивановна вздрагивала и крестилась. — Коровы-то не вырвались бы!
Она говорила, а сама уже раздевала Соню, вытирала ее полотенцем. А потом дала ей свою большую шаль:
— Завернись и сиди пока. Сейчас мать придет, платье даст.
Мать и отец тоже пришли мокрешенькие. Анна Ивановна начала браниться, зачем они грозы дождались.
А мама сказала, что она и не видела, как эта гроза налетела.
— Растерялась, что делать, не знаю! Коровы ревут, бросаются… А тут девка у меня. Гляжу — слава богу, сам бежит! А то что и делать — не знаю!
Мама дала Соне чистое платье, ее любимое, зелененькое с цветочками.
— Нехорошая гроза, — сказал отец, поглядев в окно: — либо пожар, либо убьет кого.
— Нехорошая, нехорошая, — согласилась Анна Ивановна. — Я уж поскорей все окна закрыла.
Отец сел в кухне на табуретку: он не хотел следить по квартире грязными сапогами.
— А ты что ж не переоденешься? — Мама протянула ему чистую рубаху. — На вот.
— А чего переодеваться? — сказал отец. — Все равно сейчас опять на дождь идти. Уже двенадцать.
Мама посмотрела на часы. Да, уже полдень. Дождь не дождь, а коров доить надо. И мама принялась готовить доенку, цедилку, бидон для молока…
Соня села играть в куклы. У нее был маленький фаянсовый голышонок, гладкий и белый, как тарелка. Этот голышонок умещался на ладони и был всегда холодненький. Соня любила его, нянчила, купала в миске. Была у нее и кукла, большая, но очень безобразная. Волосы у нее отклеивались, нос был черный, а брови и рот совсем стерлись. Чья-то нянька, приходившая за молоком, принесла ей эту куклу — все равно ее хотели выбрасывать! Соня ее тоже любила и даже больше, чем голышонка. Она ее жалела.
Куклы у Сони жили на подоконнике, среди цветочных горшков, под фуксиями и бегониями. Но только Соня усадила голышонка под цветущей фуксией, чтобы он подышал воздухом, пришла Лизка Сапожникова, вся мокрая, с мокрыми босыми ногами.
— Пойдем уголь ловить! Ух ты, что угля плывет!
— Куда опять на дождик! — крикнула из своей комнаты Анна Ивановна.
— А он перестал! — прокричала в ответ Соня уже с лестницы.
Ребята со всего двора уже были за воротами. По мостовой вдоль тротуаров бурно текли потоки мутной желтоватой воды. Старая Божедомка — покатая улица, и при каждом дожде с горы, от Мещанских, по ней катились широкие ручьи вниз, до самого Екатерининского парка. Сегодня же, после такого ливня, вода разлилась по всей мостовой. По воде плыли щепки, березовая кора, угли… Сенька-Хромой, Коська, Ванюшка — Лук-Зеленый, Оля — все стояли по колено в воде и ловили плывущие куски угля.
Соня и Лизка тоже вошли в воду. Вода была мутная, но теплая, искристая, веселая. Соня принялась ловить уголь. Она ловила черные мокрые куски и складывала их в подол платья. Если удавалось, схватывала то бересту, то большую щелку, радуясь добыче.
Но вдруг ей показалось, что вода стоит на месте, а она, Соня, мчится вверх, к Мещанским. Она вскрикнула и выпрямилась. Нет, это вода несется вниз, а Соня стоит на месте. Соня опять нагнулась и опять понеслась, а вода остановилась… Получалась какая-то занятная игра!
Дворник Федор провожал метлой воду со двора на улицу.
— Это откуда же столько угля плывет? — удивился он.
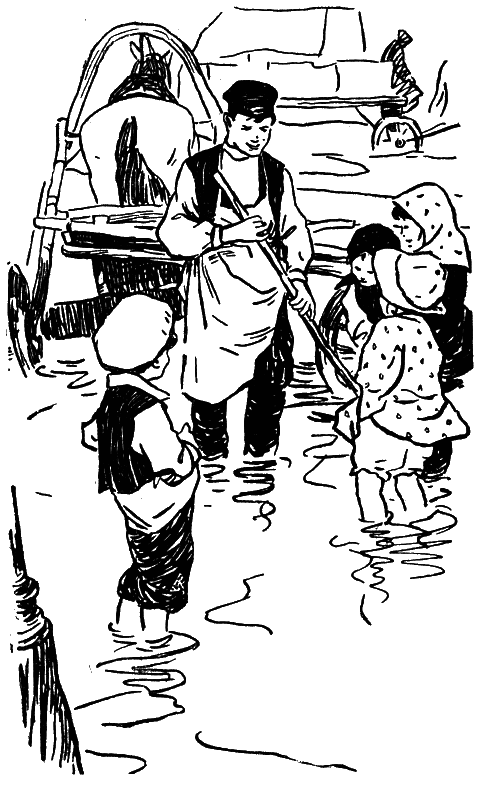
— Это откуда же столько угля плывет?..
— Костачевых размыло! — сообщил Сенька. — Чуть дрова не уплыли!
— Кули с углем начали на поленницы бросать, — принялись наперебой рассказывать и другие ребята, — а которые кули разорвались — уголь просыпался и уплыл! Мы смотрели!
Разговор шел о соседнем дворе. О том дворе, который скрывался за высоким забором, о том дворе, где цвел волшебный сад с диковинными красными цветами… Значит, никаких фей, просто дровяной склад…
Соня опять принялась ловить в воде угли. Но ей стало как-то очень скучно. Ведь есть же где-то этот волшебный сад с красными цветами! Только вот где он?
Дома Соне попало от мамы за платье. Но отец заступился за нее.
— Эко ты какая! — сказал он маме. — А зато, гляди, сколько углей принесла. Самовара на два хватит!
Мама, наверное, и еще побранилась бы, но в это время на кухне послышался громкий голос старухи Степанихи:
— Ой, батюшки! Ой, гнев господний!
Мама, отец, а за ними и Соня поспешили на кухню. Выбежала и Анна Ивановна из своей комнаты.
— Что случилось?
— Громом убило, ой, батюшки! — Степаниха села на сундук, стоявший в кухне, и заплакала. — Ребят-то громом убило!
— Каких ребят?!
— Да пастушат-то этих! Пастушат-то нефедовских! Этот ирод проклятый, Нефедов-то, сидит дома. И гусыня эта, жена-то его… Сидят, чай пьют! И не подумали выйти! А ребята там с коровами под грозой! Ну встали под дерево. А молния-то и ударила! Так обоих и сожгло — как головешки черные!..
— Где же они? — побледнев, спросила мама.
— В больницу повезли. Один-то насмерть. А другой еще живой был. Говорит: стоим, а к нам белый шар летит. Прямо катится белый шар по воздуху. Они было бежать рванулись, а он на них так и бросился! И дерево обжег. А сам, говорит, в землю ушел. А Нефедов-то ждал, ждал, обозлился: «Чего это они коров до сих пор не гонят? Забаловались там, наверно, про дело забыли! Вот я их сейчас взгрею!» И не то чтобы, дескать, пойду посмотрю, ведь они там, чай, до костей промокли да продрогли. Иуда! Идет, лупить их собрался. А они — вот они, лежат под деревом!
— Мать-то небось с ума сошла, как узнала! — сказала мама.
— То-то и дело, что нет у них ни матери, ни отца! Была бы мать, неужели не прибежала бы?!
— Ах ты, беда-то какая! — Отец как-то особенно тяжко вздохнул и покачал головой, будто у него что болело. — Эх, сиротская доля! Лупить да учить — много найдутся. Только пожалеть некому. Мм…
Отец понурил голову, задумался. На его белом, незагоревшем под картузом лбу прорезалась глубокая морщина. Он сам когда-то был пастушонком на барском дворе, нас свиней. Он сам дрожал под дождем и ветром в поле, он сам вставал с зарей и ночевал на сеновале до самых морозов. Он знал, что сирота — как куст при дороге: кто идет, тот и щипнет…
Соня слушала, широко раскрыв глаза. Ей было страшно. Она представила, что этот белый шар мог бы и на них с мамой броситься. Или мог бы на отца броситься, когда он бежал к ним под дождем и громом. И вот бы они лежали сейчас все черные на луговине, а коровы стояли бы и ревели и не знали бы, что делать.
А потом представила, как остались эти мальчики одни под деревом и молния бросилась на них. Они были совсем одни, без отца, без матери… Соня уткнулась в мамин фартук и заплакала.
Шура
Что-то разнепогодилось, на улице моросил мелкий прямой дождик. Прохожие прятались под большими черными зонтами, и Соне казалось, что по мокрой улице тихо бредут большие черные грибы.
Но все-таки сидеть дома было скучно. Она уже изрисовала весь листок бумаги — обертку из-под сахара, которую ей дала мама. Влезла по деревянной лесенке на печку, посидела там свесив ноги, спела песенку. На печке пахло горячими кирпичами, сухой лучиной — мама сушит здесь лучину для растопки. Там, на печке, в укромном уголке у Сони жила маленькая марципановая свинка. Соня была именинница, и Дунечка подарила ей эту свинку. Сначала свинка была беленькая, но теперь стала совсем бурой, запылилась и загрязнилась на печке.
Соня могла бы давно съесть ее, свинка была сладкая, но это очень жалко: съешь — и не будет ничего. А так всё-таки свинка. И Соня только лизала ее иногда и потом снова ставила в теплый, темный уголок на печке.
Слезая с печки, Соня чуть не свернулась. И мама прикрикнула на нее:
— Что тебе на месте не сидится? Займись чем-нибудь!
А чем Соне заняться? Были бы игрушки, тогда другое дело. Но мама Соне игрушек не покупала, она не могла тратить денег на такое баловство. Самой-то маме в детстве ни побегать, ни поиграть не привелось. В те годы, когда другие ребятишки в школу идут, она уже на работу пошла…
Заглянув в окно, Соня увидела, что дождь перемежился. Она схватила мамин платок и потихоньку исчезла из квартиры.
По двору бежали ручейки. С клена падали длинные тяжелые капли. В дождевых трубах шумела вода. Во дворе никого, один поджарый озорной Коська бегает по лужам.
— Соня! Соня!
В окне под кленом растворилась форточка. Шура, улыбаясь, выглядывала из окна и манила Соню рукой.
— Выходи гулять! — крикнула Соня. — Дождя нет!
— Мама не велит! Грязно. Лучше иди ко мне играть.
Соня, осторожно ступая по грязи, перебежала двор. Она только этого и хотела, чтобы Шура позвала ее к себе. Шурина мама не любит, когда к ним ходят ребятишки: полы у них чистые — наследят, нагрязнят. И только одной Соне можно было входить в селиверстовскую квартиру. Шура и Соня дружили с тех самых пор, как научились ходить и произносить слова.
Соня поднялась по белой каменной лестнице на второй этаж и потянула за скобку знакомую, обитую коричневой клеенкой дверь. До ручки звонка, которую нужно было дернуть, чтобы он зазвонил, Соня достать не могла. Да и не нужно было: двери запирались только на ночь.
Соня вошла и сразу словно окунулась в теплоту и тишину уютной квартиры. Здесь все было лучше, чем у них дома. Русская печь блестела кафелем. Пол в кухне был промыт до белизны и застлан полосатыми дорожками. Пахло чем-то вкусным — не то ванилью, не то яблоками…
Шурина бабушка месила тесто в большой глиняной банке — ставила пироги. Бабушка была спокойная и толстая, как то тесто, которое она месила.
— Вытирай ноги, Соня, — сказала она. — Хорошенько вытри!
Шура выбежала навстречу Соне — свеженькая, пухленькая, как жаворонок; не тот жаворонок, что вьется и поет над полями, а сдобный жаворонок, которых пекут в день прилета птиц. Даже темные веселые глазки ее были похожи на изюминки.
— Пойдем играть! Во что будем — в куклы? Или в мячик?
— В куклы! — не задумываясь, ответила Соня.
Кукла! Подержать в руках настоящую, красивую куклу с голубыми глазами и с желтыми косичками — это для Сони было настоящим счастьем.
В комнате у Селиверстовых тоже все было не так, как у Сони дома. Здесь был крашеный пол, он блестел будто намасленный; здесь стоял раздвижной стол на точеных ножках, всегда накрытый скатертью; здесь на дверях и на окнах висели тяжелые портьеры с темным узором падающих коричневых листьев… И среди пола — вот ведь как бывает у богатых! — лежал ковер с каймой из красных маков.
Шурина мама сидела в своей спаленке и мотала пушистую голубую шерсть. Она наматывала огромный клубок и что-то напевала. Ей никогда и никуда не надо было спешить — работал Шурин отец. Соня побаивалась его. Он всегда ходил выпятив живот, шагал твердо, решительно, его выпуклые черные глаза глядели прямо в лицо людям и словно обжигали; и все во дворе, еще издали завидев Селиверстова, почтительно кланялись ему.
Но Шурин отец придет еще не скоро, можно поиграть вволю. Шура достала свои игрушки и выложила их на ковер — куклу маленькую, куклу большую, рыжего мохнатого Мишку, кукольную мебель, кукольную посуду. Шура держала свои вещи в порядке: поиграет и уберет в ящичек. К порядку приучил ее отец. Он не стыдил и не уговаривал Шуру, а если видел, что валяется на полу какая-нибудь игрушка, или книжка, или картинка, хватал и бросал в печку.
— Раз валяется — значит, не нужна. А если не нужна — нечего ей под ногами валяться.
И, после того как сгорел в печке любимый Шурин серый слоник, а потом вспыхнула жарким огнем раскрашенная деревянная тележка, Шура стала старательно убирать все свои игрушки и книжки.
Как хорошо было у Шуры! Как уютно и занятно было сидеть им под большим столом, будто в комнатке! Скатерть, свешиваясь по сторонам, отгораживала их, они болтали и смеялись, нянчили кукол. А потом, устроившись поудобнее и уложив кукол на коленях, словно маленьких деток, принялись рассказывать сказки.
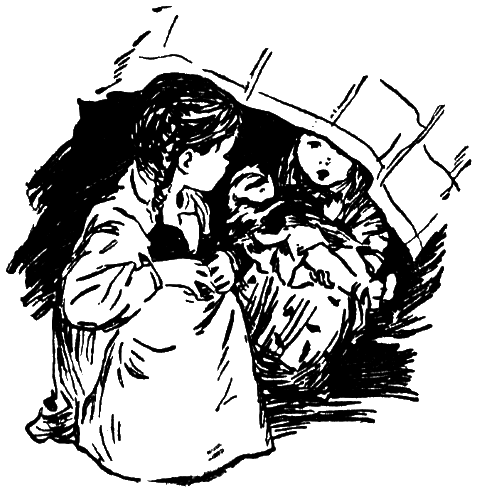
— Расскажи, — попросила Шура, — только пострашнее!
Соня вспомнила страшную историю, которую однажды, сидя у своей корзинки с пряниками и стручками, рассказала ей соседка — торговка Макариха.
— Это в деревне было. Девчонки пошли на реку купаться в самый полдень. И забыли, что в полдень купаться нельзя.
— А почему нельзя?
— Ну… нечистый час.
— Какой нечистый?
— Не знаю, какой. Макариха говорит. Наверное, всякие нечистые ходят… Девчонки влезли в реку, а одна и сказала черное слово!
Под черным словом разумелся черт. Произнести слово «черт» ни Соня, ни Шура не смели.
— В реке — черное слово? — Пухлые с ямочками Шурины руки крепче сжали куклу.
— Ага. В реке! Вот все стали вылезать из реки, а эта девчонка не может вылезти. Не пускает ее кто-то, за ноги держит.
— Ой! — Шура съежилась и подобрала ноги.
Соня тоже подобрала ноги и замолчала.
— Ну, а потом что? — У Шуры голос уже замирал от страха, она боится узнать, кто же держал ту девчонку в воде, и ей хочется узнать.
— Другие девчонки стали ее вытаскивать — и не могут. Посмотрели, а у нее цепи на ногах!
— Ой!
Шура взвизгнула, Соня тоже взвизгнула. Будто ужаленные, они выскочили из-под стола и обе стукнулись головой об крышку.
— Что случилось? — спокойно спросила Шурина мама из спальни. — Обо что вы брякнулись там?
Шура и Соня, потирая макушки, смотрели друг на друга.
— Так просто, — сказала Шура. — Об стол брякнулись!
И они обе, глядя друг на друга, принялись громко смеяться.
— Полезем опять, — с глазами, в которых блестели слезинки от смеха, сказала Шура. — Еще расскажешь. Ладно?
— Ладно.
Но, только они приподняли скатерть, чтобы лезть под стол, мама вышла из спальни.
— Шура, давай собираться, — сказала она, поглядев на часы, и лениво зевнула раза два. — К портнихе пойдем.
— Ну во-о-от! — затянула Шура.
— А что ж, значит, тебе новое платье не нужно?
Шура молча пододвинула ящик и начала укладывать в него свои игрушки. Новое платье ей, конечно, нужно!
Сверху Шура уложила голубоглазую с желтыми волосами куклу, которую Соня до последней минуты нежно прижимала к груди.
Отдала, рассталась. А щека еще чувствовала ее гладкое фарфоровое личико, и в руках еще словно держала она ее хорошенькие, обутые в белые башмаки ножки…
Соня проводила Шуру с ее мамой до ворот и вернулась домой. Скучно, некрасиво, неуютно показалось ей дома. Она вдруг словно в первый раз увидела, что нижние сени у них грязные, затоптанные и окно в сенях слепое от пыли. Соня поднялась по лестнице с деревянными балясинами. Наверху было чище, тут следила за порядком мама и соседка Макариха, но все-таки не так светло и чисто, как в сенях у Шуры. И в квартире совсем не так. Ни ковров, ни тяжелых занавесей на дверях и на окнах… И стол вон какой плохой… У Шуры такой стол в кухне стоит.
Мама мыла полы, потому что была суббота. Она уже вымыла свою комнату и выставила ведро в кухню. На сыром полу грудой лежали вытрясенные половики.
— Стели половики, — сказала мама, отжимая мочалку.
Соня принялась разбирать суровые дорожки с красными и синими полосами.
— Мам, а когда мы к портнихе пойдем?
Мама подняла голову:
— Что? К какой портнихе?
— А новые платья шить?
— Анна Ивановна, слышишь? — засмеялась мама.
Анна Ивановна тоже прибиралась в своей комнате — протирала розовые с золотыми подковками вазы, которые стояли у нее на комоде.
— Слышу! — отозвалась Анна Ивановна. — На Кузнецкий, что ли, пойдете шелка-то выбирать?
Соня растягивала по полу дорожки, расставляла стулья по местам. И чего они смеются? Вон Шура со своей мамой пошла же!
— Вырастешь большая да будешь богатая, тогда и мы с тобой к портнихе пойдем, — сказала мама. — А пока уж как-нибудь сами сошьем.
— А Шурина мама богатая?
— Да уж не то, что мы. У них отец в банке служит, у него голова светлая.
— А у нашего отца — не светлая?
— Да и у нашего была бы светлая, кабы поучиться пришлось. Селиверстов гимназию кончил, а наш отец всего три класса сельской школы. Кончил курс науки, да и сдал экзамен в пастухи…
Вечером собрались все жильцы, и в квартире стало тесно. Кузьмич мыл над кадушкой около порога черные от слесарной работы руки. Анна Ивановна суетилась около печки, спешила раздуть самовар. Самовар-то уже поспел, но заглох немного, а Кузьмич любил, чтобы он на столе шумел и фыркал. У кухонного стола мама наливала молоко покупательницам. Тут же на краешке стола Дунечка резала селедку.
В комнате отец о чем-то толковал с Сергеем Васильевичем. Сергей Васильевич стоял около своей двери, прислонившись к притолоке, курил и пускал дым в хозяйскую комнату.
— Распустились! — ругал кого-то Сергей Васильевич. — Мало их сажают по тюрьмам! Работать не хотят, вот и ходят по заводам да по фабрикам, честных людей смущают.
— Так ведь если разобраться, то кто ж работать не хочет? Вопрос — как работать. Не по силам тоже нельзя, — стараясь выражаться помягче, возражал отец. — Ведь уж совсем господа фабриканты простой народ затеснили… Форменным образом.
— А ты что — тоже за бунтовщиков? — оборвал его Сергей Васильевич. — Вот к нам в магазин тоже такой-то умник затесался. «Вы, говорит, за гроши работаете, бьетесь, стараетесь побольше продать, да и обмануть не задумаетесь — а для кого? Прибыль-то все равно хозяин в карман кладет! Он живет, а вы жилы свои тянете!» Но у нас старший приказчик не дурак, послал мальчишку за городовым, тут его, голубчика, и сцапали. Отправили куда следует, да еще и в морду надавали…
— Ну, а в морду-то зачем же?.. — смутился отец.
— А как же? А как же? Жалеть их? Я бы и сам… да без меня нашлись. Старший приказчик у нас — во, сажень в плечах! Дал раза два, а после него уже и делать нечего. Еле подняли. А тех растяп, которые его слушали да бить не давали, хозяин наутро и рассчитал. «Иди куда хочешь, если тебе у меня плохо». Пошли голубчики. А дома-то семья хлеба просит. Да ни один хозяин таких не примет. Вот и походи теперь без работы, пощелкай зубами! Ха-ха!
— Что-то все это уж очень подло получается… — покачал головой отец.
Но Сергей Васильевич опять оборвал его:
— А что вы понимаете? Не вашего ума это дело, Иван Михалыч. Вы дальше своих коров ничего не видите!
Соня прислонилась к отцову колену и глядела на Сергея Васильевича насупив брови.
«Нет, мой папа все понимает! — хотелось ей крикнуть противному белобровому Сергею Васильевичу. — Нет, это его ума дело!» Но не могла крикнуть, боялась.
Тут из-за плеча Сергея Васильевича выглянула Дунечка. Лицо у нее было жалобное.
— Сережа, — кротко сказала она, — что же ты так на Ивана Михалыча?
Сергей Васильевич отмахнулся от нее, как от мухи:
— Тебя еще не слыхали! Отойди! Не вмешивайся, когда люди разговаривают!
Дунечка опустила заблестевшие слезами глаза и отошла.
Ну вот, теперь и Дунечку обидел. И почему это он всех обижает, а ему никто ничего не говорит? Вот была бы Соня большая, она бы сейчас сказала ему:
«А что ты на всех кричишь? Уходи от нас и не приходи больше! Без тебя нам гораздо лучше жить!»
— У вас еще голова дубовая, неотесанная, — продолжал Сергей Васильевич. — Мужик вы, мужик и есть, а тоже рассуждать лезете…
Но тут уже и отец вспыхнул. Терпел-терпел обидный разговор, да вдруг и сам закричал:
— Да уж с ваше-то смыслим! Эко, грамотей нашелси! Велика птица — приказчик за прилавком, аршинщик! Был бы директор какой или адвокат. И чего это ты так уж задаёсси?!
Сергей Васильевич покраснел, тоже закричал что-то. Но тут вошла в комнату мама и сразу все прекратила:
— Потише, потише! И что это ты тут кричишь, Иван? Давайте ужинать, лапша прокиснет.
Сергей Васильевич, скрывшись в своей комнате, хлопнул дверью. Отец сердито расправлял усы — один ус направо, другой налево, один ус направо, другой налево… А мама тихо говорила ему:
— Не умеешь ты с людьми ладить. Человек все-таки три рубля за комнату платит. Ну и пусть покричит, если ему хочется. Полиняешь ты от этого, что ли? Чудак ты какой!
А отец молчал и все сидел и расправлял усы — один ус направо, другой налево… Трудно ему было молчать даже и за три рубля в месяц. Настроение было смутное, как после ссоры. Соня попробовала запеть песенку, но мама сурово велела ей перестать.
Соня забралась на сундук в кухне и примолкла. Три рубля… Ну и пусть бы не было этих рублей! Вон у Шуры никаких жильцов нет, и никто с ее отцом не ругается. Шура счастливая. Что она делает сейчас? Легла спать, наверное… Лежит в своей мягкой постельке под розовым одеялом, бабушка ей что-нибудь рассказывает, чтобы скорей заснула. А в квартире тихо, мирно, весело… И почему это у одних так, а у других по-другому?
Вода пришла
Все чаще и чаще стали говорить о том, что скоро в доме будет водопровод. Соня ждала этого чуда. Как же это случится? Отвернешь какой-то кран — и вдруг польется вода!
И вот однажды прибежала Лизка-Хрипатая, как всегда растрепанная, неумытая:
— Роют! Уже нашу улицу роют! А в ямах-то что!..
Она в страхе вытаращила глаза и закрыла рот обеими руками.
Соня так и замерла:
— А что в ямах?
— Че… ре… па…
— Какие черепа?
— Кости… Скелеты человеческие!
У Сони перехватило дух от ужаса. Но как только чуть отлегло, ее начало одолевать любопытство:
— А где? А какие?
— Пойдем посмотрим… — Лизка покосилась на Сонину маму, не слышит ли она, что Соню зовут за ворота.
Но Сонина мама сидела у окна, чинила белье и, о чем-то задумавшись, ничего не слышала.
Лизка и Соня незаметно скрылись.
Сначала они только выглядывали из ворот. По всей улице, до самого Уголка Дурова, чернели кучки свежевыкопанной земли. Рядом с черной землей что-то белело. Прохожие останавливались, глядели…
— Пойдем? — спросила Лизка.
Но Соня боялась.
Тут выскочил на улицу Ванюшка — Лук-Зеленый, весь взъерошенный, чумазый, с руками, черными от вара. Хозяина не было дома, и Ваня удрал из-за верстака.
— Айда, девчонки, черепа глядеть! — крикнул он.
И Соня решилась.
Над разрытой канавой толпились люди. Они молчали или переговаривались вполголоса. Пахло сыростью, землей, кладбищем. Соня крепко держала Лизку за руку: она боялась потеряться в толпе. Лук-Зеленый пролез вперед и протащил за собой девчонок. И тут Соня увидела то, чего страшилась больше всего на свете: прямо перед ней громоздилась куча человеческих черепов и костей.

Соня в ужасе попятилась. Поглядела вдаль — а там, по всей улице, лежали среди черно-рыжей земли такие же страшно белеющие груды…
— Пойдем, пойдем! — зашептала она Лизке и изо всех сил потянула ее за руку.
Девочки выбрались из толпы и припустились домой.
— Ой, мама, мама! — закричала Соня, вбегая в квартиру. — Ой, на улице покойники! Мертвецы!
— А ты зачем туда бегала? — сердито сказала мама. — Без вас нигде не обойдется?! Сиди дома и не смей никуда ходить!
— Это она что — кости смотреть бегала? — спросила из своей комнаты Анна Ивановна. — Ишь, нашли антирес! Я даже окно закрыла — ужасти пахнет как!
Соня не знала, куда ей деться. В куклы играть не хотелось. Во двор ходить мама не велела. Да и во дворе, если раскопать, значит, тоже покойники? Люди ходят по двору, бегают, играют, а у них под ногами — кости, скелеты, черепа… Ой!
Соня послонялась по квартире, посмотрела, как Анна Ивановна клеит свои листики, и отправилась навестить художника. Никита Гаврилович, больной, печальный, стоял перед мольбертом, будто нахохлившаяся птица.

Никита Гаврилович, больной, печальный, стоял перед мольбертом, будто нахохлившаяся птица.
Соня прокралась к нему в комнату и стала смотреть, как он пишет картину, как тонкие длинные кисти касаются холста. Засмотрелась и на самую картину. Вернее, она не на картину смотрела, а в картину, в ее глубину. Она видела там тихий вечер, оранжевый закат над потемневшим лесом. Вдали белела хатка с красными цветами под окнами. Какие-то две фигуры сидели у плетня. По дорожке от хатки шел старик с палочкой. А ближе — река. На берегу зеленая трава и всякие цветы. По этой траве ходят коровы, пасутся… Одна — темно-рыжая с белой грудью, другая — белая с рыжими пятнами и большими рогами…
— Дочка! — тихонько, с радостным удивлением сказала Соня.
Художник чуть покосился на нее, но ничего не ответил. А Соня все глядела и глядела в картину. Как бы хорошо побегать по этой траве, нарвать цветов, походить по воде у бережка!..
Может быть, Никите Гавриловичу показалось, что Соне скучно сидеть и молчать около него, может, ему хотелось остаться одному и спровадить Соню, но он взял со стола тетрадку из толстой бумаги и толстый черный карандаш и дал Соне:
— На вот. Ступай рисуй!
Соня едва поверила своему счастью:
— Мне? Насовсем?
— Насовсем!
Соня тотчас отправилась рисовать. Но уже из кухни вернулась снова.
— А на улице — всякие кости и черепа… — таинственно сказала она. — И откуда только взялись?
— А тут ничего удивительного нет, — ответил художник. — Почему наша улица называется Божедомкой? Значит, тут был божий дом. А божьим домом у нас называется кладбище. В старину здесь и было кладбище. Раньше, бывало, по Москве каждое утро находили на улице то убитых, то замерзших, неизвестных, безымянных. Тогда долго не разбирались — свозили и хоронили их здесь, в общих могилах. Божий дом всех приютит. А потом Москва разрослась, кладбище это забылось, здесь проложили улицу, построили дома… Только еще название осталось — Божедомка. А теперь ступай рисуй.
— А я здесь буду — можно?
— Ладно. Неси скамейку.
Соня принесла из кухни скамейку, на которую мама становится, когда открывает трубу, и села рисовать. Она открыла тетрадку и задумалась над ней. Когда рисуешь углем на стене или щепкой на земле, то там, если что не так, возьмешь да сотрешь. А если тут что-нибудь не так нарисуешь, как же сотрешь? И очень жалко бумагу — такая она хорошая, плотная, белая…
— Ну что ж ты сидишь? — спросил художник. — Рисуй.
— А что рисовать?
— Ну, вот хоть дерево нарисуй… Вот так.
Он взял ее карандаш и тут же нарисовал красивое раскидистое дерево. Вот так чудо! В одну минуту — и дерево!
Но Соня больше любила рисовать людей. Она долго, задумчиво смотрела на это дерево, а потом пририсовала к нему человечка. Человечек таинственно выглядывал из-за ствола. Потом нарисовала еще одного человечка — с другой стороны дерева. Этот выглядывал так же таинственно. Потом нарисовала штук двадцать
таких человечков, и все они выглядывали друг из-за друга. Их было так много, что на странице не осталось больше места.
Художник посмотрел на Сонин рисунок и удивился:
— Кто же это такие? Почему они все прячутся друг за друга?
А Соня и сама глядела на них с недоумением и даже с некоторым страхом. Эти нарисованные человечки как будто уже теперь живые и живут своей собственной жизнью, а почему они прячутся за дерево и выглядывают оттуда, Соня и сама не знала. И она ответила шепотом, чтобы человечки не слышали:
— Может, они разбойники?
Художник засмеялся и сказал:
— Ну, видно, с тобой не работа. Сиди тихо — я твой портрет нарисую.
И тут же нарисовал Соню на листе бумаги.
— На вот тебе твой портрет. Ступай покажи маме.
Соня взяла портрет и, не спуская с него глаз, отправилась в свою комнату. С портрета на нее глядела она сама — с завитушками на голове, с удивленными, широко открытыми глазами и в платье из клетчатой сарпинки.
Но, прежде чем уйти, опять спросила:
— А зачем же канавы на нашей улице вырыли? По канавам прямо вода к нам потечет?
— Не прямо по канавам, а в эти канавы проложат трубы, — ответил художник, — и уже по трубам пойдет вода. Поняла? А теперь иди, остальные вопросы на завтра.
И мама, и отец, и Анна Ивановна, все, кому Соня показывала свой портрет, удивлялись:
— Как это может человек взять да и нарисовать что захочет? Да ведь и похоже-то как!
Но ни портрет, ни тетрадь с карандашом не могли отвлечь мыслей Сони от того, что происходит на улице, под окнами их дома. Канава с каждым днем продвигалась все ближе, к самым их воротам, и страшные белые груды вырастали вдоль тротуара. По ночам Соне снились страшные сны — она просыпалась с криком и плачем. А когда ходила по двору, то словно смотрела сквозь землю и видела там, у себя под ногами, те же черепа и кости. Это были тяжелые дни. Во дворе и на улице уже пахло не тополями, а тлением и сырой могильной землей.
Но наконец все это миновало. Кости погрузили на большие телеги-полки́, запряженные крупными ломовыми лошадьми, и увезли на кладбище.
В канавах проложили трубы и засыпали их землей. Мостовую заровняли, замостили булыжником.
А в дом явилось чудо. Скамейку, на которой всегда стояли ведра с водой, из кухни убрали. На этом месте, на стене, появилась белая раковина с блестящим медным краном.
И вот оно — пожалуйста! Отвернешь кран — и бежит вода, льется звонкой струей, чистая, холодная, веселая вода. И сколько хочешь ее, столько и наливаешь!
Высокие каблуки
У тетеньки-прачки Домны Демьяновны было множество кур. Тогда почти во всех дворах на Старой Божедомке разводили кур. Они бродили всюду — рябые, рыжие, черные — и роняли по двору тонкие, с затейливым рисунком перышки и белые пушки, которые хорошо было пускать по ветру.
У каждого из ребят была своя любимая курица. Их различали не только по цвету пера, но и по выражению глаз. Это взрослым казалось, что у кур нет никакого выражения и что все они смотрят одинаково и голос у них одинаковый, но ребятишки знали, что это не так.
Любимая курица была далее у Сеньки-Хромого. А Сенька уже становился большой, ему стукнуло одиннадцать, и отец стал сажать его за работу. Сенькин отец был портной. Но, видно, мастер он был немудрящий, новое шил редко, а больше перешивал, лицевал да перекраивал из разного старья. Сеньку он загонял домой со двора с криком, с подзатыльниками распарывать какую-нибудь старую одежонку, а Сенька этого до страсти не любил.
И вот, только Сеньку загнали домой, оказалось, что Сенькина рыжая хохлатка вывела цыплят. Соня и Оля сидели наверху деревянной лестницы, которая вела на крышу сарая, играли в камушки. Увидев цыплят, они чуть не кубарем сбежали с лестницы:
— Чур, мой желтенький! Чур, мой с хохолком!
— Это не ваши, — заявил задира Коська, — это Сенькины. Сейчас скажу ему!
Коська исчез. А минут через пять примчались оба — и Коська и Сенька.
— Вы что моих цыплят выбираете?! Кому хочу, тому дам! А сами не выбирайте!
Во дворе чернобровая прачка Паня, работница Домны Демьяновны, протягивала белые бельевые веревки.
— Ох, и дурачье! — засмеялась она. — Чужих цыплят делят.
А вокруг цыплят уже собрались ребятишки. Прибежала Олина сестренка — стриженая тонконогая Тонька. Пришла Шура, тихая, улыбчивая, с пирогом в руке. Незаметно появилась толстая, медлительная Матреша, которую звали «Ком саламаты»
[1] за ее нерасторопность и вялость…
— Шура, ты какого хочешь? — заботливо спросила Соня. — Ты выбирай сначала…
— А Сенька не даст.
— Сенька даст… Сеньк, ты ведь дашь?
— Ну ладно уж, — важно ответил Сенька. — Я вот этого беру, с хохолком. А теперь Шура пускай.
— Мне вот этот нравится. — Шура указала на желтого пушистого с черными лапками.
Соне тоже нравился этот желтенький. Но раз Шура выбрала…
— А мне тогда вот этого, с перышками, — сказала Соня. — Смотрите, сам, как пушок, а в крыльях уже перышки…
— Не тебе, а мне! — перебил ее Коська. — Сенька, этого с перьями — мне!
— Ой, какой! Тебе! — закричала Оля. — Как же!
— А тебе, да? Сенька твой брат, да?
— Не спорьте, а то никому не дам. — Сенька принимал все более важный вид. — Захочу — всех себе возьму. Пускай ваши наседки своих выводят!
В это время в углу двора хлопнула дверь. Сенька по стуку узнал, что хлопнула их дверь, — не иначе отец его хватился. Важность с него сразу слетела. Сенька подскочил, оглянулся и бросился на задний двор прятаться.
Сенькин отец, портной Рожков, с ремешком на голове, чтобы волосы не лезли в глаза, вышел во двор. Сухой, сгорбленный и сердитый, он, прищурив близорукие, полуослепшие глаза, медленно приближаясь, приглядывался к ребятам.
— Сенька! Ты что — работу бросать? Домой, лодырь!
— А его здесь нету, дяденька Касьян, — живо ответила Оля, глядя прямо ему в лицо круглыми голубыми, как у куклы, глазами.
— Его и не было, — подхватил Коська.
— А ну-ка, где Сенька? — неожиданно обратился портной к Соне.
А Соня растерялась и молчала. Сказать: «Его не было», — нельзя, он был. Сказать: «Он здесь, спрятался», — тоже нельзя: отец отлупит Сеньку… Что делать?
Пока она раздумывала, Коська подбежал к отцу:
— Папань, а может, он за воротами? Он вроде к воротам прошмыгнул!
Портной подошел поближе к ребятам, пригляделся. Сеньки и в самом деле не было. Он сердито кашлянул и направился к воротам.
Ребятишки гурьбой бросились на задний двор:
— Сенька, скорей! Отец за ворота пошел!
Сенька, хромая и подпрыгивая, как козел, помчался домой. Он пронесся по двору как раз в ту минуту, когда отец, не найдя его на улице, открыл калитку во двор.
— Ну, приди домой, лодырь, приди! — ворчал он. — Всыплю горячих, приди-ка!
А ребятишки, сбившись в кучу, глядели ему вслед и хихикали. Ничего Сеньке не будет. Отец скажет:
«Откуда ты взялся?» А Сенька возьмет да и обидится: «Да что ты еще, папаня! Я и не уходил никуда. Это ты зачем-то на улицу бегал, а я сижу на месте».
Дело с цыплятами прогорело. Теперь надо ждать, когда Сеньку пустят гулять — без него к «его» цыплятам и подходить не стоило.
Скоро позвали домой и Шуру. Шурина мама не любила надолго отпускать ее во двор. Соня ждала, что Шура позовет ее к себе играть, но этого не случилось. К ним пришли гости — Шурина тетка со своими двумя сыновьями. Мальчики прошли по двору такие чистенькие, причесанные на косой пробор, в матросских костюмчиках, в начищенных башмаках. Младший держался за руку матери, а старший, с озорными глазами, незаметно отстал от матери и наподдал носком башмака небольшой острый камень, чтобы попасть в кого-нибудь. Он попал Соне по ноге, засмеялся и убежал. Соня молча потерла ногу.
«Пойду к Лизке, — решила она, — позову гулять».
Соня подошла к калитке, выглянула на улицу — нет ли каких собак или чужих мальчишек или какого нищего с сумой, которые уводят маленьких ребят… Но на улице было тихо, сонно и совсем безлюдно.
Стеклянная дверь, покрытая застаревшей пылью и заляпанная засохшими брызгами грязи, тускло, с тяжелой скукой смотрела на улицу. С той же скукой, которой нет и не будет конца, смотрели на белый свет забрызганные и пропыленные окна.
Соня робко открыла дверь. Она боялась Лизкиного отца, ей не хотелось идти сюда. Но надо же позвать Лизку посмотреть на цыпляток!
Дверь с легким визгом пропустила Соню. После яркой, солнечной улицы Соня сразу утонула в сумраке и духоте. Окна здесь никогда не открывались.
Лизкин отец чуть приподнял свою черную нечесаную голову, сверкнул на Соню мрачными глазами, но, словно и не увидев никого, продолжал пристукивать по подошве сапога, который чинил. А мастер даже и головы не поднял — Соня видела только его спину, да небритый затылок, да рубаху, выгоревшую на плечах. За дальним концом верстака сидел и смолил дратву Лук-Зеленый. Как всегда чумазый и косматый, с зеленовато-бледным лицом, он взглянул на Соню, и Соня увидела, что глаза у него сильно заплаканы. Хозяин сегодня в плохом настроении — и всем, видно, сегодня здесь плохо. Соня почувствовала это, едва перешагнув через порог, — почувствовала тоску, которая томила этих людей, злобу и страх, от которых здесь было нечем дышать. Лук-Зеленый улыбнулся было ей, скорчил смешную рожу, но тотчас в него полетела деревянная колодка:
— Пооскаляйся у меня!
От хриплого голоса хозяина еще глуше стало в мастерской. Лук-Зеленый снова опустил голову.
Соня испуганно оглянулась. Где же Лизка? Или ее нет дома?
На кровати, закутавшись в рваный черный платок, неподвижно сидела Лизкина мать. Она смотрела куда-то сквозь запыленные окна, словно ничего не видела и не слышала. Лизка притулилась на скамеечке около кровати. Она только что завертывала в тряпочку свою облезлую куклу, но, увидев Соню, молча и торопливо замахала рукой, подзывая ее к себе.
Соня подошла и села с ней на скамеечку. Мать даже не оглянулась на них.
— Ты чего? — прошептала Лизка в самое ухо Сони.
Соня пригнула к себе ее голову и тоже прошептала ей в самое ухо:
— У тетеньки-прачки курица цыплят вывела! Сенькина хохлатая!
— Ой… — прохрипела Лизка, но тут же, оглянувшись на отца, зажала рукой рот.
Соня потянула ее за рукав:
— Пойдем?
Лизка взглянула на мать, потом на отца, потом снова на мать:
— Ма… можно я…
— Сиди! — шепотом приказала мать, сердито взглянув на Лизку.
Она поежилась, плотней закуталась в свой рваный платок и снова уставилась в окно.
Все будто чего-то ждали. Что-то должно было случиться. Так вот сидеть и молчать, притаившись, было очень трудно. Но все молчали и ждали чего-то в душной тоске.
И вдруг все взорвалось. Хозяин поднял голову, огляделся своими сверкающими черными глазами, будто никого не узнавая. Мать съежилась, словно стараясь, чтобы он ее не заметил. Но он уставил на нее глаза, долго смотрел неподвижным взглядом.
— Сидишь! — внезапно закричал он. — Почему обед не варишь?
— Сам знаешь, — ответила мать, по-прежнему глядя в окно.
Лизка задрожала и прижалась к кровати. Соня прижалась к Лизке и со страху не знала, что делать.
— Я знаю! — еще громче закричал отец. — Что я знаю? Ну? Что я знаю?
— Знаешь, что денег нету.
— Ах, денег нету! А где я их возьму? Не наковал я еще тебе денег! Не наковал!
Он встал, держа в руках тяжелый сапог с грубой подметкой. Сапожник был худой, костлявый, хлипкий и в то же время страшный.
— Уйди с глаз моих! — как бешеный захрипел он к, размахнувшись, бросил сапог в голову матери.
Мать наклонилась, сапог ударился о стенку и шлепнулся на постель.
— Не могу я, не могу, не могу! — завыл хозяин и затряс кулаками, будто от какой-то невыносимой боли. — Не могу я, не могу!..
— Пойдем, хозяин, — сказал мастер и встал. Он сложил починенную пару светлых женских туфель, завернул их в газету и взялся за картуз.
— К чертям собачьим все! — опять не то застонал, не то заплакал Лизкин отец. И начал со злостью расшвыривать ногой кучу старых сапог, туфель и ботинок, которые лежали около верстака.
Соня уткнулась лицом в Лизкину спину и боялась вздохнуть.
— Мам, они пропьют туфли, — прошептала Лизка. — Мам…
Но мать, будто ничего не слыша, не отвечала ей.
— Пойдем, хозяин! — повторил мастер.
Он нахлобучил хозяину на голову картуз, взял под мышку туфли. И они оба, ни на кого не глядя, ушли, хлопнув дверью так, что задребезжали стекла.
И сразу все изменилось. Лук-Зеленый поднял голову, улыбнулся и весело подмигнул девчонкам своим припухшим заплаканным глазом. Такой уж он был неунывающий парень!
Мать тоже встрепенулась. Она встала, сбросила с плеч платок, распахнула дверь на улицу. Жаркое дыхание раскаленной булыжной мостовой медленно вошло в комнату. И словно еще сильнее запахло старой обувью и варом и еще безобразней выглянули на свет грязные стены с голубоватыми порванными обоями.
Соня поднялась и перевела дух. Она поглядела на Лизку. Лизка сумрачно теребила свою куклу и часто-часто моргала белесыми ресницами.
Мать подошла к зеркалу, распустила свои длинные такие же, как у Лизки, белесые волосы и стала причесываться. Женщина глядела в зеркало, а Соня глядела на нее. Какая-то она вся словно запыленная, и брови у нее бесцветные, и ресницы бесцветные. Никакой краски нет у нее в лице — и румянца нет, и губы бледные. И Соне вдруг отчетливо представилось, что Лизкина мать очень похожа на белесую моль…
Мать причесалась, надела белую кофточку. Достала из сумочки несколько медяков и швырнула на верстак:
— Поди сходи к Подтягину. Купи там чего-нибудь — поесть Лизке дай.
И, больше ни на кого не оглянувшись, вышла на улицу. Лизка быстро подбежала к верстаку.
— Купи стюдню, а? — попросила она Ваню-Лука. — И хлеба побольше. Ладно?
А Лук уже отбросил вар и дратву, схватил деньги и устремился к двери.
— Ладно! — весело крикнул он в ответ. — Целую ковригу принесу — наедимся! Огурцов прихвачу!
И парень исчез за дверью.
Улица, сонная, жаркая, пыльная, безмолвно смотрела в комнату. Редкие прохожие, идя мимо двери, заглядывали в нее.
— А цыпляток пойдешь смотреть? — спросила Соня.
— Пойду. Только не сейчас. Сейчас Ванька стюдню принесет. Очень есть хочется…
Соня уже подумала, что пора ей отсюда уходить. Тянуло вон из этой духоты и мрака.
Но Лизка остановила ее:
— Давай туфли примерять?
Соня опасливо покосилась на дверь.
— Думаешь — наши придут? Как же! — сказала Лизка и тряхнула белесыми космами. — Они теперь до ночи не придут. А может, и до утра. Их теперь вихрем закружило.
— Каким вихрем? — удивилась Соня.
Но Лизка и сама не знала — каким.
— Это они так друг на друга говорят: «Чтоб тебя вихрем закрутило! Да лучше пусть тебя закрутит!» Вот их и крутит этот вихрь.
Соня задумалась. Ей представилось, как где-то, по чужой незнакомой улице, несется вихрь, а в этом вихре несутся и кружатся сапожник со своим мастером. А другой вихрь, где-то за Екатерининским парком, несет и кружит Лизкину мать и треплет ее длинные белесые, как пыль, волосы…
— Гляди-ка! — крикнула Лизка.
Она сунула ноги в чьи-то желтые туфли, принесенные для починки, и пошла по комнате. Высокие каблуки звонко хлопали по дощатому полу.
Соня тоже подбежала к куче обуви, выбрала себе пару туфель на высоких каблуках и надела. Соня и Лизка ходили по комнате друг перед другом, туфли хлопали на ногах. Но было очень интересно ходить, чувствуя под ногой такие высокие каблуки. Походив в одних туфлях, они отыскивали другие и опять ходили взад и вперед, изображая барынь на высоких каблуках.
Потом прибежал Лук-Зеленый со студнем в бумажке, с огурцами и ковригой хлеба. Лизка поспешно стряхнула с ног туфли.
— А Подтяжка-то опять хотел обсчитать! — весело рассказал Лук. — Дал огурцов на две копейки, а считает три. А я говорю: «Меня не обманешь! Ты богатых обманывай, которые считать не умеют». Ишь какой — и дом у него и лавка, а за копейкой и то тянется! Ну да уж я не таковский!
— Садись с нами! — позвала Лизка Соню.
Но Соня сказала «спасибо» и отказалась.
— Пообедаешь — выходи, — сказала она и убежала.
Как хорошо показалось ей во дворе! Как вольно здесь дышалось после затхлой Сапожниковой квартиры! Какие красивые тополя дремали в полуденном зное над старым забором!
Во дворе никого не было, только бегал Коська верхом на палочке, воображая, что ездит на коне. Клушку тетенька загнала в сарай. А весь двор, между флигелем и сараем, заполнили белоснежные сохнущие простыни. Прачки вывесили белье.
Соня послонялась по двору. Было скучно, неизвестно, чем заняться. Стекляшки надоели. В салочки или в пряталки поиграть не с кем…
Неожиданно около мусорного ящика Соня увидела кучку мягких угольков. Видно, кто-то вытрясал здесь самовар. Соня выбрала несколько угольков и принялась рисовать на заборе всяких барынь. Особенно старалась она рисовать им туфли на высоких каблуках — уж очень интересно на таких каблуках ходить!
Но мама всегда покупает Соне башмаки на пуговицах и всегда такие большие, что даже носок загибается. Она говорит, что это на вырост. Соня подрастет, нога у нее станет больше, и башмаки тогда будут в самый раз!
И вот Соня придумала. Она побежала домой, отыскала в своем ящике с лоскутьями две пустые катушки. А потом раздобыла веревочку и привязала эти катушки к своим башмакам вместо каблуков.
— Это что, это что! — засмеялась мама. — Анна Ивановна, посмотри-ка, чья это барыня здесь ходит на высоких каблуках?
Анна Ивановна вышла из своей комнаты с пачкой бумажных листьев в одной руке и пучком зеленых проволочек-стебельков в другой.
Они обе смотрели на Соню и смеялись. А Соня ходила по комнате на катушках, будто на высоких каблуках, и это ей очень нравилось.

Потом мама сказала:
— Ну, хватит. Отвяжи эти катушки, а то еще ногу свихнешь. А башмаки сними — чего в такую жару зря обувь трепать! Сейчас и босиком бегать можно.
Вечер во дворе
В сумерки прачки сняли с веревок белье, а сами вышли посидеть на лавочке. Двор чистый; с одной стороны флигель, с другой — сарай, а за спиной тот самый высокий забор, над которым поднимались густые кроны лип, а иногда таинственно показывали красные венчики какие-то волшебные цветы. Уличного шума здесь было совсем не слышно.
— Пойдемте к тетенькам играть, — позвала подруг Оля. — Они велели, чтобы мы у них играли.
Соня охотно побежала в тот закоулок двора, где жили прачки. Толстая Домна Демьяновна, гладко причесанная, в чистом голубом фартуке, занимала почти половину скамеечки. Рядом сидела ее племянница Анна Михайловна. Ребята звали их тетеньками: тетенька старая и тетенька молодая. Молодая у них считалась красавицей: у нее были толстые каштановые косы и синие глаза с огромными ресницами. Только улыбка не красила ее — крупные зубы налезали друг на друга, и казалось, что их слишком много во рту. И ноги у нее были совсем больные, изуродованные ревматизмом, никакие башмаки ей не годились. Так и ходила всюду в мягких растоптанных туфлях.
Смелая Оля один раз спросила, почему это у нее такие ноги. И тетенька молодая ответила:
«Потому что я с четырнадцати лет за гладильной доской по целым дням стою. А пол у нас каменный, холодный. Вот и стали у меня такие ноги от ревматизма».
Тетеньки сидели на лавочке. А их работница, чернобровая Паня, уселась на порожке квартиры. Они сидели, положив на колени натруженные руки, и тихо переговаривались, изредка роняя слова… Говорить было не о чем, ничего не случилось за день. Никаких газет они не читали. И книг не читали. И в кино не ходили. Только придут заказчики, принесут белье в стирку или возьмут чистой… Единственное развлечение у тетенек — это сходят в церковь под праздник, когда всем идти положено, испекут пироги в воскресенье да посидят летним вечером на лавочке. Потому тетеньки и любили смотреть, как играют ребятишки, — они и посмеются вместе с ними и ссору их рассудят, если случится.
Первыми прибежали Соня и Оля. Бойкая Оля обогнала Соню и заняла место около тетеньки молодой. Соня поспешила занять место около тетеньки старой. Следом за ними прибежала Тонька, потом сухопарый Коська. Немного погодя пришла Лизка-Хрипатая, неумытая, растрепанная. Неожиданно прибежал Лук-Зеленый, такой же неумытый. Хозяев не было — что за охота сидеть одному в душной комнате за верстаком! Он и так не видел воздуха — и работал там, и ел там, и спал там же, на полу, под верстаком… Только и видел небо и солнце, когда хозяева гоняли его за чем-нибудь в лавку.
— Ребята, в салочки! — крикнул Лук-Зеленый. — Я вожу!
Ребятишки все повскакали со своих мест и разбежались по двору. Лук гонялся за ними, ребята бегали, кричали, хохотали, увертывались от Лука…
Тут пришел и Сенька-Хромой. Наконец-то отец освободил его. Сенька кубарем скатился с лестницы и, ковыляя, прибежал к ребятишкам. Хоть он и быстро бегал, но короткая нога ему все-таки мешала, и он тут же попался Луку-Зеленому.
А когда очень устали, то начали водить хоровод. Пели хором страшную песню про атамана, и из всего хора выделялся звонкий и чистый Сонин голосок:
Что тучки принависли,
Что в поле за туман?
О чем ты призадумался,
Наш грозный атаман?
Атаманом был Сенька. Он ходил в середине круга, хмурил свои светлые, почти незаметные брови над выпуклыми лягушачьими глазами и старался казаться грозным.
Здесь место незнакомо,
Известный есаул… —
запел Сенька в ответ, и в круг вошел «известный есаул» Ваня Лук-Зеленый.
Продолжалась песня, и тут же шла игра. Атаман требовал «ворона коня», скакал к «красавице своей». А красавицей на этот раз была маленькая Тонька, потому что хныкала и просила, чтобы ей быть красавицей. И дело это кончилось, как всегда, плохо — атаман выхватил «остру саблю» и отрубил красавице голову. Сенька размахнулся и легонько ударил Тоньку по шее. Тонька должна была упасть и умереть. Но она закричала:
— Чего дерешься? Вот не буду играть!
И пошла из круга. Но игра и без того кончилась — красавицы не стало, и атаман ускакал.
— Давайте в краски! — закричал Сенька. Он уже был не атаман, а простой парнишка, портновский сын.
Сенька очень любил играть во всякие игры и всегда смеялся. Рот у него был большой, зубы редкие. А смеялся он иногда так неудержимо, что просто валился на землю.
— Нет-нет! — закричала в ответ Соня. — Давайте лучше «За речкой, за быстрой»! Давайте «За речкой, за быстрой»!..
Соня любила эту игру, потому что тут можно было много петь. И ребята снова встали в круг и запели песню о том, как «За речкой, за быстрой жил царь молодой, и у него были две дочери, красавицы собой».
На этот раз по кругу ходила Соня; она была младшей дочерью царя — Коськи. Старшей же никто не хотел быть. Наконец вызвалась Оля.
И снова пошла песня-игра. И снова дело кончилось плохо. Оля бойко ходила по кругу и старалась как можно сердитее глядеть на Соню. А когда запели:
Старшая младшую столкнула с бережка:
«Плыви, плыви, сестрица, плыви, мой верный друг»… — то Оля так толкнула Соню, что та и правда упала. Но что ж делать — младшая сестрица утонула в реке.
И потом
Ловили рыболовы в ту темную ночь,
Поймали рыболовы и царскую дочь…
Тут-то и узнали, что ее утопила сестра.
А Лизка-Хрипатая не могла петь никаких песен. Поэтому она, как только рыбаки вытащили царевну, сразу закричала:
— В «Золотые воротца» давайте!
Но Сенька кричал громче, чем она:
— В краски! В краски!
Тут пошла веселая игра в краски. Все уселись в рядок и шепотом условились, кто какой будет краской.
— Я — золотая! Я — золотая! — зашептала Оля.
— А я — серебряная! — перебила Тонька.
— А я — бриллиантовая! — сказал Коська.
— Подумаешь — бриллиантовый! — засмеялась Оля. — А сам рыжий! Желтая ты краска!
— А ты какая? — сразу покраснел Коська. — Белая, как яйцо!
Краски продавала Лизка. А Сеньку услали подальше, чтобы не слышал.
Соне не нравилась ни серебряная краска, ни золотая. Что же можно нарисовать такими красками?
— Я, чур, голубая! — сказала она.
Голубая — это хорошая краска. Это и небо, и незабудка, и, может, еще какой-нибудь цветок…
Наконец все условились.
— Сенька, иди!
Сенька подошел, постучал в дверь, которой не было:
— Тук-тук!
— Кто тут? — спросила Лизка.
— Сенька Попов!
— За чем пришел?
— За краской.
— За какой?
— За голубой.
У Сони екнуло сердце. Голубая — это она! Лизка долго торговалась, продавала голубую задорого. А как только продала, Соня вскочила и побежала. Теперь только бы увернуться, только бы ускользнуть из Сенькиных рук и примчаться обратно на лавочку! С криком, с визгом бегала она по двору — и все-таки попалась. Хромой-хромой этот Сенька, а какой же проворный!
А Сенька поймал «голубую краску» и пошел добывать следующую. Он шел, хромал, утирался подолом рубахи, потому что пот, будто дождик, так и катился у него по лицу и по коротко остриженной голове.
Тетеньки с удовольствием смотрели, как играют ребятишки, смеялись, подзадоривали. Вот уж Сенька переловил все краски, пришлось бежать самой хозяйке — Лизке. Сенька, коренастый, длиннорукий, никак не давал ей вернуться на лавочку, но и поймать не мог. Все хохотали, а Лизка пуще всех. Она со смехом то убегала за сторожку, то на задний двор и быстро неслась назад. На ее бледно-желтом лице проступил румянец, а Сенька изворачивался, падал, вскакивал и опять отрезал ей все дороги… Смех стоял во дворе непрерывный, разноголосый.
Теплые сумерки все сгущались. В соседнем доме у кого-то засветился огонек, и липы над забором стали темными и дремучими.
Вдруг среди этой теплой тишины и веселья проскрипел старушечий голос. Это пришла старуха нищенка, что жила в подвале. Она остановилась, подпираясь клюкой, около своей двери и сказала надтреснутым голосом, упирая на букву «о»:
— Лизка! Эй, Лизка! Иди-ко домой — там отец мамку бьет!
Веселье исчезло, будто его унесло ветром. Лизка бросилась домой. Побежал и Лук-Зеленый. Он будто сразу осунулся. Хозяева пришли, а дом настежь и нет никого! Зададут ему теперь деру…
За Лизкой и Луком побежали и все ребятишки — смотреть, как сапожник бьет свою жену.
На улице, перед распахнутой дверью Лизкиной квартиры, толпилась кучка народу. Стояли мужчины в шлепанцах на босу ногу, без пиджаков… Стояли женщины в поспешно накинутых на голову платках и шалях… Кто выскочил на улицу, бросив ужин, кто встал с постели… Как же пропустить такое развлечение?
Все молча, с любопытством смотрели на драку. Никто не вмешивался. А сапожник, пьяный, растрепанный, черный, страшный, что-то хрипло кричал, ругался и выпихивал жену из квартиры на улицу. Она сопротивлялась, хваталась за косяк; ей хотелось спрятаться от людей, забиться куда-нибудь в угол, чтобы ее не видели. Но сапожник хватал ее за длинные растрепавшиеся волосы и тащил на улицу, а она кричала и плакала…
Лизка прорвалась сквозь толпу, вцепилась ногтями в отцову руку и тоже стала кричать своим хриплым голосом:
— Пусти! Пусти! Не трогай!
Соня, дрожа, смотрела на них. Было так страшно, что хотелось не то визжать, не то плакать.
Во втором этаже у всех жильцов открылись окна. Жильцы высунулись из окон и смотрели вниз. Уличный фонарь висел как раз над воротами и освещал лиловатым светом эту страшную сцену.
Выглянула в окно и Сонина мама.
— Иван, Иван! — тут же закричала она отцу. — Пойди туда! Он убьет ее!
Через минуту прибежал Сонин отец. Сильный, широкоплечий, он растолкал народ и схватил сапожника за руку.
— Ну, будет, будет тебе… — сказал он спокойно. — Эко ты развоевалси!
Вслед за ним прибежала и Сонина мама — она из окна увидела Соню в толпе.
— А ты что тут стоишь? Тебе что тут интересного? Марш домой!
Олененочек
В субботний вечер по всей Москве звонили церковные колокола. Звон этот заполнял тихие улицы и переулки. Старухи, заслышав звон, крестились. Крестился и Кузьмич, собираясь в церковь. Он никогда не пропускал церковной службы — все боялся, что бог накажет, если не ходить в церковь.
Иван Михайлович и Дарья Никоновна бывали в церкви лишь на большие праздники. В такой день не пойти было нельзя — тотчас объявят тебя безбожником. А в то время прослыть безбожником — это все равно, что бунтовщиком: тотчас и полиция тобой заинтересуется. Поэтому Дарья Никоновна, словно оправдываясь, объясняла соседям:
«Да когда же нам ходить? Вечером ко всенощной звонят, а мы идем коров убирать. Утром к обедне зовут, а мы опять же в коровник. Праздничков у нас нет, что ж поделаешь! Так всю жизнь и крутимся у коровьих хвостов».
Соня сидела в уголке со своей облезлой куклой, слушала звон и о чем-то думала. Вечерние колокола всегда нагоняли на нее грусть. Синеглазая Дунечка, выйдя из своей комнаты, увидела Соню и опустилась перед ней на корточки:
— Ты о чем задумалась, а?
— Не знаю, — ответила Соня. И тут же, неизвестно почему, у нее на глаза навернулись слезы.
— Пойдем ко мне, — сказала Дунечка, — я тебе сказку расскажу.
Соня вскочила. Ой, сказку! У нее даже сердце забилось от сладкой радости. Она любила сказки чуть не до слез, но ей редко кто рассказывал их. Ни отец, ни мама не знали сказок. Им, когда они были маленькие, тоже никто не рассказывал сказок.
Дунечка и Соня уселись рядышком на кровать, застланную серым байковым одеялом. Дунечка начала рассказывать, а Соня, слегка открыв рот, глядела на нее и боялась пропустить хоть одно слово.
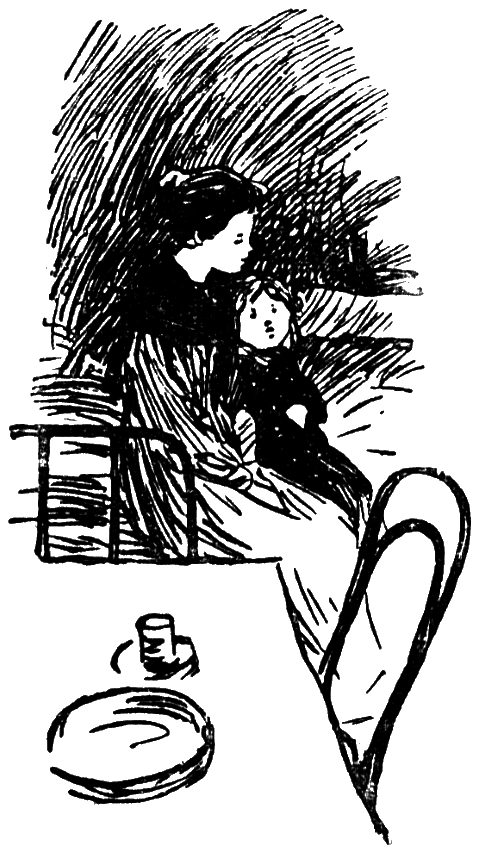
Дунечка рассказывала про Золушку. И перед глазами Сони в полутемной комнате возникали неясные, но волшебные видения: дворец с золотыми стенами, зеркальные полы, сверкание огней. Далекая музыка звучала в ушах… Она видела, как бежит Золушка в солнечном платье по белой лестнице и теряет хрустальный башмачок.
— А какой это — хрустальный?
— Да такой вот, как стекло…
— Как стакан? А такие туфельки не разбиваются?
— Они толстые, граненые.
Как стекло… Наверное, они звенят, когда Золушка бежит. Ах ты, Золушка, беги, беги скорей, а то пробьет двенадцать часов — и все исчезнет!
Вот уж и нет Золушки. А башмачок лежит на мраморной ступеньке и светится, будто льдинка, — ведь он же хрустальный!
Но вот бежит по лестнице принц.
— А он какой, этот принц? — прервала Соня.
— Он — красивый, — ответила Дунечка. — У него серые глаза и длинные кудри, русые такие, на косой пробор… Вот как у Сергея Васильича. И ростом он такой же. И лицом.
Соня поглядела на Дунечку с удивлением:
— Принц-то красивый. А Сергей Васильич красивый, что ли? Всех хуже!
Дунечка усмехнулась, потрепала Соню по волосам:
— Эх, ты! Не понимаешь ты ничего!
Дунечка замолчала, задумалась. Было уже темно, синяя летняя тьма смотрела из-за белых занавесок. На занавески падал зеленый отсвет лампадки. А Соня смотрела на эту занавеску широко открытыми круглыми глазами. Все так и есть! Вот она сейчас подойдет к окну, раздвинет занавеску, а там темный сад, полный белых цветов. И над этим садом звезды, звезды… И среди деревьев сверкает золотой дворец, а на белой ступеньке светится башмачок…
Тут Соня заметила, что Дунечка давно уже молчит и словно все прислушивается к чему-то. Вот хлопнула в кухне входная дверь. Дунечка встрепенулась, подняла голову. Послышался голос мамы, звякнула кружка о молочный бидон — мама пришла с молоком из коровника. Дунечка вздохнула и снова задумалась. Вот опять хлопнула дверь, и опять Дунечка вздрогнула. Пришла какая-то женщина за молоком. И Дунечка еще больше понурилась…
Она ждала своего мужа, Сережу, с работы. Работа давно кончилась, уже и темнота наступила, а его все нет и нет. Соня не любила дядю Сережу. И ей даже в голову не приходило, что Дунечка грустит из-за того, что он не идет домой.
— Хорошо бы, так всегда было, да? — сказала Соня, глядя в глаза Дунечке. — Дядя Сережа бы не пришел сегодня… И совсем бы не пришел. А мы бы каждый вечер сказки рассказывали. Да?
— Может, так и будет, — тихо ответила ей Дунечка.
Соня обрадовалась:
— Правда? Ой, вот бы хорошо!
— Да… Хорошо бы… — прошептала Дунечка. И вдруг слезы покатились у нее по щекам. Дунечка схватила полотенце, висевшее на спинке кровати, и спрятала в него лицо.
Соня испугалась:
— Ой… Почему?
— Молчи, молчи, — поспешно сказала Дунечка. Она вытерла лицо и повесила полотенце на место. — Я ничего… Это у меня зубы вдруг заболели. Иди, Соня, играй, я полежу.
Соня вышла на свет, в свою комнату. Отец, сняв сапоги, сидел с книгой, придвинув поближе лампу. Мама в кухне наливала покупателям парное молоко. На шестке стоял раскрытый чугунок, и по всей квартире пахло мясными щами. Кузьмич только что пришел из церкви и сидел за столом, ждал, когда Анна Ивановна подаст ему щей. И за своей прикрытой дверью тихо сидел горбатенький художник.
Соня взяла свою тетрадь для рисования, карандаш и тоже уселась к лампе рядом с отцом. Маленький желтый круг света падал из-под белого стеклянного абажура и тускло отражался в темной клеенке. Светло было только на столе. А в углу, где висели платья, прикрытые простыней, и в складках пестрой занавески, которая отгораживала мамину кровать, держались легкие сумерки.
Соня принялась рисовать. Ей так хотелось изобразить все, что сияло перед глазами. И сверкающий дворец, и сад со звездами и белыми цветами, и Золушку, и волшебницу-фею… Она рисовала, рисовала, рисовала… Но, посмотрев на свой рисунок, тут же переворачивала страницу. Не такой получился дворец! И Золушка не такая! И даже башмачок не такой!
Мама отпустила всех своих покупателей, вымыла кипятком бидон и дойное ведро, поставила их на шесток сушиться. Кузьмич поужинал. Анна Ивановна убрала и перемыла посуду.
— Ну что, как там дела-то? — сказала Анна Ивановна. — По копеечке, что ли?
— Чего еще «по копеечке»! — остановил ее Кузьмич. — Завтра праздник, а она в карты! Грех ведь! Эх ты, дурачье!
— И что там, Кузьмич! — возразила мама. — Грех воровать, грех обманывать, людей обижать грех. А что же кому обидного, если мы по коно́чку сыграем? Завтра праздник, вам на работу не идти, можно поспать подольше.
— Ну уж… если в лото — еще туда-сюда… — сдался наконец Кузьмич. — А в карты — нет.
— Господа, освободите-ка стол! — сказала мама отцу и Соне.
Соня улыбнулась: «господа»!
Отец закрыл книжку, Соня забрала со стола свою тетрадку. Анна Ивановна принесла мешок с «бочонками».
Все уселись за стол, вызвали Дунечку из ее комнаты и начали играть в лото.
Соне стало очень скучно. Ей не хотелось больше рисовать, черный карандаш только портил сказку. Ей не хотелось играть с куклой — она была старая и некрасивая. Ей не хотелось слушать, как выкрикивают всякие цифры и гремят «бочонками»… Какая-то тоска напала, такая тоска, что впору заплакать, закапризничать. Соня положила свою исчерченную тетрадку и с сумрачным лицом поплелась к художнику.
Художник что-то рисовал углем на большом листе бумаги. Он, как всегда, был суровый и печальный. Большие черные брови хмурились, и от них будто тень ложилась на его худое грубоватое лицо. Глубокая поперечная морщина пересекала его лоб. А губы были сжаты так, словно и ему, как Соне, хочется не то заплакать, не то закричать.
Он исподлобья взглянул на Соню:
— Пришла?
— Да, — тихо ответила Соня и стала у притолоки.
Уголь зашуршал по бумаге.
— Что случилось? — спросил художник.
— Ничего, — сказала Соня и насупилась. — Мне очень скучно.
— А! — Художник кивнул головой. — Мне тоже очень скучно.
Тут у него в груди захрипело, он закашлялся. Перестав кашлять, он утерся измятым синим платком, посидел, опустив руки на колени. Потом спросил:
— А в игрушки почему не играешь?
Соня хмуро ответила:
— А где у меня игрушки-то? Никакой игрушечки нету.
— Сейчас я тебе сделаю игрушечку, — сказал художник.
Он взял кусок плотной бумаги и в одну минуту вырезал из него олененка. Такой это был хорошенький олененочек, с поднятой головой и с тонкими ножками, что Соня сразу повеселела.
— Вот тебе! — художник подал ей олененка. — Иди играй. И знаешь, — сказал он, закрывая за ней дверь, — ты сюда не очень-то ходи. Я, знаешь, кашляю…
Но Соня почти и не слышала, что он сказал. Олененочек этот был как чудо, как сказка. Ведь только что лежал на столе кусочек бумаги. Бумага — и все. И вдруг из этого белого кусочка выскочил олененочек!
Соня радостно подбежала к маме:
— Мама, гляди, олененочек!
Мама оторвалась от игры, посмотрела, удивилась:
— Это что, это что! Какой хорошенький! — И показала всем за столом: — Глядите, какой олененок!
Игроки на секунду оторвались от лото, покивали головой, сказали: «Да-да, хорошенький!» — и опять взялись за игру. А мама спросила:
— Кто же это тебе вырезал? Неужели сама?
И тут что-то случилось с Соней. Она никогда не говорила неправды. Но тут вдруг тщеславие одолело ее. И она сказала:
— Да. Сама.
Мама обрадовалась:
— Правда?
И Соня опять повторила:
— Да. Сама.
Мама еще полюбовалась бумажным олененочком, отдала его Соне:
— Ну иди, играй!
А сама снова принялась за игру и забыла про олененочка.
Соня отошла. Но тут же почувствовала какое-то смущение. Она обманула маму! Что же это она сделала? Как же она могла это сделать? Может, сейчас подойти к маме и сказать:
«Мама, это не я вырезала. Это художник».
Если бы Соня так сделала, все было бы хорошо. Снова стало бы легко на душе, и олененочек ее по-прежнему радовал бы, и она придумала бы новую игру с этим олененочком.
Но у Сони не хватило мужества признаться. Она молча сидела в уголке, а тоска ее все росла, становилась все тяжелее. Она обманула маму!
«Сейчас скажу маме», — решила она. Положила в уголок на пол олененочка, встала и тихо подошла к маме. — «Сейчас скажу: «Мама, а это не я сделала…»
Но хотела сказать и никак не могла. Вина ее казалась такой большой, что сил не хватало сознаться. Ведь она обманула маму, да еще два раза! Ведь мама сказала:
«Правда?»
А она ей опять ответила:
«Да».
Обманула маму! Соня чувствовала, что попала в страшную беду. Она то подходила к маме, то снова уходила в свой уголок. Весь вечер прошел в этой молчаливой тоске. А мама играла в лото с жильцами, шутила, смеялась и ничего не замечала.
На другой день Соня проснулась веселая. Но увидела олененочка, и вчерашняя тоска снова напала на нее. Сердце болело так, как болят у человека зубы. Соня не могла терпеть и заплакала. Мама начала спрашивать, что у нее болит, о чем она плачет. Голос у нее был заботливый, ласковый. Но чем ласковей спрашивала ее мама, тем горше она плакала. Вот мама тревожится из-за нее, заботится, а Соня ее обманула! Соня виновата, так виновата, что выдержать невозможно. И сознаться никак невозможно! И так целый день: Соня то умолкала, то снова начинала горевать и плакать. Маме надоело ее утешать.
— Некогда мне с тобой нянчиться, — сказала она. — Как не стыдно! Большая девочка, скоро в школу, а она хнычет без конца ни с того ни с сего!
За обедом Соне ничего не хотелось есть. Мама заставляла, но Соня хлебнула две-три ложки супу и больше ничего есть не стала.
Отец встревожился. Он взял ее к себе на колени и, щекоча ухо большим золотистым усом, начал уговаривать:
— Ну, не плачь, не плачь! Ну, где у тебя болит?
Соня никак не могла объяснить, где у нее болит. Ей было плохо, тяжело. Вот только бы признаться в том, что ее мучило, и все снова было бы хорошо и ничего бы не болело. Но и признаться она никак не могла.
— Ну, где болит? Ну, скажи скорей!
— Нигде, — ответила Соня, а слезы уже опять подступили к глазам.
— Ну, не плачь! Хочешь хлебушка с песочком?
Это было лакомство. Мама не очень-то разрешала транжирить сахар. Но отец все-таки отрезал ломоть сеяного хлеба и густо посыпал его сахарным песком.
— Гляди-ка сюда! — весело сказал он и подал ей этот сладкий кусок. Сахар густо блестел по всему ломтю.
Соня не могла противиться, взяла. Но слезы так и посыпались на сахарный песок. Соня откусила раза два, положила кусок и снова принялась плакать.
Отец уж и не знал, что делать. Он пошел к Макарихе и принес от нее зелененький мармеладный лапоток, осыпанный сахаром.
— А гляди-ка сюда! — еще издали закричал он.
Но Соня увидела лапоток и еще пуще залилась слезами. Вот как отец ее любит, как балует, а она обманула маму! Да еще два раза!
Соня мучилась еще долго-долго, и никто не мог понять, что с ней происходит, а у нее так и не хватило духу рассказать, что она сделала.
Девочка с куклой
На соседнем дворе у Подтягина — тогда все дворы и дома почти всегда назывались по имени хозяина — жила девочка. Она жила во флигеле, во втором этаже. И часто, открыв свое маленькое, немного покосившееся окно, которое приходилось как раз над забором, поглядывала из-за тополей на прокофьевский двор, на ребятишек, которые играли здесь, улыбалась им застенчивой улыбкой. А если не видела улыбки в ответ, скрывалась в комнате, задернув занавеску.
Соню она не очень привлекала — бледная, худенькая, с жидкими косичками. И кроме того, она была с чужого двора. А на чужом дворе, как это всегда было известно, все плохие — и мальчишки и девчонки. Иногда ребята с того двора взбирались на забор и кидались камнями, а девчонки дразнились. Тем же отвечали и с этого двора.
Сенька, Коська, Лук-Зеленый кидали камни на тот двор, а Лизка, Соня и Оля с Тонькой и даже толстая Матреша дразнились и показывали язык. Попробовала однажды дразниться и Шура, но ее мама увидела это из окна и сейчас же велела идти домой, а дома ее отшлепали, и с тех пор Шура никогда уже не ввязывалась в эту войну, а стояла в сторонке и молчала.
Правда, девочка, глядевшая из окна на их двор, никогда не дразнилась. Она лишь молча смотрела на их веселые игры.
— Иди к нам играть! — позвала ее однажды Соня.
Но девочка словно испугалась, она отрицательно затрясла головой и тотчас отошла от окна.
— Ну и не надо! — крикнула Лизка.
И все перестали обращать на нее внимание. Смотрит из окна бледная сероглазая девочка, как они играют в прятки, как носятся по всему двору в «салочки», — ну и пускай смотрит. Никому не мешает.
И вдруг эта девочка удивила их. Как-то она подошла к окну и молча показала ребятам огромную куклу. Все сразу забыли про свои игры, особенно девчонки. Они столпились в кучку и смотрели на куклу — у них ни у кого никогда не было такой куклы, даже у Шуры.
Тут и загорелись дружеские чувства к этой девочке.
— Иди к
нам играть! — снова начала звать Соня. — Приходи с куклой! Как тебя зовут?
— Зоя.
— Зоя, приходи! — вторила хриплым голосом Лизка.
— Мы не тронем, — уверял Коська, — не бойся!
— Ну приходи, Зоя, приходи! — настойчиво просила Соня.
Соне очень хотелось, чтобы эта девочка пришла. Как бы счастлива была Соня подержать эту куклу в руках, большую, с белокурыми волосами, с закрывающимися глазками! И как бы интересно поиграть с богатой девочкой! Ведь, конечно, она богатая, если у нее есть такая кукла!
— Хочешь, к нам в сени пойдем! — упрашивала девочку Соня. — Вон наше окно наверху, мы там играем!
Девочка сначала отрицательно трясла головой, прижимая к груди свою куклу. Но Соня и Лизка не отставали. Оля помогала им. И маленькая Тонька тоже пищала тоненьким голоском:
— Зоя, иди к нам играть!
И тут девочка с куклой решилась. Она кивнула головой и отошла от окна.
— Куклу тоже возьми! Не забудь куклу! — крикнула Соня.
И они всей гурьбой побежали к воротам ее встречать. Было интересно, какая эта девочка вблизи и как она будет одета.
— Наверное, в шелковом платье, — тотчас придумала Соня.
— И в молочных баретках, — подхватила Лизка.
И тут же одна перед другой начали сочинять, как у этой девочки дома. Наверное, диван есть. И гардероб, наверное, есть. Все, наверное, такое же хорошее, как у домовладельца Луки Прокофьевича. Соня один раз была у них наверху с мамой, когда мама носила хозяину деньги за квартиру. Какие комнаты она там видела! Пол блестит, зеркало от пола до потолка, диван с подушками! Конечно, и люди в таких квартирах живут важные и нарядные. А вот сейчас придет к ним девочка Зоя, оттуда, из «тех людей».
Пока подруги обсуждали, что есть в квартире у девочки с куклой, и кто ее отец и мать, и какое у нее будет платье, девочка с куклой открыла деревянную калитку и тихо вошла во двор. Она поглядела на всех светлыми глазами, несмело улыбнулась и остановилась. А Соня и все подруги ее тоже стояли и молча с удивлением глядели на нее. Где же шелковое платье? Где же молочные баретки?
Девочка была одета очень бедно. Ситцевое полинявшее платьишко с заплаткой, на ногах стоптанные тапочки на босу ногу. А на голове старый платок, завязанный концами крест-накрест узлом на спине. День был ветреный, и, видно, мама повязала ее, чтобы не простудилась. Кукла ее тоже была завернута в какую-то бесцветную тряпку. И вблизи она оказалась вовсе не такой красивой — с полинявшими бровками и с отбитой рукой…
— Пойдемте к нам в сени! — позвала Соня уже далеко не так охотно, как тогда, когда вызывала девочку.
Все молча пошли за ней. Вот так богатая, вот так в шелковом платье! Гостья словно обидела их, оказавшись совсем не такой, как они ожидали. Но раз позвали — надо играть.
Молча поднялись по деревянной лестнице с балясинами. В сенях было большое квадратное мелко застекленное окно, стоял стол, табуретки. У стены ютилась деревянная, сколоченная из досок кровать — Сонин отец спал здесь, когда в комнате было жарко.
Но поднялись в сени — и не знали, что делать и как играть. Лизка и Оля шептались. Тонька молча таращила глаза на большую куклу. А Соня увидела валявшийся на полу свой маленький черный мячик, подняла его и начала бросать об стенку. Чужая девочка, Зоя, не знала, что ей делать. Она стояла и растерянно глядела на всех, прижимая к себе куклу.
Оля, пошептавшись с Лизкой, вдруг сказала:
— Давайте прогоним ее!
И всем это понравилось. Девчонка чужая и совсем нехорошая, одета еще хуже, чем они, и пускай идет на свой подтягинский двор, и вовсе они не хотят с ней играть.
— Зойка, уходи от нас! — сказала Оля, уставив на чужую девочку свои дерзкие круглые немигающие глаза.
Зоя вся как-то съежилась и поникла. Она тотчас повернулась и пошла из сеней. Соня видела, как она испуганно взглянула на них, лицо ее стало еще бледнее, маленькие губы сжались. Зоя торопливо спускалась по лестнице, а девчонки глядели на нее сверху и кричали:
— Уходи отсюда! Подумаешь, какая у нее кукла — вся чумазая! А у самой — платок рваный, вон сколько дырок!
Девочка ушла, не оглянувшись, не подняв глаз. А Соня смотрела сверху на круглые дырки ее платка и старалась кричать всех громче:
— Уходи из наших сеней!
Девочка ушла, но всем почему-то было нехорошо. Не знали, что делать дальше. Потом вспомнили, что можно поиграть в мячик, и побежали во двор. В сенях никак нельзя играть — живо в окно попадешь!

Девочка ушла, не оглянувшись, не подняв глаз.
Дома, когда Соня вернулась со двора, шел какой-то крупный разговор. Мама молча, с обиженным видом, цедила молоко.
— Ну вот еще, надулась теперь, — говорил отец. Он только что пришел из коровника и сидел в кухне на сундуке в своем холщовом фартуке с нагрудником. Он никогда не снимал этого фартука, только на пасху да на рождество расставался с ним, но тогда отцу казалось, что он не совсем одет и чувствовал себя очень неловко. — Подумаешь — Палисандрова ей не поклонилась!
— Какая беда! — усмехнулась Анна Ивановна, которая мыла руки у раковины. — Три к носу, Никоновна, есть на что обижаться!
— Мимо глядит, будто и не видит, — с обидой сказала мама, — будто мы уж и не люди совсем!
Из своей комнатки вдруг вышагнул горбатенький художник с палитрой на руке.
— А вы презирайте их, Дарья Никоновна! Такие Палисандровы — паразиты, они чужим трудом живут. На эту Палисандрову в ее прачечной двадцать человек работает. А что может сделать она сама? Что может она создать? Отнимите у нее ее капитал — неизвестно еще какими путями нажитый, — ну и что от нее останется? Пустое место! А вы хлеб своим трудом добываете…
— Вот то-то и дело, — прервала мама, — трудом добываем, не воруем же…
— Вот то-то, трудом! — подхватил художник; он волновался, сердился, глаза у него блестели. — А у нас, в нашей темной стране, труд презирается. Такие вот Палисандровы едят хлеб, который мужиком выращен, а мужика и за человека не считают. Пьют молоко от ваших коров, а ответить на ваш поклон считают зазорным!
Художник задохнулся, начал кашлять. Отцу стало жалко его.
— Да леший с ними, с господами-то! У них своя жизнь, барская. А мы беднота, наша доля такая.
— А за что такая доля? — опять закричал художник. — Почему? Мы люди, создающие ценности. Мы создаем, а они потребляют. Мы господа жизни, а не они!
Отец усмехнулся, махнул рукой:
— Уж какие мы господа!
— Да, мы господа! И вы, Иван Михалыч, и вы, Дарья Никоновна, и вы, Анна Ивановна, — вы господа! Вы трудитесь, вы делаете жизнь на земле богатой и красивой! Вы, а не они, не Палисандровы! Как люди слепы, какое затмение умов! Да ведь они до земли вам обязаны… кланяться!..
— Ну будет, будет тебе, эко раскипятилси! — успокаивая его, будто маленького, сказал отец. — Вот опять закашлялси. Здоровье-то у тебя, голова, совсем липовое.
— Ну и выдумал — чтобы господа нам кланяться стали! — усмехнулась Анна Ивановна. — Насмешил до страсти!
Художник махнул рукой и ушел в свою комнату.
— За такие-то разговоры, пожалуй, и в участок позовут, — продолжала Анна Ивановна. — Нет уж, всяк сверчок знай свой шесток. Да и то сказать, не было бы господ — на кого бы мы работали, кто бы нам деньги-то платил?
— Эко мудрено! — возразил отец. — Можно и друг на дружку работать. Я тебе молока дам, а ты мне букет сделаешь. Вот и без господ обошлись бы!
— Заглаголил! — остановила его мама. — Еще до чего договоришься?
— Ты, пожалуй, скажешь, что и без царя обошлись бы, — продолжала Анна Ивановна. — Язык-то без костей.
— А что ж, не обошлись бы, что ли? Царь-то такой же человек, не из золота небось сделан.
— Вот за такие-то речи — бубновый туз на спину! Да в Сибирь по Владимирской!
[2] Нет уж, Михалыч, что как установлено, так и стоять будет.
— Вот то-то и дело, сейчас и бубновым тузом пугать! А есть люди — и бубнового туза не боятся. Жизнь отдают, волю свою отдают, на баррикады под пули становятся. Ай все зря это?
— Иван, замолчи, я тебя прошу! — твердо сказала мама, заметив, что Соня стоит, навострив уши, и слушает. — Придержи свой язык, длинный он у тебя уж очень!
А Соня хоть и слушала внимательно, половины не понимала.
— Какой бубновый туз, — попробовала она выяснить хоть что-нибудь, — почему бубновый?
Но мама резко прекратила этот разговор:
— Не лезь, когда большие разговаривают! Ступай собирай на стол, обедать будем. Хлеб доставай, ложки. Вырастешь — тогда узнаешь.
Как-то встревоженно, неспокойно было в квартире. Неспокойно, встревоженно было и у Сони на душе. Почему-то все время вспоминалась девочка с куклой. Конечно, хорошо, что они ее прогнали. Так и нужно было прогнать… И все-таки что-то мешало забыть об этом. Захотелось, чтобы и мама подтвердила, что они поступили так, как надо.
Но мама, выслушав за обедом рассказ про эту девочку, сказала:
— Не надо было звать. Зачем же вы ее звали?
— Мы думали, она не такая, — стала защищаться Соня, — мы думали, она хорошая!
— А чем же она не хороша оказалась? — спросил отец.
— У нее платье с заплаткой. И на платке дырки. Весь платок в дырках.
— Вот те на! — сказал отец. — Платье плохое и платок плохой. А девочка-то, глядишь, хорошая. Взяли да обидели человека ни за что ни про что.
Мама сурово поглядела на Соню своими серыми глазами:
— А если вот тебя так зазвали бы к себе чужие девочки да посмотрели бы, — а платье на тебе простое, а на них-то платья батистовые, — да и прогнали бы тебя. Хорошо бы тебе было?
Соня молчала насупившись. Нет, это было бы совсем не хорошо. Очень обидно было бы. И той девочке, Зое, наверное, было обидно. Соне вдруг стало очень жалко эту девочку: Зоя ничего им не сказала, даже ни одного словечка не ответила — ушла, и все…
— Вот ведь с каких лет приучаются людей по платью встречать! — с упреком сказала мама. — Будь у тебя голова в сто умов, а платье с заплаткой — вот ты уж и не человек! Уж тебя и прогнать можно. И на поклон тебе не ответить можно!
— Такая уж сложилась жизнь, — ответил отец. — Богатый бедного пинает. А бедный норовит пнуть того, кто еще и его бедней. Что ж тут поделаешь…
— Те плохие люди, которые за бедность пинают, — сказала мама, — никудышные это люди.
А Соня уже хлюпала, притаившись в уголке за печкой. От печки пахло глиной. Пахло лучиной, которая сушилась на печке. Соня отковырнула кусочек глины, там, где она крошилась, около железной дверцы подтопка, и стала жевать. Ей почему-то иногда хотелось пожевать глины или сгрызть уголек. Мама бранила ее за это. Но сейчас мама не видела, что Соня ест глину. Но видела, что Соня плачет, и не утешала ее.
Отец сначала тоже выдерживал характер, сидел у стола, молчал. Но посидел, помолчал и вышел к Соне в кухню.
— Ну, будет! Слышь, что ль! Всю печку расковыряешь, печка завалится. Где щи-то варить будем? Брось глину. Пойдем, хлебца с песочком дам.
Кусок хлеба, посыпанный сахарным песком, скоро утешил Соню. Но на душе, где-то там, в глубине, все еще саднило: почему она не заступилась за эту девочку в дырявом платке? Да еще и сама кричала ей: «Уходи отсюда!»
Первые буквы
На улице была темнота, непогода. Шел дождь, шумел ветер. Мама задернула белые занавески на окнах и села шить. Небольшая керосиновая лампа под матовым абажуром тепло светилась на столе.
Отец достал со шкафа какую-то книжку и тоже сел к столу. Так часто бывало: мама что-нибудь делает — шьет, штопает или ставит заплатки, — а отец ей читает вслух.
Но читал он всегда какие-то непонятные истории, и Соня никогда их не слушала. Не слушала она и сейчас. Она лежала в постели и глядела на маленький деревянный домик, который стоял на шкафу. Этот домик был совсем как настоящий, но бревнышки были не толще карандаша, а на крылечке мог поместиться, пожалуй, только воробьиный птенчик.
Окошечки в домике светились. Они были зеркальные, в них отражался огонь лампы, но Соня была уверена, что там живут маленькие человечки и каждый вечер зажигают огонек. Мама зажжет лампу — и они зажгут.
Соня тихонько глядела на домик и ждала. Вот сейчас откроется маленькая деревянная дверца, и человечки выскочат на крыльцо. А потом сбегут с крыльца и начнут лазить по книгам, которые лежат на шкафу. Потом взберутся, пожалуй, на карниз и побегут вокруг потолка. А может, спустятся по дверце в шкаф на полку, где стоит посуда, и залезут в сахарницу…
Но человечки были хитрые. Они, как и все волшебное, таились от человеческого глаза.
Понемногу, помимо своей воли, Соня начала прислушиваться к тому, что читал отец. Прислушалась, да вся так и замерла — отец читал какую-то необыкновенную сказку. Соня приподняла голову и даже глаза вытаращила, чтобы лучше слышать и лучше понять…
А там, о чем читает отец, совершается что-то страшное, захватывающее душу. Сидит колдун, запертый в келью, прикованный тяжелыми цепями. Это запер его пан Данило, чтобы злой колдун не мог наделать каких-то бед. Но вот идет красавица Катерина с золотым корабликом на голове. Соне тотчас представился маленький золотой кораблик с парусом, который почему-то Катерина поставила себе на голову. Вот пришла Катерина к этому колдуну, поговорили они о чем-то… и вот выпускает она колдуна из кельи, отпирает замок!
И чем дальше было, тем страшнее, тем интереснее. Колдует колдун, вызывает белую тень…
Соня забыла про сон. Она сидела в постели и жадно слушала, широко раскрыв глаза. Наконец мама увидела это.
— Хватит, Иван, — сказала она и стала складывать свое шитье. — Пора спать. Все спят.
В квартире все спали. Спали Дунечка и дядя Сережа. Чуть стонал во сне за стеной горбатенький художник. Похрапывал легонько Кузьмич.
— Да-а… — протянул отец. — Вот это так страшная месть!
— А что такое — месть? — спросила Соня.
— Вырастешь — узнаешь, — ответила мама и начала стелить постель.
— А что было потом? — опять начала приставать Соня. — А кто был колдун? А откуда он пришел? А почему Катерина его выпустила?..
— Научишься читать — сама прочтешь, — сказал отец. — А так — как же я тебе расскажу? Я еще и сам не знаю, что было потом. Вот тут оно все, в книге.
Отец закрыл книгу и положил на шкаф. Соня улеглась. И уже не на домик глядела, а на эту книгу, в которой спрятана такая волшебная история.
И тут как-то Соня начала понимать, что такое книга. Это не просто бумага, набитая разными буквами неизвестно для чего. Значит, буквы складываются в слова. А из слов получаются всякие волшебные сказки. Вот если бы она умела читать, то ей книжки сами бы рассказывали. И сколько же в них спрятано разных историй! Но как разобраться в этих буквах и строчках, как понять их?
Соня так и заснула, ни до чего не додумавшись.
«Завтра как встану, сразу попрошу толстую книгу», — решила она.
Но встала утром — и забыла про книгу. На улице стоял тихий пасмурный денек. Пришла Лизка. Соня сидела со своей куклой, одевала ее.
— Пойдем гулять! — позвала Лизка.
— С куклой пойдем, — ответила Соня.
Дунечка сшила ее старой кукле Лене платьице и капор — так что она была теперь приодета. Однажды Соне показалось, что, если Лену умыть, она будет покрасивее. А когда умыла, то щеки у куклы облезли, нос облез, брови стерлись, и кукла стала совсем страшной. Но Соня все равно любила и жалела ее. Ведь другой-то куклы у нее не было!
Девочки вышли во двор. Земля была сырая, от Сониных и Лизкиных башмаков оставались четкие следы, они, словно узор, разбегались по гладко утоптанному двору.
— А у куклы тоже будут следы? Ну-ка!
Соня и Лизка взяли куклу за руки и повели по двору, и на сырой земле отпечатались следы маленьких куклиных ног. Вот было интересно!
И вдруг Соня увидела, что двор вовсе не был таким пустым и гладким, как казалось сначала. Вот напечатаны крестики лап — это тетенькины куры ходили. Вот еще лапки, только маленькие — это голуби спускались на землю. А вот мягкие, круглые следочки — это кошка пробежала… И через все маленькие следы прошел один большой след сапога — туда и обратно.
— Это мой папа прошел! — закричала Соня. — Это он в коровник ходил!
— Нет, это Пуляй ходил! — захрипела Лизка. — Следы вон куда идут! К сараю!..
Так появилась во дворе новая игра — искать и разгадывать следы на влажной земле.
Потом Соня посадила куклу на сухое местечко под кленом, а сама подняла около дровяного сарая щепочку и начала рисовать. На сырой земле очень легко рисовалось. Лизка, глядя на нее, тоже принялась что-то чертить.
Вскоре прибежал Коська. Живой, сухопарый, как кузнечик, он начал скакать на одной ноге около нарисованных на земле домиков и лошадок.
Девочки сразу закричали на него:
— Уходи! Сейчас все растопчет!
Но Коська не стал растаптывать рисунки, а сам взял щепку.
— Я буквы знаю, — сказал он. — Вот «Пы»!
Он начертил букву «П».
— А вот «Мы»!
И тут же, правда с трудом, вывел букву «М».
— Ага! — Коська опять заскакал на одной ножке.
— Подумаешь! — обиделась Лизка. Она подбежала к Коськиным буквам и стерла их ногой.
Началась драка.
А Соня задумалась. Коська знает буквы… Как же он мог узнать их?
Но тут она увидела, что Коська в азарте растоптал не только Лизкины рисунки, но и ее рисунки тоже. Уже ни домиков, ни лошадок, ни человечков, а просто путаница из Коськиных следов. Соня тоже принялась толкать Коську:
— Уходи! У, противный какой!
Но Коська не уходил. Он наподдал ногой Сонину куклу и вообще был в драчливом настроении. Тогда Соня подхватила свою куклу и ушла домой. Придя, она тут же попросила достать ей большую книгу.
Соня положила книгу на стул, а сама встала возле стула на колени и открыла толстый черно-зеленый переплет. На первой странице было крупными буквами написано: «Развлечение». Буквы были извилистые, с завитушками. Соня не понимала, что тут написано и считала, что это так просто, для красоты.
Книга была толстая, в ней таилось множество всяких картинок. Эти картинки Соня разглядывала без конца. Там были барыни в огромных шляпах, в длинных платьях и в туфлях на высоких каблуках рюмочкой. Были какие-то старые и молодые господа в шляпах, с галстуками бантиком. Очень много всяких человеческих фигур населяло широкие страницы… Но что они делали? О чем они говорили?
Соня смотрела на тоненькие черные строчки под рисунками и ничего не понимала.
«Коська буквы знает… — думала она. — А почему он знает? Пы… Мы…»
Приглядевшись, она вдруг увидела ту самую знакомую букву «Мы», которую Коська рисовал щепкой. Вот и еще «Мы». А вот «Пы». Соня было обрадовалась, но тут же нахмурилась снова. Ну вот они, эти буквы, а ведь все равно по-прежнему ничего в этих строчках понять нельзя! Прямо хоть плачь!
Тогда Соня стала сама придумывать разговоры этим барыням и господам. Она взяла свой маленький обгрызенный карандаш и принялась делать подписи под картинками. Она сочиняла маленькие истории и тут же писала их между печатными строчками. Буквы она знала только две — «Пы» и «Мы». Она их писала во множестве, а между ними ставила просто разные палочки и крючочки. Так вот и получилось: Соня не могла прочесть того, что напечатано, но зато и ее подписей тоже никто не мог прочесть. А сама-то Соня читала их на память — и это ее утешило.
Потом она принялась тут же на полях срисовывать барынь. Особенно нравилось ей рисовать их туфли с каблуками рюмочкой. Где-то живут такие красивые нарядные люди, они носят такие необыкновенные туфли… И, глядя на эти рисунки, Соня опять думала, что это какие-то совсем другие люди, не такие, как ее отец и мама, не такие, как тетеньки-прачки, и как все, кто живет у них во дворе. Те люди всегда нарядные, у них всегда праздник, они красивые… И живут они где-то на других улицах, в других домах. Это те, которых Соня, может, и не увидит никогда, — богатые.
Соня листала страницы, разглядывала давно знакомые рисунки, отыскивала в строчках «Пы» и «Мы»… Но вот дошла до любимой картинки, облокотилась локтями на книгу и забыла обо всем.
На картинке во всю страницу шумел густой сад. Он шумел, потому что ветер гнул верхушки деревьев и кустов. На садовой скамейке задумчиво сидела дама в маленькой шляпе с закрытым зонтиком в руках…
Больше ничего не было на этой картинке. Но Соня могла очень долго смотреть на нее. Она будто входила в этот сад, шла по дорожке к фонтану, который виднелся вдали, слушала шум деревьев… Ей представлялось, что она когда-то давно-давно была в этом саду, старалась припомнить, что там, за этими густыми цветущими кустами…
Вот тут-то и написала Соня свой самый интересный рассказ.
— Садитесь обедать, — сказала мама, — бросайте свои книги и газеты!
Отец отложил газету. Подошел к Соне.
— Э, голова! — сказал он. — Как ты книгу-то исчертила! Зачем же ты на книге чертишь?
— Это я не черчу, — ответила Соня, — я пишу.
— Да разве так пишут? Писать буквами надо.
— А если я буквы не знаю? Я только «Пы» и «Мы»… Вот они.
— «Пы» и «Мы» — мало, — сказал отец, — да и не с них азбука-то начинается.
На этой же неделе отец купил Соне маленькую, размером с тетрадь, грифельную доску и грифель, похожий на карандаш.
— Вот теперь будем буквы писать. Ошибешься — сотрешь и снова напишешь.
И написал Соне первую букву азбуки — «а».
Листья желтеют
Грифельная доска очень понравилась Соне. Грифель скрипел и скоро стачивался. Но отец его снова зачинивал, как карандаш, и Соня писала буквы, стирала их, а потом на этом же месте рисовала всякие картинки. Тетрадка, которую дал художник, давно уже была вся изрисована, и даже на обложке стояли домики с заборами и с калитками — там гуляли куры и летали воробьи.
А доска никогда не изрисовывалась, придумывай и рисуй что хочешь и сколько хочешь. Только на бумаге небо оставалось белым, а деревья стояли черные. Тут же получалось наоборот: небо было черным, а деревья — белые, будто покрытые инеем. И это далее интересно было: белый пригорок, белые елочки, черное небо… Соня смотрела на свой рисунок и думала:
«Это зима. Это елочки ночью стоят на пригорке».
А на улице еще было лето. Однако, когда Соня однажды оторвалась от своей волшебной доски и вышла во двор, она вдруг увидела, что с тополя сорвалось несколько желтых листков и, покружившись, тихо легло на землю. Соня собрала горсточку листьев. Почему они были зеленые, а стали желтыми? Какие они шелковистые, прохладные в руках…
Желтые листья увидела и девочка Зоя из подтягинского дома. Она даже руку протянула. Хотела поймать листок, который пролетел мимо ее подоконника, но увидела Соню и тотчас скрылась в комнате и задернула занавеску. Соне стало обидно. Но она смутно сознавала, что заслужила это. И она очень хотела бы поправить всю эту нехорошую историю, но попробуй теперь поправь, если на нее и глядеть не хотят!
Соня побежала к Шуре. У Шуры была новая книжка с яркой картинкой на обложке. Какая-то женщина, вся в белом и с короной на голове, неслась в белом вихре и увозила с собой мальчика, который прицепился к ее саням.
— Это кто? — с жадным любопытством спросила Соня.
— Это снежная королева, — ответила Шура.
— А куда она едет? А кто этот мальчик?
Но Шура уже забыла, куда ехала снежная королева, и забыла, как зовут мальчика…
А дальше картинки были еще заманчивее, еще чудесней. Вот сидят мальчик и девочка где-то под крышей, а около них цветущие розы. А вот девочка идет одна; она смотрит, как по реке уплывают ее красные туфельки… А это что такое? Не то корова, не то нет…
— Это олень, — сказала Шура, — на нем Разбойница ездит.
— Какая Разбойница? А почему она на олене ездит? А почему девочка к Разбойнице пришла?
— Ну, потому что… — Шура пыжилась, старалась рассказать то, что ей прочла в этой книжке мама, и никак не могла.
Ей то дремалось, когда мама читала сказку, то думалось, что вот бабушка скоро будет рубить капусту и они с Соней поедят сладких кочерыжек. А потом бабушка будет печь пироги с капустой… А еще, может быть, мама к рождеству купит Шуре меховую шапочку… И сказка где-то затерялась среди этих мыслей.
Соня жадно разглядывала картинки. И опять ей неистово захотелось уметь читать. Но как научиться? Как запомнить столько разных букв?
Соскучившись над книжкой, Шура сползла с сундука, на котором они сидели с Соней.
— Пойдем гулять, а?
Соня с сожалением отложила книгу:
— Пойдем…
Во дворе ребятишки собирали желтые листья. Соня и Шура тоже бросились за листьями. У заборов, под тополями, ветерок перегонял желто-лимонную россыпь. Под кленом горела огнем и киноварью зубчатая с тонкими прожилками листва.
Соня набрала кленовых листьев, скрепила их черенками, и получилась корона. Настоящая корона с зубчиками наверху. Соня надела ее на голову и тихо сидела на лавочке, боясь шевельнуться. Она чувствовала себя Золушкой — принцессой, сидящей в карете. Карета мчит ее на бал. Она войдет во дворец и будет танцевать в золотом зале…
— А у меня бува, гляди-ка!
Шурин голос словно разбудил Соню. Шура сделала длинную гирлянду из тополевых листьев и накинула себе на плечи. Девчонки видели на улице женщин в таких же узких и длинных меховых горжетках — «боа» — и считали, что это очень красиво. И Шура мечтала, что, когда вырастет, обязательно будет носить такое «бува».
Лизка и Оля тоже ходили уряженные листьями. Но у нетерпеливой Оли все почему-то путалось, рвалось… Наконец ей надоела эта игра, она сорвала с плеч и разбросала свои желтые воротники и горжетки.
— Пойдемте лучше за ворота барынь выбирать!
Тут девочки почувствовали, что им тоже надоели листья, и они отправились к воротам.
Прохожих на улице было мало. Глубокой скукой дышали серые жаркие тротуары с каменными тумбами у ворот. Скука глядела из подслеповатых, настежь открытых окон, скукой томились дома, стоящие рядком, прижавшись друг к другу…
На той стороне, у калитки, прислонясь к ней плечом, толстая девчонка с медно-каштановыми густыми волосами флегматично грызла подсолнухи. Это была дочка игрушечника Виноградова. У них была мастерская игрушек, куда всем ребятишкам очень хотелось попасть. Но Виноградов был сердитый и не любил ребят. А дочка его, Стеша, никогда в игрушки не играла. Ей нравилось стоять у ворот, грызть подсолнухи и глядеть на всех, кто идет мимо. И от этой коренастой фигуры с медными волосами и от сизой шелухи, которой она засорила весь тротуар, тоже веяло скукой…
— Чур, моя! — бойко крикнула Оля. — Чур, моя!
Вот Соня загляделась на Стешу и прозевала барыню.
Она видела, как прошла бедно одетая старушка в черном — таких они не выбирали. А щеголеватую женщину в белом платье и в голубой шляпке, которая шла сверху по направлению к парку, Соня и проглядела. Но, пока Оля восторгалась своей «барыней» и радовалась удаче, Лизка увидела другую и успела крикнуть:
— Чур, моя!
Это была тоненькая барыня с ярко-рыжими стрижеными волосами. На платье у нее развевалась длинная оранжевая оборка, и оранжевый зонтик был раскрыт над головой. Она прошла медленно, опасливо ступая на своих чересчур высоких каблуках.
— Во какая — с тюником! — хвалилась Лизка. — Еще получше Ольгиной!
Соня волновалась. Она вертелась, глядела то в одну сторону, то в другую, но не видела ни одной барыни.
— Чур, моя… — вдруг спокойно сказала Шура.
Она увидела толстую женщину с завитыми волосами, которая высунулась из окна, блеснув атласным зеленым капотом. Да что ж это, даже Шура добыла себе барыню, а Соня только и видит одних старух, идущих с соломенными сумками на рынок!
А глазастая Оля то и дело кричала: «Чур, моя!»
Но не так-то много нарядных барынь проходило по Старой Божедомке, и Оля попадала впросак. Барыня подходила ближе, и вдруг оказывалось, что это вовсе и не барыня, и платье на ней простое, и шляпка помятая, и сама она старая, и тогда Оля начинала яростно отказываться:
«Чур, не моя! Чур, не моя!»
А у Сони все еще не было ни одной барыни. Но вот она увидела пролетку в конце улицы. Пролетка приближалась, кто-то сидел в шляпе…
— Чур, моя! — крикнула Соня. — Чур, моя, на извозчике!
Пролетка на толстых шинах мягко прокатила мимо и остановилась рядом с подтягинским домом у высоких железных ворот. С пролетки сошла высокая черноглазая женщина в светло-сиреневой накидке и белой шляпе с пером. В ушах у нее сверкали длинные серьги, а когда она, слезая, придержалась рукой за облучок, на руке ее сквозь белую перчатку сверкнули кольца. Она слезла и вошла в железные ворота.

— Ага! — Соня торжествовала. — Вот какая! Получше всех ваших! В перчатках! А серьги какие!
— Это Палисандрова, — флегматично сказала Шура, — мы с мамой ходили к ней…
— Кто? Кто?!
— А чего ты кричишь? Палисандрова. У нее прачечная. Она хозяйка…
— Мне ее не надо! — сказала Соня. Ей сразу вспомнился разговор, услышанный однажды, и волнение художника, и мамина обида. — И никого мне не надо!
Соня повернулась и пошла от ворот. Шура догнала ее и взяла за руку.
А во дворе стояла Шурина бабушка — она уже хватилась Шуры — и разговаривала с Сониной мамой.
— Вот они! — Шурина бабушка с упреком покачала головой. — Так и есть, за воротами были!
— Ничего, — возразила Сонина мама, — скоро в школу пойдут, пусть привыкают… Моей-то еще семи нет, но пускай идет. Буквы почти все знает, скоро читать начнет.
— Наша тоже буквы знает. А читать никак не хочет. Ленива очень. Уж ей отец — и одну книжку и другую! А она поглядит картинки, да в сторону. Хоть бы ваша ее постыдила. Ваша-то уж очень до книжек жадная!
— Вместе в школу пойдут, так друг от друга будут набираться. Хорошо, школа-то близко!..
Поговорили и разошлись: бабушка с Шурой — домой, а мама — в коровник. И Соня поплелась за ней.
— Ты что это голову повесила? — спросила мама.
Соня вздохнула, не поднимая головы:
— В школу боюсь.
— Вот тебе раз! — сказала мама. — С Шурой-то боишься? С Шурой вместе и за партой будете сидеть — чего ж страшного?
Соня подумала, что если с Шурой, то, пожалуй, не так уж это будет и страшно. Хорошо, что у нее есть Шура!
Первая разлука
В этот день Соня и Шура что-то расшалились. Бывает так: попадет смешинка в рот, и люди смеются сами не знают чему. Упал плюшевый Мишка со стула — девчонки заливаются, хохочут. Споткнулась Соня о ковер — совсем падают от смеха. Ошиблась Шура: вместо «кукла», сказала «тукла», — и опять смеху без конца…
— Что-то раздурились, — сказала бабушка. — Уж это знай — перед слезами.
— А чего нам плакать-то? — сказала Шура.
И Соня повторила, глядя на нее блестящими от смешливых слез глазами:
— А чего нам?..
И снова залились смехом.
У бабушки же, наоборот, было сегодня какое-то тревожное настроение. Шурина мама ушла куда-то, и бабушка то и дело подходила к кухонному окну посмотреть, не возвращается ли она. Если бы Шура не была так беспечна и беззаботна, она бы заметила, что и отец ушел утром на службу с довольно мрачным лицом.
— Поговори, но не упрашивай, — сказал он маме уходя. — Если они жильцов не ценят, их дело. А мы не заплачем.
Он ушел, а мама заплакала. Шура удивилась и чуть-чуть забеспокоилась: почему мама плачет, у нее что-нибудь болит? Но мама сказала, что ничего у нее не болит, а плачет она просто так, и Шура побежала во двор к подругам делать венки из листьев. Ей и самой случается поплакать просто так — значит, плохого тут ничего нету.
Сейчас, играя с Соней, Шура совсем и забыла утренние разговоры.
— А давай поиграем в мячик? — попросила Соня.
У Шуры был огромный мяч синий с красным. Бабушка не велела его выносить во двор — там мальчишки сразу прорвут его. Но зато дома можно было играть сколько хочешь. А мячик был такой, что еле обхватишь. И когда он ударялся об пол или об стенку, то протяжно и нежно гудел.
Подружки принялись играть в мяч, и вся комната наполнилась его гулом и звоном. Но этого бабушка уже не выдержала:
— Идите в кухню со своим мячом! Тут и так голова с утра гудит.
Девочки подхватили мяч и убежали в кухню. Они перебрасывали мяч друг другу и ловили его. Но чаще мячик пролетал мимо и ударялся то в стену, то в дверь, то в белый кафель печки… И вдруг этот мяч, словно надоело ему так хорошо прыгать и гудеть, отскочил от печки и ринулся прямо в большую кастрюлю с молоком, стоявшую на столе. Белые брызги взлетели кверху. Девочки вскрикнули.
А из комнаты уже спешила бабушка:
— Это что тут натворили? Я уж говорю вам — доиграетесь вы до слез! Уж, видно, вам прощаться придется!
Но бабушка не успела рассердиться как следует. Дверь открылась, и вошла Шурина мама. У нее было расстроенное лицо, пухлые губы дрожали.
— Приказано собираться, — сказала она, проходя в комнату, — чтобы завтра выехать.
— Завтра! — охнула бабушка. — Да как же это так — завтра? Да мы просбираемся неделю — столько добра всякого в квартире! Вот еще что выдумали — завтра! Одного варенья сколько наварено. Кадушка с капустой… Огурцы вон засолены… Попробуй-ка соберись!
— Куда, бабушка, собираться? — ничего не понимая, спросила Шура.
— Куда глаза глядят — вот куда! — ответила бабушка. — Жили-жили двадцать лет — и пожалуйте: выезжай! На это тоже наше согласие надо. Хоть бы дали время подходящую квартиру подыскать! — И, взглянув на Соню, сказала: — Иди, Сонюшка, домой, тут неприятности такие…
Ребятишки во дворе уже знали, что Селиверстовых выселяют.
Это было событие. На Старой Божедомке редко менялись жильцы. Люди как-то прирастали к месту, устраивали свое хозяйство и жили долгие годы в одних и тех же квартирах. А тут вдруг заставили подняться с места давно осевшую здесь такую хорошую семью.
— Ничего не выселят! — азартно заспорила с ребятами Соня. — На это их согласие надо! Это их квартира.
— Нет, не их квартира! — так же азартно ответила Лизка. — Это Луки Прокофьича квартира. И весь дом его. Как он захочет, так и сделает. Скажет, чтобы съехали, — и съедут.
— А Селиверстовы не захотят, так и не съедут!
— А Лука Прокофьич городового позовет!
Против всемогущества городового сказать было нечего. Но Соня никак не могла представить себе, что Шуры в их доме больше не будет. Ведь они же всегда были вместе, они и в школу идти хотели вместе…
День прошел в тревоге, в неясной надежде и в предчувствии беды. И все не верилось, что это случится. И, скорее всего, ничего не случится — поговорят, да все как-нибудь и обойдется.
Дома у Сони тоже знали, что Селиверстовым отказывают в квартире.
— Квартиру они себе, конечно, найдут, — сказала мама, — но ведь привычка, каждая половица знакома…
— Что ж поделаешь, — ответил отец, — с хозяином не поспоришь! Не в своем доме живем.
На другой день было дождливо и холодно. Соня сидела дома и рисовала человечков в своей тетрадке — мама во двор ее не пустила. После обеда дождь перестал.
— Мама, я только к Шуре сбегаю, — попросилась Соня. — Ладно?
— Далеко бежать, — ответила мама, — они уже съехали.
У Сони больно сжалось сердце:
— Как так? Когда?..
— Утром еще. Торопили их, над душой стояли. Хозяйскому сыну квартиру готовят.
Соня выбежала во двор, бросилась к Шуриным окнам. Но эти окна глядели нынче чуждо и незнакомо, в них не видно было ни коричневых селиверстовских штор, ни белых занавесок. Толстая тетя Стеша, домовладельцева кухарка, мыла одно окно, раскрыв рамы. У Сони слезы подступили к глазам: все! Уже уехали!
«А может, они еще в кухне?» — подумала Соня, хотя уже понимала, что и в кухне Селиверстовых нет.
Но все-таки взбежала по лестнице и заглянула в кухонное окно. Там было темно и как-то особенно тихо. Соня потянула за скобу знакомую, обитую клеенкой дверь, — дверь была заперта.
Соня медленно спустилась с лестницы. Очень трудно было понять и привыкнуть к тому, что Шуры уже нет и что в Шуриной квартире будут жить какие-то чужие люди. С ощущением беды, которая все-таки случилась, Соня вернулась домой.
Ребята каждый день бегали смотреть, как готовят квартиру хозяйскому сыну. Соня с молчаливой печалью видела, как сдирают со стен такие знакомые и привычные обои, на которых по желтому полю рассыпаны маленькие белые цветы. Новые обои, красные с золотом, сразу сделали квартиру чужой.
Приходили маляры, полотеры с кистями и ведрами. За работой наблюдал сам хозяин, Лука Прокофьевич. Маленький, сутулый, с покрасневшим круглым носиком и быстрыми, все видящими глазами, он то и дело покрикивал на рабочих:
— Ты что ж… по-твоему, это побелка? А ну-ка, возьми кисть да как следует, как следует! Его благородию, офицеру, квартиру отделываешь, не кому-нибудь. Офицеру, царскому слуге! Вот как у нас!
Через несколько дней, когда квартира была отделана, во двор въехал ломовой извозчик Алексей Пуляй с подводой, нагруженной вещами.
— Приехали! — разнеслось по двору. — Молодые хозяева приехали!
На приезжих вышли посмотреть. Подошла, повесив белье и вытирая красные руки, Паня-прачка. Вылезла из подвала старушка, которая ходит на паперть просить милостыню. Дворник Федор остановился со своей метлой. И, конечно, гурьбой сбежались ребятишки.
Все почему-то притихли, говорили вполголоса, почтительно. Да ведь и как не быть почтительным: приехал сын домовладельца, хозяина дома! Уж, верно, богатый — вон какие вещи-то на возу!
Пуляй развязал веревки, и они вдвоем с Федором начали снимать с воза большой, тяжелый стол с колесиками на ножках. Сам Лука Прокофьевич помогал им и все приговаривал:
— Полегче, полегче… Полировку не поцарапай… Такая вещь денег стоит!..
Любопытных во дворе понемножку прибавлялось. Вышли тетеньки-прачки, спустилась сверху худенькая, бледнолицая белошвейка — Олина мать, подошла Аграфена, торговка с Сухаревки, рыжая горластая баба в синем платке. Загудел оживленный разговор.
— Сколько лет старик-то их к себе не пускал! Как женился его Андрей Лукич, так и дороги у них врозь… — скрипучим голосом сообщила старушка из подвала.
— Да не старик не пускал-то, не старик! — прервала ее Аграфена. — «Сама» не пускала, Катерина Михайловна. «Офицер, говорит, а взял горничную! Не показывайся, говорит, с ней и на глаза!»
— А теперь простила, видно? — спросила Феня.
— Тише вы, идут!
От ворот и в самом деле шли двое: офицер в голубовато-серой шинели с серебряными погонами и сверкающими пуговицами и с ним высокая дама в шляпе. Все умолкли и устремили на них взгляд. Соня и Лизка стояли, прижавшись друг к другу.
Офицер никому не понравился. Бритый, с большим грубым носом, с маленькими глазками…
— Совсем как у поросенка глазки-то у него, — прошептала прачка Паня, — реснички маленькие, беленькие…
Офицер шел широким, размашистым шагом. Жена его еле поспевала за ним на своих высоких тонких каблуках. Шляпка у нее была сдвинута на лоб, огромный узел каштановых волос сползал на спину. Из-под черной вуалетки видны были большие бледные губы и кончик носа.
— И чего это он в ней нашел, что даже с отцом из-за нее поругался? — зашептались женщины. — Сколько лет из-за нее в родной дом не показывался… А что в ней хорошего? Долговязая, тощая, от ветра качается…
— Пойди наверх, покажи, куда что ставить, — приказал жене офицер.
Ни на кого не взглянув, дама под вуалью как-то слишком поспешно вошла в парадное и поднялась по лестнице. И Соня снова запечалилась: эта чужая женщина пошла в Шурину квартиру и теперь ставит там свои вещи и будет там жить…
Сонин отец шел в коровник. Он со своими бадьями тоже остановился на минутку. С воза снимали невиданную вещь — высокий черный полированный ящик.
— Чегой-то? — удивилась Паня-прачка.
— Пианино это! — с гордостью объяснил Лука Прокофьевич.
— Пианино! Ух, ты…
— Помоги, любезный, — вдруг обратился к Сониному отцу офицер. — Не стой зря!
— Я бы с удовольствием, — ответил тот, — да некогда мне, коров убирать надо.
И пошел к колодцу.
— Каких коров? — удивился офицер и посмотрел на своего отца, Луку Прокофьевича. — Неужели у нас во дворе коровы стоят?
Лука Прокофьевич немного смутился, сдвинул на глаза свой большой картуз.

— А что ж сараям-то пустовать? — сказал он. — Деньги не валяются. А ведь за них, за сараи-то, платят.
— Да, но это значит навоз во дворе, грязь, вонь? Нет уж, я прошу, чтобы никаких коров здесь не было! Я не могу жить по соседству с коровами!
— Посмотрим, ладно… Эй вы, полегче! Не дрова тащите — пианину!
Лука Прокофьевич ухватился за угол пианино, помогая втащить на лестницу.
В этот же день в окнах Шуриной квартиры появились незнакомые кремовые кружевные занавески.
Соня слышала, что сказал этот сердитый офицер: никаких коров во дворе не будет. Как же — не будет? А где же им тогда быть?
— Выгонят, и все, — сказал Коська. — Придет Лука Прокофьич и выгонит.
— А куда? — испугалась Соня. — На улицу?
— Может, на свалку?.. — боязливо прошептала Лизка.
— А нас не выгонят! — хвастливо сказала Оля. — У нас никаких коров нету!
Соня побежала в коровник к маме. Мама доила. В коровнике было жарко, коровы шумно жевали, чавкали… Они все стояли такие толстые, добрые, спокойные. Куда же их выгонять отсюда?
— Мам! — крикнула Соня. — Мам!
— Подожди… Что кричишь? — отозвалась мама.
Однако Соня не могла ждать:
— Наших коров выгонят!
— Что ты болтаешь?
Подошел отец с тяжелыми бадьями, полными воды. Он шел, сутулясь от тяжести и слегка понурив голову. Соня бросилась к нему:
— Папа, наших коров выгонят!
Вышла из коровника мама с подойником, полным белого пенящегося молока.
— Это кто тебе сказал?
— А вот который приехал! Офицер!
Мама вопросительно посмотрела на отца.
Отец ответил не глядя, он выливал воду в большую кадку:
— Молодой хозяин приехал. Коровы ему, вишь, мешают.
Наутро, осторожно ступая по доскам, проложенным среди грязи, к коровнику пришел старый хозяин дома, Лука Прокофьевич.
Лука Прокофьевич был из простых. Говорят, что он далее был мусорщиком, ходил по дворам, собирал тряпки, кости, железки… А потом накопил как-то деньжонок и построил дом. Впрочем, тому, что он деньги эти заработал, мало кто верил. «Трудом праведным не наживешь палат каменных. Где уж тут с мусорных-то ящиков дом построить!»
Хоть и не каменные палаты были у Луки Прокофьевича, но все-таки два флигеля да сараев полон двор.
Стараясь догадаться, как разбогател Лука Прокофьевич, сочиняли всякие легенды. Говорили, что служил он в молодости у какого-то богатого барина в полотерах и утянул у него бумажник с большими деньгами. Говорили тоже, что он в каком-то мусорном ящике нашел не то драгоценное ожерелье, не то перстень с дорогим камнем — вот отсюда и появились у него деньги. Словом, было что-то темное в прошлой жизни Луки
Прокофьевича.
Лука Прокофьевич никак не был похож на барина. Да он в баре и не тянулся. Толстенький, дрябленький, с красными щеками и седыми височками, он всегда носил один и тот же засаленный пиджак, такие же сапоги, как у Сониного отца, и выгоревший картуз с большим козырьком. Если заметит, что у мусорного ящика во дворе насорили, а дворник не видит, он берет метлу и заметает мусор. Заметит, что у забора отстала доска, — берет гвозди и молоток, прибивает доску. Покривилась водосточная труба — возьмет да поправит. А когда приезжают из садоводства к Сониному отцу за навозом, он не гнушается, берет вилы, помогает накладывать навоз…
Все шло дружно и хорошо, пока не приехал Андрей Лукич.
Лука Прокофьевич подошел к коровнику, приподнял картуз, поздоровался.
— Эка грязь-то у тебя! — покачал он головой, будто в первый раз увидел. — Весь мой двор ты со своими коровами загрязнил.
Дарья Никоновна, нахмурившись, опустила глаза. А Иван Михайлович виновато улыбнулся и развел руками:
— Что ж поделаешь, Лука Прокофьич? Уж я стараюсь, убираю…
— Да разве за ними уберешь? Не кошки. Вон сын приехал, жалуется. Коровами пахнет. А ведь он, брат, офицер у нас!
— Мы вам платим за коров, Лука Прокофьич, — сказала Дарья Никоновна и подняла голову, — как договорились. Плату не задерживаем.
— Ничего не говорю, ничего не говорю, — согласился Лука Прокофьевич, — только что ж поделаешь, сын не хочет. А я… разве я что-нибудь говорю?
Теперь уж он опустил ресницы: он не мог глядеть в ее серые строгие глаза.
— Так в чем задача-то? — невесело усмехнулся Иван Михайлович. — Съезжать, что ли?

Лука Прокофьевич пожал сутулыми плечами, надвинул картуз поглубже, лишь красноватый маленький нос да румяные щеки выглядывали из-под картуза. Не хотелось ему прогонять эту семью, он уже привык к этим смирным людям. Но что делать? Сын требует. Лука Прокофьевич помялся, покряхтел.
— Да уж видно, что так, — сказал он, глядя куда-то в стену. — Люди вы хорошие, платите исправно, ничего не говорю… Но видно, что так и придется.
И поскорей пошел от коровника.
Дарья Никоновна и Иван Михайлович молчали. Дарья Никоновна села доить другую корову, а Иван Михайлович принялся развязывать кипу прессованного сена. Он раскрутил проволоку, развалил сено, и сразу по двору поплыл сладкий свежий запах, такой необычный на городском дворе. Соня сколько раз дышала этим запахом и думала: где же они росли, эти засохшие цветы?
Иван Михайлович пронес коровам охапку, уронил несколько светлых клочков в грязь. Обычно, открывая кипу, он шутил:
«Ох, и сенцо! Сам бы ел!»
А сегодня он молча носил коровам сено. Густые золотистые брови у него были нахмурены, на белом лбу появились морщинки, а в голубых глазах залегла забота.
Соня подметила эту заботу в отцовых глазах и еще больше встревожилась:
— Пап, а куда же нам уезжать? А коров куда?
— Найдем где-нибудь… — неохотно ответил отец.
— А куда — в чужой двор, да?
Отец качнул головой, усмехнулся:
— А разве у нас с тобой свой двор есть? Нам все дворы чужие.
Но Соня никак не могла представить, что этот двор, где она училась ходить, где она на земле рисовала своих барынь и домики, где играла с ребятишками и каталась зимой на санках, — вовсе не их двор, не свой двор. Как же это — не свой?
И как же это уехать куда-то к чужим людям, в чужой двор? Там ведь и ребятишки чужие, они будут бить Соню. И в квартире все будут чужие… А как же Анна Ивановна с Кузьмичом? А Дунечка, а художник?..
— Что ж поделаешь! — ответил на все это отец. — Все они так и будут жить, как жили. А нам съехать придется.
— Я не хочу съезжать! — сказала Соня и залилась слезами. — Не хочу я на чужой двор! Я боюсь! Я не хочу!
— Ну, ну, не глупи, — сурово сказала мама, — не твое это дело!
Соня замолчала, но горе ее не стало меньше. Она никак не могла себе представить, что все будут жить здесь, как жили, а они будут жить на чужом дворе, среди чужих людей. Это было и страшно и непонятно. Это все равно, если бы старый клен, который всегда здесь рос, вдруг взял бы да и пошел куда-то со своего двора. Как же это можно? Клен здесь вырос — да ведь и Соня здесь выросла!
Отец и мама стали прикидывать, куда идти искать квартиру. Квартир и комнат в Москве сдается сколько хочешь. Но где найти такую, чтобы и коровник был? Не всякий-то хозяин с коровами пустит. Нынче уже не любят держать во дворе скотину. Таких, как Лука Прокофьевич, не скоро найдешь — у него не только их коровы, вон и лошади стоят. Что ж теперь, Пуляя тоже выгонят, что ли?
Анна Ивановна выслушала все эти разговоры. Она слушала и кивала своей пушистой пепельно-русой головой с пучком на макушке. Она тоже опечалилась. Уже привыкли друг к другу, жить ей здесь нравилось — дружно, спокойно, просто… Как видно, придется на себя брать квартиру — ведь должен же кто-то быть квартирной хозяйкой! А этого Анне Ивановне совсем не хотелось. Тут и с жильцами надо ладить, и печку топить, и о дровах заботиться. А уж на что лучше ей жить за такой хозяйкой, как Дарья Никоновна!
— А вы вот что, — сказала Анна Ивановна. — Пойди-ка ты, Никоновна, к самой, Екатерине Михалне, поговори с ней. А в случае чего, посули накинуть рублика два за квартиру. Ведь этот старый с тем и пришел — попугать да поприжать. Да нетто он выгонит? Не выгонит. Куда он свои сараи-то девать будет? Кому они нужны? А вот постращает, да и согласится. Ей-богу!
Дарья Никоновна так и сделала: пошла к домовладелице.
Хозяева жили во флигеле, в самой лучшей квартире, на третьем этаже. На их подоконники, слетая с чердака, садились голуби. В одном из окон всегда горела красная лампада. Екатерину Михайловну люди во дворе видели лишь изредка, когда она по праздникам проходила в церковь. Это была полная, важная старуха. Из-под черной кружевной косынки белели седые волосы, расчесанные на прямой пробор. Карие глаза глядели строго, черное шелковое платье жестко шумело. У нее была толстая нижняя губа, и от этого ее лицо казалось презрительным, будто она ни с кем и знаться не хочет и даже смотреть ни на кого не желает.
Дарья Никоновна у хозяйки пробыла недолго, а вернулась будто и веселая, а вроде и огорченная.
— Оставить-то она оставила, да целую пятерку накинула. Сколько же это кружек молока, если по пяти-то копеек? Не сосчитаешь! Надоить столько каждый месяц — и то руки отсохнут.
Анна Ивановна сочувственно кивала головой. Отец задумчиво постукивал пальцами по столу и только повторял:
— Да-а… так оно. А что ж ты сделаешь? Вот оно как…
Только одна Соня по-настоящему обрадовалась. Они никуда отсюда не поедут, их с коровами не выгонят на чужой двор! Они останутся в своей квартире, с Дунечкой, и с Анной Ивановной, и с художником!.. И со всеми своими подругами Соня останется, и все будет по-прежнему!..
Соня вприпрыжку побежала во двор.
— А нас не выгонят! А нас не выгонят! — закричала она, увидев Лизку.
И, забывшись, побежала к Шуре сообщить ей радостную новость. Но взглянула на Шурины окна, увидела там незнакомые кружевные занавески и остановилась. Шуры-то ведь уже нет в их доме!
В школу
Соня с замиранием сердца думала о том дне, когда ей придется идти в школу. Очень страшно было идти одной. Шуры нет. Ольга пойдет на будущий год. А Лизку вообще в школу отдавать не собирались.
— А ты пойдем со мной — вот и все, — сказала ей Соня. — Моя мама нас проводит.
— А в чем мне идти-то? — ответила Лизка. — Платье вон разорванное. Чулок нету. И башмаки худые. Все дразниться будут.
«И правда, смеяться будут», — подумала Соня и больше не звала Лизку в школу.
Соня каждый день со страхом поглядывала на численник. Пока шли большие цифры. А скоро появится первое число — и она пойдет в школу.
Но прежде, оказывается, надо было записаться. Мама утром, управившись с коровами, приоделась, накинула на свои темные волосы черную косынку, надела короткий жакет на жесткой шелковой подкладке. Соне дала коричневое платье и велела обуться. Платье было ниже колен, башмаки велики, так что даже носок загибался кверху, но зато все было новое: платье топорщилось, башмаки блестели. На голову Соня надела белую пикейную панамку — мама сама ее сшила. И они отправились в школу.
Соня всю дорогу крепко держалась за мамину руку. Так было страшно в эту минуту вдруг оказаться без мамы!
Они прошли мимо дома Подтягина. Домовладелец Подтягин стоял на пороге своей лавочки в белом фартуке, из-под которого выглядывал засаленный пиджак. Всем ребятам во дворе он казался богачом. Свой дом! Своя лавка! А в лавке — целая бочка селедок, и мешки с орехами и подсолнухом, и большие жестяные банки с конфетами, и пряники, и крупа — ну что только хочешь! Но сам Подтягин будто не понимал, какой он счастливый и богатый. Ходил он понуро, одевался плохо и всегда грустно глядел на белый свет бледными голубыми, в красных веках глазами.
Мама поклонилась Подтягину, тот снял картуз и тоже поклонился.
— Мам, а почему Подтягин такой скучный? — спросила Соня. — Богатый, а скучный какой-то.
— От жадности, наверно, — негромко ответила мама. — Говорят, деньги копит, людей обсчитывает, а сам голодный сидит. Вот и скучный.
Прошли еще два-три дома. Начался сквозной забор, словно высокий палисадник. И там, за штакетником, Соня увидела веселый сад. Зеленые деревья, кустарники, цветы… Множество цветов — белых, розовых, лиловых! Они росли на грядках так густо, что ни земли, ни травы между ними не было видно. А дальше, за кустами, что-то блестело, будто огромные, мелко застекленные окна лежали на земле.
Соне вспомнились все ее бредни, когда она была совсем маленькой. Окна на земле — это, конечно, волшебное подземелье. Там, под землей, какие-то дома, а окна у них наверху… Интересно, кто же там живет?
Мама усмехнулась на это:
— И что это ты всегда придумаешь? Никакие это не окна. Это просто парники. Под этими стеклами садовники цветы выращивают.
Соне не хотелось уходить от этого забора. Но вспомнила о том, куда они с мамой идут, и снова крепко схватилась за ее руку.
Прошли еще два дома. Вот и школа. На воротах вывеска. Мама вслух прочла ее:
— Шестое Крестовское городское училище.
Соня тихо повторила ее слова и запомнила их сразу, — на всю жизнь: Шестое Крестовское городское училище.
В глубине двора стоял двухэтажный бревенчатый дом с большими окнами. Это и было Шестое Крестовское… Соня совсем прижалась к маме и мешала ей идти.
А в училище уже шли и другие девочки. Такие же маленькие, как Соня, и все они так же крепко держались за своих мам.
Соня с мамой вошли в училище, поднялись по деревянной, чисто промытой лестнице. Соня почувствовала, что здесь в школе как-то особенно пахнет. Такого запаха не было нигде, ни в одном доме. Это был какой-то свой, особенный запах — свежести, мела, бумаги или еще чего-то, запах школы. Соня сразу полюбила этот запах и тоже навсегда запомнила.
В светлой солнечной комнате, уставленной партами, сидела за столом учительница. Соня до того застеснялась, что опустила голову и не могла взглянуть учительнице в лицо. Она только видела черную юбку и руку в белоснежном рукаве, держащую перо.

Мама и учительница поздоровались. Соня услышала мягкий, приветливый голос.
— Как тебя зовут, девочка?
У Сони язык прилип к зубам и голос пропал.
— Ну, что же ты? — сказала мама. — Не знаешь, как тебя зовут?
Соня продолжала молчать.
— Ну-ка, погляди на меня, — сказала учительница и приподняла за подбородок Сонину голову. — Ну-ка, взгляни!
Соня взглянула. На нее смотрели теплые темно-карие глаза; они улыбались, успокаивали, согревали. Соня сразу решила, что красивее ее учительницы никого на свете нет. Лицо у нее было белое, без румянца, на подбородке ямочка; и волосы волнистые коричневые, на прямой пробор. Особенно понравилось Соне, что у учительницы на подбородке ямочка. Она еще никогда не видела ни у кого такой ямочки!
— Значит, как же тебя зовут? — спросила учительница.
— Соня Горюнова, — тихо ответила Соня.
— Ну, вот и хорошо! — Учительница взяла перо и записала в книгу ее имя и фамилию. — А меня зовут Елена Петровна. Вот мы и познакомились!
Соня стояла смущенная и счастливая. Она познакомилась со своей учительницей!
— А у вас красивый вид отсюда! — сказала мама.
Соня испуганно поглядела на нее: что же это как она разговаривает с Еленой Петровной? Как будто с Анной Ивановной или с Паней-прачкой! Ведь это же не какой-то обыкновенный человек, ведь это же учительница!
А Елена Петровна ответила просто, будто она была обыкновенный человек:
— Да, очень красивый! Это садоводство Карташева отсюда видно… — И обратилась к Соне: — Видишь, какой хороший у нас класс!
Соня шла из школы, будто именинница.
Скоро наступило и первое сентября. Соня с вечера приготовила свою школьную сумку. Только готовить-то особенно было нечего: положила в сумку новый желтенький пенал с карандашом, и все. Но зато пенал был красивый, с цветочками на крышке, а крышка выдвигалась и задвигалась.
В этот день Соня проснулась рано, на рассвете. Мамы и отца уже не было. В комнате еще стоял сумрак. Был тот самый час, в который все вещи живут без человека, по-своему, как хотят. Это тот час, когда ночь уже прошла, а утро еще не наступило. Соня лежала, не открывая глаз, и прислушивалась. Ей все казалось, что, когда тихо и люди спят, все вещи в комнате оживают, шевелятся и перешептываются украдкой. Она слышала какие-то неясные шорохи, шепоты… Вот-вот сейчас она что-нибудь подсмотрит, подслушает!
Соня тихонько открыла глаза — и все кончилось. И стол, и стулья, и платье, брошенное на стул, и шкаф, и подушки на большой маминой кровати — все они только что шевелились, шептались, о чем-то сговаривались. Но стоило Соне открыть глаза, как сразу они умолкли и притворились неподвижными. Соня нарочно не шевелилась, чтобы их обмануть, притворялась спящей, но уже ничего не получалось: они знали, что она не спит!
Окна постепенно светлели. Соня достала из-под подушки пачку листков от календаря. Она долго собирала эти листки, у нее много их набралось. Это были ее картинки. Если днем начнешь разглядывать эти картинки, то они совсем обыкновенные и неинтересные. Какие-то дома, города, машины, мосты… Картинки черные, нераскрашенные.
Но если эти картинки рассматривать в сумраке на рассвете, то они становятся совсем другими. Рисунки будто оживают, что-то в них меняется, что-то в них происходит, движется… Соня вглядывалась в них, ей было интересно и радостно: вот-вот она что-то и подглядела! Вот она что-то и увидела!
Вдруг в сердце словно ударило: да ведь ей сегодня в школу! А там будет полно чужих девочек… Как же Соня останется одна с ними, без своих подруг? Зачем только приехали эти противные молодые Прокофьевы! Сейчас Соня пошла бы в школу с Шурой… Может, уже встать и одеться? Да нет, еще очень рано.
Она снова попробовала рассматривать свои картинки. Но сумерки уже не сливались с картинками, чудеса не проглядывали…
А вот и мама пришла из коровника, и покупатели захлопали дверьми, и Кузьмич вышел в кухню умываться…
Мама налила молока покупателям и заглянула в комнату.
— Ты спишь? — окликнула она Соню. — Вставай. Пора.
Соня вскочила и начала торопливо одеваться. Ей уже казалось, что она непременно опоздает. И она так волновалась, что расплакалась.
— Вот те на! — удивленно сказал отец. — В школу не хочет!
— Я хочу! — поспешно возразила Соня. — Только скорей надо, мы опоздаем!
— Да что ты! — засмеялся отец. — Посмотри, сколько времени-то!
Соня посмотрела на часы с медным маятником и длинными гирями — и ничего не поняла. Она никак не могла научиться узнавать время.
— А мне-то как, бывало, в школу хотелось! — вздохнула мама. — Сколько раз просилась у тетки — не пустила.
Очень тяжелое детство было у Дарьи Никоновны. Она родилась в деревне, в большой семье. О родном доме остались смутные и мрачные воспоминания. Отец, крупный, угрюмый, чернобородый мужик, никогда не улыбался. Все в доме боялись одного его взгляда, а если постучит пальцем по столу, то и вовсе затихали, будто перед грозой. Тихой тенью ходила по избе мать. В избе полно ребят. Спали где попало — на лавках, на полу, на печке, на полатях. Кто где свернулся, там и уснул. Дарья Никоновна до сих пор помнит запах овчины на душных полатях, шорох тараканов на темном дощатом потолке… И только одно светлое лицо — мать. Красавица сероглазая, с длинной черной косой, статная, сильная, веселая. Пела так, что за три версты был ее голос слышен. Как праздник — так запела Марфа Колоскова. А как запела — так и бита была. Не любил отец, чтобы народ ею любовался. А бил он ее своими пудовыми кулаками без разбору, куда попало. И вся деревня веселилась: «Гляди-ка! Опять Никон свою Марфу бьет!»
И никому в голову не приходило вступиться за Марфу. Ведь ее муж бьет, не чужой. А муж имел право «учить» свою жену, и жена должна была терпеть. Так и в писании было сказано: «Жена да убоится мужа».
Дети росли без призору, как трава. Подрастали — уходили в люди. Ребята — в пастухи, девчонки — в работницы. Сравнялось Дашонке семь лет — ее также отправили в люди, в Москву, к тетке помогать по хозяйству. Мать в это время лежала тяжело больная. В последний раз на празднике Ильина дня отец так избил ее, что она и не встала больше. Шли они из гостей, из другой деревни, полем и лесом, — вот там он ее и бил, рвал ее длинные косы, топтал ее сапогами… Привезли оттуда Марфу замертво.
Как разрывалось у маленькой Дашонки сердце, когда она прощалась с матерью! Как она плакала, как просила не отправлять ее из дома, к сердитой тетке!.. Но кто же ее слушал? Мать только лежала и молча утирала слезы. Не могла она ни встать, ни защитить Дашу. Смерть стояла у ее изголовья.
Тетка Устинья, сухощавая, горбоносая, как молодая хищная птица, не щадила Дашонку. Тетка Устинья держала коров. И с семи лет впряглась Дашонка в тяжелую работу — чистила коровник, таскала коровам воду. Она была маленькая, худенькая, а руки от тяжелых ведер у нее стали длинные… И все, кто смотрел на нее, качали головами и говорили, что Даша останется карлицей, никогда не вырастет, тяжелые ведра так и пригнут ее к самой земле… А она все ждала, все надеялась, что мать выздоровеет и опять возьмет ее домой, в деревню.
Острой болью запомнился один зимний день. Дашонка качала на колодце воду в свои бадейки. Вдруг видит — идет от ворот по двору ее старшая сестра Дуняша, идет печальная, понурив голову. А как подняла голову, увидела Дашу, так и залилась слезами. У Даши и бадейка из рук — сразу поняла: умерла мать… Обнялись они тут же, среди двора, и обе заплакали в голос…
Дарье Никоновне вспомнилось все это сейчас. Она разливала чай, а на лице у нее лежала грустная тень. Соня сразу догадалась, о чем вспомнила мама, — она слышала мамины рассказы о ее детстве, о страшном своем дедушке, о красивой бабушке, которую дедушка «заколотил в землю»…
— Если бы мне тогда сказали: «Иди в школу», — продолжала мама, — я бы тут — их, ты! Бегом побежала бы!
Соня не отказывалась идти в школу, ей было интересно и хотелось снова увидеть свою учительницу Елену Петровну. Только пусть мама проводит — она боится одна.
И мама опять пошла с Соней в школу. В этот день было тепло и солнечно и во дворе школы толпилось очень много девочек, почти все в коричневых платьях. Но были и в серых коленкоровых, с черными фартуками. После Соня узнала, что это «приютские», девочки сироты, жившие в приюте на Старой Божедомке.
Мама держала Соню за руку до самой последней минуты, до тех пор, пока девочек не увели в классы.
В классе Соня стояла среди других маленьких учениц и не знала, что делать. Девочки побойчее знакомились друг с другом, разбивались на пары. Елена Петровна подозвала Соню к себе:
— А ты с кем хочешь сидеть?
Соня даже слегка покраснела от радости: Елена Петровна обратилась к ней!
— Я не знаю, — ответила она и совсем смутилась.
Елена Петровна подвела к ней хорошенькую, чисто умытую девочку с ямочками на щеках, с тугими толстыми косами, завязанными большими бантами.
— Хотите сидеть вместе?
— Хотим, — сказала девочка.
И они уселись на третью парту прямо против стола учительницы.
Девочка сейчас же нагнулась к Соне:
— Тебя как зовут?
— Соня Горюнова.
— А меня Лида Брызгалова.
Лида понравилась Соне. И фамилия ее понравилась. Только она немного побаивалась и стеснялась новой подруги.
Вспомнилась Шура — как бы хорошо им было сидеть вместе на одной парте! Но задумываться было некогда. Множество впечатлений слегка оглушило Соню. Маленькие события непрерывно текли одно за другим. То надо было ответить, какие она знает буквы, то рассмотреть новенькую тетрадку, которую положила ей на парту учительница, то научиться закрывать и открывать парту так, чтобы она не стучала…
Потом зазвенел звонок. Надо было выйти в коридор на перемену. Открылись двери всех классов, и в коридоре сразу стало тесно. Тогда Елена Петровна собрала свой первый класс, поставила девочек в круг и стала играть с ними в «кошки-мышки». Девочки бегали, смеялись, визжали… Соня тоже развеселилась. Когда их отпустят из школы, она придет домой, в свой двор, и научит ребят играть в «кошки-мышки»… Только вот как она пойдет домой одна?
Но оказалось, Лиде Брызгаловой идти в ту же сторону, что и Соне. У школьных ворот Лиду встретила девушка в платочке и белом переднике. Это Лидина мама прислала горничную встретить Лиду. И они втроем дошли до Сониных ворот.
— Смотри-ка! — сказала весело Лида. — У них на воротах кувшинчик нарисован! Зачем это?
— Это наш кувшинчик, — ответила Соня.
— Ваш? А зачем вы его повесили?
— Потому что мои папа с мамой молочники. У нас есть коровы…
— Молочники-и… — протянула Лида и выпятила нижнюю губу. — А нам тоже одна молочница носит молоко. А вы тоже носите?
— Кому мама носит, а другие сами приходят.
Соня еще раз посмотрела на коричневый кувшинчик, нарисованный на голубой дощечке. Какой он хорошенький и даже блестит, будто настоящий.
— Пойдем! — сказала Лида и потянула за руку девушку-прислугу.
Та оглянулась по сторонам — не идет ли трамвай? — и они обе побежали через дорогу.
В этот день Соня до самого вечера рассказывала всем, что было в школе, как надо играть в «кошки-мышки» и какая красивая девочка-соседка сидит с ней за одной партой. Втайне Соню неприятно удивляло, что Лида ушла не простившись. Почему? На что она обиделась? Но говорить об этом Соне ни с кем не хотелось, это было занозинкой в ее радостях первого школьного дня.
А об Елене Петровне она даже не решалась рассказывать. Учительница Елена Петровна была для нее существом высшим, которое можно только любить, безусловно слушаться и на которое можно любоваться украдкой.
Когда Елена Петровна в конце перемены взяла стул и уселась в коридоре, то Соня тихонько стояла сзади, у самой спинки ее стула. Она глядела на завитки ее волос, на белоснежную кофточку, дышала свежим запахом ее духов — и была очень счастлива!
Раздор в квартире
Увлеченная школой и множеством новых впечатлений, Соня не особенно прислушивалась к разговорам в квартире. А разговоры сегодня опять были какие-то тревожные, наполовину непонятные. Художник Никита Гаврилович почти не работал, он то выходил из своей комнаты; то уходил и закрывался, а потом снова выходил. Бледное лицо его было словно озарено внутренним светом, глаза блестели. А отец сидел в кухне на сундуке, понуро опустив голову.
Соня рассказала все, что могла, о школе и села разглядывать букварь, который сегодня дала ей Елена Петровна. Но глаза глядели в букварь, а уши, помимо воли, прислушивались к разговорам.
— Этот человек — герой! — слышался в кухне возбужденный голос художника. — Придет время — таким людям будут памятники ставить!
— Герой-то он герой, — негромко отвечал отец, — да к чему оно, его геройство-то?
— Как же — к чему? Разве не понимаете вы, что он Россию от злодея избавил! Ведь Столыпин, как тяжелый камень, давил каждое светлое начинание, каждое движение в защиту трудового народа! Все задушил, все тюрьмы переполнил лучшими людьми нашего общества! И вот — нет его! Сброшен! Убит!
— Да еще не убит. Гляди, отдышится.
— Столыпин-то, может, и отдышится, — грустно сказала мама, — а уж этому молодому человеку, который стрелял, в живых не быть.
— А я так думаю, что все это по глупости, по молодости, — отозвалась из своей комнаты Анна Ивановна. — Сидел бы дома — цел был бы. Не знал, на что шел.
— Нет, он знал, на что шел! — закричал Никита Гаврилович. — Знал, и за что жизнь отдавал. За нас он жизнь отдавал, за наше счастье, за то, чтоб нам всем, кто трудится, легче дышалось на земле! Пусть его те проклинают, кому дороги эти устои господ и рабов, для кого богатство и деньги — самое великое божество, кто презирает труд и, не трудясь, захватывает все лучшее на земле! А мы его имя должны поднимать как знамя!
— Так-то оно все так, — задумчиво возразил отец, — да ведь будет ли толк? Нынче Столыпина убили, а завтра на его место такой же Столыпин сядет. Да, может, еще и позлее. Вот и выходит — за что же человек свою молодую жизнь отдал?
К вечеру эти разговоры утихли. Мама всех просила:
— Помолчите вы, пожалуйста! Иван, прошу тебя, придержи ты язык. Скоро Сергей Васильич придет — а вдруг какое слово и подслушает? Накличете беду!
Но Сергей Васильевич едва вошел в квартиру, как тотчас и начал о том, что случилось сегодня в России.
— Слыхали, а? Слыхали, какое злодейство-то в Киеве случилось? Убили! Какого человека-то убили — статс-секретаря, председателя совета министров, господина Столыпина! А? До чего дошли мерзавцы! В самого господина Столыпина стрелять!
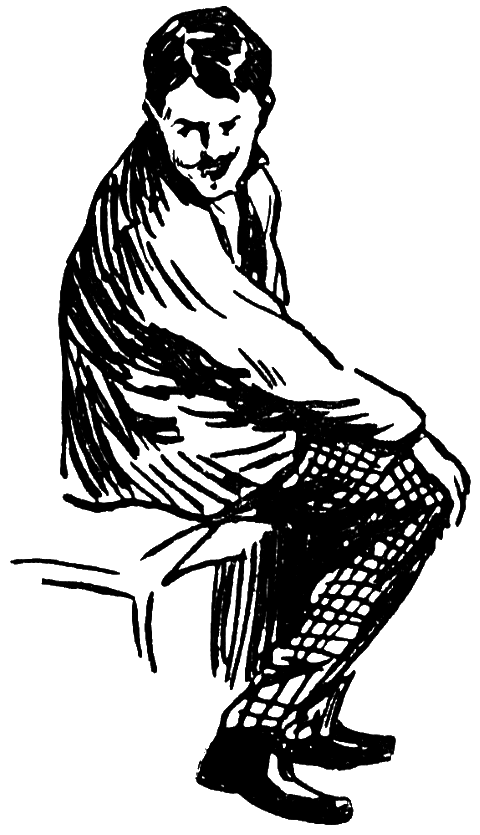
Художник, с красными пятнами на щеках, с горящими глазами, выскочил было из своей комнаты, но Дарья Никоновна тут же подошла к нему и решительно сказала, коснувшись рукой его плеча:
— Зачем вы встали, Никита Гаврилыч? Вы больны, вам лежать надо. Идите, идите, ложитесь, а я вам сейчас чаю горячего принесу.
Художник молча взглянул на нее, нахмурился и почти убежал из кухни. Слышно было, как защелкнулся крючок на его двери.
Сергей Васильевич еще долго бушевал.
— И ничего-то не боятся подлецы, а? Да крикнули бы меня: «Иди, Сергей Васильич, расправься с бунтовщиком с этим, посягнувшим на законную царскую власть!» Уж я бы расправился, уж я бы ему показал! Такого человека убил! А?
— Да, может, еще и не убил, — сказал отец, — может, обойдется. А уж с этим… как его там… Богров, что ли?.. с этим-то бедолагой и без вас расправятся.
— Ишь ты — бедолага! — еще больше рассердился Сергей Васильевич. — Пожалел, значит! Он в людей стреляет, а вам его жаль!
— Так ведь и Столыпин в людей стрелял…
— Иван, сходил бы ты завтра за сеном, — вмешалась Дарья Никоновна, — сена мало осталось. И жмых кончается. С каких пор собираешься на Сенную! Доведешь, что и коровам дать будет нечего.
— Ладно, схожу.
— Зубы-то не заговаривайте! — Сергей Васильевич ехидно прищурился в сторону Дарьи Никоновны. — Вижу я ваши маневры. Мы в пятом году таких молодчиков из пушек расстреливали! А тех, кто жалел их да прятал, — в Бутырки. Чтобы знали, против кого идут!
Все в квартире молчали. Дунечка попробовала отозвать Сергея Васильевича в сбою комнату, но он только отмахнулся. Он уселся на стул в комнате Ивана Михайловича и продолжал высказываться, намекая на свою темную и страшную силу.
— Мы, бывало, курсисток этих нагайками! Тоже лезут в политику. Раненых, вишь, прямо из-под пуль тащат, перевязывать их надо, спасать. А зачем перевязывать, если они против царя идут? Одну, помню, поймали, отхлестали как следует. Да еще я разок кулаком добавил. Вроде и ударил слегка, а слышу — хрустнуло. После слышал — два ребра сломал…
— Эко ты, одолел! — не выдержал Иван Михайлович.
Дарья Никоновна молча прибиралась в кухне. Казалось, она не знала, куда деться от этого разговора, от этого наглого голоса, которого она уже не могла слышать.
Неожиданно все это прервал молчавший до сих пор Кузьмич. Он вышел из своей комнаты и стал у притолоки — высокий, широкоплечий, с мрачными глазами.
— Дай людям покой, Сергей Васильич, — сказал он, — тут ведь все день-деньской не гуляли, работали. И ребенку вон спать пора, — он кивнул на Соню. — Ей ведь завтра в школу.
— Да и слушать-то тебя не больно антиресно! — вдруг подхватила Анна Ивановна. — Есть чем хвастаться — девчонке ребра переломал! Справился!
— Справился! — вскочил Сергей Васильевич. — И с вами со всеми справлюсь!
Он было подлетел к Кузьмичу, но, встретившись глазами с его суровым темным взглядом, вдруг как-то осел, пробормотал что-то невнятное, повернулся и быстрыми шагами ушел в свою комнату.
Дарья Никоновна присела в кухне на сундуке. Ей не хотелось идти в свою комнату, в которой еще плавал дым от папироски Сергея Васильевича. Ведь этот человек был там, совсем рядом, за тонкой стеной, он каждую минуту мог снова появиться из-за своей двери. Соня, испуганная, расстроенная, стояла около мамы, прижавшись к ее колену.
Анна Ивановна тихонько подошла и присела рядом.
— Во какая падаль! — прошептала она. — Тут мне как-то Домна Демьяновна рассказала — хвалился он во дворе, что от полиции награда у него за пятый год. На погромы ходил. Соберет, говорит, дворников разных, которые поозорней, да пьяницу-ломового, вроде нашего Пуляя, и вот идут по квартирам. Сначала на дверях кресты ставили, замечали, кого громить. А потом громить ходили. Вот он какой, обмылок-то этот!
— И откуда бывает столько злобы в человеке? — также шепотом сказала Дарья Никоновна. — Ведь и сам-то не из дворян — из таких же мужиков. За что же такая злоба против своего-то брата?
— А потому что хамской породы, — ответила Анна Ивановна. — Такие-то на что хочешь пойдут, лишь бы его тоже за человека посчитали. А какой же это человек? Все равно обмылок.
На улице дождь
У Сони началась жизнь, полная забот. Она просыпалась очень рано, боясь опоздать в школу. Лишь мама приходила из коровника, зажигала в кухне маленькую семилинейную, синего стекла лампу и тусклый желтый свет прокрадывался в дремлющую комнату, Соня открывала глаза. И так лежала с открытыми глазами, пока не наступит время вставать.
Потом она спешила в школу. Она всегда бежала бегом, размахивая сумкой. Хоть мама и говорила, что еще рано, но вдруг все-таки опоздаешь? У Сони душа замирала при одной этой мысли. Одна девочка, Вера Лукошкина, опоздала — пришла, когда уже все сидели за партами. Вот ей было страшно-то, вот неловко! Она входит, а все на нее смотрят! И Елена Петровна качает головой: «Ай-я-яй! Какая неаккуратная!»
Нет уж, лучше Соня встанет пораньше, но только не входить в класс, когда уже все сидят на партах, чтобы все на тебя смотрели и чтобы Елена Петровна качала головой!
Урок всегда начинался с молитвы. Учитель «закона божьего», дьякон, которого все звали батюшкой, научил девочек петь молитву. И как-то незаметно установилось так: раздается звонок в коридоре, девочки идут на свои места и начинают хором петь молитву. И, только отзвучат последние слова, в класс входит Елена Петровна.
Входила она, как солнышко — ясная, веселая, свежая. Темные глаза ее внимательно оглядывали учениц и словно сразу согревали их. А ученицы дружно, хором радостно кричали:
«Здравствуйте, Елена Петровна!»
Словно не виделись с ней неизвестно сколько времени. Соня была счастлива, если встречала взгляд теплых коричневых глаз своей учительницы, была счастлива, если учительница замечала худенькую, невзрачную свою ученицу или обращалась к ней с каким-нибудь словом.
Однажды Елена Петровна вызвала Соню к доске. И, пока Соня писала мелом буквы, учительница задумчиво глядела на нее.
«Какая же ты худенькая, бледненькая… — сказала она и, взяв Соню за плечи, выпрямила их. — Вот так ходи, не горбись. Рыбьим жиром надо вас, таких вот, поить».
Через несколько дней, во время большой перемены, Елена Петровна внесла в класс бутылочку с рыбьим жиром и тарелку с ломтиками черного хлеба, густо посыпанного солью.
— С нынешнего дня будете пить рыбий жир, — сказала она.
— Я не буду, — крикнула Лида Брызгалова.
— Ты не будешь, — согласилась Елена Петровна, — тебе это не нужно. А вот Соне Горюновой нужно. Саше Смирновой нужно. Марусе Воробьевой…
Елена Петровна назвала еще несколько имен.
— Подойдите ко мне, девочки, а остальные — на перемену!
Соня робко вместе с другими девочками подошла к столу учительницы. Елена Петровна налила в столовую ложку нестерпимо желтого и густого рыбьего жира.
— Берн хлеба.
Соня взяла посоленный кусочек.
— Выпей и сразу заешь хлебом.
Соня не знала, как ей проглотить эту ложку жира, как справиться со своим отвращением. Все внутренности вопили в ней: не хочу! Не могу!
Но Соня не смела возразить Елене Петровне. Если Елена Петровна говорит «выпей», значит, надо выпить. И Соня проглотила рыбий жир и тут же заела хлебом. Так же покорно глотали жир и другие девочки — все самые худенькие, самые бледные, которых Елена Петровна отобрала из своего класса. Морщились, ежились, но ни одна не протестовала. Раз велит их учительница Елена Петровна, значит, надо.
И так это и осталось: звонок на большую перемену — значит, подходи к столу и глотай рыбий жир! Хочешь или не хочешь, можешь или не можешь, а глотай — и все тут!
Соня еще была невелика и не понимала, что учительница заставляет их каждый день глотать рыбий жир вовсе не потому, что так положено и что она выполняет какие-то правила. Правил таких не было. Кто задумывался над тем, что дети бедноты круглый год живут в городе, в своем дворе, со всех сторон обнесенном заборами, и растут бледными и малокровными, как слабые побеги? Кто интересовался тем, как они живут дома, что едят, где спят, как проводят свободное время? Важно было, чтобы ученик пришел в школу вовремя, чтобы он учил уроки и чтобы вовремя ушел из школы, а все остальное никого не касалось.
«Во всяком случае, школы это не касается, — утверждала заведующая школой, толстая, угрюмая Евдокия Алексеевна. — Наша задача — научить грамоте. Вот и все. Все!»
И она прихлопывала по столу своей тяжелой рукой, будто желая прихлопнуть также и все возражения.
Но Евдокии Алексеевне не повезло с учительницами. Они все время что-нибудь придумывали. То они завели библиотечки для учениц. Поставили в каждом классе по шкафу, насобирали где-то у знакомых детских книг, подкупили еще на свои деньги — и вот вам!.. У них уже выдаются книги, и в каждом классе свой дежурный — девочка-библиотекарь. И зачинщица этому, конечно, Елена Петровна!
То они придумали горячие завтраки в школе. К чему это? Зачем эти лишние хлопоты? Ведь их никто не заставляет кормить завтраками учеников, нет таких правил для начальных городских училищ. Так ведь сделали по-своему. Отремонтировали школьный полуподвал, соорудили там печку с котлом, поставили длинные столы и скамейки. И вот пожалуйста! — девчонки каждый день завтракают: то им суп варят, то кашу. Правда, не бесплатно, школа берет по три копейки с человека. Но хлопот сколько! И к чему это? К чему, если в правилах это нигде не написано?
Конечно, и в этой затее больше всех старалась Елена Петровна. Этому человеку нет покоя. Недаром, говорят, что она в смуте пятого года была замешана и даже, говорят, ее городовые били — еле убежала… Знать бы Евдокии Алексеевне все это доподлинно, уж она бы допекла Елену Петровну.
А теперь вот опять же эта Елена Петровна придумала поить девчонок рыбьим жиром. Конечно, и другие учительницы за ней потянутся. Да еще совет какой-то школьный организовать хотят. Этого не хватало! Тогда у заведующей школой уже совсем никакой власти не останется!
Евдокия Алексеевна как услышала об этом совете, так даже ногами затопала от ярости. До хрипоты кричала на учительниц, но все без толку. Ах, слишком добра, слишком мягка их попечительница госпожа Катуар! Вместо того чтобы притопнуть на них да цыкнуть как следует, она выслушивает их и даже соглашается:
«Если вам это нравится — организуйте. Только, пожалуйста, в пределах благоразумия».
А где кончаются эти пределы для таких, как Елена Петровна? И чем она так пленила госпожу Катуар? Ведь ей же известно, что Елена Петровна даже на молитве в своем классе не бывает! Вслед за ней и другие учительницы не стали на молитву ходить. А госпожа Катуар будто и не слышит, когда Евдокия Алексеевна докладывает ей об этом. Но, может, госпоже Катуар просто не хочется спорить и расстраиваться? Да, видно, это так. Зачем нужно богатой барыне беспокоиться? Была бы слава, что она попечительница!..
Соня ничего этого не знала. Как она могла себе представить, что на их Елену Петровну кто-то может кричать да еще топать ногами? И как она могла подумать, что кто-то ненавидит ее учительницу? Это ее-то Елену Петровну, самую умную, самую добрую, самую красивую на свете!
Но скоро Соне пришлось убедиться, что не всем такой кажется Елена Петровна. Совсем иначе глядела на их учительницу Лида Брызгалова.
Как-то на уроке Елена Петровна спросила, все ли выучили заданные стихи.
Лида Брызгалова тотчас подняла руку:
— Я хорошо выучила!
Лида бойко начала читать стихи. Потом вдруг запнулась, все спутала, но не замолчала, а продолжала лепетать что попало.
— Довольно, — сказала Елена Петровна. — Плохо.
— Почему плохо? — удивилась Лида. — Я же ответила!
В этот день Лиде вообще не повезло. Елена Петровна прочитала рассказ и велела пересказать своими словами. Лида вышла к доске и начала пересказывать. Но чем дальше, тем больше весь класс удивлялся ее рассказу. Елена Петровна прочла, как охотник возвращался с охоты и шел по аллее сада, а потом повстречал воробья. А Лида рассказывала и про воробья, и про гусей, и про лягушку, которую утки взяли с собой в теплые страны…
— Садись, Лида, — сказала ей Елена Петровна. — Очень плохо.
И Лида опять удивилась:
— А ведь я отвечала! Все время говорила!
Девочки засмеялись. А Лида, обиженная, села за парту.
В этот день они с Соней поссорились. Они вместе вышли из школы. На улице лил беспросветный осенний дождь. Лида надела плащик с капюшоном, который принесла ей девушка-горничная. А Соня подняла воротник пальто и потуже завязала капор. Капор у нее был темный, простенький — мама сама сшила его.
— У нас плохая учительница, — сказала Лида, — все время придирается.
Соня вспыхнула и обиделась до слез:
— Нет, хорошая! Нет, хорошая! Лучше всех!
Лида с удивлением посмотрела на нее. Потом вдруг повернулась к горничной и капризно сказала:
— Переведи меня на ту сторону! Я не хочу с ней идти. У нее мать — коровница!
Соне показалось, что ее ударили. Она остановилась и молча смотрела, как Лида и горничная, ступая через лужи, переходят на ту сторону. А дождь все шел, косой, мелкий. И Соне казалось, что он тонкими черточками зачеркивал ее новую подругу.

Домой она пришла расстроенная. Мама встревожилась:
— Мальчишки отколотили, что ли? Или от учительницы попало? Неужели в классе баловалась?
Соня все рассказала про Лиду. Мама сразу нахмурилась, приподняла подбородок — «надула губы», как говорил про нее в таких случаях отец.
— Коровница тоже человек. (Уж в который раз говорит это мама!) А если у Лиды отец домовладелец, то пусть и подруг себе ищет подходящих.
Соня заробела.
— Отец у Лиды домовладелец?
— А как же? Шесть флигелей в Тополевом переулке — все его, Брызгалова.
Соня знала эти дома. Они стояли около самой свалки, все одинаковые, бревенчатые, с красными крышами, с резными наличниками и маленькими навесами над дверями. И все это Лидины дома!
И сразу Лида Брызгалова показалась Соне совсем чужой и далекой девочкой. Они никогда не будут дружить, не будут ходить домой друг к другу. Соня никогда не захочет, чтобы Лида пришла к ней и увидела, что у них только одна комната, да и та проходная, а к Лиде, в ее «собственный дом», Соня тоже никогда не пойдет. И в первый раз Соня с тяжелым сердцем подумала, что завтра надо опять идти в школу и сидеть на одной парте с Лидой Брызгаловой.
На улице все шел и шел дождь. Соня глядела в окно от скуки. Проходили со звоном мокрые трамваи, от струек дождя на стекле они казались полосатыми. Торопливо проходил какой-нибудь прохожий под большим черным зонтом…
Что делать? Чем заняться? Накинуть пальто, пробежать к Лизке? Но там сейчас темнее, чем всегда, гуще, чем всегда, духота и тяжелый запах кожи — сидят, закрыв дверь и окна. И разговаривать там можно только шепотом, потому что Лизкин угрюмый отец тут же сидит на своей «липке»… Забраться наверх, к Оле с Тоськой? Игрушек у них нет, но зато бойкая, говорливая Оля умеет придумывать всякие игры. То навертит из лоскутков кукол и разговаривает за них разными голосами. То устроит море в оловянной миске и пускает по воде корабли — пустые ореховые скорлупки. То начинает придумывать какие-то песенки и подруг заставляет придумывать. Пойти к Оле? Но Олина мать всегда бывает недовольна, когда приходят к ним. Она сидит с утра до вечера за швейной машиной, придвинув ее к окну. Около нее лежит белый бельевой материал — к этой белизне и подступиться нельзя. А комнатка такая маленькая, что приткнуться поиграть негде!.. Кроме того, к Оле приходить довольно опасно. Редко игры с нею кончаются без ссоры. Чуть что не понравится Оле, тут же и ссора, а то и драка…
В квартире было тихо. Сергей Васильевич и Дунечка на работе. Художник ушел куда-то, надвинув шляпу. Отец и мама в коровнике. Лишь одна Анна Ивановна сидела у себя и клеила свои листочки.
Соне попался на глаза кусок синей оберточной бумаги, забытый на столе. Она расправила его, взяла карандаш и принялась рисовать. Нарисовала пролетку с лошадью и в пролетке барыню. Потом опять пролетку, но барыня уже слезла и идет к высоким полукруглым воротам. А дальше эта барыня вошла в комнату. Тут стоял стол, такой же, как у Шуры, и диван с круглыми валиками, как у домовладельцев Прокофьевых…
Хотелось нарисовать очень богатую комнату. Но что же еще бывает в богатых комнатах? Соня подумала и нарисовала граммофон с большой трубой. Граммофон был у Кузьмича, но он весь год стоял где-то в углу, тщательно завернутый в толстую бумагу и в газеты. Так же аккуратно завернутая и перевязанная веревочками, висела на стене красная граммофонная труба. Кузьмич доставал граммофон только в большие праздники, развертывал его, заводил, ставил все пластинки, какие у него были, а потом снова старательно завертывал во множество газет и
убирал.
Труба у Сони не получилась, она забыла, как эта труба устроена. С карандашом в руке Соня пошла к Анне Ивановне посмотреть на висящую на стене трубу. Анна Ивановна, не переставая клеить, поглядела на Соню своими небольшими, орехового цвета глазами.
— Что бродишь? — сказала она. — Скучно? Садись, посиди со мной. И мне повеселей.
Соня уселась за стол. На столе лежал легкий ворох глянцевитых бумажных листьев. Тут были длинненькие листочки, и лапчатые, и узорчатые, и круглые. Анна Ивановна привычными движениями набирала в руку пачку одинаковых листьев, брала горстку обернутых в зеленую бумажку проволочных стебельков, обмакивала их в клейстер и один за другим приклеивала стебельки к листьям. Это она делала очень быстро, листья уже со стебельками так и летели на край стола.
Соня разглядывала листья, перебирала их.
— Это от какого дерева, длинненький такой?
— Это — ива.
— А этот?
— Этот дубовый. Видишь, краешки вырезанные?
— А дуб — он какой?
— Дуб — он большой.
— А какой большой? С дом?
— Может, и с дом.
— Анна Ивановна, а вот этот листок — что?
Но Анна Ивановна и сама не знала. Мало ли их, деревьев!
Соня, глядя на Анну Ивановну, тоже принялась подбирать листочек к листочку и класть стопочкой. Но Анна Ивановна так быстро клеила, что Соня никак не успевала приготовить ей запас.
— Что же ты? — сказала Анна Ивановна. — Поспевай!
— А я ведь не умею скоро, — ответила Соня.
— «Не умею»! Я вот тоже такая, как ты, пришла к хозяйке работать. Бывалоча, сидишь, сидишь над этими листочками! Устанешь до страсти, да и задремлешь. Тут хозяйка подойдет — раз по затылку! Вот и проснешься. Хозяйке-то не скажешь «не умею». То подзатыльник, а то и розга — вот и сумеешь!
— А почему же за вас мама не заступалась?
— Мама! А где она у меня, мама-то? Нет ее и не было никогда.
Соня с удивлением подняла на нее глаза:
— Как же не было? Когда-нибудь же была?
— Да вот никогда и не было. Шпитонок я.
— Шпитонок?
— Ну да. В Воспитательном доме росла.
— В каком Воспитательном?
Соня уже совсем забыла про листочки. Она сидела, подпершись обеими руками. А Анна Ивановна рассказывала.
Воспитательный дом — это такой дом, куда брали круглых сирот. Анна Ивановна не знала своих родителей, мать родила ее, принесла ночью к этому дому, да и положила на крыльцо. Утром дворник увидел маленького ребеночка, постучал в двери. Оттуда вышли и взяли его. Там и воспитывали девочку совсем чужие люди.
Как сквозь сон помнит Анна Ивановна голые стены однообразных комнат и длинные мрачные коридоры. Такие длинные, что если уйдешь из комнаты в этот коридор, то и заблудишься, потому что все комнаты и все коридоры одинаковые. По сторонам всё двери, двери, и у потолка всегда сумрак. Свет проникал в такой коридор только из окна, которое светилось где-то далеко-далеко в самом его конце…
Тут рассказ Анны Ивановны оборвался. Пришла мама из коровника. Пришли покупатели за парным молоком. Соня снова взялась подбирать листики по сортам и по размерам.
Мама налила молока покупателям и заглянула в комнату:
— У вас, никак, помощница появилась?
— А как же? — сказала Анна Ивановна. — Пожалуй, придется жалованье платить!
— Мне не надо жалованья, — живо сказала Соня.
Она вспомнила про хозяйские подзатыльники, тихонько сползла со стула и убежала в свою комнату. И не поняла, почему это мама и Анна Ивановна ей вслед засмеялись.
Вечером, когда жильцы улеглись спать и закрыли двери, Соня спросила у мамы:
— А что такое «шпитонок»?
— Ну, это значит воспитанник, — сказала мама, разбирая постель, — который в Воспитательном доме воспитывается.
— А почему Анну Ивановну ее мама бросила?
— Значит, не могла ее вырастить. Наверное, очень бедная была.
— А если бы вы с папой были бедные, вы бы меня тоже бросили?
Соня со страхом ждала ответа. Темные длинные коридоры, в которых как пойдешь, так и заблудишься, стояли у нее перед глазами…
Мама ответила сердито:
— Не выдумывай! Как это так тебя бросили бы? Спи лучше!
— Разве только от бедности детей бросают? — вдруг вступил в разговор отец. — От позора тоже бросают. Люди со свету сживут, запозорят, заплюют глаза матери. Вот она и бросает, чтобы люди не затоптали ее вместе с ребенком.
— Почему заплюют? — Соня приподнялась на подушке.
— Потому что с мужем не повенчалась, а ребенка родила. Вот уж и позор, хоть живая в могилу лезь. Это попы такую моду установили — соблюдай, что велят. Если нынче один не повенчается, завтра другой… А там, глядишь, и на исповедь не будут ходить или праздники соблюдать — доходы-то и пошатнутся. Вот и твердят: закон божий, закон божий! А уж через этот божий закон сколько же, другой раз, людям слез! Моря и реки!
— Хватит глаголить! — строго сказала мама. — Спи, Соня, рано еще тебе про все это рассуждать… А ты-то что, — обратилась она к отцу, — что ты ей голову забиваешь?
— Да ведь я не ей… — отец немного смутился, — я ведь так, к слову.
А у Сони уже крутились в голове всякие мысли. Вспомнился священник церкви Ивана-Воина. Солнце светит, отец стоит на зеленом бугре, а этот священник — осанистый, важный, волосы по плечам — стыдит и отчитывает ее отца за то, что он нарвал коровам травы на церковном дворе. «Ты не у меня украл, ты у бога украл!» А отец твердит, понурив голову: «Простите, батюшка! Виноват, батюшка!»
А на что богу трава?
Вот и детей от бедности бросают. Бедные, богатые… Потому и Лида Брызгалова сегодня отвернулась от нее, даже спорить не стала. Она богатая, у нее отец домовладелец. А у Сони отец бедный. Потому Лида и не хочет с ней водиться, у Сони мать — коровница…
Но пусть Лида богатая! Все равно она не смеет бранить Елену Петровну!
Первая книга
Соня сама не заметила, как научилась читать. Слова вдруг выстроились в букваре ясные, отчетливые, понятные. Соня будто прозрела, она увидела не только буквы и слова, но и целые рассказики, которые получались из этих слов. Но ей казалось, что она понимает только то, что в букваре. А если взять другую книгу, то и не поймешь ничего.
Однажды, после того как прозвенел последний звонок, Елена Петровна неожиданно задержала класс. Она достала из шкафа стопку книг и положила на стол:
— Вот, девочки, здесь всякие сказки и рассказы. Вам надо привыкать читать книги. Подходите ко мне по одной — я вам дам по книге, будете читать дома. А потом расскажете мне, что прочли.
Когда Соня подошла к столу, Елена Петровна спросила:
— Тебе что дать — стихи, рассказы или сказку?
— Сказку! — сразу ответила Соня.
С заблестевшими глазами она бережно приняла из рук учительницы книгу с картинкой на обложке. На ней крупными буквами было написано: «Хромая уточка», и Соня с радостью поняла, что хоть это и не букварь, а все-таки она прочитала заглавие, сумела! Значит, сумеет и книгу прочитать.
«Жили-были дед да баба. У них не было детей…» Соня с жадным интересом читала сказку, разглядывала картинки. Картинок было много, на каждой странице. Соня читала не отрываясь, ей очень хотелось узнать, что случится дальше. Буквы на страницах стояли крупные, и от этого даже сами слова казались какими-то крупными. Соня терпеливо подбирала их одно за другим — и вот из этих букв и слов начала складываться хорошая сказка!
«…Ушли дед и баба в лес за грибами, а хромая уточка вылезла из гнезда и превратилась в девушку. Она печку истопила, хлебы испекла, за водой на колодец сходила, всю избу прибрала».
В квартире шла обычная жизнь. Мама катала на скалке чистое белье, громко прихлопывая рубелем. Анна Ивановна клеила свои листочки. Художник тихонько покашливал за стеной.
Соня ничего не видела и не слышала, она читала.
«…Прознали старики, что это уточка превращается в девушку и все у них в доме делает. Захотелось им, чтобы девушка больше не превращалась в уточку, взяли да и сожгли ее гнездышко». Ах, что же они наделали, зачем же они сожгли ее гнездышко!
«…Пришел бы срок — я бы сама сожгла свое гнездышко и навек с вами осталась бы! А теперь — прощайте, дедушка и бабушка, навсегда улечу от вас!»
Вышла девушка на крыльцо, посмотрела на небо. Летит стая гусей-лебедей.
«Гуси-лебеди, бросьте мне по перышку!»
Кинули ей гуси-лебеди по перышку, обернулась девушка серой уточкой и улетела… А дед с бабой снова остались одни…»
Глаза у Сони заволокло слезами, и последние буквы слились.
— Капель, никак, закапала, — сказала мама, увидев, как на широкую страницу начали падать Сонины слезы. — А до весны вроде далеко!
Соня вытерла фартуком глаза.
— А зачем они сожгли-то! Не жгли бы…
— Ты уж расскажи по порядку, — попросила мама.
Соня рассказала всю сказку с начала до конца. А в конце снова заплакала.
— Ну ладно, — сказала мама, — это ведь сказка. В жизни-то еще и похуже бывает.
Соня накинула мамину клетчатую шаль и выбежала на улицу. Ей хотелось поглядеть, не пролетят ли над их двором гуси-лебеди. А вдруг пролетят? Может, и серая уточка пролетит вместе с ними!
Но серое небо низко повисло над крышами. И никаких лебедей не было в этом небе.
— Гуси-лебеди, бросьте мне по перышку! — крикнула Соня.
Ей было так тоскливо, ей так хотелось, чтобы появились над головой эти гуси-лебеди, чтобы они откликнулись ей!
Но двор молчал, и дома молчали, и молчало серое небо.
И вдруг откуда-то с дальней высоты, тихо кружась, появилась пушистая снежинка. А за ней другая, третья… Светлые, невесомые, они кружились над головой, опускались на крышу колодца, на ступеньки, на землю…
Соня с изумлением смотрела на них — это гуси-лебеди бросают ей перышки?
Соня несколько раз перечитала «Хромую уточку». И, когда Елена Петровна спросила, о чем эта сказка, Соня без запинки пересказала ее. А на столе уже лежала стопка новых книг, еще не известных, еще не читанных, полных увлекательных, неожиданных, захватывающих историй.
Соня жадно набросилась на сказки. Русские, норвежские, немецкие, французские — все равно какие, лишь бы сказки! Она «глотала» их, как говорила мама, а потом рассказывала подругам во дворе. Девчонки были счастливы слушать, а Соня счастлива рассказывать.

Девочки были счастливы слушать, а Соня счастлива рассказывать.
Многие сказки запомнились, а многие потом и забылись.
Но свою первую книжку, первую сказку про «Хромую уточку», Соня запомнила на всю жизнь. И, когда очень трудно случалось в жизни, Соне всегда хотелось крикнуть в далекое небо:
«Гуси-лебеди, бросьте, бросьте мне по перышку!» — и улететь серой уточкой вместе с ними!
Перед праздником
Как ждали на Старой Божедомке праздника! Большой праздник — рождество или пасха — какое это огромное, яркое событие в жизни рабочего человека! Это радостный перерыв в долгом ряду тяжелых трудовых дней, это отдых, это накрытый стол, на котором тесно от пирогов, от закусок и на котором, рядом с графином водки, стоят темные бутылки сладкого вина. Праздник — это сон после обеда и гости за вечерним столом, встречи с родными и знакомыми, веселый шум и песни. Праздник — это все то, о чем рабочему человеку некогда и подумать в течение всего года.
Долго и тоскливо тянулся рождественский пост. Мяса нельзя, молока нельзя, коровьего масла нельзя — все грех. Впрочем, в квартире номер четыре пост соблюдали не очень строго. Хоть и не каждый день, но мама варила щи с мясом, а к чаю и к обеду давала молока.
— Это господам на пустых харчах сидеть можно, — говорила она, — им делать-то нечего. А нам работать надо. Пожалуй, с пустых щей и ноги не потащишь…
— Ну, и господа на пустых щах не сидят, — возражала Анна Ивановна. — Там и осетринка, и белужинка, и заливные всякие — чего ж им не поститься! Это и мы бы так-то постились!
Такие разговоры шли в квартире. Но не очень громко, не при чужих. Прослыть безбожником никому не хотелось — люди осудят, отвернутся, знаться не станут!
Мама все-таки старалась придерживаться поста — то щи с грибами, то щи со снетками. Щи со снетками Соня очень любила — уж очень интересно было вылавливать из миски рыбок.
Весь пост печально звонили колокола. Недели тянулись медленно. Нельзя было ни запеть, ни пошуметь — грех, боженька накажет. Соня читала сказки и рисовала разные истории с продолжением. А Лизка и Оля приходили к ней и подолгу смотрели, как она рисует. Лизка разглядывала Сонины книжки с картинками и все спрашивала:
— А это про что? А почему этот кот в шляпе? А почему они все на лестницу влезли? Ух ты, у собаки глазищи-то — по тарелке! А почему?
— Вот не пошла в школу! — отвечала Соня. — Теперь читать научилась бы.
— А если у меня платье рваное?
— Ну что ж! Зашила бы.
— Все равно я бы читать не научилась!
— Нет, научилась бы. И на парте вместе сидели бы. А то сиди там с Лидой Брызгаловой…
— Зато она домовладелка! Эх ты, с домовладелкой сидишь, а серчаешь!
Соня не знала, что сказать на это. Она не сердилась на Лиду и не ссорилась с ней. Что скажет Елена Петровна, если она будет в школе ссориться? Да и боялась Лиды. А вдруг она нажалуется отцу? А отец-то у Лиды — домовладелец, он еще придет да накричит на маму… Вон Саша поссорилась с Данковой. А мама Данковой пошла в приют и нажаловалась, так Саше досталось лотом!
Соня не ссорилась с Лидой. Только никакой радости это соседство ей не приносило. Когда Лида не знала урока и просила подсказать, то сразу становилась ласковой, тихой. А как только у нее все было хорошо, то говорила, что с коровницыной дочкой не водится. И тогда Соня сидела молчаливая, робкая и печальная на всех уроках, а после уроков одна шла домой. Саша хотела бы проводить ее иной раз, но нельзя было: приютские девочки домой возвращались все вместе и опаздывать не имели права.
Была у Сони и еще одна тяжелая забота — «закон божий». Эти уроки угнетали ее. Соня очень боялась батюшку. Как посмотрит он своими строгими глазами, так сердце и сожмется. Накануне дня, когда должен быть урок «закона божьего», Соня долго не спала, лежала и все повторяла непонятные слова молитвы на непонятном церковнославянском языке.
Особенно запиналась она на слове «всеблагий». Что такое всеблагий? И какой это — всеблагий? Соседка-торговка, рыжая Аграфена, говорила про своего сына, что он уж очень блажной. А блажной — это значит крикливый, неспокойный. Но ведь про бога нельзя же сказать так?
Как-то в один из этих тяжелых дней батюшка пришел не в духе. Он поздоровался с классом не глядя. Сел за стол, откинул за плечи волнистые, расчесанные на прямой пробор волосы и открыл журнал.
— Вызывать будет, — словно ветерок прошел по классу.
Все подобрались, насторожились. Соня торопливо повторяла в уме трудную молитву, а сердце у нее уже болело и сжималось.
Батюшка поднял на девочек узкие серые глаза и начал их оглядывать, раздумывая, кого ему вызвать. В это время Лида наклонилась к Соне и прошептала:
— Знаешь, почему у батюшки волосы завитые? Он на ночь косички заплетает.
Соне показалось это невозможным. Она представила себе сурового, строгого батюшку с косичками — и вдруг ей стало так смешно, что она не удержалась и хихикнула.
У батюшки сверкнули глаза:
— Горюнова, читай молитву!
Соня знала молитву, но от страха она сразу все забыла. Прошла секунда, другая, а Соне казалось, что уже полчаса прошло, как она стоит и молчит. Только бы вспомнить, как эта молитва начинается!
Батюшка сидел у стола и не спускал с нее своих строгих глаз, и оттого, что он глядел на нее, Соня никак не могла собрать мыслей.
Сзади тихо-тихо прошептали:
— Верую… во единого бога-отца…
Соня встрепенулась:
— Верую во единого бога-отца, вседержителя-творца…
Она прочитала всю молитву не запнувшись. Гроза пронеслась. А Соня узнала, что у нее есть друг: это приютская Саша Глазкова подсказала ей. Подсказывать на «законе божьем» страшно — батюшка может очень строго наказать. А вот Саша не побоялась!
Соня еле дождалась, когда кончится урок.
— Саша, а если бы тебе попало, — прошептала она в страхе, — за подсказку! Из-за меня…
— Пускай Брызгаловой попадает, — ответила Саша, — это она тебя рассмешила.
— А я правду сказала, меня никто не накажет! — возразила Лида. — Конечно, батюшка косички заплетает, чтобы волосы были кудрявые!
— Ты зачем так про батюшку говоришь? — закричала на нее Анюта Данкова.
Анюта Данкова, толстая, губастая девочка, с длинными русыми косами, очень хорошо учила «закон божий». Батюшка ее любил и называл «каменной стеной». «Я на тебя, как на каменную стену, надеюсь!» — говорил он Анюте.
— Вот я скажу Елене Петровне! Вы все в бога не веруете, раз так про батюшку говорите, насмешничаете! — продолжала Анюта.
— Подумаешь! — ответила Лида. — Испугалась я Елены Петровны!
Саша тоже хотела что-то ответить Анюте. Но Соня схватила ее за руку и побежала с ней по коридору.
— Ой, она на тебя нажалуется! — повторяла Соня. — Вот увидишь, нажалуется! Не спорь ты с ней, не спорь!
Такой это был трудный и горький день! Даже большая перемена не радовала.
Но тут вышла из учительской Елена Петровна и крикнула:
— Первый класс! Ко мне! Становись в круг, давайте в «теремок» играть!
И сразу стало легко и весело. Девочки сбежались к ней, встали в круг. Соня постаралась встать рядом с учительницей, чтобы держаться за ее руку. Стоять рядом с ней, слушать, как она поет, и подпевать ей своим тоненьким голоском — да ведь это же настоящий праздник! И ничего-то не страшно, когда рядом Елена Петровна!
Девочки изображали то мышку, то лягушку… Соне пришлось быть зайчиком, Брызгаловой — лисичкой. А потом пришел медведь — Анюта Данкова — и разорил теремок. Девочки с визгом и смехом разбежались. А Соня поспешно снова заняла свое место рядом с Еленой Петровной; она смеялась и подпрыгивала.
В это время открылась дверь учительской, и в коридор вышел батюшка. Он словно черная тень прошел сквозь солнечные лучи, падавшие в коридор, и скрылся на площадке лестницы. Будто что-то померкло в их веселье. И вдруг Соне очень захотелось, чтобы батюшка ушел и больше не вернулся!
Но Соня тут же испугалась и отогнала эту грешную мысль — ведь бог-то все видит! И о чем она думает, он знает. Он за такие мысли тоже может наказать!
Как все-таки страшно человеку жить на свете!..
Зато дома, во дворе, было по-прежнему весело. Играли в снежки, строили горки среди двора… А вечером всегда подстерегали ломового Пуляя. Только он откроет ворота, воротясь с работы, а ребятишки уже бегут, лезут на его огромные сани с широкими полозьями — и лошадь везет их от ворот в самый дальний угол двора, где ломовой ставил на ночь свои сани и телеги. Ребятишки шумели, веселились, снег скрипел под полозьями, а большая лошадь, устало покачивая головой, не спеша шагала своими мохнатыми ногами…
Праздник между тем приближался. Это чувствовалось во всем. Народ оживленней шел по улицам. Казалось, что и снег под ногами хрустит веселей, праздничней. И разговоры в квартире идут праздничные — о всяких покупках, о колбасах, о шпротах, о том, где получше и подешевле купить окорочок…
— Гуси хороши у Елисеева…
— Может, все-таки гуська купить?
Анна Ивановна и мама советуются с утра и никак не могут решить.
— Дороги гуси… — качает головой Анна Ивановна. — Сейчас, к празднику, торговцы осатанели, им как раз нажиться. Поди-ка, подступись! Кусаются гуси-то!
— Поросеночка тоже ничего бы… — мечтательно говорит мама.
— Ну, поросеночка! Конечно, неплохо бы… Да, эх, Никоновна, ладно! И так обойдемся. Колбасы купим, масла сливочного, сыр будет, кильки… Селедочку можно сделать. Пирожка с кашей, с луком. И без поросеночка обойдемся, дорог он до страсти, поросеночек-то!
— Ну ладно, — соглашается мама, — бог с ним, с поросеночком. Что Дунечка-то у нас — будет что-нибудь печь или не будет?
— Хотела она окорок купить, — Анна Ивановна понизила голос, — да, видно, денег-то он ей не дал. Молчит.
— Эх, душа-то хамская! Хоть бы праздник-то дал ей попраздновать!
— Мама, а какая это хамская душа? — спросила Соня, поднимая голову от книги.
— Грубая это душа, безжалостная ко всем, — сказала мама, — вот какая это душа! Только себя и любит!.. А тебя не спрашивают, — добавила она сердито, — шла бы на улицу, я в комнате убираться буду!
Соня живо собралась и вышла во двор. Ребятишки стояли кучкой — они собирались идти смотреть игрушки.
— А я хотела за тобой бежать! — прохрипела Лизка. — Пойдешь?
Лизка, съежившись, топталась на снегу в своем драном пальтишке. Олю и ее худенькую младшую сестренку Тоньку мать закутала платками. Сенька стоял в шапке на затылке и с распахнутым воротом; у него не было крючка на воротнике, а пришить не хотелось — до того надоели эти иголки да нитки! Но Сеньке будто и не было холодно, хотя щеки его посинели.
— А Коська где же? — спросила Соня.
— Дома сидит! — ответил Сенька. — Валенки продрал, пятка голая вылезает — вот и сидит теперь.
Ребята кучкой, тесно держась друг друга, вышли из ворот и повернули направо, вверх по Старой Божедомке. Они все уже не раз побывали у этой витрины, где выставлены елочные игрушки, но их тянуло туда снова и снова, тянуло неудержимо. Сверкающий снег крепко хрустел под ногами. Лизка засовывала руки в рукава чуть не до самых локтей. Сенька поднимал плечи, чтобы как-то укрыть оголенную шею. Соня дышала то в одну варежку, то в другую — у нее зябли руки… Но они шли все дальше и дальше по узкой улице…
Спешащие прохожие толкали их, бранились, когда кто-нибудь из ребятишек попадался под ноги. Но ребята увертывались или получали легкий тумак и шли дальше: мимо темных со снежными крышами домов; мимо «казенки» с зеленой вывеской и с царским орлом, означающим, что торговать водкой имеет право только государева казна; мимо высокого глухого забора, за которым таился чей-то повернувшийся к улице спиной дом…
Но вот наконец на той стороне засветилось серебряным светом большое квадратное окно.
Сенька, оглянувшись не идет ли трамвай, крикнул:
— За мной! Бегом!
И, припадая, побежал через мостовую. Девчонки, хватаясь друг за друга, бросились за ним.
Ну, вот оно, это окно! Оно светилось разноцветными огнями среди синих зимних сумерек. Ребята прислонились грудью к железной перекладине, защищающей витрину, и молча приникли к окну.
Перед ними раскрылся волшебный мир.
За широким стеклом, обрамленным легкой росписью морозных узоров, сиял перед ними радостный, сверкающий хоровод елочных игрушек. Живая зеленая елка стояла там, раскинув колючие ветки. На ее иголках крупными блестками переливался нетающий снег. С ветки на ветку перекидывалась ослепительная путаница серебряных нитей, светящихся бус, искристых звезд, золотых орехов, рыбок, серебряных петушков, матовое сияние больших серебряных, желтых, красных и зеленых шаров…
А что творилось внизу, под ветвями елки! Там дед-мороз в красном с серебром кафтане тащил целый мешок игрушек. Красная Шапочка выглядывала из резкого домика, а Серый Волк прятался за крылечком. Медведи катились — и не скатывались! — с горы на серебряных саночках. Красавицы куклы в меховых шапочках держали в руках золотые корзиночки с конфетами и орехами и глядели на ребятишек, улыбаясь румяными губами… И над всем этим неподвижно висел падающий — и не падавший! — снег, таинственно мерцая разноцветными огоньками…
Стоя у витрины, ребята открывали все новые и новые чудеса. Вон из-под снега выглядывает зайчик в синих штанах и с морковкой в лапках. А вон на пригорке сидит Петрушка в пестром наряде. А под самой елкой — смотрите, смотрите! — сидят маленькие гномики с длинными бородами и в серебряных колпачках!..
Ребята стояли и глядели и радовались тому, что видели все это. Соне робко подумалось: «А вдруг бы эта кукла, с черными кудрями, была моя?» Но она только вздохнула. Такого чуда не могло случиться.
А мороз между тем начинал познабливать. Ребята тихонько топали ногами, дышали в варежки, ежились… Мимо них в магазин входили люди, они покупали эти игрушки. Но ребята словно не видели их: это люди были совсем другие, это были богатые…
Первой сдалась Лизка.
— Пойдемте домой… — прохрипела она.
Но никто не тронулся: жаль было уходить.
— А вот одна девочка так стояла у окна, — сказала Оля, — все стояла и смотрела. А к ней подошла барыня в черной ували и дала полтинник.
Это происшествие всех ошеломило:
— Целый полтинник?
— Серебряный полтинник?
— А почему дала? А что сказала?
Но Оля не знала, что сказала барыня. Кажется, сказала: «На вот, поди купи себе игрушек».
— А девочка купила?
— А какая девочка?
Оля не знала, какая девочка. Но что такая девочка была и что все так случилось, уж это-то Оля доподлинно знает.
— Наверно, это была какая-нибудь княгиня или графиня, — догадался Сенька. — Надела черную уваль, чтобы не узнали, и ходила. Кому полтинник, кому рубль… А что ей — жалко, что ли? У нее небось этих полтинников целые сундуки.
— Вот бы к нам подошла! — прошептала Соня.
И всех охватила головокружительная мечта. Они шибче затопали ногами, задышали в свои худые варежки. Надо еще постоять, надо постоять подольше — а вдруг да она к ним тоже подойдет?!
Но, сколько они ни стояли, сколько ни дышали в кулаки, княгиня под черной вуалью так и не подошла к ним.
Совсем перемерзнув, ребята побежали домой. И опять узкая снежная улица, и опять прохожие, сердившиеся на эту «мелочь», которая попадается под ноги, когда люди спешат, и опять тесные комнаты, освещенные маленькими керосиновыми лампами, и разговоры о том, что хорошо бы купить к празднику вот то-то, да, пожалуй, можно и обойтись, потому что уж очень дорого…
Праздник
Вот наступил и канун рождества — сочельник. У молодых Прокофьевых появилась за окном большая разукрашенная елка, хотя детей у них не было. Ребята со всего двора собрались у них под окном и глядели на смутно сверкающие широкие лапы рождественской елки.
Мама тоже устроила Соне елочку. Елочку они купили небольшую, да большую-то и поставить негде. Игрушки были старые, немножко помятые, кое-где облезлые. Когда-то мама носила молоко на дом одним господам, и они отдали ей эти игрушки — на господскую елку они уже не годились. Но Соня любила их, она каждый год радовалась встрече с ними, как встрече с друзьями, которых давно не видела.
Елку наряжали и отец и мама. А Соня помогала им, доставала по одной игрушке из коробки и подавала. Так радостно, так интересно это было!.. Что такое там серебрится? А! Это серебряная комета с хвостом. Хвост у кометы давно потускнел и погас, но Соня этого не замечала. А вот и балерина в белой юбочке, вот и рыбки — золотая и серебряная!..
— Эх, рыбки-то совсем расклеились у нас! — сказал отец. — Подклеить надо бы!
— Ничего, еще повисят, — ответила мама.
— Месяц! Вот он — месяц! — закричала Соня. — Он тоже немножко расклеился, но ничего, еще повисит!
Она достала из коробки серебряный потускневший полумесяц с человеческим профилем. Полумесяц смеялся и глядел загадочно, будто знал что-то такое, чего никто не знал. И мог бы сказать об этом, но не хотел и потому молча усмехался. Соня, когда была совсем маленькая, думала, что этот полумесяц ночью тихонько срывается с елки, поднимается к потолку, там он плавает, как настоящий месяц, и освещает комнату.
Повесили на елку и маленького деда-мороза, и Снегурочку, и корзиночку с потемневшими яблоками, и длинные цепи серебряных, синих и красных бус с огоньками, блестевшими в каждой бусине… Повесили пестрые флажки, с картинкой на каждом флажке, золотые и серебряные шарики с красными и зелеными вмятинами. Соня подолгу глядела на них — шарики покачивались, мерцали, глубокие блики двигались и уходили в таинственные вмятины, и лишь несколько искорок светилось там…
Так, всей семьей, нарядили елочку, вставили в подсвечники разноцветные елочные свечки…
Соня побежала звать жильцов смотреть елку — к Анне Ивановне, к художнику. Но у художника дверь оказалась закрытой.
— А где же он? — удивилась Соня.
Художник редко уходил из дому, а если уходил, то дверь не запирал.
— Пробегала ты своего художника, — сказала Анна Ивановна. — Увезли в больницу, беднягу.
Соня побежала к маме:
— Почему, мама? Почему в больницу?
— Воспаление легких у него, простудился, — ответила мама, и брови у нее нахмурились.
— А почему простудился?
— Пальтишко у него очень плохое было, вот и простудился.
— Вон Чичкин или Титов небось не простудятся, — сказала Анна Ивановна. — Наденут шубы на бобрах… — Но взглянула на Соню и сменила разговор: — Ух ты, ну и елка! Вот это елочка!
— А он бы тоже взял да надел на бобрах… — Соню никак не покидала мысль, что художник в больнице.
Анна Ивановна засмеялась, а мама покачала головой и вздохнула.
— Эх ты, голова с мозгами! — сказал отец. — Да откуда ж нам взять бобров? Ведь Чичкин-то богатей, у него вон сколько магазинов — и молоком торгует, и сыром, и сметаной, и чем угодно. По всей Москве магазины, со всех магазинов денежки к нему в карман текут.
— И к Титову текут?
— Ну, и к Титову текут. Его булочные тоже по всей Москве торгуют. А мы с художником с нашим на что шубу-то купим? Напишет картину, а ее не берет никто. Да и возьмут — гроши дадут. Уж куда на бобрах — на вате-то хоть купил бы…
— Ничего, отлежится, после рождества придет, — сказала Анна Ивановна. — Когда свечки-то будем зажигать?
— Как стемнеет, так и зажжем, — ответила мама.
В квартире уже все было по-праздничному. Полы вымыты, занавески выглажены и повешены, в шкафу горкой лежали горячие пироги.
К вечеру все три хозяйки — мама, Анна Ивановна и Дунечка — взялись за стряпню. Еще раз затопили печь и хлопотали у кухонного стола — резали мясо, что-то жарили, что-то еще пекли…
Сергей Васильевич, выбритый, завитой, стоял у притолоки своей двери, курил и, как всегда, пускал дым в чужую комнату. Отец, непривычно нарядный, в голубой ластиковой рубашке, без фартука, гладко причесанный на косой пробор, сидел у стола. Он только что пришел из бани, был румяный и добродушный.
— Москва! Что ж, Москва? — говорил Сергей Васильевич. — Большая деревня, и все. Вот Санкт-Петербург — ну, это другая статья. Царский двор, аристократия, блеск. Далеко нам до Санкт-Петербурга! В дыре живем.
— Ну, эко вы! — не соглашался отец. — Москва — город старинный, русский. А в Петербурге-то немцев полно набилось…
— А что ж немцы? — прервал Сергей Васильевич. — Да немцы умнейший народ! Образованнейший! Нам за ними ходить да в ножки кланяться: научите нас, дураков сиволапых, жить!
— То-то они большого ума, а хлеб-то наш, русский, едят, — возразил отец.
Сергей Васильевич рассердился:
— А что ж, даром едят? Машины нам дают. Заводы строят. А если у нас, у русских, мозги не доходят?!
— У нас-то дошли бы мозги, да воли-то нам нет. Там немцы кусок захватили, там бельгийцы, там опять немцы да французы… Понастроили на нашей земле своих фабрик да заводов, а русский давай корми их да за все их товары втридорога плати. А кабы министры-то наши так вот взяли бы да решили: «А зачем нам свою землю немцам да бельгийцам отдавать? Давайте мы сами эти самые заводы построим, да сами и работать будем. А почему это бельгийцы нам трамвай пустили? Давай-ка мы сами трамвай себе пустим!» Вот она, прибыль-то, дома осталась бы. Да побольше бы веры давали простому русскому народу — умельцев сколько хочешь нашлось бы, будь здоров!
— Что с вами спорить! — сказал Сергей Васильевич и пожал плечами. — Вы в политике ни бельмеса не смыслите, и не вашего ума это дело.
— Сережа! — с упреком сказала Дунечка, выйдя из кухни. — Уж ты хоть сегодня-то не грубиянь! Ведь праздник!
Они оба вошли в свою комнату и закрыли дверь. Но Сергей Васильевич унялся не сразу.
— Не люблю, когда мужики рассуждать начинают! — слышалось из-за двери. — Вчера из пастухов, а туда же — министров учить!
Мама, встревоженная, заглянула из кухни:
— Опять ты кого-то учишь, Иван? И что это тебе за охота всегда спорить?
— Да кого я учу? — виноватым голосом ответил отец. — Так, к разговору…
Соня ходила из комнаты в кухню и обратно. В комнате сняла бусами елочка. А в кухне было полно богатой еды. Мама резала колбасу и укладывала на тарелки. Тут у нее и сыр лежал, и хорошая копченая селедка, и баночка с кильками, и даже ветчина… Ой, как хотелось хоть один кусочек ветчинки!
— Рано, рано, — отвечала мама на все ее просьбы. — Вот придете из церкви, тогда всего и поешь. А сейчас грех.
— Вон наш Кузьмич сегодня еще ничего в рот не брал, — сказала Анна Ивановна, — до звезды говеет. Встал сегодня, куска хлеба не съел, так и на работу ушел. Теперь до ночи есть не будет. Живот небось подвело до страсти. А к чему? Поел бы, да и ладно. Бог бы не обиделся, а поп не узнал бы.
— Я думаю, поп и сам поел как следует, — ввернул отец.
Но мама осталась непреклонной:
— Нет уж, как полагается, так полагается. А то какой же это праздник?
У Кузьмича в комнате целый угол был увешан иконами. Горели лампады — и большие, и маленькие, и зеленые, и красные, и голубые. Золоченые ризы на иконах словно плавились среди огоньков, но от этого еще мрачнее глядели темные лица святых из-под сияющих венцов.
Кузьмич, в белой рубашке и черном костюме, поправлял лампадки. И, когда поправил, набожно перекрестился и низко поклонился несколько раз.
В церковь пошли все — и Кузьмич, и отец, и Соня, и Сергей Васильевич с Дунечкой. Только мама и Анна Ивановна остались готовить рождественский ужин.
Сергей Васильевич и Дунечка ушли вперед. Сергей Васильевич, франтоватый, в шапке пирожком и в ботиках, не хотел идти рядом с Сониным отцом — коровником и со слесарем Кузьмичом.
Соня была рада, что Сергей Васильевич ушел. Только его и слушай да молчи, если он говорит, а говорит он всегда что-то неинтересное. Пускай ушел бы совсем, а Дунечку им оставил бы!
На улице стояла морозная ночь, полная звезд, искристого снега и колокольного звона.
— А где же Исус Христос родился? — спросила у отца Соня. — У Серафима Саровского или у Ивана-Воина?
Ей казалось, что он должен родиться в церкви, в алтаре. Но не может же он родиться сразу в двух церквах!
Кузьмич не слышал вопроса. А отец ответил:
— А кто его знает, где он родился! Говорят, в какой-то Галилее. Да ведь никто не видел.
Но Соню уже трудно было сбить с толку. Батюшка в школе рассказал им, что поклониться Христу пришли волхвы и пастухи. Кто такие волхвы, она не поняла. Но пастухи-то ведь видели же его!
— Ну, пастухи!.. Бывало, пасешь в ночном, ночь-то долгая, заснешь — что хочешь приснится! — сказал отец.
Кузьмич не слышал безбожных отцовых речей. Он уже заранее снял шапку, шел и крестился и что-то шептал — видно, читал молитву. Отец, подойдя поближе к церкви, тоже снял шапку. В церкви народу было полно, стояли и вокруг церкви, на снегу. Свет из высоких церковных окон падал на них. Из церкви доносилось пение. Люди, стоя вокруг церкви, подпевали. Подпевали гнусавыми голосами нищие и калеки, набившиеся на паперти. Кузьмич тоже подпевал.
А Соня ждала, когда начнут пускать фейерверк, и все думала о том, что сказал отец. Она уж и не знала, как быть. Батюшка в школе одно говорит, а отец — другое. Батюшка — священник, он все про бога знает. А отец… Но что отец может хоть чего-нибудь на свете не знать, этого Соня вообще не допускала. Что отец говорит, то уж так и есть. Но вот как же тут? Ведь Иисус — сын божий. А если он пастухам только приснился, то, значит, у бога сына не было?
Соня начала расстраиваться, ей стало страшно за отца. Надо было что-то сказать ему, предупредить, а то его бог возьмет да накажет… Ведь батюшка не раз им в школе рассказывал, как страшно будут мучиться на том свете люди, которые не верят священному писанию.
Но тут вдруг радостно зазвонили колокола — такой перезвон пошел, будто заиграли они и запели на все голоса. Раздался залп — и в потемневшее небо полетели разноцветные звезды: синие, желтые, зеленые… Они кучкой взлетали вверх, потом рассыпались и, падая вниз, гасли по пути. Еще залп — и снова вихри красных, синих и желтых звезд. Еще залп — и снова в небе рассыпаются разноцветные огни.
Соня крепче сжала отцову руку и открыла рот от восторга и изумления.
— Ух, ты! Фиверки! Папа, папа, — вдруг начала она теребить отца, — пойдем поищем звездочек! Вон их сколько падает — может, хоть одну найдем!
— Да ведь от них одни угольки падают, — сказал отец. — Эко ты, голова, выдумаешь тоже! Сейчас придем домой — мы свои звезды зажжем.
— Какие?
— А вот увидишь.
Колокола перестали звонить. Фейерверк погас, и синее морозное небо снова стало звездным. Окна церкви померкли. Народ толпой повалил с паперти. Громче загнусавили нищие, прося подаяния для праздничка. Отец надел шапку, и они с Соней пошли вниз с пригорка по скользкой, обледеневшей тропочке. А Кузьмич все еще стоял и крестился, чуть даже не плакал от умиления, что вот еще раз на свет родился Иисус Христос.
Дома у всех жильцов и у мамы столы накрыты белыми скатертями и уставлены всякими закусками. Дунечка и Сергей Васильевич сидели у себя за столом и уже спорили из-за чего-то. На елке горели свечи.
Мама нарядилась — надела шелковую кофту с рюшем у ворота.
— Ой, мама! Какие фиверки были! — закричала Соня, едва ступив на порог. — Ой, ты бы посмотрела!
Вскоре пришел и Кузьмич. Все уселись за стол. Соня, когда уходила в церковь, думала, как бы она съела все, что готовит мама к ужину. Но тогда ничего этого есть было нельзя. А теперь вот села за стол — ну и ешь, пожалуйста, что хочешь и сколько хочешь! Но она вдруг почувствовала, что ничего есть не хочет, а хочет она только спать. Через силу съела кусок ветчины — просто обидно было ничего не съесть.
— А ты хотел звезды пускать? — напомнила Соня отцу.
Отец с мамой выпили винца — сладкой «запеканки» — и весело закусывали.
— А вот сейчас и запустим!
Отец достал из шкафа какие-то серые палочки, чиркнул спичку и поджег одну палочку. И тотчас во все стороны с легким треском полетели разноцветные звезды — синие, красные, желтые, белые… Соня вскрикнула: «Ай! Обожжешься!» Но мама подставила руку под эти звезды и засмеялась. Тогда и Соня подставила руку — огонь этих звезд был холодный.
Соня побежала к Анне Ивановне:
— Идите, смотрите, у нас фиверки!
Потом бросилась звать Никиту Гавриловича. Пусть он посмотрит, какие звезды летят! Но подбежала к его закрытой двери и вспомнила, что художника нет, что он в больнице…
«Спрячу одну палочку, — живо сообразила Соня. — Когда придет домой, зажгу ему!»
Анна Ивановна и Кузьмич пришли смотреть, как из палочек летят звезды. Открыл свою дверь и Сергей Васильевич.
— Эх вы, «фиверки»! Это же простой бенгальский огонь. Ничего интересного не вижу… Надымили, серой пахнет… Ах, как мне в вашем кругу тесно и душно, господа! Тоска, тоска! Настоящие-то люди сейчас бы на рысаках да в «Яр»
[3]. Вот где веселятся, вот где празднуют! И вина всякие, и коньяки, и шампанские. Поют, зеркала бьют, целые состояния в одну ночь прокучивают! А здесь что?.. Эх! Тоска, тоска!
Сергей Васильевич все больше повышал голос. Все примолкли — ни отец, ни мама терпеть не могли скандалов. А Сергей Васильевич выпил, и ему непременно хотелось доказать всем, какой он развитой человек и как ему тесно и душно среди таких темных и серых людей.
— А ты вот, Иван Михалыч, еще и икаешь за столом! — продолжал он. — Да-да, ты икнул. Ну, чего ты отворачиваешься и гладишь свои усы? Ты икнул, не отказывайся!
— Да я и не думал икать, что вы… — начал оправдываться отец.
— А я говорю — икаешь! — закричал Сергей Васильевич. — А кто икает за столом? Свиньи!..
— Сережа! Сережа! — послышался умоляющий голос Дунечки. — Иди сюда!
— Да, свиньи! — продолжал кричать все громче Сергей Васильевич. — А я должен жить среди свиней!..
Мама побледнела и нахмурилась. Бедный отец покраснел и смущенно покачал головой.
— А все — что? Все бедность виновата, моя несчастная, несправедливая судьба! Разве бы моя нога была в этой трущобе, среди этих ск…
Тут уж не выдержал Кузьмич. Он встал, высокий, сильный, с загоревшимися черными глазами, подошел к Сергею Васильевичу, молча взял его за локоть, которым тот опирался о притолоку, впихнул его к Дунечке в комнату и закрыл дверь.
— Сиди там, — сказал он. — Коли ты барин, так не лезь к людям, а то на мороз выведу!
Сергей Васильевич что-то пошумел еще за дверью, но на него уже не обращали внимания, и он скоро утихомирился. Анна Ивановна и Кузьмич принесли из своей комнаты закуску и бутылки и стали все вместе справлять рождество. История с отцовой икотой всем вдруг показалась очень смешной, все смеялись и подшучивали над отцом, и он сам смеялся больше всех. Чокались, закусывали, шутили…
Анна Ивановна, подвыпив, запела тоненьким голоском:
Над серебряной рекой,
На златом песочке…
Кузьмич, который обычно не прикасался к вину, тоже выпил сегодня рюмочку и сразу повеселел.
— Что ты! Что ты! — зажимая уши и делая вид, что Анна Ивановна совсем оглушила его, закричал Кузьмич. — Тише! Смотри-ка, на улице-то народ собрался!
Но Анна Ивановна продолжала свое:
Долго девы молодой
Я искал следочки…
Кузьмич подошел к окну, отодвинул занавеску и замахал руками, разгоняя будто бы собравшихся под окном людей:
— Ну, что стоите? Ступайте! Это не Вяльцева!.. Аннушка, тише! Гляди, народу-то со всей улицы!
Отец и мама смеялись. Наконец и Анна Ивановна не выдержала, рассмеялась.
— Налейте еще по рюмочке! — сказала она. — Что ж теперь — жить, жить, да не крикнуть!
Но Кузьмич отобрал у нее рюмку:
— Хватит.
— Да ну тебя, Митька! — Анна Ивановна отмахнулась от Кузьмича и опять завела свою песню:
Но следов знакомых нет,
Нет, как не бывало!..
— Вот дурачье, — сказал Кузьмич, с упреком глядя на жену. — Уже напилась. И когда успела!
— Да ладно, голова! — остановил его отец. — Ведь рождество сегодня!..
И опять они шутили, смеялись, ели и пили.
А Соня сидела в сторонке на маленькой скамеечке, которую мама ставит под ноги, когда шьет, и смотрела, как на елочке горят свечки, как мигает и кивает их пламя и блики перебегают по разноцветным бусам. Голова у нее была тяжелая. Хотелось спать, в душе поднималась непонятная тоска — может, от усталости, оттого, что было уже три часа ночи, и оттого, что среди ночи съела слишком большой кусок ветчины…
— Ступай в кухню, ляг на сундуке, — сказала ей мама. — Иди, я постелю.
Соня встала и пошла
спать в кухню, на сундук.
Сундук стоял между кухонным столом и дверью Анны Ивановны. Мама постелила Соне постель, погасила елку, а сама опять пошла и села за стол. Соня в первый раз видела ее такой румяной, веселой. Серые глаза ее блестели, граненые прозрачные камушки сверкали у нее в серьгах. Свет из комнаты падал Соне в глаза. Она отвернулась к стенке — вот сейчас закроется одеялом и заснет.
Но сон почему-то никак не приходил. Соня вертелась с боку на бок, закрывала глаза, держала пальцами веки, чтобы они не открывались, — сон не приходил. Было тяжко, душно, и не переставая томила какая-то беспричинная тоска. То вспоминалось что-то неприятное — Лида Брызгалова с ее гримасами и капризами, то черной тенью проходил грозный учитель «закона божьего», напоминая, сколько еще тяжелых, трудных часов принесет он в Сонину жизнь… Потом вспомнился Никита Гаврилович. Лежит где-то в больнице, и нет у него никакого праздника. Небось как соскучился по дому! Раздумалась о Никите Гавриловиче, и сердце защемило еще больше. Ну, совсем хоть плачь!
В квартире тоже скоро все угомонились. Кузьмич отвел Анну Ивановну спать, отец улегся. Мама еще поубиралась немножко, но скоро и она легла. Праздник праздником, а в шесть часов вставай. У людей — отдых, спи хоть до обеда, три дня на работу не идти. А у них с отцом и в будни и в праздник одна песня — коровник.
Все уснули в квартире, только Соня по-прежнему лежала с открытыми глазами. С улицы прямо в окно смотрел большой лиловатый фонарь. Его свет проникал и в кухню, к Сониному сундуку. Соня лежала и смотрела на стену, крашенную желтой краской. На стене было множество трещинок, и Соня вдруг отчетливо увидела, что из этих трещинок складываются разные фигурки. Вот журавль на длинных ногах… Вот кот с круглой головой и с хвостом… А вот человечек… О! Да сколько же их, этих человечков! Они и стоят, и сидят, и бегут куда-то… И, может, оттого, что фонарь за окном покачивался от ветра и лучи его колебались, Соне показалось, что все эти человечки, и зверюшки, и птицы шевелятся. Так легонько, чтобы Соня не очень замечала, но шевелятся и даже норовят незаметно перейти с места на место. Но как только Соня начинала к какому-нибудь человечку пристально присматриваться, так он делал вид, что и не шевелился вовсе и что он вовсе никакой не человечек, а просто трещинка на стене.
Соню все это расстраивало и утомляло. Она отвернулась от стены. Но тогда фонарь стал глядеть ей прямо в глаза, он тревожил ее, проникая сквозь веки своим настойчивым лиловатым светом, и не давал заснуть. А кроме того, она отчетливо почувствовала, что фигурки за ее спиной бегают и шмыгают по стене и радуются, что Соня отвернулась и не видит, что они здесь вытворяют.
Соня измучилась и начала понемножку хлюпать. Мама тотчас услышала, встала с постели и подошла к ней:
— Ты что?
— Не спится никак.
— И все? Как тебе не стыдно! Мне ведь вставать скоро, а ты отдохнуть не даешь.
— Фонарь светит.
— Я дверь затворю.
— А мне одной в кухне страшно.
— Ну, не выдумывай! — сердито сказала мама. — Закрой глаза и спи. Вот и все тут.
Мама ушла. Соня закрыла глаза и до тех пор не открывала, пока и в самом деле не уснула.
И тут же начал ей сниться страшный сон. Она очутилась на чердаке. Она как-то ходила с мамой на чердак вешать белье, и ей там показалось очень дико и страшно — стропила поднимались над головой, ходить надо было по деревянным перекладинам, а если наступишь мимо, то нога проваливается в какую-то труху. Но всему чердаку стояли трубы, и Соне казалось, что за этими трубами кто-то прячется; и в темных углах, затянутых паутиной, тоже шевелится что-то. Она ни на шаг не отходила от мамы, пока та вешала белье, и была очень рада, когда спустились с чердака в сени, а двери на чердак мама заперла на замок.
И вот теперь, во сне, Соня оказалась на чердаке и была совсем одна. Стропила еще страшней поднимались над головой, а перекладины под ногами качались. И не труха была между перекладинами, а чернели провалы; если оступишься, то и полетишь куда-то вниз… Соня идет по этим перекладинам с замершим сердцем, охает, вскрикивает. Хочет выйти, найти дверь и выйти, но конца чердаку нет, трубы вереницей уходят во тьму. А там, в темноте, шевелится паутина и, конечно, кто-то лезет оттуда. Соня знала, что за трубами прячется неизвестное чудовище, а теперь оно здесь, оно сейчас вылезет! Соня бежит, оступается, перекладины вскидываются концами вверх, и она с криком летит в черную пропасть…
— Ты что кричишь? — Около ее постели опять стояла мама.
Соня, еще задыхаясь от страха и волнения, села на постели.
— Сон страшный… — еле проговорила она.
— Ну, ну, повернись на другой бок и спи, — сказала мама зевая. — И что это тебе сегодня покоя нет? Сама не спишь и людям не даешь. Ох, половина шестого… Еще на полчасика прилечь, погреться!..
Мама снова ушла, а Соня боялась заснуть. Вдруг заснешь — да опять страшный сон приснится! Фонарь по-прежнему глядел в окна комнаты, доставая лучом до Сониного сундука. Но окна уже чуть-чуть побледнели. Квартира спала, никому не надо вставать на работу сегодня. Улица тоже спала, ни трамваев, ни извозчиков не было слышно… Уснула и Соня.
Но только уснула — опять очутилась на страшном чердаке. В отчаянии она оглядывалась кругом, а из-за труб высунулись собачьи морды. Собаки смотрели на нее, не спуская зловещих глаз. Она бросилась в сторону, но оттуда тоже глядели собаки; бросилась в другую сторону — и там собаки… Соня вся сжалась и, стоя на месте, глядела на них. А собаки выходили из-за труб и все молча двигались к ней. Они шли со всех сторон. Шли они на задних ногах — и это было особенно страшно. Соня дико завизжала и проснулась. Мама зажигала лампочку в кухне.
— Ступай на мою постель, — сказала она. — Может, там успокоишься.
Отец уже одевался, чтобы идти к коровам.
— Ложись, я тебя укрою!
Соня забралась в большую теплую мамину кровать, отец укрыл ее ватным одеялом:
— Спи. Тут никакие собаки тебе не приснятся.
И Соня наконец уснула спокойным сном. А в окно глядел холодный зимний рассвет, и елочные бусы слабо блестели, отражаясь в небольшом зеркале, висевшем на стене.
Соня теряет друга
На третий день рождества произошел неприятный случай. Вечером, когда горели свечки, вдруг с треском лопнуло зеркало, висевшее около елки на стене.
— Ну! — неодобрительно покачала головой Анна Ивановна. — Плохо дело.
— Хорошее зеркало-то… — с сожалением сказала мама. — Все в осколки!
— Нехорошо, нехорошо! Нехорошая примета, — продолжала Анна Ивановна. — Кто-нибудь умрет.
Соня испугалась и бросилась к маме:
— Кто умрет?
— Ну, какая там примета! — сказал отец. — Свечку близко залегли — вот и треснуло. Что ж, из-за этого теперь кому-нибудь умирать? Да ведь и у вас вон зеркало с трещиной, а разве кто умер?
— Да нет, счастливо обошлось. Все живы. А я-то все боялась — с Душаткой что случится. Это ведь Душатка разбила, вон его сестрица!
Анна Ивановна кивнула на Кузьмича, а он нахмурился и опустил глаза. Все сидели за самоваром, не спеша пили чай, праздновали последний день рождества и отдыха.
— Как же это? — поинтересовалась мама.
Анна Ивановна покосилась на мужа, увидела, что он хмурится, но все-таки решилась.
— Она ведь у нас веселая, Душатка-то, выпить любит до страсти. Выпить ей, да чтобы компания была, и чтобы песни да пляски. Рюмочка, другая — и пошло: «Эх, орелики!..» — начала рассказывать Анна Ивановна.
Самовар уютно шумел, все слушали, а пуще всех слушала Соня.
— А жили мы тогда во Всехсвятском. Митя где-то в отъезде был, по работе. Хозяин у них иногда подрядится на какую работу в другом городе — ну и посылает своих мастеров. Вот день подходит — Митя вернуться должен. Уж я жду, запасла всего в этот день — и винца и закусочек каких получше, пирогов, конечно, напекла… Поехала на вокзал его встречать. А Душатка дома осталась. Встретила я Митю, едем с вокзала, и думаю: догадалась Душатка стол накрыть или нет? Слезли с извозчика, подходим к дому, слышим — что за шум такой у меня в квартире? Батюшки, а там полно народу, все Душаткины подружки! И все-то пьяные до страсти! Вино выпили, закуску всю съели, пироги съели, поют, пляшут… А сама-то она пляшет пуще всех. Гляжу, размахнулась рукой — да по зеркалу! А рука-то в кольцах, так и треснуло мое зеркало с угла на угол!.. Стою, чуть не плачу: встретили Митю! Он-то, конечно, их сейчас же всех разогнал. Душатку пьяную отхлестал ремнем. Ну, да ей что! Проспалась — будто ничего и не было.
— А где же она теперь, Евдокия Кузьминишна-то? — спросила мама.
— У купца одного живет, у богатого. Хорошо живет. А плохо было бы, давно сюда пришла бы!
— Незачем ей сюда и приходить, — угрюмо сказал Кузьмич, — у нее своя дорога.
Отец увидел, что Кузьмичу неприятно разговаривать о его сестре. Кузьмич, непьющий, строгий к себе и к людям, стыдился своей непутевой сестры, и душа у него за нее болела. Отец понимал это и перевел разговор.
— Нынче купцы весело гуляют. Некоторые, говорят, до смерти объедаются. Я слышал, в трактире у Тестова какой-то купчина так напраздновался, что вывезли оттуда без памяти!..
Дня через два-три из больницы сообщили, что художник умер.
— Вот я говорила, а вы не верили! — сказала Анна Ивановна. — Вот оно, зеркало-то!
— Эх! — вздохнул отец, и голубые глаза его покраснели от подступивших слез. — Того и ожидать надо было. Чахотка хватила человека, а тут еще и воспаление — как же выкарабкаешьси? Господа, вишь, на юг уезжают лечиться. А нашему брату, если хватит эта чахотка, то уж и каюк. При чем тут зеркало? Купцы, как послышишь, то и дело зеркала бьют, да ничего им не делается. Бедность наша тут виновата.
Отец и мама пошли хоронить художника. На кладбище увезли его прямо из больницы. Приехала старуха мать из деревни. Так вот трое и шли они за гробом, а день был вьюжный, метельный.
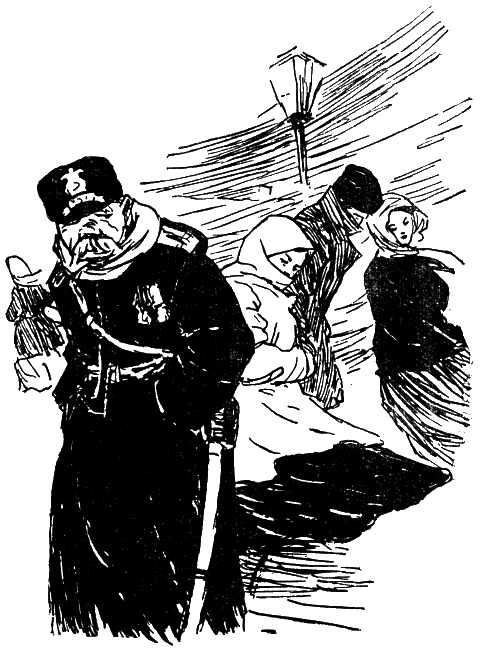
Так вот трое и шли они за гробом, а день был вьюжный, метельный.
Потом мать художника пришла, забрала оставшиеся после сына вещички — жидкую постель, холсты, краски… Мама помогала ей связать узел и все время плакала. А старуха молчала — у нее, видно, сердце окаменело от горя.
Соня, увидев, что мама плачет, тоже заплакала. И потом долго думала и старалась понять: как это так — художник умер? Как это так, что его нет больше на свете? И как это, что он больше сюда не придет?
Мама вымыла его комнату и наклеила на окно белую бумажку. Это означало: сдается комната. И когда Соня увидела эту бумажку, то вдруг поняла, что художник и вправду больше никогда не вернется домой. И тут уж она заплакала по-настоящему, не потому, что другие плачут, а потому, что поняла утрату, поняла, что ушел от них навсегда хороший, добрый человек. И как же теперь без него? К кому прийти поговорить, когда тебе скучно? Кто утешит маму, если ей опять не поклонится Палисандрова?
Соня плакала еще и от острой жалости к этому бедному человеку. Они тут праздновали, пели песни, ели ветчину… А он, больной, горбатенький, лежал в больнице и умирал там один. Почему же он никого не позвал, почему же не сказал? Почему так и умер один?
Комната пустовала недолго. С соседнего двора, из дома Подтягина, переехал к ним Осип Петрович. Он был тоже художник, но не «богомаз», а художник «классный», то есть настоящий художник, имеющий диплом. Горбатенький ходил к нему учиться. А у Осипа Петровича умерла жена, и он не захотел жить один в той комнате, где они жили вдвоем с женой. Он говорил, что жена ему все мерещится, приходит и беспокоит его.
Осип Петрович, вернее сказать, не переехал, а перешел. Имущества у него было не больше, чем у того, умершего. Соня стояла в кухне, притаясь за печкой, и смотрела, как Осип Петрович втаскивал мольберт и холст, завернутый в тряпку. Осип Петрович хмуро оглянулся вокруг из-под обвислых полей своей измятой серой шляпы и, ничего не сказав, прошел в комнату и закрылся.
Первые дни его было не видно и не слышно. Он сидел закрывшись в комнате и, только проходя через кухню на улицу, мрачно буркал: «Здравствуйте».
Соня все крутилась около его двери, пытаясь заглянуть хоть в щелочку, — уж очень ей интересно было посмотреть, что такое пишет художник на таком большом холсте. Но войти боялась, а Осип Петрович никогда не звал ее к себе. И снова Соня с грустью вспоминала горбатенького Никиту Гавриловича, к которому она могла входить просто и разговаривать о чем вздумается.
Осип Петрович сидел в своей комнате, работал и молчал. А вокруг него вились роем разговоры вполголоса. Лавочник Подтягин многое знал о нем, рассказал об этом отцу, а отец рассказал всем своим домашним. Говорил он об Осипе Петровиче с большим уважением:
— Что ж сказать, настоящий художник! Своя печать есть. Напишет картину — и печать поставит. А люди уже видят, что классный художник писал. Оказывается, сам генерал-губернатор князь Николай Александрович посылал его Киевские Лавры подновлять. Говорят, сделал, как заново. И все иконы подновил, и чудотворные, которые поистерлись. Деньжищи большие взял!
— Да где ж они у него, эти деньжищи? — усомнилась мама. — Не видать что-то. Гол, как сокол.
— Ну — где! — сказала Анна Ивановна. — В казенке небось. А то где ж у них деньги?
— Да ведь он, кажется, не пьет.
Как-то вечером, заметив, что Осип Петрович долго сидит за работой и не выходит, мама сказала Соне:
— Ступай, спроси, чаю не хочет ли. Скажи — самовар поспел.
Но Соня боялась идти к Осипу Петровичу, и мама пошла сама, Соня воспользовалась этим случаем и вместе с ней проскользнула в комнату к художнику. Осип Петрович стоял перед мольбертом, с длинной кистью в руке.
— Осип Петрович, — сказала мама, — извините, что я вас беспокою. Не принести ли вам чайку? А то вы и обедать не ходили сегодня, и не готовите ничего…
Осип Петрович поднял на нее усталые с тяжелыми веками глаза. Он молча глядел на нее и на Соню, словно никак не мог понять, откуда они взялись.
— Чайку? Какого чайку?
— Ну, какого чайку? Самовар у нас поспел. Самовар большой, на всех хватит. Пойдемте к нам чай пить. Или сюда принесу.
— А… чаю? Ага. Чаю… Ну что ж, черт с вами. Принесите.
И он опять стал легонько трогать холст своей длинной кистью.
Мама не обиделась за такой ответ — он сказал это как-то вовсе не обидно — и пошла за чаем. А Соня осталась. Она, жадно вытаращив глаза, смотрела на картину. Там были нарисованы какие-то царские палаты, пестрые, расписанные стены, красные и синие ковры. В маленькое окошко падали косые желтые лучи, и под этим окошком спала красивая женщина в кокошнике и в ожерельях. Недалеко стоял боярин, а может, царь, и смотрел на спящую красавицу.
Мама пришла с чаем и с хлебом. Она поставила стакан на угол стола и, взглянув на картину, сказала:
— Это что же, не Василиса ли Мелентьевна?
Осип Петрович с удивлением взглянул на нее:
— А вы-то откуда знаете про Василису Мелентьевну? Гимназию кончали, что ли?
— Какую там гимназию! — усмехнулась мама. — Я и буквы-то написать не умею. Ну, а знаю — читала. Я уж очень читать люблю!
— Ах, черт вас возьми! Да когда вам читать-то? Время-то у вас где?
— Ну, кто любит читать — найдет времечко. Это как курильщик. Как ни занят человек, а уж найдет время папироску выкурить. Так и это.
— А-а… — протянул художник. — Умница вы, умница вы, оказывается.
Мама засмеялась, махнула рукой:
— Ну, какое там!
И, помолчав, спросила:
— Осип Петрович, ведь, думается, картина-то готова совсем. А вы ее все подмазываете да подмазываете.
Художник посопел, нахмурив брови, и ответил не сразу:
— Сам знаю, что готова. Расставаться не хочется.
— А разве обязательно расставаться-то? Может, ее себе можно оставить?
— Черта с квасом — себе! Продана она уже. Все. Продана. И хозяин ее требует. А мне отдавать не хочется. Понятно это вам?
— Конечно, понятно.
— Ну и вот. Ну и черт с вами!
— Да, — вздохнула и мама, — ну что ж делать теперь. Пейте чай-то… А ты что тут стоишь? — Она увидела Соню. — Пойдем. Не надо мешаться.
— А зачем же он ее продал? — допытывалась Соня, когда они ушли в сбою комнату.
— Эко ты, голова, плохо соображаешь! — ответил ей отец. — Сапожник, например, сапоги сделал и продал — вот ему и хлеб. Портной одежину сшил, продал — вот и хлеб. А художнику хлеб нужен или нет? Вот он картину сделал…
— Нет, Иван, не то ты говоришь, — задумчиво сказала мама. — Разве сапожник в свои сапоги душу вкладывает? Знай шьет по мерке. А ведь тут сколько души своей положено — ну, как же ее продашь?
— Да вот так и продашь, как есть захочешь, — заключил отец.
До самого Нового года в квартире веяло праздником. Шли святки. Кузьмич, приходя с работы, заводил граммофон, и все с удовольствием слушали одни и те же пластинки. Пела Вяльцева высоким голосом. Соне не очень нравилось, как она пела — уж очень тоненький у нее был голосок. Зато Плевицкую все в квартире любили, особенно когда она пела «Лучинушку».
…Ах, тоска-кручинушка
Мне сердце тяготит!
Лучина-лучинушка
Неясно горит.
Соня запомнила слова и тихонько подпевала ей.
Мама вздыхала, слушая эту песню. Хоть и не пришлось ей жить со свекровью, которая «с утра ворчит», но понимала она эту бабью долю. Так ее мать жила, так ее сестры жили в деревне…
А когда кончались пластинки, садились играть в «три листика» по копеечке.
Соне нечего было делать. На улицу в зимний вечер не пойдешь.
Тогда Соня придумала себе игру. Вот она плывет по морю в лодке. Плывет она через всю кухню, мимо сундука, на котором снятся страшные сны, мимо печки, мимо чисто прибранного кухонного стола… В кухне никого нет, все жильцы у мамы за столом играют в карты, и даже Дунечка с ними, потому что Сергея Васильевича опять нет дома. У Осипа Петровича дверь закрыта — может, и его нет. По всей кухне плещутся морские волны, привернутая семилинейная лампочка еле освещает их… Путешественник — Соня — хочет высадиться на берег, но кругом скалы, волны разбиваются о них. Вот, кажется, вдали островок, он красивый, на нем растут цветы. Соня сейчас остановит лодочку и вылезет на этот островок… Но поднялась буря, волны швыряют лодку, Соня кричит, чтобы ее спасли. И вот, откуда ни возьмись, — большой корабль. Оттуда протягивают руки, кричат: «Сюда! К нам!» — и вытаскивают Соню на палубу; а ее уже захлестнула волна, и она вскрикивает в последний раз…
Мама, с картами в руках, появилась в кухне. Она испуганно смотрела на Соню, которая стояла на ступеньках деревянной лесенки, ведущей на печку, и что-то выкрикивала, словно прощалась с кем-то.
— Ты что? — тревожно спросила она.
Соня удивилась: чего это мама так испугалась?
— Я играю, — сказала она.
— Фу ты, напугала! Я уж думала, что такое!
Мама ушла обратно в комнату.
Соня хотела продолжать свою игру. Но в это время распахнулась дверь, вошел Осип Петрович и еще какой-то человек в барашковой шапке пирожком и с барашковым воротником на пальто. Они прошли в комнату к Осипу Петровичу. И очень скоро вышли оттуда. Осип Петрович, еще более угрюмый, чем всегда, держал под мышкой обернутую мешковиной свою картину. Они ушли, даже не притворив за собой дверь комнаты, будто уж и незачем стало ее затворять, раз унесено из нее самое дорогое…
Соня заглянула в комнату — на пустой мольберт, на холсты с начатыми картинами, на заляпанный красками табурет, оставшийся еще от горбатенького художника, и побежала к маме:
— Мама! Осип Петрович картину унес!
— Да ну!
Мама вскочила, пошла посмотреть — правда ли? Увидела, что это правда, запечалилась и закрыла дверь его комнаты.
— Ну, теперь запьет, — сказала Анна Ивановна. — Это уж как обнаковенно полагается. Раз денежки завелись…
— Не потому, что денежки завелись, — сказала мама, — а так… С горя, может. Но только не думаю. Осип Петрович — образованный человек. Это не наш сапожник Очискин, пьяница.
— У нас, у русских людей, с чего бы ни было — хоть с горя, хоть с радости, хоть простой, хоть образованный!
— Ну не все же запивают, — тихо вступилась Дунечка. — А если запивают… значит, у людей душа тоскует.
— Душа! — рассердилась Анна Ивановна. — С чего это вон у твоего душа растосковалась — каждую ночь пьяный приходит? Чего ему надо?
— Жизни ему не такой надо, — так же тихо пояснила Дунечка. — Ему богатой жизни хочется… На своих хозяев нагляделся, как они в каретах разъезжают да балы справляют…
— Так у хозяев-то свой распрекрасный магазин у Крухмальных ворот, а у твоего — что? Блоха на аркане?
— У «Крухмальных»! — усмехнувшись, передразнил Анну Ивановну Кузьмич. — У Трухмальных, дурачье! А она — у Крухмальных. Эх ты, темнота! Ходи, тебе ходить!
Мама и отец переглянулись и засмеялись. Они-то знали, что ворота эти называются Триумфальными, но ничего не сказали, чтобы не сконфузить Кузьмича. А все думали, что они засмеялись над Анной Ивановной, над тем, что она Трухмальные ворота называет Крухмальными. Да она и сама засмеялась — ну, не так сказала, какая же беда! Пускай будут Трухмальные!
Мама долго не запирала дверь на ночь. Ждала, что Осип Петрович придет домой. Но уже легли спать, а его все не было. Явился Сергей Васильевич и молча прошел в свою комнату. Осипа Петровича не было.
— Запирай, — сказал отец. — Постучит — встану, открою.
Но Осип Петрович в эту ночь так и не пришел домой. И на следующий день не пришел. И лишь на третий день появился — мрачный, как всегда, в обвислой шляпе, с растрепанной бородой — держась за стенку, пробрался в свою комнату.
— Ну вот, — сказала Анна Ивановна, — я ведь говорила, что запьет!
А мама огорченно покачала головой:
— Образованный человек… и как же это так все-таки?
Елка в школе
Соня очень усердно готовилась к этому дню. На Новый год им велели прийти в школу на елку. А кроме того, в этот вечер устраивался спектакль, и Соня участвовала в этом спектакле. Она должна была выйти на сцену в шубке и в капоре и рассказать о том, что наступила зима, что снег покрыл леса и поля, что деревья в лесу от мороза потрескивают, а люди топят печки и скотина стоит в теплом хлеву, жует душистое сено… Этот отрывок, напечатанный в букваре, Соня твердила с утра до ночи: она больше всего боялась сбиться или забыть что-нибудь.
Соня шла в школу с замирающим сердцем. Как подумает о том, что ей придется перед всей школой выходить на сцену, так будто кипятком плеснет под ложечкой.
Когда Соня, тихонько открыв дверь, вошла в школу, там уже шумел народ. Девочки толпились около раздевалки; а кто успел раздеться — шли вниз, в столовую.
— Что же так долго? — крикнула ей Саша Глазкова. — Пойдем скорее. А твоя мама где — не пришла разве?
У Саши не было ни отца, ни матери, она воспитывалась в приюте. Наверное, поэтому она всегда спрашивала Соню об ее маме и отце.
— Она потом придет… — немного замявшись, ответила Соня.
Ей не хотелось при всех говорить, что маме некогда было прийти сейчас, потому что она пошла в коровник доить коров. Девочки услышат и опять начнут повторять, что у Сони мама коровница, а Лида Брызгалова скажет, что от нее коровами пахнет…
Столовая была самым обширным помещением в школе. В этом длинном выбеленном полуподвале, который сегодня назывался залом, и устроили новогодний вечер. В дальнем конце сколотили подмостки, повесили занавес. А посредине поставили елку.
Вот это была елка! Огромная, густая, она верхушкой своей упиралась в самый потолок. Правда, потолок здесь был не очень высокий, но Соня более красивой и богатой елки в своей жизни еще не видела. Они взялись с Сашей за руки, подошли поближе и принялись рассматривать игрушки и разные украшения, блестевшие на елке. Можно было весь вечер смотреть и не насмотреться на все эти волшебные шары, звезды, корзиночки, на всех этих Снегурочек, рыбок, зверей и дедов-морозов… А главнее, на этих красивых кукол, которые сидели под елкой. Куклы протягивали к Соне свои маленькие ручки, все они просились к ней. Как хотелось Соне, чтобы у нее хоть раз в жизни появилась вот такая куколка с ясными глазками и кудрявыми волосами!
Школьную столовую было не узнать. На стенах висели большие, яркие рисунки. От окна к окну тянулись цепочки из разноцветной бумаги, висели пестрые флажки…
Все эти украшения девочки сделали сами. Конечно, главные работы делались в старших классах, но помогали и они, первоклассницы.
За несколько дней перед праздником Елена Петровна принесла несколько листов разноцветной глянцевитой бумаги. Самый большой темно-зеленый лист она расстелила на полу, на светлом паркете, и сказала:
— Соня, ты хорошо рисуешь. Нарисуй нам елку, большую елку, во весь лист.
Соня оторопела:
— А мне не суметь…
— Сумеешь! Рисуй! — и дала ей толстый черный карандаш.
Соня взяла карандаш и, стоя на коленях, принялась рисовать еловые лапы.
Нет, не очень-то хорошая у нее получилась елка, не пышная, не такая, какой она представлялась Сониному воображению. И Соня, закончив рисунок, с сомнением глядела на него.
Однако Елена Петровна нашла, что елка хорошая.
— Девочки, берите ножницы, вырезайте елку!
Девочки вырезали Сонину елку. Елена Петровна бережно подняла ее с пола и наклеила на большой лист белой бумаги. Она весело поглядела на елку с одной стороны, с другой: хорошая елка!
— А теперь будем украшать ее!
Девочки изумленно уставились на нее:
— А чем? А как?
— Уж если елку сумели вырастить, неужели игрушки не сделаем?
И Елена Петровна показала, как надо делать игрушки.
Это было очень интересно! Тут-то и начались всякие выдумки. Из розовой бумаги вырезали яблоки, из оранжевой — апельсины. Кто-то вырезал ромашку, кто-то — человечка в красной рубашке и в синих штанах, кто-то — гриб-мухомор в рябой шапке…
Соня сделала птичку из желтой бумаги, приклеила ей зеленый гребешок и зеленые крылышки… А потом вырезала Снегурочку в голубой шубке и даже лицо ей нарисовала…
Пестрые цепочки тоже научила делать Елена Петровна. Делали колечки из глянцевой бумаги — из красной, из желтой, из синей, — цепляли их друг за друга и склеивали. Вырезали флажки. А потом все эти цепи, игрушки и флажки вешали на Сонину бумажную елку — приклеивали за краешки к зеленым бумажным ветвям.
Соня сразу узнала свою елочку среди других, висевших на стене. Ведь не только первый класс сделал такую настенную елку, но и второй, и третий, и четвертый. Может, у старших это получилось и богаче и нарядней, но Соне все-таки больше нравилась своя. Каждая игрушка на ней была знакома — вон голубой чайник, который вырезала Саша, вон кривобокий кубик, который только и смогла вырезать Лида Брызгалова, а вон и Сонина желтенькая птичка и Снегурочка в голубой шубке…
Вдруг шелест, шепот прошел по скамьям, и сразу наступила тишина. Приехала госпожа Катуар, попечительница школы.
Госпожу Катуар встретила сама заведующая Евдокия Алексеевна. Куда девались вечно нахмуренные брови заведующей, куда исчез ее грозящий взгляд исподлобья, ее тяжелый властный шаг!
Из-под округлившихся белесых бровей Евдокии Алексеевны кротко светились круглые, словно у куклы, глаза. Толстая шея вдруг стала гибкой — заведующая не скупилась на поклоны. Она провела госпожу Катуар в комнатку за сценой и закрыла дверь.
— Видите, опять отличаемся! — сказала она, виновато вздыхая. — Теперь у нас уже и спектакли и елки… Такой беспокойный у нас народ! И все чего-то придумывают, все чего-то придумывают… Люди в праздники отдыхают, а мы — вот! Трудно мне становится, дорогая госпожа Катуар, особенно с некоторыми…
— С кем же? — мило улыбаясь, спросила попечительница.
— Ну, как всегда, с Еленой Петровной. Замучила, всех на ноги подняла: «Давайте сделаем елку!» А ведь это же и расходы! Средства у нас, как вы знаете, невелики — так, видите ли, мы еще елку устраиваем!
— Ну, если учительницам это нравится… все эти хлопоты… — все так же мило улыбаясь, возразила попечительница.
Она хорошо понимала, куда клонит Евдокия Алексеевна: средств мало, надо бы какое-нибудь пожертвование, подарок… Но госпожа Катуар, несмотря на огромное богатство, была скуповата и поэтому сделала вид, что ничего не поняла.
— Хоть бы вы им, госпожа Катуар, запретили это раз навсегда! — жалобно попросила Евдокия Алексеевна. — Все эти их выдумки! Ведь этак бог знает до чего дойдет!
— Ах, нет, дорогая Евдокия Алексеевна, — госпожа Катуар покачала головой, — я ничего не разрешаю и ничего не запрещаю… Только пусть не переступают пределов благоразумия!
Соня с жадным любопытством проводила глазами попечительницу. Она была разочарована: ей казалось, что попечительница должна быть высокой, очень красивой, в огромной шляпе с перьями… А госпожа Катуар была маленькой и даже не очень нарядной. Только в ушах у нее горели острые огни — должно быть, бриллианты. Но стала ли она от этого красивее?
— Смотри, Брызгалова с матерью пришла, — прошептала Саша. — Ух ты, расфуфырились!
В толпе проходила высокая дама в шелковом платье. Платье ее шумело, в ушах горели серьги. Держась за руку, рядом с ней шла Лида Брызгалова. У нее в косах топорщились огромные белые банты. Лида снисходительно посматривала на девочек, словно желая сказать:
«Я хоть и учусь с вами в одной школе, но не воображайте, что вы мне ровня. Вы простые, а мы богатые!»
Потом пришла мать Анюты Данковой, полная, важная, во всем черном, с золотой цепью на груди. Она глядела вокруг, прищурив осуждающие, недоброжелательные глаза, словно ища, к чему бы придраться, что осудить и за что сделать замечание. Говорили, что она дружит с попечительницей школы и что она очень богомольная и особенно следит за тем, чтобы дети воспитывались в страхе божьем.
Пришли матери и других девочек. И словно их кто развел по кучкам: те, кто победнее, поскромнее, теснились к сторонке, останавливались у порога, не смея пройти дальше. Кто побогаче, получше одет, проходили вперед; их встречали учительницы, усаживали на скамейки поближе к сцене. И дочери богатых матерей уже свысока посматривали на остальных девочек; они сидели вместе и разговаривали только друг с другом.
Соня с волнением поглядывала на дверь. Когда же придет ее мама? И что скажут о ней девочки, когда она придет? У Сони уже заранее болело сердце, что ее мама, так же как мать скромной, тихой ученицы Матреши Сорокиной, войдет и станет в уголке, и никто не пригласит ее пройти и сесть. Матрешина мать — кухарка; вот она стоит там, и словно никто не видит, что она тоже пришла на праздник… Так же немного сконфуженно стоит там и мать Вари Горшковой, дворничиха, то и дело утираясь новеньким носовым платком, словно ей очень жарко…
Но вот наконец и мама!
Соня издали глядела на нее, еще не зная, как ей быть: побежать ли навстречу или подождать, пока она сядет, и потом подойти? И неужели мама тоже так и будет стоять там, у порога, и никто из учителей не заметит ее?
Мама пришла в черном кашемировом, в самом лучшем своем платье, гладко причесанная. Вошла скромно, поклонилась Матрешиной матери и остановилась около нее, отыскивая глазами Соню.
«Ну вот, ну вот! — мучительно думала Соня. — Вот и она теперь там стоит! Так вот и будет там стоять весь вечер!»
Тут подленькая мысль промелькнула у нее: а что, если взять да и притаиться и не подойти к ней? Вот никто и не узнает, что это ее мама стоит там у порога, гостья, которую не замечают хозяева…
Но тут же сердце ее вспыхнуло от жалости к маме и от негодования на себя. Даже слезы подступили у нее к глазам. Как могла она так подумать? И Соня, молча расталкивая подруг, ринулась к своей бедной маме.
А в это время, к Сониной радости и изумлению, к маме подошла Елена Петровна, милая, красивая, ясноглазая их учительница Елена Петровна.
— Здравствуйте, здравствуйте! — приветливо сказала она всем, стоявшим здесь в уголке. — С Новым годом, с новым счастьем!.. Но что же вы стоите здесь? Проходите вперед, занимайте места. Сейчас у нас начнется спектакль.
Женщины поблагодарили ее и стали рассаживаться на скамейках. А Сонину маму Елена Петровна попросила пройти с ней за кулисы, посоветоваться.
— И ты пойдем с нами, — сказала Елена Петровна, взяла Соню за руку и повела с собой.
Ох, как гордо шла Соня через зал за руку с Еленой Петровной!
«Видите? — говорила она своим взглядом. — Елена Петровна мою маму к себе позвала! А ваших не позвала!»
И в то же время немного тревожилась. И зачем это она позвала ее маму? Соня выступать будет, а маме зачем туда?..
За кулисами уже толпились девочки, которые участвовали в спектакле. Варя Горшкова из четвертого класса стояла наряженная Матушкой-Зимой, в чем-то белом, длинном, в серебряной короне и вся в блестках. Лида Брызгалова как узнала, что Варя будет играть Зиму, все смеялась и дразнилась:
«Дворничиха в короне! Дворничиха в короне!»
Самой Лиде не дали никакой роли. Директор школы, краснолицая Евдокия Алексеевна, очень настаивала, чтобы Лида участвовала в спектакле, но Елена Петровна не согласилась.
«Это невозможно, — сказала она. — Лида не в состоянии запомнить ни одной роли, она сейчас же начнет прибавлять что-нибудь свое и притом без всякого смысла».
«Ну так дайте ей роль без слов — снежинки там какой-нибудь, льдинки, что ли… Неудобно, госпожа Брызгалова может обидеться».
«Но Лиде и без слов нельзя дать никакой роли — она непременно заговорит. Она ведь и промолчать не сможет!»
И теперь Лида сидела рядом с матерью в зрительном зале, а ее мать, которая уже знала об этом разговоре, снисходительно улыбалась, приподняв брови: «Ну что ж, посмотрим, что у вас получится, хотя заранее можно сказать, что не получится ничего!»
Девочки-Снежинки толпились в своих белых кисейных юбочках. Деду-морозу привязывали бороду. Тут же стояла в своем черном платье, с цепочкой на груди, мать Анюты Данковой, Марья Лукинична. Сонина мама поклонилась ей, Марья Лукинична ответила вежливо, но без улыбки.
— Голубушка, — сказала она, — сейчас ваша дочь должна выйти на сцену и прочитать свой монолог.
— Прочитать — что? — не поняла мама.
— Она должна прочитать свой монолог… — и, обратясь к Соне, спросила: — Ты, надеюсь, выучила его?
Соня онемела. Какой монолог? А что такое монолог? Она даже не слышала ни про какой монолог, а ее спрашивают, выучила ли она его!
— У этой девочки блестящая память! — вмешалась Елена Петровна. — Ну, что ты, Соня, так заробела? Ведь ты же выучила то, что должна прочитать — «Наступила зима…»
Соня перевела дух. А, значит, это и есть монолог! Да, она все выучила.
— Целые дни твердила! — сказала мама.
— Отлично, — кивнула головой Марья Лукинична. — Но вот что, голубушка. Девочке надо выйти на сцену в шубке и вообще тепло одетой. Надо представить, что кругом трещит мороз, а потому она так и закутана…
— Так что же? — улыбнулась мама. — Она оденется.
— Да видите, голубушка, — Марья Лукинична поморщилась, — уж очень у нее плохое пальтецо. Такое жиденькое, воротник потертый… И капор… уж очень некрасивый… Неудобно. Понимаете? — И, обратясь к Елене Петровне, спросила: — Нельзя ли эту девочку заменить какой-нибудь другой, более подходящей?
Мама уже взяла Соню за руку и хотела увести ее из-за кулис, но Елена Петровна остановила ее.
— Нет-нет! Мы найдем Соне пальтецо, — и улыбнулась маме своей милой улыбкой. — Не беспокойтесь, все уладится. Ступайте, займите место поближе к сцене. Выступать должны хорошие ученицы, а не те, кто только одет хорошо.
Мама прошептала «спасибо» и вышла.
Через несколько минут Елена Петровна принесла Соне чье-то пальтецо из коричневого мятого плюша с пушистым воротником. На голову ей надели такой же пушистый капор с лентами. Соня погляделась в зеркало и покраснела от удовольствия: вот-то сейчас девочки посмотрят, какая она нарядная!
— Сейчас тебе выходить, — сказала Елена Петровна. — Не робей. Только представь получше, что ты на улице и что мороз очень крепкий.
Приближалась страшная минута. И зачем только Соня согласилась выступать! Сидела бы сейчас спокойно рядом с мамой на лавочке, а теперь вот мучайся! Да Соня никогда бы и не подумала выступать, если бы не Елена Петровна. Елена Петровна сказала, что Соня будет читать отрывок про зиму, а раз она так сказала, значит, надо выйти на сцену и прочитать… Соня ждала и смотрела, когда откроется занавес, и твердила первые слова своего выступления, а больше она ни о чем не думала сейчас и ничего не помнила.
Но вот Елена Петровна махнула рукой: открывайте! Занавес зашелестел и расступился. На сцене все белело от ваты и сверкало от елочной канители. Сверху посыпался снег — это девочки бросали горстями мелко нарезанную белую бумагу.
— Выходи, — шепнула Елена Петровна и подтолкнула Соню.
Соня вышла. Ничего не видя перед собой, она сразу начала читать:
— «Наступила зима… Белым снегом укрылись поля. Ходит Мороз по лесу, потрескивают деревья от стужи…»
Она не забыла далее поежиться от холода, как велела Елена Петровна. Соня прочла хорошо, с выражением. Казалось, что она даже нисколько и не стесняется. А она читала и даже голоса своего не слышала. Но вот и все. Вот и последние слова. Нигде не запнулась, нигде не ошиблась.
И тут словно рассеялся туман и она увидела сидящих перед сценой людей, даже увидела свою маму. Ей улыбались, хлопали.
Вдруг среди этого веселого шума четко прозвучал Лидин голос:
— А пальто Верино надела! Это Верино пальто. Березинской!
Соня ушла со сцены, как полагалось. Мимо нее по лесенке побежали на сцену Снежинки в белых легких платьицах. А Соня встала за кулисы, сняла пальто и заплакала. Ну, зачем Лида сказала это вслух, при всех?! И почему у Сони нет своего такого же хорошего пальто, как у Веры или как у Лиды? Уж не могут ей купить хорошее пальто!
— Не надевала бы чужое, так и не плакала бы, — сказала, проходя мимо, какая-то нарядная девочка из четвертого.
У нее-то, наверное, было хорошее пальто!
Елена Петровна успокоила Соню.
— На сцену все наряжаются, надевают костюмы, подходящие к роли, — объяснила она. — У тебя твое пальто тоже не плохое, но к роли оно не подходило. Вот и все. А Лида поступила нехорошо, глупо, и мы ей об этом завтра скажем. Не плачь и не огорчай свою маму.
Соня вытерла слезы и пошла в зал. А голос Лиды так и звенел в ее ушах:
«Это не ее пальто. Это Верино!..»
Спектакль немного развлек Соню. Интересно было смотреть, как девочки изображали и деда, и бабу, и деда-мороза… К концу вечера она повеселела и успокоилась.
Когда девочки стали расходиться с вечера, учительницы роздали им подарки — по кулечку конфет. А куклы, о которых столько мечталось, так и остались сидеть под елкой.
— Хороший вечер получился, — говорила мама дорогой, когда они шли домой. — Как все это интересно устроили!
А Соню уже снова грызла совесть. Мама и не знает, как она, Соня, сегодня ее обидела. Давеча она подумала отказаться от нее. А сейчас рассердилась, что мама не может ей купить хорошее пальто. Это болело в сердце, как заноза, терпеть было невозможно. И Соня, еле выговаривая слова, все рассказала маме.
— Ну, это ты зря, — ответила мама, и по ее голосу Соня поняла, что мама очень огорчилась. — Тебе твоих отца с матерью стыдиться нечего. Твой отец с матерью зарабатывают хлеб своим горбом, не воруют, никого не обманывают. А это и есть самое главное. Богатые-то думают, что главное — это их богатство. Ну, это неправда. Перестанет мужик хлеб сеять — вот им и есть нечего. Перестанут рабочие дома строить — вот им и жить негде. Вот и выходит, что главное-то — наши рабочие руки. А если тебя глупые люди будут бедностью попрекать, ты бедности не стыдись. Стыдись глупости да подлости.
— А вон она на весь зал крикнула! — все еще не сдавалась Соня. — Все слышали…
Но мама вытащила и эту занозу:
— Она крикнула, а люди подумали: чья это такая глупая девочка? Вот и все. И ничего больше.
Мама вытащила из Сониного сердца занозу. Но Соня не знала, что у мамы-то эта заноза осталась и больно саднила душу. И за Соню ей было обидно и за себя, за свою жизнь… Вот работают они, не щадя своих сил, а все бедны. А за то, что бедны, люди их презирают… Где тут правда? Так было всегда. Но неужели так всегда будет? И неужели бедный рабочий человек никогда не найдет своей правды на земле?
Опять Осип Петрович
Снова начались будни. Кузьмич спрятал свой граммофон. Он завернул его в десяток газет, перевязал веревочкой и поставил в угол, за комод. Трубу тоже завернул в десяток газет, перевязал веревочкой и повесил на стенку. Замолкли и певица Вяльцева, и Плевицкая, и «Ухарь-купец» и клоуны «Бим-Бом», которые так потешно ссорились на пластинке.
Жильцы затемно уходили на работу. Мама и отец, как всегда, доили и убирали своих коров. Анна Ивановна засела клеить листочки. Соня начала ходить в школу. И лишь Осип Петрович то приходил, то уходил, будто не зная, что ему делать на свете.
Соня много рисовала. Хотелось повторить то, что видела за эти дни, — и елку, и елочные игрушки, и спектакль… Рисовала зиму, домики со снегом на крышах, ребятишек, катающихся на санках. Саша чуть не силой отнимала у нее рисунки и показывала всем девочкам. Девочки удивлялись. Даже Лида Брызгалова удивлялась и не верила, что это рисовала Соня. А когда однажды Соня при ней нарисовала горку и ребятишек на горе, то Лида сказала:
— Ну еще бы! У них художник живет, вот он ее и учит.
— Ничего он меня не учит! — возразила Соня.
— Нет, учит! Учит! А ты так и сознаешься, как же!
Соня возмутилась: она говорит правду, а ей не верят! Как же так? У нее даже губы задрожали от возмущения. У них дома никто не говорит неправды!
— Ага! Не говорит! Так я и поверила! — сказала на это Лида.
Соня была обескуражена. Она не умела спорить, ее словно к земле прибивала такая явная несправедливость, и от возмущения пропадали все слова.
— Ага, замолчала! — ликовала Лида.
Соню выручила Саша:
— Ты, Лида, сама сколько хочешь наврешь, поэтому и другим не веришь.
— А то ты не врешь! — крикнула Лида и уже привязалась к Саше: начала спрашивать, правда ли, что их в приюте розгами секут, и правда ли, что ее мать в приют подкинула. И потом дразнилась шепотом: «Подкидыш! Подкидыш!»
Саша только бледнела и ничего не отвечала ей. А Соне потихоньку сказала:
— Я, когда вырасту, все брызгаловские дома подожгу! Вот увидишь!
Соня испугалась:
— Ой, что ты!
— Вот увидишь, подожгу, — повторила Саша. — Пускай и Лидка сгорит. Вот увидишь!
— Ой, что ты, что ты! Тебя в острог посадят!
— Ну и пусть посадят!
Соня, очень встревоженная, пришла домой. Надо скорей маме рассказать, а то вдруг Саша не дождется, когда вырастет, а побежит поджигать сейчас…
Соня вошла в
квартиру и остановилась на пороге. В кухне стоял городовой. Ой, может, уже знают, про что они с Сашей говорили? Может, он за Соней пришел?
— Кто хозяин здесь? — грозно спросил городовой.
Мама растерянно смотрела на него. Отца дома не было. Ей на поддержку вышла из своей комнаты Анна Ивановна.
— Я хозяйка, — ответила мама. — А в чем дело?
— А в том дело, что безобразие! Вы что это голых мужиков в окна выставляете? Убрать немедленно!
— Каких голых? — удивилась мама. — Где?

Городовой вошел в комнату; на окнах ничего, кроме горшков с бегониями, не было. Заглянул к Анне Ивановне — и там ничего.
— Значит, в этой!
Городовой дернул дверь Осипа Петровича; она оказалась запертой. Осип Петрович опять не ночевал дома.
Мама накинула платок, выбежала на улицу, заглянула в окна своей квартиры и ахнула. В окне Осипа Петровича стоял во весь рост написанный маслом голый человек.
— Убрать! — сказал городовой. — Если и завтра будете голых в окно показывать, — оштрафую.
В этот вечер вся квартира с нетерпением ждала Осипа Петровича. Все волновались: подумайте! Городовой приходил! Что во дворе скажут?!
Больше всех сердился Сергей Васильевич:
— Босяк он, а не художник! Таких надо по этапу отправлять. Живешь так вот со всяким сбродом…
Отец и мама всегда отмалчивались, когда Сергей Васильевич начинал грубить. Но на этот раз мама не могла смолчать:
— Что ж, Сергей Васильич, вы все «сброд» да «сброд»! Если вам у нас плохо, подыщите, где получше. А мы люди простые, что ж вы с нас взыскиваете.
— Возможно, что придется поискать! Так, видно, и придется сделать, — ответил Сергей Васильевич. — Человеку, который кое-что на свете видит и понимает, тут не житье. С босяками со всякими… А нам, за наши денежки, квартирки всюду с превеликим удовольствием!
Он погасил о притолоку папиросу и захлопнул дверь.
— Мама, а Дунечка тоже уедет? — шепотом спросила Соня. — Пускай бы один уезжал!
— Да никуда они не уедут, — ответила мама. — Такая же голь, как и мы. По три месяца за квартиру не платят, кто их держать-то станет?
Мама говорила, а сама все прислушивалась, не идет ли Осип Петрович.
И Осип Петрович наконец пришел, прошагал в комнату через всю кухню, не поднимая головы.
— Опять назюзюкался! — сказала Анна Ивановна. — Это уж теперь, знай, будет пить, пока все деньги не пропьет. Они все запойные так!
Отец пошел к нему в комнату объясняться:
— Осип Петрович! Что ж это вы тут делаете? Голых каких-то в окно выставляете. Тут Дарью из-за вас чуть в участок не забрали!
Мама и Анна Ивановна, а с ними и Соня стояли в дверях, готовые поддержать отца, и с любопытством ждали, что скажет Осип Петрович.
— Голых? — спокойно сказал Осип Петрович и снял с окна холст. — Ну и что ж такого, что голый?
— Да зачем же его в окно-то выставлять? Народ собирается. Городовой вон пришел…
— Да ведь это Аполлон, бог! Понимаете вы или нет? Бог солнца, бог красоты! Что ж мне ему теперь штаны надеть, что ли? Так он же никогда штанов не носил!
— Бог! — усмехнулась Анна Ивановна и качнула головой. — Скажет тоже! Нарисовал голого мужика и говорит — бог!
— Ну, эко ты, голова, какой! — Отец начал терять терпение. — Малюй каких хочешь богов — хоть в штанах, хоть без штанов, — только в окно-то не выставляй.
— Да я и не выставлял, чтоб вас всех черти с квасом съели! Ну, дуло мне в окно, вот я и загородился. Не нравится — сниму.
— Я вам утречком окно бумагой заклею, Осип Петрович, — примиряюще сказала мама, — вот вам и не будет дуть. Вы бы мне давно сказали!
— Уж старый, а все дурак! — проворчала тихонько Анна Ивановна, отходя от двери.
— Не дурак, а ребенок, — поправила мама. — Эти люди, я гляжу, в жизни как дети беспомощные!
Понемножку Осип Петрович протрезвился, начал работать. Он сделался общительнее, часто разговаривал то с мамой, то с отцом. Особенно отец любил посидеть с ним, потолковать. И в то время как Осип Петрович что-нибудь рассказывал, отец незаметно прибирал его комнату — постель накроет, со стола стряхнет, стакан вымоет. Осип Петрович как-то и не замечал, что у него вечный беспорядок.
— А ты, голова, иконы не горазд малевать? — спросил однажды отец. — За иконы-то, говорят, платят хорошо.
— Как нее не горазд? Горазд! — ответил Осип Петрович. — От нечего делать берусь и за иконы. Заказывают. Я только спрашиваю — кого вам: бога-отца или бога-сына? Ну, говорят, Николу давай. Или божью мать, троеручицу. Троеручицу так троеручицу. Я хоть с тремя, хоть с четырьмя руками напишу — молитесь, черт с вами!
— Осип Петрович, грешно так! — остановила его мама. — Вот вас бог-то и наказывает!
— Очень надо ему меня наказывать! — Осип Петрович махнул рукой. — Большой интерес с пьяницей связываться! Он, я думаю, сейчас к какому-нибудь генерал-губернатору приглядывается или, скажем, к премьер-министру, к такому, как Столыпин был. Вот там есть еще из-за чего руки марать!
— Ну, Осип Петрович, это не нашего ума дело — значит, и говорить об этом не надо.
— Смешная вы женщина! Но — умная! — Осип Петрович, прищурив глаз, погрозился на нее пальцем. — Вот садитесь-ка сюда на табуретку, я ваш портрет напишу!
— Да некогда мне сидеть-то!
Однако села.
— Посиди, уважь человека, — сказал отец. — Авось твои дела не уйдут!
Соня прижалась в уголке и жадно глядела, как Осип Петрович подошел к натянутому холсту и начал что-то чертить углем, изредка взглядывая на маму. Понемножку на холсте обрисовалась голова, прическа, нос, глаза… Но это совсем была не мама.
«Вот начертил, — думала она, — а еще художник! А теперь-то что же? Палитру берет! Еще не нарисовал как следует, а уже палитру берет!»
Осип Петрович писал резкими, смелыми мазками. На холсте смутно проглянуло теплой краской человеческое лицо, чуть-чуть напоминающее маму. Прошел час, начался другой… Соня уходила, опять приходила.
Порой ей казалось, что и в самом деле начинает проглядывать мамино лицо, но Осип Петрович вдруг снова мазал кистью и, по мнению Сони, все портил…
Мама устала сидеть. Кроме того, ее начинала беспокоить мысль, что, кажется, пора идти к коровам. А у нее еще бидоны не все вымыты и суп в печи не заправлен…
А художник писал и писал, ничего не замечая.
— Голова! — Отец нерешительно подошел к двери. — На часах-то двенадцать!
— В чем дело? — крикнул Осип Петрович. — На часах всегда сколько-нибудь — двенадцать, час, три…
— Коров пора доить! — сказала мама виноватым голосом. — Не могу больше, Осип Петрович!
— А, чтоб вас черти с квасом съели! — с досадой крикнул художник. — И коров ваших вместе с вами. Ступайте. Но завтра — чтобы в это же время. Освещение подходящее…

Он, ни на кого не оглядываясь, продолжал писать. Мама и отец ушли. А Соня сидела в углу и смотрела, как художник, с круглой палитрой, продетой на палец левой руки, и с длинной кистью в правой, все колдовал и колдовал над своим полотном.
Осип Петрович каждый день заставлял маму сидеть перед ним на табуретке. И она сидела — ровно до двенадцати. Жильцы сначала с большим сомнением поглядывали на полотно — так, мазня какая-то получается.
— Кабы за деньги, так старался бы, — говорила Анна Ивановна. — А знает, что даром, вот и мажет как придется.
Соня каждый день сидела тут же и жадными глазами смотрела, как работает художник. Она видела, как с каждым днем оживает на холсте мамино лицо. Это ее прическа, темные мягкие волосы, зачесанные назад. Это ее рот с неясной улыбкой, ее серые под темными ресницами глаза и широкие, мягко растушеванные брови… И серьги в ушах ее — прозрачные граненые камушки. Мамино лицо нежно белело на темном фоне и чуть-чуть улыбалось, глядя куда-то вдаль. Только платье художник нарисовал другое. Он одел маму в черный бархат к на высоком воротничке нарисовал зубчики. Соня была этим очень довольна. Кто посмотрит на портрет, подумает, что у мамы и правда бархатное платье есть!
Художник работал с увлечением. А маме уже надоело сидеть перед ним каждый день, да и некогда ей было. Ей казалось, что портрет давно готов. Но Осип Петрович ругался и говорил, что еще и половины не сделано.
Соня слушала и очень удивлялась: а что же тут еще надо делать? Ведь все видят, что это мама сидит! Соня и сама в эти дни все старалась нарисовать чей-нибудь портрет. Она приходила к Анне Ивановне с карандашом и бумагой:
— Давай я тебя нарисую!
— Рисуй! — соглашалась Анна Ивановна, не отрываясь от своей бумажной зелени.
Но, как ни старалась Соня, у нее ничего не получалось. Правда, получалось что-то похожее на человека, но только не на Анну Ивановну.
— Пучок похож, — смеялась мама. — Аккурат такой на макушке торчит!
— Да ведь она все время шевелится, — оправдывалась Соня. Ты тихо сидишь, а она шевелится… Кабы она тихо сидела…
— Ох, как уж мне это надоело — тихо-то сидеть! — прошептала мама, усаживаясь чинить белье.
Мама вечно чинила белье: ставила заплатки, штопала чулки, что-то лицевала, что-то зашивала… Но отказаться сидеть мама не могла — не хотела обидеть старого художника.
Все оборвалось само собой. Вошел в квартиру какой-то человек с бородкой, при галстуке, в меховой шапке и в пальто с меховым воротником. Он поздоровался с мамой, вышедшей ему навстречу, и тотчас устремился к Осипу Петровичу.
— Очень рад-с, очень рад-с! — сказал он чуть-чуть злорадно. — Вот и нашел, где вы обретаетесь! Прошу одеться и последовать за мной.
Осип Петрович сидел насупившись.
— А за каким чертом мне за тобой следовать?
— Вы отлично знаете, господин художник, зачем вам следовать. Вот ваше пальто… Прошу. А шапка где?
— А если я не последую?
— Не последуете — верните денежки, господин художник, очень просто! Вы обязались господину купцу Завьялову написать картину или портрет, что ли, какой-то, задаток взяли. Так извольте выполнить. А нет — так задаточек обратно-с!
Мама с облегчением перевела дух. А ведь она-то уж думала, что это из полиции приехали, думала, что натворил чего-нибудь Осип Петрович или как-нибудь о царской фамилии непочтительно высказался — от него ведь всего ожидать можно! А оказывается, вон что — работать зовут!
— Надо пойти, Осип Петрович, — сказала мама. — Как же так? Обещали, задаток взяли. Да и что не пойти? Заработаете!
— Водки давать будете? — обратился Осип Петрович к посыльному.
— Соточку в день, не больше-с, — ответил тот. — Иначе руки дрожать будут!
Осип Петрович не то промычал что-то, не то простонал. Он посмотрел на незаконченный портрет, швырнул палитру и начал одеваться.
— Пешком, что ли?
— Как можно-с? — удивился посыльный. — Господин Завьялов лошадь прислал. За важного человека вас почитает… хм… хм…
Слова этот посыльный говорил почтительные, а в голосе слышалась не то насмешка, не то пренебрежение.
«И нашел с кем возиться господин Завьялов! — словно хотел он сказать. — Такие деньги за мазню платить. Да еще лошадь посылать, как за барином за каким!..»
Соня, услышав, что у ворот ждет лошадь, тотчас оделась и побежала смотреть, как поедет Осип Петрович. На дворе Лизка и Коська не то играли, не то дрались снежками.
— За Осип Петровичем лошадь прислали! — крикнула Соня. — К купцу поедет!
Все трое бросились к воротам. У ворот и в самом деле стояла красивая гнедая лошадь, запряженная в маленькие высокие саночки. Кучер в толстой поддевке и в шапке с высокой тульей неподвижно сидел на облучке.
— Гляди, на сбруе-то серебряные пуговицы! — сказала Лизка. — Ух, ты!
— А вожжи-то, вожжи-то — красивые, с кисточками! — подхватил Коська.
А Соня глядела на лошадь. Какая она статная, какая гордая! Вон куда голову-то подняла! И глядит оттуда, косится, ноздри раздувает… Вот бы хоть чуть-чуть ее по спинке погладить! Но разве дастся?!
Осип Петрович и его провожатый вышли из калитки, сели в сани, запахнулись темно-красной полостью. Осип Петрович вынес с собой деревянный ящик — Соня знала, что там у него краски и кисти. Кучер чуть тронул вожжами, и гнедая лошадка тотчас побежала, быстро и ровно перебирая тонкими ногами. Заскрипел снежок под полозьями, взвилась морозная пыльца — и уже далеко катятся саночки, увозя Осипа Петровича.
— Куда это вашего пьяницу повезли? — спросил дворник Федор, который как раз сгребал снег с тротуара.
— Он не пьяница, он художник, — обиделась Соня. — Он картину рисовать поехал.
Волшебный фонарь
Что-то тронулось в суровой устойчивости морозной и снежной зимы. Солнце поглядывало смелее, веселее и словно усмешливее, в воздухе чудилась какая-то новая, ласковая, праздничная свежесть, хотя снег все так же крепко хрустел под сапогом.
В субботу, отпуская учениц, Елена Петровна сказала:
— Девочки, приходите завтра в школу, будем смотреть туманные картины. У нас теперь есть волшебный фонарь.
— А ведь завтра воскресенье! — напомнила Анюта Данкова и надула толстые губы.
Но тут девочки зашумели: они все хотели смотреть волшебный фонарь. Даже робкая Матреша Сорокина подала голос:
— Ой, как хочется посмотреть!
Соня удивилась и обрадовалась: волшебный фонарь? А что это? А какой он?
Но никто не знал, что такое волшебный фонарь. Даже Лида не знала. Правда, она тотчас спохватилась: как это она, Лида Брызгалова, да не знает?
— Это такой фонарь, — сказала она, — в него вставлены разноцветные стекла, и он все освещает то одним огнем, то другим…
— А как же картины? — спросила Соня.
— Ну и картины освещает — то зеленым, то красным, то еще каким-нибудь…
— А где картины?
— Ну, мало ли где? В книжках. Ничего-то ты не знаешь, тебе все рассказывать надо!
В воскресенье собрались все. Не пришла только Анюта Данкова: она ходила со своей набожной матерью в церковь и очень устала.
А Соня прибежала раньше времени, взволнованная и счастливая. Они сегодня увидят волшебный фонарь.
Девочки парами спускались в столовую. Там горела лампа, а окна были наглухо закрыты синими коленкоровыми занавесками. Скамейки стояли, как для спектакля. И впереди, перед глазами на стене, было натянуто белое полотно.
Соня уселась на лавочку со сладким замиранием сердца. Что-то будет сейчас? Какое чудо произойдет? Она оглядывалась по сторонам. А где же висит этот волшебный фонарь с разноцветными стеклами, который все будет освещать то красным, то зеленым огнем? Может, его не принесли еще?
Лида, против обыкновения, молчала. Она сама растерялась и ничего не сумела придумать в эту минуту. А в самом деле, где же картины, которые будет освещать фонарь? И где же он, этот фонарь? И что такое стоит на высоких деревянных ногах, покрытое черным?
Но вот началось волшебство. Елена Петровна встала около предмета, покрытого черным, погремела там какими-то стеклами и сказала:
— Сейчас мы с вами будем смотреть сказку «Мячик китайской царевны».
И вдруг лампа погасла, а на белом полотне засиял яркий светлый круг. И в этом освещенном кружке появилась большая, во все полотно, раскрашенная картина. Там была нарисована маленькая китайская девочка в желтом халате, вокруг стояли высокие цветы в расписных вазах, светило солнце… Но девочка была очень грустна — оказывается, ей хотелось поиграть в мячик, а мячика у нее не было. Мама и няня уговаривали ее, предлагали ей кукол, зонтики, веера. Нет, девочка хотела мячик. А мячика не было.
Картинки появлялись одна за другой; ярко раскрашенный мир сказочных стран, китайских дворцов, невиданных цветов и деревьев, странно и пестро одетых людей возникал перед глазами.
На последних картинках было показано, как люди надрезают кору каучуковых деревьев и как белый сок стекает в подвешенную посудину. И тут стало известно, что из этого белого сока получилась резина, а из резины сделали мячик для китайской царевны.
А потом все исчезло. Елена Петровна погасила фонарь. Открыли занавески на окнах, тусклый будничный свет зимнего дня осветил столовую. А Соне было так жалко, что сказка кончилась, что кончилось все это волшебство и все опять стало так обыкновенно, и обыкновенное уже показалось скучным. А волшебный фонарь оказался совсем не таким, как рассказала Лида. Это была небольшая коробка, где зажигалась лампа. Лампа светила сквозь вставленную в фонарь нарисованную на стекле картинку, а картинка отражалась на стене. Елена Петровна все это показала и объяснила девочкам. Саша не утерпела, чтобы не задеть Лиду:
— А Брызгалова говорила, что тут разноцветные стеклышки. Где же они?
Девочки засмеялись, а у Лиды сердито засверкали глаза, но она промолчала, потому что ничего не успела придумать в ответ.
Соне сначала жалко было, что все оказалось так просто и без всякого волшебства. А потом это чувство исчезло. Все равно, это так интересно, так празднично, и столько еще невиданного и неизвестного затаилось там, на стеклышках под черным покрывалом, наброшенным на фонарь! И, как бы ни был он устроен, все равно этот фонарь волшебный!
Соня рассказывала дома про фонарь всем по очереди. Но по-настоящему внимательно ее выслушала только одна Дунечка. Она сегодня встала пораньше, напекла пирогов с рисом, накрыла стол и стала ждать Сергея Васильевича. А он как ушел с утра, так и не было его.
Уже стемнело. К отцу с мамой пришли гости: Сонин крестный, дядя Егор — старший мамин брат, такой же сероглазый и осанистый, как мама. Пришла его жена, тетя Матреша, худая, тонкая, высокая. Она была похожа на тонкое дерево, которое легко гнется под ветром. Они привели с собой детей — Петьку, Федьку и Нюшу. Двоюродные братья — оба губастые, белобрысые — живо отпихнули Соню от стола, заняли стулья и принялись хватать с тарелок что попало. Черноглазая Нюша сначала стеснялась, но, посмотрев, как исчезают с тарелок колбаса и сыр, растолкала братьев и сама начала хватать что попало. Ребята тянулись через весь стол за куском, который им понравился, вырывали куски друг у друга, толкались, ссорились… Соня, стоя в сторонке, с враждебным изумлением смотрела на них. Мама никогда не позволяет ей что-нибудь брать с тарелок. Дома и то не позволяет. А эти пришли в гости и все хватают!
Маме это, конечно, тоже не нравилось. Соня глядела на нее — что же она им ничего не скажет, почему не выгонит их из-за стола?
Но мама делала вид, что ничего не замечает. Она разговаривала с гостями, угощала их и незаметно подкладывала на тарелки то колбасы, то студню, то сыру…
Соне стало скучно глядеть на все это, и она ушла к Дунечке. И опять сидели они с Дунечкой, сумерничали. Только теперь не Дунечка рассказывала сказку, а Соня — о том, как у царевны не было мячика и как ей этот мячик нашли…
Дунечка слушала, кивала головой. А сама нет-нет, да и поглядит на часы, нет-нет, да и вздохнет потихоньку.
На столе, сложенные в тарелку и укрытые полотенцем, давно уже остывшие, лежали нетронутыми Дунечкины пироги с рисом. А за стеной все шумели и шумели голоса гостей. Что-то, подвыпив, рассказывал дядя Егор; ему вторила тоненьким голоском тетя Матреша; о чем-то спорили они с отцом… И без конца дрались и бранились за столом ребята…
От этого воскресного «веселья» на Соню напала тоска. Стараясь не поддаваться, она все снова и снова рассказывала Дунечке о том сказочном и прекрасном, что видела она сегодня на белом полотне.
Зловещая весна
Апрель был полон необыкновенных и мрачных событий.
Третьего числа весь мир был ошеломлен трагедией «Титаника». Об этом говорили и дома и в школе. Елена Петровна собрала девочек во время большей перемены и рассказала, что произошло.
В эту ночь в Атлантическом океане на пути в Нью-Йорк погиб огромный пароход «Титаник». Он столкнулся с подводной ледяной горой — айсбергом, получил пробоину и утонул.
«Титаник» был самый большой пароход в мире. В нем было несколько этажей, там были и салоны, и спальни, и столовые, и восточные бани, и кафе… Пароход взял три тысячи пассажиров и одной команды на нем было восемьсот человек.
«Титаник» только что построили, он вышел в свой первый рейс. Слава о его мощности и роскошном убранстве прошла по всему свету. Владельцы парохода хвалились его непотопляемостью, они уверяли, что «Титаник» потопить невозможно.
В эту роковую ночь «Титаник» шел на предельной скорости. В двенадцатом часу, когда только что кончился концерт и пассажиры собирались ложиться спать, «Титаник» слегка вздрогнул. Никто не обратил на это внимания, люди смеялись и разговаривали в ярко освещенных салонах. А в это время в пробоину уже хлынула темная океанская вода.
Капитан Смит тотчас приказал передать по беспроволочному телеграфу всем пароходам, находящимся поблизости, что «Титаник» терпит бедствие. Команда отчаянно старалась спасти пароход, но оказалось, что помпы, откачивающие воду, работают плохо, что стенки отсеков слабые и не выдерживают напора воды.
Капитан Смит сразу понял, что наступила катастрофа. Он предложил пассажирам надеть спасательные пояса и перейти в шлюпки. Пассажиры удивлялись — зачем им уходить из теплых нарядных кают в ненастную ночную тьму, в океан, по которому плывут льды? Никто не верил, что «Титаник» может утонуть. Но, когда увидели, что пароход начинает крениться носом, началась страшная паника. Все население парохода бросилось к лодкам. Лодок не хватало. Перестали работать динамо-машины, электричество погасло. Все погрузилось во тьму.
Капитан, чтобы как-то успокоить пассажиров и ослабить панику, приказал оркестру играть. И музыканты, чувствуя, как их пароход уходит под воду, сидели и играли, играли вальсы, играли, глядя в глаза смерти. А когда увидели, что конец близок — заиграли похоронный марш.
В лодки сесть успели немногие. Пароход вдруг поднялся кормой кверху и сразу ушел в пучину. Дикий крик, стон похоронного марша — все умолкло. Наступила мгновенная тишина — около трех тысяч человек ушло под воду вместе с «Титаником».
Капитан еще держался на воде, он помогал спастись кому-то. Ему предложили место в лодке. Но капитан отказался, и черные волны океана сомкнулись над его головой…
Елена Петровна замолчала. Девочки со вздохом перевели дыхание.
Зазвенел звонок. Соня, потрясенная страшной трагедией, вошла в класс, села за парту. Но перед глазами стояла черная пучина океана и тонущий пароход, с которого несется в ненастную тьму прощальное рыдание похоронного марша. Елена Петровна, тоже совсем расстроенная, сидела за своим столом и никак не могла начать урока.
— А как же капитан не увидел льдину? — спросила Соня.
— Потому что он был плохой капитан! — сказала Анюта Данкова. — И хорошо, что он утонул! Его бог наказал.
— А ты бы согласилась тонуть, если бы тебя в шлюпку сажали? — вскинулась на Анюту Саша Глазкова. — А он вот от шлюпки отказался!
— Ну, если из-за него столько людей погибло, то и надо ему утонуть!
В классе поднялся шум. Заспорили, кто виноват. Большинство решило, что капитан. Должен был лучше глядеть и не налетать на льдину. А Соне было так жалко бедного седого капитана, который сам отказался от спасения и ушел на дно вслед за своим кораблем, что никак не могла сказать ни одного слова осуждения. Если он виноват, то ведь и сам он умер!
— Неизвестно, так ли уж он виноват, — сдержанно сказала Елена Петровна. — Есть предположение, что владельцы «Титаника» заставили его вести пароход этим маршрутом. Ни одно судно весной не ходило по этому пути, потому что все боялись подводных льдов. И капитан Смит не хотел идти, он знал, что тут опасно. Но владельцы приказали. Здесь путь короче. Им хотелось поставить рекорд быстроты.
— А эти владельцы — где они? — спросила Саша. — Они тоже погибли?
— Нет… — Елена Петровна встала и в волнении прошлась по классу. — Они не погибли. Они сидят в своих виллах и особняках. Они только горюют, что потерпели убыток.
— Вот они и виноваты, — крикнула Саша, — а вовсе не капитан!
Девочки зашумели.
— А их теперь что — судить будут?
— Наверное, в тюрьму посадят!
— А может, и казнят — вон сколько людей из-за них погибло!
— Нет, их не казнят, — сказала Елена Петровна. — У них хватит капитала, чтобы откупиться!
И, тут же спохватившись, она провела рукой по лбу и по волосам и уселась за стол.
— Ну, хватит, девочки, давайте заниматься.
Когда Соня пришла домой, там тоже шел разговор о «Титанике». Мама охала, качала головой:
— В первый рейс вышел! И столько народу! Ох, какая страшная картина!
— Да, — отец в волнении разглаживал усы, — и не опомнисси! Льдина-то, пишут, вся под водой была, только макушка наверху торчала. Ну, ночью-то и не разглядели!
— А это не капитан виноват, — тотчас вмешалась в разговор Соня. — Это владельцы виноваты — они заставили его по этой дороге плыть. Но только их в тюрьму все равно не посадят, потому что они богатые и капиталом откупятся.
Мама в изумлении уставилась на нее:
— А ты откуда знаешь?
— Да ведь нам Елена Петровна все рассказала.
Мама покачала головой:
— Умный человек Елена Петровна, только зря она так говорит. Ты нигде больше этого не повторяй — насчет капиталов да тюрьмы, — слышишь? А то подхватит какой-нибудь, вроде Сергея Васильича, и несдобровать вашей Елене Петровне.
— А что? — испугалась Соня.
— Как — что? Могут с места прогнать. А то еще и в острог посадят. «Ты что же, — скажут, — своих учениц против богатых настраиваешь?» Ведь у нас богатые всегда правы, а бедный всегда виноват!
— Ну, вот и сама заглаголила! — сказал отец. — А все на меня говоришь.
— Да ведь жалко человека! — возразила мама. — Время такое опасное, везде все бунтовщиков ищут. Чуть слово сказал, уж и бунтовщик. Сходить, поговорить, что ли, с нею…
— Не бойсь! — ответил отец. — Они, молодые-то учителя, лучше нас с тобой знают, что говорить и что делать. Они люди образованные, им дальше видно.
Еще все и дома и во дворе волновались и обсуждали гибель «Титаника», как случилось новое событие. Утром четвертого апреля газеты сообщили, что сегодня будет солнечное затмение — Луна пройдет между Солнцем и Землей и закроет солнечный диск. Когда Соня прибежала из школы, все ребята во дворе уже ходили перемазанные сажей — коптили стекла, чтобы смотреть, как будет «затмеваться» Солнце. Соня даже обедать не могла от волнения и нетерпеливого ожидания. Ей и верилось и не верилось. Если в газетах написано, что Солнце потемнеет, значит, так и будет. Но а все-таки как же это может быть? С тех пор как Соня живет на свете, солнце могли закрыть только тучи и облака, но само оно никогда не темнело…
Ребята бродили по двору, не могли ни играть, ни заняться чем-нибудь; все поглядывали на солнце и ждали, ждали с тревогой и любопытством.
Поглядывал на небо из-под руки и дворник Федор. Выходили из своего подвала тетеньки-прачки. Проходил по двору за водой на колодец Иван Михайлович и, остановившись перекинуться словцом с Федором, тоже, прижмурив свои голубые глаза, глядел на солнце…
А солнце безмятежно сияло среди голубого неба, пригревало крыши и голые ветки неподвижных тополей. И по двору уже пошел разочарованный говорок: никакого затмения не будет, это все ученые зря выдумывают.
— Пойдем к тебе, — сказала Лизка Соне. — Ты будешь рисовать, а мы будем смотреть.
— Или в мячик у вас в сенях поиграем, — предложила Оля. — Какое-то еще затмение!
Она скривила свои маленькие красные губы и сморщила вымазанный сажей нос. Соня согласилась идти играть в сени, тем более что этот задира, сухопарый Коська со скуки начал озорничать — бегать по грязи, стараясь обрызгать девчонок.
Но в природе уже что-то происходило. Наступила странная тишина, потянуло холодком, и словно сумерки начали заволакивать двор. Куры вдруг испуганно закричали, полетели по двору и начали прятаться в сараях. Где-то у Подтягина завыла собака. Отовсюду выбежал народ — с верхних этажей, из подвалов. Даже полуслепой портной, Сенькин отец, вышел и стоял, подняв кверху бороденку и прижимая к глазам закопченное стекло.
— Начинается! Начинается! — кричал хромой Сенька. — Ребята, гляди!
Соня не отрывала черного стеклышка от глаз. Она смотрела, как зловещий темный краешек все наползает на солнце, все дальше и дальше закрывает его светлый круг.

Соня уже знала, что это ненадолго, что это пройдет и солнце останется все таким же ясным и теплым, но на сердце становилось нехорошо, беспокойно, хотелось куда-то бежать, спрятаться… Собака продолжала выть, нагоняя тревожную тоску. Вдруг кто-то заплакал во весь голос. Соня отняла стеклышко от глаз — это плакала дочка ломового Матреша — Ком саламаты. Она ревела, раскрыв рот так, что все зубы, и верхние и нижние, были видны. Кругом засмеялись:
— Конец, Матреша, больше солнышка не будет!
— Прощайся с солнышком, Матреша!
Матреша заревела еще пуще и побежала домой, шлепая по лужам своими деревенскими полусапожками.
Становилось все темней, все холодней. Соня чувствовала, как холодок ползет ей за ворот. Эти сумерки среди ясного дня, этот недобрый холодок были странными, пугающими. А черное пятно все наползало и наползало на солнце…
Но все это длилось недолго. Пятно стало уменьшаться, а солнце, словно вырвавшись на свободу, засияло еще ярче, еще веселей. Сразу стало тепло, куры вышли из сараев, закапали, зазвенели сосульки у водосточных труб… Все вздохнули свободнее и, перепачканные сажей, смотрели друг на друга и смеялись.
— Вот это здорово! Что бывает, а? Чудеса! — переговаривались люди, расходясь по своим квартирам.
А Соня еще долго смотрела на солнце сквозь закопченное стекло, разглядывала его пятна, и множество мыслей возникало в ее голове. Как узнали ученые, что именно в этот день и час Луна пройдет между Землей и Солнцем? И что было бы, если бы Луна так и осталась на этом месте? Если она только краешек Солнца заслонила, и то уже как темно, холодно и страшно стало на Земле… А если бы Солнце заслонилось совсем, что бы тогда было?
Вопросы, вопросы… Одни вопросы, а ответов нет. Ни отец, ни мама не знали, что сказать Соне. А человека, который все знал и который мог бы все объяснить Соне, не было на свете. Где-то на Ваганьковском кладбище затерялась под снегом маленькая бедная могила — все, что осталось от него. А могилы безмолвны, они никогда ничего не отвечают живому человеку.
Не успели затихнуть разговоры о «Титанике» и о солнечном затмении, как дошел слух о новом событии, грозном и трагическом. Этот месяц апрель не мог успокоиться, словно камни падали в тихую застойную жизнь Старой Божедомки.
Где-то в далекой Сибири, на Лене-реке, царские солдаты расстреляли рабочих.
В газетах это прозвучало глухо. Однако кровавая расправа потрясла всех. Подробности об этом событии просачивались скупо, но они просачивались, о них заговорили в Государственной думе. И, несмотря на ложь и пустые слова, которыми старались министры затушевать, что произошло, все больше и больше проглядывала страшная правда.
Елена Петровна была бледна и задумчива. Она старалась внимательно выслушивать ответы учениц, следить за тем, как они решают задачи, но Соня, которая чутко любила свою учительницу, видела, что мысли Елены Петровны заняты совсем другим.
На перемене Соня робко подошла к ней и спросила:
— Елена Петровна, у вас, наверное, болит что-нибудь?
— Болит, Соня, — ответила Елена Петровна. — Сердце у меня болит.
И больше ничего не сказала. А Соня больше ни о чем не посмела спрашивать.
Об этом злодействе на реке Лене говорили все во дворе: и тетеньки-прачки, сидя вечером на скамейке; и дворник Федор, который, подметая двор, останавливался то с одним, то с другим жильцом прокофьевского дома; и торговка Макариха. А Сенькин отец, подслеповатый портной, ходил по двору с газетой в руках и все просил, чтобы кто-нибудь прочитал ему про эту Лену-реку, где хозяева рабочих расстреливали…
Об этом же страшном событии, когда так вот зря, без нужды, была пролита кровь, разговаривали и женщины, приходившие за молоком. Соня жадно слушала все эти разговоры и потом приставала то к отцу, то к маме:
— А за что их расстреляли?
— За то, что пошли у хозяина правды искать, — ответил отец.
А мама просто отмахнулась:
— Вырастешь — поймешь. А сейчас твое дело — уроки учить да в куклы играть.
Но Соня никак не могла не прислушиваться ко всем этим взволнованным разговорам. А в глазах так и рисовалась зловещая картина: темная река, затоптанный снег и на снегу — убитые люди…
В квартире было невесело, неспокойно.
Анна Ивановна сердито приставала к Кузьмичу с вопросом:
— Мить, ну где же бог-то? Почему он дозволяет понапрасну, ни за что людей убивать?
Но тот угрюмо отмалчивался. Видно, и он никак не мог понять и оправдать своего бога. И Анна Ивановна слышала, как, молясь на ночь, Кузьмич вдруг прервал молитву и, глядя прямо в темное лицо Христа, потребовал ответа:
— За что же ты их наказал? Ну, за что? Нешто можно так-то?
Мама ходила сумрачная, вздыхала:
— К чему это все идет? Ведь у этих, убитых, тоже дети небось остались. Сироты. Куда они пойдут, кто им поможет? А каково матерям-то хоронить своих сыновей? Как подумаешь, сердце не выдерживает…
А отец качал головой и все повторял:
— Форменная подлость — в безоружных людей из ружья палить! Это же форменная подлость!
Даже Сергей Васильевич немножко притих в эти дни. Лишь один раз, услышав возмущенные слова Ивана Михайловича, он огрызнулся:
— А не бастуй! Вот и наука!
— А вот как бы ты не бастовал! — вдруг схватился с ним Иван Михайлович. — Видел, что в газетах-то написано? Вон она, работа-то, какая у них! Постой так вот по двенадцать часов по колено в ледяной воде да приди домой, а там жрать нечего. Посмотрел бы я, как бы ты веселился на их месте!
Сергей Васильевич со злостью бросил на пол и растоптал недокуренную папиросу:
— Я давно примечаю, что ты сам бунтовщик! Острог по тебе плачет! Дождешься — посажу!
— Да уж в остроге-то и места небось нет. Куда сажать-то будешь?
Сергей Васильевич с треском захлопнул свою дверь.
А мама испугалась:
— Ой, наживешь ты, Иван, беды со своим языком! Вон она, беда-то, так кругом и ходит! И что же это за время такое наступило страшное?!
Осип Петрович кается
В конце апреля явился домой Осип Петрович. Он вошел хорошо одетый, подстриженный, в новой пушистой шляпе.
— Ох, я вас и не узнала! — сказала мама. — Быть вам богатому, Осип Петрович!
— А я уже богат, — ответил он. — Видите — одели меня, шляпу купили. Только вот в карманах у меня — ау! — Он вывернул и показал пустые карманы. — Боялись — пропью. Натурой заплатили. Даже галстук на меня повесили — видите? — Он усмехнулся и подмигнул. — А разве эту натуру-то, — он потряс полой своего пальто, — пропить нельзя?
— Ну, зачем же пропивать, Осип Петрович! В чем же ходить-то будете? На дворе-то еще холодно!
— Вам этого, Никоновна, не понять. У вас семья, душа, полная чувств, сердце, полное надежд. Надежды, конечно, обманут вас, как всегда обманывают человека, как и меня обманули начисто. А у меня никого нет, я никого не люблю, и не для кого мне жить.
— Да ведь у вас талант, Осип Петрович! Ведь это не у каждого бывает. Может, у одного из тысячи!
— А кому нужен мой талант? Кому, кому, я спрашиваю, чтоб вас черти с квасом съели! Богов писать? А я не хочу богов писать, не хочу я писать архангелов, не хочу!
Осип Петрович, не раздеваясь, сел на свою узкую койку, оглянулся на убогий стол, на пустой мольберт, на окошко с ситцевой занавеской…
— Ну что я там сидел? Что меня там взаперти держали? Царя Константина я писал — хозяина Константином зовут, так он захотел своего святого в угол к себе повесить. А потом и жена его захотела свою святую — мученицу Варвару. Вот я их и писал, нимбы им расцвечивал, ангелочков везде насажал. Ну молитесь, ну черт с вами! А зачем мне это? Мне-то зачем? Чтобы в новом пальто ходить?
— Разве все мы делаем то, что нам хочется? — вздохнула мама. — Нужда заставляет.
Осип Петрович порылся в холстах, брошенных в углу, достал мамин портрет и с грустью поглядел на него:
— Из этого могла выйти вещь. Но она уже не выйдет. Возьмите это себе, Никоновна, все равно я его уже не допишу.
Мама порозовела от удовольствия:
— Да он уже написан, Осип Петрович! Спасибо! А вы раздевайтесь, скоро самовар буду ставить. Что ж делать — жить-то на свете надо!
— Вы думаете — надо? А зачем?!
Осип Петрович как-то странно и дико посмотрел на маму из-под нависших бровей.
Дальше Соня не стала слушать. Она побежала в свою комнату и объявила отцу:
— А Осип Петрович маме ее портрет подарил!
Отец повесил портрет в простенке между окнами. Как входишь в комнату, так и смотришь прямо на маму, которая, нарядившись в черное бархатное платье с зубчинами у ворота, смотрит куда-то вдаль и задумчиво улыбается полными свежими губами.
Пока отец вешал портрет, а мама хлопотала с самоваром, Осип Петрович исчез.
— Теперь наклюкается, — сказала Анна Ивановна, подсаживаясь к самовару. — На четвереньках приползет.
— Да у него и денег нету, — ответила мама. — Ему денег-то не дали!
— А пальто — не деньги?
— Ну, уж с себя-то не будет пропивать. Он же образованный человек, не босяк какой-нибудь!
— Да какой это образованный? — Анна Ивановна даже поморщилась. — Что он, доктор, что ль, какой, али архитектор, али генерал? Художник! Картинки-то малевать — нешто тут образование нужно?
— А смотрите, как давеча вошел — барин, да и только!
— Посмотрим, как сегодня войдет!
Соня стояла на коленях перед табуреткой и рисовала, потому что на столе места не было.
Анна Ивановна поглядела на нее:
— А ты что — тоже хочешь, как Осип Петрович, быть?
— Да мне разве суметь? — Соня подняла на нее серьезные вопрошающие глаза. А вдруг она скажет, что суметь? Ну, не сейчас, а когда большая будет?
— Пьяницей-то стать кто хочешь сумеет! Этому учиться не надо, — ответила Анна Ивановна. — Вон нашу Душатку никто не учил.
— А я не про пьянство. Я про картины.
— И что толку в этих картинах?.. Налей еще чашечку, Никоновна. А ты ступай за мой стол рисовать, чего на коленках притулилась!
— Богатые люди картины собирают, — сказал отец. — Я как-то в Третьяковской галерее был — вот картин-то там сколько! Глядел-глядел — голова заболела. Хорошие есть. Смотришь — сидит живой человек, да и только!
— Это барам забава, не нам.
— Отчего ж не нам? — возразила мама. — У нас тоже глаза есть.
— Пап, а мы с тобой пойдем в эту галерею? — спросила Соня, подойдя к отцу и заглядывая ему в глаза.
— А что ты там поймешь?
— Все пойму!
— Подрастешь — пойдем. Ступай рисуй.
Соня взяла свою бумагу и карандаш и отправилась в комнату Анны Ивановны. На столе, рядом с грудой бумажной зелени, лежала кучка чего-то блестящего, похожего на мелкие бусы сиреневого цвета. Соня потрогала — кучка рассыпалась. Это были мелкие фарфоровые цветочки сирени. И тут же лежала сиреневая ветка, Анна Ивановна насадила цветы на маленькие стебельки, собрала их в кисть — и получилась ветка сирени, совсем как живая, свежая, будто только что из-под дождя… Соне даже показалось, что она пахнет. И как это Анна Ивановна умеет делать такие цветы?
Соня стояла над сиреневой веткой, глядела на нее, думала. В ее думах возникала неясная мысль: все люди что-нибудь умеют… Если ничего не умеешь, то как же будешь жить? А Соня, наверное, никогда ничего не будет уметь… Как же ей тогда жить?
Она уселась к столу, к тому краю, где было свободно от цветов, и снова принялась рисовать. Хотелось нарисовать сад, в котором цветут сиреневые кусты. Но карандаш у нее был только черный, и никаких сиреневых кистей никак не получалось.
Тогда она стала срисовывать вазу, которая стояла у Анны Ивановны на комоде, — розовую вазу с изогнутыми, словно гофрированными краями. А в вазе — цветы. Их тоже можно нарисовать. А рядом зеркало с граненым ободком, играющим разноцветными огоньками. Только вот как сделать все это одним только черным карандашом? И через все зеркало — трещина.
Вспомнилась Душатка, которая ударила рукой в кольцах по этому зеркалу. Какая она? Где она? Почему она пьет вино и разбивает зеркала?
Хриплый голос в кухне прервал ее мечтания. Соня выбежала из комнаты. В кухне, еле держась на ногах, одетый в какой-то дырявый пиджак, Осип Петрович отыскивал свою дверь и ругался.

Соня бросилась к маме:
— Скорей! Осип Петрович пьяный пришел!
— Ну, а что я вам говорила? — сказала Анна Ивановна. — А то — образованный человек! Не позволит! Какой там образованный! Художник — и всё.
Мама печально покачала головой:
— И почему такие хорошие люди себе никак в жизни места не найдут?
Отец встал и пошел помочь Осипу Петровичу добраться до постели.
— Эх, голова! — слышалось из кухни. — Какое пальтецо-то пропил! Барское пальтецо-то!
— Я все пропил. И душу пропил!
— Душа там — как-нибудь. А без пальтеца-то холодно! Спохватисси!
— Значит, без шубы обойтись нельзя, а без души можно? — вдруг ощетинился Осип Петрович. — Ишь ты, умный какой, чтоб тебя черти съели! А почему Иуда пошел, да и удавился, а? Ну-ка, если ты такой умный, объясни?
— Так ведь то Иуда, предатель, — ответил отец, — а ты-то разве продал кого, что ли? Чего ты с Иудой равняесси!
— А вот и продал! Да, продал! Простого рабочего человека я продал… младшего брата своего!
При этих словах и мама и Анна Ивановна встали из-за стола и вышли к ним в кухню. Соня тоже бросила рисование, она почувствовала что-то страшное и тревожное в пьяных и горьких речах Осипа Петровича.
— Будет вам, Осип Петрович, на себя наговаривать, — сказала мама. — Ложитесь-ка спать.
— Спать! А вы знаете, что делается на свете? Знаете? Нет? Пожар загорается кругом! Пожар! — Осип Петрович, словно глядя куда-то сквозь стены тесной кухни, широко развел рукой. — Рабочие люди гибнут, но восстают! Они гибнут — но они победят!
— Про забастовщиков заговорил! — прошептала Анна Ивановна. — Уйми ты его, Иван Михалыч!
— А меня нельзя унять! — обернулся к ней Осип Петрович. — За что на Лене расстреляли людей? Они вышли просить, чтобы вспомнили о том, что они тоже люди. Потому что им жить в нечеловеческих условиях стало невмоготу! Безоружные они вышли, даже палки не взяли. А их — под пули! Вы можете это понять?
Осип Петрович тяжело опустился на сундук и закрыл рукой глаза. Сгорбленный, в дырявом ватном пиджаке, в нахлобученной обвисшей шляпе, он сидел жалкий и беспомощный.
— Что касается этого дела на Лене-то реке, — помолчав, сказал отец, — тут уж и сказать нечего. И хозяева-то, я гляжу, дурные. Что ему, тому же заводчику, в три глотки,
что ли, жрать? Неужели мало у него богатства от этих рудников? Ну и поделись с рабочим — ведь он на тебя работает, тебе золото из-под земли достает! Так нет, жадность одолела. Человек хлеба просит, а ты в золоте зарылси, да еще и стреляешь в этого человека! Нет, был бы я министром…
— Иван! — остановила его мама.
— Он правду говорит! — Осип Петрович закивал головой, и шляпа его захлопала обвисшими, дряблыми полями. — Был бы я царем, я бы его министром сделал!
— Вот и отложим этот разговор до того времени, как вы царем будете…
— Спорил тогда со мной покойник Никита Гаврилыч, — продолжал отец, — что, дескать, правильно, что Столыпина убили. Ну, Столыпина убили, а Макарова на его место посадили. А Макаров-то еще злей оказался.
— Горя много на свете, — тихо сказала мама, — но мы ли виноваты?
— А я виноват! — вдруг заплакал пьяными слезами Осип Петрович. — Рабочий народ встает на битву со своими душителями, а я этим душителям святых пишу, ангелов им расписываю для услаждения и успокоения! Что — не предатель я? Не предатель, да? Что ж вы молчите, чтобы вас черти взяли?!
Он поднял опухшее, залитое слезами лицо и стукнул кулаком по столу.
— Ну, при чем же мы-то здесь, голова? — начал было отец. — Мы ведь в полиции не служим… На людей не доносим…
Но Осип Петрович, не слушая, опять начал жаловаться, ругаться и плакать:
— А вот недавно что было? Вы-то не знаете, в газетах этого не пишут. А я знаю. Представьте себе фабрику «Треугольник». Там делают калоши. На этой фабрике работают женщины. Заработок семьдесят пять копеек в день — самое большое. А то и сорок три. Надо накормить семью, надо самой не умереть с голоду. И надо калоши делать по всем правилам искусства. Вот за этими-то правилами искусства хозяин следит, заботится. Иначе товар не найдет сбыта. А вот о людях, которые делают ему эти проклятые калоши, позаботиться ему и в голову не приходит. В цехах у них там испарения от бензина — чад стоит. Люди не выдерживают, падают в обморок. У них идет горлом кровь. Они сходят с ума. Умирают… Есть известие, что на фабрику привезли какую-то испорченную калошную мазь. Чад от нее ядовитый, отравляющий. И вот на одной фабрике валятся люди как мухи, на другой, на третьей… Выносят их замертво. А то и мертвыми. У ворот стоят мужья, дети, отцы: «Что вы сделали с нашими родными?!» А полиция их — нагайками: не шуми! Однако добрались-таки до фабрикантов. А те ответили просто: «Мы с этой фирмой, которая поставляет мазь, связаны контрактом. Мазь попахивает — ничего. Работницы привыкнут. Не платить же нам неустойку! Мы и всего-то миллионов по десяти прибыли получаем!» Значит, пусть люди мрут, они дешевле. И они мрут, а мы сидим и молчим, сидим и молчим…
— Так. А что же ты сделаешь-то, голова? — сказал отец. — Не наша сила.
— А! Что сделаешь? И думаешь, все так сидят и ничего не делают? Настоящие люди — те борются, они, не щадя жизней своих вступают в бой за всех униженных, за всех угнетенных! А я… — Осип Петрович сорвал с головы шляпу и швырнул ее об пол. — А я что делаю? Богов пишу да пью водку… Не знаю я, как повернуть свою жизнь, чтобы она была правильной. А так жить не могу! Так жить нельзя!
Осип Петрович начал хрипеть, задыхаться.
Наконец Иван Михайлович уговорил его лечь, отдохнуть. Он отвел Осипа Петровича в комнату, стащил с него пиджак и ботинки и уложил в постель.
Дальше с Осипом Петровичем пошло все хуже. Он пропил все, что у него было. Домой наполовину приходил, наполовину приползал. Потом отец притащил художника с лестницы, потому что он сам никак не мог дойти и улегся на лестнице спать. А потом начал кричать по ночам, звать свою умершую жену, выгонять чертей из комнаты. Соня, дрожа от страха на своей постели, слушала, как Осип Петрович хлестал полотенцем по стенам и по полу — это он выгонял чертей в кухню. И Соне уже казалось, что чертики и в самом деле прыгают по кухне, вот-вот и к ним в комнату прибегут.
Все жильцы в квартире просыпались, вздыхали, ворчали, что с таким соседом жить никак нельзя… Совсем спать не дает.
Дарье Никоновне жалко было Осипа Петровича. Но после особенно бурной и страшной ночи она сказала ему:
— Ищите себе другую квартиру, Осип Петрович. Вы никому спать не даете, а у нас народ все рабочий, рано встают — каково работать не выспавшись? Жалко мне… Но что ж поделать? Не хотите вы жить, как люди. А такой вы большой человек!
Осип Петрович угрюмо выслушал Дарью Никоновну и ничего не сказал. Потом надвинул на голову остатки своей старой шляпы и ушел. Ушел и не вернулся. Через несколько дней пришел посыльный из больницы, забрал его вещи. Сказал, что художник у них, что у него белая горячка. И больше про Осипа Петровича на Старой Божедомке ничего не слыхали.
И Дарья Никоновна снова повесила белый билетик на окне этой несчастливой комнаты.
В квартире опять стало тихо по ночам. Никто не кричал, никто не выгонял полотенцем чертей. Но нет-нет — то отец, то мама вспоминали Осипа Петровича.
«Да, хороший человек был. И почему он не мог жить, как все люди? Форменный босяк получился», — говорил отец.
«Потому и не мог, — отвечала мама, — что он был не такой, как все. Он большой человек был, большой талант. А что ж ему было делать? Или купцам иконы пиши, или с голоду помирай — с таким-то талантом! Не мог он этого терпеть — вот и погиб».
«Верба»
Через несколько дней пришла посмотреть комнату худенькая горбоносая девушка — белошвейка. Посмотрела и осталась — комната маленькая, зато недорогая и теплая. Новая жиличка съездила на свою прежнюю квартиру, привезла постель и белошвейную машину, постелила белую скатерку на стол, повесила занавесочки на окно — и закрылась в комнате, притаилась, как мышь в норе. Видно, боялась хозяйки, хозяина, чужих людей. И в тот же вечер за ее дверью мелко и торопливо застрекотала ее белошвейная машина.
Рано утром она вышла в кухню, умылась. Тоненькая, с маленьким личиком, с маленьким ртом и круглыми, почти без ресниц глазами, она была похожа на какую-то робкую, невзрачную птицу. Умылась и опять спряталась в комнатке.
Мама топила печку, стряпала. Анна Ивановна приготовила свои чугунки — первое и второе. Дунечка тоже поставила маме на стол чугунок. Только белошвейка сидела в своей комнатке и молчала.
— А вы готовить разве не будете? — спросила у нее мама.
— А… можно?
— Ну, а как же? Печка большая, на всех хватит. Приготовьте, а я вам сварю. Как вас зовут-то?
— Спасибо. Ираидой Алексеевной меня зовут.
— Давайте свои чугунки, Ираида Алексеевна. Да приходите к нам чай пить.
Ираида Алексеевна очень быстро прижилась в квартире. Все тут было просто, все по-доброму, будто в свою семью попала. К ней тоже все очень скоро привыкли и уже через неделю называли попросту Раидой.
В одно из воскресений Кузьмич принес пучок вербы. Соня прибежала посмотреть на вербушку. Нежно-голубоватые атласные «зайчики», сидящие на красных ветках, светились серебром.
Вербушка внесла в квартиру запах свежести, талого снега, весны… На улице уже светился под солнцем мокрый булыжник, и грязные ручьи бежали по канавкам вдоль тротуаров.
В квартире было празднично, собирались на «вербный базар», который устраивался каждую весну.
— Мам, и я пойду, а? — пристала Соня. — Мам, и я! Ты обещала!
— Да ведь затолкают!
— Ну и пусть! Мам! Я тоже с тобой пойду!
Отвязаться от Сони не было никакой возможности. Если ей чего-нибудь очень хотелось, то и сама замучится и других замучит.
— Ведь там грязь, толпа! И все равно ничего не увидишь.
— Мам, ну ведь ты обещала!
А в голосе у Сони уже звенели слезы.
— Ну, пусть идет, — вступился отец. — Видишь, загорелось человеку.
— Ладно. Одевайся. Только потом не хныкать!
На «вербу» пошли мама, Раида и Кузьмич. Соня, чуть не визжа от радости, шагала вместе с ними по грязным весенним тротуарам. Наконец-то она увидит «вербу», сама увидит все эти чудеса, о которых столько слышала рассказов, сама купит и «тещин язык», и «чертика», и бархатную бабочку. Всегда кто-нибудь приносил с «вербы» эти игрушечки!
— На Красную площадь сходить бы… — сказал Кузьмич, щуря от солнца темные близорукие глаза. — Там базар большой…
— Разъезды теперь там, — подхватила мама. — Я как-то видела — красиво… Ну, да ничего, с нас и Трубной хватит.
— Какие разъезды? — тотчас пристала Соня. — Кто разъезжает?
— Господа разъезжают, не мы с тобой! — ответила Раида. — В колясках да на рысаках. Наряды свои показывают.
Долго шли бульварами. Солнце сверкало в прудах около Самотеки. На улице было много народу, шли и на «вербу» и с «вербы». Кто шел с «вербы» — сразу узнаешь: на груди пришпилена бабочка, или цветок, или какая-нибудь плюшевая обезьянка…
Толпу на Трубной площади слышно было издали. Она шумела, галдела, слышались отдельные выкрики, свистели свистульки, пищали резиновые чертики, играли гармошки…
Толпа заливала всю площадь до самых стен монастыря на Рождественке, который поднимался над улицами своими живописными башенками. Над толпой плавали разноцветные шары, радостно и празднично светившиеся на солнце.
Соня покрепче схватилась за мамину руку, и они все четверо, сами не заметили, как очутились в толпе.
Тут уж Соня не знала, куда глядеть. На каждом шагу встречались торговцы с маленькими лоточками, а на лоточках все так и пестрело от разных диковинных вещичек. И бархатные бабочки сидели там, и синие с серебром стрекозы, и букетики цветов, и всякие зверушки с орех величиной…
— Морские чертики! Чертиков кому! — кричал один торговец. — Живые, сам ловил в море!
Соня смотрела во все глаза на чертика. Да он и в самом деле был живой! Он прыгал в стеклянной трубочке то вверх, то вниз, маленький, черненький, с красным язычком… Вот таких, наверное, выгонял из комнаты Осип Петрович.
— Вот купи себе чертика! — прокричала, наклонившись к Соне, Раида.
Но Соня затрясла головой:
— Ой, не надо! Разведутся еще…
Мама и Раида рассмеялись. А рядом уже кричал другой торговец:
— Райские птицы кому! Прямо из рая!
У него на бархатной подушке сидели пестрые птички — синие, красные, зеленые…
— Ой, мама, купи!
— Почем? — спросила мама.
— Двадцать копеек!
— С ума сошел!..
Толпа понесла их дальше. Кузьмича уже не было, его оттерли куда-то в сторону. Мама сначала видела его черную кепку, а потом и ее потеряла. Над ухом пронзительно пищало что-то.
— Тещин язык! Кому тещин язык!
Торговец поднес ко рту какую-то пеструю игрушку, подул в нее. И вдруг эта игрушка с писком и свистом развернулась, вытянулась — будто и в самом деле длинный-предлинный язык. Кругом засмеялись, закричали:
— Ох-хо-хо! Вот уж правда, что тещин язык!
— Вот купи своей теще, подари!
— Пожалуй, из дома выгонит с таким подарком!
— Мама, купи!
«Тещин язык» мама купила — уж очень он неожиданно и забавно развертывался, вытягивался и пищал.
Вот толпа раздалась, стала в кружок. Что там такое?
А в кругу, на булыжной мостовой, среди жидкой, смешанной с солнцем грязью, стоял маленький столик и на столике широкая белая миска с водой. Над этой миской колдовал китаец в синей одежде, в круглой шапочке, из-под которой спускалась по спине длинная черная жесткая коса. Он тряс в пригоршне какие-то темные горошинки, показывал их всем, кто хотел смотреть. Соня пробралась вперед, она изо всех сил толкалась локтями, ей во что бы то ни стало хотелось видеть, что будет дальше.
Она близко увидела эти серые бесцветные горошинки в желтой руке китайца. И вот он произнес несколько непонятных слов, как-то странно повел руками над миской и бросил шарики в воду.
И тут стало твориться непонятное. Каждый шарик начал во что-то превращаться. Одни расправлялись, развертывали зеленые листья, стебельки, на стебельках появлялись бутоны, которые тут же расцветали розовыми и желтыми розами… Другие превращались в маленьких, сверкающих драконов с изумрудными хвостами… Из третьих получались пестрые вазочки… Четвертые раскрывались яркими китайскими веерами… И каждая горошина раскрывала что-то свое и, сверкая красками, всплывала перед глазами изумленной публики.
Соня не могла оторвать глаз от такого чуда, она просто забыла дышать. Но китаец накрыл миску полотенцем и снова затряс горошинами в ладони.
— Ходя, давай-ка мне!
— Мне десяточек, Ходя!..
К нему протянулось несколько рук с медяками.
— Ой, мама, купи!
Мама купила несколько штук и положила Соне в карман.
— Денег с тобой тут бог знает сколько потратишь!
А толпа уже тащила их дальше, толкая со всех сторон. Соня начинала уставать, дудки и всякие пищалки оглушали ее, ноги скользили по грязи… Раиду они тоже потеряли, и Соня со страхом все крепче цеплялась за мамину руку. Ей казалось, что теперь уж ни за что не выбраться им из толпы. Ей видны были только бока и спины людей, пиджаки, руки, карманы — и далекое голубое небо над головой. Все эти бока и спины терлись друг о друга и зажимали Соню. Она изо всех сил толкалась локтями, чтобы отвоевать себе хоть маленькое пространство. Она злилась и чуть не плакала. Но маме не сознавалась, что и сама она устала и локти у нее устали и что ей хочется домой.

Ей казалось, что теперь уж ни за что не выбраться им из толпы.
А мама уже и сама стремилась домой. Коровы ждут, убираться пора!
Но вот наконец и просвет появился в толпе. Стал виден бульвар и улица Самотека.
Мама с Соней уже хотели пуститься через мостовую к бульвару, но пройти было нельзя: мимо один за другим мчались экипажи. Открытые коляски — ландо — блестели лаком, сверкали тонкими спицами высоких колес. Лошади шли вздернув головы, развевая гривы… В колясках сидели барыни в больших шляпах с перьями, с цветами, а иногда и с целыми птицами на полях… Сидели там и господа в цилиндрах, в белых, жестко накрахмаленных воротничках…
На какое-то мгновение Соня вдруг вспомнила подвал тетенек-прачек. Пылает плита, на плите в огромном баке кипит белье, облако пара клубится над ним. Чернобровая Паня стирает в большой лохани. Тетенька Анна Михайловна стоит у гладильной доски. Тяжелым горячим утюгом туго ведет она по сырому белоснежному полотну воротничка. Легкий горячий пар вырывается из-под шипящего утюга, а воротничок становится жестким и сверкающим…
А теперь она их видит — вот они, эти воротнички! Вот для кого они стирались и гладились — для господ!.. И удивительно показалось, что раньше ей это и в голову не приходило. Тетеньки стирали и крахмалили кружевные рубашки, нижние юбки в оборках и в шитье, а носят их вот эти барыни… Вот как соприкасаются два мира: мир господ и мир простых рабочих людей. Такое открытие сделала Соня в эту быстро промелькнувшую минуту.
Экипажи мчались вверх, к Страстной площади — видно, спешили на Тверскую. Мостовая опустела, люди рассеялись. Мама и Соня быстрым шагом направились домой.
Дома в этот день было очень весело. Прыгали маленькие черные чертики в стеклянных трубочках, налитых чем-то зеленым. Верещали, внезапно вытягиваясь, «тещины языки». Под потолком качался на ниточке красный шар. Соня бегала из комнаты в комнату, разглядывала, кто что купил. У Кузьмича были две бархатные бабочки — синяя и розовая с серебром на крылышках — и малюсенькая коричневая обезьянка. Раида принесла яркий желтый с зеленым, вырезанный из топкой бумаги китайский веер и такой же бумажный китайский фонарик. Фонарик она повесила на окно, а веер раскрыла и пристроила на стену, около какой-то своей старой фотографии.
Больше всего покупок оказалось у Сони. И зелененькая птичка, и волшебные горошины, и шар, и «тещин язык»…
Она подкрадывалась то к отцу, то к Анне Ивановне или к Раиде и вдруг выдувала у них над ухом «тещин язык». И все вскрикивали от неожиданности, а потом смеялись.
Но самое интересное, самое захватывающее — это были ее волшебные горошины.
Мама дала ей миску с водой. Соня бросила в воду несколько горошин. И снова повторилось чудо. Серые горошинки расправлялись, превращались в цветы, в бабочек, в птичек и плавали на воде. Соня, не отрывая глаз, следила за их превращением. Она бросала горошину и ждала: а что будет из этой? И каждый раз появлялось новое, неожиданное. То вдруг домик с загнутыми краями крыши, то зверек, то веер, то деревце… Как это могло получаться? Наверное, тот китаец все-таки знал колдовство.
Соня сидела над миской и ничего не видела и не слышала, кроме своих горошин. А потом горошинки кончились, и все цветы, птички и деревца разбухли, расплылись и пошли на дно миски. И тут Соня услышала, что мама рассказывает о тех господах, которые ехали мимо них на гулянье — на Тверскую.
— Мам, а почему мы тоже не поехали кататься? — спросила Соня.
Все засмеялись.
— А куда бы это вы поехали? — усмехнулась Анна Ивановна.
— Куда все. На Тверскую.
— Все! Ох, батюшки! Так ведь разве туда все едут? Туда только господа ездят, наряды показывать. А вы в каких нарядах там появились бы?
— Нас бы с тобой городовой оттуда живо наладил, — сказала мама.
— Почему наладил бы?
— Эко ты, голова! — вмешался отец. — Почему да почему! Ну вот, забредет, например, курица в гусиную стаю, так они ее сейчас и защиплют и выгонят. Чужая, дескать, портишь нашу породу. Так и тут. Господа собрались, кататься поехали, а среди них вдруг молочница в косынке затесалась! Этого они не потерпят.
— А почему?
— А потому, что они господа, а мы простые; они богатые, а мы бедные; они знатные, а мы мужики, — с нетерпением сказала мама. — Если бы мы так вот взяли бы да поехали, над нами все смеялись бы. Тебе хочется, чтобы над нами смеялись?
— А почему смеялись бы?
— Потому что мы одеты плохо, потому что мы и сидеть-то на лихаче как следует не умеем. Потому что это господское дело на лихачах кататься, а не наше.
— А почему не наше?
Мама потеряла терпение:
— Ступай займись чем-нибудь. Вырастешь — тогда поймешь.
Хоть бы уж поскорей вырасти!
Мрачные дни
После этого пестрого, веселого праздника словно еще глуше, еще тоскливее стало на Старой Божедомке.
В доме было тихо. Все говели, ходили в церковь. Кузьмич не пропускал ни одной всенощной. Усталый, с черными руками, с закопченным лицом, приходил он с работы, поспешно умывался, поспешно обедал и шел в церковь. Каждый раз он звал с собой Анну Ивановну, но у нее каждый раз то голова до страсти болела, то до страсти болел зуб…
— Плохо тебе на том свете будет, Аннушка! — предостерегал ее Кузьмич и уходил один.
На последней неделе поста пошли говеть и мама с Соней. Батюшка в школе сказал, что говеть надо обязательно, что надо очиститься от грехов, и тогда бог все простит.
— Мам, а если кто человека убил, бог все равно простит? — спросила Соня.
— Конечно, простит, — ответила мама.
— Мам, а если этот человек разбойник, то все равно?
— Все равно.
— Ну, а если его бог простит, а он потом опять человека убьет и опять прощения попросит, то простит?
— Какие-то ты неподходящие вопросы задаешь! — сказала мама.
Они вошли в маленькую приютскую церковь. Колокол жиденько позванивал над головой. Народ тихо стоял и молился.
Мама и Соня прошли поближе к алтарю. Запели певчие; чистые печальные голоса приютских девочек заполнили церковь.
— Мам, мам, слышишь? — зашептала Соня, дергая маму за руку. — Вон Саша поет!
— Молчи! — остановила ее мама. — В церкви нельзя разговаривать.
Соня крестилась, когда все крестились. И на колени становилась, когда все становились. Она боялась сделать что-нибудь не так, а то бог увидит и накажет.
Но через некоторое время она опять подергала маму за руку:
— Мам, а можно посидеть на ступеньке?
Мама нагнулась к ней и сердито зашептала:
— Что ты придумала? Кто же сидит в церкви? В церкви нельзя сидеть! Грешно!
— А почему же вон та барыня сидит?
У стены, недалеко от алтаря, молилась барыня в большой черной шляпе с перьями. Около нее стояли две девочки в бархатных капорах с лентами. Они все стояли на красном коврике; Соня видела, как женщина в черной монашеской одежде подстелила им этот коврик. Потом эта женщина принесла круглый венский стул, и барыня среди всенощной уселась на этот стул.
— Ну, барыня одно дело, — ответила мама, — а мы — другое. Ты знай молись. Мы простые люди.
Соня крестилась, а сама думала: а почему они «другое дело»? Значит, бог разбирает? Если это барыня, то пускай посидит, раз она устала; а если простые люди — то им грех. А простые-то люди еще больше устали. Ведь барыня целый день небось ничего не делала, а мама сколько раз коров подоила, и печку истопила, и полы вымыла…
Потом Соню заинтересовали девочки — барынины дочки. Она крестилась, а сама все глядела на них. Старшая стояла строго, не глядя по сторонам. Она лишь на секунду повела глазами на Соню, но тут же отвернулась, спесиво приподняв подбородок. Она словно отстранила Соню своим взглядом на далекое расстояние, и Соня это поняла. Никогда, никогда в жизни она не сможет подойти к этой девочке, заговорить с ней! Соню не подпустят к ней и на десять шагов.
Младшая смотрела приветливей. У нее был немножко вздернутый нос, веселые ясные глаза, ямочки на щеках. Но и она, заметив, что Соня смотрит на нее, окинула ее невидящим взглядом, подтолкнула сестру и улыбнулась. Та только чуть-чуть нахмурила брови.
Тогда Соня почувствовала себя оскорбленной. У бога все равны, но почему те стоят на красном коврике, а Соня и все другие люди стоят на холодных каменных плитах? Она незаметно придвинулась к барской семье и тоже стала на красный коврик. Так, на самый краешек, но все-таки встала.
И тут же, откуда ни возьмись, женщина в черном. Она грубо отстранила Соню:
— Куда лезешь? Для тебя, что ли, постлано?

Соня отошла и прижалась к маме. Ей хотелось плакать.
— Пойдем домой! — начала она приставать к маме.
— Что ты! Вот кончится, тогда и пойдем.
— А когда кончится-то?
— Как тебе не стыдно! Пришла богу молиться, а домой просишься! Как же ты исповедоваться-то будешь?
Казалось, что служба длится без конца. А девочки-приютки все пели и пели. Соне казалось, что она различает нежный и чистый Сашин голос.
«Я-то один раз пришла, да как устала! — подумала Соня. — А Саша каждый день и утром и вечером все здесь стоит и поет!»
Она повернулась, подняла голову и стала смотреть на хоры — а может, она увидит Сашу? Но хоры были завешаны, а мама опять рассердилась на Соню:
— Разве можно к алтарю спиной поворачиваться? Грешно это. Стой смирно!
«Грешно, грешно»! Все время что-нибудь грешно. И Соня почувствовала, что она в церкви не столько замолила свои грехи, сколько заново нагрешила. И очень испугалась: ведь бог-то все время смотрит на нее и все видит!
А как хорошо было выйти на улицу из душной и тесной церкви! Как дохнуло в лицо свежей прохладой, полной неясных веяний весны!
В праздничном настроении она вошла в квартиру и сказала отцу, как всегда говорит Кузьмич, когда приходит из церкви:
— Бог милости прислал!
«Спасибо!» — должен был ответить отец. И тогда все было бы складно и так, как надо.
Но отец усмехнулся и сказал:
— А где же она, эта милость-то? Ну-ка, давай ее сюда! Хоть бы раз посмотреть, какая она бывает! Где она у тебя?
Соня оторопела, а потом засмеялась и показала отцу пустые руки.
Мама покосилась на отца, покачала головой:
— Экой язык! Сколько тебе за твой язык попадало!
Тут вошли в комнату Сергей Васильевич и Дунечка. Они тоже ходили в церковь. Сергей Васильевич был важный и какой-то просветленный. Тугой белый воротничок подпирал ему подбородок.
— Бог милости прислал, — сказал он, проходя в свою комнату, и слегка поклонился. Он говел, усердно ходил в церковь и держал себя смиренно, хотя и не терял всегдашней уверенности в своем превосходстве.
И отец в ответ уже не усмехнулся и не спросил, где же эта милость.
— Спасибо, — ответил он, — спасибо!
А Соня заметила, что мама смотрит на отца строгими, предостерегающими глазами. И поняла, что мама почему-то боится Сергея Васильевича, и еще больше невзлюбила этого человека.
«Хоть бы Дунечка прогнала его! — уж в который раз подумалось ей. — Вот бы хорошо было жить без него!»
На другой день развезло. Через дорогу не перейдешь — месиво из грязи и снега. Соня как пришла из школы, сразу спросила:
— Мам, а сегодня опять в церковь пойдем?
И с затаенной тоской ждала ответа: неужели все-таки надо будет опять идти туда, стоять там целые часы, слушать непонятные слова молитв, задыхаться от тесноты и ладана? Хоть бы у мамы нашлись какие-нибудь неотложные дела и они остались бы дома!
Неожиданно выручил отец.
— Куда вы пойдете! — сказал он. — Не пролезешь нигде. Бог потерпит, если вас в церкви не будет, и не больно-то вы ему нужны. Какой от вас толк? Богатые на тарелку старосте церковному серебро кладут. А вы небось копейки две положили.
— Понес свое! — Мама покачала головой. — А забыл, как Христос сказал: лепта вдовицы дороже, чем золото богача. Богач дает потому, что у него много. А вдовица отдала последнее.
— Ну, голова, так то Христос сказал. А попы наши похитрее Христа. Они все-таки лучше золото примут. А лепта пускай у вдовицы останется, толку-то от нее мало.
— Заглаголил!
А маме и самой не хотелось идти в церковь. Она ходила от окна к окну, глядела на мокрый снег, который густо падал на мокрую землю…
— Что-то как я устала, — сказала она. — Вчера поздно легли, не выспалась. Не знаю, как выстою…
— А и выстаивать-то незачем, — ответил отец. — Ложись, да и отдохни.
— Люди вон пошли…
— Людям завтра в шесть часов не вставать.
Мама с облегчением повесила на стену черную кашемировую юбку, которую достала, чтобы идти в церковь, и прикрыла ее занавеской.
— Мам, а я? — с затаенной тревогой спросила Соня.
— А ты что? — прикрикнул отец. — Одна пойдешь, что ли?
Хорошо было остаться дома в эту слякоть и тьму! И в то же время мучила мысль: а что батюшка скажет, если узнает? Страстная неделя, а они дома сидят! Хотелось радоваться, что сейчас она сядет читать интересную книжку, и боялась радоваться.
Но села за книжку и про все забыла. Сказки, одна волшебней другой, раскрывались перед ней, полные неожиданных событий. Вот принц, превращенный в черный камень, лежит на склоне горы… Вот красавица переходит тайком из замка по холсту, протянутому над рекой… Вот жемчужина Адальмины, которую подарила ей фея. Сколько пришлось выстрадать Адальмине, когда она потеряла свою жемчужину!
— Что, уже отговели? — ехидно спросил Сергей Васильевич, проходя в свою комнату.
Он опять был в церкви, весь измок, пока дошел до дома. Он не замечал, что, проходя через хозяйскую комнату, оставляет темные следы на чистых маминых дорожках. А мама видела, но молчала, будто не видит. Она только подняла глаза от книги и сказала:
— Нездоровится мне сегодня. Завтра пойду.
Сергею Васильевичу, наверное, было досадно, что люди сидят дома с книжками в тепле, а он и устал и промок.
— Если бы все такие христиане были, как вы, что бы стало с православной церковью? Святой Даниил был брошен в ров со львами, а он славил господа. А тут — вишь ты, нездоровится… Да, уважительно, что говорить! Святые мученики вон что для господа терпели! Всякие муки. А мы… Ну, что говорить…
— Сережа, Сережа, что ж ты ноги не вытер? — торопливо прервала его Дунечка.
— Что ноги?! — огрызнулся Сергей Васильевич. — Какие ноги? — И, сверкнув на нее глазами, вошел в свою комнату.
Дунечка побежала в кухню за тряпкой, принялась было затирать мокрые следы, но мама сказала:
— Ничего, Дунечка, высохнет. Не ковры небось. — И отняла у нее тряпку.
У мамы все настроение испортилось. И отец сердито захлопнул книгу.
— Лучше бы поменьше молился да с людьми жил бы по-человечески! — сказал он. — Экой нескладный, форменный бурбон! Давай-ка, Даш, собирай ужин, да спать. Что ж керосин-то жечь зря, он ведь тоже денег стоит.
А Соне так не хотелось отрываться от книги! Принцесса Адальмина потеряла волшебную жемчужину и стала пастушкой, пасет коз… Неужели так и останется? Неужели не найдет свою жемчужину?
Мама собрала ужин, постелила постели. А после ужина сразу погасила лампу.
— Мам, ну еще немножко! — проныла Соня. — Ну еще чуть-чуть!
— Завтра тоже день будет, — ответила мама и задернула полог своей кровати.
Наступила тишина, темнота… За окнами капало. В углу перед иконой светилась лампадка. Она, чуть колеблясь, освещала святую Дарью и мученицу Софью в розовом платье с золотым пояском, которых еще давно нарисовал им горбатенький художник…
Соня достала из-под подушки книгу и попробовала разглядеть что-нибудь при лампадном огне. С трудом, изо всех сил напрягая зрение, она разбирала строчки. Ну вот, так и есть, принц нашел жемчужину! Но как же он теперь узнает, чья она?
Мама услышала шелест перевернутой страницы. Она встала с постели, отняла у Сони книгу и положила ее на шкаф.
Соня улеглась получше и стала придумывать конец сказки.
Но сказка не сочинялась. Было тягостно, неспокойно. Мысли, возникавшие в последние дни и мучившие Соню, долгое стояние в церкви, волнение, ожидание исповеди, которой Соня почему-то очень боялась, — все это расстроило душевное равновесие. Снова начиналась бессонница. Соня с тоской чувствовала, что ей опять придется лежать до утра, думать и передумывать, вертеться с боку на бок и прислушиваться, когда же наконец на улице, где-то в предутренней тиши, легонько затопает извозчичья лошадка. И она уже знала, что человечки на желтой стене у сундука опять шевелятся, бегают, меняются местами и строят какие-то козни против Сони.
Вспомнились страшные сны — темные чердаки, собаки, идущие на задних ногах. Теперь Соня уже боялась заснуть. А если заснешь да опять приснятся чердаки и собаки?
Соня долго ворочалась. Потом легла тихо, закрыла глаза и стала терпеливо ждать рассвета. Время от времени она поднимала ресницы — не рассветает ли? Но за окнами было темно и только лиловатый шар фонаря покачивался от ветра.
В последний раз приоткрыв ресницы, Соня с облегчением увидела, что в окнах посветлело. Сейчас же спокойствие охватило ее. Теперь — спать, спать! Но только легкая дрема начала путать мысли, только начало что-то мерещиться, как, вплетаясь в сон, послышались какие-то страшные, глухие звуки, словно железо мерно звякало о железо. Соне не хотелось просыпаться, она мысленно отмахивалась от этого шума, но железо продолжало глухо погромыхивать, настойчиво, мерно, неодолимо. Соня открыла глаза. Форточка в окне была приоткрыта, и вместе с посветлевшим сырым весенним воздухом в комнату проникал и этот непонятный шум. Соня вскочила с постели, подошла к окну. По спящей улице, прямо по мостовой, шли шеренги людей. Серые ряды их мерно покачивались, люди шли плечом к плечу, с поникшей головой, в каких-то круглых смятых шапках без козырька. Гнетущее молчание сопровождало их: ни слова, ни восклицания. И только глухое бряцание железа — раз-два, раз-два… Соня старалась понять, где же и что это погромыхивает в такт их шагам. И вдруг увидела — громыхали цепи, которыми за руки и за ноги были скованы все эти люди.
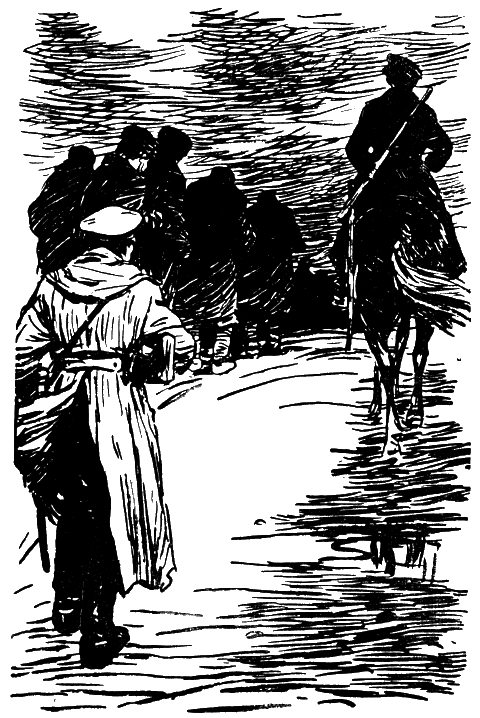
По спящей улице, прямо по мостовой, шли шеренги людей.
— Ой… — тихо охнула Соня.
И тут же оглянулась — как бы не разбудить маму. Но мама уже глядела на нее из-за полога:
— Что там?
И тут же встала и тоже подошла к окну. Но серые шеренги, громыхающие цепями, уже прошли. Показались только спины последнего ряда, и тут Соня отчетливо увидела, что на этих спинах, на серой шинели, нашита заплата, похожая на бубновый туз. Понурые головы, серые шинели, кандалы и по всему ряду — бубновые тузы…
«Бубновый туз на спину…» — вспомнились слова Анны Ивановны.
Люди исчезли в конце улицы. Предрассветные сумерки стушевали их. Но звон железа, глухой и мерный, еще долго доносился до чутких Сониных ушей.
— Что там? — спросил отец спросонья.
— Ничего, — ответила мама. — Арестантов погнали.
Она велела Соне лечь в постель и закрыла форточку.
— Прозябла, наверное, вот и не спишь, — сказала она. И укрыла Соню сверх одеяла своей большой шалью.
Соня слышала, как она, ложась, вздохнула и прошептала:
— Не дай-то, господи, такую беду!
Церковная тягота
Наступило утро — и опять та же тоска. В школе у девочек только и разговоров, что о говенье, об исповеди. И говеть и исповедоваться было обязательно. Елена Петровна весь пост не могла играть с ними ни в какие игры: ни петь, ни играть постом было нельзя — грех. Туманных картин из волшебного фонаря тоже не показывали — грех. Уроков пения не было — грех. Бегать и громко смеяться во время перемены запрещалось — грех. Соня и Саша ходили обнявшись по коридору или садились на пол, играли в камушки. А когда кто-нибудь из девочек забывал, что идет страстная неделя, и начинал шуметь и шалить, Анюта Данкова упрекала их:
— Иисус Христос в эти дни на кресте распятый висел, а вы веселитесь! Вот вас бог-то накажет! Вот у вас мамы заболеют!
Эти страшные слова заставляли немедленно умолкать!
Но однажды Саша ответила на это:
— Это у тебя мама заболеет, потому что вы обе злые, — вот вас-то бог и накажет!
Анюта побледнела. Может, оттого, что обиделась, а может, испугалась за маму и тут же побежала в учительскую. Сашу позвали к Евдокии Алексеевне.
Она вышла оттуда с алыми пятнами на бледном лице. Соня подбежала к ней.
— Ну и пусть жалуются, — сказала Саша, — ну и пусть! А если меня накажут, кто им «святый боже» сегодня будет петь? Ну и пусть! А мне еще, может, лучше в кухне картошку чистить, чем каждый день этот «святый боже, помилуй нас»! Поем-поем, а чем он нас милует? Только все и ругают с утра до ночи, только все и ругают! Рады, что отца-матери нет…
У Саши слезы подступили к горлу, и она замолчала…
Наступил тягостный день исповеди. На уроке «закона божьего» батюшка сказал:
— Говорите на исповеди всю правду, ничего не утаивайте. Чтобы сердце ваше было открыто. О чем спросят, на все отвечайте. И помните — бог все слышит. А если обманете священника, знайте, что вы обманули бога!
Соня трепетала. Совсем притихшая и задумчивая, она готовилась к исповеди и все вспоминала свои грехи. Она не могла делать уроков, не могла читать. Мысль о том, что сегодня надо исповедоваться, мучила ее и не давала покоя.
В сумерки зазвонили колокола, еще более уныло, чем всегда. Мама стала собираться в церковь. Взглянув на часы, она сказала:
— Если запоздаю, подои Красотку, Иван. А то молоко подойдет, ей очень трудно будет.
— Ладно, подою, — ответил отец не очень довольным голосом. — А вы там не задерживайтесь… Вытряхните грехи-то — да домой!
— Как люди, так и мы, — сказала мама.
А Соня добавила:
— А что они у нас в кармане, грехи-то? Как же мы их вытряхнем?
Мама взяла ее за руку:
— Не слушай ты его! Пойдем.
С тем же трепетом, который не оставлял ее с утра, Соня вошла в церковь. Около исповедальни стояли люди со склоненными головами. Мама подвела Соню к самой дверце исповедальни и сама встала тут же. Соня терпеливо ждала. Сердце замирало от страха и волнения. Люди тихо входили в дверцу и выходили крестясь. Вот пошла мама. Она была там недолго.
— Теперь ты иди, — шепотом сказала она Соне.
Соня вошла. Это была трудная и торжественная минута. Соне казалось, что бог уже глядит ей в самую душу и ждет от нее всей чистой правды и признаний грехов. Ой, только бы не забыть какого-нибудь греха, только не пропустить бы!
В полумраке стоял священник. Он поглядел на нее какими-то далекими, усталыми, скучными глазами и начал спрашивать усталым, скучным голосом:
— Родителей слушаешься? Почитаешь ли отца и мать? Молишься богу? Ходишь в церковь? Не обманываешь ли? Не берешь ли чужого?
Соня не успевала отвечать. Она старалась припомнить, не обманула ли кого случайно и не взяла ли чего-нибудь чужого…
Но батюшка уже накрыл чем-то ее голову и, повысив голос, быстро прочитал молитву:
— Ныне отпущаеши раба твоего…
Соня положила на блюдо тоненькую желтую церковную свечку и две медные монеты, как велела мама, и вышла. Что-то было не совсем хорошо. Соня так готовилась к исповеди! Ведь батюшка обращался к самому богу, просил отпустить ее грехи, а сам даже и не дослушал всех ее грехов! Он даже и не слушал ее как следует, будто думал о чем-то другом… А потом пробормотал молитву — и все!
Но все-таки Соня шла домой и думала, что теперь у нее нет ни одного греха. Теперь она все время будет доброй и кроткой, не будет хныкать и капризничать, не поссорится никогда с подругами, будет всегда слушаться маму и папу… Как хорошо, как легко быть совсем безгрешной!
— Мам, — спросила она, дергая маму за руку, — у меня теперь совсем нет грехов?
— Совсем нету, — ответила мама. — Только прибавь шагу, опаздываю коров доить. Ревут небось.
— Значит, я сейчас все равно что ангел? Ведь у ангелов тоже совсем грехов нету?
— Ну, значит, и ты, как ангел.
— А могут у меня тоже крылья вырасти?
— Ой, девка, и что ты только выдумываешь? Шагай живее!
— Ну, а почему, если я все равно что ангел? У них же есть крылья?
— Да ведь ангелы-то никогда не грешат. А ты уж и сейчас грешить начинаешь — мать не слушаешься.
— А я теперь совсем не буду грешить!
— Человек не грешить не может.
— Почему?
— Уж так его бог устроил.
— Бог? А тогда почему же он сам устроил и сам же наказывает?
— Вот вы с отцом-то какие! Разве с вами говорить можно?
Соня весь вечер была тиха и ласкова и все боялась, как бы нечаянно не нагрешить. Хотела пойти к Лизке рассказать, что исповедовалась и что у нее теперь совсем грехов нету. Но побоялась: а вдруг Лизка что-нибудь такое скажет, да и наведет на грех? А Соне никак нельзя грешить, ей завтра причащаться.
Но и дома, оказалось, очень трудно было уберечься от греха. Сергей Васильевич в этот день тоже исповедовался. Он приоткрыл свою дверь, чтобы покурить; в своей комнате дыму напустишь, дышать будет нечем, лучше покурить в хозяйскую. А заодно и захотелось ему поговорить с отцом. Он заметил, что отец и в церковь не ходил и не исповедовался.
— Вы что же, Иван Михалыч, неверующий? — спросил он. — Церкви не признаете?
— Ну, как же так — церкви не признаю! — ответил отец. — Да ведь не складывается у нас. Люди в церковь, а нам — к коровам. В прошлом году я говел. А нынче сама говеет. По очереди приходится.
— Плохо, плохо! — строго сказал Сергей Васильевич. — Так вас и за безбожника сочтут. Вам коровы важнее исповеди! Важнее бога!
— Да не то что важнее… Так ведь коровы-то нас кормят. А бог-то…
— Вас бог кормит, а не коровы! Эх, темная вы душа! Не понимаете вы ничего! — Сергей Васильевич с сожалением покачал головой. — Вот я сегодня сходил в церковь, исповедался, очистился от грехов. И как хорошо-то! Жалко мне вас! Как червяк в земле, так и вы в своих земных помыслах. И как только такие люди на свете живут!..
— Папа не червяк! — вдруг вступилась Соня.
— Во! Смотрите-ка, обиделась! — засмеялся Сергей Васильевич. — Обижаться нельзя, грех!
— Обижать тоже грех, — сдержанно сказала мама.
Сергей Васильевич внимательно поглядел на нее:
— Я к вам с добром… о его же душе беспокоюсь! А вы… Не любите вы правды! Никто не любит правды. Эх, люди! — Он погасил папироску о притолоку и молча закрыл дверь.
— Всегда все настроение испортит! — с обидой прошептала мама. — Исповедался он! А лучше, что ли, стал? Одна злость… а еще о правде заговорил!
— А ты уж и губы надувать! — сказал отец. — Очень надо расстраиваться! Эко нашла дело!
— Мама, мы с тобой уже нагрешили, да? — с тревогой спросила Соня. — Из-за Сергея Васильича…
— Это его грех, — ответила мама.
Но Соня опечалилась. Вот и до завтра не дожила, а уже нагрешила. Когда ж тут крыльям вырасти?
Утром пошли к причастию. Мама надела Соне белое платье с маленькими розовыми цветочками и с розовым пояском. Башмаки с калошами были очень велики и тяжело шлепали по грязи. Светило солнце, звонили колокола.
В церкви было много народу, все прибранные, принарядившиеся. Мама сняла с Сони пальто, и Соня стояла в своем белом с розовым платье и немножко смущалась оттого, что она такая нарядная. Ей казалось, что все, кто стоит рядом, смотрят на нее, на ее платье, на ее новые башмаки. Только вот лучше бы эти башмаки были немного поменьше… Но ничего, башмаки-то не так видны, а зато платье!
Тут что-то люди зашевелились, потеснились… И Соня опять увидела барыню в шляпе с перьями и ее двух девочек. Они все прошли через толпу и встали на красный коврик. Нынче барыня была в светло-сером, а девочки — в белоснежных платьях с широкими голубыми атласными поясами, в белых чулках и в белых туфлях. И Соня сразу поняла, что она совсем не нарядная, что платье у нее простое, ситцевое и поясок узенький. А башмаки хоть и новые, но видно, какие они грубые. Ей показалось, что девочки увидели ее, подтолкнули друг друга и переглянулись с улыбкой. Так и есть, они смотрят на нее и смеются!..
И ей вдруг, до боли в сердце, отчетливо вспомнилось, как они прогнали Зою, девочку с подтягина двора, которая пришла к ним поиграть, прогнали за то, что она была в старых тапочках и в дырявом платке!
Соня сдвинула брови и опустила глаза. Она уже не оглядывалась по сторонам и не думала, что кто-то любуется ее платьем. Ей захотелось домой.
Казалось, что служба идет уже давно, давно… Поют, машут кадилами, зажигают свечи… Снова поют. Надоело, надоело!
Но вот наконец батюшка вынес из алтаря золотую чашу. И Соня поняла, что надо подойти и причаститься. Она торопливо пробралась вперед, ей стало страшно, что другие причастятся, а ей ничего не останется.
Какая-то старушка подвела ее к самому амвону. Батюшка уже почерпнул ложкой из чаши, а Соня открыла рот…
Но в это время чья-то грубая рука отстранила ее и злой голос просвистел в ухо:
— Успеешь! Лезут всякие…
Соня оторопела. Она снова увидела ту монашенку, которая однажды согнала ее с ковра. Монашенка оттеснила ее, а к амвону прошли девочки в белоснежных платьях с голубыми поясами.
Соня со слезами оглянулась на маму, протиснулась к ней и уцепилась за ее руку.
— Ну, что ты? — прошептала ей мама. — Еще не хватало — плакать! Пусть люди пройдут, а потом и мы…
Люди проходили, причащались, целовали крест. А некоторые целовали батюшке руку… Батюшка дал с ложечки теплого красного вина с кусочком просфоры; вино было очень вкусное. Но крест Соня целовать не стала. Какая-то толстая старуха только что поцеловала его, а губы у нее были мокрые.
Ну, вот и все — наконец-то кончилось! Теперь можно жить, как всегда жили. Теперь можно читать
сказки, петь песни, рисовать, играть в куклы! И притом — завтра праздник, пасха, и в школу не надо идти, и в церковь не надо! Хорошо!
Но мысли о Христе, которого распяли, а он на третий день воскрес, иногда тревожили Соню.
— Пап, вот ведь какие эти римские воины! — Соня подошла к отцу, облокотилась на его колено. — Ты подумай: Иисус Христос воскрес, а они сказали, что он не воскрес, а просто будто бы его ученики из гроба украли и где-нибудь спрятали!
— Да, скорей всего, так оно и было, — неожиданно ответил отец.
Соня посмотрела на отца с изумлением. Что он говорит? Как это так — ученики украли?! А батюшка сказал, что Христос воскрес! А если Христос не воскресал, то как же пасха будет?!
— А отчего же пасхе не быть? — сказал отец. — Попам заработать надо.
Отец и не подозревал, что наделали его слова. Соня верила в бога и во все, что рассказывал им батюшка в школе; а если так говорит батюшка, значит, так оно и есть. А как же еще?
Но вот отец говорит, что «скорей всего, так и было» — Христос не воскресал, а просто ученики его из гроба украли, да где-то и похоронили. А утром пришли римские воины, смотрят — в гробу нет никого. Стали спрашивать: зачем вы унесли Иисуса? А ученики отвечают: мы не уносили, он воскрес!
А что, если и правда: они просто придумали, что он воскрес? Ведь это отец сказал! А если отец сказал, как же ему не верить? Уж он-то знает!
Соня мучительно старалась разобраться в этих противоречиях. Ведь если так, то святые апостолы, ученики Христовы, — обманщики! А сын божий, значит, умер, как самый обыкновенный человек; вот как Никита Гаврилович — похоронили, и все. А тогда, значит, и в «законе божьем» все неправда?
Соне становилось страшно от этих мыслей, и она скорей бежала к подругам или бралась за книжку, чтобы не думать об этом.
Случай во дворе
Последний день перед праздником для квартирной хозяйки всегда был самым тяжелым днем в году. Дарья Никоновна очень устала. Пришлось топить два раза печку, потому что все в квартире пекли куличи и за один раз вся стряпня в печке не умещалась. Кроме куличей, Анна Ивановна затеяла пироги. И печь все это и ставить в печку чугуны с праздничными обедами должна была квартирная хозяйка. Кроме того, ей надо было успеть до вечера вымыть пол и в своей комнате и в кухне. А коровы, как всегда, требовали своего: четыре раза в день покорми да четыре раза подои… Последняя дойка в десять часов вечера, а в шесть утра опять вставай. У Дарьи Никоновны шибко болели руки, и случалось, что она от этой боли не могла заснуть по ночам.
Соня помогала маме убирать квартиру. Она ставила на место стулья, стелила на чистый, еще сырой пол свежие дерюжные дорожки, присланные маме из деревни. К вечеру они с мамой убрались, накрыли стол белой скатертью и поставили посреди стола блюдо с крашеными яйцами. Это Соня вместе с отцом все утро красили яйца, заворачивали их в пестрые бумажки и опускали в кипяток; варили яйца в луковой шелухе, клали их в стаканы с красной и синей краской. И теперь вон какие красивые лежат они на столе!
В квартире оставались только Соня, мама и Анна Ивановна. Дунечка еще не приходила с работы, а все остальные ушли в церковь святить куличи. Пошел Сергей Васильевич, пошел отец, пошла со своим маленьким кривобоким куличиком Раида. Кузьмич, придя с работы, долго умывался, чистился, брился. Побрившись, он начисто вымыл и насухо вытер бритву, завернул ее в десять оберток и повесил на стенку, где она постоянно висела рядом с завернутой в десять оберток граммофонной трубой.
Уже сгустились сырые весенние сумерки, когда они вернулись из церкви. Соня бросилась смотреть, что же стало с куличом и пасхой. Ведь они теперь не простые, они «свяченые». Но, как ни глядела, ничего нового в них не заметила. Тот же небольшой коричневый куличик с воткнутыми в него красными бумажными розами, так же из творожной пасхи выглядывают темные сладкие изюминки.
— Ох, Никоновна, посмотрела бы, какие там были куличи! — сказала Раида. — С какой обливой! Барашки на них из сахару, с золотыми рожками! А пасхи — сплошь марципан! Куда наши годятся!
Анну Ивановну это задело:
— Что ж наши! Куличи как куличи. А вот на твой кулич народ-то небось удивился — откуда такой богатый? Чей такой?
— Да ладно уж! — отмахнулась Раида.
— Поп все на большие куличи брызгал, а на Раидин-то и не попало ничего, — сказал отец. — Сунула его где-то в сторонке!
— Ну и то спасибо, что ногой не наступил! — опять подхватила Анна Ивановна.
— Аннушка! — послышался строгий Кузьмичов голос. — Иди сюда!
— Иду, Мить!.. А что вы думаете, не бывает, что ли? Помню, как-то — во Всехсвятском мы еще жили — попик, старенький, подслеповатый, пошел метелкой брызгать да прямо на чей-то кулич ногой в калоше… Крику!
— Аннушка!
— Да иду, Мить, иду! Ну, чего тебе? Поговорить не даешь!
С вечера Соня все порывалась пойти в церковь «фиверки» смотреть. Но легла отдохнуть «пока» да и уснула. Она проснулась было, когда Анна Ивановна запела своим тоненьким голоском, открыла глаза. Была ночь, всюду горели лампы. Все, кроме Дунечки и Сергея Васильевича, сидели у мамы за столом, справляли праздник. Запах кулича манил к столу. Пахло еще чем-то вкусным, теплым, жареным… Может, все-таки встать, попраздновать со всеми?
Подумала — и уснула снова. Во сне ей снились сахарные барашки с золотыми рожками; они разгуливали по столу среди куличей. А когда Соня хотела поймать хоть одного, они убегали и прятались.
Наступило тихое праздничное утро. Все в квартире спали. Все, кроме отца и мамы. Они, как всегда, встали на заре, надели свои фартуки и пошли убирать коров.
Когда Соня проснулась, отец уже снимал грязные сапоги, а мама разводила самовар. На столе, на белой скатерти, стояли неубранные тарелки — как разговлялись ночью, так все и осталось. А на окне залитые солнцем герани и фуксии светились чистой и яркой зеленью. И Соне подумалось, что наконец-то наступила весна…
Первый день праздника прошел в тишине, в дремоте. После завтрака снова все легли спать. И отец уснул, и мама легла. Все так устали за последние дни от всенощных, от работы, от предпраздничных хлопот… Скучный день, полный сна и безмолвия, еле тянулся. Соня не знала, что делать, чем заняться. На улице было грязно, ребята сидели по домам… Соня взяла со шкафа большую книгу, которую она почти всю изрисовала и исписала, когда еще не ходила в школу, залезла на свою постель и принялась рассматривать давно знакомые картинки.
И тут она увидела одну картинку — как-то вдруг по-новому ее увидела. По берегу моря идет девушка и задумчиво смотрит вдаль. Она грустна, что-то томит ее. Соня прочла надпись: «За морями земли великие…»
Соня не могла оторваться от этой картинки. Как же она не замечала ее раньше? Ведь и она, Соня, так же иногда смотрит из окна и думает: а ведь там, где кончается Божедомка, есть совсем другие улицы. А там, где кончается Москва, есть неизвестные города, и деревни, и леса, и реки… Ее так же, как эту девушку, и пугает и зовет большой, незнакомый, полный неожиданностей мир…
К полудню выглянуло солнце. Отец и мама пошли убирать коров; вышла во двор и Соня. Она захватила самое красивое пестрое яичко показать ребятам, похвастаться.
Во дворе светились лужи, черные, с набухшими почками ветки клена отражались в них. От колодца бежал тоненький солнечный ручеек. Коська в новом картузике с козырьком запружал ручей. Оля с пирогом в руке стояла около него и смотрела.
Увидев Соню, она достала из кармана яичко, розовое и гладкое, как ее щеки:
— Во какое!
— А у меня еще получше! — И Соня показала свое «мраморное».
— А давай — чье крепче! — Оля стукнула своим розовым в Сонино «мраморное», и на «мраморном» появилась вмятина.
Соня готова была заплакать:
— Ну вот, разбила!
А Оля, глядя прямо ей в лицо настырными круглыми голубыми глазами, заявила:
— Которое разбитое — то едят!
И тут же, выхватив у Сони яйцо, очистила его, откусила половину, а другую отдала Соне. Да, так уж полагается: чье разбито, то и съедено.
Весело щебетали воробьи, купаясь в лужице. Ворковали у чердачного окна голуби. Отец качал воду у колодца. Дворник Федор в новой розовой рубашке прогонял метлой ручей от колодца со двора на улицу и напевал песню… Все было тихо и по-весеннему празднично. И, казалось, этой ясной тишине никогда не будет конца.
И вдруг случилось что-то непонятное, недоброе. Рывком распахнулась калитка, и с улицы вбежал во двор молодой человек в белой косоворотке и в сапогах. Волосы его были всклокочены, картуз, видно, потерян, большие черные, широко раскрытые глаза жарко горели на бледном лице. Он растерянно оглянулся вокруг. У Федора застыла метла в руках. Иван Михайлович перестал качать воду. Даже ребятишки умолкли. И все глядели на этого незнакомого молодого человека, вбежавшего в их двор.
За воротами послышались свистки городовых.
— Лезь в колодец, — вдруг все поняв, сказал Иван Михайлович и распахнул маленькую дверцу дощатого колодезного домика.
Молодой человек в два прыжка подбежал к колодцу, влез в домик и закрылся. Иван Михайлович, будто ничего не случилось, продолжал качать воду, которая толстой напористой струей лилась в бадейку.
И только успела закрыться дверца колодца, во двор, гремя шашками, вбежали двое городовых. С ними вместе появился во дворе какой-то юркий худощавый господин в длинном пальто и в шапке пирожком. Его зоркие глаза мигом окинули весь двор.
— Я видел — он сюда вбежал! Я сам видел! — повторял этот господин. — Отлично видел!
— Куда побежал преступник? — грозно подступил румяный черноусый городовой к Федору.
Городовой был знаком Федору. Они были «земляки», не раз разговаривали в участке, когда Федор ходил туда с домовой книгой, калякали о том о сем. Но сейчас городовой так накинулся на Федора, что тот растерялся:
— Какой преступник? Где?
— Да сюда он вбежал, только что вбежал! — с раздражением закричал господин в длинном пальто. — Сквозь землю он провалился, что ли?
Федор беспомощно посмотрел на Ивана Михайловича.
— Скажешь, и ты не видел никого? — крикнул на Ивана Михайловича городовой. — Укрываете? В тюрьму захотелось?
— Да кто его знает… может, и проскочил по двору, — пожал плечами Иван Михайлович. — Прошмыгнул, да через забор, в Лавровский. Очень просто. У нас тут жулики не раз через забор из Лавровского переулка перескакивали.
Ребята смотрели и слушали, вытаращив глаза и затаив дыхание. У Сони сердце сжалось от ужаса: ведь отец сам сказал, чтобы преступник лез в колодец. За это его в тюрьму посадят!
— Он не мог добежать до того забора! — оборвал Ивана Михайловича господин в длинном пальто. — Я за ним следом шел!
На шум и крики из дома стали выходить жильцы. День был праздничный, все сидели дома, делать было нечего. А тут развлечение подвернулось — скандал какой-то! Выбежала чернобровая прачка Паня в цветастом платке, накинутом на голову. Вышел краснощекий рыжий Пуляй. С любопытством выглянула из окна Анна Ивановна. И, торопливо надевая на ходу пиджак, выскочил во двор Сергей Васильевич.
— Что случилось? Кто убежал? — начал он расспрашивать городовых. — Жулик, что ли?
Он так вертел своей напомаженной головой, он так рвался во что бы то ни стало услужить городовым!
— Бунтовщика ищем, — ответил черноусый городовой. — Государственный преступник скрывается у вас тут. Против царя и отечества. Смутьян. На фабрике листовки бросал.
— Главарь, пропагандист, — подхватил господин в длинном пальто. — Только что вбежал — и уж нет его! И представьте, эти не видели! — кивнул он на Ивана Михайловича и на Федора.
— Да ведь мы тут не стоим, не сторожим, — сказал Иван Михайлович. — Наше дело маленькое.
Он подхватил свои тяжелые, полные до краев бадейки и неторопливо зашагал в коровник.
— Ничего, ничего! — злорадно оживился Сергей Васильевич. — Мы его, голубчика, выловим! Неправда, от нас не уйдет! Не впервой нам их ловить! Ну-ка, загляните в ту парадную, а я в эту загляну. А ты, Федор, смотри у ворот стой!
— А что я с метлой-то сделаю? — неохотно возразил Федор. — Выскочит откуда — да ножом! А я что с метлой-то?
— Ищите, я постою у ворот! — сказал господин в длинном пальто. — Меня ножом не испугаешь!
Ребятишки сбились в кучку и, не дыша, смотрели, как городовые и Сергей Васильевич разбежались по двору, заглядывая во все двери и окна. Наконец, никого не найдя, Сергей Васильевич подошел к ребятишкам:
— Ну, вы-то видели небось, как сюда забастовщик вбежал? Смотрите, только не врать! За вранье бог накажет, а я в тюрьму посажу!
Соня побледнела и задрожала. Как ей хотелось сейчас оказаться дома, чтобы ничего этого не видеть и не слышать! Бог накажет? Ну и пусть ее бог накажет, только она все равно будет молчать.
Ребятишки тоже молчали.
— Ну что молчите? — закричал Сергей Васильевич. — Вы же здесь, во дворе, были! Соня, ну-ка?
— Мы играли… и ничего не видели, — жалобно, слабым голосом ответила Соня. И тут же, растолкав ребятишек, побежала домой.
И вдруг Сергей Васильевич догадался. То ли он проследил опасливые взгляды ребят, которые они украдкой бросали на колодец, то ли его осенило. Он крадучись, на цыпочках подбежал к колодцу и рванул на себя маленькую дощатую дверцу. Дверца не подалась.
— Он тут! — в неистовой радости закричал Сергей Васильевич. — Сюда! Окружай его!
Городовые и господин в черном пальто бросились к колодцу. У господина блеснуло в руке оружие.
Соня, вскрикнув, вбежала в свои сени и бросилась вверх по лестнице. Из верхних сеней она еще раз выглянула во двор. Городовые, обнажив сабли, уводили со двора молодого человека. Рубашка на нем была разорвана, на щеке и на подбородке виднелась кровь. Молодой человек шел, мрачно глядя вперед черными пылающими глазами, светло-русые волосы его шевелил ветер. Господин в длинном пальто шагал сзади. А Сергей Васильевич озирался на всех, веселый, будто пьяный от своего торжества.
— Ага! — кричал он. — Будете маевки справлять?! Будете народ против царя мутить?! Эх вы, злодеи, безбожники! — И все старался пнуть кулаком молодого человека.

Все скрылись за воротами. Калитка захлопнулась. Снова стало тихо во дворе. По-прежнему журчал тоненький солнечный ручеек, чирикали воробьи, ворковали голуби…
Только уже не веяло ни праздником, ни радостью. Ребятишки кто убежал домой, кто пошел вслед за городовыми смотреть, как поведут забастовщика.
Соня тихо вошла в квартиру.
— Били они его за воротами-то! — рассказывала Анна Ивановна маме, которая только что пришла из коровника. — Я из окна все глядела. Били до страсти! А особенно этот, наш обмылок-то… — Анна Ивановна кивнула в сторону комнаты Сергея Васильевича. — И все в зубы норовит, все по глазам!
Мама, вся бледная, нахмурив широкие темные брови, молча цедила молоко. Кузьмич сидел у своего окна, у него дрожали руки.
Совсем расстроенный, словно больной, пришел из коровника отец.
— Ну, что ты будешь с такими людьми делать? — сказал он, разводя руками. — Ну форменный же подлец!
Дунечка вышла из своей комнаты в кухню. Ее встретили молчанием. Она обвела всех своим смущенным взглядом — никто не поднял на нее глаз.
— Простите его! — вдруг тихо сказала она.
Никто ей не ответил. И только Кузьмич покосился на нее из-под густой нахмуренной брови.
— Пускай его бог сначала простит, — сказал он. И снова отвернулся к окну.
Праздника в квартире как не бывало, словно вошло в нее что-то страшное, тяжелое, непоправимое.
К вечеру сели играть в карты. Собрались все к хозяйскому столу — Кузьмич, Анна Ивановна, Раида.
Только Дунечка тихо сидела в своей комнате.
Соня пробралась к ней. Дунечка была очень грустна и ни одной сказки не могла рассказать Соне. Она все думала о чем-то и на разные Сонины вопросы отвечала совсем невпопад. Соня поняла, что ей надо уйти.
Не зная, чем заняться, Соня попросила Раиду:
— Давай я буду тебя причесывать.
Раида охотно распустила свои длинные волосы:
— На, причесывай.
Она продолжала играть в карты, а Соня, стоя на скамеечке сзади ее стула, расчесывала длинную каштановую Раидину косу, расплетала, заплетала, закручивала ее в узел и снова распускала…
Понемногу все развеселились; то, что случилось днем, отошло, отступило.
Вечером, когда совсем стемнело, явился Сергей Васильевич.
— А! В картишки? — весело закричал он еще с порога. — Ну-ка, сдайте и мне!
Белесое лицо его раскраснелось, от него пахло вином.
За столом все примолкли. Мама поджала губы, Кузьмич нахмурился, отец принялся сердито расправлять свои желтые усы.
— Да мы уж играть-то кончаем, — нашлась Анна Ивановна. — Последний кон. Спать пора.
— Ну что такое — спать с этих пор! — Сергей Васильевич взял стул и сел к столу. — Ну-ка, сдавайте!
Но тут Кузьмич встал, бросил карты на стол, смешал всю колоду и молча ушел в свою комнату.
— Это что ж такое? — обиделся Сергей Васильевич. — Это как понимать? Играть со мной не хотят, или как? В таком случае, поговорим! Полюбопытствуем, как это человек в колодце сидел, а люди за водой приходили да ничего не видели! А?
В дверях появилась Дунечка.
— Сережа, иди сюда! Не надо, Сережа! Сегодня же праздник, пасха! Я тебя ужинать жду.
Сергей Васильевич стоял среди комнаты, как петух, приготовившийся к драке. Но все молчали. Мама собрала карты. Раида заколола волосы и, пожелав всем спокойной ночи, ушла. Мама стала собирать ужинать.
— Значит, не хотите? — еще раз, презрительно скривив губы, спросил Сергей Васильевич. — Прекрасно! Хорошо! Но еще поклонитесь в ножки Сергею Васильеву! Пок-ло-ни-тесь!
И, погрозив пальцем отцу, он наконец ушел в свою комнату.
— Вот он где, Иуда-то! — негромко сказал отец. — Только этот не повесится. У того совести больше было.
Скандал
На другой день отец с мамой собрались в гости к дяде Егору.
— А я? — спросила Соня.
— Ну, что тебе там делать? — сказала мама. — За столом будешь сидеть, томиться? Побудь дома!
Соня вспомнила губастых Петьку и Федьку, вспомнила дерзкую черноглазую Нюшу — и осталась дома.
— Только вы поскорей приходите, ладно?
— Посидим полчасика и обратно, — обещала мама. — А ты ложись на мою кровать, закройся занавеской и спи.
И они ушли.
Соня залезла на мамину постель, на перину. Забрала себе все подушки — и отцову, и мамину, и свою, — устроила из них гнездо и улеглась. Она лежала и поглядывала на пеструю занавеску. Мама оставила на столе горящую лампу, чтобы Соня не боялась одна. Лампа освещала занавеску, и Соне казалось, что цветы на занавеске чуть-чуть колеблются, качаются… Потом среди цветов и веток появились маленькие зверьки, похожие на лисичек. Эти зверьки сначала сидели тихо, а потом принялись играть, перебегать с места на место; они прятались за цветами и поглядывали оттуда на Соню…
Это было очень интересно, но дремота уже одолевала, и Соне было досадно, что она мешает ей смотреть на веселых маленьких зверьков. В квартире было тихо, лишь в комнате у Дунечки, за прикрытой дверью, слышались приглушенные голоса.
Соня уже закрыла глаза, сон убаюкивал ее… Вдруг раздался какой-то стук, удар… Соня в испуге вскочила: что-то упало?
Но ничего не упало. Это стучал по столу кулаком Сергей Васильевич. Он стучал кулаком и кричал на Дунечку пьяным голосом, а она только повторяла:
— Сережа, потише! Сережа, Сережа…
Но Сережа кричал все громче. И вот уже какой-то грохот, звон разбитой посуды… Дунечка вскрикнула. Распахнулась дверь, и Дунечка, в белоснежной кофточке, испуганная, заплаканная, с растрепанными волосами, выскочила в хозяйскую комнату. Сергей Васильевич, весь красный от бешенства, попробовал удержать Дунечку, поймал ее за длинные русые волосы, дернул к себе. Но Дунечка вырвалась. Тогда он схватил со стола кипящий самовар и швырнул Дунечке вслед. Дунечка отскочила, убежала в кухню. Самовар с грохотом и звоном ударился о хозяйский стол, и кипяток разлился по чистому мамину полу и полосатым дорожкам…
Соня сидела в подушках, сжавшись в комок. Она замерла от страха: вот сейчас выскочит Сергей Васильевич и начнет громить их комнату и ее, Соню, тоже изобьет…
Квартира всполошилась. Слышно было за стеной, как вскочила со своей постели Ранда. Заговорили у себя в комнате Кузьмич и Анна Ивановна. Вскоре Кузьмич вошел к Соне, полуодетый, в пиджаке, накинутом на плечи. Сергей Васильевич захлопнул свою дверь.
— Что же вы делаете? — сказал Кузьмич, стоя перед закрытой дверью. — Весь народ всполошили. Нешто так можно? Образованный человек считаетесь, а вон что делаете! И жену выгнали… Это в светлый-то праздник!
Сергей Васильевич молчал. Он, видно, разошелся вовсю, а потом струсил. На полу шипел желтый маленький самовар с отлетевшим краном. Дорожки, напитавшись водой, потемнели.
— Если так-то будете, то мы и городового позовем! — пригрозил Кузьмич. — Не успели хозяева за дверь, а вы тут — вон что! А еще образованные, приказчики, при галстуках ходите! — Кузьмич поднял искалеченный самовар. — Эхма! Из чего теперь чай-то пить будете?
Сергей Васильевич молчал. Дунечка, утирая слезы, вошла из кухни. Она собрала дорожки, вытерла пол.
— Он больше не будет, — кротко сказала она Кузьмичу. — Выпил немножко…
Кузьмич ушел спать, еще раз пригрозив городовым. Дунечка легонько постучалась в свою комнату:
— Сережа, открой…
Сергей Васильевич молчал.
— Сережа, поздно уже… Скоро хозяева придут. Ну, открой же! Спать надо!
— Не ной под дверью! — отозвался Сергей Васильевич. — Не хочу на тебя глядеть! Не ной, хуже будет!
Дунечка беспомощно оглянулась. И тут она увидела Соню, которая сидела среди подушек и круглыми, вытаращенными от страха глазами смотрела на нее. Дунечка подошла к ней.
— Спи, Соня, спи, — сказала она. — Дай-ка я уложу тебя.
Она положила подушки как следует, укрыла Соню одеялом. Белоснежная кофточка Дунечки была разорвана. Светло-русые волосы все спутаны и кое-как заколоты гребенкой, синие глаза были полны слез. Она старалась не плакать, смахивала слезы, улыбалась даже.
— Ты не бойся дядю Сережу, — шептала она, присев к Соне на кровать. — Это он так только… от вина. А ведь он добрый…
— Никакой он не добрый! — ответила Соня, у которой тоже намокли глаза. — Только всех и ругает! Вон как тебя за волосы схватил!
— Ну, это он так, он ведь не больно! Он так — чуть-чуть! — опять зашептала Дунечка. — А завтра проснется — будет горевать, что меня обидел. Вот увидишь. Ах, как неприятно! Что теперь Дарья Никоновна скажет? Все половики намокли…
Дунечка вытерла слезы, поправила волосы и снова подошла к своей двери. Она устала, ей хотелось спать.
— Сережа, открой!
— Сказал — уходи! — ответил Сергей Васильевич. — Сказал — хуже будет! Слышала?
Дунечка отошла, повесив голову. Она постояла среди комнаты в раздумье, потом поглядела на Соню, улыбнулась виноватой улыбкой.
— Придется куда-нибудь идти… Может, в прачечной ночую. Вишь как заупрямился!
— Не уходи, Дунечка, не уходи! Я боюсь одна!
В комнату тихонько вошла Раида, босиком, в шали, накинутой на голые плечи.
— Идите ко мне, Дунечка, — шепотом сказала она. — Как-нибудь уместимся.
Дунечка согласилась.
— А ты, Соня, не бойся! — Дунечка погладила Соню по волосам своей белой ласковой рукой. — Я ведь вот тут, за стенкой, буду. Я буду пальцами по обоям шуршать, а ты не думай, что это какой-нибудь таракан — это я. А если испугаешься чего, стукни в стенку, я сейчас и прибегу. Ладно?
— Ладно.
— Ну, спи. Скоро папа с мамой придут. А Сергея Васильича ты не бойся, он добрый! Это он так…
Соня не слышала, как пришли отец и мама, как перенесли Соню на ее постель и как Анна Ивановна шепотом рассказала, что тут было без них.
Утром мама холодным голосом сказала Сергею Васильевичу:
— Я прошу вас освободить квартиру.
— Вот как? — возмутился Сергей Васильевич. — Это вы говорите мне?
— Да, это я вам говорю…
— А что ж ты так уж колючки-то подымаешь, голова? — вмешался отец. — Ты образованный, а мы что ж?.. Мы тут народ темный. Тебе вроде с нами и не пристало…
— Да и, конечно, не пристало, чтобы я стал со всяким мужиком разговаривать! Или тот еще, непромытый слесарь, придет, учить меня смеет!
— Ну вот и ступайте с богом, где получше и народ почище, — все так же твердо и холодно сказала мама. — Дунечку, конечно, жалко…
— Дунечку вам жалко! А меня вам не жалко, что я должен пропадать здесь, в ваших лачугах! Дунечка — прачка, и ничего больше! А я не для такой жизни рожден, у меня душа благородная, истерзанная судьбой. Но вам не меня — вам Дунечку жалко! О люди, нищие духом! На-се-ко-мы-е!
Он схватил шляпу и ушел.
Дунечка попросила робко: а может, Дарья Никоновна все-таки оставит их? Ведь их отовсюду прогоняют… Может, она их потерпит как-нибудь?
— Да брось ты это сокровище свое! — вмешалась Анна Ивановна. — Ведь ты с ним света не видишь!
Дунечка молчала пригорюнившись, а отец возразил:
— Эко ты, скорая какая — брось! Да как же она его бросит, если он ей муж? А он паспорта не даст. Куда она пойдет без паспорта?
— А он, конечно, ей паспорта не даст, — согласилась мама. — Он знает, что без Дунечки пропадет. Неделю работает — две гуляет. Уж сколько хозяев сменил, пока у нас жили! Кому нужен такой работник? Только и живет, что разными доносами.
Дунечка вздохнула, оделась и ушла искать квартиру. Дня через два она приехала на извозчике за вещами. Соня плакала, прощаясь с ней. Дунечка тоже плакала. Она обнимала всех и целовала маму.
— Будто от родных ухожу!.. Как мне тяжело, как мне тяжело! — повторяла Дунечка. — И сказать я вам не могу — ах, как мне тяжело!
А когда стала прощаться с Соней, то сказала ей:
— Хотела тебе моих куколок подарить и карету с лошадкой… Да вот как получилось-то нескладно — Сережа их в тот вечер уронил нечаянно, они и разбились. Вот ведь какой неловкий!
Отец помогал ей выносить вещи. Вещей было немного — железная кровать, постель, два стула, лампа, маленький сундучок, который свободно помещался под кроватью… И, когда комната опустела, Дунечка вошла в нее последний раз, оглядела пустые углы синими, полными слез глазами. Потом молча поклонилась всем и ушла. Соня с ревом бросилась за ней, но мама удержала ее:
— Не реви. Видишь, человеку и так трудно, подбородок дрожит. А ты еще ревешь тут!
А Сергей Васильевич так больше и не показался. И в квартире все облегченно вздохнули — наконец-то избавились от его присутствия!
Кузьминишна
Несколько дней комната стояла пустой.
— Может, себе возьмем? — сказал отец. — Надоело! Как на проходном дворе живем. Сонину кровать там поставим.
— Да, уж что говорить — надоело! — согласилась мама. — Вечно чужие люди в комнате толкутся. Полов не намоешься.
Соня обрадовалась. У них будет две комнаты! Завтра придет в школу и будто нечаянно скажет:
«А я сижу в своей комнате, делаю уроки…»
Или так:
«Все сели играть в лото, а я взяла книжку и ушла в свою комнату».
Девочки услышат это и будут Соню уважать. Все-таки не у каждого дома есть две комнаты!
Но отец с матерью все думали и все не решались. Как-никак, а три рубля в месяц за комнату идет. А тут вон и Соня подрастает, расходов-то все больше и больше.
— А может, хорошие люди попадутся, — начала прикидывать мама, — не все же такие хамы.
— Да ведь оно — да… — соглашался и отец. — Трешку тоже на дворе не найдешь.
Соня чуть не расплакалась:
— Ну вот! Опять уж им денег жалко!
— Эх ты, голова! — упрекнул ее отец. — А как же не жалеть денег-то? Разве они нам даром даются? Без хлеба сидеть не хочется — вот в чем задача-то. А разве — в деньгах?!
Но тут случилось одно событие, которое положило конец всем этим разговорам и колебаниям.
Был тихий послеобеденный час. Мама легла отдохнуть с книжкой в руках. Отец читал газету и дремал. Соня делала уроки, примостившись у Анны Ивановны на краю стола. Ей нравилось смотреть, как Анна Ивановна подбирает цветок к цветку, как составляет букеты из фарфоровых гроздей лиловой и белой сирени, как осторожно добавляет к ним зелени… Соня торопилась переписать слова, которые задала Елена Петровна. Перепишет — и тогда будет помогать Анне Ивановне подбирать листочки.
В это время в кухне хлопнула дверь. Мама думала, что кто-нибудь пришел за молоком.
— Иван, налей, пожалуйста, — попросила она. — Вставать не хочется.
Отец отложил газету, вышел в кухню. Там стояла молодая незнакомая женщина.
— Я — к Кузьминым, — сказала она. — Дома они?
— Дома, — ответил отец, — вот сюда… Анна Ивановна, к вам пришли!
Но Анна Ивановна уже сама вышла в кухню.
— Душатка! — сказала она с удивлением. — Как! Это ты? Каким ветром занесло? Входи, входи! Сюда входи!
Соня сразу забыла про свои уроки. Душатка пришла! Вот она — Душатка! Соня жадными глазами уставилась на эту женщину, да так и не могла отвести взгляда.
В комнату вошла королева — полная, статная, веселая. Ослепительно белое лицо, темные глаза словно бархатные, без блеска, но полные глубокого сияния. Маленький алый рот с чуть полной нижней губой и с крошечными черными усиками в уголках приветливо улыбался. Над белым лбом поднималась высокая прическа, черные блестящие локоны венчали ее голову словно корона. В ушах висели длинные огнистые серьги; огни сверкнули и на руке, когда она подняла ее, чтобы сбросить с головы шарф; на груди переливался черный бисер, которым было отделано черное шелковое платье…
Соня никак не могла не глядеть на эту женщину. Ой, какая красивая! Таких красивых и нарядных Соня никогда не видела.

Шумя юбкой из жесткого шелка, Евдокия Кузьминишна прошла по комнате и, оглянувшись кругом, присела на сундук.
— Здравствуй, девочка! — сказала она. — Тебя как зовут?
— Соня, — пропадая от смущения, прошептала Соня.
— Ты чья же — хозяйская?
— Да.
— Хорошая девчушка! — Она улыбнулась и, прищурясь, поглядела на Соню.
И тут Соня увидела, что она очень похожа на Кузьмича и что она такая же близорукая, как Кузьмич, и оттого, что была близорукая, Соне показалась еще более красивой.
Соня улыбнулась ей в ответ. Она была счастлива, что Евдокия Кузьминишна ее похвалила.
— Сейчас самовар поставлю, — сказала Анна Ивановна. — Ты ведь не спешишь? Или спешишь?
— Да нет, не спешу, — ответила Евдокия Кузьминишна. — Вроде уж и спешить некуда. Эх, орелики! — усмехнулась она. — Промчали, прокатили, да на повороте вывалили!
— Хм… — Анна Ивановна с тревожным подозрением посмотрела на нее и пошла ставить самовар.
Соня во все глаза смотрела на гостью.
— Уроки делаешь? — Евдокия Кузьминишна словно гладила Соню своими мягкими бархатными глазами.
— Да, — еле прошептала Соня.
Тут ее позвала мама:
— Соня, иди домой. Видишь, гости пришли — значит, надо уйти, а не мешаться тут.
Соня собрала свои тетрадки и ушла. А мама осталась на минутку. И Соне слышно было, как Евдокия Кузьминишна весело и охотно разговаривает с мамой, будто век были знакомы и два века дружили!
Уже смеркалось, а Евдокия Кузьминишна все не уходила. Все время слышался ее голос — она о чем-то рассказывала Анне Ивановне, жаловалась и как будто плакала. Соня успела выбежать во двор, повидаться с Лизкой и Олей.
— Вот пойдет обратно — увидите, какая! — хвасталась Соня. — А колец сколько! И все золотые!
Но Евдокия Кузьминишна все не выходила.
А во дворе уже хозяйничала весна. Снег лежал только на заднем дворе, около сараев. По канавке на улицу бежал грязный ручеек. Деревья стояли черные, мокрые, но вовсе не такие унылые, как осенью. Наоборот, они словно просыпались от зимнего сна. И Соне казалось, что они потому стоят так тихо, так неподвижно, что внутри у них уже идет работа, что они гонят соки к веткам и задумывают развернуть почки…
Светило солнышко, от мокрых заборов поднимался пар. Изо всех сил трещали воробьи. Под окном у Луки Прокофьевича ворковали голуби. Два из них спустились к лужице попить водички, а потом снова взлетели. Шум и легкий свист их крыльев напомнил Соне Евдокию Кузьминишну — точно так шумит с легким свистом ее шелковое платье.
Девочки послонялись по двору. Делать было нечего. Прыгать в классы — грязно. Бегать в салочки — тоже грязно, ноги скользят. Поиграть в камушки — негде, лавочка совсем мокрая…
Зато рисовать на земле очень хорошо. И опять Соня рисовала, а подруги смотрели. Только она уже не тянула своих барынь через весь двор. Она рисовала девочку в шляпе с лентами и с широким кушаком и рядом другую, повыше ростом… Потом вдруг стерла их, затоптала калошами и нарисовала девочку в платке, повязанном крест-накрест, и дала ей в руки большую куклу и коробку.
— А в коробке разные игрушки, — пояснила она.
— Чего же твоя Евдокия Кузьминишна не идет? — вспомнила Лизка.
— Ой! — спохватилась Соня. — Мы, наверное, прозевали! Она, наверное, ушла! Пойдемте посмотрим!
Все трое пошлепали по сырому двору к Соне.
Евдокия Кузьминишна была еще здесь. Но ни Лизке, ни Оле увидеть ее не удалось, потому что мама как взглянула на их разбухшие от сырости башмаки, так и выпроводила обратно.
В квартире все ждали Кузьмича.
— К нам жить просится, — мимоходом шепнула маме Анна Ивановна, — купец-то ее к жене уехал.
Соня услышала это:
— Мам, какой купец? А почему она к ним просится? А почему…
— А потому, что не твое дело! — оборвала ее мама. — И, пожалуйста, не лезь в разговоры, если взрослые разговаривают! Своими делами занимайся, уроками. А то экзамены скоро, останешься в первом классе!
Соня обиделась. Она лучше всех учится в классе, она да еще кухаркина дочка Матреша Сорокина, а мама говорит, что она на второй год останется!
— И, пожалуйста, не слушай, что взрослые говорят, не суйся со своим носом! — сурово добавила мама.
Соня уселась на скамеечку в уголок и занялась куклой. Все-таки очень некрасивая у нее была кукла — волосы на голове еле держались, чумазая, на носу и на щеках пятна.
Но что ж делать? Она не виновата, что такая старая и некрасивая. Все равно ее нужно одевать и усаживать за стол обедать. Вместо чашек у нее стояли рыбьи позвонки. Соня когда-то собрала эти позвонки за обедом. Они высохли и стали похожи на крошечные белые чашечки. Жалко только, что от них очень скверно пахло.
«Когда вырасту большая, — думала Соня, — то обязательно куплю себе куклу, самую лучшую! И буду шить ей шелковые платья. Какое захочу платье, такое и сошью!»
Она возилась со своей нескладной куклой, и, хоть не велела мама слушать, о чем говорят взрослые, Соня не могла не слушать.
Кузьмич как вошел в квартиру, как услышал голос Евдокии Кузьминишны, так и нахмурился. Молча умылся, молча снял сапоги. Евдокия Кузьминишна вышла ему навстречу с веселым говором, с восклицаниями, но он хмуро ответил ей: «Здравствуй», — и прошел мимо нее в комнату, будто вовсе и не к ним она пришла.
А сейчас Евдокия Кузьминишна плакала. И все повторяла сквозь плач:
— Ну что ж мне делать-то, Мить, ну куда ж мне идти? Жена, говорит, заболела, при смерти. Надо, говорит, ее капиталом распорядиться, а то родня заграбастает. А свой-то капитал весь в Рогожское отвез, матери Манефе на сохранение сдал. Ну, а мне — иди куда хошь! Вон машинку мне швейную купил. Работай, говорит. Зингеровскую, самую лучшую. Работай — вот тебе и всё!
— Как же, заставишь тебя работать! — проворчал Кузьмич. — Вон она стучит с утра до ночи, — Кузьмич, видно, кивнул в сторону Раиды, у которой неумолчно стрекотала машинка, — а в золоте не ходит!
— Я буду работать, Мить, ей-богу, буду работать!
Соня слушала и старалась понять: а какое дело Евдокии Кузьминишне до того купца, который к своей жене уехал? И почему она теперь должна работать, такая красивая и нарядная?
И вдруг вспомнились рассказы Анны Ивановны о том, как Душатка ее зеркало разбила, а Кузьмич ее, пьяную, отхлестал ремнем. Когда Евдокия Кузьминишна вошла в квартиру, вся шумящая и сверкающая, Соне даже на ум не пришли эти рассказы. А теперь они становились похожими на правду. Вот она просится к брату пожить немножко, потому что ей жить негде и не на что, и плачет, а он бранит ее… Как же это так? Ведь она богатая, у нее все руки в кольцах, а почему же ей жить негде и не на что?
Евдокия Кузьминишна осталась ночевать, притулилась у Анны Ивановны на сундучке.
А наутро решили так. Хозяева переберутся в Кузьмичеву комнату, проходную займет Кузьмич с Анной Ивановной, а в Дунечкину поместят Евдокию Кузьминишну.
Наутро переехала Евдокия Кузьминишна к ним. Она расчесала свои черные локоны, пригладила их, надела простую широкую кофту и села вместе с Анной Ивановной подбирать и клеить зеленые бумажные листочки.
Вскоре все в квартире привыкли к ней, стали называть ее просто Кузьминишна. Зингеровскую свою машинку она так и не открыла ни разу: «А ну ее к лешему!» Она не умела шить и учиться шить не хотела. Но, чтобы не есть даром хлеба, помогала Анне Ивановне клеить листики и делать букеты. Это у нее получалось хорошо.
Соне почему-то было жалко ее. Жалко, что черные блестящие спои волосы Кузьминишна уже не завивала волнами, а причесывалась гладко, на прямой пробор. Вместо платья с бисером на ней была темная фланелевая кофта. И только на белых руках ее по-прежнему сверкали кольца. Соня любила, ласкаясь, опереться на ее колени и разглядывать колечки: нежную бирюзу, темные вишнево-красные гранаты, искристые, полные острых огоньков маленькие бриллианты…
Однажды Соня не досчиталась одного колечка — самого ее любимого, с веточкой изумрудов.
— Ой! А где же зелененькое? — испуганно спросила она.
— Да тут где-нибудь, — уклончиво ответила Кузьминишна. — Найдется!
Соня полезла было искать под стол, но Анна Ивановна остановила ее:
— Колечко пошло по свету гулять! Не ищи понапрасну. Так-то у нас!
Соня посмотрела на Анну Ивановну, на Кузьминишну — и ничего не могла понять.
Кузьминишна иногда сидела задумчивая, работала молча. Но чаще смеялась, шутила или пела песни. У нее был хороший, сильный голос, и Соня очень любила слушать, как она поэт. Песни у нее были длинные, протяжные и полные событий. Они лились и лились одна за другой, и ясные картины вставали перед глазами Сони. Вот блестит река из чистого серебра, и на ярком золотом песке — маленькие следы «девы молодой», одинокие следы, уходящие куда-то по пустынному берегу…
А вот скачет на коне тот, который искал эти следочки; слышит — звонит колокол в церкви…
И на паперть я взошел —
Там народ толпою,
А любезную мою
Водят вкруг налою…
Тогда разогнал он ворона-коня, да и бросился с ним в реку.
Потом начиналась другая — «Чудный месяц плывет над рекою». Тихая ночь, тихая река, кусты на берегу и цветы, как на той картине, которую нарисовал горбатенький художник… И большой круглый месяц сияет в небе и отражается в темной воде. А по берегу идет девушка и плачет, потому что она бы хотела день и ночь любоваться красотой какого-то человека, а он все куда-то уходит…
И еще — про девушку, которая очень хороша, «да плохо одета», и поэтому ее никто не берет замуж. Вот она пришла в монастырь и стала просить бога, чтобы он ей послал счастливую долю…
Много еще разных песен пела Кузьминишна — и все про тоску, про расставанье, про погибшую любовь, про несчастную жизнь, а чаще всего про карие глазки, которые скрылись и удалились и которых ей больше не видать…
Анна Ивановна подтягивала ей тоненьким голоском. А потом начала подтягивать и Соня. Подбирает листочки в стопочку и тоже поет потихоньку:
Кари глазки, где вы скрылись,
Мне вас больше не видать!
Куда вы скрылись-удалились,
Навек заставили страдать…
Весна
Просыпаясь рано утром, Соня тихо лежала в постели и слушала, как где-то далеко гудели поезда. В тишине ясного утра эти голоса уходящих паровозов казались мелодичными и немножко грустными. Уходит поезд, прощается с Москвой. А куда он уходит? В какие дальние неизвестные края?
«За морями земли великие»…
Соня задумывалась о том, что эти края очень дальние. Вот и Москва такая огромная, что стоит отойти от Божедомки, так сразу и потеряешься. А ведь за Москвой-то всякие деревни и города, моря, горы… Ой, какая большая земля! Такая большая, что даже страшно.
И все-таки эти утренние паровозные гудки томили сердце, волновали, звали куда-то… Вот взять бы и тоже поехать, посмотреть, что там, где кончается Москва? Какие там дома? Как растет лес? Живой лес, живые цветы… Только, конечно, с папой и с мамой поехать.
Деревья во дворе покрылись нежной яркой зеленью, нежным зеленым кружевом зацвел клен. Он каждое утро роняет на землю душистые букетики своих цветов, и ребята во дворе подбирают их… Но ведь это все-таки не лес!
В субботу Елена Петровна сказала:
— Девочки, завтра воскресенье, но вы приходите в школу. Мы поедем за город, в Петровско-Разумовское.
В классе поднялся радостный шум.
— За город!.. Всем классом?
— Всей школой, — ответила Елена Петровна. — Поедем на весь день. Захватите с собой завтрак.
— А на чем поедем?
— На паровичке.
Соня прибежала домой с глазами, вытаращенными от радости. В эту ночь она то и дело просыпалась — боялась проспать. Сердце замирало от одной только мысли, что они поедут на паровичке. Конечно, это все равно такой же паровоз, только он маленький, далеко не ходит, и вагоны у него маленькие — так объяснила ей мама. Но все-таки он паровоз!
Как весело, как интересно было сидеть в этом вагончике на другой день! На улице было солнечно, жарко.
Девочки в пестром ситчике, в сарпинке, радостные и веселые, выглядели словно цветы на лужайке. Соня надела свое лучшее платье, с розовым пояском. Жалко, что оно длинновато, а то совсем было бы нарядно. Только приютские остались в своих коричневых платьях и черных коленкоровых фартуках.
Соня молчала. Разнообразные впечатления не давали ей опомниться. Тонкий, задорный голос паровичка, стук колес, зеленая трава за окном вагона, деревья по-праздничному яркие, зеленые, веселые… Как приятно сидеть в вагончике и мчаться куда-то, в неведомые края!
Молчала и Саша. Тонкое всегда хмурое лицо ее нынче слегка порозовело, потеплели коричневые глаза. Она долго смотрела в окно. И вдруг спросила:
— Ты бы хотела, чтобы твоя мать была барыня?
Соня удивилась. Ей сразу представилась ее мама в шляпе с перьями и с ротондой на плечах — какая-то чужая, незнакомая… Нет! Она вовсе этого не хочет!
— Я тоже не хочу, — сказала Саша. — Если бы у меня
была мать — пусть бы она была крестьянкой. Чтобы всегда в деревне жила. Я бы там босиком по траве бегала. Ягоды собирала бы… Никогда я не видела, как ягоды растут. А ты?
— И я не видела, — ответила Соня.
— Ну пусть бы не мать, — негромко продолжала Саша, — пусть бы тетка какая… Или дядя у меня был бы… И жили бы они в деревне…
— А у меня есть тетки и дяди, — сказала Соня, — они в деревне живут. Тетя Ноля, дядя Михайла, тетя Устинья…
— И ты к ним не едешь?
— Да… А как же — без мамы?
— Конечно. Если мама есть…
Саша вздохнула и умолкла. Но тут же повеселела снова:
— Смотри, смотри, какие вон там красные цветочки растут!
— Ой, а вон там! — подхватила Соня. — Вон там, в кустах, высокие, желтые!..
Да, конечно, паровичок тащил их прямо в страну невиданных и радостных чудес.
Паровичок остановился, совсем запыхавшись. Елена Петровна встала и велела вылезать. Соня и Саша держались друг за друга и старались не отставать от Елены Петровны.
Растянувшись вереницей, девочки шли по сухой белой дорожке следом за Еленой Петровной. По сторонам росла густая, полная желтых цветов трава. По траве можно было бегать и цветы можно было рвать!
— А вот и беленькие! — закричала Саша.
Соня в первый раз услышала, как Саша кричит. Совсем она не похожа на себя сегодня — оживленная, розовая, глаза блестят. Соня подбежала к ней. В траве белели маленькие, похожие на звездочки цветы.
— Это офицерики, — сказала Матреша.
— А может, матросики? — возразила Саша. — Матросики тоже в белых шапках ходят.
Высокие деревья поднимались к небу. Поляны уходили куда-то в бесконечную даль, золотясь весенними желтыми цветами. Скоро началась какая-то улица, совсем не похожая на московскую. Маленькие домики, огороженные палисадниками, стояли по сторонам, хорошенькие деревянные домики с цветами на окнах.
Неожиданно среди девочек начался какой-то переполох.
Анюта Данкова, не помня себя, бежала и кричала что она видела змею.
— Под кустом змея! Змея! Змея!
Девочки с визгом бросились к Елене Петровне. Бросилась было и Соня, но тут же и остановилась. Жадное любопытство охватило ее. Ей захотелось увидеть змею, она вглядывалась в густую траву. Очень страшно, если появится змея, но зато как интересно!
Однако змеи нигде не оказалось, и Елена Петровна строго сказала Анюте, что тут змеи не водятся и пусть она не выдумывает.
Анюта надулась. Соня слышала, как она сказала Лиде:
— Вот скажу маме — ее и уволят! Пусть не возит, где змеи…
Соня побежала к Саше. У Саши на каштановые волосы был надет белый венок. Увидев Сонино лицо, она испугалась:
— Ты что? Правда змею увидела?
— Нет… — Соня чуть не плакала. — Анюта хочет Елену Петровну уволить!
Саша выслушала Соню, сдвинув тонкие брови. Глаза ее стали мрачными и недобрыми.
— Ладно, — с угрозой сказала она, — я ей за Елену Петровну…
— А что ты?
— Увидишь. Уж я ей что-нибудь… подсудоблю. Я бы их всех в тюрьму посадила бы! И приютскую нашу начальницу тоже. И батюшку нашего. И попечителей. Всех бы, всех! Пусть бы там сидели и никого бы не мучили!
Соня с опаской посмотрела на Сашу. Что это она? Разве можно так говорить о старших, да еще о таких важных людях?
Но все это недоброе и обидное тут же забылось, рассеялось. Уж очень хорошо было кругом, уж очень необыкновенно! Улица кончилась, и снова вышли на зеленый простор. Что-то заблестело на солнце среди зелени… Озеро! Огромное голубое озеро, полное дрожащих солнечных огней.
Соне показалось, что это огромное озеро, но это был просто небольшой и неглубокий пруд, обрамленный молодой светлой осокой.
Девочки стояли на берегу и смотрели на мелкие сверкающие волны. Многим хотелось залезть в воду, но Елена Петровна не разрешила:
— Рано еще. Вода не согрелась.
Вдруг раздался пронзительный крик, всплеск воды. Анюта Данкова сорвалась с прибрежного камня, на котором стояла, и полетела в воду. Пока Елена Петровна подбежала к ней, Анюта уже успела окунуться чуть не до плеч в своем розовом с атласной лентой платье. Елена Петровна схватила ее за руку и выдернула на берег. Анюта плакала и кричала изо всех сил: видно, ей казалось, что она уже идет ко дну.
Елена Петровна принялась поспешно раздевать Анюту. Она стащила с нее мокрое платье, рубашонку, лифчик с резинками… Елена Петровна велела девочкам стать в круг, чтобы защитить Анюту от ветра. Они окружили Анюту и смотрели на нее. А сама Анюта стояла среди них, жалко съежившись, посиневшая, дрожащая… Соне вспомнился цыпленок у прачек во дворе. Он однажды так же нечаянно попал в ведро с водой и выскочил оттуда жалкий, взъерошенный, дрожащий. Анюта сейчас была очень похожа на того цыпленка. И у Сони появилось еще одно неожиданное открытие. Когда Анюта в своем нарядном платье, она кажется совсем другим человеком: и капризничает, и важничает, и редко-редко кто достоин с ней дружить. А вот сейчас, без всех своих оборок и лент, сгорбившаяся, с красными веками, с посиневшими губами, она такая же, как все девчонки и ничуть не лучше… И вдруг Соне подумалось: а что, если вот так же снять со всех господ их шелковые платья и шляпы с перьями да смешать всех людей в одну толпу, — то и не разобрать бы, кто богатый, а кто бедный… Вот бы интересно-то было!
Елена Петровна между тем сняла с шеи свой белый шарф и насухо вытерла Анюту. Потом закутала в свою серую мягкую накидку и посадила на солнышко. А ее розовое платье подняла высоко и стала сушить на ветру.
— Какая же ты неосторожная! — сказала Елена Петровна. — Видишь, что наделала…
— А я сама разве?.. — со слезами ответила Анюта. — Меня девчонки столкнули.
— Мы не толкали! И не дотрагивались даже!.. — закричали девочки. — Пусть не врет!
— Нет, столкнули! Нет, столкнули! — сказала Анюта. — Прямо в спину толкнули!
— Девочки, кто столкнул Анюту? — спросила Елена Петровна. — Почему вы это сделали? Вы должны мне это сказать, если знаете!
— А мы не толкали! Никто и не толкал ее! — снова закричали девочки.
— Это, наверное, Саша, — сказала Лида Брызгалова, — она стояла сзади…
— Очень надо мне толкать! — сердито ответила Саша.
— Ну, ничего, — сказала Елена Петровна, — платье уже почти высохло. Рубашка — тоже. Ничего страшного не случилось — просто маленькое комическое происшествие. Правда, Анюта?
Елена Петровна с легким смехом обратилась к ней. Но Анюта сидела надув губы и ничего не отвечала.
Страшного и в самом деле ничего не случилось. И теперь, когда прошел первый испуг, девочки начали хохотать. Во как шлепнулась! Прямо в платье искупалась, а то раздеваться холодно!
Платье высохло, Анюта оделась, и экскурсия отправилась дальше. Пришли в какой-то сад, там стояли деревянные столы и скамейки, врытые в землю. Девочки расселись за эти столы. Ветки цветущей черемухи свешивались над их головами, маленькие белые лепестки слетали с них, падали на головы, запутывались в волосах…
Толстая приветливая женщина подала им кипящий самовар и огромный разрисованный чайник. Чашек на всех не хватило, чай пили по очереди. Первой налили чаю Анюте — ей надо получше прогреться.
Соня и Саша развернули свой завтрак. У Сони был калач с маслом и яйцо. А у Саши — два ломтя сеяного хлеба и два кружочка колбасы. Но каждой почему-то хотелось именно того, что принесла подруга. Поэтому Соня съела колбасу, а Саша с удовольствием принялась за калач. Соня глядела вверх, на цветущие ветки, на небо с облачками — как все это было красиво, как необыкновенно!
— Здорово я ее? — вдруг прошептала Саша со смехом.
Соня уставилась на нее круглыми глазами:
— Это — ты?..
— А ты думала?..
У Сони перехватило дух:
— А как же теперь?..
— Что — как же? Искупалась — и ладно.
— Да ведь тебе попадет же!
Саша тряхнула тугими каштановыми косами:
— А кто узнает-то? Ты, что ли, скажешь?
Соня загрустила. Елена Петровна ведь спрашивала… «Вы должны мне сказать, если знаете», — вот что она сказала. Соня теперь знает — значит, она должна сказать! Должна сказать!
Елена Петровна велела взять чашку с чаем кто еще не пил. Соня взяла чашку, чай был очень горячий… Соня прихлебывала понемножку и все думала: как же ей теперь быть?
— Ты что? — нахмурясь, спросила Саша. — Не водишься, да?
— Вожусь… — тихо ответила Соня. — Только вот… если узнают про это, тебе там… ну, у вас в приюте… достанется?
— У! Еще как!
Соня совсем приуныла. Что же ей теперь делать? Ведь если не скажет — значит, обманет Елену Петровну. А если скажет, Сашу накажут. Очень сильно накажут. И все из-за кого? Из-за противной Анюты Данковой.
Сопя сидела, думала. И вдруг слезы закапали в ее чашку с чаем.
— Соня обожглась! — закричали девочки. — Она плачет!
Елена Петровна подошла к Соне, села рядом:
— Что с тобой? Ты чаем обожглась?
— Нет… — не поднимая головы, ответила Соня.
От белоснежной кофточки Елены Петровны пахло душистой свежестью, прядка ее волнистых волос касалась Сониного уха, теплая белая рука лежала на худеньких Сониных плечах… И, как всегда, от всей этой ласки Соня заплакала еще сильнее. Елена Петровна долго допытывалась, о чем Соня плачет. Соня ничего не могла сказать. А оттого, что не могла сказать, слезы лились еще обильнее.
Наконец Елена Петровна погладила Соню по голове и сказала:
— Оставим ее на минутку в покое, девочки. Соня успокоится и тогда скажет.
— Подумаешь, капризная какая! — сказала Лида. — Все спрашивают, а она не говорит… Елена Петровна, я пойду цветы собирать!
— Сейчас все пойдем, — ответила Елена Петровна. — На вот, Соня, мой платок, утрись.
Соня утерлась душистым и свежим платком Елены Петровны. И снова все побежали на цветущую луговину, в россыпи одуванчиков. Очень хотелось найти хоть одну ягодку. Елена Петровна сказала, что еще рано, что ягоды только еще цветут, и показала на склоне солнечного бугорка несколько маленьких белых цветочков с желтой середочкой. Но Лида Брызгалова не поверила учительнице и упрямо ходила по бугорку, отыскивая ягоды.
— Ты почему ревела? — спросила у Сони Саша.
Соня отвернулась и промолчала. Неожиданно к ней подбежала уже обсохшая и отогревшаяся Анюта Данкова. Платье на ней стало сморщенное, лента на поясе полиняла и волосы обвисли. Она уже совсем не была похожа на куколку — самая обыкновенная толстощекая девчонка.
— Соня, ты из-за меня плакала? Да? — спросила она. — Потому что меня толкнули?
Соня посмотрела на нее сдвинув брови — и тоже ничего не ответила.
— Ты стала воображалкой, — обиженно сказала Саша. — Ну и не говори, пожалуйста! Уж если тебя Елена Петровна любит…
У Сони опять глаза налились слезами. Она из-за Саши плакала, а Саша ее же и ругает!
— Девочки, кто меня догонит! — крикнула в это время Елена Петровна и побежала по желтым одуванчикам, по зеленой траве.
Девочки гурьбой бросились за ней. И Соня побежала. Слезы ее тут же высохли на теплом ветерке.
И опять всем стало хорошо и весело. А потом снова сидели в маленьких вагонах, поглядывали в окна, а впереди весело покрикивал паровичок и пускал клубы белого пара.
Девочки устали, загорели за день. В вагоне стоял запах цветов.
Запах цветов, луга, леса принесла Соня домой. Мама поставила цветы в кринку с водой и внимательно посмотрела на Соню:
— Что это? Никак, плакала?
Соня тотчас опустила голову.
— Это о чем же? Натворила что-нибудь?
Соня рассказала.
— Ну, и что же тут? — удивилась мама. — Промолчала — и ладно. Анюта высохла, ничего с ней не случилось. Неужели из-за этого Сашу под беду подводить? В приюте — не у матери родной. Мать накажет, да и пожалеет. А там чужие люди. Наказать накажут, а пожалеть — забудут.
— А может, Елена Петровна не пожаловалась бы, — сказала Соня, — она добрая…
— А ты думаешь, Елене Петровне приятно было бы выслушать, что на нее Анюта Данкова жаловаться собралась? Ведь экие бывают злыдни-девчонки! Из-за своего каприза могут хорошему человеку всю жизнь испортить. Ладно, ступай умойся. Сейчас буду ужинать собирать.
Соня успокоилась. Раз мама сказала, что это все ничего, — значит, пусть так и будет. И едва она легла спать в этот вечер, как ее окружили желтые одуванчики, зеленые травы, белые цветы-звездочки. И словно плыла она среди всех этих цветов, а они качали ее…
А вскоре после этого в классе стало известно, что у Елены Петровны были неприятности и что будто бы ей сказали, что если она будет так невнимательна к своим ученицам, то ее могут уволить с работы… В классе шептались об этом со страхом. Боялись кого-то — попечителей, каких-то неведомых начальников, которые могут уволить Елену Петровну… Многие девочки потихоньку жалели: а вдруг и правда Елена Петровна уйдет? А сами так и крутились около Анюты Данковой. Вот какой большой человек Анюта Данкова — из-за нее даже учительницу чуть не прогнали!
Соня и Саша молча льнули к своей дорогой Елене Петровне. Саша хмурила тонкие бровки и все придумывала, что бы такое сделать противной Анютке. То ей хотелось опрокинуть чернильницу Анюте на платье, то она решала сбегать на Самотечный бульвар, поймать там в пруду пиявку и сунуть Анютке в карман.
— А тогда Елену Петровну и прогонят, — возражала на все ее задумки Соня. — Ты уж один раз сделала!
Лупинус
Вот и кончились школьные занятия.
Соня очень волновалась, пока не услышала свою фамилию в числе тех, кто перешел. Сразу стало и спокойно и весело.
Но, когда Елена Петровна начала прощаться с ними, отпуская на каникулы, все чувства опять смешались. И радость наступающего лета, и грусть расставания с Еленой Петровной и Сашей, и облегчение, что не придется каждый день садиться за парту с Лидой Брызгаловой, и предвидение веселых игр во дворе и заманчивых походов на свалку; и снова печаль, что очень долго не увидит Елену Петровну, и сладкое счастье рисовать сколько захочется и без конца читать всякие сказки, потому что уроков делать не нужно…
— Постарайтесь каникулы провести разумно, — говорила девочкам Елена Петровна. — Гуляйте побольше, читайте. Если кто-нибудь поедет на дачу или в деревню, собирайте растения, засушивайте их — осенью сделаем гербарий. Смотрите не разучитесь писать, пишите каждый день понемножку…
— А что писать? — спросила Саша.
— Записывайте то, что увидите или услышите интересное. Можете списывать в тетрадочку стихотворения или записывать по памяти. Старайтесь, чтобы буковки стояли прямо и строчки были ровные. Это нужно особенно тебе, Лида Брызгалова, и тебе, Поля Голубина… А ты, Маруся, не поленись, порешай примеры — тут у тебя слабовато…
— А мне? — робко спросила Соня.
— А тебе побольше гулять, набираться здоровья. Чтобы пришла осенью в класс толстая, румяная — вон как Анюта Данкова!
Елена Петровна улыбнулась, девочки засмеялись, а откормленная Анюта Данкова, которая не любила, когда напоминали о том, что она толстая, сердито покраснела.
Соня слушала Елену Петровну и украдкой прощалась с классом. Она уже привыкла к этим светлым стенам, на которых висели их ученические работы — елка, оставшаяся от Нового года, белые сквозные снежинки, вырезанные их руками и наклеенные на синий лист, красно-желтые узоры из осенних листьев… Прощалась и с глиняной мышкой, которая, притаившись на полочке, держала в лапках колосок; ее слепила Елена Петровна. А дальше на полочке — глиняные, раскрашенные краской грибы, домик с зеленой крышей, глиняный мужичок; это уже делали они сами…
И вот уже нет школы. Простились, ушли — до будущей осени!
Сразу стало много свободного времени — ни школы, ни уроков, — даже как будто и делать нечего и неизвестно, куда девать такой длинный и пустой день.
Правда, у Сони было одно постоянное увлечение — рисовать. Снова начались истории с продолжением, картинки в клетках. Снова, облокотившись на стол в сенях, Лизка и Оля внимательно следили за этими рисованными историями. Вот стоит домик, а в этом домике живут три девочки. В домике темно — окна затушевываются черным, хотя три девочки остаются видны. А темно потому, что эти девочки очень любят сидеть в темноте и рассказывать сказки. Вдруг около домика опустился воздушный шар. Из него вышел принц и спросил у девочек, не хотят ли они полетать. Девочки обрадовались. И вот они все полетели — кто куда хочет. Одной девочке хотелось увидеть море, другой — пустыню, а третьей — царский дворец…
И дальше шел бесконечный ряд разных приключений.
А когда Соня уставала рисовать, бежали во двор. Но только к вечеру можно было поиграть, как раньше. А днем не с кем. Сенька сидел и работал рядом с отцом. Коську тоже стали заставлять пороть старье. Олю мать начала приучать к шитью, учила метать петли. Лук-Зеленый не смел отлучиться из мастерской. Он стал еще бледней, еще чумазей и кашлял, несмотря на теплые дни. Но, хотя по-прежнему не падал духом, и подмигивал, и улыбался, однако в улыбке его появилось что-то больное и печальное. Он походил на молодое растение, которое потихоньку вянет и блекнет без воды и солнца…
Перед тем как отпустить девочек на лето, Елена Петровна собрала их всех к своему столу. На столе у нее лежали пакетики с цветочными семенами. Елена Петровна раскрыла пакетики и каждой девочке дала по семечку — кому резеду, кому астру, кому настурцию… Соне она дала круглое блестящее гладкое зернышко.
— Это лупинус, — сказала она. — Он будет цвести синими цветами. — И написала название на бумажке, в которую завернула семечко.
Елена Петровна раздала семена и велела дома посадить их в горшочки. Соня бережно принесла домой свой лупинус; мама отыскала ей маленький цветочный горшочек и сказала, чтобы Соня нарыла землицы на заднем дворе — там земля хорошая.
И вот теперь стоит у нее на окне горшочек, в котором лежит семечко лупинуса — невиданного цветка синего цвета. Однажды утром Соня увидела, что из земли поднялся маленький зеленый росток. Соня схватила горшочек и побежала показать маме, папе и всем, кто был дома: ее цветок уже растет!
Мама мимоходом взглянула на ее цветок — еще совсем маленький, смотреть нечего. Отец спал в кухне на сундуке — прилег после обеда; Соня не стала его будить. Она вошла к Анне Ивановне:
— Гляди-ка — цветочек! Это лупинус.
— Лупинус? — Анна Ивановна пригляделась к росточку. — Ишь ты! Я эти цветы видела, мы как-то делили по заказу — до страсти красивые.
Анна Ивановна торопливо клеила свои листики. Она разговаривала с Соней, а сама как будто думала о чем-то своем или прислушивалась к негромкому разговору за дверью. Соня услышала голос Кузьминишны в маленькой комнате, открыла дверь:
— Кузьминишна, посмотри-ка…
И осеклась. Кузьминишна сидела пригорюнясь у стола, накрытого клеенкой. А напротив развалился на стуле какой-то чернобородый человек, плотный, плечистый, подстриженный в кружок. Нос у него был большой, с рытвинками, глаза черные. Он будто огнем сверкнул на Соню, когда взглянул на нее. Соня молча попятилась и прикрыла дверь.

— Ой… кто это? — прошептала она с испугом.
— Соня! — тотчас позвала ее мама. — Ты чего там без спросу ходишь? Иди сюда.
Соня медленно вышла в сени, поставила горшочек на окно, подышала на маленький зеленый язычок. А сама все думала: «Кто это такой страшный, чернобородый сидит у Кузьминишны?»
Вернувшись в комнату, она со скуки взялась за куклу. Соня возилась с куклой, а за стеной гудел хрипловатый голос. Сквозь легкий стрекот Раидиной машинки, которая никогда не умолкала в квартире, Соня разобрала отрывистые слова:
— Пойду еще раз… Неужто совести совсем нет? Ведь по миру пустила, подлая! Ах, ррас-поддлая!..
Соня испугалась. Неужели это он Кузьминишну так ругает? Вдруг да и колотить ее сейчас начнет, как Сергей Васильевич Дунечку?!
Она бросила куклу и выбежала в кухню к маме. Мама стояла у стола и мыла молочные бидоны. Но не успела она и слова сказать из комнаты Анны Ивановны вышел этот чернобородый человек. Теперь Соня разглядела, что он в простой белой, в полоску, рубашке, в такой же, какие носит отец. А сверху на нем синяя суконная поддевка со сборками. Кузьминишна и Анна Ивановна вышли его проводить.
— Прощевайте, будьте здоровы! — сказал чернобородый.
— Счастливо! Дай бог удачи! — ответили все трое — и Кузьминишна, и Анна Ивановна, и мама.
Он поклонился им, надел большой картуз с лаковым козырьком и ушел. Все молча слушали, как он грузно сходил с лестницы. И заговорили только тогда, когда шаги его затихли.
— О-ёй-ёй! Ой, орелики!.. — простонала Кузьминишна. — Ой, дела-то какие! Ой, братцы мои!
И, схватившись за голову, пошла из кухни. Соне запомнилось, как сверкнули перстни, когда она горестно вскинула свои белые руки.
Все три женщины сидели в маленькой комнате Кузьминишны. Соня, притулившись за маминым стулом, слушала их разговор.
— Всего капиталу лишился! — рассказывала Кузьминишна. — И не отдаст она ему, ни за что не отдаст!
— Кто же это — жена, что ли? — спросила мама.
— Ой, Дарья Никоновна, касатка, кабы жена! Он к жене-то поехал, она вроде помирать собралась. И я-то, грешница, думаю: развяжет она нам руки, женимся мы с ним! А она выздоровела! Видно, от радости, что мужа увидала, тут и болезнь рукой сняло.
— А может, и не болела… — вставила Анна Ивановна.
— Скорей всего, и не болела, — согласилась Кузьминишна. — А он вернулся — ну и к матушке, к Манефе. За деньгами, мол, матушка. Капитал-то ведь он весь свой у нее оставил.
— А зачем же это? — удивилась мама. — В банк бы надо…
— Да ведь и я говорила, — прервала Анна Ивановна: — «Зря ты, Прохор Васильич, так доверяешься». Ну, куда же там? Своя старица, преподобная, разве можно не доверяться? На меня и Митя накричал: «Как же ты, говорит, матушке Манефе да не веришь? Ведь она божий человек, святой жизни!..» Вот тебе и святая!
— Да, побоялся Прохор Васильич банка-то, — продолжала Кузьминишна, — лопнет еще. А тут своя, преподобная, рогожская настоятельница. Ну и оставил у нее: «Сохрани, матушка Манефа!» — «Давай, сохраню». А пришел получать — она и говорит: «За какими такими деньгами, батюшка, ты ко мне пришел?» Купец-то мой почувствовал неладное — побелел весь, сердце оборвалось. «Как же за какими, матушка? Да ведь я же тебе свой капитал на сохранение оставил!» Да в ноги ей, ревет, слезами плачет. А она — свое: «Ничего не знаю, никаких денег твоих не видала. А если я у тебя деньги брала, расписку подай». Вот так-то…
— А у него и расписки нет? — спросила мама.
— Да нету! Не взял он никакой расписки! Ведь вроде как святой какой он ей верил. Совестно ему было даже и расписку-то спрашивать. Ведь в монастыре настоятельница, день и ночь перед богом стоит! А вот — на-ко! «Не брала, говорит, твоих денег, да и все». И оставила его голеньким. Ох, что ж будет-то теперь! — Кузьминишна заплакала. — Ждала его… Как ждала-то.
— Ну что ж, Кузьминишна, — сказала мама, — деньги пропали. Да ведь жизнь-то не пропала еще! Деньги — дело наживное…
— Деньги — дело наживное, о них нечего тужить, — подхватила Кузьминишна, — а любовь — дело другое, ею нужно дорожить — так в песне поется. Да ведь, Никоновна, если у него капиталу не будет, то и я ему не нужна. Ведь я работать ничего не умею…
— Этому научиться нетрудно, — возразила мама. — Полы, например, мыть в школе не учатся.
Кузьминишна махнула рукой:
— Ах, Никоновна! Да ведь ему поломойка-то не нужна. А я бы пошла и полы мыть. Люблю я его до смерти! До смерти!
— Такого страшного?.. — вдруг раздался негромкий изумленный Сонин голос.
— А ты что здесь делаешь? — закричала мама. — Иди отсюда. Вечно она около взрослых торчит! Иди!
Соня, насупившись, вышла. В голове было полно чепухи. Святая матушка, монахиня, у купца деньги утаила. Как же это она могла? Ведь она-то знает, что бог все видит и накажет ее? Она же монахиня, она к богу ближе — как же она его не боится?
Отец сидел и читал газету.
— Что, протурили тебя? — сказал он Соне.
Соня тут же пристала к нему с расспросами относительно денег и святой матушки Манефы.
— Так ведь это они, попы да монахи, только нам говорят, что бог все видит. А сами-то, видно, знают, что ничего этого нету.
— Чего — нету?
— Ну вот что бог за нами смотрит. Что ж ему, только и заботы за каждым смотреть? Он небось давно на нас рукой махнул. Грешите, леший с вами.
— А наш батюшка тоже грешит?
— А что ж батюшка? Такой же, как все.
— Нет, не такой. Он священник.
— Священник, а вон человека на каторгу загнал.
— Какого человека?
— Подтягина сына, студента. Вишь, книги какие-то запрещенные читал. Против царя. А отец Подтягин на исповеди ему и рассказал. Дескать, батюшке, как богу, надо все рассказывать. Вот и загнали парня. Да это дело не новое. Вон и в книгах про это есть, недавно читали мы с матерью. «Овод» называется. И там та же история. Парень к попу на исповедь пришел, про себя и про товарищей рассказал. А поп в тюрьму и загнал товарищей-то.
Соня, ошеломленная, глядела на отца. С грохотом рушилось все, чему она непререкаемо верила. Значит, и батюшки обманывают! Она замолчала, задумалась.
— Ты что тут глаголешь опять? — с упреком сказала мама, входя в комнату. — Погоди, загремишь ты со своим языком, вроде этого парня! И чем ты ей голову набиваешь, а?
— А что ж такого я сказал-то? — ответил отец. — Мы так просто. Сидим, разговариваем. Про «Овода» вот тут… И разве я неправду какую сказал?
— А кто тебя просит эту правду говорить?
— Ну, эко ты, голова! Что ж теперь — сидеть да молчать, что ли!
Больше всех потрясен был рассказом про матушку Манефу Кузьмич. Он был так набожен, он так почитал церковь и всех ее служителей, он так беззаветно веровал, что этот поступок матушки Манефы словно оглушил его. Он даже заболел, утром еле встал и, совсем расстроенный, пошел на работу. И бог ее не наказал! И люди не обличили!
Вечером — в первый раз! — лег спать не помолившись. И Анну Ивановну не спросил, молилась ли она. Лежал, закинув руки за голову, и молчал.
Анна Ивановна с удивлением поглядела на него:
— Мить, ты что же? Захворал, что ли?
— Нет.
— А что же не спишь?
— Погоди ты!
Он поморщился — Анна Ивановна мешала ему думать. А думал он все о том же — мучительно, напряженно, с глубокой обидой обманутого в своих лучших чувствах человека.
И как же это ее бог не наказал? И как же люди ее святой считают? И как же он сам до сих пор ее святой считал? Да он бы, кажется, убил того человека, который бы сказал плохо о матушке Манефе! А она… Нет, но почему же бог-то допустил это?..
Играть ребята собирались лишь в сумерки. А целый день, длинный и жаркий, томил бесконечной скукой. Послоняешься по двору, постоишь у ворот… А дальше что? Не зная, куда деться от этой душной застойной скуки, Соня придумала себе игру. Она нарисовала человечков и вырезала их. Получились маленькие бумажные куколки. В толстой книге, которую Соня уже давно исчертила карандашом, был отдел мод. Соня срисовывала оттуда женские фигурки в модных платьях, раскрашивала их цветными карандашами, давала им разные имена; чаще всего эти имена она брала из сказок. Тут была и Аленушка, и Адальмина, и Белоснежка… Для них строились на столе карточные домики; они ходили по столу, разговаривали, ссорились, мирились, ездили на прогулку в бегониевый лес — на окно.
Соня делала им из бумаги столы и стулья, вырезала для них лошадок и сани. В сани эти фигурки могли садиться; умели они сидеть и за столом.
Игру в бумажных человечков девочки называли «играть в барыньки». Но Лизка или Оля редко играли в «барынек». Играла Соня, а они смотрели. Матреша — Ком саламаты, если и приходила к ним, то даже и дотронуться до «барыньки» боялась. Она прятала за спину руки и качала головой. Но смотреть, как играет Соня, очень любила.
Постепенно у каждой «барыньки» сложился свой характер. Арианда (Соня где-то вычитала название одного дворца в Крыму и решила, что это хорошее имя) в розовом платье, самая красивая «барынька», была и самой доброй и самой умной. Она никогда не ссорилась; она только плакала, если ее обижали. Очень положительной дамой была Аленушка в синем платье. Зато Адальмина была горда, заносчива и всегда лезла в ссору. Однажды эта красавица Адальмина так досадила всем «барынькам» и самой Соне, что Соня схватила ее, скомкала и выкинула в окно. И Сонины подруги были очень довольны, что избавились от Адальмины.
Соня читала сказки, играла в «барынек», бегала по вечерам с ребятами в салочки, водила хороводы, ухаживала за своим лупинусом… а мысли шли своим чередом. В голове все время кипела скрытая, неустанная работа. Все время что-то рушилось и разорялось. Покойный горбатенький художник всегда говорил, что труд — это честь человека, что первый человек на земле — это тот, кто трудится. Вот ее папа и мама трудятся. Когда Соня была совсем маленькой, она так и считала, что ее папа и мама и есть самые главные люди.
А потом все пошло как-то неожиданно плохо и несправедливо. Барыне в шляпе с перьями постилали в церкви коврик, а мама стояла в толпе, и никто ей коврика не подстилал. Дунечка была мастерица, она так умела крахмалить тонкое белье и всякие кружева и батисты, как никто не умел. Она бы тоже должна быть первым человеком, а вот нет же! Первым человеком была ее хозяйка Палисандрова, а Дунечка — простая работница…
И вот теперь Кузьминишна, красивая, с бархатными глазами и веселым голосом… Когда не работала, то ходила в шелковых платьях со стеклярусом. А стала работать — сидит в темной кофте да продает перстни с рук. И купец ее теперь не хочет любить…
Почему же так? Почему все так наоборот? Соня могла бы спросить обо всем у отца. Но мысли эти были так несвязны, туманны, хотя и тревожны, что она не знала даже, как и объяснить их.
Лупинус тоже заботил ее. Он долго собирался с силами. А потом вдруг собрался и потянулся вверх. Странный это был цветок: тонкий, жесткий стебель настойчиво тянулся вверх; веток у него не было, лишь кучка маленьких резных листочков торчала на макушке. Соня подолгу смотрела на него, стараясь понять: а откуда же вылезут бутоны и развернутся синие цветы?
— Что-то твой лупинус на коноплю похож, — сказал однажды отец, поглядев на Сонин цветок.
Соня обиделась:
— Вот подожди, вырастет побольше — тогда увидишь!
А в квартире все ждали купца. Вот он добьется правды, посовестится Манефа, отдаст ему капитал. Но купец все не приходил. И все протяжнее, все печальнее становились песни Кузьминишны.
— А что, сестрица (так звала Кузьминишна Анну Ивановну), может, мне самой к нему сходить?
— Не страмись, — ответила Анна Ивановна. — Там дети его, сыновья взрослые. Спустят с лестницы, да и все. Не удивляй людей, не ходи!
— А что ж делать-то? Душа горит! Просто с тоски пропадаю… Уж хоть бы что-нибудь узнать!
Анна Ивановна подумала, потом сказала:
— Ладно. Ужотко понесу работу, заеду туда. У соседей поспрошаю.
Соня сидела тут же — складывала дубовые листочки.
— А когда работу понесешь? — спросила она.
— А тебе на что?
— Про купца узнать хочется.
— Вон как, ей и то узнать хочется! — усмехнулась Кузьминишна. — А мне-то каково? Выпить бы, что ли!
Анна Ивановна рассердилась:
— Ну уж это не затевай! Самому скажу!
— Жизни жалко… — начала Кузьминишна. Она приклеивала стебельки к листочкам, клеила и отбрасывала, но словно и не видела их. — Как же все в жизни повернулось! А что, сестрица, неужели так она и не отдаст? А может, отдала, а он взял да и уехал, а?
— Может, и так.
— Нет, не может, не может! Уж если так, под трамвай брошусь!
Кузьминишна швырнула намазанные клеем стебельки и принялась ходить по комнате.
— Сестрица, дай рюмочку! Терпения нет — тоска!
Но Анна Ивановна не тронулась с места.
— Душатка, — сказала она предостерегающе, — не дури! Нет у меня вина.
— Стоит в столе, я видела.
— Сказала — не дам! Сам придет — нам обеим всыпет. Садись, работай. Поскорей сделаем — да и схожу…
Анна Ивановна вернулась с невеселыми вестями. Манефа денег так и не отдала. А купец в тяжелой горячке лежит в больнице. Будет ли жив — не знают. А скорей всего, что помрет.
Все жалели Кузьминишну. Все ждали, чем же кончится. Даже Раида выходила в кухню узнать, как там дела с купцом. А Кузьминишна каждый день бегала в больницу, узнавала у сиделок о его здоровье. К купцу ее не пускали: сыновья приказали не пускать.
И вот как-то раз пришла Кузьминишна из больницы, села за стол и заплакала в голос:
— Ох, на кого ж ты меня остави-ил!.. Что же мне без тебя на свете делать?! Ой! Только руки на себя наложить!
— Помер, — негромко сказала мама и пошла утешать Кузьминишну.
Около нее собралась вся квартира.
— Ну, эко ты, голова! — сказал отец. — Уж скорей и руки накладывать! Проживешь, все живут.
— Не больная, чай, — вмешалась и Раида. — Помаленьку заработаешь на кусок хлеба!
— На что мне такая жизнь — на куске хлеба сидеть?! Ведь я как жила за ним — денег не считала. Гостей принимала, по три дня из-за стола не вставали. Бывало, как поднимешь рюмку: «Эх, орелики!» — так дым коромыслом, веселье! А то — кусок хлеба! Да на что он мне, кусок хлеба-то?!
Кузьминишна снова залилась слезами.
И с этого дня она запила. Пропила все кольца со своих рук, пропила тяжелую золотую брошку и все свои шелковые наряды… От нее прятали деньги и вещи, не давали водки. Однажды она ухитрилась, остановила из окна какую-то прохожую женщину на улице, сбросила ей со второго этажа пуховую подушку:
— Ради Христа, возьми, принеси соточку! Только хоть соточку — душа горит!
Женщина взяла подушку и ушла. И даже соточки не принесла Кузьминишне.
Соня в эти дни боялась ее. Кузьминишна ходила по квартире в одной рубашке, с распущенными тяжелыми черными волосами, неприбранная, непричесанная. Веки у нее опухли, страшные, полубезумные глаза глядели на всех с тоской и надеждой:
«Рюмочку! Христа ради, рюмочку!»
Но Кузьмич строго-настрого запретил давать ей водки. Она плакала, приставала к Анне Ивановне, к маме, к отцу, даже к Раиде.
— Да на что же я куплю? — отвечала Раида. — У меня и денег-то нет!
Анна Ивановна увещевала Кузьминишну:
— Душатка, не проси! Ты знаешь, что от Мити попадет! Отстань, надоела ты мне до страсти!
Мама отказывала строго и холодно. Она не любила пьяных вообще, а женщин пьяных терпеть не могла.
А отец жалел Кузьминишну:
— Ну что же ты, голова, просишь-то? Нельзя тебе пить, нельзя! Вон ты на кого похожа стала — форменная босячка, и больше ничего!
— Михалыч, ну одну рюмочку только! Ну, Христа ради!
Отец не мог выдерживать ее мольбы, уходил из квартиры. А один раз сдался, налил ей украдкой рюмку водки.
Кузьминишна выпила с наслаждением, ничем не закусила. И попросила еще рюмочку. Но отец ей больше не дал и спрятал бутылку:
— Смотри, не говори никому!
— Никому не скажу, голубчик, орелик ты мой!
Но, хоть и никому не сказала Кузьминишна про эту рюмочку, однако в квартире все узнали: Кузьминишна сразу сделалась пьяной. Она начала громко что-то рассказывать, ко всем приставала с разговорами, пела песни на всю квартиру…
Кузьмич пришел с работы и сразу услышал ее пьяный голос. Его охватила ярость. Он сбросил кепку; стиснув зубы, снял с себя ремень и принялся стегать Кузьминишну:
— Будешь пить? Будешь пить? Будешь пить?
Кузьминишна визжала, кричала, плакала:
— Ой, Мить, не буду! Ей-богу, не буду! Ой, не бей Христа ради — не буду! А-а-а!
Соня со страху забилась в кухне на сундук. Она сидела, прижавшись к стене, сжав губы, чтобы не закричать тоже. А из маленькой комнаты не переставая слышались удары ремнем по голому телу, яростный голос Кузьмича и надрывающие душу истошные крики Кузьминишны:
— Ой, Мить, не буду! Ой, прости Христа ради! Не буду! Ооой! Оой!
Тихий и печальный был вечер. Все сидели по своим комнатам. Было тяжело, и никто не знал, как же быть и что делать дальше.
— Может, опомнится, — тихо сказала мама.
А наутро, как только Кузьмич ушел на работу, Кузьминишна вышла из своей комнатки в кухню. Она вышла медленно, шатаясь, хватаясь за стенки, за печку. Рубашка сваливалась с плеч — она не замечала. Черные, когда-то волнистые и блестящие волосы ее космами висели вокруг опухшего лица. Она заглянула в комнату, увидела отца и вдруг зашептала:
— Иван Михалыч… Христа ради… рюмочку!
— Опять! — охнула мама.
А отец замахал руками:
— Иди, иди, пожалуйста! Вместе с тобой и мне попадет!
Услышав разговор, вышла Анна Ивановна:
— Ступай отсюда, Душатка! Пойдем! А то я тоже ремень возьму.
Она взяла Кузьминишну за руку, отвела ее в комнатку и заперла на ключ.
— Погиб человек, — вздохнул отец, — форменным образом погиб.
Соня вышла в сени. Вспомнила про свой лупинус, который все еще не давал никаких бутонов. Жесткая зеленая тростинка высоко поднималась из горшка, на верхушке у нее венчиком развернулись острые перистые листочки. Среди этого зеленого венчика что-то кустилось, вроде завязывались бутончики…
Соня открыла дверь и позвала отца:
— Папа, поди-ка посмотри! Лупинус вроде как бутоны набирает!
Отец вышел, посмотрел, усмехнулся в усы:
— Не будет у тебя синих цветов. Какой же это лупинус? Самая настоящая конопля! Да и цветет уже! Ишь ты!
— Конопля?.. А как же Елена Петровна…
— Елена Петровна — городской человек. Откуда ж ей знать, какое у конопли семечко? Кабы знала, не назвала бы его лупинусом.
Соня долго стояла у своего неудавшегося цветка. Да, конечно, тут синих цветов не будет. Неоткуда им здесь взяться — слишком тонкий и жесткий стебелек вытянулся из горшка. А вот эти шарики среди листьев и есть ее цветы. Откуда же тут возьмутся синие гроздья?
Соня отвернулась и отошла от окна. От этого цветка ждать больше нечего. Но как же могла Елена Петровна так ошибиться? Ведь она учительница, она знает все на свете! А вот какие семена бывают у конопли — не знает…
Соне не хотелось идти в квартиру, не хотелось слушать, как ходит и стонет Кузьминишна, как Анна Ивановна ругает ее, как стрекочет без остановки Раидина машинка… Соня взяла листок бумаги из тетрадки, взяла цветные карандаши и тут же, в сенях, села рисовать. Она рисовала сад, в котором росли синие цветы. Она хотела, чтобы это были лупинусы. Только какие они, эти лупинусы? У кого спросить, какие они, как нарисовать их? Не у кого спросить.
И Соня малевала синим карандашом какие-то невиданные синие цветы. А не все ли равно? Пусть это и будут ее лупинусы!
Кукла, которую обещали
Соня не переставала мечтать о куколке — настоящей, красивой, с блестящими глазками. И чтобы ее можно было причесывать, наряжать, делать ей шляпки…
Старую куклу Лену тоже можно наряжать. Но что толку? Она от нарядов не становилась красивее.
Как-то, проснувшись утром, Соня вспомнила, что кукла ее всю ночь просидела на окне, под цветком, глядя на улицу. Она вскочила с постели, взяла куклу и понесла ее в кухню. Там на узкой полочке над сундуком жили ее игрушки и была устроена куклина постель. Соня влезла на сундук, заботливо раздела свою чумазую Лену и уложила в постель.
Она не заметила, что какая-то женщина, пришедшая за молоком, наблюдает за ней.
— Ну и кукла у тебя! — поморщилась женщина.
— А у меня другой никакой больше нету… — ответила Соня.
— А ты любишь кукол?
— Люблю.
— Надо тебе принести куклу.
Соня, радостно изумленная, уставилась на нее сияющими глазами. А женщина объяснила маме:
— Дети у нас выросли. Играть некому. Сложили все игрушки в ящик. Так они и лежат в прихожей на шкафу. — И снова обернулась к Соне: — Я посмотрю, что там… Выберу и принесу тебе.
— А когда вы принесете? — спросила Соня, замирая от счастья.
— Да завтра и принесу. Приду за молоком и принесу.
— Завтра…
Соня отошла в сторонку и молча продолжала глядеть на эту необыкновенную женщину с клетчатой шалью на плечах. А женщина была обыкновенная, с поблекшим, усталым лицом, с длинным унылым носом, и говорила она скучным, монотонным голосом, будто все время жаловалась на что-то. Но Соня видела ее совсем другой — не унылой, а задумчивой и только немного усталой…
Завтра! Но почему же надо ждать до завтра? Соня хоть бы и сейчас побежала за этой женщиной, и пусть бы она достала эту куколку со шкафа и дала ее Соне! Ведь до завтра еще целый день и целая ночь. Сколько часов в этом дне, а сколько минут! И все эти часы и минуты надо будет ждать, ждать, ждать…
Соня ничем не могла заняться в этот день. Она бродила по квартире, выходила во двор, возвращалась. Она рассказывала всем подружкам — и Оле, и Лизке Сапожниковой, и Матреше и даже драчуну Коське, — что завтра ей принесут новую куклу, а может, и еще каких-нибудь игрушек. Подружки молча завидовали — к ним не ходят покупатели и никто ничего не принесет.
— А может, и вам тоже что-нибудь дам, — пообещала Соня. — Наверное, много принесут… А на что им? Все равно так просто игрушки на шкафу в прихожей лежат!
— А солдатиков принесут? — осведомился Коська.
— Может, и принесут.
— А мячиков там нету? — спросила Лизка. — Вот бы мячик принесли!
— Не знаю… — Соне хотелось и солдатиков и мячик…
В этот день все было неинтересно. Соня поиграла с ребятишками в салочки — и бросила. Попробовали прыгать через веревочку, но и это скоро надоело. День тянулся невыносимо медленно, даже обед и то никак наступить не мог!
Во дворе было полно опавших желтых листьев с тополей. Принялись делать из них длинные гирлянды, шапки, короны… Потом пришел шарманщик. Худой, загорелый, в обвислой шляпе, он поставил свою одноногую шарманку среди двора и принялся крутить ручку. Шарманка затянула унылый мотив унылой песни:
Разлука ты, разлука,
Чужая сторона,
Никто нас не разлучит,
Лишь мать сыра-земля…
Это было интересно. Ребятишки окружили шарманку. Они слушали, как она играет. Разглядывали картинку, нарисованную на шарманке: там какие-то лодки с загнутыми носами и красным парусом плыли по зеленой воде. Разглядывали голубого взъерошенного, слегка облезлого попугая, который сидел на шарманке около ящичка с билетиками. Попугаю, наверное, было скучно и холодно — он ни на кого не глядел. Он сидел неподвижно и словно грустно думал о чем-то.
Шарманщик играл, а сам обводил глазами окна: не выглянет ли кто, не бросят ли ему копеечку за его игру? Кое-где открывались окна, высовывались жильцы, слушали печальную песню, но копеечек не бросали: здесь лишних копеек не было.
Наконец открылась форточка в третьем этаже, и кухарка домовладельца тетя Стеша бросила белый комочек — медяк, завернутый в бумажку. Ребятишки бросились поднимать. Коська схватил первый, подбежал к шарманщику и отдал. Шарманщик заиграл новую песню.
Трансваль,Трансваль, страна моя…
Спустилась сверху Раида. С утра до ночи сидит Ранда за своей белошвейной машиной — недели, месяцы, годы… Отнесет в магазин сшитое белье, возьмет раскроенное для шитья — вот и все ее развлечение в жизни. Худая, бледная, в полинявшем платьишке, Раида подошла к шарманщику:
— Ну-ка, скажи попугаю — пусть мне счастье достанет!
— И счастье, и радость, и богатство — все достанет! — ответил шарманщик. — Давай пятачок.
Шарманщик опустил пятачок в карман, взял ящичек с билетами и поднес его попугаю:
— Давай счастье, Яшка, давай девице счастье! Не ленись, давай!
Попугай покрутил чубатой головой, пронзительно крикнул, словно выругался за то, что его потревожили, и вытащил своим кривым клювом билетик из ящика.
— Держи! Что сказано, всё сбудется. — Шарманщик подал билетик Раиде. — Твоя судьба.
Раида развернула билетик, но прочитать не могла — она не умела читать. Она спрятала его в карман и убежала — хозяйка прочитает!
Шарманщик снова заиграл. Но напрасно он разглядывал окна — никто не показывался в них. Тогда он накрыл шарманку черным чехлом, взвалил ее на плечи и пошел со двора. Взъерошенный попугай, покачиваясь в такт его шагам, сидел у него на плече.
Соня задумчиво проводила шарманщика глазами. Жалко его было! И попугая жалко…
И вдруг сердце вздрогнуло. Что же это она, и забыла, что будет завтра? И что же она делает, что она думает? Завтра к Соне придет новая куколка, а где же она будет жить? На чем она будет спать? Соня прибежала домой, влезла на сундук и принялась готовить постель для новой куколки. Только вот какая она будет? Большая или средняя? Ну ладно, пока можно приготовить местечко, где она будет сидеть.
Но вот все приготовлено, а день еще не прошел. Еще только обед, мама гремит ухватами, достает чугуны из печки. И почему все-таки надо ждать до завтра, а не пойти теперь, сейчас?
— Раз обещали завтра, значит, надо подождать, — сказала мама. — Нельзя надоедать людям.
Может, Соня и не послушалась бы маму и сама сбегала бы к этой женщине в шали, но откуда она знает, где живет эта женщина и как ее зовут? Как она отыщет ее?
Мучительно долго тянулся день. Вот наконец и вечер. Пришли из коровника мама с отцом, убрали на ночь и подоили коров. Пришел с работы слесарь Кузьмич, вымыл с мылом почерневшие от железа руки, сидит пьет чай. Анна Ивановна убрала со стола зеленые бумажные листочки и клейстер — рабочий день окончен. И только за стеной у Раиды все еще стрекотала машинка. Хоть и напророчил ей попугай богатство в скором будущем, однако, пока получишь это богатство, нужно на хлеб зарабатывать…
Соня улеглась в постель с горячим предчувствием счастья:
«Завтра!»
Завтра наступило. Соня проснулась, когда еще чуть светало. Она боялась проспать. А то придет женщина в шали, принесет куколку, а Сони нет. Забудет оставить, да и унесет ее обратно — жди тогда еще целый день и целую ночь!
Холодное туманное утро глядело из-за белых занавесок. Мамы с отцом уже не было — ушли убирать коров. В квартире было тихо. В кухне горела маленькая керосиновая лампочка. Тикали на стене часы. Вот послышались негромкие голоса за стеной — Кузьмич встает на работу. Хлопнула дверью Раида — пошла умываться.
Вот и мама пришла из коровника, звякнула о стол бидоном с молоком. Она о чем-то говорит с Кузьмичом, цедит молоко… Скоро начнут приходить покупатели. И уже скоро, вот сейчас, придет женщина в клетчатой шали, накинутой на плечи, а под шалью у нее будет спрятана кукла… Какая она, эта кукла? С черными волосами или с желтыми? А может, она даже будет с закрывающимися глазами?
Вышла в кухню Анна Ивановна, вытрясает самовар. О чем-то заговорила с Раидой. И Соне досадно: их голоса мешают ей прислушиваться.
Но вот хлопнула входная дверь. У Сони кольнуло под ложечкой: она! Соня вскочила с постели, на цыпочках выбежала в кухню… Нет, там стояла с белым кувшинчиком в руках какая-то девушка. Соня вернулась на постель. Ну ничего. Уж теперь-то недолго. Она ждала целый день и целую ночь, а теперь остались только минуты!
А вот опять кто-то пришел. Соня снова вылетела в кухню. Нет, опять не она! Соня вернулась в комнату и тут же подумала: что же это она так выскакивает? Сейчас ей принесут куклу — как же она будет с чужой тетенькой разговаривать в одной рубашонке? Соня поспешно стала надевать платье. В кухне уже опять хлопнула дверь, а она никак не может попасть в рукава. Соня выскочила в кухню, не застегнувшись, но это опять была не та, кого она ждала.
Она пока положит куколку к себе в постель. А потом они вместе сядут чай пить… Ой! Пришла тетенька! Это ее голос, немного тягучий, немного шепелявый разговор. Соня мгновенно очутилась в кухне и молча с блестящими глазами встала перед женщиной в шали.
Но что же это? Женщина только взглянула на Соню безразличным взглядом и продолжает с мамой свою беседу. Почему же она не распахивает шаль и не дает Соне ее куколку? Соня стояла перед ней, глядела на нее, не спуская глаз.
«Ну, давайте, давайте же мне куколку! — хотелось крикнуть Соне. — Ну, почему же вы дернейте ее под шалью — ведь я вот она, стою перед вами!»
Наконец женщина случайно взглянула на Соню и вспомнила:
— А! Ты за куклой! А я и забыла совсем. Ладно, завтра принесу!
И снова заговорила о чем-то с мамой — длинно, тягуче, скучно…
Соня тихо вернулась в комнату. То, что случилось, было непостижимо. Соня твердо знала, что сейчас вот, в эти самые минуты, она уже должна была держать в руках обещанную куклу. А куклы нет!
Завтра! Значит, еще день и еще ночь. Сколько же опять часов нужно прождать, сколько еще минут — сосчитать невозможно!
Соня набралась терпения. Ну что ж делать — подождет. Зато уж завтра-то женщина не забудет. Не может же она забыть во второй раз!
Время тянулось невыносимо медленно. Девчонки во дворе начали приставать, чтобы Соня показала куклу, а куклы не было. И никаких других игрушек не было. Все будет завтра!
Соне не хотелось ни играть, ни рисовать. Все ее силы ушли на ожидание. Она слонялась по двору и по квартире, не зная, чем заняться. Кукла лежала где-то в прихожей на шкафу, а Соня никак не могла ее взять в руки. Чтобы обмануть время, Соня перебирала лоскутки. Вот из этого она сошьет новой куколке платье, а из этого сделает ей одеяльце. Да, а как же она ее назовет? Розочкой или Белоснежкой. А может быть, Гердой?
Пусть будет Герда. Соня очень любила сказку про Снежную королеву и любила девочку Герду. Пусть ее куколка будет Гердой!
Спать она легла рано. Скорей уснуть, а потом проснуться — и вот оно, утро! И куколка наконец явится к ней из чужой квартиры и будет жить у нее!
Соня снова проснулась на рассвете. Она тут же оделась, чтобы не выбегать на кухню в рубашонке. И снова ждала, и снова прислушивалась. И каждый раз, как только хлопала входная дверь, выбегала в кухню.
И вот наконец женщина в шали пришла. Соня с затаенным дыханием выбежала в кухню и так же, как вчера, стала перед ней молча, ожидая своего счастья. Но почему же и сегодня женщина не спешит распахнуть свою шаль и отдать Соне куклу?
— А, это ты? — сказала женщина своим скучным голосом. — Куклу тебе? А ведь я ее опять забыла.
— А завтра принесете? — упавшим голосом спросила Соня.
— Завтра принесу. Надо там разобраться, на шкафу-то. Там в ящике много старья лежит. И куклы там, и посуда, и кубики разные. Разберусь и принесу.
Соня, вся поникшая, ушла в комнату. Значит, опять ждать, опять томиться и гнать скучные пустые часы. Надо прожить еще день и еще ночь. Соня никак не могла отрешиться от своей мечты. Ведь она ей обещана, она должна исполниться. Только потерпеть еще немножко…
Соня не помнила, как прошел еще день. И снова наступило утро. Соня, почти спокойная, почти радостная, вышла в кухню — наконец-то она сейчас возьмет в руки свою Герду! Но женщина снова сказала, что она забыла куклу. Соня стояла ошеломленная. Этого не может быть, этого никак нельзя понять… А женщина опять сказала, что она принесет куклу завтра.
Соня стала понемногу возвращаться к своей обычной жизни. Она читала сказки. Потом они бегали с Лизкой на свалку, искали цветочков. Но на свалке была грубая и жесткая трава и никаких цветочков в ней не расцветало.
Снова играли ясными вечерами в «Коршуна» и в «Сеньку Попова», который приходил за красками. Чертили «классы», прыгали. Играли в камушки.
Но Соня не переставала ждать. Она уже никому не говорила о кукле, которую ей принесут. Но каждое утро с надеждой выбегала она в кухню, как только приходила женщина в шали. И женщина в шали каждое утро говорила, что сегодня она опять забыла куклу, но зато завтра принесет ее обязательно. Разберется на шкафу и принесет.
И Соня ждала. Ведь все-таки настанет же такое утро, когда женщина распахнет свою клетчатую шаль и скажет:
«На тебе твою куклу!»
Ведь настанет же! Сколько бы ни проходило дней и ночей, но в конце концов женщина разберется на шкафу и принесет Соне ее Герду!
И вот наступило утро, не похожее на другие. Соня лежала в постели и, как всегда, ждала, когда послышится в кухне знакомый, тягучий, вечно на что-то жалующийся голос. Но сегодня много раз хлопала дверь. Приходили разные люди за молоком, а той женщины все не было. Что ж такое? Вот уже и молоко кончилось, мама моет бидон.
Соня вышла в кухню.
— Мама, а где же та тетенька, которая в шали? Она еще не приходила?
— Да она и не придет больше, — ответила мама, — она вчера в деревню уехала.
Соня молча ушла в комнату. Она наконец поняла, что надо отказаться от своей такой упорной и такой нетерпеливой надежды и забыть о дорогой, так и не увиденной Герде. А это было ей очень трудно.
Новые подруги
Соня, хотя уже и не ходила в школу, все равно вставала рано. Она должна была относить молоко покупателям Бартонам. Бартоны жили на Четвертой Мещанской, в Троицком переулке. Раза два мама сходила туда с Соней, показала дом, квартиру, а потом Соня стала ходить одна. Мама наливала в бидончик молока, и Соня отправлялась туда каждое утро. А пока Соня ходила, мама топила печку.
Иногда Соне очень не хотелось вставать утром, особенно если была плохая погода. Иногда проснется, а в окно стучит дождь, темно, пасмурно. Так бы и завернулась опять в одеяло, так бы и зарылась поглубже в мягкую подушку и отправилась бы в веселую страну снов… Соне постоянно снились сны, яркие, раскрашенные, интересные, как книжки…
Но мама негромко звала ее, будила. Соня чувствовала, что маме жалко будить ее. Но что ж делать — молоко надо нести, а маме некогда. И Соня покорно вставала, одевалась и, не завтракая, отправлялась со своим бидончиком.
Но было уже лето, непогода случалась редко. Обычно Соню встречало ясное голубое утро. Рано вставать все равно не хотелось. Но как только вышла на улицу, то уже и весела и рада, что встала, что увидела голубое еще, прохладное небо, рада, что свежий ветерок дышит ей в лицо, что тополя шелестят и поблескивают полированной листвой… А откуда-то с вокзалов зовут, зовут далекие гудки поездов. И снова возникали неясные желания — куда-то ехать, куда-то мчаться, увидеть неизвестный, таинственный, никогда не виденный мир.
Соня шла вверх по Старой Божедомке, сосредоточенно семеня ногами и опустив глаза. Она по-прежнему боялась прохожих, прижималась к стене, стремилась быть незаметной, невидимой. Проходила мимо окна с игрушками, к которому она бегала зимой смотреть елочные украшения. Но окно было на той стороне, полное красивых кукол, солдатиков, игрушечной посуды и лошадок, а переходить на ту сторону и смотреть на игрушки было некогда. И Соня проходила мимо, только издали любуясь сокровищами, глядевшими на нее из-за толстого стекла.
Свернув в Троицкий переулок, Соня для развлечения рассматривала дома. Вот этот похож на молодого хозяина Андрея Лукича Прокофьева, весь подобранный, чопорный, замкнутый. Казалось, он холодно глядит на Соню своими узкими высокими окнами и думает: уж не хочет ли эта девчонка войти в мое закрытое парадное?
А вот этот дом, весь расписной, из белых и красных кирпичиков, чем-то напоминает чернобровую Паню, когда она в праздник нарядится в яркую, расшитую кофту. Он веселый и приветливый, Соне очень хотелось бы войти туда. Но Бартоны живут дальше, в ничем не замечательном сером доме, на третьем этаже. Соня поднималась по узкой каменной лестнице и тихонько стучала в дверь — до звонка она дотянуться не могла. Дверь открывалась, седая полная старуха — бабушка Бартон — принимала у Сони бидончик. Соня стояла на площадке у закрытой двери и ждала, когда бабушка вынесет ей пустой бидончик, и уходила обратно. Денег Бартоны ей не платили — они брали молоко в кредит, то есть в долг.
Соня уже не тяготилась этой своей обязанностью, она привыкла к ней и как-то не замечала ее.
Однажды, возвращаясь с пустым бидончиком, Соня увидела что-то новое в своем дворе. У серого флигеля стоял полок с вещами — приехали еще какие-то жильцы. По вещам Соня сразу увидела, что это «богатые». У них был гардероб и мягкий синий диван с валиками и подушками.
Лизка и Коська были уже тут.
— Всю квартиру занимают, — в восторге прохрипела Лизка, — три комнаты!
Очень хотелось посмотреть на новых жильцов. Но мама увидела ее в окно из сеней и позвала чай пить:
— Где ты там пропала? Уж я думала — случилось что!
Если запоздаешь на минуту, маме уже кажется, что обязательно что-нибудь случилось.
После чая Соня тут же побежала посмотреть, кто приехал. У подводы стоял белокурый господин в пиджаке, при галстуке. Он расплачивался с извозчиком, держа в руке портмоне. Ребятишки, сбившись в кучку, рассматривали его. Соня подбежала к Лизке и тоже стала рассматривать нового жильца. Но он не замечал их. А когда случайно взглянул в их сторону, ребятишки притихли — такие строгие и холодные были у него глаза.
— Это отец ихний… — прошептала Лизка. — Семенов. Он подрядчик.
— Какой подрядчик? — спросила Соня.
— А я почем знаю какой! Это Федор прачке Пане рассказывал. А я слышала. Богатый! И дети у них — две девочки.
У Сони, словно от какого-то недоброго предчувствия, стало тревожно на душе. Чужие девочки у них во дворе — как-то они будут дружить с ними…
Вскоре извозчик уехал, Семенов ушел. А во двор выбежали две девочки, сестры Семеновы. С ними вышла их мать, красивая, затянутая в корсет, с узкими черными глазами и с ямочками на щеках. Она оглянулась вокруг и сказала с недоброй усмешкой:
— Да… заехали! Надо бы хуже, да некуда. — А потом поглядела на ребятишек: — Чумазые… оборванцы какие-то. Да, заехали!
И, покачав головой, ушла наверх.
Сестры Семеновы остались во дворе — чистенькие, белолицые, в отглаженных платьицах. Старшая, с длинными белокурыми косами, была очень похожа на мать: такой же тонкий нос с горбинкой, те же узкие насмешливые глаза, только не черные, а светло-серые, как у отца, тот же тонкий рот и ямочки на щеках.

Соня подумала: «Вот как теперь им неловко и страшно! Еще бы, приехали на чужой двор, а здесь чужие ребята и все чужое! Надо бы подойти к ним, что-нибудь сказать — пусть они не боятся: у нас ребята не драчливы». Но хотела подойти, да стеснялась. И остальные ребятишки молчали, только стояли и глядели на приезжих.
Неожиданно старшая сестра Семенова сказала:
— Меня зовут Тая. А вас как?
Оказывается, она ничуть и не боялась! Наоборот, она тут же начала командовать:
— Покажите нам двор.
Соню что-то задело. Тая не просит, а просто приказывает. Она промолчала. А Оля вдруг заговорила очень угодливо:
— Пойдем, пойдем! Вот это у нас колодец. А это сторожка, здесь у нас летом дворник живет.
Тая шла впереди. Рядом с ней — ее младшая сестра, Настя, крепкая, свежая, как яблоко. А вслед за ними и все ребятишки. Соня тоже не отставала. Новые девочки ей очень нравились, они были такие чистенькие и хорошенькие. Только странно получалось: они новенькие, чужие здесь и никого не боятся, а Соня в своем дворе, дома — и боится новеньких.
— Тут дворник Федор живет, — подхватила и Лизка. Ей тоже хотелось подружиться с новенькими.
В это время дворник Федор пришел в свою дворницкую за метлой.
Вдруг Настя заглянула в дворницкую и крикнула:
— Дворник Федорка!
Соня удивилась и испугалась. Как же это она со старшими так разговаривает? Сейчас Федор, пожалуй, даст ей метлой. Ребятишкам во дворе не раз от него попадало. Насорят что-нибудь, так он их метлой по голым ногам.
Но Федор не рассердился. Он как-то неловко улыбнулся, желая защититься и в то же время боясь обидеть.
— «Федорка»! Да нешто я маленький? Это маленьких так зовут.
Все становилось непонятным. Уж им-то бы за «Федорку» влетело! А Насте Семеновой — ничего!
И все же Соня решила вступиться за Федора:
— Он Федор, а не Федорка.
— Подумаешь! — насмешливо сказала Тая. — Он же дворник!
— Ну и что же, что дворник? Все равно.
У Таи сделалось недоброе лицо:
— Как это — все равно? — насмешливо улыбаясь, сказала она. — По-твоему, что мой папа, что дворник — все равно?
Соня молчала. Нет, пожалуй, это не все равно. Таин папа в шляпе ходит и в галстуке.
И тут, словно откуда-то из далекой дали, Соня услышала голос бедного горбатенького художника: «Кто работает, тот хозяин жизни…»
И неожиданно для себя она повторила:
— Кто работает, тот хозяин. Федор работает.
Тая прищурила узкие глаза:
— Федорка — хозяин? Над кем — над курами?
И рассмеялась. Соня покраснела от обиды: ее подружки, и Ольга и Лизка, тоже рассмеялись.
Коська свистнул:
— А Лука Прокофьич работает, да? А он, значит, не хозяин?
Соня не знала, что сказать.
— А такие слова, как ты сказала, — это только забастовщики говорят, — продолжала Тая. — А их за это в тюрьму сажают. Вот и всё.
— Вот и всё, — повторила Настя.
Соня молчала. Мысли роились у нее в голове. Если за такие слова сажают, то как же мог это говорить Никита Гаврилович? А может, потому и мама всегда сердится на отца, если он что-нибудь не так говорит?
— А ты почем знаешь? — спросила она Таю.
— Вот еще! У нашего папы на работе был такой человек. Тоже приходит к рабочим и говорит: «Вы хозяева!» А наш папа пошел в полицию да заявил. Вот и всё. И забрали. Очень просто. Это забастовщик был. Вот и тебя заберут!
— Давайте играть! — сказала Настя Семенова. — В салочки!
— Давайте! — закричала Оля. — Пойдемте к тетенькам! В краски будем играть! В круг!
— К каким тетенькам? — удивилась Тая.
— К тетенькам-прачкам, — объяснила Лизка. — Мы всегда там играем.
— Фу! К прачкам! — сказала Тая и сморщила нос. — Зачем? Мы будем здесь играть. Под кленом. Становитесь — я считаю!
Все встали в круг, и Тая стала считать:
Оне-броне-рез,
Интер-минтер-жес,
Оне-броне-раба,
Интер-минтер-жаба…
Соня пришла домой с непонятной тяжестью на сердце. Что-то нарушилось в жизни. Чужие люди вошли в их двор и стали хозяевами. Сразу стали хозяевами, а они, здешние, все делают только так, как хотят эти чужие белокурые девочки… И тетенек обидели сегодня. Тетеньки вышли после обеда посидеть на лавочке, а ребятишки не пришли к ним играть. Играли на другом дворе, под кленом… И Соня тоже. И как-то невесело было играть. Оля поддавалась и Тае и Насте. Коська осалил Настю, а она обиделась, надулась, сказала, что он ее ударил. Еле уговорили. И тогда уж никто ее не салил — боялись, чтобы опять не обиделась.

В сумерки ребята снова собрались во дворе. Пришел и Сенька-Хромой. Неожиданно прибежал Лук-Зеленый — как всегда, чумазый и нечесаный. Соня увидела, что все ребята вышли гулять, обрадовалась. Вот сейчас затеют игру, побегают, подурачатся!
— К тетенькам! — сказала Соня. — Пойдемте к тетенькам!
— Пошли!
Сенька, хромая, побежал вперед. Лук-Зеленый помчался за ним скачками.
Но Тая остановилась:
— Ни к каким я прачкам не пойду, здесь лучше, под кленом.
— А я — к тетенькам, — сказала Соня, — там лучше.
И она побежала в тот закоулок двора, где прачки днем вешали белье, а по вечерам сидели на лавочке, под тополями.
На лавочке никого не было — тетеньки еще ужинали. Соня оглянулась — она оказалась одна. Никто из ребят не пошел с ней, даже Лизка. Лизка сначала побежала за Соней, но остановилась и осталась со всеми, с Таей…
Куры уже забрались в сарай. Слышно было, как они, тихонько переговариваясь, усаживались на насестах. У тетенек в их полуподвале неярко светился огонь. Чуть-чуть шелестели над головой тополя потемневшей в сумерках листвой. Соня одна сидела на узкой деревянной лавочке. Из-за флигеля доносились голоса — ребята играли в прятки. Соне казалось, что она теперь осталась одна на всю жизнь. Тая больше никогда не примет ее играть, а ребята не будут с ней водиться. Подруги — Лизка, Оля, — с которыми она выросла, стали вдруг чужими.
Может, пойти туда и попроситься играть? Ну, нет! Этого Соня не могла. Почему она должна просить Таю? У них на дворе никогда никто не оставался один, они всегда были вместе. Как же это случилось сегодня, что Соня осталась одна? Ей было так обидно, что сердце просто щемило.
Но вот вышли и тетеньки. Домна Демьяновна, в своем чистом голубом фартуке, гладко причесанная, с водянисто-светлыми глазами, толстая и, как всегда, печальная, вышла первой. Она уселась, вздохнула — то ли от усталости, то ли от той печали, которую всегда носила в душе.
— Что это сегодня ты одна? — сказала она. — Где же ребятишки?
— Они там играют, — ответила Соня, опустив глаза.
Вышла, тяжело ступая уродливыми, больными ногами, Анна Михайловна. Она приподняла свои густые черные брови, повела бархатными синими глазами:
— Что это пусто как?
Она тоже села на лавочку. Соня молча прижалась к ней; это было любимое место — около Анны Михайловны.
— Да вот, слышишь, на том дворе играют, — ответила Домна Демьяновна. — Господа приехали, с прачками знаться не хотят.
Соня сидела молча, прижавшись к Анне Михайловне. Хоть и сидела она рядом с любимой тетенькой на том самом месте, которое еще вчера ребята брали с бою, ей было грустно. Вышла чернобровая Паня, уселась на порожек. Тоже удивилась:
— Что ж это ребятишки-то наши? Ай ушли куда?
— Барышни Семеновы к нам не захотели, — ответила Анна Михайловна, — где ж им с прачками знаться!
Тетеньки сидели, переговаривались. Тихий летний вечер стоял во дворе, зажигались первые звездочки… В подтягинском доме кое-где засветились огни. А за углом дома шумели, играли и веселились ребята, и никому дела не было, что Соня сидит здесь одна, что не бегает с ними в прятки, не поет с ними «Что тучки принависли…». Как будто и не было никогда Сони в этом дворе.
Кузьминишна уходит
— Мам, а какие это — забастовщики?
— Ну, которые против царя идут.
— А почему?
— А потому, что думают, что они умнее всех, — вмешалась Анна Ивановна. Она стирала в кухне и слышала их разговор. — Устроят смуту, а люди потом без работы сидят. Да разве с царем поборешься?
— Мама, — через минуту начала Соня, — а наш художник, горбатенький, забастовщик был?
— Что ты! — Мама далее засмеялась: — Какой же он забастовщик!
— А он же говорил: кто работает, тот и хозяин. А Тая говорит, что если бы их отец услышал, так он бы нашего художника в тюрьму посадил.
— И посадил бы, — подтвердила мама, — потому что — не болтай! И тебя посадят, если болтать будешь, да отправят по этапу.
— По этапу?..
Соня уже знала, что такое отправить по этапу. Ей живо вспомнился мрачный рассвет и в серой моросящей мгле глухой звон кандалов… Шеренги понурых людей, все в одинаковых шинелях с бубновым тузом на спине, на голове — странные, смятые картузы без козырьков… Они шли рядами, прикованные друг к другу, и железные кандалы погромыхивали на ногах…
Соне стало страшно, но мысли не давали покоя. Мама велела от нее отстать и не разговаривать про забастовщиков. Тогда она постаралась выяснить другой вопрос.
— Мам, а мы кто — мещане или мужики?
— Мы — мужики, — ответила мама, — крестьяне.
— А почему?
— Потому что из деревни пришли. Из крестьянской семьи.
— Мам, а почему мужики хуже?
— А уж им так по священному писанию положено, — опять вмешалась Анна Ивановна. — Мужик от Хама происходит.
Соня обиженными глазами посмотрела на маму. Что же она ничего не скажет Анне Ивановне?
Но мама не поднимала головы от шитья: она опять ставила заплатки на какое-то белье.
— Мам, — Соня дернула ее за фартук, — правда, да?
— Да ведь я в школу не ходила, священного писания не знаю. Люди говорят, что так.
— А как же! — Анна Ивановна распрямила спину над корытом. — Я сама икону такую видела. Иафет наверху — он самый главный, правит всеми; Сим — тоже главный человек, над всеми войсками. А Хам в самом низу, под ногами, оборванный, землю сохой пашет. Вот от него и мужик пошел — самое низкое звание.
Соня учила «закон божий» и хорошо знала историю старого Ноя и его сыновей — Сима, Хама и Иафета. Она сама, вместе со всем классом, возмущалась поступком Хама — он посмеялся над своим старым отцом!
И вот вдруг теперь оказывается, и она, и ее мама, и ее отец происходят от самого презренного человека — от Хама!
— Да, бог так и сказал, — продолжала Анна Ивановна: — «Ты, Иафет, праведный, ты будешь землей править. Ты, Сим, будешь всем войском командовать. А ты, Хам, за свою подлость будешь наказан. Всю жизнь будешь землю пахать!»
— Мам, правда? — Соня опять дернула маму за фартук.
— Раз священное писание так говорит — значит, правда, — ответила мама, не поднимая головы.
Отец между тем пришел со двора и мыл руки под краном. Он выслушал, что сказала Анна Ивановна, и, усмехнувшись, покачал головой:
— Истинная правда все это. Мужик землю пашет, горбом своим хлеб добывает, господ кормит, и войско кормит, и царя кормит. И нет-то ниже человека, и все-то над ним хозяева, и самая-то он распоследняя скотинка! Сесть рядом с мужиком и то зазорно! А его хлеб — ничего, едят! А подумали бы так-то: не будет мужика — так и мы с голоду помрем. Деньги-то есть не будешь, если тебе мужик хлеба не посеет.
Соня переметнулась к отцу:
— Пап, а царь тоже без мужика не может?
— И царь без мужика не может.
— А мещане могут без мужика?
— Да мещане-то первыми с голоду без мужика помрут!
И выходит так, что не последний человек — мужик. А что он первый человек. Но тогда почему же и сесть с ним рядом зазорно?
— Вот это самое и они говорят…
— Кто, пап?
— Ну, забастовщики-то.
— Умники! — Мама подняла голову от шитья. — Заглаголили! И что это у тебя, Соня, вечно в голове? То тебе одно надо знать, то другое. И все какие-то вопросы неподходящие. А уж ты-то, Иван!
— А что ж я? — начал оправдываться отец. — Вон на Трехгорной мануфактуре забастовка была. Там листовки читали. Это же самое пишут: фабрики — рабочим, а землю — крестьянам. И правильно. Мужик землю пашет — ну и отдать ему землю. Рабочий на фабрике работает — ну отдать ему фабрику. А то как же получается? Одни работают, а другие денежку гребут лопатой.
— Так ведь то революционеры, это их работа! — рассердилась мама. — А ты-то при чем? Острога захотелось? Кабы ты сам с ними был… а то болтаешь только!
— А разве я не правду сказал?
— Ну вот! Толкуй с тобой!
— И я так думаю, Иван Михалыч, — сказала Анна Ивановна, отжимая последнюю простынку. — Все-таки ты круто поворачиваешь. Я сама до страсти врать не люблю. Ну, а только мужика с мещанином не сравнять. Мещанин, как ни говори, а все на ступеньку повыше. Мы, мещане, в земле не копаемся.
Соня во все глаза глядела на Анну Ивановну: она тоже мещанка! А чем же она лучше ее мамы? Да уж мама-то не сравнить — лучше!
— Конечно, что там говорить! — успокоила Анну Ивановну мама.
А отец не утерпел:
— А разве в земле копаться — позор какой? От земли-то и все счастье людям идет. Земля нас и кормит, и обувает, и одевает — что ж так на нее сердиться? В том-то и обида, что у нас труд за позор считается.
— Так-то так, — упрямо повторила Анна Ивановна, — а все-таки мужика сиволапого с мещанином не сравнять. Уж как ты хочешь!
Мама, чтобы прервать неприятный разговор, спросила мирным голосом:
— А где же это Кузьминишна у нас? С утра ушла и пропала.
— К какой-то подружке своей пошла, — уже перенося свое неудовольствие на Кузьминишну, ответила Анна Ивановна.
— Уж не случилось ли что, — сказала мама, — мало ли… Нынче вожатые так трамвай гонят!
— Чего там случилось? Небось к такой же запьянцовской пошла, ну и сидят, куликают.
Разговор переменился, и всем стало легче. Только Соня все сидела и думала и все старалась разобраться: почему же все-таки мужик последний человек на свете, если он весь мир кормит?
В это время открылась входная дверь, и появились Сонины подружки — Лизка, Оля и с ними Тая и Настя.
— Соня, порисуй что-нибудь, — сразу стала тараторить Оля. — Тая хочет посмотреть.
Тая молча глядела на Соню светлыми узкими глазами, в которых так и читалось: «Ты умеешь рисовать? Неужели?»
Соня не знала, что рисовать. Тая смущала ее. Тая была ровесница Сони, но держала себя так, будто была много старше. Тае и в голову не приходило, что все эти девчонки и мальчишки с Прокофьева двора, чумазые, стриженые, босые, могут ее не послушаться, что у них какая-то своя жизнь, свои думы, свои настроения.
— Ну что ж ты, рисуй! — сказала она Соне.
А Соне не хотелось рисовать. Что-то в голосе Таи сердило ее, вызывало протест. И все-таки она не смела противоречить, не умела отказать. Она взяла свою тетрадку и карандаш и нарисовала девочку в шляпке, с широким кушаком на платье… Ту девочку, которая стояла в церкви на коврике и которой Соня исподтишка любовалась тогда.
Тая удивилась. Насмешливая улыбка ее исчезла. Она глядела, как рисует Соня, не отрывая глаз.
— А теперь мальчика нарисуй, — сказала она.
Соня не любила рисовать мальчиков. Но все же нарисовала мальчика в матроске и в шапочке с лентами.
— Теперь нарисуй поезд, — сказала Тая.
— Мне не хочется поезд…
— Ну, нарисуй, нарисуй! Значит, ты не умеешь поезд?
Соня нарисовала поезд — паровоз и вереницу вагонов. Вспомнилась поездка за город, трава, цветы — белые звездочки… Соня нарисовала и траву, и цветы, и деревья.
— Теперь… — Тая задумалась, — нарисуй ангела.
— У меня больше бумаги нету.
— Ну, нарисуй, нарисуй! Уж бумаги и то нету! Ну, хоть маленького!
Но Соня устала, и ей не хотелось рисовать ангела.
Тая обиделась.
— Пойдемте играть! — позвала она Олю и Лизку. — Не хочет — не надо!
— Не хочет — не надо, подумаешь! — угодливо подхватила Оля и как чужая посмотрела на Соню своими блестящими голубыми глазами. Все ее розовое, чистое, как яичко, личико было совсем чужое.
Тая бросилась к двери, Оля за ней. Она даже обернулась и показала Соне язык. Лизка замедлила было шаг — она не знала, что ей делать: уйти — жалко подружку Соню; остаться — Тая не будет с ней водиться, ее не будут принимать в игру… Лизка поколебалась секунду и побежала за Таей.
У Сони закипали слезы от горькой обиды. Но она не заплакала. Заплачешь — мама спросит, почему. Сказать почему — маме будет обидно за Соню и так же горько, как ей. Уж лучше смолчать. Она взяла книжку — норвежские сказки, уселась к окошку и уткнулась в нее. Пускай ни мама, ни отец ничего не знают и не замечают.
Однако мама заметила:
— Что ж это подружки-то убежали?
— Ничего. Гулять пошли.
— А ты почему не пошла?
— Мне не хочется. У меня книжка интересная.
Соня чувствовала, что мама не поверила ей, но сознаться, что подруги обидели ее до слез, Соня ни за что не хотела…
Кузьминишна появилась лишь к вечеру. Она пришла в какой-то новой плисовой жакетке. У нее снова, появилась величавая осанка красивой женщины, но маленькие алые губы сжаты были горько и твердо.
— Душатка! — Анна Ивановна, сильно встревоженная ее отсутствием, даже руками всплеснула. — Ну где ж ты пропала! Я измучилась до страсти, думала — случилось что!
— Да и случилось! — Кузьминишна засмеялась своим звонким смехом. И не веселье было в этом смехе, а желание показать, что ей весело. — Ухожу от вас! Прощайте!
— Что так? Куда же?.. Никоновна, иди-ка сюда, послушай!
Мама поспешила к Анне Ивановне. Соня тоже соскочила со стула и побежала туда.
— Уходит куда-то! — сказала Анна Ивановна, кивая на Кузьминишну. — А куда? К какой родне?
— К Северьянову пойду жить, — беспечно объяснила Кузьминишна, — у него жена померла, скучает он.
— Это что же — подружки сосватали? — с горечью спросила Анна Ивановна. — Ой, батюшки!.. Ты бы, Никоновна, посмотрела на этого Северьянова! Рыжий, конопатый до страсти, пахнет от него за версту — кожами он торгует… Ой, близко бы не подошла!..
— Э, важность — конопатый, кожами пахнет! — отмахнулась Кузьминишна. — Зато денег много. Уж я-то ими, этими денежками, распоряжусь! Со мной не заскучают — эх, орелики! Счастье мне привалило, а вы головы повесили! Ну, скажите, Никоновна, можно так жить, как я здесь живу? Не могу я так жить, тоска меня в могилу загонит! Скучно мне так жить, не могу, не могу!.. Поверьте мне — не могу.
— Верю, — грустно сказала мама. — Если человек работой не занят и работу не любит, такому человеку везде скучно. Там, конечно, при богатстве, другое дело — пиры, наряды, забавы… Но надолго ли этого веселья хватит? Жалко мне вас, Кузьминишна, жалко, прямо скажу!
— А что делать, Никоновна? Ну что делать-то мне, придумай! Кого любила — в земле лежит. Да и жив был — жить с ним не дали. С другой был обвенчан. В неволе был — золотым кольцом закованный! Ну что мне теперь — рыжий, конопатый… А лучше, что ли, в этом углу сидеть, из братовых рук глядеть, просить на одежку, на сапожки… Нет! Не говорите мне ничего!
— Ничего не говорю, — тихо повторила мама, — только жалко, что ваша жизнь так печально сложилась. Замуж бы вам надо, семью, детей…
— Моя жизнь печальна? А ваша не печальна? — Темные бархатные глаза Кузьминишны засветились глубоким и недобрым светом. — Вы-то разве живете на свете? Что вы видите, кроме бадеек да коровьих хвостов? Что она видит, — Кузьминишна указала на Анну Ивановну, — кроме этих листьев своих, чтоб они сгорели! Какую такую радость особенную вам всем ваша работа дает? Кусок хлеба, да еще и без масла, — вот и все, что у вас есть! Весело, нечего сказать! И та, вон за стеной, — Кузьминишна кивнула на Раидину комнату, — с утра до ночи строчит, а платьишка хорошего нет в праздник надеть. Очень даже весело живете вы все! Работай, работай, всю жизнь работай — и всю жизнь за кусок хлеба. А я вот не хочу кусок хлеба глодать, я за барскими столами сидела, барское вино пила, скус его знаю. Эх, Никоновна, орелики! Не жалейте меня — моя жизнь с молодых лет загубленная!
Когда Кузьмич пришел с работы вечером, Кузьминишны уже не было. Она боялась брата. Лучше уйти из дому, пока он не видит. Ушла в чем была, ничего не взяла с собой. И дорогую зингеровскую машинку оставила Анне Ивановне за ее хлеб-соль.
Всем было грустно в этот вечер. Но все понимали, что для Кузьминишны уже нет другой дороги. Работать она не умела и не любила. Развращенная с юности праздной жизнью, она презирала и ненавидела бедность. Любой ценой — ценой чести, ценой совести, — только бы не работать, только бы жить беспечно и весело, не думая о завтрашнем дне.
Соня тоже сидела притихшая, опечаленная. Она любила Кузьминишну, любила ее песни. У нее всегда находилось для Сони веселое, ласковое словечко. Соня видела ее и пьяной и страшной, шатающейся по квартире в одной рубашке… И все-таки всегда помнила и видела ее другой — в шумящем платье из жесткого шелка, с высокой прической завитых волос, в перстнях и серьгах, с беззаботным взмахом белой руки, с улыбкой на румяных губах: «Эх, орелики!»
Трудная дружба
Рано утром Соня, как всегда, понесла молоко Бартонам. Опять в ясном воздухе гудели далекие гудки паровозов, вызывая неясное волнение души. Где-то за заборами цвели липы и сладкий запах мешался со свежестью утра. Дворники подметали улицу, тонкая пыль невысоко взлетала над булыжной мостовой, блестели под солнцем рельсы…
Соня бережно несла свой бидончик, смотрела кругом, прислушивалась к гудкам и радовалась летнему голубому утру. Но вспомнила вчерашнее: о том, что ушла Кузьминишна, о том, что подруги неизвестно почему не стали с ней водиться, о том, что не хорошо и не просто стало у них во дворе — и радость ее погасла. Столько чего-то нехорошего начинает примешиваться в ее ясную, беззаботную жизнь. И Соня не могла понять, почему это, откуда. Почему плохо стало у них Кузьминишне? Почему такие не простые и не добрые сестры Семеновы? Почему она, Соня, должна выполнять все их просьбы и капризы, почему они командуют во дворе? Потому что они богатые, потому что они мещане, потому что у них отец подрядчик, а у Сони отец и мама мужики?.. И, значит, так теперь будет всегда?
Жизнь вдруг показалась мрачной. Дни впереди грозили еще многими неожиданными неприятностями и постоянной обидой отвергнутого человека.
И снова вспомнилась Соне девочка Зоя с подтягинского двора, которую они прогнали за то, что у нее был дырявый платок и худые тапочки, вспомнилось, как торопливо и молча уходила она от них, не оглядываясь, понурив голову и крепко прижимая к себе свою большую куклу… А теперь вот так же остается одна и Соня.
Соня приближалась к дому, где жили Бартоны, и не знала, какая нечаянная, какая горячая радость ждет ее здесь. Как всегда, поднялась по лестнице, передала в полуоткрытую дверь бидончик с молоком и осталась ждать на прохладной каменной площадке. Вдруг бабушка Бартон открыла дверь и вместе с пустым бидончиком дала ей куклу — новенькую, румяную, с черными кудрями красавицу куколку!
— Это тебе, Соня, за то, что молоко носишь!
— Спасибо, — еле пролепетала Соня.
Дверь закрылась. Соня, не помня себя от счастья, машинально спустилась на несколько ступенек, но тут же села на каменную лестницу, поставив рядом бидончик. Ей необходимо было рассмотреть куколку, рассмотреть ее всю и поверить в то, что она действительно существует и что она действительно подарена ей.
Куколка была очень хороша. Она глядела на Соню добрыми карими глазками и улыбалась ей маленьким алым ртом, показывая крошечные блестящие зубки. Она была в батистовом розовом платье, которое можно снимать и надевать, в белых носочках и белых башмачках. Диво что за куколка была у Сони!
Радость была такая, что улица показалась праздничной. И если девчонки не станут водиться с Соней и принимать в игры, то ей теперь есть с кем играть и разговаривать!
Дорогой Соне пришла веселая мысль. А что, если сейчас она прямо с этой куколкой подойдет под окно той подтягинской девочки Зои и позовет ее играть?
«Зоя! — крикнет она ей. — Приходи ко мне! У меня теперь тоже есть кукла!»
И покажет ей свою красивую куколку. Да, так и надо сделать. Зоя откроет окно, и они помирятся. А потом Соня встретит ее у ворот и они пойдут играть в верхние сени.
Вдвоем они не заплачут!
Прижимая к груди свою куколку и размахивая бидончиком, Соня вошла во двор. Сейчас отнесет бидончик… Нет, даже не будет относить, а побежит прямо к Зое!

Соня подбежала под окно, позвала Зою. Но что-то это небольшое, слегка покосившееся окошко было слишком плотно закрыто и пестрая занавеска задернута. Никого дома нет, что ли?
Соня покричала еще — а может, Зоя спит?
Тут занавеска отодвинулась, окно приоткрылось. Выглянула худощавая женщина с бледным, измученным лицом:
— Тебе чего, девочка?
— Я Зою зову… Играть.
— Зоя больная лежит… — Женщина печально покачала головой. — Вряд ли ей когда придется поиграть с тобой…
Лицо ее вдруг задрожало, и она поспешно задернула занавеску.
Соня медленно направилась домой. Она еще нежней прижалась щекой к своей куколке — теперь это ее единственная подружка, которая будет всегда с ней.
На другой день Соня, полная горячей благодарности, понесла молоко Бартонам. Но, когда она постучала, открыла какая-то незнакомая женщина и сказала, что Бартоны уехали.
Мама, встревоженная, побежала узнать: как же так? Как же они могли так уехать — ведь они должны ей целых восемь рублей! Но уехали — и все. Целую весну носили им молоко даром — откупились Сониной куколкой.
Маме в последнее время нездоровилось. Как будто ничего не болело, но силы у нее падали. Она еле додаивала коров, еле домывала бидоны. Часто ложилась полежать, потому что не было мочи.
— Сходи к доктору, что ли, — сказал отец. — Что ж ты так припадаешь!
Но мама отмахивалась:
— Доктору деньги платить нужно.
Соня тревожилась за маму. Когда мама ложилась на постель среди дня, сразу как-то печально становилось в квартире.
Соня выходила со своей куколкой во двор. Если Семеновых не было во дворе, старые друзья тотчас окружали Соню — Коська, Лизка, молчаливая Матреша. Подсаживалась и Оля, но Соня отворачивалась от нее.
— Я с тобой вожусь, чего ты? — говорила Оля, глядя на Соню голубыми, словно стеклянными немигающими глазами. — Дай куколку подержать, а?
Они играли в камушки, в «классы». Лизка не отходила от Сони, по-прежнему весело хрипела и смеялась и готова была все сделать, что Соня скажет. И Соня, будто и не было ничего плохого между ними, беззаботно играла с подругами.
Но, смеясь и бегая по двору, Соня все-таки чувствовала какую-то подспудную тоску и тревогу. Вот сейчас выйдет Тая — и все изменится. Если Тая захочет, девочки будут играть с Соней; а если нет, то все убегут от нее.
И вот вышла Тая, беленькая, с ямочками на щеках, с пепельно-светлыми косами. И сразу замедлилась и расстроилась игра. Оля водила в салочки, но она тут же бросила игру и подбежала к Тае.
— У Соньки кукла — воображает! Подумаешь, какая кукла! Если бы глаза закрывались!..
Лизка тоже сразу притихла, примолкла и не знает, что ей делать — может, отвернуться от Сони, будто она и не играла с ней?
А Тая вдруг подошла к Соне и сказала:
— Хочешь, пойдем к нам?
Соня растерялась. Она боялась идти к Тае — уж очень гордая и недобрая была у них мать. Но и отказаться боялась — тогда уж Тая совсем обидится.
— Пойдем, — тихо ответила она.
Вслед за ними побежала и румяная Настя. Она старалась не отставать от сестры: куда Тая, туда и она; что скажет Тая, то и она.
Соня с робостью вошла в квартиру Семеновых. Кухня чем-то напоминала кухню Селиверстовых: та же кафельная печка, так же чисто промытый пол… Но как хорошо, как весело и уютно было ей у Шуры Селиверстовой и как сжалась она вся, входя сюда вслед за Таей!
— Это что же — начинаются
подружки? — спросила Таина мать, взглянув на Соню узкими насмешливыми глазами. — Где ж у тебя косы, подружка?
Соня опустила глаза. Мама недавно остригла ее, и теперь волосы только отрастали. Соня очень любила косы, но они у нее росли слишком тонкие и слабые, и это ее всегда втайне мучило. А Таина мать, словно угадав это, продолжала подсмеиваться:
— Не то девочка, не то мальчик! Что ж это мать так тебя оболванила? Или некогда ей тебя причесать? А может, она думает, что это очень красиво?
Соню поразила эта враждебность в ее словах, в ее голосе. Ей больно было, что эта чужая женщина так нехорошо говорит о ее маме. Сердится она на нее, что ли? Но за что? Мама ни с кем никогда не ссорится во дворе, всем кланяется, никому не говорит плохого слова…
Соня не сумела выразить своих горьких чувств и недоумения. Она молча слушала, опустив глаза, и теребила поясок своего ситцевого платья.
— Она рисовать умеет, — сказала Тая.
И Соня вдруг услышала, что голос у Таи такой же, как у ее матери: вот и ничего плохого не говорит пока, а уже слушать ее обидно.
Тая сейчас же принесла альбом с толстой желтоватой бумагой и толстый черный карандаш.
— На вот. Нарисуй что-нибудь… Мама, смотри, она сейчас нарисует!
— Воображаю, что она там нарисует! — отозвалась мать.
Соня потихоньку огляделась. Большой стол, накрытый скатертью, — будто в праздник. Киот с иконами и с разноцветными лампадами. На темных обоях две большие картины — какие-то горы, заросшие лесом, в ущелье бежит ручей, а над ручьем, с горы на гору, перекинут тонкий, провисший мост… Соня уставилась на этот мостик, висящий так высоко над бурной водой. Как, наверное, страшно идти по такому мосту!
— Ну, рисуй, — повторила Тая.
Соня стала рисовать. Нарисовала цветы в вазе, чертика в трубочке — почему-то он ей вспомнился. Нарисовала шарманщика с шарманкой и с попугаем…
Тая внимательно и серьезно следила за Сониным карандашом. Потом взяла карандаш и тоже стала рисовать. Но, что бы она ни начинала, ничего у нее не получалось, просто каракули какие-то выходили. Она скомкала свой лист бумаги и опять стала смотреть, как рисует Соня.
— А это теперь что? — спросила она у Сони.
— Это сказка, — ответила Соня, почуяв что-то дружелюбное и уважительное в ее голосе. — Это про Хромую уточку… Как бабушка и дедушка нашли гнездышко…
— Я знаю эту сказку.
— И я знаю! — подхватила Настя, которая, забравшись с ногами на стул, тоже смотрела, как рисует Соня. — Это девочка пошла за водой, да?
— Да. А это из-за угла на нее дед с бабкой смотрят.
Тая долго молчала, не спуская глаз с Сониного карандаша.
— Ой, как это ты умеешь? — наконец вырвалось у нее. — Хорошо до чего! Как это ты делаешь, а?
— Не знаю, — улыбнувшись, ответила Соня.
Она уже чувствовала себя веселой и свободной. Тая заговорила с ней, как с подругой, без всякой насмешки.
— А как же ты не знаешь?
— Так, не знаю. Рисую — и все.
— Так она тебе и скажет! — вдруг вмешалась Таина мать. — А вдруг ты лучше сумеешь? Это же ей невыгодно!
Соня ничего не поняла — что она не скажет и что ей невыгодно — но снова вся съежилась от той беспричинной недоброжелательности, которая звучала в голосе этой женщины. А женщина отложила шитье — она пришивала кружева к рубашке, и Соня заметила это: вот какие богатые, у них рубашки с кружевами! — и подошла к столу. Сонины рисунки, видимо, удивили ее, она некоторое время молча смотрела на них.
— Мам, правда хорошо? — сказала Тая. — Правда же?
— Недурно для девочки, — снисходительно ответила мать.
И тут же, словно желая отомстить за своих дочерей, которые не умеют рисовать, она усмехнулась своей кривой усмешкой:
— А для чего тебе это — кормушки коровам разрисовывать? А? Удивительно все-таки, как некоторые люди плохо знают свое место. У коровницы дочка рисует! А зачем ей это?
Соня молчала.
— Ну что же ты? Может, вывески будешь писать? Что ж, годится. Глядишь — заработок!
— На лестницу влезет и будет вывески рисовать! — закричала Настя и начала смеяться.
Это показалось так смешно: Соня стоит на высокой лестнице и толстой кистью малюет вывеску, — что Таина мать тоже рассмеялась, а за ней и Тая.
Смех веселит людей, от смеха люди делаются проще и добрее. Но здесь был не такой смех: это был смех недобрый, язвительный. Соня молча встала из-за стола и пошла к двери.
— Уж и обиделась! Подумаешь! — крикнула ей вслед Тая.
— Всякая гольтепа тоже еще и обижается! — сказала с удивлением ее мать. — Подумайте, что о себе вообра…
Соня дальше не слышала, дверь за ней закрылась. Она сбежала с лестницы и в тяжелом настроении пошла домой. Она поняла, что, может, Тая и Настя стали бы ей подругами, но их мать никогда этого не допустит, потому что Соня для них — гольтепа, и все, весь их двор, для них гольтепа… Только за что же она, эта женщина, на них на всех так злится?
Соня пришла домой пасмурная, с затаенной грустью. И, еще не размышляя, не умея думать о жизни, Соня как-то смутно предчувствовала, что жить ей на свете будет нелегко, что впереди еще полно обид и тайных горестей. И так будет всегда. Тая и Настя будут командовать во дворе: то примут Соню в игру, то не примут… И всегда у Сони будет болеть душа от неприятных предчувствий при каждом наступающем дне.
Ей было душно, родной двор становился почти враждебным. Соня в нем занимала такое маленькое и такое ненадежное место. И почему все так? За что?
А дома ее встретила неожиданная новость. Мама наконец была у доктора. И доктор сказал, что ей надо поехать в деревню, походить босиком по утренней росистой траве, попить зверобою. И отец с мамой решили, что доктора следует слушаться и маме в деревню придется поехать.
— А как же ты тут с коровами-то? — все повторяла мама. — Не управишься ты…
— Эко, не управлюсь! — отвечал отец. — Подою не хуже тебя. И накормлю и напою — все сделаю!
— А сам как будешь? Есть-то что — всухомятку?
— Сварю, не тужи. Не варил, что ли!.. Ну, Софья, собирайся в деревню! — сказал отец, когда Соня вошла в комнату.
Соня поглядела на отца, на маму. Шутят? Деревня всегда казалась Соне той волшебной страной, той неведомой и заманчивой страной, куда уходят гудящие по утрам поезда. Ей даже и в голову не приходило, что она когда-нибудь может попасть в лес или на реку… И вдруг: собирайся в деревню!
А может, они нарочно?!
— Правда, правда, — успокоила ее мама. — Собирай своих кукол в дорогу, «барынек» своих. Послезавтра поедем.
Соню охватило горячее счастье, будто река радости залила ее. Она не помнила, как прожила эти два дня. Воспоминание о Тае, о ее матери слегка ранило сердце, но Соня старалась забыть о них. Прибежала к ней Лизка, сидела около нее, помогала ей собирать и одевать куклу. Вместе решали, что взять с собой, каких «барынек» повезти. Будто и не ссорились они с Лизкой, будто и не убегала Лизка от Сони.
Лизка, прощаясь с ней, задумалась.
— Ты уедешь… — прохрипела она уже стоя у двери, — а я с кем?
— С Таей, — не утерпела Соня, чтобы не съязвить.
— Да, с Таей! Она когда водится, когда нет. Хорошо, думаешь?
Соня промолчала. Она знала, что это нехорошо. Но им обеим и в голову не приходило, что они могли бы дружно держаться вместе и не подчиняться Тае. Но разве можно ссориться с Семеновыми? Они богатые!
Куда зовут паровозы
Мама укладывала вещи в белую плетеную корзинку, похожую на сундучок. Соня уложила платья своей куколки отдельно, в деревянный ящичек. «Барынек» Соня тоже взяла — отобрала самых добрых и милых. «Барыньки» поместились в коробке из-под конфет. Эту коробку когда-то давно ей подарила Дунечка, и поэтому Соня берегла ее. Да и картинка на коробке очень нравилась Соне — там на густой еловой ветке висела серебряная подкова и серебряными буквами было написано: «На счастье».
Отец утром, сразу после чая, пошел за извозчиком. Соня поспешно одела свою куколку Герду в красное пальтецо и синюю шапочку и сама оделась. Она сидела в своей белой с голубой подкладкой панаме, с куклой на руках и ждала. Сердце билось и дрожало, глаза расширялись от волнения.
— Что это глаза-то как вытаращила? — улыбнулась мама.
Но Соня будто не слышала. Почему это папы так долго нет? Ведь они могут опоздать на поезд!
— Поглядите тут за мужиком-то, — попросила мама Анну Ивановну. — Голодный насидится — такой он у меня беспомощный! Около хлеба будет сидеть — отрезать не догадается.
— Погляжу, погляжу! — успокоила ее Анна Ивановна. — Сама сварю. Не все ли равно — на двоих или на троих сварить!
— А с печкой-то справитесь?
— Ну, вот еще, хитрое дело!
Пришла прощаться Раида, худенькая, бледная, усталая.
— Ох, Никоновна, взяли бы вы и меня с собой! — сказала она. — Уж сколько я лет по траве не ходила!
Прибежала Лизка проводить Соню. Неожиданно, стесняясь и задевая за углы, в комнату просочился Коська. Он встал у двери и молча глядел на перевязанную веревкой белую корзинку, на Соню, сидящую в панаме. Вдруг дверь с шумом открылась, и появился чумазый, с синяком под глазом Ванюшка — Лук-Зеленый.
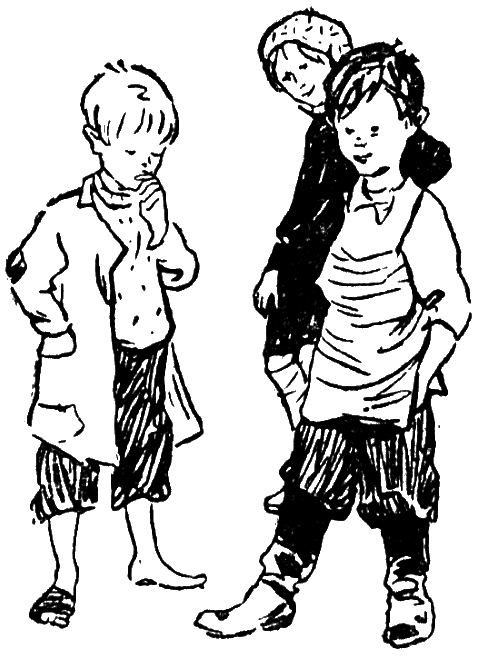
— Лизка, ты здесь?
— А чего тебе? — огрызнулась Лизка. — Ну, здесь.
— Мать зовет, да? — спросила Соня.
— Не! — Ванюшка весело подмигнул подбитым глазом. — Их никого дома нету.
— С утра — уже и дома нету? — удивилась мама.
— А их еще вчера всех вихрем закрутило!
— Глаз-то тебе кто подбил?
— Кто же еще? Хозяин. Хотел по голове, а попал по глазу.
Ваня все старался посмеиваться, старался показать, что ему все нипочем. Но у него это плохо получалось — уж очень он был бледный и замученный. На минутку он перестал усмехаться, задумался.
— У нас в деревне во ржи перепелов много… — сказал он, ни на кого не глядя, — прямо хоть руками лови. И речка тоже… Хорошая речка! Купайся с утра до ночи.
— Что ж, в Москве, значит, лучше? — спросила мама. — Бросил деревню-то!..
— Не, я не бросил. Отец помер, надо деньги зарабатывать. А мать откуда возьмет? А я бы разве бросил… Да тут тоже ничего! — Ванюшка встряхнулся и снова принял бодрый вид. — Только вот хозяин дюже дерется.
— Ты что же, Лизка, за него не заступаешься? — сказала мама, с жалостью глядя на Ванюшку. — Совсем ведь его забьет твой отец-то!
— Попробуй заступись! — проворчала Лизка. — Живо колодкой заработаешь. Он сразу колодкой в человека швыряет.
— Ох, всех бы я вас забрала с собой! — вздохнула мама. — Какие-то вы все зеленые… На речку бы вас, на лужок, цветов пособирать!..
На улице послышался топот копыт, подъехала пролетка.
— Приехал! — крикнула Соня.
Она вскочила, крепче прижала к себе куколку. Мама надела свою черную праздничную жакетку на шелковой подкладке и с шелковой тесьмой, накинула на голову косынку.
— Готовы? — спросил отец входя.
Он взял корзинку и понес к извозчику. Мама простилась с жильцами, взяла Соню за руку, и они пошли из квартиры. Лизка, Коська и Лук-Зеленый молча последовали за ними. Соня едет в деревню! В деревню! Далеко, туда, где шумят леса, растут цветы на лугу, поют птицы, зреет в траве ягода земляника, куда своими протяжными гудками зовут по утрам паровозы…
Соня была рада, что Лизка здесь, и Коська, и Лук-Зеленый. Дружба, значит, все-таки осталась. И как бы все было хорошо, если бы не Тая!
Воспоминание о Тае отравило хорошие, взволнованные минуты. Соня влезла на пролетку, уселась рядом с мамой и схватилась за ее рукав, чтобы не упасть.
— Прощайте! — крикнула она ребятам.
Отец поехал их провожать. Он кое-как примостился сбоку. Извозчик тронул лошадь, и она побежала с места привычной неторопливой рысцой. Соня хотела еще раз оглянуться на ребят, но мешал откинутый верх пролетки. А Лизка, и Коська, и Лук-Зеленый еще долго стояли у ворот и молча глядели вслед.
Отец сошел на повороте Второй Мещанской. Дальше ехать он не мог — надо было идти к коровам. Он теперь должен работать за двоих, а на это и времени надо вдвое больше.
— Цветы поливать не забывай, — наказала мама уж в который раз. — Красотку получше выдаивай — она тугая. Обед себе вари. Да язык-то свой придерживай, Христа ради!
Отец простился с ними и пошел домой. А они поехали дальше, на вокзал, туда, где каждый день гудят поезда и зовут, зовут и тревожат сердце, обещая множество неведомых и нечаянных радостей.

Примечания
1
Саламата — заварное тесто.
(обратно)
2
По Владимирской дороге отправляли в царское время арестантов в Сибирь.
(обратно)
3
Яр — в то время ресторан, в котором гуляли богачи.
(обратно)
Оглавление
Утро
Жильцы
Соня заблудилась
Свалка
Гроза
Шура
Вода пришла
Высокие каблуки
Вечер во дворе
Олененочек
Девочка с куклой
Первые буквы
Листья желтеют
Первая разлука
В школу
Раздор в квартире
На улице дождь
Первая книга
Перед праздником
Праздник
Соня теряет друга
Елка в школе
Опять Осип Петрович
Волшебный фонарь
Зловещая весна
Осип Петрович кается
«Верба»
Мрачные дни
Церковная тягота
Случай во дворе
Скандал
Кузьминишна
Весна
Лупинус
Кукла, которую обещали
Новые подруги
Кузьминишна уходит
Трудная дружба
Куда зовут паровозы
*** Примечания ***