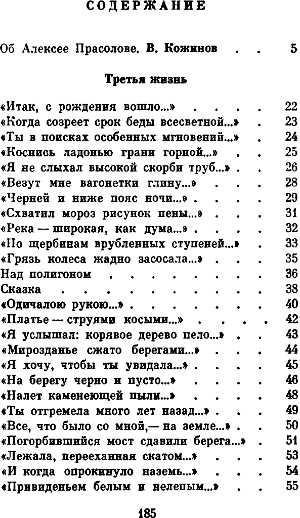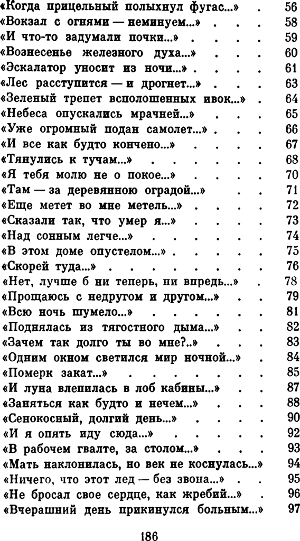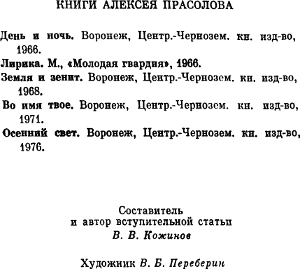АЛЕКСЕЙ ПРАСОЛОВ
СТИХОТВОРЕНИЯ
Об Алексее Прасолове (1930—1972). Вадим Кожинов
Сегодня имя поэта Алексея Прасолова известно не очень широким кругам читателей. Но если когда-нибудь возникнет мысль об издании книги, включающей в себя наиболее значительные образцы лирической поэзии нашего времени, в эту книгу — как бы мало в ней ни оказалось имен — должны будут войти лучшие стихотворения Алексея Прасолова.
* * *
Алексей Тимофеевич Прасолов родился 13 октября 1930 года в селе Ивановка под Россошью, в крестьянской семье. Когда он был еще ребенком, отец оставил семью.
В отроческие годы поэта по его родным местам и по его собственной жизни всей своей страшной тяжестью прокатилась война.
После войны Алексей Прасолов окончил Россошанское педагогическое училище, преподавал в школе, а затем перешел на газетную работу. Писать стихи он начал рано. Первым оценил его поэтическую одаренность — еще в 1949 году — тогдашний редактор россошанской районной газеты «Заря коммунизма» Б. И. Стукалин. По его инициативе юношеские стихи Прасолова публиковались сначала в россошанской, а затем в воронежской газете «Молодой коммунар».
Более или менее «профессиональным» писателем Алексей Прасолов смог сделаться лишь через два десятилетия, в последние годы жизни. В 1950—1960-х годах он занимал разные должности (начиная с корректора) во многих городских и сельских газетах Воронежской области, а также печатал в них многочисленные очерки, рассказы, фельетоны.
С 1961-го по 1964-й год он проработал на рудниках и стройках.
В 1964 году стихи поэта были опубликованы Твардовским в «Новом мире». Через два года в Воронеже выходит его книга «День и ночь», а в Москве, в «Молодой гвардии», — небольшой сборник «Лирика». Затем в Воронеже были изданы еще две книги — «Земля и зенит» (1968) и «Во имя твое» (1971).
2 февраля 1972 года Алексей Прасолов ушел из жизни..
* * *
Четырнадцать лет назад меня не только заинтересовало, но и несколько даже удивило появление в «Новом мире» большой подборки стихотворений неведомого воронежского поэта (до этого стихи Прасолова публиковались только в местной печати и едва ли были известны кому-либо, кроме его земляков). Было ясно, что стихи написаны по-настоящему значительным, глубоко мыслящим и сильно чувствующим человеком. И все же не могу не признаться, что не понял тогда главного: в литературу пришел подлинный поэт. Я видел в его стихах сильные, яркие, полные смысла строки, но не разглядел того целостного поэтического мира, который уже созрел в душе их создателя. Стихи, взятые в целом, воспринимались как нечто прозаичное, несколько даже рассудочное и лишенное того высокого артистизма, без которого не бывает истинной поэзии.
Раскрыв давний, с уже выцветшей обложкой номер «Нового мира», можно убедиться, что с формальной точки зрения этот вывод, вероятно, понятен. В круг
зрелых произведений Алексея Прасолова может войти из тех десяти всего только одно стихотворение, да и то с некоторыми оговорками.
Но вместе с тем теперь ясно, что
поэта вполне можно было бы увидеть и в тех стихах, и горестно думать о своей тогдашней незрячести. Я не разыскивал новых стихотворений Алексея Прасолова (а ведь вскоре вышли сразу две его книги), не думал о нем, хотя подчас и слышал его имя и не забывал о той журнальной подборке.
Лишь в 1976 году я снова встретился с его стихами — чтобы уже не расставаться с ними. Зная поэтический путь Алексея Прасолова в целом, я понимаю, что стихи, появившиеся в «Новом мире», были созданы на самом пороге творческой зрелости поэта.
* * *
И вот встает вопрос. Обширный цикл стихотворений в «Новом мире», четыре книги, притом одна московская, подборка стихов в «Литературной газете» (1968) и т. д. Неужели всего этого было недостаточно для настоящего «открытия» поэта еще при его жизни? К тому же книги Алексея Прасолова вызвали ряд весьма положительных откликов в печати — в том числе и центральной (см., например, «Комсомольскую правду» от 7 сентября 1967 г.).
И все же поэт не обрел того подлинного признания, которое, казалось бы, с необходимостью и уже давно должны были вызвать его лучшие стихотворения.
В последнее время были опубликованы разного рода материалы, свидетельствующие, что признание, о котором я говорю, настает
[1].
Столкнувшись со всеми этими фактами, не без горечи думаешь о власти случая, о какой-то обескураживающей собственной глухоте: рядом с нами глубоко и напряженно творит наш ровесник, а мы в течение долгих лет не слышим его.
Впрочем, правомерно и совсем другое суждение: у Алексея Прасолова, как и у каждого подлинного поэта, есть своя особенная судьба, и стихам его приходит черед именно тогда, когда это
должно было совершиться; поэт вовсе не страдал от «непризнания» и, более того, ушел из жизни, уже
осуществив то, к чему он был призван…
Сам Алексей Прасолов писал в стихах, начинающихся строками «Опять мучительно возник Передо мною мой двойник», — стихах, где речь шла о самом себе, по, так сказать, в
роли творца:
И вот он медленно встает —
И тот как будто и не тот:
Во взгляде — чувство дали,
Когда сегодня одного,
Как обреченного, его
На исповедь позвали.
И, сделав шаг в своем углу
К исповедальному столу,
Прикрыл он дверь покрепче,
И сам он думает едва ль,
Что вдруг услышат близь и даль
То, что сейчас он шепчет.
Да,
поэт Прасолов мог и не думать о том, услышат ли его «близь и даль». Но
человек Алексей Тимофеевич Прасолов, мне кажется, все же никак не мог не думать об этом…
Известный литературовед и критик воронежец А. М. Абрамов в 1966–1967 годах записал несколько своих бесед с Алексеем Прасоловым.
Поэт, в частности, рассказывал ему (3 января 1966 года), как незадолго до того в одном московском издательстве ему заявили, что в поэзии «надо стремиться идти по столбовой дороге, а не по обочине», что у него «несовременный стих» и т. п.
Тогда, в середине 1960-х годов, в литературных кругах еще преобладало убеждение, что именно «по обочине» и в отрыве от «современного стиха» идут и такие поэты, как Николай Рубцов, Владимир Соколов, Николай Тряпкин…
Но с лирикой Прасолова дело обстояло в известном смысле еще сложнее. В том же издательстве от него потребовали: «Рассказывайте о фактах, не философствуйте».
Между тем еще за два с лишним года до этого разговора в издательстве — 16 мая 1963 года — Алексей Прасолов писал критику И. И. Ростовцевой, сыгравшей большую роль в судьбе поэта:
«Никогда блестяще сделанные кем-то (даже большим) „фактические“ стихи я не любил и не принимал так, как те, в которых „сердце говорит“».
Заметим, что это написано тогда, когда Алексей Прасолов еще только готовился перешагнуть рубеж зрелости. Вскоре (4 июля 1963 года) он пишет, как бы разъясняя свою творческую позицию: «Об эпическом начале. Я не раз анализировал написанное, вернее, его характер. У меня было больше этого — эпического. А душа тосковала по глубокой, мудрой и высокой лирике… Надо научиться говорить коротко, емко и — в малом — законченно… У Тютчева нет от эпоса? Как бы не так».
Наконец, нельзя не привести замечательные суждения Алексея Прасолова об одном вроде бы уже сложившемся и все-таки беспощадно отброшенном его созревшим творческим самосознанием замысле. Он писал (27 ноября 1963 года):
«Вчера слышал Робертино (популярный тогда итальянский мальчик-певец. — В. К.). Пел о маме. Я многое видел — из того, что мне нужно. В его голосе звучала неведомая и дорогая страна. До сих пор ощущаю ее. А в моем минувшем — 12-летний мальчик (речь идет о судьбе самого поэта. — В. К.) среди страшно обмороженных итальянцев 1942 года, мальчик, дышащий в хате смрадным запахом обмороженного южного тела, мальчик, стоящий у дороги, по которой трое русских сопровождают полуторатысячную колонну изможденных, падающих на снег когда-то великих римлян…»
Но всего через десять дней, получив ответное письмо, он сообщает (8 декабря 1963 года):
«О Робертино и 1942 годе стиха не будет… Когда сводишь яркие и жестокие явления, возникает некое поэтическое магнитное поле, появляется зуд — ах, написать бы! И будут правильные, умные стихи. Мне этого не нужно. Мне нужно не сравнение двух жизней, а — третье».
О «третьем» еще будет речь. Хочу прежде сказать о том, что несозданное Прасоловым стихотворение, по всей вероятности, имело бы успех. Но он настойчиво искал свое и стал писать другие стихи, которые не привлекали сколько-нибудь широкого внимания. В частности, после первой большой подборки в «Новом мире» при жизни поэта появилось в этом журнале всего лишь одно — притом как раз более или менее «фактическое» — стихотворение Прасолова «Мост» (1966, № 3). Рассказывая (в письме от 5 октября 1965 года), что новый цикл его стихотворений отвергнут, поэт восклицал: «Почему меня все хотят столкнуть именно с той колеи, которую я начал?..»
Впрочем, Алексея Прасолова явно было невозможно «столкнуть» с его «колеи». Он писал (16 января 1966 года):
«Я не стал изменять тому, что было в прежних серьезных стихах… Удивительно: когда я отрешаюсь от предметных деталей мира, которые часто используют для создания образа, когда по ходу мысли использую только очень скупо взятую предметность, мысль приводит другую по какой-то цепной реакции. И наоборот: даже сильные внешние детали глушат основное».
Написав об этом, Прасолов тут же сделал очень важную оговорку:
«Я знаю, как легко и незаметно высокий настрой может перейти в велеречивость. Поэтому беспрерывно слежу и балансирую, как на лезвии, чтобы обрести свое в равновесии».
Думаю, что уже из этих признаний ясно, какие труднейшие творческие цели ставил перед собой поэт. И нельзя не сказать здесь о том, что его жизнь в поэзии была органически связана, была едина со всем его человеческим существом. Это очевидно выразилось в интересном наблюдении А. М. Абрамова, записанном им 4 июня 1966 года:
«Передать разговор Прасолова очень трудно… Если у большинства людей разговор — это путь по земле, шаганье по дороге, по полю, по асфальту, то его разговор — это всегда шаги по сваям над пропастью».
Вдумываясь в эту дневниковую запись, зафиксировавшую непосредственное впечатление собеседника, понимаешь, насколько были родственны обычная повседневная речь (которая представляет собой одно из существеннейших проявлений личности) Алексея Прасолова и его стихотворения.
* * *
Теперь уже, кажется, можно сделать очень важный для уяснения литературной судьбы Алексея Прасолова вывод. Его лирика решала труднейшие творческие задачи и, естественно, оказывалась
трудной для читателя — для восприятия и тем более понимания.
Творчество Алексея Прасолова принадлежит к той сфере, которую обычно называют «философской лирикой». Термин этот, надо прямо сказать, весьма расплывчат и даже, если угодно, коварен. Ибо в рубрику «философской лирики» попадают и подлинно глубокие поэтические творения, и зарифмованные рассуждения о тех или иных «всеобщих» проблемах.
Сошлюсь еще раз на непосредственное наблюдение А. М. Абрамова:
«В отличие от тех, кто философствует в поэзии и часто философствует как-то деланно, специально (есть такая беда, мне кажется, и в стихах В-ва), Прасолов размышляет всерьез… Это философия от жизни».
А теперь — слова самого поэта:
«У человека нужно время от времени отнимать лишнее, приводя его к основам существования. Иначе он загниет изнутри от излишества мира и перестанет чувствовать его цену…»
В лирике Прасолова — в лучших его стихах — всегда осязаются «основы существования» и истинная «цена» мира. Развивая свою мысль дальше, он говорил:
«Кто умеет держать душу „в черном теле“, тот и живет. Но какой дурак в наш век откажет себе во внешнем благополучии, чтобы дать своей душе почувствовать свою первородную связь с миром?..
Пусть я ничего не сделаю — я буду честней, чем сделал бы то, что не просвечено природным чувством, природной мыслью, хотя бы просто природным сильным умом, а не выдрессированным интеллектом современника».
Или как писал он в другом письме:
«Не могу принять полностью чересчур утонченную жизнь, оторванную от земли и хлеба».
Это вовсе не значит, что он в каком-то смысле изгонял от своих стихов «утонченность». Но его стихи никогда не забывают о земных корнях утонченной мысли и чувства.
И еще одно принципиальное положение о творчестве (из письма от 21 сентября 1965 года):
«Мне нужно всегда отрешиться прежде от всяких мнений, от „литературы“».
В приведенных высказываниях поэта не трудно увидеть противоречие — притом достаточно острое. С одной стороны, он против «фактических» стихов, он говорит, что достигает своей цели лишь тогда, когда «отрешается» от «предметности» мира, — и в то же время он безусловно настаивает на необходимости «первородной связи с миром» и «природности» мысли и чувства, не принимает «оторванность от земли и хлеба».
Но это реальное и плодотворное противоречие, лежащее в самой основе лирики Прасолова. Правда, сила и ценность его творчества не в самом по себе этом противоречии, но в способности поэта утвердить «равновесие», способности, по его собственному определению, — пожалуй, несколько вычурному — «балансировать, как на лезвии».
Но отсюда и возникает трудность восприятия и понимания поэзии Прасолова, ибо ведь и ее читатель в какой-то мере должен быть способен «балансировать, как на лезвии».
Иначе какая-нибудь из сторон противоречия «перевесит», и стихи предстанут либо как чрезмерно земные, прозаичные, либо, наоборот, как слишком отвлеченные, «велеречивые».
Вот, скажем, прасоловские стихи о Галине Улановой «Прощаюсь с недругом и другом…» (оно не из самых лучших, но в нем наглядно выступает то, о чем я говорю.) Оно может быть воспринято и как слишком «заземленное» («в первый раз свое почувствовала тело», «аплодисментов потный плеск» и т. п.), и, напротив, как «велеречивое» и чрезмерно «романтическое» (о том же теле балерины — «как ему покорны души!», «и вот лечу, и вот несу все, с чем вовеки не расстанусь» и т. д.).
Мне уже приходилось сталкиваться и с тем, и с другим представлением о лирике Алексея Прасолова.
Но у настоящей поэзии есть удивительное свойство: с течением времени она как бы сама раскрывает себя. Возможно, дело не в поэзии, а в читателях, которые лишь со временем открывают для себя ранее невнятные для них ценности. Но ведь поэт-то так или иначе
предвидит, что его творчество в конце концов будет «открыто»,
Что вдруг услышат близь и даль
То, что сейчас он шепчет…
Следует, впрочем, сказать о том, что стихи Алексея Прасолова нельзя читать между делом, для отдыха и развлечения. Их нужно
пережить.
Художественный смысл поэзии Алексея Прасолова сложен и богат. О нем не скажешь на нескольких страничках. Но об одном — может быть, существеннейшем — моменте нельзя не упомянуть здесь. Алексей Прасолов стремился освоить, осмыслить, понять (конечно, понять
поэтически) мир во всей его цельности, во всем его противоречивом единстве.
Этот творческий замах подчас выражался совсем открыто, скажем, даже в названии книги поэта: «Земля и зенит». К стихам Алексея Прасолова подошли бы и такие заголовки: «Тело и душа», «Быт и бытие»…
Вообще-то к целостному освоению мира стремится так или иначе вся серьезная поэзия. Но как редки достижения на этом пути! Попытки охватить цельность мира сплошь и рядом оборачиваются абстрактной риторикой или хаотическим нагромождением образов.
Поэтический мир Алексея Прасолова победно сопрягает крайние точки мировой «вертикали» — от небесного зенита до земных глубин. Своего рода модель этого мира можно видеть в прасоловском образе не замерзающего зимой озера:
…И я опять иду сюда,
Томимый тягой первородной.
И тихо в пропасти холодной
К лицу приблизилась звезда.
Уже, так сказать, чисто символическая, неощущаемая как материальное явление звезда приближается к человеческому лицу в холодной пропасти озера — таково одно из характерных выражений поэтического мира Прасолова.
Или другой пример — в стихотворении о весне («И что-то задумали почки…»):
…И с неба, как будто считая,
Лучом по стволам провело,
И капли стеклянные нижет,
Чтоб градом осыпать потом,
И, юное, в щеки мне дышит
Холодным смеющимся ртом.
В безличном «существе» весны сопряжены как бы только угадываемый (символический) небесный луч, пересчитывающий деревья, и телесно осязаемое дыхание.
Подобное же органическое сочетание наблюдаем и в стихотворении «Вознесенье железного духа…», где
Крепко всажена в кресло старуха,
Словно ей в небеса — не на час, —
и в то же время она
Как праматерь, глядит из окна…
…И подвержено все без раздела
Одобренью ее и суду.
Для поэзии Алексея Прасолова, осмысляющей целостность мира, словно вообще не существуют многие противоречия, которые стали камнем преткновения для других поэтов — противоречия природы и техники («Аэропорт перенесли…»), душевной непосредственности и интеллектуальности («Мать наклонилась, но век не коснулась…»), житейской прозы и возвышенных идеалов («Заняться как будто и нечем…») и т. п.
Нет нужды доказывать, что эта способность воплотить цельный смысл мира — способность, которая, конечно, оплачена всей жизнью поэта — чрезвычайно важна и ценна.
* * *
Я не пишу статью «критического» характера. И все же не могу не отметить, что — если говорить по самому большому счету, диктуемому поэтической классикой, — меня удовлетворяет в наследии Алексея Прасолова далеко не все.
Во-первых, поэт не всегда обретал то «равновесие» земного и духовного, о котором он сам говорил и к которому так упорно, я бы сказал, героически стремился.
Даже в таких поистине замечательных стихотворениях, как «Черней и ниже пояс ночи…», «Я не слыхал высокой скорби труб…», «И что-то задумали почки…», «Вчерашний день прикинулся больным…», это «равновесие» подчас утрачивается и подлинно поэтическая стихия подменяется либо прозаичностью, либо «велеречивостью».
Далее, подлинная и весомая значительность поэтической
мысли Прасолова, которая является одним из ценнейших качеств его лирики, в ряде стихотворений оборачивается тем, что называется «многозначительностью» (в крайних случаях этому слову, как известно, предпосылаются эпитеты «мнимая» и «ложная»). Ее признаки есть, скажем, в стихах «Все, что было со мной, — на земле…», «Небеса опускались мрачней…», «Зачем так долго ты во мне…», «И луна влепилась в лоб кабины…», «Не бросал свое сердце, как жребий» и т. п.
Наконец, мысль поэта иногда чрезмерно обнажена. Он в отдельных случаях слишком увлекался той «цепной реакцией» (мысль сама «приводит другую»), о которой говорил в одном из цитированных выше писем. Это характерно для стихотворений «На берегу черно и пусто…», «Уже огромный подан самолет…», «Я тебя молю не о покое…», «В рабочем гвалте, за столом…» и т. п.
Эти несовершенства стихотворений Алексея Прасолова, конечно, могут смущать истинных ценителей поэзии. Но повторю еще раз: поэт ставил перед собой предельно трудные творческие цели.
Я приводил его слова: «Мне нужно не сравнение двух жизней, а — третье». Это сказано по конкретному поводу, но, без сомнения, имеет и общее значение. Прасолов стремился не к извлечению яркого эффекта из сопоставления фактов, образов, слов; он хотел схватить за крылья самое поэзию — ту поэзию живой жизни, в которой едины и неразрывны земля и небо, тело и душа, предмет и мысль, пространство и время.
Алексей Прасолов явно был более склонен потерпеть поражение, осуществляя труднейший и даже, быть может, неисполнимый замысел, нежели одержать заранее рассчитанную победу…
И те стихи, в которых он победил, безусловно, будут жить долго. Назову хотя бы такие стихотворения, как «Я услышал: корявое дерево пело…», «Вознесенье железного духа…», «Лес расступится и дрогнет…», «Еще метет во мне метель…», «Нет, лучше бы ни теперь, ни впредь…», «Мать наклонилась, но век не коснулась…», «Осень лето смятое хоронит…».
Прасолов всерьез входил в поэзию в те годы, когда классическая традиция в иных литературных кругах считалась чем-то безнадежно устаревшим и ненужным.
Между тем Алексей Прасолов (это явствует из многих его писем) уже в 1962–1963 годах увидел свое призвание как раз в продолжении великих классических традиций и, прежде всего, как уже говорилось, традиций русской «философской лирики» — лирики Боратынского и Тютчева, а также «философской» линии в творчестве Лермонтова и Блока.
Но, естественно, вставал вопрос о «современности стиха». И когда Прасолов открыл для себя Заболоцкого, он назвал книгу его стихов «учебником», который учит «мудрости и совершенству». В зрелом творчестве Заболоцкого воплотилась живущая современнность и в то же время сохраняющая столь же живую связь с великим классическим наследием «философская лирика». В некоторых стихотворениях Прасолов прямо-таки воссоздает образный строй, интонацию, даже словарь зрелой поэзии Заболоцкого. Среди этих стихотворений есть несомненно очень значительные и сильные — «Мирозданье сжато берегами…», «Я хочу, чтобы ты увидала…», «Одним окном светился мир ночной…», «В эту ночь с холмов, с булыжных улиц…» и др. — но все же они воспринимаются в той или иной мере как некое повторение, как «подражание», — хотя в этих стихах выражается и собственно прасоловское начало. Прасолов как бы выступает здесь в поэтической роли Заболоцкого, не теряя своей неповторимой сути.
В заключение хочу привести фрагменты из небольшой статьи Прасолова о Есенине, опубликованной 3 октября 1965 года в газете, издающейся в воронежском селе Репьевка (статья эта перепечатана в журнале «Наш современник», № 9 за 1977 г.):
«К одним поэтам мы приходим в определенном возрасте. Есенин приходит сам, приходит естественно и захватывающе…
Сергей Есенин — живое, обнаженное русское чувство…
Имею в виду самобытность нашей русской натуры. Цивилизация внешне меняет нас в том же темпе, в каком рождаются и отживают моды. Это проникает и в искусство, и в литературу. Русский человек не прочь пощеголять в заморском костюме. Он может говорить языком, в котором, кажется, нет русского корня, он упьется модернистским стихом.
Но приходит час — и человеку страшно хочется чего-то глубокого, простого и проникновенного до боли…
И — „к черту я снимаю свой костюм английский“!.. Щегольство кончилось — заговорила душа. Заговорила русским языком, русским певучим стихом, заговорила о своей Родине, в которой так сложно переплетаются лучи родной старины и лучи новизны».
В своем творчестве Прасолов был далек от Есенина (хотя в его стихах есть такие ноты, которых не было бы, если бы не творил на Руси Есенин). Но то, что он написал о поэзии Есенина, имеет, конечно, и гораздо более широкий план. Несколько перефразируя слова Алексея Прасолова, можно сказать, что он стремился воплотить в своей лирике живую,
обнаженную русскую мысль.
А две эти стороны человеческой сути — чувство и мысль — в равной мере необходимы.
Несколько слов о составе этой книги. Первый раздел — «Третья жизнь» (так сам поэт незадолго до смерти решил назвать свою будущую книгу) включает в себя зрелые его стихотворения, созданные с конца 1963 по 1971 год.
Второй раздел — «Последняя встреча» — составили произведения, созданные поэтом в самом конце жизни, которые, как мне кажется, уместно назвать «короткими поэмами».
Достигнув зрелости, Алексей Прасолов писал почти исключительно сжатые, лаконичные стихи объемом в 12–20, реже 24–28 строк. Но в 1969–1971 годах он создал несколько значительно более пространных (впрочем, для жанра поэмы также довольно лаконичных) произведений лиро-эпического характера. Произведения эти, по-видимому, даже не были вполне закончены автором, тем не менее, думается, они могут привлечь внимание многих.
В третий раздел — «На перепутье» (это название одного из ранних циклов поэта) — вошли стихи, отражающие творческие искания, в ходе которых поэт нередко уходил в сторону от своего основного, стержневого пути. Помимо того, что стихи эти по-своему интересны, они могут помочь читателю войти в уже сложившийся, завершенный в себе мир зрелой лирики Алексея Прасолова (как уже говорилось, этот мир не открывается легко и сразу).
Главный раздел книги — «Третья жизнь» — включает в себя около восьми десятков стихотворений. Алексей Прасолов писал мало и перерывами. Причину этого лучше всего объяснят его собственные слова:
«Подогнать, поторопить себя чем-то извне я не могу. Это (речь идет о поэтическом творчестве. — В. К.) внутренняя стихия, родственная любви. Ни с чем иным она так не сходна, как с любовью, — ее не остановишь, когда придет, не вызовешь насильно».
Да, Алексей Прасолов творил именно по такому закону, — и, в конечном счете, именно потому стал подлинным поэтом.

ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
«Итак, с рождения вошло…»
Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
От тела матери — тепло,
От рук отца — бездомный холод.
Кричу, не помнящий себя,
Меж двух начал, сурово слитых.
Что ж, разворачивай, судьба,
Новорожденной жизни свиток!
И прежде всех земных забот
Ты выставь письмена косые
Своей рукой корявой — год
И имя родины — Россия.
22 ноября 1963
«Когда созреет срок беды всесветной…»
4.00. 22 июня 1941.
Когда созреет срок беды всесветной
Как он трагичен, тот рубежный час,
Который светит радостью последней,
Слепя собой, неискушенных, нас.
Он как ребенок, что дополз до края
Неизмеримой бездны на пути,—
Через минуту, руки простирая.
Мы кинемся, но нам уж не спасти…
И весь он — крик, для душ не бесполезный,
И весь очерчен кровью и огнем,
Чтоб перед новой гибельною бездной
Мы искушенно помнили о нем.
19 сентября 1963
«Ты в поисках особенных мгновений…»
Ты в поисках особенных мгновений
Исколесил дорогу не одну,
По вспышкам преходящих впечатлений
Определяя время и страну.
И в каждой вспышке чудилось открытье,
Душа брала заряд на много лет.
Но дни прошли — и не улеглись событья
В ней, как в подшивке выцветших газет.
Ей нужно чудо, чтоб завидно вспыхнуть.
Но это чудо в людях не открыв,
Ты выдаешь испытанною рифмой
Свой мастерски наигранный порыв.
Блюдя приличье, слушают не веря,
Зевком снижают с мнимой высоты.
И все невозвратимые потери
На сложную эпоху свалишь ты.
Не утешайся логикою гибкой.
Эпоха жарко дышит у дверей,
Как роженица — с трудною улыбкой —
Насмешкой над обидою твоей.
30 сентября — 3 октября 1963
«Коснись ладонью грани горной…»
Коснись ладонью грани
горной —
Здесь камень гордо воплотил
Земли глубинный, непокорный
Избыток вытесненных сил.
И не ищи ты бесполезно
У гор спокойные черты:
В трагическом изломе — бездна,
Восторг неистовый — хребты.
Здесь нет случайностей нелепых:
С тобою выйдя на откос,
Увижу грандиозный слепок
Того, что в нас не улеглось.
18 октября 1963
«Я не слыхал высокой скорби труб…»
Памяти Веры Опенько
Я не слыхал высокой скорби труб,
И тот, кто весть случайно обронил,
Был хроникально холоден и скуп,
Как будто прожил век среди могил.
Но был он прав. Мы обостренней
помним
Часы утрат, когда, в пути спеша,
О свежий холмик с именем знакомым
Споткнется неожиданно душа.
Я принял весть и медленно вступил
Туда, где нет слезливых слов и лиц,
Где токи всех моих смятенных сил
В одно сознанье резкое слились.
И, может, было просветленье это,
Дошедшее ко мне сквозь много дней,
Преемственно разгаданным заветом —
Лучом последней ясности твоей.
Как эта ясность мне была близка
И глубиной и силой молодой!
Я каждый раз ее в тебе искал,
Не затемняя близостью иной.
Размашисто, неровно и незрело
Примеривал я к миру жизнь мою,
Ты знала в нем разумные пределы
И беспредельность — ту, где я стою.
А я стою средь голосов земли.
Морозный месяц красен и велик.
Ночной гудок ли высится вдали?
Или пространства обнаженный крик?..
Мне кажется, сама земля не хочет
Законов, утвердившихся на ней:
Ее томит неотвратимость ночи
В коротких судьбах всех ее детей.
22—26 декабря 1963
«Везут мне вагонетки глину…»
Везут мне вагонетки глину,
А от меня — осенний мрак.
Когда я все их опрокину,
Достану спички и табак.
Далекая, ты в свете — рядом
И хочешь сказкой все облечь.
И при короткой встрече взглядов
Уже не требуется речь.
Но груз любви моей всегдашней…
Но детскость рук твоих и плеч…
Я отвожу огонь подальше —
Я так боюсь тебя обжечь.
А вагонеток строй суровый,
Как годы, гулок на ходу.
Приму, отправлю их — и снова
Перед тобой огонь зажгу.
Ты засмеешься надо мною:
— Твой страх — застенчивая ложь!
Я правду девичью открою:
Горящую не обожжешь…
1963
«Черней и ниже пояс ночи…»
Черней и ниже пояс ночи.
Вершина строже и светлей.
А у подножья — шум рабочий
И оцепление огней.
Дикарский камень люди рушат,
Ведут стальные колеи,
Гора открыла людям душу
И жизни прожитой слои.
Качали тех, кто, шахту вырыв,
Впервые в глубь ее проник.
И был широко слышен в мире
Восторга вырвавшийся крик.
Но над восторженною силой,
Над всем, что славу ей несло,
Она угрюмо возносила
Свое тяжелое чело.
Дымись, разрытая гора.
Как мертвый гнев —
Изломы камня.
А люди — в поисках добра
До сердца добрались руками.
Когда ж затихнет суета,
Остынут выбранные недра,
Огромной пастью пустота
Завоет, втягивая ветры.
И кто в ночи сюда придет,
Услышит: голос твой — не злоба.
Был час рожденья, вырван плод,
И ноет темная утроба.
1963–1964
«Схватил мороз рисунок пены…»
Схватил мороз рисунок пены.
Река легла к моим ногам —
Оледенелое стремленье,
Прикованное к берегам.
Не зря мгновения просил я,
Чтобы, проняв меня насквозь,
Оно над зимнею Россией
Широким звоном пронеслось.
Чтоб неуемный ветер дунул,
И, льдами выстелив разбег,
Отозвалась бы многострунно
Система спаянная рек.
Звени, звени! Я буду слушать —
И звуки вскинутся во мне,
Как рыб серебряные души
Со дна к прорубленной луне.
8 января 1964
«Река — широкая, как дума…»
Река — широкая, как дума,
Кидает на берег волну.
Ненастье птичий крик угрюмый
Пророчит мне, как в старину.
Тревожь, вещун, полетом низким,
По-первобытному пророчь.
Звезда на белом обелиске
Печаль вызванивает в ночь.
Иные шумы заглушая,
В предгрозовой глухой борьбе
Земля — горячая, живая —
Прислушалась к самой себе.
Пройдут величественно — жутко
И гром, и взблески впереди —
И все сожмется комом чутким,
Заколотившимся в груди.
Как будто яростным простором,
Всей бездной жизней и смертей
Земля гудит, чтоб счастье с горем
Я рассудить бы смог на ней.
17—18 февраля 1964
«По щербинам врубленных ступеней…»
По щербинам врубленных ступеней
Я взошел с тобой на высоту.
Вижу город — белый и весенний,
Слышу гром короткий на мосту.
Шум травы, металла звук рабочий,
И покой, и вихревой порыв —
Даль живет, дымится и грохочет,
Свой бессонный двигатель укрыв.
Самолетик в небо запускают.
Крохотные гонят поезда.
Неуемность острая, людская,
Четкий бег — откуда и куда?
Объясняют пресными словами.
Отвечают гордо и светло.
Люди, люди, с грузными годами
Сколько их по памяти прошло…
Тех я вспомню, этих позабуду.
Ими путь означен навсегда:
По одним я узнаю — откуда,
По другим сверяюсь я — куда.
Родина? Судьба? Моя ли юность?
Листьями ль забрызганная — ты?
Все во мне мелькнуло и вернулось
Напряженным ветром высоты.
17 марта 1964
«Грязь колеса жадно засосала…»
Грязь колеса жадно засосала,
Из-под шин — ядреная картечь.
О дорога! Здесь машине мало
Лошадиных сил и дружных плеч.
Густо кроют мартовское поле
Злые зерна — черные слова.
Нам, быть может, скажут:
не грешно ли
После них младенцев целовать?..
Ну, еще рывок моторной силы!
Ну, зверейте, мокрые тела!
Ну, родная мать моя Россия,
Жаркая, веселая — пошла!
Нет, земля, дорожное проклятье —
Не весне, не полю, не судьбе.
В сердце песней — нежное зачатье,
Как цветочным семенем — в тебе.
И когда в единстве изначальном
Вдруг прорвется эта красота,
Людям изумленное молчанье
Размыкает грешные уста.
25 марта 1964
Над полигоном
Летчику А. Сорокину
Летучий гром — и два крыла за тучей.
Кто ты теперь? Мой отрешенный друг?
Иль в необъятной области созвучий
Всего лишь краткий и суровый звук?
А здесь, внизу — истоптанное лето.
Дугой травинку тучный жук пригнул.
А здесь, внизу, белеют силуэты,
И что-то в них от птиц и от акул.
Чертеж войны… О как он неприемлем!
И, к телу крылья острые прижав,
Ты с высоты бросаешься на землю
С косыми очертаньями держав.
И страшен ты в карающем паденье,
В невольной отрешенности своей
От тишины, от рощи с влажной тенью,
От милой нам беспечности людей.
В колосья гильзы теплые роняя,
Мир охватив хранительным кольцом,
Уходишь ты. Молчит земля родная
И кажет солнцу рваное лицо.
И сгинул жук. Как знак вопроса — стебель.
И стебель стал чувствилищем живым:
Покой ли — призрак иль тревога — небыль
В могучем дне, сверкающем над ним?
5 мая 1964
Сказка
У обрыва ль, у косы,
Где певучее молчанье,
Обронила ты часы…
Сказка летняя вначале.
Все речные духи вдруг
Собрались в подводном мраке
И глядят на четкий круг,
На светящиеся знаки.
Поднести боясь к огню
Замурованную душу,
Каждый выпростал клешню
И потрогал. И послушал.
Под прозрачный тонкий щит
Не залезть клешнею черной.
Духи слушают: стучит
Непонятно и упорно.
Выжми воду из косы
Злою маленькой рукою.
Говорил я про часы,
Да сказалось про другое.
Сверху — зыбью облака.
Сверху — солнечная пляска.
Но темна и глубока
Человеческая сказка.
Опусти пред нею щит,
И тогда услышим двое,
Как на дне ее стучит
Что-то теплое, живое.
1964
«Одичалою рукою…»
Одичалою рукою
Отвела дневное прочь,
И лицо твое покоем
Мягко высветлила ночь.
Нет ни правды, ни обмана —
Ты близка и далека.
Сон твой — словно из тумана
Проступившая река.
Все так бережно утопит,
Не взметнет песку со дна,
Лишь невнятный вольный шепот
Вырывается из сна.
Что в нем дышит — откровенье?
Иль души веселый бред?
Вечно тайну прячут тени,
Вечно прям и ясен свет.
И, рожденная до речи,
С первым звуком детских губ,
Есть под словом человечьим
Неразгаданная глубь.
Не сквозит она всегдашним
В жесте, в очерке лица.
Нам постичь ее — не страшно,
Страшно — вызнать до конца.
30 июня 1964
«Платье — струями косыми…»
Платье — струями косыми.
Ты одна. Земля одна.
Входит луч тутой и сильный
В сон укрытого зерна.
И, наивный, тает, тает
Жавороночий восторг…
Как он больно прорастает —
Изогнувшийся росток!
В пласт тяжелый упираясь,
Напрягает острие —
Жизни яростная завязь,
Воскрешение мое.
Пусть над нами свет — однажды
И однажды — это мгла,
Лишь родиться б с утром
каждым
До конца душа могла.
1964
«Я услышал: корявое дерево пело…»
Я услышал: корявое дерево пело,
Мчалась туч торопливая темная сила
И закат, отраженный водою несмело,
На воде и на небе могуче гасила.
И оттуда, где меркли и краски, и звуки,
Где коробились дальние крыши селенья,
Где дымки — как простертые в ужасе руки,
Надвигалось понятное сердцу мгновенье.
И ударило ветром, тяжелою массой,
И меня обернуло упрямо за плечи,
Словно хаос небес и земли подымался,
Лишь затем, чтоб увидеть лицо человечье.
1965
«Мирозданье сжато берегами…»
Мирозданье сжато берегами,
И в него, темна и тяжела,
Погружаясь чуткими ногами,
Лошадь одинокая вошла.
Перед нею двигались светила,
Колыхалось озеро без дна,
И над картой неба наклонила
Многодумно голову она.
Что ей, старой, виделось, казалось?
Не было покоя средь светил:
То луны, то звездочки касаясь,
Огонек зеленый там скользил.
Небеса разламывало ревом,
И ждала — когда же перерыв,
В напряженье кратком и суровом,
Как антенны, уши навострив.
И не мог я видеть равнодушно
Дрожь спины и вытертых боков,
На которых вынесла послушно
Тяжесть человеческих веков.
2 февраля 1965
«Я хочу, чтобы ты увидала…»
Я хочу, чтобы ты увидала:
За горой, вдалеке, на краю
Солнце сплющилось, как от удара
О вечернюю землю мою.
И как будто не в силах проститься,
Будто солнцу возврата уж нет,
Надо мной безымянная птица
Ловит крыльями тающий свет.
Отзвенит — и в траву на излете,
Там, где гнезда от давних копыт.
Сердца птичьего в тонкой дремоте
День, пропетый насквозь, не томит.
И роднит нас одна ненасытность —
Та двойная знакомая страсть,
Что отчаянно кинет в зенит нас
И вернет — чтоб к травинкам припасть.
27 марта 1965
«На берегу черно и пусто…»
На берегу черно и пусто.
Себя не держат камыши.
Вода уходит, словно чувство —
Из обессиленной души.
И обнажает предвечерний
Уже не отраженный свет
В песке извилины теченья
И трепета волнистый след.
Сквозная судорога в водах —
Как в угасающем лице.
Непокоренья гордый подвиг
В их преждевременном конце.
Не оживив ни луг, ни поле,
Здесь устроители земли
По знаку неразумной воли
Всеосушающе — прошли.
И пятерни корней обвисли
У вербы на краю беды,
И как извилина без мысли —
Речное русло без воды.
Прогресс! И я — за новью дерзкой,
Чтобы ее неумный друг
Не смог внести в твои издержки
Дела слепых и грубых рук.
27 марта 1965
«Налет каменеющей пыли…»
Налет каменеющей пыли —
Осадок пройденного дня —
Дождинки стремительно смыли
С дороги моей и с меня.
И в гуле наклонного ливня,
Сомкнувшего землю и высь,
Извилина вспыхнула длинно,
Как будто гигантская мысль,—
Та мысль, чья смертельная сила
Уже не владеет собой,
И все, что она осветила,
Дано ей на выбор слепой.
13—16 сентября 1965
«Ты отгремела много лет назад…»
Ты отгремела много лет назад.
Но, дав отсрочку тысячам смертей,
Теперь листаешь календарь утрат,
В котором числа скрыты от людей.
Убавят раны счет живым годам,
Сомкнется кругом скорбная семья,
И жертва запоздалая твоя
Уходит к тем, что без отсрочки — там.
И может быть, поймут еще не все
У обелиска, где суглинок свеж,
Как он глубоко в мирной полосе,
Твой самый тихий гибельный рубеж.
4 октября 1965
«Все, что было со мной, — на земле…»
Все, что было со мной, — на земле.
Но остался, как верный залог,
На широком, спокойном крыле
Отпечаток морозных сапог.
Кто ступал по твоим плоскостям,
Их надежность сурово храня,
Перед тем, как отдать небесам
Заодно и тебя и меня?
Он затерян внизу навсегда,
Только я, незнакомый ему,
Эту вещую близость следа
К облакам и светилам — пойму.
Нам сужден проницательный свет,
Чтоб таили его не губя,
Чтобы в скромности малых примет
Мы умели провидеть себя.
12 ноября 1965
«Погорбившийся мост сдавили берега…»
Погорбившийся мост сдавили берега,
И выступили грубо и неровно
Расколотые летним солнцем бревна,
Наморщилась холодная река,
Течением размеренно колебля
Верхушку остро выгнанного стебля,
Который стрелкой темный ход воды,
Не зная сам зачем, обозначает,—
И жизнь однообразьем маеты
Предстанет вдруг — и словно укачает.
Ты встанешь у перил. Приложишь мерку.
Отметишь мелом. Крепко сплюнешь сверху.
Прижмешь коленом свежую доску,
И гвоздь подставит шляпку молотку
И тонко запоет, — и во весь рост
Ты вгонишь гвоздь в погорбившийся мост.
И первый твой удар — как бы со зла,
Второй удар кладешь с присловьем
хлестким,
А с третьим — струнно музыка пошла
По всем гвоздям, по бревнам и по доскам.
Когда же день утратит высоту
И выдвинется месяц за плечами,
И свет попеременно на мосту
Метнут машины круглыми очами, —
Их сильный ход заглушит ход воды,
И, проходящей тяжестью колеблем,
Прикрыв глаза, себя увидишь ты
В живом потоке напряженным стеблем.
14—19 ноября 1965
«Лежала, перееханная скатом…»
Лежала, перееханная скатом,
Дышала телом, вдавленным и смятым,
И видела сквозь пленку стылых слез,
Как снова, смертоносно громыхая,
Огромное, глазастое неслось.
И напряглась, мучительно-живая,
О милости последней не прося,
Но, в ноздри ей ударив сгустком дыма,
Торжественно, замедленно и мимо
Прошла колонна вся.
Машины уносили гул и свет,
Выравнивая скорость в отдаленье,
А мертвые глаза собачьи вслед
Глядели в человечьем напряженье,
Как будто все, что здесь произошло,
Вбирали, горестно осмыслить силясь, —
И непонятны были ей ни зло,
Ни поздняя торжественная милость.
9 декабря 1965
«И когда опрокинуло наземь…»
И когда опрокинуло наземь,
Чтоб увидеть — закрыл я глаза,
И чужие отхлынули разом,
И сошли в немоту голоса,
Вслед за ними и ты уходила,
Наклонилась к лицу моему,
Обернулась — и свет погасила,
Обреченному свет ни к чему.
Да, скорее в безликую темень,
Чтобы след был надежней затерян,
Чтоб среди незнакомых огней
Было темному сердцу вольней.
Шаг твой долгий, ночной, отдаленный
Мне как будто пространство открыл,
И тогда я взглянул — опаленно,
Но в неясном предчувствии крыл.
1965
«Привиденьем белым и нелепым…»
Привиденьем белым и нелепым
Я иду, и хаос надо мной —
То, что прежде называлось небом,
Под ногами — что звалось землей.
Сердце бьется, словно в снежном коме,
Все лишилось резкой наготы.
Мне одни названья лишь знакомы
И неясно видятся черты.
И когда к покинутому дому,
Обновленный, я вернусь опять,
Мне дано увидеть по-иному,
По-иному, может быть, понять…
Но забыться… Вейся, белый хаос!
Мир мне даст минуту тишины,
Но когда забыться я пытаюсь,
Насылает мстительные сны.
11 января 1966
«Когда прицельный полыхнул фугас…»
Когда прицельный полыхнул фугас,
Казалось, в этом взрывчатом огне
Копился света яростный запас,
Который в жизни причитался мне.
Но мерой, непосильною для глаз,
Его плеснули весь в единый миг,
И то, что видел я в последний раз,
Горит в глазницах пепельных моих.
Теперь, когда иду среди людей,
Подняв лицо, открытое лучу,
То во вселенной выжженной моей
Утраченное солнце я ищу.
По-своему печален я и рад,
И с теми, чьи пресыщены глаза,
Моя улыбка часто невпопад,
Некстати непонятная слеза.
Я трогаю руками этот мир —
Холодной гранью, линией живой
Так нестерпимо памятен и мил,
Он весь как будто вновь изваян мной.
Растет, теснится, и вокруг меня
Иные ритмы, ясные уму,
И словно эту бесконечность дня
Я отдал вам, себе оставив тьму.
И знать хочу у праведной черты,
Где равновесье держит бытие,
Что я средь вас — лишь памятник беды,
А не предвестник сумрачный ее.
16 января 1966
«Вокзал с огнями — неминуем…»
Вокзал с огнями — неминуем,
Прощальный час — над головой,
Дай трижды накрест поцелуем
Схватить последний шепот твой.
И, запрокинутая резко,
Увидишь падающий мост
И на фарфоровых подвесках
Летящий провод среди звезд.
А чтоб минута стала легче,
Когда тебе уже невмочь,
Я, наклонясь, приму на плечи
Всю перекошенную ночь.
19 марта 1966
«И что-то задумали почки…»
И что-то задумали почки,
Хоть небо — тепла не проси,
И красные вязнут сапожки
В тяжелой и черной грязи.
И лучшее сгинуло, может,
Но как мне остаться в былом,
Когда эти птицы тревожат,
Летя реактивным углом,
Когда у отвесного края
Стволы проступили бело,
И с неба, как будто считая,
Лучом по стволам провело,
И капли стеклянные нижет,
Чтоб градом осыпать потом,
И, юное, в щеки мне дышит
Холодным смеющимся ртом.
21 марта 1966
«Вознесенье железного духа…»
Вознесенье железного духа
В двух моторах, вздымающих нас.
Крепко всажена в кресло старуха,
Словно ей в небеса — не на час.
И мелькнуло такое значенье,
Как себя страховала крестом,
Будто разом просила прощенья
У всего, что пошло под винтом.
А под крыльями — пыльное буйство.
Травы сами пригнуться спешат.
И внезапно — просторно и пусто.
Только кровь напирает в ушах.
Напрягает старуха вниманье,
Как праматерь, глядит из окна.
Затерялись в дыму и тумане
Те, кого народила она.
И хотела ль того, не хотела —
Их дела перед ней на виду.
И подвержено все без раздела
Одобренью ее и суду.
22 марта 1966
«Эскалатор уносит из ночи…»
Эскалатор уносит из ночи
В бесконечность подземного дня.
Может, так нам с тобою короче,
Может, здесь нам видней от огня…
Загрохочет, сверкая и воя,
Поезд в узком гранитном стволе,
И тогда, отраженные, двое
Встанем в черно-зеркальном стекле.
Чуть касаясь друг друга плечами,
Средь людей мы свои — не свои,
И слышней и понятней в молчанье
Нарастающий звон колеи.
Загорайся, внезапная полночь!
В душном шорохе шин и подошв
Ты своих лабиринтов не помнишь
И надолго двоих разведешь.
Так легко — по подземному кругу,
Да иные круги впереди.
Фонарем освещенную руку
Подняла на прощанье: «Иди…»
Не кляни разлучающей ночи,
Но расслышь вековечное в ней:
Только так на земле нам короче,
Только так нам на свете видней.
28 марта 1966
«Лес расступится — и дрогнет…»
Лес расступится — и дрогнет,
Поезд — тенью на откосах,
Длинно вытянутый грохот
На сверкающих колесах.
Раскатившаяся тяжесть,
Мерный стук на стыках стали,
Но, от грохота качаясь,
Птицы песен не прервали.
Прокатилось, утихая,
И над пропастью оврага
Только вкрадчивость глухая
Человеческого шага.
Корни выползли ужами,
Каждый вытянут и жилист,
И звериными ушами
Листья все насторожились.
В заколдованную небыль
Птица канула немая,
И ногой примятый стебель
Страх тихонько поднимает.
1966
«Зеленый трепет всполошенных ивок…»
Зеленый трепет всполошенных ивок,
И в небе — разветвление огня,
И молодого голоса отрывок,
Потерянно окликнувший меня.
И я среди пылинок неприбитых
Почувствовал и жгуче увидал
И твой смятенно вытесненный выдох,
И губ кричащих жалобный овал.
Да, этот крик — отчаянье и ласка,
И страшно мне, что ты зовешь любя,
А в памяти твой облик — словно маска,
Как бы с умершей снятая с тебя.
1966
«Небеса опускались мрачней…»
Ночь. Аэропорт.
Небеса опускались мрачней,
Я искал три сигнальных огня.
Ты скажи, сколько дней и ночей
Ожиданью учила меня?
И свершилось: мы знаем свой час,
Знаем, что нам отныне дано,
И не скрыть от взыскующих глаз,
Что доступнее счастья оно.
И когда три сигнальных огня
Вспыхнут в небе — былому в ответ,
Все из дали зовешь ты меня —
Та, которой в тебе уже нет.
1966
«Уже огромный подан самолет…»
Уже огромный подан самолет,
Уже округло вырезанной дверцей
Воздушный поглощается народ
И неизбежная, как рифма «сердце», —
Встает тревога и глядит, глядит
Стеклом иллюминатора глухого
В мои глаза — и тот, кто там закрыт,
Уже как будто не вернется снова.
Но выдали — еще минута есть —
Оттуда, как из мира из иного,
Рука — последний непонятный жест,
А губы — обеззвученное слово.
Тебя на хищно выгнутом крыле
Сейчас поднимет этой легкой силой,—
Так что ж понять я должен на земле,
Глядящий одиноко и бескрыло?
Что нам — лететь? Что душам суждена
Пространства неизмеренная бездна,
Что превращает в точку нас она,
Которая мелькнула и исчезла?
Пусть — так. Но там, где будешь ты сейчас,
Я жду тебя, — в надмирном постоянстве
Лечу, — и что соединяет нас,
Уже не затеряется в пространстве.
1966
«И все как будто кончено…»
И все как будто кончено — прощай.
А ты — клубись, непролитая туча,
Но мой ни в чем не виноватый край
Осенней думою не угнетай,
Непамятливых памятью не мучай,
А помнящим хоть час забвенья дай.
И только сердцу вечно быть виновным
Во всем, что так мучительно давно в нем
И все же чисто, словно в первый час:
Вошла — и руки белые сложила,
И тонко веки темные смежила,
И безысходно в сердце улеглась.
Теперь иди, куда захочешь в мире…
А для меня он ни тесней, ни шире, —
Земля кругом и мерзлая жива,
И вижу я под неподвижной тучей,
Как зеленеет смело и колюче
Нежданная предзимняя трава.
1966
«Тянулись к тучам…»
Тянулись к тучам, ждали с высоты
Пустым полям обещанного снега,
В котором есть подобье доброты
И тихой радости. Но вдруг с разбега
Ударило по веткам молодым,
Как по рукам, протянутым в бессилье,
Как будто неположенного им
Они у неба темного просили.
И утром я к деревьям поспешил:
Стволов дугообразные изгибы,
Расщепы несогнувшихся вершин,
Просвеченные ледяные глыбы,
Висячей тяжестью гнетущие мой лес,
Увидел я… И все предстало здесь
Побоищем огромным и печальным,
И полоса поникнувших берез,
С которой сам я в этом мире рос,
Мне шествием казалась погребальным.
Когда ж весною белоствольный строй
Листвою брызнул весело и щедро,
Дыханье запыхавшегося ветра
Прошло двойным звучаньем надо мной.
Живое лепетало о живом,
Надломленное стоном отвечало,
Лишь сердце о своем пережитом
Искало слов и трепетно молчало.
1966
«Я тебя молю не о покое…»
Я тебя молю не о покое.
Ты иным зовешь меня сюда:
Надо мной бессмертье голубое —
Купола твои, Шах-и-Заинда.
Я пришел не скорбным и не нищим,
Но в священной каменной пыли
Мы смятенным духом вечно ищем,
Словно здесь родное погребли.
О искусство, возврати потери,
Обожги узором древних стен,
Чтобы мог я в мире соизмерить,
Что ушло и что дано взамен.
1966
«Там — за деревянною оградой…»
Там — за деревянною оградой
Двинется живой круговорот.
Раковина вспыхнувшей эстрады,
Как морская, запоет.
Вальс тебя закружит,
Завертит,
Смуглыми руками
Захватив.
Каблучки отточенно
Начертят
На кругу мелодии извив.
Вся ты — в повороте горделивом,
Вся ты —
Зазывающий напев:
— Хочешь, проведу
По всем извивам,
Локотками горя не задев!..
Девочка,
Танцующего счастья
Знающему сердцу нет.
Раковина черной пастью
Поглотила музыку и свет.
1966
«Еще метет во мне метель…»
Еще метет во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупу труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя метель.
Свозили немцев поутру.
Лежачий строй — как на смотру,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упертых в белую метель.
А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мертвой переклички их
Нарушить не хотел.
Какую боль, какую месть
Ты нес в себе в те дни! Но здесь
Задумался о чем-то ты
В суровой гордости своей
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.
1967
«Сказали так, что умер я…»
Сказали так, что умер я. Не знал.
Но слишком многих я похоронил.
Идет душа, храня живой накал,
Идет — среди живых и средь могил.
И как-то странно чувствую порой
В глазах людей, увидевших меня,
То отраженье, где еще живой
Встаю — свидетель нынешнего дня.
И те, кого я скорбно хоронил,
Глядят моими честными глазами
На этот мир, где жизней и могил
Число должны определять мы сами.
1967
«Над сонным легче…»
Над сонным легче — доброму и злому,
Лицо живет, но безответно. Там,
Наверно, свет увиден по-иному,
И так понятно бодрствующим нам:
Там жизнь — как луч, который преломила
Усталости ночная глубина,
И возвращает мстительная сила
Все, что тобою прожито, со дна.
Минувший день, назойливым возвратом
Не мучь меня до завтрашнего дня.
Иль, может, злишься ты перед собратом,
Что есть еще в запасе у меня?
Но, может, с горькой истиной условясь,
В такие ночи в несвободном сне
Уже ничем не скованная совесть
Тебя как есть показывает мне.
1967
«В этом доме опустелом…»
В этом доме опустелом
Лишь подобье тишины.
Тень, оставленная телом,
Бродит зыбко вдоль стены.
Чуть струится в длинных шторах
Дух тепла — бродячий дух.
Переходит в скрип и шорох
Недосказанное вслух.
И спохватишься порою
И найдешь в своей судьбе:
Будет все твое с тобою,
Да не весь ты при себе.
Время сердце не обманет:
Где ни странствуй, отлучась,
Лишь сильней к себе потянет
Та, оставленная, часть.
27 декабря 1968
«Скорей туда…»
Скорей туда,
На проводы зимы!
Там пляшут кони,
Пролетают сани,
Там новый день
У прошлого взаймы
Перехватил
Веселье с бубенцами.
А что же ты?
Хмельна
Иль не хмельна?
Конец твоей
Дурашливости бабьей:
С лихих саней
Свалилась на ухабе
И на снегу —
Забытая, одна.
И, на лету
Оброненная в поле,
Ты отчужденно
Слышишь дальний смех,
И передернут
Судорогой боли
Ветрами косо
Нанесенный снег.
Глядишь кругом —
Где праздник?
Пролетел он.
Где молодость?
Землей взята давно.
А чтобы легче было,
Белым, белым
Былое
Бережно заметено.
1967
«Нет, лучше б ни теперь, ни впредь…»
Нет, лучше б ни теперь, ни впредь
В безрадостную пору
Так близко, близко не смотреть
В твой зрак, ночная прорубь.
Холодный, черный, неживой…
Я знал глаза такие:
Они глядят, но ни одной
Звезды в них ночь не кинет.
Но вот губами я приник
Из проруби напиться —
И чую, чую, как родник
Ко мне со дна стремится.
И задышало в глубине,
И влажно губ коснулось,
И ты, уснувшая во мне,
От холода проснулась.
1968
«Прощаюсь с недругом и другом…»
Г. Улановой
Прощаюсь с недругом и другом,
Взвивает занавес края,
И сцена —
Палуба моя —
Вплывает белым полукругом.
Уже тревогой
Распят фрак
Перед оркестром, ждущим знака,
И тишина — как чуткий враг,
И там,
Угаданный средь мрака,
Огромный город впереди,
Нагроможденный ярусами.
Так что ж,
Пронзай, казни, гляди
Неисчислимыми глазами!
Я здесь.
Я словно в первый раз
Свое почувствовала тело.
Я притяженье
Этих глаз
Превозмогла, преодолела.
И вот лечу, и вот несу
Все, с чем вовеки не расстанусь,
И тела собственного танец
Я вижу
Где-то там, внизу.
О как оно послушно мне,
И как ему покорны души!
Я с ними здесь
Наедине,
Пока единства не нарушит
Аплодисментов потный плеск,
Ответные поклоны тела,
А я под этот шум и блеск,
Как легкий пепел, отлетела.
1968
«Всю ночь шумело…»
Всю ночь шумело
Надо мной
Тысячелисто и шершаво.
Земля,
Храня вчерашний зной,
Еще в беспамятстве дышала.
И каждый звук —
Вблизи, вдали —
И умирая, был неведом:
Он не был голосом Земли —
Он был ее тяжелым бредом.
Но и в бреду Все тот же строй,
Что в час —
И первый и последний —
С неотвратимостью крутой
Выравнивает наши бредни.
1968
«Поднялась из тягостного дыма…»
Поднялась из тягостного дыма,
Выкруглилась в небе —
И глядит.
Как пространство
Стало ощутимо!
Как сквозное что-то холодит!
И уже ни стены,
Ни затворы,
Ни тепло зазывного огня
Не спасут…
И я ищу опоры
В бездне,
Окружающей меня.
Одарив
Пронзительным простором,
Ночь встает,
Глазаста и нага,
И не спит живое —
То, в котором
Звери чуют брата и врага.
1968
«Зачем так долго ты во мне?..»
Зачем так долго ты во мне?
Зачем на горьком повороте
Я с тем, что будет, наравне,
Но с тем, что было, не в расчете?
Огонь высокий канул в темь,
В полете превратившись в камень,
И в этот миг мне страшен тем,
Что он безлик и безымянен,
Что многозвучный трепет звезд
Земли бестрепетной не будит,
И ночь — как разведенный мост
Меж днем былым и тем, что будет.
1968
«Одним окном светился мир ночной…»
Одним окном светился мир ночной.
Там мальчик с ясным отсветом на лбу,
Водя по книге медленно рукой,
Читал про чью-то горькую судьбу.
А мать его глядела на меня
Сквозь пустоту дотла сгоревших лет,
Глядела, не тревожа, не храня
Той памяти, в которой счастья нет.
И были мне глаза ее страшны
Спокойствием, направленным в упор
И так печально уходящим вдаль,
И я у черной каменной стены
Стоял и чувствовал себя как вор,
Укравший эту тайную печаль.
Да, ты была моей и не моей…
Читай, мой мальчик! Ухожу я вдаль
И знаю: материнская печаль,
Украденная, вдвое тяжелей.
1968
«Померк закат…»
Померк закат, угасла нежность,
И в холодеющем покое,
Чужим участием утешась,
Ты отошла — нас стало двое.
Ах, как ты верила участью!
Тебе вины любая малость
Неразделимой на две части
И не всегда твоей казалась.
Я оглянулся и увидел,
Как бы внесенные с мороза,
Твоей неправедной обиды
Такие праведные слезы.
И вызрел приступ жажды грубой —
На все обрушить радость злую,
Таили дрожь презренья губы,
Как смертный трепет поцелуя.
Но отрезвляющая воля
Взметнула душу круче, выше, —
Там нет сочувствия для боли,
Там только правда тяжко дышит.
Уже — заря. В заботе ранней
Внизу уверенно стучатся.
Я не открою. Спи, страданье.
Не разбуди его, участье.
1963
«И луна влепилась в лоб кабины…»
И луна влепилась в лоб кабины,
И легла за плугом борозда.
Взрезывай тяжелые глубины,
Думай, что там было и когда?
Не враждует прах с безгласным прахом,
Где прошли и воды и лучи,
И не глянет в небо черным страхом
Борозда, рожденная в ночи.
Но вдали от суетного стана
Вдруг возникнет, как из-под земли,
Скорбная торжественность тумана
В память тех, что раньше здесь прошли.
Пусть они живому не ответят,
Пусть туман, как привиденье, — прочь,
Ты вернешься к людям на рассвете,
Но не тем, каким ушел ты в ночь.
1968
«Заняться как будто и нечем…»
Заняться как будто и нечем.
Вот лестницу он смастерил.
Ведь жизнь оставляет под вечер
Не много желаний и сил.
И тихо — ступень за ступенью —
Он стал подниматься туда,
Где пенье, морозное пенье
Над крышей несли провода.
А все, что отринуто, глухо
Замкнули четыре стены.
Там как изваянье недуга —
Подушка и ком простыни.
И встал он — высоко, высоко —
Не краткий закат подстеречь,
А холод незримого тока
У самых почувствовать плеч.
Увидеть в каком-то наитье
(Как будто провел их не сам)
Вот эти смертельные нити,
Ведущие к первым огням.
Ну, что же, теперь не в обиде:
В порыве желаний простых
Огни на поверке увидел
И что осветил он — постиг.
Но старое сердце дивилось:
И в счастье есть горький удел —
И выше бывать приходилось,
А что-то навек проглядел.
1968
«Сенокосный, долгий день…»
Сенокосный, долгий день,
Травяное бездорожье.
Здесь копён живая тень
Припадает
К их подножью.
Все в движенье —
Все быстрей
Ходят косы полукругом.
Голос матери моей
Мне послышался над лугом.
В полдень,
Пышущей, как печь,
Мать идет
Сквозь терн колючий,
А над нею —
Из-за плеч —
Тихо выклубилась туча.
Воздух двинулся — и вдруг
Луг покрыло
Зыбью сизой,
Только ласточки вокруг
Свищут —
Низом, низом, низом.
Мать,
В томительных лучах
Перед тучей
Черной, черной
Вижу,
Как кровоточат
Руки, ссаженные терном.
Мать,
Невидимый поток
Горней силою заверчен, —
С головы
Сорвет платок,
А с копён моих —
Овершья.
Но под шумом дождевым,
По колено
В душном сене
Я стою, как под твоим
Ласковым благословеньем.
1968
«И я опять иду сюда…»
И я опять иду сюда,
Томимый тягой первородной.
И тихо в пропасти холодной
К лицу приблизилась звезда.
Опять знакомая руке
Упругость легкая бамбука,
И ни дыхания, ни звука,
Как будто все на волоске.
Но оборвись, живая нить!
Так стерегуще все, чем жил я,
Меня с рассветом окружило,
Еще не смея подступить.
И, взгляд глубоко устремя,
Я вижу: суетная сила
Еще звезду не погасила,
В воде горящую стоймя.
1968
«В рабочем гвалте, за столом…»
В рабочем гвалте, за столом,
В ночном ли поезде гремящем —
Резонно судят о былом
И сдержанно — о настоящем.
И скован этот, скован тот
Одним условием суровым:
Давая мыслям вольный ход,
Не выдай их поспешным словом.
Свободный от былого, ты
У настоящего во власти.
Пойми ж без лишней суеты,
Что время — три единых части:
Воспоминание — одна,
Другая — жизни плоть и вещность;
Отдай же третьей все сполна,
Ведь третья — будущее — вечность.
1968
«Мать наклонилась, но век не коснулась…»
Мать наклонилась, но век не коснулась,
Этому, видно, еще не пора.
Сердце, ты в час мой воскресный проснулось —
Нет нам сегодня, нет нам вчера.
Есть только свет — упоительно-щедрый.
Есть глубиной источаемый свет,
Незащищенно колеблясь без ветра,
Он говорит нам: безветрия нет.
Мать, это сходятся в сердце и в доме
Неразделимые прежде и вновь,
Видишь на свет — в темножилой ладони
Чутко и розово движется кровь.
Видишь лидаль, где играют, стремятся,
Бьются о стены и бьют через край,
Реют, в извилинах темных змеятся
Мысли людские… Дай руку. Прощай.
1969
«Ничего, что этот лед — без звона…»
Ничего, что этот лед — без звона,
Что камыш — не свищет,
В немоте прозрачной и бездонной
Нас никто не сыщет.
Мы опять с тобою отлетели,
И не дивно даже,
Что внизу остались только тени,
Да и те не наши.
Сквозь кристаллы воздуха увидим
То, что нас томило…
Но не будем счет вести обидам,
Пролетая мимо.
А пока — неузнанные дали,
Как душа хотела,
Будто нам другое сердце дали
И другое тело.
1969
«Не бросал свое сердце, как жребий…»
Не бросал свое сердце, как жребий,
На дороге, во мгле.
Три огня проносила ты в небе,
А теперь твой огонь — на земле.
Эти рельсы, сведенные далью,
Разбежались и брызнули врозь.
Но огонь — над обманчивой сталью
Средь раздвинутых настежь берез.
И гнетущая свеяна дрема
С твоих плеч, со сквозного стекла, —
Недоступно, светло, невесомо
Поднялась и в окне замерла.
И глядишь сквозь мелькающий хаос,
Как на самом краю
Я с землею лечу, задыхаясь,
На притихшую душу твою.
1969
«Вчерашний день прикинулся больным…»
Вчерашний день прикинулся больным
И на тепло и свет был скуп, как скряга,
Но лишь зачуял свой конец — от страха
Стер сырость, разогнал ненастный дым
И закатил роскошный, незаконный,
В воде горящий и в стекле оконном
Нелепо торжествующий закат.
А нынешний — его веселый брат —
Светил широко, но не ослепляя.
И сам как будто был тому он рад,
Что видится мне дымка полевая,
Как зыбкое последнее тепло
Земли тяжелой, дремлюще-осенней.
Но время угасанья подошло —
Его неотвратимое мгновенье
Не отразили воды и стекло,
Лишь на трубе, стволом упертой в небо,
Под дымом, что струился в том стволе,
Прошло сиянье — легкое, как небыль.
…Еще один мой вечер на земле.
27 июля 1970
«И опять возник он с темным вязом…»
И опять возник он с темным вязом —
Прямо с неба нисходящий склон.
Ты с какой минутой жизни связан?
Памятью какою осенен?
Ничего припомнить не могу я,
Ничего я вслух не назову.
Но, как речь, до времени глухую,
Шум листвы я слышу наяву.
В этом шуме ни тоски ни смуты,
Думы нет в морщинах на стволе, —
Делит жизнь на вечность и минуты
Тот, кто знает срок свой на земле.
И к стволу я телом припадаю,
Принимаю ток незримых сил,
Словно сам я ничего не знаю
Или знал, да здесь на миг забыл.
16 августа 1970
«В тяжких волнах наружного гула…»
В тяжких волнах наружного гула
И в прозрачном дрожанье стекла
Та же боль, что на время уснула
И опять, отдохнув, проняла.
Вижу — смотрит глазами твоими,
Слышу — просит холодной воды.
И горит на губах моих имя
Разделенной с тобою беды.
Все прошло. Что теперь с тобой делят?
Это старый иль новый обряд?
Для иного постель тебе стелют
И другие слова говорят.
Завтра нам поневоле встречаться.
Тихий — к тихой взойду на крыльцо,
И усталое грешное счастье,
Не стыдясь, мне заглянет в лицо.
И, как встреча, слова — поневоле,
Деловые слова, а в душе
Немота очистительной боли —
Той, что ты не разделишь уже.
19 августа 1970
«В час, как дождик…»
В час, как дождик короткий и празднично чистый
Чем-то душу наполнит,
Молодая упругость рябиновой кисти
О тебе мне напомнит.
Не постиг я, каким создала твое сердце природа,
Но всегда мне казалось,
Что сродни ему зрелость неполного раннего плода
И стыдливая завязь.
А мое ведь иное — в нем поровну мрака и света.
И порой, что ни делай,
Для него в этом мире как будто два цвета —
Только черный и белый.
Не зови нищетой — это грани враждующих истин.
С ними горше и легче.
Ты поймешь это все, когда рук обессиленных кисти
Мне уронишь на плечи.
20 августа 1970
«Уходи. Я с ней один побуду…»
Как и жить мне с этой обузой,
А еще называют Музой…
А. Ахматова
Уходи. Я с ней один побуду,
Пусть на людях, но — наедине.
Этот час идет за мной повсюду,
Он отпущен только ей и мне.
Я к ее внезапному приходу
Замираю, словно на краю,
Отдаю житейскую свободу
За неволю давнюю мою.
Обняла — и шум пошел на убыль,
И в минуты частых наших встреч
Чем жесточе я сжимаю губы,
Тем вернее зреющая речь.
Эта верность, знаю я, сурова
К тем, кому дается с ранних дней,
И когда ей требуется слово,
Дай — судьбой рожденное твоей.
И опять замрет звучанье чувства
И глаза поймут, что ночь светла.
А кругом — торжественно и пусто:
Не дождавшись, ты давно ушла.
24 августа 1970
«В ковше неотгруженный щебень…»
В ковше неотгруженный щебень,
Как будто случилась беда.
В большой котловине от неба
Глубокой казалась вода.
К холодной и чистой купели
Сходил по уступам мой день,
И грани уступов горели,
Другие — обрезала тень.
Я видел высокую стену,
Что в небо и в воду ушла,
И росчерком — белую пену,
Что ярко к подножью легла.
Я слышал, как звонче и чаще —
Невидимый — камень стучал,
Обрушенный днем уходящим,
За ним он катился в провал.
В паденье ничто не боролось,
Лишь громко зевнула вода —
И подал призывный свой голос, —
И подал я голос тогда,
И грозным иссеченным ликом
Ко мне обернулась стена,
С вниманьем таинственно-диким
Его принимала она.
А голос в пространстве вечернем,
Какою-то силой гоним,
Метался — огромный, пещерный,
Не сходный с ничтожным моим.
И бездна предстала иною:
Я чувствовал близость светил,
Но голос, исторгнутый мною,
Он к предкам моим восходил.
24—26 августа 1970
«И вышла мачта черная — крестом…»
И вышла мачта черная — крестом,
На барже камень, сваленный холмом,
И от всего, что плыло мне навстречу,
Не исходило человечьей речи.
И к берегам, где меркли огоньки,
Вода ночная в ужасе бросалась,
А после долго посреди реки
Сама с собой с разбегу целовалась.
Сгустилась темь. Костер совсем потух.
Иными стали зрение и слух.
Давно уж на реке и над рекою
Все улеглось. А что-то нет покоя.
29 августа 1970
«Как ветки листьями облепит…»
А. Т. Т.
Как ветки листьями облепит,
Растают зимние слова,
И всюду слышен клейкий лепет —
Весны безгрешная молва.
И сколько раз дано мне встретить
На старых ветках юных их —
Еще неполных, но согретых,
Всегда холодных, но живых?
Меняй же, мир, свои одежды,
Свои летучие цвета,
Но осени меня, как прежде,
Наивной зеленью листа.
Под шум и лепет затоскую,
Как станет горько одному,
Уйду — и всю молву людскую, —
Какая б ни была, — приму.
1970
«В эту ночь с холмов…»
А. С.
В эту ночь с холмов, с булыжных улиц
Собирались силы темных вод.
И когда наутро мы проснулись,
Шел рекой широкий ледоход.
Размыкая губы ледяные,
Говорила вольная вода.
Это было в мире не впервые,
Так зачем спешили мы сюда?
А река — огромная, чужая,
Спертая — в беспамятстве идет,
Ничего уже не отражая
В мутной перекошенности вод.
От волны — прощальный холод снега,
Сочный плеск — предвестье первых слов,
И кругом такой простор для эха,
Для далеких чьих-то голосов.
Нет мгновений кратких и напрасных —
Доверяйся сердцу и глазам:
В этот час там тихо светит праздник,
Неподвластный нам.
1970
«Замученные свесились цветы…»
Замученные свесились цветы —
От чьих-то рук избавила их ты,
И вот теперь они у изголовья
Губами свежесть ночи ловят.
И эта ночь с холодною звездой,
С цветами, что раскрылись над тобой,
С твоим теплом, распахнутым и сонным,
Пронизана высоким чистым звоном.
Но я шагну — и в бездне пустоты
Насторожатся зрячие цветы,
И оборвется звон высокой ночи —
Все это ложь, что сердце мне морочит.
Еще мой день под веками горит,
Еще дневное сердце говорит,
Бессонное ворочается слово —
И не дано на свете мне иного.
1970
«…Да, я не часто говорю с тобой…»
Н. Б.
…Да, я не часто говорю с тобой
И, кажется, впервые — слишком длинно.
Здесь ветер, долгий, жаркий, полевой,
Идет спокойно ширью всей равнины.
И вот, встречаясь с ветром грудь на грудь,
Себе кажусь я грубым и плечистым.
И я, и он на стане где-нибудь,
Мы оба пахнем, словно трактористы,
Дымком, соляркой, тронутой землей,
Горячей переломанной соломой.
Здесь жизни ход — натруженный, иной
(И, может статься, чересчур земной),
Чем там, где люди сеют в мире слово,
А пожинают — впрочем, что кому.
Те два посева сравнивать не ново
И не всегда разумно — потому
Давай с тобой доверимся на свете
В стихии — чувству, в остальном — уму,
И даже если все смешает ветер,
Как этой жизни, отдаюсь ему.
1970
Дивьи монахи
Ночью с Дона — страхи
Клонят свечку веры.
С Киева монахи
Роют там пещеры.
Как монах заходит
С черной бородою,
А другой выходит
С белой головою.
Каково, монаше,
Житие-то ваше?
Белая — от мела
Или поседела
Твоя голова?
Солнце тяжко село,
Свечка догорела,
На губах монашьих
Запеклись навеки
Кровь или слова?..
Руки их в бессилье
Непокорны стали;
На груди скрестили —
Разошлись, упали
Дланями на глыбу,
Что весь день тесали.
1971
«Белый храм…»
Белый храм Двенадцати апостолов,
Вьюга — по крестам,
А внизу скользят ладони по столу —
Медь считают там.
Вот рука моя с незвонкой лептою,
Сердце, оглядись:
В этом храме — не великолепие
Освещенных риз.
Что за кровь в иконописце-пращуре,
Что за кровь текла,
Говорят глаза — глаза, сквозящие
Из того угла.
Суждено нам суетное творчество,
Но приходит час —
Что-то вдруг под чьим-то взглядом скорчится,
Выгорая в нас.
Но мечта живая не поругана,
Хоть и был пожар,
И зовет, чтоб я ночною вьюгою
Подышал.
1970
«Налево — сосны над водой…»
Налево — сосны над водой,
Направо — белый
и в безлунности —
Высокий берег меловой,
Нахмурясь, накрепко
задумался.
Еще не высветлен зенит,
Но облака уже разорваны.
Что мне шумит?
Что мне звенит
Далече рано перед зорями?
Трехтонка с флягами прошла,
И алюминиево-голые,
Так плотно трутся их тела
Как бы со срезанными
головами.
Гремит разболтанный прицеп,
Рога кидая на две стороны.
Моторный гул уходит в степь
Далече рано перед зорями.
Теки, река, и берег гладь,
Пусть берег волны гранью
трогает.
Иные воды, да не вспять,
А все — сужденной им дорогою.
И сколько здесь костей хранит
Земля, что накрест переорана!..
Звезда железная звенит
Далече рано перед зорями.
1971
«Аэропорт перенесли…»
Аэропорт перенесли,
И словно изменился климат:
Опять здесь морось, а вдали
Восходят с солнцем корабли.
Я жил, как на краю земли,
И вдруг — так грубо отодвинут.
Где стройность гула? Где огни?
Руками раздвигаю вечер.
Лишь звуки острые одни
Всей человеческой возни,
Шипам терновника сродни,
Пронзают — ссоры, вздохи, речи.
Рванешься — и не улетишь, —
Таких чудес мы не свершили.
Но вот конец. Безмолвье крыш,
И точат полночь червь и мышь,
И яблоком раздора в тишь
Летит антоновка с вершины.
Стою, как на краю земли,
Удар — по темени, по крыше!
Сопи, недоброе, дремли!
К луне выходят корабли,
Как хорошо, что там, вдали,
А то б я ничего не слышал.
1971
На реке
Воткнулись вглубь верхушки сосен,
Под ними млеют облака,
И стадо медленно проносит
По ним пятнистые бока.
И всадник, жаром истомленный,
По стремя ярко освещен
Там, где разлился фон зеленый,
И черен там, где белый фон.
А я курю неторопливо
И не хочу пуститься вплавь
Туда, где льется это диво
И перевертывает явь.
1971
«Дорога все к небу да к небу…»
Дорога все к небу да к небу,
Но нет даже ветра со мной,
И поле не пахнет ни хлебом,
Ни поднятой поздней землей.
Тревожно-багров этот вечер:
Опять насылает мороз,
Чтоб каменно увековечить
Отвалы бесснежных борозд.
А солнце таращится дико
На поле, на лес, на село,
И лик его словно бы криком
Кривым на закате свело.
Из рупора голос недальний
Как будто по жести скребет,
Но, ровно струясь и не тая,
Восходят дымки в небосвод.
С вершины им видится лучше.
Какие там близятся дни,
А все эти страхи — летучи
И сгинут — как в небе — они.
1971
«И вдруг за дождевым навесом…»
И вдруг за дождевым
навесом
Все распахнулось под горой,
Свежо и горько пахнет лесом —
Листвой и старою корой.
Все стало чистым и наивным,
Кипит, сверкая и слепя,
Еще взъерошенное ливнем
И не пришедшее в себя.
И лесу точно нет и дела,
Что крайний ствол наперекос,
В изломе розовато-белом —
Как будто выпертая кость.
Еще поверженный не стонет,
Еще не сохнув, не скрипит,
Обняв других, вершину клонит,
Но не мертвеет и не спит.
Восторг шумливо лист колышет,
Тяжел и груб покой ствола,
И обнаженно рана дышит,
И птичка, пискнув, замерла.
1972
«На пустыре обмякла яма…»
На пустыре обмякла яма,
Наполненная тишиной,
И мне не слышно слово «мама»,
Произнесенное не мной.
Тяжелую я вижу крышу,
Которой нет уже теперь,
И сквозь бомбежку резко слышу,
Как вновь отскакивает дверь.
1971
«Осень лето смятое хоронит…»
Осень лето смятое хоронит
Под листвой горючей.
Что он значит, хоровод вороний,
Перед белой тучей?
Воронье распластанно
мелькает,
Как подобье праха,—
Радуясь, ненастье ль накликает,
Иль кричит от страха?
А внизу дома стеснили поле,
Вознеслись над бором.
Ты кричишь, кричишь не оттого ли,
Бесприютный ворон?
Где проселок? Где пустырь в бурьяне?
Нет пустого метра.
Режут ветер каменные грани,
Режут на два ветра.
Из какого века, я не знаю,
Из-под тучи белой
К ночи наземь пали эти стаи
Рвано, обгорело.
1971
«Листа несорванного дрожь…»
Листа несорванного дрожь,
И забытье травинок тощих,
И надо всем еще не дождь,
А еле слышный мелкий дождик.
Набухнут капли на листе,
И вот, почувствовав их тяжесть,
Рожденный там, на высоте,
Он замертво на землю ляжет.
Но все произойдет не вдруг:
Еще — от трепета до тленья —
Он совершит прощальный крут
Замедленно — как в удивленье.
А дождик с четырех сторон
Уже облег и лес, и поле
Так мягко, словно хочет он,
Чтоб неизбежное — без боли.
1971
«Опять мучительно возник…»
Но лишь божественный глагол…
А. Пушкин
Опять мучительно возник
Передо мною мой двойник.
Сперва живет, как люди:
Окончив день, в преддверье сна
Листает книгу, но она
В нем прежнего не будит.
Уж все разбужено давно И, суетою стеснено,
Уснуло вновь — как насмерть.
Чего хотелось? Что сбылось?
Лежит двойник мой — руки врозь,
Бессильем как бы распят.
Но вот он медленно встает —
И тот как будто и не тот:
Во взгляде — чувство дали,
Когда сегодня одного,
Как обреченного, его
На исповедь позвали.
И, сделав шаг в своем углу
К исповедальному столу,
Прикрыл он дверь покрепче,
И сам он думает едва ль,
Что вдруг услышат близь и даль
То, что сейчас он шепчет.
1968

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
На рассвете
Снегирей орешник взвешивал
На концах ветвей.
Мальчик шел по снегу
свежему
Мимо снегирей.
Не веселой, не угрюмою,
А какой — невесть,
Был он вдруг застигнут
думою
И напрягся весь.
Встал средь леса первым
путником,
Набок голова —
И по первоснежью прутиком
Стал чертить слова:
«Этот снег не белый — розовый,
Он от снегиря.
Рано утром из Березова
Проходил здесь я»…
И печатно имя выставил
Прутиком внизу,
И не слышал, как
посвистывал
Некий дух в лесу.
Снегирей спугнув с орешника,
В жажде буйных дел,
Дух над мальчиком —
над грешником —
Грозно прохрипел:
— А зачем ты пишешь
по лесу
Имя на снегу?
Иль добрался здесь до полюса?
Иль прошел тайгу?
Снег ему не белый, — розовый!..
Погляди сперва! —
И под валенками россыпью —
Первые слова…
…Первый стих, сливая в голосе
Дерзость, боль и смех,
Покатился эхом — по лесу,
А слезами — в снег.
1971
Рассвет
1
Пройдя сквозь ночь, я встретил рано
Рассвет зимы лицом к лицу.
Рассвет работал — поскрип крана
Шел в тон скрипучему крыльцу.
Над грудой сдвинутого праха,
Как ископаемое сам,
Скелет гигантского жирафа
Явив земле и небесам,
Кран с архаичностью боролся,
Крюком болтая налегке,
А после — пирамиду троса
Неся сохранно на крюке.
От напряженья бледно-синий,
Воздушный с виду в той судьбе,
Стальной пронзительностью линий
Он поражал ее в себе.
2
А кто там в будке — тот ли, та ли,—
Душа ль, в которой — высота?
Душа ль, что рвется, вылетая
Клубочком белым изо рта?
Иль отрешенный, застекольный,
Мой ближний стерся и умолк,
Чтобы — ни радостно, ни больно,
Чтоб только волю втиснуть в долг?
Молчанье. Кран, как дух рабочий,
Стрелою с хрустом поведя,
Покончил вдруг с застоем ночи,
Напружился — и, погодя…
Не отрывалась, а всплывала
Плита, теряющая вес,
Как удивленная сначала,
Она недолгий путь свой весь
Чертила вытянуто, странно,
Не отклоняясь ни на пядь:
Она боялась грубой гранью
Рассвет до крови ободрать.
И двуединое подобье
Бетон со спуском обретал:
Неотвратимый — как надгробье,
Торжественный — как пьедестал.
3
То в профиль, то лицом — при спуске —
Там, надо мной, горит душа,
На вечность плюнувши по-русски,
Живой минутой дорожа.
А здесь, по русскому присловью:
«Один работай, семь дивись», —
По-русски ртами диво ловят
И головой — то вверх, то вниз.
Железный жест под грузом точен,
Без груза — радостно-широк:
Талант наукой не источен,
Науке дар свободный — впрок.
Жаль, с ним — с безвестным — я расстанусь.
Да что ему? В пылу труда
Хранит в нас душу безымянность
Надежней славы иногда…
1970
Дом беды
— Я прокляла тебя. Тройным проклятьем.
За что — пусть знаем только мы вдвоем.
— Благодарю. Порой мы большим платим,
Когда прощают, чтоб проклясть — потом.
Какая тьма! Лишь выйди на крыльцо,
В уме сотрется даже цифра часа,
Обложит полночь густотертой массой,
И в ней мое оттиснется лицо.
И ощупью ступая, как по краю,
Теперь-то мне и хочется сказать,
Когда я ничего уже не знаю,
Когда я проклят иль прощен опять,
Когда добру не в силах доверять
И злу чужому в чистую тетрадь
Не дал пути. А в душу? Печка, грей
Не одного меня, а всех, кто в Доме:
Чего порой не сыщешь у людей,
Найдешь в дровах, иль угле, иль соломе!
И прояснится ум в тебе тогда,
И счет пойдет, но не такой, как прежде:
Что величалось именем Беда,
Ты сбросишь, словно стылые одежды,
И вот в одной рубашке, не кляня,
Благодаря — без слова — за проклятье,
Как от успеха — руки у огня
Ты потираешь — ты готов к расплате!
И станешь думать: странен человек —
Всю жизнь себя передает другому
Через предметы: вот он, мой ночлег,
Где три хозяйки вверенному Дому
Придали вновь гостеприимный вид,
И в книге, что подсунута на случай,
Мое перо не жалобно скрипит,
А свищет — благодарно и певуче.
Хозяйки русской добрые черты
Распознаешь в бесхитростных предметах:
Там — знак ее хлопот и чистоты —
Две простыни, как два квадратных света,
А печка, довершая весь уют,
Теплом и гулом каменного чрева
Пробудит что-то древнее в тебе:
Быть может, тягу к Очагу и Дому,
Что столько лет в кочующей судьбе,
Как к своему, ведет меня к любому!
И час такой настроил бы меня
На этот лад надолго — хоть до утра:
Здесь лица барельефны от огня,
И мысль приходит первобытно-мудрой.
И все, что называем суетой;
Которая дана взамен событий,
Уже пережитая — на отстой
В тебе пойдет, чтоб завтра стать забытой.
Пока ж она, немирная еще,
В душе перекипает, словно пена,
Подсвеченное печкой горячо,
Лицо твое выходит постепенно…
— Зачем пришла?
Скажи, зачем со мной пришла сюда?
Мужские сны подсматривать? Подслушать,
Как их словами бредит темнота?
Как в ней неусыпленно реют души?
Как этот навзничь брошенный пилот
Из сельской авиации, как плена,
Боящийся ненастья, — солнца ждет,
Оборотись лицом ко всей Вселенной?
Ты слышишь, как он вскрикнул и затих,
Как будто понял — звуки слишком грубы.
И где-то имя, трудное, как стих,
Вылепливают судорожно губы.
И та, кому принадлежит оно,
Не знает, что коротенькое имя
Примерено и накрепко дано
Всей жизни, на двоих уж неделимой.
И мне — какое дело в этот час
До наших бед — они добра приметы,
Когда взаимно мы в самих же нас —
Переданные не через предметы.
1971
Последняя встреча
Как будто век я не был тут,
Не потому, что перемены.
Все так же ласточки поют
И метят крестиками стены.
Для всех раскрытая сирень
Все так же выгнала побеги
Сквозь просветленно-зыбкий день,
Сквозь воздух, полный синей неги.
И я в глаза твои взглянул —
Из глубины я ждал ответа,
Но, отчужденный, он скользнул,
Рассеялся и сгинул где-то.
Тогда я, трепетный насквозь,
Призвал на помощь взгляду слово,
Но одиноко раздалось
Оно — и тихо стало снова.
И был язык у тишины —
Сводил он нынешнее с давним,
И стали мне теперь слышны
Слова последнего свиданья.
Не помню, пели ль соловьи,
Была ли ночь тогда с луною,
Но встали там глава твои,
Открывшись вдруг, передо мною.
Любви не знавшие, как зла,
Они о страсти не кричали —
В напрасных поисках тепла
Они как будто одичали.
И вышли ночью на огонь…
И был огонь живым и щедрым —
Озябшим подавал ладонь
И не кидался вслед за ветром.
Своею силой он играл —
Ему не надо было греться:
Он сам и грел, и обжигал,
Когда встречал дурное сердце.
А здесь он дрогнул и поник
Перед раскрытыми глазами:
Он лишь себя увидел в них
И, резко выпрямившись, замер.
Все одиночество его,
Там отраженное, глядело
И в ту минуту твоего
В себя впустить не захотело.
И, одинокий, шел я прочь,
И уносил я… нет, не память!
Как жадно всасывали ночь
Цветы припухшими губами!
Как время пестрое неслось,
Как день бывал гнетуще вечен,
Как горько всем отозвалось
Мгновенье той последней встречи!
Прости, последней — для тебя,
А для меня она — вначале…
И стал я жить, не торопя
Души, которой не прощал я.
Прости, и пусть, как чистый день,
Мой благодарный вздох и радость
Вдохнет раскрытая сирень
За домовитою оградой.
Не ты ль понять мне помогла
(Как я твои не смог вначале)
Глаза, что в поисках тепла
Мне вновь открылись одичало.
1971

НА ПЕРЕПУТЬЕ
«Весна — от колеи шершавой…»
Весна — от колеи шершавой
До льдинки утренней — моя.
Упрямо в мир выходят травы
Из темного небытия.
И страшно молод и доверчив,
Как сердце маленькое — лист,
И стынет он по-человечьи,
Побегом вынесенный ввысь.
И в нас какое-то подобье:
Мы прорастаем только раз,
Чтоб мир застать в его недобрый
Иль напоенный светом час.
Нам выпало и то и это,
И хоть завидуем другим,
Но, принимая зрелость лета,
Мы жизнь за все благодарим.
Мы знаем, как она боролась
У самой гибельной стены, —
И веком нежность и суровость
В нас нераздельно сведены.
И в постоянном непокое
Тебе понятны неспроста
И трав стремленье штыковое,
И кротость детская листа.
1963
«В бессилье не сутуля плеч…»
В бессилье не сутуля плеч,
Я принял жизнь. Я был доверчив.
И сердце не умел беречь
От хваткой боли человечьей.
Теперь я опытней. Но пусть
Мне опыт мой не будет в тягость:
Когда от боли берегусь,
Я каждый раз теряю радость.
1963
«Ладоней темные морщины…»
Ладоней темные морщины —
Как трещины земной коры.
Вот руки, что меня учили
Труду и жизни до поры.
Когда ж ударил час разлуки,
Они — по долгу матерей —
Меня отдали на поруки
Тревожной совести моей.
Я до предела веком занят,
Но есть минуты средь забот:
Во всю мою большую память
Вновь образ матери встает.
Все та ж она, что шьет и моет,
Что гнется в поле дотемна.
Но словно вечностью самою
Светло озарена она.
Чертами теплыми, простыми
Без всяких слов, наедине
О человеческой святыне
Она пришла напомнить мне.
Так дай, родная, в них вглядеться,
Чтоб я почувствовал сильней
Наивные желанья детства
И зрелость совести моей.
1963
«Ветер выел следы твои…»
Ветер выел следы твои на обожженном песке.
Я слезы не нашел, чтобы горечь
крутую разбавить.
Ты оставил наследство мне —
Отчество, пряник, зажатый в руке,
И еще — неизбывную едкую намять.
Так мы помним лишь мертвых.
Кто в сумрачной чьей-то судьбе
Был виновен до гроба.
И знал ты, отец мой,
Что не даст никакого прощенья тебе
Твоей доброй рукою
Нечаянно смятое детство.
Помогли тебе те, кого в ночь клевета родила
И подсунула людям, как искренний дар свой.
Я один вырастал и в мечтах,
Не сгоревших дотла,
Создал детское солнечное государство.
В нем была Справедливость —
Бессменный взыскательный вождь,
Незакатное счастье светило все дни нам,
И за каждую, даже случайную ложь
Там виновных поили касторкою или хинином.
Рано сердцем созревши,
Я рвался из собственных лет.
Жизнь вскормила меня,
свои тайные истины выдав,
И когда окровавились пажити,
Росчерки резких ракет
Зачеркнули сыновнюю выношенную обиду.
Пролетели года.
Обелиск.
Траур лег на лицо…
Словно стук телеграфный
Я слышу, тюльпаны кровавые стиснув:
«Может быть, он не мог
Называться достойным отцом,
Но зато он был любящим сыном Отчизны…»
Память!
Будто с холста, где портрет незабвенный,
Любя,
Стерли едкую пыль незабвенные руки.
Это было, отец, потерял я когда-то тебя,
А теперь вот нашел — и не будет разлуки…
1962
Рубиновый перстень
В черном зеве печном
Красногривые кони.
Над огнем —
Обожженные стужей ладони.
Въелся в синюю мякоть
Рубиновый перстень —
То ли краденый он,
То ль подарок невестин.
Угловатый орел
Над нагрудным карманом
Держит свастику в лапах,
Как участь Германии.
А на выгоне
Матерью простоволосой
Над повешенной девушкой
Вьюга голосит.
Эта виселица
С безответною жертвой
В слове «Гитлер»
Казалась мне буквою первой.
А на грейдере
Мелом беленные «тигры»
Давят лапами
Снежные русские вихри.
Новогоднюю ночь
Полосуют ракеты.
К небу с фляжками
Пьяные руки воздеты.
В жаркой школе —
Банкет.
Господа офицеры
В желтый череп скелета
В учительской целят.
В холодящих глазницах,
В злорадном оскале,
Может, будущий день свой
Они увидали?..
Их веселье
Штандарт осеняет с флагштока.
Сорок третий идет
Дальним гулом с востока.
У печи,
На поленья уставясь незряче,
Трезвый немец
Сурово украдкою плачет.
И чтоб русский мальчишка
Тех слез не заметил,
За дровами опять
Выгоняет на ветер.
Непонятно мальчишке:
Что все это значит?
Немец сыт и силен —
Отчего же он плачет?..
А неделю спустя
В переполненном доме
Спали впокат бойцы
На веселой соломе.
От сапог и колес
Гром и скрип по округе.
Из-под снега чернели
Немецкие руки.
Из страны непокорной,
С изломистых улиц
К овдовевшей Германии
Страшно тянулись.
И горел на одной
Возле школы,
На въезде,
Сгустком крови бесславной
Рубиновый перстень.
1963
«Далекий день. Нам по шестнадцать лет…»
Далекий день. Нам по шестнадцать лет.
Я мокрую сирень ломаю с хрустом:
На парте ты должна найти букет
И в нем — стихи. Без имени, но с чувством.
В заглохшем парке чуткая листва
Наивно лепетала язычками
Земные, торопливые слова,
Обидно не разгаданные нами.
Я понимал затронутых ветвей
Упругое упрямство молодое,
Когда они в невинности своей
Отшатывались от моих ладоней.
Но май кусты порывисто примял,
И солнце вдруг лукаво осветило
Лицо в рекламном зареве румян
И чей-то дюжий выбритый затылок.
Я видел первый раз перед собой
Вот эту, неподвластную эпохам,
Прикрытую сиреневой листвой
Зверино торжествующую похоть.
Ты шла вдали. Кивали тополя.
И в резких тенях, вычерченных ими,
Казалась слишком грязною земля
Под туфельками белыми твоими…
Но на земле предельной чистотой
Ты искупала пошлость человечью, —
И я с тугой охапкою цветов
Отчаянно шагнул тебе навстречу.
1963
«Дым березам по пояс…»
Дым березам по пояс.
Торопись, не просрочь.
Зарывается поезд
В нелюдимую ночь.
Мы так мало знакомы.
Только это не в счет.
Твою голову дрема
Клонит мне на плечо.
Но и в близости строгой
Наших рук, наших плеч
Я ревниво в дороге
Буду сон твой беречь.
Может, жизнью моею,
Той, что в горьком долгу,
Я иное навею,
Я иное зажгу.
Время ветром коснулось
Твоих щек в эту ночь.
О попутчица-юность,
Торопись, не просрочь!
1963
«В себе ненужного не трогай…»
В себе ненужного не трогай.
Смотри в глаза простого дня.
Он в озабоченности строгой
Хранит иное для меня.
Вот — голубой трамвай
прозвякал
Звонком по-детски вдалеке.
И кисть малярная —
как факел —
У встречной девушки в руке.
Ее цветной и грубый фартук
Среди морозной белизны
Я принимаю словно карту
Открытой заново страны.
Пусть счастье вызреет не скоро,
Но, пролагая верный след,
Несу любовь я, для которой
Уже обыденного — нет.
1963
«Зима крепит свою державу…»
Зима крепит свою державу.
В сугробах трав стеклянный сон.
По веткам белым и шершавым
Передается ломкий звон.
Синеет след мой не бесцельный.
О сказки леса, лег он к вам!
И гул певучести метельной
С вершин доходит по стволам.
Я у стволов, как у подножья
Величья легкого, стою.
И сердце родственною дрожью
Певучесть выдало свою.
В объятьях сосен я исколот.
Я каждой лапу бы пожал.
И красоты кристальный холод
По жилам гонит алый жар.
1963
«Та ночь была в свечении неверном…»
Та ночь была в свечении неверном,
Сирены рваный голос завывал,
И мрак прижался к нам, как дух пещерный,
Седьмой тревогой загнанный в подвал.
Извечный спутник дикости и крови,
Людским раздорам потерявший счет,
При каждом взрыве вскидывал он брови
И разевал мохнатый черный рот.
Над нами смерть ступала тяжко, тупо,
Стальная, современная, она,
Клейменная известной маркой Крупна,
Была живым по-древнему страшна.
А мрак пещерный на дрожащих лапах
Совсем не страшен. Девочка, всмотрись:
Он — пустота, он — лишь бездомный запах
Кирпичной пыли, нечисти и крыс…
Так ты вошла сквозь кутерьму ночную,
Еще не зная о своей судьбе,
Чтобы впервые смутно я почуял
Зачатье сил, заложенных в тебе.
Смерть уходила, в небе затихая,
И напряженье в душах улеглось,
И ощутил я чистоту дыханья
И всю стихию спутанных волос.
Тебя я вывел по ступенькам стылым
Из темноты подвального угла,
И руки, что беда соединила,
Застенчивая сила развела.
Среди развалин шла ты,
Как в пустыне,
Так близко тайну светлую храня.
С тех пор я много прожил,
Но поныне
В тебе все та же тайна для меня.
И как в ту ночь,
Сквозь прожитые годы
Прошли на грани счастья и беды,
Волнуя целомудренностью гордой,
Твои неизгладимые следы.
1963
«Развесистыми струями фонтана…»
Развесистыми струями фонтана
Обрызганная ластилась листва,
А встреча зноем за душу хватала,
И в хриплом горле плавились слова.
И голос твой был до предела сдержан,
Но шел он из тревожной глубины,
Пронизывал судьбу мою, как стержень,
Несущий нетерпение весны.
Он весь во мне — до горечи понятный,
Так где ж была ты, мой тревожный друг?
Горят на мне язвительные пятна —
Прикосновенья душных чуждых рук.
Я разорвал сплетенье хищных веток —
Мы рядом в человеческом лесу.
Как друг, на грудь кидается мне ветер,
Ладонями проводит по лицу.
Новорожденных листьев дрожь немая,
Как тоненькие выстрелы — трава…
Есть мука обновленья. Принимаю.
И в хриплом горле плавятся слова.
1963
Зной
Карьер — как выпитая чаша.
Снимает солнце кожу с плеч,
Здесь дождик судорожно пляшет,
Чтоб ног о камни не обжечь.
Кругом под желтым игом зноя
Глыб вековое забытье.
От жажды — в бочке привозное
С железным привкусом питье.
А там, вдали, аллеи сада,
Легко доступные и мне,
В стакане колкая прохлада
По трехкопеечной цене.
И в ночь, когда идешь с любимой,
Вдруг отразят глаза твои
Высокий выгиб лебединый
Фонтаном вскинутой струи.
Но я под плеск фонтана вспомню
Ребят победно-хриплый вскрик,
От взрыва пыль в каменоломне
И в зной ударивший родник.
Мы пили, вставши на колени,
Как будто в мудрой простоте
Здесь совершалось поклоненье
Его суровой чистоте.
1963
«В низкой арке забрезжило…»
В низкой арке забрезжило.
Смена к концу.
Наши лица красны
От жары и от пыли,
А огонь неуемно идет по кольцу,
Будто Змея Горыныча
В печь заточили.
Летний душ
Словно прутьями бьет по спине,
Выгоняя ночную усталость из тела,
Ведь кирпич,
Обжигаемый в адском огне, —
Это очень нелегкое древнее дело.
И не этим ли пламенем прокалены
На Руси —
Ради прочности зодческой славы —
И зубчатая вечность
Кремлевской стены,
И Василья Блаженного
Храм многоглавый?
Неудачи, усталость
И взрывчатый спор
С бригадиром,
Неверно закрывшим наряды,—
Сгинет все, как леса,
Как строительный сор,
И останутся зданий крутые громады,
Встанут — с будущим вровень.
Из окон — лучи.
И хоть мы на примете у славы не будем,
Знайте:
По кирпичу из горячей печи
Города на ладонях
Выносим мы людям.
1963
«Среди цементной пыли душной…»
Среди цементной пыли душной,
Среди кирпичной красоты
Застигла будничную душу
Минута высшей красоты.
И было все привычно грубо:
Столб, наклонившийся вперед,
И на столбе измятый рупор —
Как яростно раскрытый рот.
Но так прозрачно, так певуче
Оттуда музыка лилась.
И мир был трепетно озвучен,
Как будто знал ее лишь власть.
И в нем не достигали выси,
Доступной музыке одной,
Все звуки, без каких немыслим
День озабоченно-земной.
Тяжка нестройная их сила,
Неодолима и густа.
А душу странно холодила
Восторженная высота.
Быть может, там твоя стихия?
Быть может, там отыщешь ты
Почувствованное впервые
Пристанище своей мечты?..
Я видел все. Я был высоко.
И мне открылись, как на дне,
В земной нестройности истоки
Всего звучащего во мне.
И землю заново открыл я,
Когда затих последний звук,
И ощутил не легкость крыльев,
А силу загрубелых рук.
1963
«Так — отведешь туман рукою…»
Так — отведешь туман рукою
И до конца увидишь вдруг
В избытке света и покоя
Огромной дали полукруг.
Как мастер на свою картину,
Чуть отойдя, глядишь без слов
На подвесную паутину
Стальных креплений и тросов.
За ней — певучею и длинной,
За гранями сквозных домов
Могуче веет дух былинный
С речных обрывов и холмов.
Скелет моста ползущий поезд
Пронзает, загнанно дыша,
И в беспредельности освоясь,
Живая ширится душа.
И сквозь нее проходит время,
Сводя эпохи в миг один,
Как дым рабочий — с дымкой древней
Средь скромно убранных равнин.
И что бы сердце ни томило,
Она опять в тебя влилась —
Очеловеченного мира
Очеловеченная власть.
1963
«Сосед мой спит…»
Сосед мой спит. Наморщенные грозно,
Застыли как бы в шаге сапоги.
И рукавица электрод морозный
Еще сжимает волею руки.
Еще доспехи, сброшенные с тела,
Порыв движенья жесткого хранят.
Сосед мой спит. Весь мир — большое дело,
Которым жив он, болен и богат.
Часы с браслетом на запястье дюжем
Минуты века числят наизусть,
И борода — спасение от стужи —
Густа и непокорна, словно Русь.
Грохочет дом, где хлеб и сон мы делим,
И молодая вьюга у дверей
По черному вычерчивает белым
Изгибы человеческих путей.
Они бессмертны — дай им только слиться,
Они сотрутся — лишь разъедини.
И дни простые обретают лица,
И чистый свет кладут на лица дни.
1964
«Густая тень и свет вечерний…»
Густая тень и свет вечерний —
Как в сочетанье явь и сон.
На золотое небо чернью
Далекий город нанесен.
Он стал законченней и выше.
Не подавляя общий вид,
Движенья полный —
он недвижен,
Тревожно-шумный — он молчит.
Без мелочей — тупых и тусклых —
Он вынес в огненную высь
И строгость зодческого чувства,
И шпили — острые, как мысль.
1963
«Шнуры дымились…»
Шнуры дымились. Мы беды не ждали.
И с жестких губ проклятье сорвалось,
Когда он встал на каменном увале —
Весенней силой вынесенный лось.
Он весь был клич — горячий и упругий.
И, принимая ветер на рога,
Он чуял в нем и брачный зов подруги,
И гневное дыхание врага.
А там — средь сосен, обреченно хмурых,
Готовая обвально прогреметь,
Ждала в набитых аммонитом шпурах —
Смерть.
Была минута — из-за глыб молчащих
Стремительно, как бедственный сигнал,
Навстречу лосю вырвался запальщик
И с гулким криком шапкой замахал.
Стояло солнце диском дымно-черным.
Опали камни. Эхо улеглось.
С обломком ветки на рогах точеных
Мелькал в просветах оглушенный лось.
Ничком лежало свернутое тело.
Открытый рот — как омертвелый крик.
На много метров шапка отлетела,
И чуть дымился стиснутый пальник.
Вы эту силу юную измерьте
В ее живой бесстрашной наготе!..
Вы говорите о нелепой смерти,
А я — о человечьей красоте.
1963
«Торопит нас крутое время…»
Торопит нас крутое время,
И каждый час в себе несет
Отчаянные измеренья
Зовущих далей и высот.
Расчеты твердые, скупые
Таят размах мечты твоей
В разумно скованной стихии
Смертельных сил и скоростей.
Ты с ней велик: стихия эта,
Тобой рожденная, — твоя.
И кружит старая планета
Всю современность бытия.
А ты в стремительном усилье,
Как вызов, как вселенский клич,
Выносишь солнечные крылья,
Чтоб запредельное постичь.
Но в час, когда отдашь ты душу
Безумью сил и скоростей
И твой последний крик заглушит
Машина тяжестью своей,—
В смешенье масла, пыли, крови
Так жалко тают кисти рук…
И мы спешим, нахмурив брови,
Закрыть увиденное вдруг.
И той поспешностью, быть может,
Хотим сказать мы — без речей,
Что миг бессилья так ничтожен
Перед могуществом людей.
1963
«Гляжу в ночи на то, что прожил…»
Гляжу в ночи на то, что прожил.
Была весна. И был разлив.
С годами сердце стало строже,
Себя ревниво сохранив.
И, верное своей природе,
Оно не чуждо дню весны,
Но в нем теперь не половодье,
А просветленность глубины.
1963
«Нагрянет горе. Сгорбит плечи…»
Нагрянет горе. Сгорбит плечи.
И рядом вздрогнет лучший друг.
Но сердцу ясно: круг очерчен,
И ты один вступил в тот круг.
Угрюмо ширится молчанье,
Испугом округляя рты,
И в тишине первоначальной
Все ждут как будто: что же ты?
Когда заметят слезных пятен
Горячий глянец на лице,
Им сразу легче — ты понятен
В их сострадательном кольце.
Но нет слезы и нет излома
В крутой суровости бровей.
Каким-то странным, незнакомым
Ты станешь для родных людей.
С дождем не все на свете грозы,
И та, что без дождя, страшней.
Ты знаешь цену льющим слезы —
И цену твердости твоей.
Чугун отдастся в тяжком шаге,
Но на людей перед тобой
Повеет силой — как от флага
Со строгой черною каймой.
1963
«Когда бы все, чего хочу я…»
Когда бы все, чего хочу я,
И мне давалось, как другим,
Тревогу темную, ночную
Не звал бы именем твоим.
И самолет, раздвинув звезды,
Прошел бы где-то в стороне,
И холодком огромный воздух
Не отозвался бы во мне.
От напряженья глаз не щуря,
Не знал бы я, что пронеслось
Мгновенье встречи — черной бурей
Покорных под рукой волос.
Глаза томительно-сухие
Мне б не открыли в той судьбе,
Какие жгучие стихии
Таишь ты сдержанно в себе.
Все незнакомо, как вначале:
Открой, вглядись и разреши!..
За неизведанностью дали —
Вся неизведанность души.
И подчиняться не умея
Тому, что отрезвляет нас,
И слепну в медленном огне я,
И прозреваю каждый час.
1963
«В ночи заботы не уйдут…»
В ночи заботы не уйдут —
Вздремнут с открытыми глазами.
И на тебя глядит твой труд,
Не ограниченный часами.
И сколько слов из-под пера,
Из-под резца горячих стружек,
Пока частицею добра
Не станет мысль, с которой сдружен.
Светла, законченно стройна,
Чуть холодна и чуть жестока.
На гордый риск идет она,
Порой губя свои истоки.
Не отступая ни на пядь
Перед безмыслием постылым,
Она согласна лишь признать
Вселенную своим мерилом.
1963
«Широкий лес остановил…»
Широкий лес остановил
Ночных ветров нашествие,
И всюду — равновесье сил,
И дым встает — торжественный.
Шурши, дубовый лес, шурши
Пергаментными свитками,
Моей заждавшейся души
Коснись ветвями зыбкими!
За речкой, трепетной до дна,
За медленными дымами
Опять зачуяла она
Огромное, родимое.
И все как будто обрело
Тончайший слух и зрение.
И слышит и глядит светло
В минутном озарении.
Сквозят и даль и высота,
И мысль совсем не странная,
Что шорох палого листа
Отдастся в мироздании.
В осеннем поле и в лесу,
С лучом янтарным шествуя,
Я к людям утро донесу
Прозрачным и торжественным.
1963
«Ты вернула мне наивность…»
Ты вернула мне наивность.
Погляди — над головой
Жаворонок сердце вынес
В светлый холод ветровой.
Расколдованная песня!
Вновь я с травами расту,
И по нити по отвесной
Думы всходят в высоту.
Дольным гулом, цветом ранним,
Закачавшимся вдали,
Сколько раз еще воспрянем
С первым маревом земли!
Огневое, молодое
Звонко выплеснул восток.
Как он бьется под ладонью —
Жавороночий восторг!
За мытарства, за разлуки
Навсегда мне суждены
Два луча — девичьи руки —
Над становищем весны.
1964
«Деревья бьет тяжелый ветер…»
Деревья бьет тяжелый ветер,
Водою тучи изошли;
В пожарно-красные просветы
Гляжу из сумрака земли.
А мокрый сумрак шевелится:
В порывах шумной маеты
На ветках вырезались листья,
Внизу прорезались цветы.
Пронзительно побеги лезут,
Возносится с вершины грач,
Растут столбы, растет железо
В просветы выстреливших мачт.
И вся в стремительном наклоне,
В какой-то жажде высоты,
По ветру вытянув ладони,
Пробилась утренняя — ты.
1964
«Сюда не сходит ветер горный…»
Сюда не сходит ветер горный.
На водах — солнечный отлив.
И лебедь белый, лебедь черный
Легко вплывают в объектив.
Как день и ночь. Не так ли встретил
В минуту редкостную ты
Два проявленья в разном свете
Одной и той же красоты?
Она сливает в миг единый
Для тех, кто тайны не постиг,
И смелую доступность линий,
И всю неуловимость их.
Она с дичинкой от природы:
Присуще ей, как лебедям,
Не доверять своей свободы
Еще неведомым рукам.
1963
«Экран вписался в темный вечер…»
Экран вписался в темный вечер
Квадратно, холодно, бело.
Мгновенье жизни человечьей
Здесь отразилось — и прошло.
Уже добро не рукоплещет,
Наказанное зло вдали,
И только бабочки трепещут,
Как сны очищенной земли.
Но знаю, в тишине тревожась,
Что хищный сумрак — не из сна.
И полночь рой летучих рожиц
Мне кажет из-за полотна.
1963
«Смычки полоснули по душам…»
Смычки полоснули по душам —
И вскрикнула чья-то в ответ.
Минувшее — светом потухшим.
Несбыточным — вспыхнувший свет.
Вспорхнула заученно-смело,
Застыв, отступила на пядь.
Я знаю: изгибами тела
Ты вышла тревожить — и лгать.
Я в музыку с площади брошен,
И чем ты уверишь меня,
Что так мы певучи под ношей
Людского громоздкого дня?
Ломайся, покорная звуку!
Цветком бутафорским кружись!
По кругу, по кругу, по кругу —
Планета, душа моя, жизнь!
1964
«Опять над голым многолюдьем…»
Опять над голым многолюдьем
Июля солнечная власть,
И каждый рад открытой грудью
К земле по-древнему припасть.
Чей это стан? Какое племя?
Куда идет? Что правит им?..
Но не теряет облик время,
И в людях он невытравим.
Любой здесь временем помечен,
И оттого еще светлей
Святое утро человечье
Сквозит в невинности детей.
Дай пошалить на пляже всласть им,
Они в неведенье — и пусть.
И знай, что истинное счастье
Слегка окрашивает грусть.
А речка мирно лижет ноги
Своим холодным языком,
Какие ждут еще тревоги
Тебя, лежащего ничком?
Тебе от них не отрешиться.
Они овеяли твой путь.
И сердце в шар земной стучится:
Мы жили в мире — не забудь.
1963
Поэзия
Иду — в невольном замиранье,
А ты ведешь, ведешь туда,
Где люди даль не измеряли
И не измерят никогда.
Где зримо — и неощутимо,
Где жжет — и не сжигает сил,
Где, ясные, проходят мимо
Скопленья дум, проблем, светил.
Вбирая добрую свободу,
Забыл я тяжесть той цены,
Которой к солнечному входу
С тобою мы вознесены.
Но, вспомнив дом, по-свойски строго
Веду тебя в обратный путь.
Переоденься у порога
И вровень с днем моим побудь.
Он мирный — грозный, нежный,
грубый.
Он труден другу и врагу.
Мне пот очерчивает губы,
Но, утверждаясь, я — смогу.
Ты учишь верить. Ты не идол,
Но заставляешь столько раз
Подняться так, чтоб свет я видел,
Как, может, видят в смертный час.
Тебе не стану петь я гимны,
Но, неотступная, всерьез
Ты о несбыточном шепчи мне,
Чтоб на земле мое сбылось.
1964
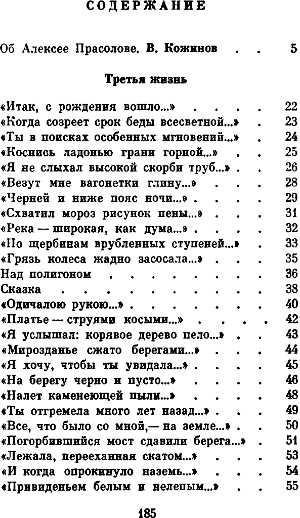
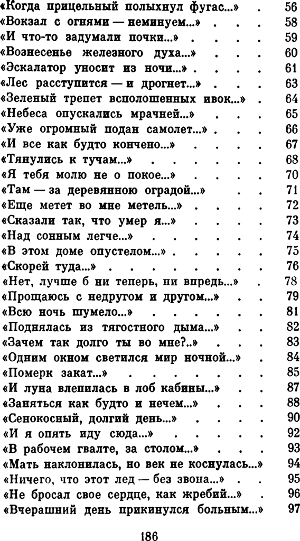


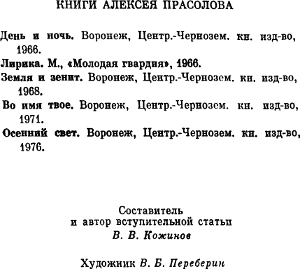



Примечания
1
См., например, первую посмертную книгу стихов Алексея Прасолова «Осенний свет» (Воронеж, 1976), журнал «Наш современник», 1977, № 9, воронежскую газету «Молодой коммунар» от 21 августа 1976 г., «День поэзии — 1977» (М., «Советский писатель», 1977), журнал «Литературная учеба», 1978, № 1 и др.
(обратно)
Оглавление
Об Алексее Прасолове (1930—1972). Вадим Кожинов
ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
«Итак, с рождения вошло…»
«Когда созреет срок беды всесветной…»
«Ты в поисках особенных мгновений…»
«Коснись ладонью грани горной…»
«Я не слыхал высокой скорби труб…»
«Везут мне вагонетки глину…»
«Черней и ниже пояс ночи…»
«Схватил мороз рисунок пены…»
«Река — широкая, как дума…»
«По щербинам врубленных ступеней…»
«Грязь колеса жадно засосала…»
Над полигоном
Сказка
«Одичалою рукою…»
«Платье — струями косыми…»
«Я услышал: корявое дерево пело…»
«Мирозданье сжато берегами…»
«Я хочу, чтобы ты увидала…»
«На берегу черно и пусто…»
«Налет каменеющей пыли…»
«Ты отгремела много лет назад…»
«Все, что было со мной, — на земле…»
«Погорбившийся мост сдавили берега…»
«Лежала, перееханная скатом…»
«И когда опрокинуло наземь…»
«Привиденьем белым и нелепым…»
«Когда прицельный полыхнул фугас…»
«Вокзал с огнями — неминуем…»
«И что-то задумали почки…»
«Вознесенье железного духа…»
«Эскалатор уносит из ночи…»
«Лес расступится — и дрогнет…»
«Зеленый трепет всполошенных ивок…»
«Небеса опускались мрачней…»
«Уже огромный подан самолет…»
«И все как будто кончено…»
«Тянулись к тучам…»
«Я тебя молю не о покое…»
«Там — за деревянною оградой…»
«Еще метет во мне метель…»
«Сказали так, что умер я…»
«Над сонным легче…»
«В этом доме опустелом…»
«Скорей туда…»
«Нет, лучше б ни теперь, ни впредь…»
«Прощаюсь с недругом и другом…»
«Всю ночь шумело…»
«Поднялась из тягостного дыма…»
«Зачем так долго ты во мне?..»
«Одним окном светился мир ночной…»
«Померк закат…»
«И луна влепилась в лоб кабины…»
«Заняться как будто и нечем…»
«Сенокосный, долгий день…»
«И я опять иду сюда…»
«В рабочем гвалте, за столом…»
«Мать наклонилась, но век не коснулась…»
«Ничего, что этот лед — без звона…»
«Не бросал свое сердце, как жребий…»
«Вчерашний день прикинулся больным…»
«И опять возник он с темным вязом…»
«В тяжких волнах наружного гула…»
«В час, как дождик…»
«Уходи. Я с ней один побуду…»
«В ковше неотгруженный щебень…»
«И вышла мачта черная — крестом…»
«Как ветки листьями облепит…»
«В эту ночь с холмов…»
«Замученные свесились цветы…»
«…Да, я не часто говорю с тобой…»
Дивьи монахи
«Белый храм…»
«Налево — сосны над водой…»
«Аэропорт перенесли…»
На реке
«Дорога все к небу да к небу…»
«И вдруг за дождевым навесом…»
«На пустыре обмякла яма…»
«Осень лето смятое хоронит…»
«Листа несорванного дрожь…»
«Опять мучительно возник…»
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
На рассвете
Рассвет
Дом беды
Последняя встреча
НА ПЕРЕПУТЬЕ
«Весна — от колеи шершавой…»
«В бессилье не сутуля плеч…»
«Ладоней темные морщины…»
«Ветер выел следы твои…»
Рубиновый перстень
«Далекий день. Нам по шестнадцать лет…»
«Дым березам по пояс…»
«В себе ненужного не трогай…»
«Зима крепит свою державу…»
«Та ночь была в свечении неверном…»
«Развесистыми струями фонтана…»
Зной
«В низкой арке забрезжило…»
«Среди цементной пыли душной…»
«Так — отведешь туман рукою…»
«Сосед мой спит…»
«Густая тень и свет вечерний…»
«Шнуры дымились…»
«Торопит нас крутое время…»
«Гляжу в ночи на то, что прожил…»
«Нагрянет горе. Сгорбит плечи…»
«Когда бы все, чего хочу я…»
«В ночи заботы не уйдут…»
«Широкий лес остановил…»
«Ты вернула мне наивность…»
«Деревья бьет тяжелый ветер…»
«Сюда не сходит ветер горный…»
«Экран вписался в темный вечер…»
«Смычки полоснули по душам…»
«Опять над голым многолюдьем…»
Поэзия
*** Примечания ***