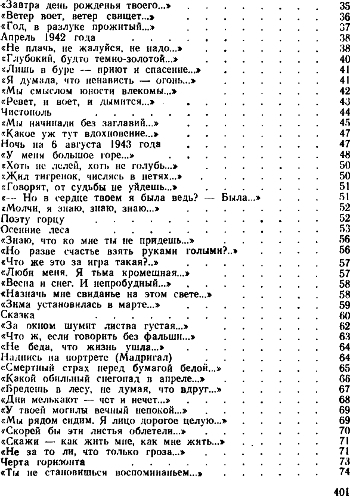МАРИЯ ПЕТРОВЫХ
ЧЕРТА ГОРИЗОНТА
Стихи и переводы
Воспоминания о Марии Петровых
СТИХИ

Стихи 20-х — 30-х годов
«Весна так чувственна. Прикосновенье ветра…»
Весна так чувственна. Прикосновенье ветра
Томит листву, и грешная дрожит.
Не выдержит? И этой самой ночью…
Пахучая испарина ползет
И обволакивает. Мягко
Колышутся и ветви клена,
И чьи-то волосы, и чей-то взгляд.
Все — обреченное. И я обречена
Под кожу втягивать прохладную звезду,
И душный пот земли, и желтый мир заката…
Но по железу ерзнула пила,
И кислое осело на зубах.
1927
Звезда
Когда настанет мой черед,
И кровь зеленая замрет,
И затуманятся лучи —
Я прочеркну себя в ночи.
Спугнув молчанье сонных стран,
Я кану в жадный океан.
Он брызнет в небо и опять
Сомкнется, новой жертвы ждать.
О звездах память коротка:
Лишь чья-то крестится рука,
Да в небе след крутой дуги,
Да на воде дрожат круги.
А я, крутясь, прильну ко дну,
Соленой смерти отхлебну.
Но есть исход еще другой:
Не хватит сил лететь дугой,
Сорвусь и — оземь. В пышный снег.
И там раздавит человек.
Он не услышит тонкий стон,
Как песнь мою не слышал он.
Я кровь последнюю плесну
И, почерневшая, усну.
И не услышу ни толчков,
Ни человечьих страшных слов.
(А утром скажут про меня:
— Откуда эта головня?)
Но может быть еще одно
(О, если б это суждено):
Дрожать, сиять и петь всегда
Тебя, тебя, моя звезда!
1927
Отрывок
В движенье хаоса немом,
В безмолвном волн соревнованье —
Сперва расплывчатым пятном
Скользнуло первое сознанье.
Уж волны тяжкие сошлись
Втоптать в себя чужую силу.
Но хаос молнией пронзила
Никем не сказанная мысль.
И побежденный — коченел.
Громады волн (громады тел!)
Покрылись немотою плотной,
Землей, в зачатьях многоплодной.
Начала не было. Поверь
Грядущему — конца не будет.
Но по ночам голодный зверь
Нам чудится в подземном гуде.
Когда дерзали — на века
Терзать непрожитые дали, —
Он выползал издалека
И в жерлах гор его видали.
Он все подслушал. Он отмстить
Горячим клокотом поклялся.
Кто ныне смеет вопросить —
Умолк? Умаялся? Умялся?
В ком страха нет? Прильни, внемли,
Вмолчись в таинственное лоно
И сквозь дыхание земли
Прослышь ворчание и стоны.
Там туго-сжатые дрожат.
Сквозь плен (сквозь тлен!) внемли очами
Самосжиранию громад
Безумных волн, голодных нами.
1928
«За одиночество, за ночь…»
Приходил по ночам.
Пастернак
За одиночество, за ночь,
Простертую во днях,
За то, что ты не смог помочь,
За то, что я лишь прах,
За то, что ты не смог любить,
За грохот пустоты…
Довольно! Этому не быть.
За все ответишь ты.
Ты мне являлся по ночам,
Мгновенно озарив.
Ты был началом всех начал,
Звучаньем первых рифм.
Являлся, чтоб дрожала мгла
Световращеньем строф,
Чтоб насмерть я изнемогла
От щедрости даров.
Ты был безгласен, и незрим,
И полон тайных сил,
Как темнокрылый серафим,
Что бога оскорбил.
Ты кровь мою наполнил тьмой,
Гуденьем диких сфер,
Любовью (ты был только мой!),
Любовью свыше мер.
Ты позабыл меня давно,
Но я тебя найду.
Не знаю где. Не знаю. Но
В полуночном бреду
Возможно все…
По склонам скал
Наверх (а эхо — вниз).
Ты здесь, наверно, тосковал —
Здесь мрак плотней навис,
Здесь бесноватых молний пляс,
И треск сухих комет,
И близость беззакатных глаз,
Дающих тьму и свет.
Ты близок. Путь смертельных круч
Окончен. Вперебой
Толкутся звезды. Залежь туч.
И бредится тобой.
Ты здесь. Но звездная стена
Увидеть не дает.
Я прошибаю брешь. Она
Надтреснута, и вот
Я в брызгах радости, в лучах,
В лохмотьях темноты,
И, распростертая во прах,
Смотреть не смею: Ты!
Клубится мгла твоих волос,
И мрачен мрамор лба.
Твои глаза — предвестье гроз,
Мой рок, моя судьба…
Глаза! — Разросшаяся ночь.
Хранилище зарниц…
Ветрищу двигаться невмочь
Сквозь душный шум ресниц.
За одиночество… Не верь!
О, мне ли мстить — зови…
Иду, мой демон, — в счастье, в смерть —
В предел земной любви.
1929
Последнее о звездах
Не бойся — шатается балка.
Смотри: окончанья видны
Парадного неба. И свалка
Светил и обрезков луны.
Не бойся: мы слишком высоко.
Уже не можем упасть.
Ты чуешь движение тока
Под нами? Он тверд. Ступай.
Мы встали на путь дрожащий.
Мы движемся вместе с ним.
Нам тучи встречаются чаще,
Нам весело здесь одним.
Медузы морей незримых,
Колышутся звезды тут,
Слепые, нелепые: мимо,
Иль сладко на кожу льнут.
Не снять их. Они беспощадны.
Принять их себя готовь.
Они проникают жадно
В тревожную нашу кровь.
И вот по орбитам артерий
Привычный свершают круг.
Засмейся над страшной потерей:
Над кровью, исчезнувшей вдруг.
Они за одной другая
Сквозь сердце стремят прыжок.
Ударами содрогая,
Качая, сшибая с ног.
Покинем, о друг, скорее
Небесные пустыри.
Обратно под нами реет
Ток воздуха. Балка! Смотри!
Спускайся, держась за бревна.
О, запах сырых борозд,
О, шелест сухой и ровный,
Спасите от смертных звезд.
Земля! Обуянным гордыней,
Познавшим бескровный край —
Прости нашу гордость ныне,
И жизнью, и смертью карай.
1929
Море
Тебя, двуполое, таким —
Люблю! Как воздух твой прозрачен!
Но долгий сон невыносим, —
Твой норов требует: иначе!
Наскучил сизый, и любой
Рождаешь ты из мглы глубокой, —
Лиловый, или голубой,
Или зеленый с поволокой.
Днем — солнце плавает по дну,
Пугая встречного дельфина.
Разрезать крепкую волну —
В ней солнечная сердцевина!
Но отступают от скалы,
Почуя тишину ночную,
Темно-зеленые валы
И замыкаются вплотную,
И поднимается луна
Над горизонтом напряженным,
Сквозь море спящее она
Проходит трепетом бессонным.
Одной на свете жить нельзя:
В воде дрожит луна вторая,
А волны блещут, голося,
О черный берег ударяя…
Один, другой, мильонный вал…
А человек смятенья полон:
Он вспомнил и затосковал
О безначальном, о двуполом.
1929
Гурзуф
История одного знакомства
Памяти Ю. К. Звонникова
Возник из тьмы,
Бледнел и близился почти неслышно, —
Обломок льда чудесных очертаний:
Совсем как человек. В твоей груди
Дремало пламя. Тихо пробуждаясь,
Вытягивалось, трогало гортань.
И голос твой,
Тяжелое тепло прияв, густея,
Размеренно над нами колыхался,
То удлиняясь, то сжимаясь в стих.
Суровым словом вызванные к жизни,
Ворчали и ворочались века.
И чудилось:
Стихи свои приносишь ты из края,
Где звезды негоревшие томятся,
Где сказки нерассказанные ждут.
Где чьи-то крылья бьются о решетку
И смерть сидит, зевая на луну.
Ты уходил,
На звезды мертвые легко ступая.
С бесплатным приложением событий,
Опять по росту строятся века.
Похрустывали под ногами звезды.
О, как ты не поранил нежных ног!
Ты врос во тьму.
Тебя не ждали и не вспоминали.
Но дивное свершилось превращенье —
Ты к нам пришел как смертный человек.
(Иль пламя затаенное проснулось
И разбудило стынущую плоть?)
Не ведаю.
Но помню я, что встретились мы в полдень,
Мы встретились на пыльном тротуаре,
Ты еле нес тяжелый чемодан.
(Наверно, звезды, сказки, перстень смерти,
Зуб колдуна, живой змеиный глаз…)
И стал как все.
Ты служишь в Сельхозгизе,
Обедаешь в общественной столовой,
И в комнате есть у тебя постель
Для страсти, сна, бессонницы и смерти.
Но ты поэт и, значит, — чародей.
Твоя душа
Колышется неслышным опахалом,
Сокровищем загробного Египта,
И поверяет в алчущую ночь
О небе, где одно сплошное солнце,
И о земле, затерянной в песках.
1929
Соловей
Там, где хвои да листвы
Изобилие слепое, —
Соловей плескал во рвы
Серебром… От перепоя
Папоротник изнемог,
Он к земле приник, дрожащий…
Зря крадется ветерок
В разгремевшиеся чащи.
Он — к своим. Но где свои?
Я молчу, спастись не чая:
Беспощадны соловьи,
Пламень сердца расточая.
Прерывающийся плач
Оскорбленной насмерть страсти
Так беспомощно горяч
И невольной полон власти.
Он взмывает, он парит,
А потом одно и то же:
Заикающийся ритм,
Пробегающий по коже…
В заколдованную сеть
Соловей скликает звезды,
Чтобы лучше рассмотреть,
Чтоб друзьям дарить под гнезда…
То ли праздная игра,
То ли это труд бессонный, —
Трепетанье серебра,
Вопли, выплески и стоны,
Ночь с надклеванной луной,
Бор, что стал внезапно молод,
И, просвистанный, сквозной,
Надо всем царящий — холод.
1929
«А на чердак — попытайся один!..»
А на чердак — попытайся один!
Здесь тишина всеобъемлющей пыли,
Сумрак, осевший среди паутин,
Там, где когда-то его позабыли.
От раскаленных горячечных крыш
Сладко и тошно душе до отказа.
Спит на стропилах летучая мышь,
Дремлет средь хлама садовая ваза.
Ваза разбита: но вижу на ней,
Не отводя восхищенного взгляда, —
Шествие полуодетых людей
С тяжкими гроздьями винограда.
Дальше — слежавшаяся темнота,
Ужасы, что накоплялись годами,
Дрема и та, без названья, — та,
Что отовсюду следила за нами.
Нет, я туда подойти не смогу.
Кто-то оттуда крадется по стенке,
Прыгнул!.. Но я далеко, — я бегу,
Падаю и расшибаю коленки…
Помню и лес, и заросший овраг, —
Было куда изумлению деться.
Все — незабвенно, но ты, чердак,
Самый любимый свидетель детства.
1929
Сон
Кате
Да, все реже и уже с трудом
Я припоминаю старый дом
И шиповником заросший сад —
Сон, что снился много лет назад.
А ведь стоит только повернуть,
Только превозмочь привычный путь.—
И дорога наша вновь легка,
Невесомы наши облака…
Побежим с тобой вперегонки
По крутому берегу реки.
Дом встречает окнами в упор.
Полутемный манит коридор…
Дай мне руки, трепетанье рук…
О, какая родина вокруг!
В нашу детскую не смеет злость.
Меж игрушек солнце обжилось.
Днем — зайчата скачут по стенам,
Ночью — карлик торкается к нам, —
Это солнце из-за темных гор,
Чтобы месяцу наперекор.
В спальне — строгий воздух тишины,
Сумрак, превращающийся в сны,
Блеклые обои, как тогда,
И в графине мертвая вода.
Грустно здесь, закроем эту дверь,
За живой водой пойдем теперь.
В кухню принесем ведро невзгод
На расправу под водопровод,
В дно ударит, обожжет края
Трезвая, упрямая струя,
А вокруг, в ответ на светлый плеск —
Алюминиевый лютый блеск.
В зал — он весь неверию ответ,
Здесь корректно радостен паркет,
Здесь внезапные, из-за угла,
Подтверждающие зеркала.
Поглядись, а я пока пойду
На секретный разговор в саду.
Преклоню колени у скамьи:
Ветры, покровители мои!
Долго вы дремали по углам,
Равнодушно обвевали хлам.
О, воспряньте, авторы тревог,
Дряхлые блюстители дорог,
Вздуйтесь гневом, взвейтесь на дыбы,
Дряхлые блюстители судьбы!..
Допотопный топот мне вослед
Пышет ликованьем бывших лет.
Это ветры! Судорга погонь
Иль пощечин сладостный огонь.
На балконе смех порхает твой.
Ты зачем качаешь головой?
Думаешь, наверно, что, любя,
Утешаю сказками тебя.
Детство что! И начинаешь ты
Милые, печальные мечты.
Мы с тобою настрадались всласть.
Видно, молодость не удалась,
Если в 22 и 25
Стали мы о старости мечтать.
В темной глубине зрачков твоих
Горечи хватает на двоих,
Но засмейся, вспомни старый сад…
Это было жизнь тому назад.
1930
Муза
Когда я ошибкой перо окуну,
Минуя чернильницу, рядом, в луну, —
В ползучее озеро черных ночей,
В заросший мечтой соловьиный ручей, —
Иные созвучья стремятся с пера,
На них изумленный налет серебра,
Они словно птицы, мне страшно их брать,
Но строки, теснясь, заполняют тетрадь.
Встречаю тебя, одичалая ночь,
И участь у нас и начало точь-в-точь —
Мы обе темны для неверящих глаз,
Одна и бессмертна отчизна у нас.
Я помню, как день тебя превозмогал,
Ты помнишь, как я откололась от скал,
Ты вечно сбиваешься с млечных дорог,
Ты любишь скрываться в расселинах строк.
Исчадье мечты, черновик соловья,
Читатель единственный, муза моя,
Тебя провожу, не поблагодарив,
Но с пеной восторга, бегущей от рифм.
1930
Болдинская осень
Что может быть грустней и проще
Обобранной ветрами рощи,
Исхлестанных дождем осин…
Ты оставался здесь один
И слушал стонущие скрипы
Помешанной столетней липы.
Осенний сад, сковавший лужи,
Так ослепительно сверкал
Зарей вечернею… Бокал —
Огонь внутри и лед снаружи —
Ты вспомнил… (Он последним был,
Соединившим хлад и пыл.)
Той рощи нет. Она едва
Успела подружиться с тенью,
И та училась вдохновенью, —
Сгубили рощу на дрова.
Для радости чужих дорог
Три дерева господь сберег.
Их память крепко заросла
Корой, дремотой и годами,
Но в гулкой глубине дупла
Таят, не понимая сами, —
Свет глаз твоих, тепло руки
И слов неясных ветерки.
Несчастные! Какая участь!
Но пред тобой не утаю —
Завидую, ревную, мучусь…
Я отдала бы жизнь мою,
Чтоб только слышать под корой
Неповторимый голос твой.
Летучим шагом Аполлона
Подходит вечер. Он вчерне
Луну, светящую влюбленно,
Уже наметил, — быть луне
Под легкой дымкою тумана
Печальной, как твоя Татьяна.
Дорогой наизусть одной
Ты возвращаешься домой.
Поля пустынны и туманны,
И воздух как дыханье Анны,
Но вспыхнул ветер сквозь туман —
Бессмертно дерзкий Дон Жуан.
В бревенчатой теплыни дома
Тебя обволокла истома
Усталости… Но вносят свет,
Вино, дымящийся обед.
Огнем наполнили камин,
Прибрали стол, и ты — один.
Ты в плотном облаке халата,
Но проникает сквозь халат —
Тяжелый холод ржавых лат
И жар, струящийся от злата…
Ты снова грезишь наяву,
А надо бы писать в Москву.
На сколько душу ни двои, —
Чтó письма нежные твои,
Прелестные пустые вести,
И чтó — влечение к невесте,
И это ль властвует тобой,
Твоей душой, твоей судьбой!..
Во влажном серебре стволов
Троились отраженья слов,
Еще не виданных доныне,
И вот в разгневанном камине —
Внутри огня — ты видишь их
И пламя воплощаешь в стих.
С тех пор сто лет прошло. Никто
Тебе откликнуться не в силах…
1930
«Мне вспоминается Бахчисарай…»
Мне вспоминается Бахчисарай…
На синем море — полумесяц Крыма.
И Карадаг… Самозабвенный край,
В котором все, как молодость, любимо.
Долины сребролунная полынь,
Неостывающее бурногорье,
Медлительная тишина пустынь, —
Завершены глухим аккордом моря.
И только ветер здесь неукротим:
Повсюду рыщет да чего-то ищет…
Лишь море может сговориться с ним
На языке глубоковерстой тьмищи.
Здесь очевиднее и свет и мрак
И то, что спор их вечный не напрасен.
Расколотый на скалы Карадаг
Все так же неразгаданно прекрасен…
Карадаг (Поэма)
Сюда, рыдая, он сбежал
С обрыва. На нетленном теле
Багровой кровью пламенели
Ожоги разъяренных жал
Опалы божьей.
Даже море
Сужалось в ужасе пред ним
И зябло, отразясь во взоре
Зрачков огромных.
Недвижим
Стоял он. Тягостные крылья
Не слушались, и он поник
На камни и в тоске бессилья
Оцепенел, но в тот же миг
Воспрянул он и заломил
Свои израненные руки,
И вырвал крылья, и без сил
На камни рухнул вновь…
Сквозь муки
Два пламени взметнулись врозь
Взамен двух крыльев и впервые
Земли коснулись…
Словно лось,
Огонь с трудом ворочал выей,
Качая красные рога.
Они, багровы и ветвисты,
Росли, вытягиваясь в свисты,
Нерадостные для врага.
Изгнанник встал и посмотрел
На всплески пламени, на племя
Огней. Не по-земному смел
Был взгляд его.
В тяжелом шлеме
Златых волос его глава
Являла новое светило.
Он прыгнул в пламя, — это было
Жестоким жестом торжества.
Огонь, кормивший корни крыл,
На волю выпущен отныне,
Затем, чтоб навсегда сокрыл
Тирана райского, в гордыне
Тучноскучающего.
Месть
Отрадней жизни для изгоя.
Качаясь в пламени, он весь
Был полон музыкой покоя
Иль вдохновением: он — бог,
Он — гибнет, но и ТОТ ведь тоже!
— Ты будешь уничтожен, боже,
Презренный райский лежебок,
Творец раскаявшийся!.. —
Так
Кричал он, облаченный в пламя,
Как в плащ дымящийся. Но враг
Не отвечал.
Огонь волнами
Валил к луне, огонь простер
Последний взлет, и вдруг разжалась
Твердь,
и разгневанный костер
Ворвался внутрь…
— Какую малость
Я отдал, чтоб изъять тебя, —
Вопило пламя, —
Как просторно
Жить, униженье истребя!..
Но вспыхнул блеск зарницы черной
Из пустоты,
и пламя вдруг
Окаменело, а кричащий —
Без головы, без ног, без рук —
Обрубком вырвался из чащи
Рыданий каменных, и ветр
Вознес его на горб вершины,
И там он врос в гранит…
Из недр
К нему вздымаются руины
Пожарища, к нему толпой
Стремятся каменные копья
И в реве замерший прибой —
Окаменевшее подобье
Былого пламени…
Кругом,
Как яростные изуверы,
Ощерившиеся пещеры
Не дрогнув принимают гром.
Костер, что здесь торжествовал,
Застыл на вечное увечье,
Здесь камни и обломки скал —
Подобие нечеловечьей
Могучей гибели…
Лишь мох
Краями хладного обвала
Струится, словно жаркий вздох
Души, что здесь отбушевала.
1931
Тешково
Акварели Волошина
О как молодо водам под кистью твоей,
Как прохладно луне под спокойной рукой!..
Осиянный серебряной сенью кудрей,
Возникал на листе вдохновенный покой.
Я всем телом хотела б впитаться туда,
Я забыла б свой облик за блик на песке.
Легкий след акварели, сухая вода,
Я жила бы на этом бумажном листке.
И, влюбленно следя за движением век,
Озаренная ласковым холодом глаз,
Поняла б наконец, что любой человек
Этот призрачный мир где-то видел хоть раз.
Но когда? Я не знаю, и вспомнить не мне:
Это было в заоблачной жизни души,
А теперь — еле брезжит, чуть мнится во сне…
Ты, бесстрашно прозревший, свой подвиг сверши.
Воплоти, что в мечтаньях господь созерцал:
Бурногорье, похожее на Карадаг,
Где вода словно слиток бездонных зерцал,
Где луна лишь слегка золотит полумрак.
Ты заблудшую душу отчизне верни.
Дай мне воздухом ясным проникнуть везде.
И, забыв про земные недолгие дни,
Я узнаю бессмертье на легком листе.
11 августа 1932
Звенигород
Сказочка
Наверху — дремучий рёв,
Но метели я не внемлю, —
Сладко спится под землёй,
Дрёма бродит меж дерёв,
Да постукивает землю
Промороженной змеёй.
Зиму — пролежу молчком,
Летом — прогляну в бурьяне, —
Ни о чем не вспомню я.
Раздвоённым язычком
Тёмно-синее сиянье
Выжгла на сердце змея.
И не с этой ли змеёй
Дрёма бродит надо мной?
1931
Воронеж
«Неукротимою тревогой…»
Неукротимою тревогой
Переполняется душа.
Тетради жаждущей не трогай,
Но вслушивайся не дыша:
Тебя заставит чья-то воля
Ходить от стула до стены,
Ты будешь чувствовать до боли
Пятно в луне и плеск волны.
Ты будешь любоваться тенью,
Отброшенною от стихов, —
Не человек и не смятенье:
Бог, повергающий богов.
Но за величие такое,
За счастье музыкою быть,
Ты не найдешь себе покоя,
Не сможешь ничего любить, —
Ладони взвешивали слово,
Глаза следили смену строк…
С отчаяньем ты ждешь былого
В негаданный, нежданный срок.
А новый день беззвучен будет, —
Для сердца чужд, постыл для глаз,
И ночь наставшая забудет,
Что говорила в прошлый раз.
1931
Воронеж
Конец года
Не до смеха, не до шуток, —
Для меня всего страшней
Этот узкий промежуток
В плотной толще зимних дней.
Та же кружит непогода,
В тех же звездах мерзнет свет,
Но умолкло сердце года,
И другого сердца нет.
Триста шестьдесят биений,
И впоследки — шесть иль пять,
А потом — в метельной пене
Задыхаться, умирать.
Это вздор. А кроме шуток,
Страшен так, что нету сил,
Напряженный промежуток
От рождений до могил.
1932 (1933)
К жизни моей
О задержись, окажи мне милость!
Помнят же звери путаный след.
Дай опознать — когда же ты сбилась,
Как ты, плутая, сошла на нет?
Детство?.. Но лишь отрешенным вниманьем
Разнилась я, да разве лишь тем
Гневом бессильным при каждом обмане,
Леностью в играх, скучною всем,
Медленным шагом, взором серьезным…
Мало ль таких, и чуднее, чем я…
О задержись, быть может, не поздно!
Где заблудились мы, жизнь моя?
Как ты пленилась тропинкой окольной?
Может, припомнишь гибельный миг?
Вот я, как все, за партою школьной,
Только веселью чужда… Из книг
В сердце ворвался, огнем отрясаясь,
Темный, страстями мерцающий мир…
Бледная, в длинных одеждах, босая,
Девушка клонится к волнам…
Шекспир,
Ты не Офелией, не Дездемоной,
Ричардом Третьим и Макбетом ты,
Грозными кознями, окровавлённой,
Дикой луною будил мечты…
Кончена школа — разверзлась бездна.
Что ужасало тогда — не пойму.
Слишком уж ты была неизвестна,
Слишком была неподвластна уму…
Жизнь моя, где же наша дорога?
Ты не из тех, что идут наизусть.
Знаешь, затворница, недотрога, —
Есть ведь такое, чем я горжусь.
Да, я горжусь, что могла ни на волос
Не покривить ни единой строкой,
Не напрягала глухой мой голос,
Не вымогала судьбы другой.
1932 (1936)
«Стихов ты хочешь? Вот тебе…»
Стихов ты хочешь? Вот тебе —
Прислушайся всерьез,
Как шепелявит оттепель
И как молчит мороз.
Как воробьи, чирикая,
Кропят следками снег
И как метель великая
Храпит в сугробном сне.
Белы надбровья веточек,
Как затвердевший свет…
Февраль маячит светочем
Предчувствий и примет.
Февраль! Скрещенье участей,
Каких разлук и встреч!
Что б ни было — отмучайся,
Но жизнь сумей сберечь,
Что б ни было — храни себя.
Мы здесь, а там — ни зги.
Моим зрачком пронизывай,
Моим желаньем жги,
Живи двойною силою,
Безумствуй за двоих.
Целуй другую милую
Всем жаром губ моих.
1935
«Когда на небо синее…»
Когда на небо синее
Глаза поднять невмочь,
Тебе в ответ, уныние,
Возникнет слово: дочь.
О, чудо светлолицее,
И нежен и высок, —
С какой сравнится птицею
Твой легкий голосок!
Клянусь — необозримое
Блаженство впереди,
Когда ты спишь, любимая,
Прильнув к моей груди.
Тебя держать, бесценная,
Так сладостно рукам.
Не комната — вселенная,
Иду — по облакам.
И сердце непомерное
Колышется во мне,
И мир, со всею скверною,
Остался где-то, вне.
Мной ничего не сказано,
Я не сумела жить,
Но ты вдвойне обязана,
И ты должна свершить.
Быть может, мне заранее,
От самых первых дней,
Дано одно призвание —
Стать матерью твоей.
В тиши блаженства нашего
Кляну себя: не сглазь!
Мне счастье сгинуть заживо
И знать, что ты сбылась.
(1937—38)
«Когда я склонюсь над твоею кроваткой…»
Когда я склонюсь над твоею кроваткой,
Сердце так больно, так сладко растет,
Стою не дыша и смотрю украдкой
На руки твои, на их легкий взлет.
Я с горькой тоской спозналась глубоко,
В бессоннице я сгорела дотла,
Но ты, ты нежна и голубоока,
Подснежник мой, ты свежа и светла.
Мир твой не тронут горем и злобой,
Страху и зависти доступа нет.
Воздух тебя обнимает особый,
Как будто всегда над тобою рассвет.
Когда я склонюсь над кроваткой твоею,
Сердце растет в непосильной любви,
Смотрю на тебя и смотреть не смею,
И помню одно только слово: живи.
1940
Стихи 40-х—50-х годов
«Ты думаешь, что силою созвучий…»
Ты думаешь, что силою созвучий,
Как прежде, жизнь моя напряжена.
Не думай так, не мучай так, не мучай, —
Их нет во мне, я, как в гробу, одна.
Ты думаешь — в безвестности дремучей
Я заблужусь, отчаянья полна.
Не думай так, не мучай так, не мучай, —
Звезда твоя, она и мне видна.
Ты думаешь — пустой ничтожный случай
Соединяет наши имена.
Не думай так, не мучай так, не мучай,
Я — кровь твоя, и я тебе нужна.
Ты думаешь о горькой, неминучей,
Глухой судьбе, что мне предрешена.
Не думай так: мятется прах летучий,
Но глубь небес таинственно ясна.
1941
«Не взыщи, мои признанья грубы…»
Не взыщи, мои признанья грубы,
Ведь они под стать моей судьбе.
У меня пересыхают губы
От одной лишь мысли о тебе.
Воздаю тебе посильной данью —
Жизнью, воплощенною в мольбе,
У меня заходится дыханье
От одной лишь мысли о тебе.
Не беда, что сад мой смяли грозы,
Что живу — сама с собой в борьбе,
Но глаза мне застилают слезы
От одной лишь мысли о тебе.
1941
«Проснемся, уснем ли — война, война…»
Проснемся, уснем ли — война, война.
Ночью ли, днем ли — война, война.
Сжимает нам горло, лишает сна,
Путает имена.
О чем ни подумай — война, война.
Наш спутник угрюмый — она одна.
Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней,
Тем горше с ней.
Восходы, закаты — все ты одна.
Какая тоска ты — война, война!
Мы знаем, что с нами
Рассветное знамя,
Но ты, ты, проклятье, — темным-темна.
Где павшие братья, — война, война!
В безвестных могилах…
Мы взыщем за милых,
Но крови святой неоплатна цена.
Как солнце багрово! Все ты, одна.
Какое ты слово: война, война…
Как будто на слове
Ни пятнышка крови,
А свет все багровей во тьме окна.
Тебе говорит моя страна:
Мне трудно дышать, — говорит она, —
Но я распрямлюсь, и на все времена
Тебя истреблю, война!
1942
«Завтра день рожденья твоего…»
Завтра день рожденья твоего.
Друг мой, чем же я его отмечу?
Если бы поверить в нашу встречу, —
Больше мне не надо ничего.
Ночью здесь такая тишина!
Звезды опускаются на крышу,
Но как все, я здесь оглушена
Грохотом, которого не слышу.
Неужели ото всех смертей
Откупились мы любовью к детям?
Неужели родине своей
За себя достойно не ответим?
Это вздор! Не время клевете
И не место ложному смиренью,
Но за что же мы уже не те?
Кто мы в этом диком измерение?..
Завтра день рожденья твоего.
Друг мой, чем же я его отмечу?
Если бы поверить в нашу встречу!
Больше мне не надо ничего.
1942
«Ветер воет, ветер свищет…»
Ветер воет, ветер свищет, —
Это ничего.
Поброди на пепелище
Сердца моего.
Ты любил под лунным светом
Побродить порой.
Ты недаром был поэтом,
Бедный мой герой.
Я глазам не верю — ты ли,
Погруженный в сон,
Преклонившийся к Далиле
Гибнущий Самсон.
То ль к Далиле, то ль кмогиле,
Только не ко мне.
Не к моей невольной силе,
Выросшей в огне,
Взявшейся на пепелище
Сердца моего,
Там, где только ветер свищет,
Больше ничего.
1942
«Год, в разлуке прожитый…»
Год, в разлуке прожитый,
Близится к весне.
Что же ты, ах, что же ты
Не придешь ко мне!
Мне от боли старящей
Тесно и темно,
В злой беде товарища
Покидать грешно.
Приходи, не думая,
Просто приходи.
Что ж тоску угрюмую
Пестовать в груди!
Все обиды кровные
Замела пурга.
Видишь — поле ровное,
Белые снега.
1942
Апрель 1942 года
Свирепая была зима,
Полгода лютовал мороз.
Наш городок сходил с ума,
По грудь сугробами зарос.
Казалось, будет он сметен —
Здесь ветры с четырех сторон,
Сквозь город им привольно дуть,
Сшибаясь грудь о грудь.
Они продрогший городок
Давно бы сдули с ног,
Но разбивалась впрах пурга
О тяжкие снега.
И вот апрель в календаре,
Земля в прозрачном серебре,
Хрустящем на заре.
И солнце светит горячей,
И за ручьем бежит ручей.
Скворцы звенят наперебой,
И млеет воздух голубой,
И если б только не война,
Теперь была б весна.
1942
«Не плачь, не жалуйся, не надо…»
Не плачь, не жалуйся, не надо,
Слезами горю не помочь.
В рассвете кроется награда
За мученическую ночь.
Сбрось пламенное покрывало
И платье наскоро надень
И уходи куда попало
В разгорячающийся день.
Тобой овладевает солнце.
Его неодолимый жар
В зрачках блеснет на самом донце,
На сердце ляжет, как загар.
Когда в твоем сольется теле
Владычество его лучей,
Скажи по правде — неужели
Тебя ласкали горячей?
Поди к реке и кинься в воду
И, если можешь, — поплыви.
Какую всколыхнешь свободу,
Какой доверишься любви!
Про горе вспомнишь ты едва ли,
И ты не назовешь — когда
Тебя нежнее целовали
И сладостнее, чем вода.
Ты вновь желанна и прекрасна,
И ты опомнишься не вдруг
От этих ласково и властно
Струящихся по телу рук.
А воздух? Он с тобой до гроба,
Суровый или голубой,
Вы счастливы на зависть оба, —
Ты дышишь им, а он тобой.
И дождь придет к тебе по крыше,
Все то же вразнобой долбя.
Он сердцем всех прямей и выше,
Всю ночь он плачет про тебя.
Ты видишь — сил влюбленных много.
Ты их своими назови.
Неправда, ты не одинока
В твоей отвергнутой любви.
Не плачь, не жалуйся, не надо,
Слезами горю не помочь,
В рассвете кроется награда
За мученическую ночь.
1942
«Глубокий, будто темно-золотой…»
Глубокий, будто темно-золотой,
Похожий тоном на твои глаза,
Божественною жизнью налитой,
Прозрачный, точно детская слеза,
Огромный, как заоблаченный гром,
Непогрешимо-ровный, как прибой,
Незапечатлеваемый пером —
Звук сердца, ставшего моей судьбой.
1942
«Лишь в буре — приют и спасение…»
Лишь в буре — приют и спасение,
Под нею ни ночи, ни дня.
Родимые ветры осенние,
Хоть вы не оставьте меня!
Вы пылью засыпьте глаза мои,
И я распознать не смогу,
Что улицы все те же самые
На том же крутом берегу,
Что город все тот же по имени,
Который нас видел вдвоем…
Хотя бы во сне — позови меня,
Дай свидеться в сердце твоем!
1942
«Я думала, что ненависть — огонь…»
Я думала, что ненависть — огонь,
Сухое, быстродышащее пламя,
И что промчит меня безумный конь
Почти летя, почти под облаками…
Но ненависть — пустыня. В душной, в ней
Иду, иду, и ни конца, ни краю,
Ни ветра, ни воды, но столько дней
Одни пески, и я трудней, трудней
Иду, иду, и, может быть, вторая
Иль третья жизнь сменилась на ходу.
Конца не видно. Может быть, иду
Уже не я. Иду, не умирая…
1942
«Мы смыслом юности влекомы…»
Мы смыслом юности влекомы
В простор надземной высоты —
С любой зарницею знакомы,
Со всеми звездами на «ты».
Земля нам кажется химерой
И родиною — небеса.
Доходит к сердцу полной мерой
Их запредельная краса.
Но нá сердце ложится время,
И каждый к тридцати годам
Не скажет ли: я это бремя
За бесконечность не отдам.
Мы узнаем как бы впервые
Леса, и реки, и поля,
Сквозь переливы луговые
Нам улыбается земля.
Она влечет неодолимо
И с каждым годом все сильней.
Как женщина неутолима
В жестокой нежности своей.
И в ней мы любим что попало,
Забыв надземную страну, —
На море грохотанье шквала,
Лесов дремучих тишину,
Равно и грозы и морозы,
Равно и розы и шипы,
Весь шум разгоряченной прозы,
Разноголосый гул толпы.
Мы любим лето, осень, зиму,
Еще томительней — весну,
Затем, что с ней невыносимо
Земля влечет к себе, ко сну.
Она отяжеляет належь
Опавших на сердце годов,
И успокоится тогда лишь
От обольщающих трудов,
Когда в себя возьмет всецело.
Пусть мертвыми — ей все равно.
Пускай не душу, только тело…
(Зачем душа, когда темно!)
И вот с единственною, с нею,
С землей, и только с ней вдвоем
Срастаться будем все теснее,
Пока травой не изойдем.
[1942]
«Ревет, и воет, и дымится…»
Ревет, и воет, и дымится
Вспять обращенная волна.
К прочерченной штыком границе
Откатывается война.
Сдержи дыханье, — там вершится
Твоя судьба, моя страна!
На недоконченной странице
Дымятся кровью письмена.
Как шумно смерть в лицо дышала!
Как трудно с нею грудь о грудь!
Концом прикинулось начало,
Казалось — не передохнуть.
Нам воздуха недоставало
На грозный, на прощальный путь,
И только кровь в висках стучала:
Бессмертен будь, бессмертен будь…
Когда же сердце охватила
Непоправимая беда,
Очнулась в нас иная сила,
Иначе повела звезда:
Нас ненависть огнем вспоила,
Он был как ясная вода…
Врагов укроет лишь могила,
И та исчезнет без следа.
1943
Чистополь
Город Чистополь на Каме…
Нас дарил ты чем богат.
Золотыми облаками
Рдел за Камою закат.
Сквозь тебя четыре ветра
Насмерть бились день и ночь.
Нежный снег ложился щедро,
А сиял — глазам невмочь.
Сверхъестественная сила
Небу здешнему дана:
Прямо в душу мне светила
Чистопольская луна,
И казалось, в мире целом
Навсегда исчезла тьма.
Сердце становилось белым,
Сладостно сходя с ума.
Отчужденностью окраски
Живо все и все мертво —
Спит в непобедимой сказке
Город сердца моего.
Если б не росли могилы
В дальнем грохоте войны,
Как бы я тебя любила,
Город, поневоле милый.
Город грозной тишины!
Годы чудятся веками,
Но нельзя расстаться нам —
Дальний Чистополь на Каме,
Нá сердце горящий шрам.
1943
«Мы начинали без заглавий…»
Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Нам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон.
Я думаю о тех, которым
Раздоры ль вечные с собой
Иль нелюбовь к признаньям скорым
Мешали овладеть судьбой.
Не в расточительном ли детстве
Мы жили раньше? Не во сне ль?
Лишь в грозный год народных бедствий
Мы осознали нашу цель.
И можем быть сполна в ответе
За счастье встреч и боль потерь…
Мы тридцать лет росли как дети,
Но стали взрослыми теперь.
И яростную жажду славы
Всей жизнью утолить должны,
Когда Россия пишет главы
Освобождающей войны, —
Без колебаний, без помарок —
Страницы горя и побед,
А на полях широких ярок
Пожаров исступленный свет…
Живи же, сердце, полной мерой,
Не прячь на бедность ничего
И непоколебимо веруй
В звезду народа твоего.
Теперь спокойно и сурово
Ты можешь дать на все ответ,
И скажешь ты два кратких слова,
Два крайних слова: да и нет.
А я скажу: она со мною,
Свобода грозная моя!
Совсем моей, совсем иною
Жизнь начинается, друзья!
1943
«Какое уж тут вдохновение, — просто…»
Какое уж тут вдохновение, — просто
Подходит тоска и за горло берет,
И сердце сгорает от быстрого роста,
И грозных минут наступает черед,
Решающих разом — петля или пуля,
Река или бритва, но наперекор
Неясное нечто, тебя карауля,
Приблизится произнести приговор.
Читает — то гневно, то нежно, то глухо,
То явственно, то пропуская слова,
И лишь при сплошном напряжении слуха
Ты их различаешь едва-едва,
Пером неумелым дословно, построчно,
Едва поспевая, ты запись ведешь,
Боясь пропустить иль запомнить неточно…
(Петля или пуля, река или нож?..)
И дальше ты пишешь, — не слыша, не видя,
В блаженном бреду не страшась чепухи,
Не помня о боли, не веря обиде,
И вдруг понимаешь, что это стихи.
1943
Ночь на 6 августа
В каком неистовом молчанье
Ты замерла, притихла, ночь!..
Тебя ни днями, ни ночами
Не отдалить, не превозмочь.
Взволнованною тишиною
Объята из конца в конец,
Ты внемлешь надо всей страною
Биенью всех ее сердец.
О как же им была близка ты,
Когда по небу и земле
Промчались первые раскаты
О Белгороде и Орле.
Все вдохновенней, все победней
Вставали громы в полный рост,
Пока двенадцатый, последний,
Не оказался светом звезд.
И чудилось, что слезы хлынут
Из самой трудной глубины, —
Они хоть на мгновенье вынут
Из сердца злую боль войны!
Но время это не настало,
Лишь близко-близко подошло,
Ты не впустую, ночь, блистала, —
Нам от тебя и днем светло.
В нас тайный луч незатемнимый
Уже до дрожи напряжен.
Ты стала самою любимой,
Не подберешь тебе имен.
1943
«У меня большое горе…»
У меня большое горе
И плакать не могу.
Мне бы добрести до моря,
Упасть на берегу.
Не слезами ли, родное,
Плещешь через край?
Поделись хоть ты со мною,
Дай заплакать, дай!
Дай соленой, дай зеленой,
Золотой воды,
Синим солнцем прокаленной,
Горячéй моей беды.
Я на перекресток выйду,
На колени упаду.
Дайте слез омыть обиду,
Утолить беду!
О животворящем чуде
Умоляю вас:
Дайте мне, родные люди,
Выплакаться только раз!
Пусть мольба моя нелепа,
Лишь бы кто-нибудь принес, —
Не любви прошу, не хлеба, —
Горсточку горючих слез.
Я бы к сердцу их прижала,
Чтобы в кровь мою вошло
Обжигающее жало,
От которого светло.
Словно от вины тягчайшей,
Не могу поднять лица…
Дай же кто-нибудь, о дай же
Выплакаться до конца,
До заветного начала,
До рассвета на лугу…
Слишком больно я молчала,
Больше не могу.
1943
«Хоть не лелей, хоть не голубь…»
Хоть не лелей, хоть не голубь,
Хоть позабудь о нем, —
Оно пускает корни вглубь,
И это день за днем.
То, что запало нам в сердца,
Как хочешь назови,
Но только нет ему конца,
Оно у нас в крови.
Все больше мы боимся слов
И верим немоте.
И путь жесток, и век суров,
И все слова не те.
А то, о чем молчим вдвоем,
Дано лишь нам двоим.
Его никак не назовем,
Но неразлучны с ним.
«Жил тигренок, числясь в нетях…»
Жил тигренок, числясь в нетях,
Это хитрому с руки,
Чтоб забыли: в лапках этих
Подрастают коготки.
Если будут люди трогать,
Мучить или целовать —
Покажи точеный коготь,
Раз и навсегда отвадь.
Пусть летит тебе вдогонку
Восхищенье и хула.
Выходить пора тигренку
На серьезные дела.
1943
«Говорят, от судьбы не уйдешь…»
Говорят, от судьбы не уйдешь.
Ты над этим смеешься? Ну что ж,
Покажи мне, любимый, звезду,
По которой тебя не найду,
Покажи мне, любимый, пути,
На которых тебя не найти,
Покажи мне, любимый, коня,
Которым объедешь меня.
1943
«— Но в сердце твоем я была ведь?..»
— Но в сердце твоем я была ведь?
— Была:
Блаженный избыток, бесценный излишек…
— И ты меня вытоптал, вытравил, выжег?..
— Дотла, дорогая, дотла.
— Неправда. Нельзя истребить без следа.
Неясною тенью, но я же с тобою,
Сквозь горе любое и счастье любое
Невольно с тобою — всегда.
1943
«Молчи, я знаю, знаю, знаю…»
Молчи, я знаю, знаю, знаю.
Я точно, по календарю,
Припомню все, моя родная,
И за тебя договорю.
О, скрытая моя соседка,
Бедой объятая душа!
Мы слишком часто, слишком редко
Встречаемся, всегда спеша.
Приди от горя отогреться.
Всем сердцем пристальным моим
Зову тебя: скорее встреться,
Мы и без слов поговорим.
Заплачь, заплачь! Ведь я-то знаю,
Как ночь бродить по пустырю.
До счастья выплачься, родная,
Я за тебя договорю.
1943
Поэту горцу
К. К.
Когда ты стиснешь кулаки и зубы,
Склоняя голову — ты так хорош!
Гляжу и повторяю: любо, любо!
(Ты тихих слов не разберешь.)
Когда ж ты руки распахнешь и ветром
Меня охлынет с горной высоты,
Таким широким, прямодушным, щедрым, —
О, как тогда прекрасен ты!
1943
Осенние леса
1
Боже, как светло одеты,
В разном — в красном, в золотом!
На лесах сказалось лето
В пламени пережитом.
Солнце душу в них вложило —
Летней радуги красу.
Семицветное светило
Рдеет листьями в лесу.
Отрешившийся от зноя,
Воздух сразу стал чужим.
Отстранивший все земное,
Он высок и недвижим.
А в лесах — за дивом диво.
Им не надо никого,
Как молитва, молчаливо
Легких листьев торжество.
Чтó красе их вдохновенной
Близкий смертный снежный мрак…
До чего самозабвенны,
Как бесстрашны — мне бы так!
2
Грустила я за свежими бревенчатыми стенами,
Бродила опустевшими лесами несравненными,
И светлыми дубровами, и сумрачными чащами,
От пурпура — суровыми, от золота — молчащими.
Я увидала озими, как в раннем детстве, яркими, —
Великодушной осени весенними подарками.
В неполитом, в неполотом саду твоем стояла я…
Пылают листья золотом, любой — как солнце малое:
Что видывали зá лето от зноя неустанного —
По самый стебель налито и оживает заново.
Ни шелеста, ни шороха, — пройди всю глушь окрестную,
Лишь смутный запах пороха томит кору древесную.
Какими днями тяжкими нам эти чащи дороги!
За этими овражками стояли наши вороги.
Ломились в наши светлые заветные обители,
И воды ясной Сетуни их темный образ видели.
Настигнутые пулями, о вольной воле певшими,
В свой праздник недогулянный, детоубийцы, —
где ж они?..
Лишь смутный запах пороха хранит кора древесная.
Ни шелеста, ни шороха — тиха краса окрестная.
Как в утро это раннее, что разгорится досиня,
Мне по сердцу стояние самозабвенной осени!..
А ночь обступит звездами — дремучая, прозрачная.
Одно к другому созданы — и мрак и свечи брачные…
Земля моя чудесная, что для тебя я сделаю,
Какой прославлю песнею все светлое, все смелое,
И тишину рассветную, и жизнь вот эту самую,
И вас, друзья заветные, заветные друзья мои!..
3
Не наглядеться, не налюбоваться
На эту пламенеющую тишь,
Столь властную, что некуда податься,
И вместе с ней стоишь, горишь, молчишь.
Как памятник, надгробье страстотерпцам,
Что отстояли этот день большой
Единственным неповторимым сердцем,
Таинственной единственной душой,
Как жертвенник, неистово горящий
Во имя тех, которых молим жить, —
Высокая и пламенная чаща,
Ее огня вовек не потушить.
Здесь прошлые, здесь будущие годы,
И чудится — впервые жизнь полна
Столь просветленным воздухом свободы
От звезд небесных до морского дна.
И беззаветно жить бы мне отныне,
Самозабвенным воздухом дыша,
Чтоб сердце стало крепче этой сини
И чище этой осени душа.
1943
«Знаю, что ко мне ты не придешь…»
Знаю, что ко мне ты не придешь,
Но поверь, не о тебе горюю:
От другого горя невтерпеж,
И о нем с тобою говорю я.
Милый, ты передо мной в долгу.
Вспомни, что осталось за тобою.
Ты мне должен — должен! — я не лгу —
Воздух, солнце, небо голубое,
Шум лесной, речную тишину, —
Все, что до тебя со мною было.
Возврати друзей, веселье, силу
И тогда уже — оставь одну.
1943
«Но разве счастье взять руками голыми?..»
Но разве счастье взять руками голыми? —
Оно сожжет.
Меня швыряло из огня да в полымя
И вновь — об лед,
И в кровь о камень сердца несравненного, —
До забытья…
Тебя ль судить, — бессмертного, мгновенного,
Судьба моя!
1945
«Что же это за игра такая?..»
Что же это за игра такая?..
Нет уже ни слов, ни слез, ни сил…
Можно разлюбить — я понимаю,
Но приди, скажи, что разлюбил.
Для чего же эти полувзгляды?
Нежности внезапной не пойму.
Отвергая, обнимать не надо.
Разве не обидно самому?
Я всегда дивлюсь тебе как чуду.
Не найти такого средь людей.
Я до самой смерти не забуду
Беспощадной жалости твоей…
1949
«Люби меня. Я тьма кромешная…»
Люби меня. Я тьма кромешная.
Слепая, путаная, грешная.
Но ведь кому, как не тебе,
Любить меня? Судьба к судьбе.
Гляди, как в темном небе звезды
Вдруг проступают. Так же просто
Люби меня, люби меня,
Как любит ночь сиянье дня.
Тебе и выбора-то нет:
Ведь я лишь тьма, а ты лишь свет.
«Весна и снег. И непробудный…»
Весна и снег. И непробудный
В лесу заснеженном покой.
Зиме с землей расстаться трудно,
Как мне с тобой, как мне с тобой.
«Назначь мне свиданье на этом свете…»
Назначь мне свиданье
на этом свете.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!
Назначь мне свиданье
в том городе южном,
Где ветры гоняли
по взгорьям окружным,
Где море пленяло
волной семицветной,
Где сердце не знало
любви безответной.
Ты вспомни о первом свидании тайном,
Когда мы бродили вдвоем по окрайнам,
Меж домиков тесных,
по улочкам узким,
Где нам отвечали с акцентом нерусским.
Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,
Но вспомни, что даже на мусорной свалке
Жестянки и склянки
сверканьем алмазным,
Казалось, мечтали о чем-то прекрасном.
Тропинка все выше кружила над бездной…
Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный?..
Числа я не знаю,
но с этого дня
Ты светом и воздухом стал для меня.
Пусть годы умчатся в круженье обратном
И встретимся мы в переулке Гранатном…
Назначь мне свиданье у нас на земле,
В твоем потаенном сердечном тепле.
Друг другу навстречу
по-прежнему выйдем,
Пока еще слышим,
Пока еще видим,
Пока еще дышим,
И я сквозь рыданья
Тебя заклинаю:
назначь мне свиданье!
Назначь мне свиданье,
хотя б на мгновенье,
На площади людной,
под бурей осенней,
Мне трудно дышать, я молю о спасенье…
Хотя бы в последний мой смертный час
Назначь мне свиданье у синих глаз.
1953
«Зима установилась в марте…»
Зима установилась в марте
С морозами, с кипеньем вьюг,
В злорадном, яростном азарте
Бьет ветер с севера на юг.
Ни признака весны, и сердце
Достигнет роковой черты
Во власти гибельных инерций
Бесчувствия и немоты.
Кто речь вернет глухонемому?
Слепому — кто покажет свет?
И как найти дорогу к дому,
Которого на свете нет?
1955
Сказка
Очарованье зимней ночи,
Воспоминанья детских лет…
Пожалуй, был бы путь короче —
И замело бы санный след,
Но от заставы Ярославской
До Норской фабрики, до нас, —
Двенадцать верст морозной сказкой
Под звездным небом в поздний час…
Субботним вечером за нами
Прислали тройку. Мы с сестрой
Садимся в сани. Над санями
Кружит снежинок легкий рой.
Вот от дверей начальной школы
Мы тронулись. На облучке —
Знакомый кучер в долгополой
Овчинной шубе, в башлыке.
И вот уже столбы заставы,
Ее двуглавые орлы.
Большой больничный сад направо…
Кусты черны, снега белы,
Пустырь кругом, строенья редки.
Темнее ночь, сильней мороз.
Чуть светятся седые ветки
Екатерининских берез.
А лошади рысцою рядом
Бегут… Почтенный коренник
Солидно вскидывает задом.
Он строг и честен, он старик.
Бежит, бряцая селезенкой,
Разумный конь, а с двух сторон
Шалят пристяжки, как девчонки,
Но их не замечает он.
Звенит бубенчик под дугою,
Поют полозья в тишине,
Но что-то грезится другое
В завороженном полусне.
На горизонте лес зубчатый,
Таинственный, волшебный лес.
Там в чаще — угол непочатый
Видений, страхов и чудес.
Вот королевич серым волком
Подходит к замку на горе…
Неверный свет скользит по елкам,
По черным елкам в серебре.
Спит королевна непробудно,
И замок в чарах забытья.
Самой себе признаться трудно,
Что королевна — это я…
Настоян на морозе воздух
И крепок так, что не вздохнуть.
И небо — в нелюдимых звездах,
Чужая, нежилая жуть.
Все на земле роднее, ближе.
Вот телеграфные столбы
Гудят все то же, а поди же, —
Ведь это песня ворожбы.
Неодолимая дремота
В том звуке, ровном и густом…
Но вот фабричные ворота,
Все ближе, ближе, ближе дом.
Перед крылечком санный полоз
Раскатывается, скользя,
И слышен из прихожей голос,
Который позабыть нельзя.
1955
«За окном шумит листва густая…»
За окном шумит листва густая —
И благоуханна и легка,
Трепеща, темнея и блистая
От прикосновенья ветерка.
И за нею — для меня незримы,
Рядом, но как будто вдалеке, —
Люди, что всегда проходят мимо,
Дети, что играют на песке,
И шоссе в движенье непрестанном,
И ваганьковская тишина.
Я от них волненьем и блистаньем,
Трепетом живым отрешена…
Вянет лето, превращаясь в осень.
Август отошел, и вот, спеша,
Ветер листья рвет, швыряет оземь,
Откровенным холодом дыша.
И в окне, наполнившемся светом, —
Все, что близко, все, что далеко,
Все как есть, что было скрыто летом,
Вдруг возникло четко и легко.
Если чудо — говори о чуде,
Сочетавшем радость и печаль.
Вот они — невидимые люди!
Вот она — неведомая даль!
1955
«Что ж, если говорить без фальши…»
Что ж, если говорить без фальши,
Ты что ни день — отходишь дальше,
Я вижу по твоим глазам
И по уклончивой улыбке, —
Я вижу, друг мой, без ошибки,
Что нет возврата к чудесам.
Прощай. Насильно мил не будешь,
Глухого сердца не разбудишь.
Я — камень на твоем пути.
Ты можешь камень обойти.
Но я сказать хочу другое:
Наверно, ты в горах бывал
И камень под твоей ногою
Срывался, падая в провал.
1955
«Не беда, что жизнь ушла…»
Не беда, что жизнь ушла,
Не беда, что навсегда,
Будто я и не жила,
А беда, что без следа,
Как в песок вода.
1955
Надпись на портрете (Мадригал)
Я вглядывалась в Ваш портрет
Настолько пристально и долго,
Что я, быть может, сбита с толку
И попросту впадаю в бред,
Но я клянусь: Ваш правый глаз
Грустней, внимательнее, строже,
А левый — веселей, моложе
И больше выражает Вас,
Но оба тем и хороши,
Что Вы на мир глядите в оба,
И в их несхожести особой —
Таинственная жизнь души.
Они мне счастья не сулят,
А лишь волненье без названья,
Но нет сильней очарованья,
Чем Ваш разноречивый взгляд.
1956
«Смертный страх перед бумагой белой…»
Смертный страх перед бумагой белой…
Как его рассеять, превозмочь?
Как же ты с душою оробелой
Безоглядно углубишься в ночь?
Только тьма и снег в степи бескрайной.
Ни дымка, ни звука — тьма и снег.
Ни звезды, ни вехи — только тайна,
Только ночь и только человек.
Он идет один, еще не зная,
Встретится ль в дороге огонек.
Впереди лишь белизна сплошная
И сплошная тьма, и путь далек.
Он идет, перемогая вьюгу,
И безлюдье, и ночную жуть,
И нельзя пожаловаться другу,
И нельзя в пути передохнуть.
Впереди ночной простор широкий,
И пускай в снегах дороги нет,
Он идет сквозь вьюгу без дороги
И другому пролагает след.
Здесь, быть может, голову он сложит…
Может быть, идущий без пути,
Заплутает, сгинет, но не может,
Он уже не может не идти.
Где-то ждет его душа живая.
Чтоб ее от горя отогреть,
Он идет, себя позабывая…
Выйди на крыльцо и друга встреть.
1956
«Какой обильный снегопад в апреле…»
Какой обильный снегопад в апреле,
Как трудно землю покидать зиме!
И вновь зима справляет новоселье,
И вновь деревья в снежной бахроме.
Под ярким солнцем блещет снег весенний.
Взгляни, как четко разлинован лес:
Высоких сосен правильные тени
По белизне легли наперерез.
Безмолвие страницы разграфленной
Как бы неволит что-то написать,
Но от моей ли немоты бессонной
Ты слова ждешь, раскрытая тетрадь!
А под вечер предстал передо мною
Весь в перечерках черновик живой,
Написанный осыпавшейся хвоей,
И веточками, и сухой листвой,
И шишками, и гарью паровозной,
Что ветром с полустанка нанесло,
А почерк — то веселый, то серьезный,
И подпись различаю и число.
Не скрыть врожденный дар — он слишком ярок,
Я только позавидовать могу,
Как, не страшась ошибок и помарок,
Весна стихи писала на снегу.
1956
«Бредешь в лесу, не думая, что вдруг…»
Бредешь в лесу, не думая, что вдруг
Ты станешь очевидцем некой тайны,
Но все открыл случайный взгляд вокруг —
Разоблачения всегда случайны.
В сосновой чаще плотный снег лежит, —
Зима в лесу обосновалась прочно,
А рядом склон сухой листвой покрыт, —
Здесь осени участок неурочный.
Шумят ручьи, бегут во все концы, —
Весна, весна! Но в синеве прогретой
Звенят вразлив не только что скворцы —
Малиновка, — уж это ли не лето!
Я видела и слышала сама,
Как в чаще растревоженного бора
Весна и лето, осень и зима
Секретные вели переговоры.
1956
«Дни мелькают — чет и нечет…»
Дни мелькают — чет и нечет, —
Жизнь осталась позади.
Что же сердце рвет и мечет,
Задыхается в груди?
Слышать слов моих не хочет,
Будто в рану сыплю соль.
Днем и ночью сердце точит
Злая дума, злая боль.
Знает сердце о причине
Всех скорбей моих и бед,
О смиренье, о гордыне
И что мне спасенья нет.
Но оно по горло сыто
Ложью всяческих прикрас,
И оно со мной открыто
Говорит не в первый раз,
Чтобы я, ему доверясь,
Не страшилась жить в глуши
И смелей порола ересь,
Если ересь от души.
Говорит не рифмы ради,
Не для красного словца,
Говорит не на эстраде, —
На исходе, у конца.
1956
«У твоей могилы вечный непокой…»
У твоей могилы вечный непокой,
Приглушенный говор суеты людской.
Что же мне осталось, ангел мой небесный!
Без тебя погибну в муке бесполезной.
Без тебя погибну внемоте железной.
Сердце истомилось смертною тоской.
Горе навалилось каменной доской.
1956
«Мы рядом сидим. Я лицо дорогое целую…»
Мы рядом сидим.
Я лицо дорогое целую.
Я голову глажу седую.
Мне чудится возле
какая-то грозная тайна,
А ты говоришь мне,
что все в этой жизни случайно.
Смеясь, говоришь:
— Ну а как же? Конечно, случайно. —
Так было во вторник.
И вот подошло воскресенье.
Из сердца вовек не уйдет
этот холод весенний.
Тебя уже нет,
а со мною что сталось, мой милый…
Я склоняюсь над свежей твоею могилой.
Я не голову глажу седую —
Траву молодую.
Не лицо дорогое целую,
А землю сырую.
1956
«Скорей бы эти листья облетели!..»
Скорей бы эти листья облетели!
Ты видел детство их. Едва-едва,
Как будто в жизни не предвидя цели,
Приоткрывалась зябкая листва, —
«Плиссе-гофре», как я тогда сказала
О листиках зубчатых, и в ответ
Смеялся ты, и вот тебя не стало.
Шумит листва, тебя на свете нет,
Тебя на свете нет, и это значит,
Что света нет… А я еще жива.
Раскрылись листья, подросла трава.
Наш долгий разговор едва лишь начат.
На мой вопрос ты должен дать ответ,
А ты молчишь. Тебя на свете нет.
1956
«Скажи — как жить мне, как мне жить…»
Скажи — как жить мне, как мне жить
На этом берегу?
Я не могу тебя забыть
И помнить не могу.
Я не могу тебя забыть,
Покуда вижу свет,
А там забуду, может быть,
А может быть, и нет.
А может быть, к душе душа
Приникнет в тишине,
И я воскресну не дыша,
Как вечный сон во сне.
На бездыханный берег твой
Возьми меня скорей
И красотою неживой
От жизни отогрей.
1957
«Не за то ли, что только гроза…»
Не за то ли, что только гроза
Нам на мир открывает глаза,
И пред нами, хорош или плох,
Предстает он, застигнут врасплох,
Озарен то вверху, то внизу, —
Не за это ль мы любим грозу?
Чтó при свете дневном разберешь,
Примиряющем с правдою ложь?
Безучастный равно ко всему,
Он легко переходит во тьму.
Чтó увидишь во мраке ночном?
Он смешал, одурманенный сном,
Все, что живо, и все, что мертво,
Он не видит себя самого.
Но случится лишь ветру начать
Вековые деревья качать, —
Встрепенется, очнется листва,
Зашумит: я жива, я жива!
Редкий дождь пробежит вперебой
По траве, от зарниц голубой,
В чаще туч острие топора
Полыхнет белизной серебра,
Громыхающий рухнет удар
С поднебесья в глухой крутояр,
Взвоет ветер на все голоса,
Раскачаются шумно леса…
Не затем ли мы жаждем грозы,
Что гроза повторяет азы
Неоглядной свободы, и гром
Бескорыстным гремит серебром,
И, прозрачной прохладой дыша,
Оживает, мужает душа…
[1957]
Черта горизонта
Вот так и бывает: живешь — не живешь,
А годы уходят, друзья умирают,
И вдруг убедишься, что мир непохож
На прежний, и сердце твое догорает.
Вначале черта горизонта резка, —
Прямая черта между жизнью и смертью,
А нынче так низко плывут облака,
И в этом, быть может, судьбы милосердье.
Тот возраст, который с собою принес
Утраты, прощанья, — наверное, он-то
И застил туманом непролитых слез
Прямую и резкую грань горизонта.
Так много любимых покинуло свет,
Но с ними беседуешь ты, как бывало,
Совсем забывая, что их уже нет…
Черта горизонта в тумане пропала.
Тем проще, тем легче ее перейти, —
Там эти же рощи и озими эти ж…
Ты просто ее не заметишь в пути,
В беседе с ушедшим — ее не заметишь.
1957
«Ты не становишься воспоминаньем…»
Ты не становишься воспоминаньем.
Как десять лет назад, мы до сих пор
Ведем наш сокровенный разговор,
Встречаясь, будто на рассвете раннем.
Нам хорошо и молодо вдвоем,
И мы всегда идем, всегда идем,
Вверяясь недосказанным признаньям
И этой чуть раскрывшейся листве,
Пустому парку, резкой синеве
Холодных майских дней и полувзглядам,
Что сердцу говорят прямее слов
О радости, что мы, как прежде, рядом…
Минутами ты замкнут и суров.
Жестокой мысли оборвать не хочешь,
Но вот опять и шутишь и хохочешь,
Самозабвенно радуясь всему —
И солнцу, и нехоженой дорожке,
И полусказочной лесной сторожке,
И тайному смятенью моему…
Мне верилось, что это лишь начало,
Что это лишь преддверие чудес,
Но всякий раз, когда тебя встречала,
Я словно сердцу шла наперерез…
И я еще живу, еще дышу,
Еще брожу одна по темным чащам,
И говорю с тобою, и пишу,
Прошедшее мешая с настоящим…
Минутами ты замкнут и суров.
А я была так близко, так далеко
С тобой, с твоей душою одинокой
И не могла, не находила слов —
Заговорить с тобой о самом главном,
Без переходов, сразу, напрямик…
Мой ангел, на пути моем бесславном
Зачем явился ты, зачем возник!
Ты был моей любовью многолетней,
А я — твоей надеждою последней,
И не нашла лишь слова одного,
А ты хотел его, ты ждал его,
Оно росло во мне, но я молчала,
Мне верилось, что это лишь начало.
Я шла, не видя и не понимая
Предсмертного страданья твоего.
Я чувствовала светлый холод мая,
И ты со мной, и больше ничего…
О, как тебя я трепетно касалась!
Но счастье длилось до того лишь дня,
Пока ты жил, пока не оказалось,
Что даже смерть желаннее меня.
1957
«Кузнечики… А кто они такие?..»
Кузнечики… А кто они такие?
Заглядывал ли ты в их мастерские?
Ты, видно, думал — это кузнецы
И в кузнях маленьких поодиночке
О наковаленки бьют молоточки,
А звон от них летит во все концы?
Но это заблужденье. Ты не прав.
Не кузница в траве, а телеграф,
Где точки и тире, тире и точки
Бегут вплотную по звенящей строчке
И наспех сообщают обо всем,
Что в поле и в лесу творилось днем.
1957
«Пылает отсвет красноватый…»
Пылает отсвет красноватый
На летней пашне в час заката.
До фиолетового цвета
Земля засохшая прогрета.
Здесь каждый пласт огнем окован —
Лиловым, розовым, багровым,
И этот крепкий цвет не сразу
Становится привычен глазу,
Но приглядишься понемногу,
На алый пласт поставишь ногу,
И с каждым шагом все бесстрашней
Идешь малиновою пашней.
1957
Сон на рассвете
Какие-то ходы и переходы,
И тягостное чувство несвободы,
И деревянный низенький помост.
Как на погосте, он открыт и прост,
Но это — стол, на нем вино и свечи,
А за столом — мои отец и мать.
Их нет в живых. Я рада этой встрече,
Я их прошу меня с собою взять
Или побыть со мною хоть недолго,
Чтоб Новый год мы встретили втроем.
Я что-то им толкую втихомолку,
Они молчат. Мы пьем. Нет, мы не пьем.
Вино как кровь. Нетронуты бокалы.
А у моих родимых небывалый —
Такой недвижный и спокойный взгляд.
Да полно, на меня ль они глядят?
Нет, сквозь меня. О нет, куда-то мимо.
А может статься, я для них незрима?
И что это? Настал ли Новый год
И при свечах втроем его встречаем,
Иль только близится его приход, —
Так незаметен, так необычаен?..
Отец и мать. И между ними — я.
Где ночью ты была, душа моя?
И Новый год — был или не был встречен?
Что спрашивать, когда ответить нечем!
Я помню только свечи и вино,
И стол в дверях, и что кругом темно,
И что со мной — восставшие из праха.
Я их люблю без трепета, без страха,
Но мне тревожно. Кто меня зовет?..
О лишь бы знать — настал ли Новый год?
1957
«Даже в дорогой моей обители…»
Даже в дорогой моей обители
За стеной живут… иные жители.
Тише, тише, милые друзья!
В нашей не участвуя беседе,
Любознательнейшие соседи
Слушают, дыханье затая…
Хоть бы раз промолвить слово резкое,
Хоть бы знать — робею или брезгую?
Страшно или мерзко тронуть грязь?
Но обходишь эту слякоть липкую
С жалкою прощающей улыбкою,
Сердцем негодующим крепясь.
«О, глупомудрый, змеиногубый!..»
О, глупомудрый, змеиногубый!
В стихах ни строчки прямой и грубой.
Ты затаился, ты не сказался,
К запретным темам не прикасался.
Всю жизнь решалась одна задача,
Чтоб неизменной была удача,
И неизбежно придет возмездье —
Исчезнет слава с тобою вместе.
50-е годы
Размолвка
Один неверный звук,
Но и его довольно:
С пути собьешься вдруг
Нечаянно, невольно,
И вот пошла плутать
Сквозь клятвы и зароки,
Искать, и ждать, и звать,
И знать, что вышли сроки…
Подумай, лишь одно
Беспамятное слово —
И вдруг темным-темно
И не было былого,
А только черный стыд
Да оклик без ответа,
И ночь не говорит
О радости рассвета.
«За что же изничтожено…»
За что же изничтожено,
Убито сердце верное?
Откройся мне: за что ж оно
Дымится гарью серною?
За что же смрадной скверною
В терзаньях задыхается?
За что же сердце верное
Как в преисподней мается?
За что ему отчаянье
Полуночного бдения
В предсмертном одичании,
В последнем отчуждении?..
Ты все отдашь задешево,
Чем сердце это грезило,
Сторонкой обойдешь его,
Вздохнешь легко и весело…
50-е годы
«Развратник, лицемер, ханжа…»
Развратник, лицемер, ханжа…
От оскорбления дрожа,
Тебя кляну и обличаю.
В овечьей шкуре лютый зверь,
Предатель подлый, верь не верь,
Но я в тебе души не чаю.
«Ты что ни скажешь, то солжешь…»
Ты что ни скажешь, то солжешь,
Но не твоя вина:
Ты просто в грех не ставишь ложь,
Твоя душа ясна.
И мне ты предлагаешь лгать:
Должна я делать вид,
Что между нами тишь да гладь,
Ни боли, ни обид.
О доброте твоей звонят
Во все колокола…
Нет, ты ни в чем не виноват,
Я клевещу со зла.
Да разве ты повинен в том,
Что я хочу сберечь
Мученье о пережитом
Блаженстве первых встреч.
Я не права — ты верный друг,
О нет, я не права,
Тебе лишь вспомнить недосуг,
Что я еще жива.
«Ты отнял у меня и свет и воздух…»
Ты отнял у меня и свет и воздух
И хочешь знать — где силы я беру,
Чтобы дышать, чтоб видеть небо в звездах,
Чтоб за работу браться поутру.
Ну что же, я тебе отвечу, милый:
Растоптанные заживо сердца
Отчаянье вдруг наполняет силой,
Отчаянье без края, без конца.
1958
«Я равна для тебя нулю…»
Я равна для тебя нулю.
Что о том толковать, уж ладно.
Все равно я тебя люблю
Восхищенно и беспощадно.
И слоняюсь, как во хмелю,
По аллее неосвещенной,
И твержу, что тебя люблю
Беспощадно и восхищенно.
[50-е годы]
«Постылых „ни гу-гу“…»
…И опять весь год ни гу-гу.
Анна Ахматова
Постылых «ни гу-гу»
Я слышать не могу —
Я до смерти устала,
Во мне души не стало.
Я больше не могу.
Простите, кредиторы.
Да, я кругом в долгу
И опускаю шторы.
Конец, конец всему —
Надеждам и мученью,
Я так и не пойму
Свое предназначенье.
В минуту отчаянья
Весь век лишь слова ищешь ты,
Единственного слова.
Оно блеснет из темноты
И вдруг погаснет снова.
Ты не найдешь путей к нему
И не жалей об этом:
Оно не пересилит тьму,
Оно не станет светом.
Так позабудь о нем, пойми,
Что поиски напрасны,
Что все равно людей с людьми
Оно сроднить не властно.
Зачем весь век в борьбе с собой
Ты расточаешь силы,
Когда смолкает звук любой
Пред немотой могилы.
1958
«Ты думаешь, правда проста?…»
Ты думаешь, правда проста?
Попробуй, скажи.
И вдруг онемеют уста,
Тоскуя о лжи.
Какая во лжи простота,
Как с нею легко,
А правда совсем не проста,
Она далеко.
Ее ведь не проще достать,
Чем жемчуг со дна.
Она никому не под стать,
Любому трудна.
Ее неподатливый прав
Пойми, улови.
Попробуй хоть раз, не солгав,
Сказать о любви.
Как будто дознался, достиг,
Добился, и что ж? —
Опять говоришь напрямик
Привычную ложь.
Тоскуешь до старости лет,
Терзаясь, горя…
А может быть, правды и нет,
И мучишься зря?
Дождешься ль ее благостынь?
Природа ль не лжет?
Ты вспомни миражи пустынь,
Коварство болот,
Где травы над гиблой водой
Густы и свежи…
Как справиться с горькой бедой
Без сладостной лжи?
Но бьешься не день и не час,
Твердыни круша,
И значит, таится же в нас
Живая душа.
То выхода ищет она,
То прячется вглубь.
Но чашу осушишь до дна,
Лишь только пригубь.
Доколе живешь ты, дотоль
Мятешься в борьбе,
И только вседневная боль
Наградой тебе.
Бескрайна душа и страшна,
Как эхо в горах.
Чуть ближе подступит она,
Ты чувствуешь страх.
Когда же настанет черед
Ей выйти на свет, —
Не выдержит сердце: умрет,
Тебя уже нет.
Но заживо слышал ты весть
Из тайной глуши,
И значит, воистину есть
Бессмертье души.
1958
Дальнее дерево
От зноя воздух недвижим,
Деревья как во сне.
Но что же с деревом одним
Творится в тишине?
Когда в саду ни ветерка,
Оно дрожмя дрожит…
Что это — страх или тоска,
Тревога или стыд?
Что с ним случилось? Что могло б
Случиться? Посмотри,
Как пробивается озноб
Наружу изнутри.
Там сходит дерево с ума,
Не знаю почему.
Там сходит дерево с ума,
А что с ним — не пойму.
Иль хочет что-то позабыть
И память гонит прочь?
Иль что-то вспомнить, может быть,
Но вспоминать невмочь?
Трепещет, как под топором,
Ветвям невмоготу, —
Их лихорадит серебром,
Их клонит в темноту.
Не в силах дерево сдержать
Дрожащие листки.
Оно бы радо убежать,
Да корни глубоки.
Там сходит дерево с ума
При полной тишине.
Не более, чем я сама,
Оно понятно мне.
1959
«К твоей могиле подойду…»
К твоей могиле подойду,
К плите гранитной припаду.
Здесь кончился твой путь земной,
Здесь ты со мной, ты здесь со мной.
Но неужели только здесь?
А я? А мир окрестный весь?
А небо синее? А снег?
А синева ручьев и рек?
А в синем небе облака?
А смертная моя тоска?
А на лугах седой туман?..
Не сон и не самообман:
Когда заговорит гроза,
Вблизи блеснут твои глаза —
Их синих молний острия…
И это вижу только я.
1959
«Если говорить всерьез…»
Если говорить всерьез,
Лишь одно мне в жизни мило —
Коль мороз, так уж мороз,
Чтобы дух перехватило.
Я люблю вершины гор,
Оттого, что одиноки,
Я люблю степной простор
За его размах широкий.
Если зной — чтоб тишь да гладь,
Если ветер — чтоб такой уж —
На ногах не устоять…
Ты меня не успокоишь,
Не утешишь, не уймешь
Ласковым полунамеком.
Не свидетельствует ложь
О высоком, о глубоком.
Ни со степью, ни с горой
Не сравню твоей повадки,
Ты весь век живешь игрой
В кошки-мышки, в жмурки, в прятки.
А по мне, чтоб было так:
Счастье — счастьем, горе — горем.
Чтобы свет и чтобы мрак.
Впрочем, мы еще поспорим.
1959
Стихи 60-х—70-х годов
«О чем же, о чем, если мир необъятен?..»
О чем же, о чем, если мир необъятен?..
Я поздно очнулась, кругом ни души.
О чем же? О снеге? О солнце без пятен?
А если и пятна на нем хороши?..
О людях? Но либо молчание, либо
Лишь правда, а мне до нее не дойти.
О жизни?.. Любовь моя, свет мой, — спасибо.
О смерти?.. Любовь моя, свет мой, — прости.
1960
Плач китежанки
Боже правый, ты видишь
Эту злую невзгоду.
Ненаглядный мой Китеж
Погружается в воду.
Затонул, златоглавый,
От судьбы подневольной.
Давней силой и славой —
Дальний звон колокольный.
Затонул белостенный,
Лишь волна задрожала,
И жемчужная пена
К берегам отбежала.
Затонул, мой великий.
Стало óглядь безмолвно,
Только жаркие блики
Набегают на волны…
Начало 60-х годов
«Сквозь сон рванешься ты помериться с судьбою…»
Сквозь сон рванешься ты помериться с судьбою
И подчинить ее движению строки —
И отступаешь вдруг сама перед собою,
В бессильной ярости сжимая кулаки.
Строка зовет на бой, и ты готова к бою,
Всем унижениям и страхам вопреки,
И отступаешь вдруг сама перед собою,
В бессильной ярости сжимая кулаки.
Твоя душа мертва. Смятенье бесполезно.
Зачем проснулась ты? Твоя душа мертва.
Смирись перед немой, перед последней бездной, —
Для сердца легче смерть, чем мертвые слова.
Утешься, — над твоей могилою безвестной
И ветер будет петь, и шелестеть трава.
1961
«День изо дня и год из года…»
Анне Ахматовой
День изо дня и год из года
Твоя жестокая судьба
Была судьбой всего народа.
Твой дивный дар, твоя волшба
Бессильны были бы иначе.
Но ты и слышащей и зрячей
Прошла сквозь чащу мертвых лир,
И Тютчев говорит впервые:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
1962
Комарово
«Нет, мне уже не страшно быть одной…»
Нет, мне уже не страшно быть одной.
Пусть ночь темна, дорога незнакома.
Ты далеко и все-таки со мной.
И мне спокойно, мне легко, я дома.
Какие чары в голосе родном!
Я сокрушаюсь только об одном —
О том, что жизнь прошла с тобою розно,
О том, что ты позвал меня так поздно.
Но даже эта скорбь не тяжела.
От унижений, ужасов, увечий
Я не погибла, нет, я дожила,
Дожаждалась, дошла до нашей встречи.
Твоя немыслимая чистота —
Мое могущество, моя свобода,
Мое дыханье: я с тобою та,
Какой меня задумала природа.
Я не погибла, нет, я спасена.
Гляди, гляди — жива и невредима.
И даже больше — я тебе нужна.
Нет, больше, больше — я необходима.
1962
«Но только и было что взгляд издалёка…»
Но только и было что взгляд издалёка,
Горячий, сияющий взгляд на ходу.
В тот день облака проплывали высоко
И астры цвели в подмосковном саду.
Послушай, в каком это было году?..
С тех пор повторяю: а помнишь, а знаешь?
И нечего ждать мне и все-таки жду.
Я помню, я знаю, что ты вспоминаешь
И сад подмосковный, и взгляд на ходу.
1962
«Ты сама себе держава…»
Анне Ахматовой
Ты сама себе держава,
Ты сама себе закон,
Ты на все имеешь право,
Ни за кем нейдешь вдогон.
Прозорлива и горда
И чужда любых иллюзий…
Лишь твоей могучей музе
По плечу твоя беда,
И — наследственный гербовник —
Царскосельский твой шиповник
Не увянет никогда.
1963
«Куда, коварная строка?..»
Куда, коварная строка?
Ты льстишься на приманку рифмы?
Ты хочешь, чтобы вкось и вкривь мы
Плутали? Бей наверняка,
Бей в душу, иль тебя осилят
Созвучья, рвущиеся врозь.
Коль ты стрела — лети навылет,
Коль ты огонь — свети насквозь.
1963
«Не отчаивайся никогда…»
Не отчаивайся никогда,
Даже в лапах роковой болезни,
Даже пред лицом сочтенных дней.
Ничего на свете нет скучней,
И бессмысленней, и бесполезней,
Чем стенать, что зря прошли года.
Ты еще жива. Начни сначала.
Нет, не поздно: ты еще жива.
Я не раз тебя изобличала,
И опять ключами ты бренчала
У дверей в тайницу волшебства.
1964
Горе
Уехать, уехать, уехать,
Исчезнуть немедля, тотчас,
По мне, хоть навечно, по мне, хоть
В ничто, только скрыться бы с глаз,
Мне лишь бы не слышать, не видеть,
Не знать никого, ничего,
Не мыслю живущих обидеть,
Но как здесь темно и мертво!
Иль попросту жить я устала,
И ждать, и любить не любя…
Все кончено. В мире не стало —
Подумай! — не стало тебя.
1964
Армения
На свете лишь одна Армения,
Она у каждого — своя.
От робости, от неумения
Ее не воспевала я.
Но как же я себя обидела —
Я двадцать лет тебя не видела,
Моя далекая, желанная,
Моя земля обетованная!
Поверь, любовь моя подспудная,
Что ты — мой заповедный клад,
Любовь моя — немая, трудная,
Любое слово ей не в лад.
Со мною только дни осенние
И та далекая гора,
Что высится гербом Армении
В снегах литого серебра,
Та величавая двуглавая
Родная дальняя гора,
Что блещет вековечной славою,
Как мироздание стара.
И тайна острова севанского,
Где словно дань векам седым —
И своды храма христианского,
И жертвоприношений дым.
Орлы Звартноца в камень врублены,
Их оперенье — ржавый мох…
О край далекий, край возлюбленный,
Мой краткий сон, мой долгий вздох…
1966
«После долгих лет разлуки…»
После долгих лет разлуки
В летний лес вхожу с тревогой.
Тот же гул тысячезвукий,
Тот же хвойный сумрак строгий,
Тот же трепет и мерцанье,
Те же тени и просветы,
Те же птичьи восклицанья,
И вопросы, и ответы.
Глубока была отвычка,
Но невольно сердце вняло,
Как кому-то где-то птичка
Что-то звонко объясняла.
Здравствуй, лес! К тебе пришла я
С безутешною утратой.
О, любовь моя былая,
Приголубь меня, порадуй!
1967
«Давно я не верю надземным широтам…»
Давно я не верю надземным широтам,
Я жду тебя здесь за любым поворотом, —
Я верю, душа остается близ тела
На этом же свете, где счастья хотела,
На этом, где все для нее миновалось,
На этом, на этом, где с телом рассталась,
На этом, на этом, другого не зная,
И жизнь бесконечна — родная, земная…
1967
«Ужаснусь, опомнившись едва…»
Ужаснусь, опомнившись едва, —
Но ведь я же родилась когда-то.
А потом? А где другая дата?
Значит, я жива еще? Жива?
Как же это я в живых осталась?
Господи, но что со мною сталось?
Господи, но где же я была?
Господи, как долго я спала.
Господи, как страшно пробужденье,
И такое позднее — зачем?
Меж чужих людей как привиденье
Я брожу, не узнана никем.
Никого не узнаю. Исчез он,
Мир, где жили милые мои.
Только лес еще остался лесом,
Только небо, облака, ручьи.
Господи, коль мне еще ты внемлешь,
Сохрани хоть эту благодать.
Может, и очнулась я затем лишь,
Чтоб ее впервые увидать.
1967
«Тихие воды, глубокие воды…»
Тихие воды, глубокие воды,
Самозащита немой свободы…
Хуже ли те, что бесстрашно мчатся,
Смеют начаться, смеют кончаться.
Память несут о далеком истоке.
Вы же молчите, недвижны, глубоки, —
Не о чем вспомнить, не о чем грезить…
Вам повидать бы Арагву иль Бесядь —
Их обреченность, самозабвение,
Самоубийство, саморожденье…
Вашей судьбою, стоячие воды,
Только глухие, незрячие годы,
Намертво сомкнутые уста,
Холод, и темень, и немота.
1967
«Прикосновение к бумаге…»
Прикосновение к бумаге
Карандаша — и сразу
Мы будто боги или маги
В иную входим фазу.
И сразу станет все понятно,
И все нестрашно сразу,
Лишь не кидайтесь на попятный,
Не обрывайте фразу,
И за строкой строка — толпою,
Как будто по приказу…
Лишь ты, доверие слепое,
Не подвело ни разу.
[1967]
Средневековье (Читая армянскую лирику)
Я человек средневековья,
Я рыцарь, я монах;
Пылаю гневом и любовью
В молитвах и в боях.
Цвет белый не смешаю с черным.
Задуй мою свечу —
Я взором жарким и упорным
Их всюду различу.
И я потребую отмщенья
За то, что здесь темно.
Да, я монах, но всепрощенье
Мне чуждо и смешно.
Я пред крестом творю молитву
В мерцании свечи,
И на коне кидаюсь в битву,
С врагом скрестить мечи.
1967
«Оглянусь — окаменею…»
Оглянусь — окаменею.
Жизнь осталась позади.
Ночь длиннее, день темнее.
То ли будет, погоди.
У других — пути-дороги,
У других — плоды труда,
У меня — пустые строки,
Горечь тайного стыда.
Вот уж правда: что посеешь…
Поговорочка под стать.
Наверстай-ка что сумеешь,
Что успеешь наверстать!
Может быть, перед могилой
Узнаём в последний миг
Все, что будет, все, что было…
О, немой предсмертный крик!
Ни пощады, ни отсрочки
От беззвучной темноты…
Так не ставь последней точки
И не подводи черты.
1967
«Подумай, разве в этом дело…»
Подумай, разве в этом дело,
Что ты судьбы не одолела,
Не воплотилась до конца,
Иль будто и не воплотилась,
Звездой падучею скатилась,
Пропав без вести, без венца?
Не верь, что ты в служенье щедром
Развеялась, как пыль под ветром.
Не пыль — цветочная пыльца!
Не зря, не даром все прошло,
Не зря, не даром ты сгорела,
Коль сердца твоего тепло
Чужую боль превозмогло,
Чужое сердце отогрело.
Вообрази — тебя уж нет,
Как бы и вовсе не бывало,
Но светится твой тайный след
В иных сердцах… Иль это мало —
В живых сердцах оставить свет?
1967
«— Черный ворон, черный вран…»
— Черный ворон, черный вран,
Был ты вором иль не крал?
— Крал, крал.
Я белее был, чем снег,
Я украл ваш краткий век.
Сколько вас пошло травой,
Я один за всех живой.
— Черный ворон, черный вран,
Был ты вором иль ты врал?
— Врал, врал.
1967
«Судьба за мной присматривала в оба…»
Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба.
Она ко мне внимательна особо
И на немые муки торовата.
А счастье исчезало без возврата…
За что, я не пойму, такая злоба?
И все исподтишка, все шито-крыто.
И вот сидит на краешке порога
Старуха у разбитого корыта.
— А что? сказала б ты. — И впрямь старуха.
Ни памяти, ни зрения, ни слуха.
Сидит, бормочет про судьбу, про бога…
1967
«О, какие мне снились моря!..»
О, какие мне снились моря!
Шелестели полынью предгория…
Полно, друг. Ты об этом зря,
Это все реквизит, бутафория.
Но ведь снились! И я не пойму —
Почему они что-то значили?
Полно, друг. Это все ни к чему.
Мироздание переиначили.
Эта сказочка стала стара,
Потускнели виденья ранние,
И давно уж настала пора
Зренья, слуха и понимания.
1967
«Что делать! Душа у меня обнищала…»
Что делать! Душа у меня обнищала
И прочь ускользнула.
Я что-то кому-то наобещала
И всех обманула.
Но я не нарочно, а так уж случилось,
И жизнь на исходе.
Что делать! Душа от меня отлучилась
Гулять, на свободе.
И где она бродит? Кого повстречала?
Чему удивилась?..
А мне без нее не припомнить начала,
Начало забылось.
1967
«Пожалейте пропавший ручей!..»
Пожалейте пропавший ручей!
Он иссох, как душа иссыхает.
Не о нем ли средь душных ночей
Эта ива сухая вздыхает!
Здесь когда-то блестела вода,
Убегала безвольно, беспечно.
В жаркий полдень поила стада
И не знала, что жить ей не вечно,
И не знала, что где-то вдали
Неприметно иссякли истоки,
А дожди этим летом не шли,
Только зной распалялся жестокий.
Не пробиться далекой струе
Из заваленных наглухо скважин…
Только ива грустит о ручье,
Только мох на камнях еще влажен.
1967
«Что толковать! Остался краткий срок…»
Чтотолковать! Остался краткий срок,
По как бы ни был он обидно краток,
Отчаянье пошло мне, видно, впрок —
Я не растрачу дней моих остаток.
Я понимаю, что кругом в долгу
Пред самым давним и пред самым новым,
И будь я проклята, когда солгу
Хотя бы раз, хотя б единым словом.
Нет, если я смогу преодолеть
Молчание, пока еще не поздно, —
Не будет слово ни чадить, ни тлеть, —
Костер, пылающий в ночи морозной.
«Одна на свете благодать…»
Одна на свете благодать —
Отдать себя, забыть, отдать
И уничтожиться бесследно.
Один на свете путь победный —
Жить как бегущая вода:
Светла, беспечна, молода,
Она теснит волну волною
И пребывает без труда
Все той же и всегда иною,
Животворящею всегда.
1967
«Сердцу ненавидеть непривычно…»
Сердцу ненавидеть непривычно,
Сердцу ненавидеть несподручно,
Ненависть глуха, косноязычна.
До чего с тобой, старуха, скучно!
Видишь зорко, да ведь мало толку
В этом зренье хищном и подробном.
В стоге сена выглядишь иголку,
Стены размыкаешь взором злобным.
Ты права, во всем права, но этой
Правотой меня уж не обманешь, —
С ней глаза отвадятся от света,
С ней сама вот-вот старухой станешь.
Надоела. Ох, как надоела.
Колоти хоть в колокол набатный, —
Не услышу. Сердце отболело,
Не проймешь. Отчаливай обратно.
Тот, кто подослал тебя, старуху…
Чтоб о нем ни слова, ни полслова,
Чтоб о нем ни слуху и ни духу.
Знать не знаю. Не было такого.
Не было, и нету, и не будет
Ныне, и по всякий день, и присно.
Даже ненавидеть не принудит,
Даже ненавидеть ненавистно.
1967
«Пусть будет близким не в упрек…»
Пусть будет близким не в упрек
Их вечный недосуг.
Со мной мой верный огонек,
Со мной надежный друг.
Не надо что-то объяснять,
О чем-то говорить, —
Он сразу сможет все понять,
Лишь стоит закурить.
Он скажет: «Ладно, ничего», —
Свеченьем золотым,
И смута сердца моего
Рассеется как дым.
«Я все же искорка тепла, —
Он скажет мне без слов, —
Я за тебя сгореть дотла,
Я умереть готов.
Всем существом моим владей,
Доколе ты жива…»
Не часто слышим от людей
Подобные слова.
1967
«Ни ахматовской кротости…»
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости —
Поначалу от робости,
А позднее от старости.
Не напрасно ли прожито
Столько лет в этой местности?
Кто же все-таки, кто же ты?
Отзовись из безвестности!..
О, как сердце отравлено
Немотой многолетнею!
Что же будет оставлено
В ту минуту последнюю?
Лишь начало мелодии,
Лишь мотив обещания,
Лишь мученье бесплодия,
Лишь позор обнищания.
Лишь тростник заколышется
Тем напевом чуть начатым…
Пусть кому-то послышится,
Как поет он, как плачет он.
1967
«Никто не поможет, никто не поможет…»
Никто не поможет, никто не поможет,
Метанья твои никого не тревожат,
В себе отыщи непонятную силу,
Как скрытую золотоносную жилу.
Она затаилась под грохот обвала,
Поверь, о поверь, что она не пропала,
Найди, раскопай, обрети эту силу,
Иль знай, что себе ты копаешь могилу.
Пока еще дышишь — работай, не сетуй,
Не жди, не зови — не услышишь ответа,
Кричишь ли, молчишь — никого не тревожит,
Никто не поможет, никто не поможет…
Жестоки, неправедны жалобы эти,
Жестоки, неправедны эти упреки, —
Все люди несчастны и все одиноки,
Как ты, одиноки все люди на свете.
[1967—68]
«Немого учат говорить…»
Немого учат говорить.
Он видит чьих-то губ движенье
И хочет слово повторить
В беззвучных муках унижения.
Ты замолчишь — он замычит,
Пугающие звуки грубы,
Но счастлив он, что не молчит,
Когда чужие сжаты губы.
А что ему в мычанье том!
То заревет, то смолкнет снова.
С нечеловеческим трудом
Он хочет выговорить слово.
Он мучится не день, не год,
За звук живой — костьми поляжет.
Он речь не скоро обретет,
Но он свое когда-то скажет.
[1967—68]
«О, ветром зыблемая тень…»
О, ветром зыблемая тень —
Не верьте лести.
Покуда вы — лишь дальний день,
Лишь весть о вести.
Вы тщитесь — как бы почудней,
В угоду моде.
Вас нет. Вы нищенки бедней.
Вы — нечто вроде.
Все про себя: судьба, судьбе,
Судьбы, судьбою…
Нет, вы забудьте о себе,
Чтоб стать собою.
Иначе будет все не впрок
И зря и втуне.
Покуда блеск натужных строк —
Лишь блеск латуни.
Ваш стих — сердец не веселит,
Не жжет, не мучит.
Как серый цвет могильных плит,
Он им наскучит.
Вам надо все перечеркнуть,
Начать сначала.
Отправьтесь в путь, в нелегкий путь,
В путь — от причала.
«А ритмы, а рифмы невемо откуда…»
А ритмы, а рифмы невемо откуда
Мне под руку лезут, и нету отбоя.
Звенит в голове от шмелиного гуда.
Как спьяну могу говорить про любое.
О чем же? О жизни, что длилась напрасно?
Не надо. Об этом уже надоело.
Уже надоело? Ну вот и прекрасно,
Я тоже о ней говорить не хотела.
И все же и все-таки длится дорога,
О нет, не дорога — глухая тревога,
Смятенье, прислушиванье, озиранье,
О чем-то пытаешься вспомнить заране;
Терзается память и все же не может
Прорваться куда-то, покуда не дожит
Мой день…
«Осень сорок четвертого года…»
Осень сорок четвертого года.
День за днем убывающий зной.
Ереванская синь небосвода
Затуманена дымкой сквозной.
Сокровенной счастливою тайной
Для меня эта осень жива.
Не случайно, о нет, не случайно
Я с трудом поднимаю слова, —
Будто воду из глуби колодца,
Чтоб увидеть сквозь годы утрат
Допотопное небо Звартноца,
Обнимающее Арарат.
1968
«Есть художник неподкупный…»
Есть художник неподкупный —
Так распишет, что ой-ой.
Он любой душе преступной…
Воздавать привык с лихвой.
Тот ваятель несогласен
Утаить хоть что-нибудь.
Лепкой брыльев и подглазин
Он расскажет злую суть.
По одной кривой улыбке
Он движеньями резца
Год из году без ошибки
Обличает подлеца.
Сеть морщинок расположит
Так, что скрыть уже нельзя:
Этот век позорно прожит —
Вниз и вниз вела стезя…
Тут уж верьте ли, не верьте —
Весь рисунок неспроста…
Но останется до смерти
Красотою красота.
1968
«Сверчок поет, запрятавшись во тьму…»
Сверчок поет, запрятавшись во тьму,
И песенка его не пустословье, —
Не зря сверчит, дай бог ему здоровья,
И я не зря завидую ему.
Я говорю: невидимый, прости,
Меня сковало смертной немотою,
Одно твое звучание простое
Могло б меня от гибели спасти, —
Лишь песенку твою, где нет потерь,
Где непрерывностью речитатива
И прошлое и будущее живо, —
Лишь эту песню мне передоверь!
1969
«Легко ль понять через десятки лет…»
Легко ль понять через десятки лет —
Здесь нет меня, ну просто нет и нет.
Я не запомнила земные дни.
Растенью — и тому, наверно, внятно
Теченье дней, а для меня они —
Как на луне смутнеющие пятна.
1969
«Я живу, озираясь…»
Я живу, озираясь,
Что-то вспомнить стараюсь —
И невмочь, как во сне.
Эта злая работа
До холодного пота,
Видно, впрямь не по мне.
Но пора ведь, пора ведь
Что-то разом исправить,
Распрямить, разогнуть…
Голос тихий и грозный
Отвечает мне: поздно,
Никого не вернуть.
Я живу озираясь,
Я припомнить стараюсь
Мой неведомый век.
Все забыла, что было,
Может, я и любила
Только лес, только снег.
Снег — за таинство света
И за то, что безгласен
И со мною согласен
Тишиною пути,
Ну а лес — не за это:
За смятенье, за гомон
И за то, что кругом он,
Стоит в чащу войти…
1969
Молитва лесу
Средь многих земных чудес
Есть и такое —
Листья кружат на ветру,
Преображается лес,
Нет в нем покоя.
Это не страшно, это не навсегда,
Настанет покой снежный,
А там, глядишь, и весне подойдет чреда
В срок неизбежный.
У нас похуже, но мы молчим.
Ты, лес, посочувствуй.
Весна — это юность, а старость — не множество
зим.
Минует одна, я место пусто.
Сомкнется воздух на месте том,
Где мы стоим, где мы идем.
Но и это не страшно, коль ты пособишь —
И в нашу подземную тишь
Врастет деревцó корнями живыми.
Пожалей нас во имя
Пожизненной верности нашей
Ветвям, и листве, и хвое,
Оставь нам дыханье твое живое, —
Пусть растет деревцó,
Все ветвистей, все краше!..
1969
«Я здесь любила все как есть…»
Я здесь любила все как есть,
Не рассказать, не перечесть —
Весну любила за весну,
А зимушку за белизну,
А лето за угрюмый зной,
А осень… у нее со мной
Был уговор особый,
Узнать его не пробуй.
Она ведет меня тайком,
И всякий раз впервые,
Звеня ключами и замком,
В такие кладовые,
Где впрямь захватывает дух
От багреца и злата,
А голос — и глубок и глух —
Мне говорит неспешно вслух
Все, что сказал когда-то.
1969
«Нас предрассветная заря…»
Нас предрассветная заря
Надеждой радует не зря,
И неспроста пугает нас
Тревожный сумеречный час.
Лишается земля примет,
Когда над ней исчезнет свет,
Все дело в свете, но и он
Лишь темнотой на свет рожден.
«Нет, не поеду я туда…»
Нет, не поеду я туда.
Давно уже зарок положен.
Я знала Коктебель тогда,
Когда еще в нем жил Волошин.
А что там было? Синь, полынь
Да море. Небо и пустыня.
Там и теперь все та же синь,
Но нет пустыни, нет полыни.
Стеклом блистают корпуса,
Тесня волошинскую дачу,
И первобытная краса
Исчезла. Все теперь иначе.
Туда на бархатный сезон
Литературная элита
Съезжается, держа фасон…
Исчез мой давний дивный сон,
Но все, что было, не забыто.
Эскиз к портрету
Ты живешь смиренницей прекрасною,
Всю себя лишь для себя храня.
Доцветаешь красотой напрасною,
Прелестью, лишенною огня.
Стройностью твоей, твоей походкою
Восхитится каждый, кто ни глянь.
Красоте зеленых глаз с обводкою
Позавидовать могла бы лань.
Алощекая и темнобровая,
Ты и впрямь на диво хороша…
Гордая, холодная, суровая,
Самопоглощенная душа.
Мраморная прелесть безупречная,
Совершенства образец живой…
Самоотречение беспечное,
Безоглядное — удел не твой.
Есть возможное и невозможное.
Ты меж них границу провела
И живешь с оглядкой осторожною,
Ни добра не делая, ни зла.
Четверостишия и наброски
«Душа объята сном…»
Душа объята сном
Иль мечется в смятенье.
А под твоим окном
Растет стихотворенье.
«Страшно тебе довериться, слово…»
Страшно тебе довериться, слово,
Страшно, а дóлжно.
Будь слишком стáро, будь слишком ново,
Только не ложно.
«Неприметны осени касанья…»
Неприметны осени касанья.
Еще густ и зелен летний лес.
Но таинственное угасанье —
Видимой красе наперерез —
Может быть лишь в блеклости небес.
«На столе бумажный ворох…»
На столе бумажный ворох
Удалось бы разгрести —
И тогда на всех просторах
Мне открыты все пути!
«У человечества одышка…»
У человечества одышка
От спешки яростной, как будто —
Последний день, а завтра — крышка
И мрак последнего уюта.
1969
«Наглядеться б на чудо!..»
Наглядеться б на чудо!
Но усталость с утра, —
Это знак, что отсюда
Убираться пора.
«…Но у вьюги лучше получалось…»
…Но у вьюги лучше получалось,
Оттого-то мне и замолчалось.
«И лишь в редчайшие мгновенья…»
И лишь в редчайшие мгновенья
Вдруг заглядишься в синеву
И повторяешь в изумленье:
Я существую, я живу.
«Слова пустые лежат, не дышат…»
Слова пустые лежат, не дышат,
Слова не знают — зачем их пишут,
Слова без смысла, слова без цели,
Они озябших не отогрели,
Они голодных не накормили, —
Слова бездушья, слова бессилья!
Они робеют, они не смеют,
Они не светят, они не греют,
И лишь немеют в тоске сиротства,
Не сознавая свое уродство.
(70-е годы)
«По мне лишь так: когда беда настанет…»
По мне лишь так: когда беда настанет,
Тогда и плачь. «Покуда гром не грянет,
Мужик не перекрестится». Таков
Обычай прадедов спокон веков.
Он у меня в крови. Я не умею
Терзаться впрок. Глупее иль умнее
Обычай мой, чем вечное нытье, —
Он исстари, он существо мое.
(70-е годы)
«Ты говоришь: „Я не творила зла…“»
«Ты говоришь: „Я не творила зла…“
Но разве ты кого-нибудь спасла?
А ведь кого-то за руку схватив,
Могла бы удержать, он был бы жив.
Но даже тот неискупленный грех,
И он не самый тяжкий изо всех,
Ты за него страдаешь столько лет…
Есть грех другой, ему прощенья нет, —
Ты спряталась в глухую скорлупу,
Ты замешалась в зыбкую толпу,
Вошла в нее не как рассветный луч.—
Ты стала тучей в веренице туч.
Где слово, что тебе я в руки дал,
Чтоб добрый ликовал, а злой страдал?
Скажи мне — как распорядилась им,
Бесценным достоянием моим?.
Не прозвучало на земле оно,
Не сказано, не произнесено.
Уйди во мрак, не ведающий дна,
Пускай тебя приимет сатана».
А тот вопит: «Не вем ее, не вем,
Она при жизни не была ничем,
Она моей при жизни не была,
Она и вправду не творила зла.
За что ее карать, за что казнить?
Возьмешь ее на небо, может быть?..»
И я услышу скорбный стон небес,
И как внизу расхохотался бес,
И только в том спасение мое,
Что сгину — провалюсь в небытие.
«Взгляни — два дерева растут…»
Д. С.
Взгляни — два дерева растут
Из корня одного.
Судьба ль, случайность ли, но тут
И без родства — родство.
Когда зимой шумит метель,
Когда мороз суров, —
Березу охраняет ель
От гибельных ветров.
А в зной, когда трава горит
И хвое впору тлеть, —
Береза тенью одарит,
Поможет уцелеть.
Некровные растут не врозь,
Их близость — навсегда,
А у людей все вкривь да вкось,
И горько от стыда.
Болезнь
О как хорошо, как тихо,
Как славно, что я одна.
И шум и неразбериха
Ушли, и пришла тишина.
Но в сердце виденья теснятся,
И надобно в них разобраться
Теперь, до последнего сна.
Я знаю, что не успеть.
Я знаю — напрасно стараться
Сказать обо всем даже вкратце,
Но душу мне некуда деть.
Нет сил. Я больна. Я в жару.
Как знать, может, нынче умру…
Одно мне успеть, одно бы —
Без этого как умереть? —
Об Анне… Но жар, но ознобы,
И поздно. Прости меня. Встреть.
1970
«К своей заветной цели…»
К своей заветной цели
Я так и не пришла.
О ней мне птицы пели,
О ней весна цвела.
Всей силою расцвета
О ней шумело лето,
Про это лишь, про это
Осенний ветер пел,
И снег молчал про это,
Искрился и белел.
Бесценный дар поэта
Зарыла в землю я.
Велению не внемля,
Свой дар зарыла в землю…
Для этого ль, затем ли
Я здесь была, друзья!
О рыбах
Не однажды реку вспять
Поворачивали силой,
Только это не к добру —
Даже рыбам негде было
В нужный срок метать икру,
И снуют, снуют в смятенье…
Загляни-ка в глубину —
Там мелькают рыбьи тени,
Прибиваются ко дну.
Но от дикой передряги
И на дне весь мир иной:
Где приютные коряги
С потаенной тишиной,
Темных водорослей чащи,
Золотой подводный хвощ?..
Нету зыблющихся рощ,
Нету жизни настоящей.
Рыбам слезы б источать!
Если голос обрели бы, —
На крик закричали б рыбы,
Нет, не стали бы молчать.
Завопили б, сознавая,
Что беду зовут бедой
И что их вода живая
Стала мертвою водой.
1970
«Когда слагать стихи таланта нет…»
Когда слагать стихи таланта нет, —
Не чувствуя ни радости, ни боли,
Хоть рифмами побаловаться, что ли,
Хоть насвистать какой-нибудь сонет,
Хоть эхо разбудить, но мне в ответ
Не отзываются ни лес, ни поле.
Расслышать не в моей, как видно, воле
Те голоса, что знала с малых лет.
Не медли, смерть. Не медли, погляди,
Как тяжело неслышащей, незрячей,
Пустой душе. Зову тебя — приди!..
О счастье! От моей мольбы горячей
Вдруг что-то дрогнуло в немой груди.
Помедли, смерть, помедли, подожди!..
1971
Завещание (Отрывок)
…И вы уж мне поверьте.
Что жизнь у нас одна,
А слава после смерти
Лишь сильным суждена.
Не та пустая слава
Газетного листка,
А сладостное право
Опережать века.
…Не шум газетной оды,
Журнальной болтовни, —
Лишь тишина свободы
Прославит наши дни.
Не похвальбой лукавой,
Когда кривит строка,
Вы обретете право
Не умолкать века.
Один лишь труд безвестный —
За совесть, не за страх,
Лишь подвиг безвозмездный
Не обратится в прах…
«Пустыня… Замело следы…»
Непоправимо белая страница.
Анна Ахматова
Пустыня… Замело следы
Кружение песка.
Предсмертный хрип: «Воды, воды…»
И — ни глотка.
В степных снегах буран завыл,
Летит со всех сторон.
Предсмертный хрип: «Не стало сил…» —
Пургою заметен.
Пустыни зной, метели свист,
И вдруг — жилье во мгле.
Но вот смертельно белый лист
На письменном столе…
[1971]
«Одно мне хочется сказать поэтам…»
Одно мне хочется сказать поэтам:
Умейте домолчаться до стихов.
Не пишется? Подумайте об этом
Без оправданий, без обиняков.
Но, дознаваясь до жестокой сути
Жестокого молчанья своего,
О прямодушии не позабудьте,
И главное — не бойтесь ничего.
1971
Рылеев
Безумье, видимо… Гляди-ка,
Как мысли повернули дико!
Сначала вспомнилось о том,
Как, в форточку влетев, синички
Сухарь клюют… Кормитесь, птички,
У вас нахальство не в привычке,
Ведь голод и мороз притом;
Кто доживет до переклички
Перед рождественским постом!
Сперва — о птицах. А потом —
Что их воротничок высокий
Белеет, закрывая щеки…
Рылеев… Господи, прости!
Сознанья темные пути
И вправду неисповедимы.
Синиц высокий воротник
Мелькнул, исчез, и вдруг возник
Тот образ, юный, невредимый,
И воротник тугой высок,
Белеющий у смуглых щек,
Как заклинанье о спасенье
От злых предчувствий… Сколь жесток
Тот век, тот царь. Хотя б глоток —
Мгновенье воздуха, мгновенье!..
1971
Тревога
Мне слышится — кто-то у самого края
Зовет меня. Кто-то зовет, умирая,
А кто — я не знаю, не знаю, куда
Бежать мне, но с кем-то, но где-то беда,
И надо туда, и скорее, скорее —
Быть может, спасу, унесу, отогрею,
Быть может, успею, а ноги дрожат,
И сердце мертвеет, и ужасом сжат
Весь мир, где недвижно стою, озираясь,
И вслушиваюсь, и постигнуть стараюсь —
Чей голос?.. И, сжата тревожной тоской,
Сама призываю лишь смертный покой.
1971
«На миру, на юру…»
И. Л.
На миру, на юру
Неприютно мне и одиноко.
Мне б забиться в нору,
Затаиться далёко-далёко.
Чтоб ни кто, никогда,
Ни за что, никуда, ниоткуда.
Лишь корма и вода
И созвездий полночное чудо.
Только плеск за бортом —
Равнозвучное напоминанье
Все о том да о том,
Что забрезжило в юности ранней,
А потом за бортом
Потерялось в ненастном тумане.
1971
«Сказать бы, слов своих не слыша…»
Сказать бы, слов своих не слыша,
Дыханья, дуновенья тише,
Беззвучно, как дымок над крышей
Иль тень его (по снегу тень
Скользит, но спящий снег не будит), —
Сказать тебе, что счастье — будет,
Сказать в безмолвствующий день.
1971
Летень
Повеял летний ветерок,
Не дуновенье — легкий вздох,
Блаженный вздох отдохновенья.
Вздохнул и лег в тени дорог
На травы, на древесный мох
И вновь повеет на мгновенье.
Не слишком наша речь бедна,
В ней все имеет имена,
Да не одно: и «лед» и «ледень»,
А ветерок, что в летний час
Дыханьем юга нежит нас,
Когда-то назывался «летень».
1971
Превращения
1
Поýтру нынешней весной,
С окна отдернув занавески,
Я ахнула: передо мной
Толпятся в двухсотлетнем блеске —
В кудрявых белых париках,
В зеленых шелковых камзолах
Вельможи… (Заблудясь в веках,
Искали, видно, дней веселых
И не туда пришли впотьмах.)
Им что ни скажешь — все не то,
И я поэтому молчала.
Хоть не узнал бы их никто!
Роскошество их обличало —
Их пудреные парики,
Темно-зеленые камзолы,
Всему на свете вопреки,
Как возле царского престола,
Красуются перед окном,
И думать ни о чем ином
Я не могу. На миг забуду
И снова погляжу в окно,
И снова изумляюсь чуду,
Но вот в окне уже темно.
2
В новолунье, в полнолунье
Правит миром ночь-колдунья.
Утром все в окне иное,
Нет чудес вчерашних там,
Но распахнут предо мною
Монастырский древний храм,
Не разбитый, не спаленный.
На стене густо-зеленой
Мутно-белых свеч ряды.
(Чье раденье? Чьи труды?)
Отступаю в тайном страхе —
За окном стоят монахи.
Видно, служба отошла:
Ни одной свечи зажженной,
Не звонят колокола,
Слышен шепот приглушенный:
«Вседержителю хвала».
3
И вновь превращенья свершаются ночью.
А утром прибой темно-белые клочья
Швыряет мне с моря, стоящего дыбом,
Дрожащего каждым зеленым изгибом.
Влетает в окошко тенистая пена
И вот затихает в углах постепенно
Густой пеленой тополиного пуха, —
В нем плоти, пожалуй, не больше, чем духа.
1972
«И ты бессилен, как бессилен каждый…»
В. А.
И ты бессилен, как бессилен каждый
Ей возвратить земное бытие,
Но доброе вмешательство ее
Почувствуешь, узнаешь не однажды, —
То отвратит грозящую беду,
То одарит нежданною отрадой,
То вдруг свернешь с дороги на ходу,
Поверив ей, что, значит, так и надо.
[1974]
Редактор
Такое дело: либо — либо…
Здесь ни подлогов, ни подмен…
И вряд ли скажут мне спасибо
За мой редакторский рентген.
Борюсь с карандашом в руке.
Пусть чья-то речь в живом движенье
Вдруг зазвучит без искаженья
На чужеродном языке.
«Разбила речка поутрý…»
Разбила речка поутрý
Холодное зерцало.
Не верь, что это не к добру,
А верь, что замерцала
В осколках ледяных весна;
На волю вырвалась волна
И радость прорицала.
1975
«Неужели вот так до конца…»
Неужели вот так до конца
Будем жить мы, друг другу чужие?
Иль в беспамятстве наши сердца?
Все-то думается: не скажи я
Слов каких-то (не знаю каких!) —
Не постигло бы нас наважденье,
Этот холод и мрак отчуждения,
Твердый холод, объявший двоих.
1975
Весна в детстве
Вешний грач по свежей пашне
Ходит с важностью всегдашней,
Ходит чинно взад-вперед.
Нету птицы богомольней,
Звон услышав колокольный,
Не спеша поклоны бьет.
Строгий звон великопостный
Понимает грач серьезный,
Первым встретил ледоход,
Первым видел половодье,
Пост великий на исходе,
Все меняется в природе,
И всему свой черед…
В самый светлый день весенний,
В день христова воскресенья,
С церкви зимнего Николы
Разольется звон веселый
И с пяти церквей в ответ
То ли звон, то ли свет.
Старший колокол — для фона:
Звук тяжелый и густой
В день веселый, день святой
Оттеняет перезвоны
Молодых колоколов.
Солнце синий воздух плавит,
Жарким блеском праздник славит
На крестах куполов,
И щебечут в поднебесье
Малые колокола, —
Светлый день! Христос воскресе!
Всемогущему хвала! —
То в распеве всей гурьбой,
То вразброд, наперебой —
Славят первый день пасхальный,
Бестревожный, беспечальный.
Этот день впереди,
А пока погляди,
Как под звон великопостный
Ходит пашней грач серьезный,
Ходит чинно взад-вперед,
Не спеша поклоны бьет.
1975
О птицах
И вдруг перестаешь страдать.
Откуда эта благодать?
Ты птиц не любишь в руки брать,
Но песни, песни!..
Воистину — глагол небес:
«Найдись, очнись, ты не исчез,
Воспрянь, воскресни!»
Об этом в чаще — соловей,
А жаворонок — в поле,
В полете, не в сетях ветвей,
Один, на вольной воле.
Но он поет лишь на лету
И, вмиг теряя высоту,
Впадает где-то в немоту,
Скользнув на землю.
Не сетуй, если он затих.
Послушай песни птиц лесных,
Им чутко внемля.
Когда в сплетении ветвей
Поет как хочет соловей —
Не всем ли дышится живей,
Вольней — не всем ли?
Поет, не улетая ввысь.
У птиц лесных и ты учись,
Доверие душе своей
От них приемли.
1975
О собаках
Собака… Ну что же? Ну — пес, ну собака.
Забот, что ли, нету иных?
Собака собакой. С чего же, однако,
Так много присловий о них?
«Промерз как собака», «устал как собака»,
«А ну тебя вовсе ко псу!»
Собак в поговорках и этак и всяко,
Как шишек в еловом лесу.
(Коль жизнь обойдется со мною жестоко,
Невольно вздохну: «Я как пес одинока.
О, холод собачий…» Зачем я про это?
Но лучше оставить вопрос без ответа.)
Для пса человек будто солнце из мрака —
Молитва, мечта, божество,
Бесстрашно его охраняет собака,
Спасет и умрет за него.
Что ж душу собачью калечат и мучат?
Собаки смирятся, смолчат.
Внушают им злобу, свирепости учат…
Волчат обучайте, волчат!
Отбилась от темы. Вначале — присловья,
А дальше совсем не о том.
Но псам на любовь отвечайте любовью,
А про поговорки — потом.
1975
«Красотка, перед зеркалом вертясь…»
Красотка, перед зеркалом вертясь,
С гримаскою горбунье говорила:
«Нельзя сказать, что выгляжу я мило.
Ей-богу, сложена я как горилла».
И предлагает, ласкою светясь:
«Не прогуляетесь ли Вы со мною?»
И эта, с перекошенной спиною,
Вздыхая, за красавицей плелась.
Вот тебе на! Никак ты пишешь басни!
Да и плохие, что всего ужасней.
Ложись-ка спать, скорее свет гаси.
Уж коль беда с тобою приключилась,
Уж коль стихи писать ты разучилась,
Без тайной зависти свой крест неси,
А басни, притчи… Боже упаси!
1975
«Когда молчанье перешло предел…»
Когда молчанье перешло предел —
Кто гибели моей не захотел?..
Подходит и трясет меня за плечи:
«Опамятуйся, пробудись, очнись,
Верни себе свой облик человечий,
Почувствуй глубину свою и высь,
Верни себе великое наследство,
Сознание твоих врожденных прав,
И безоглядное любвеобилье детства,
И юности непримиримый прав».
1975
Бессонница
Всю ночь — страданье раскаленное,
О совесть, память, жаркий стыд!..
Чуть голубое, чуть зеленое,
Тот жар лишь небо остудит.
И ни к чему глотать снотворные,
От горькой одури слабеть…
Смирись, покуда небо черное
Не станет тихо голубеть.
1975
«Что печального в лете?..»
Что печального в лете? —
Лето в полном расцвете.
Мучит малая малость —
В листьях будто усталость,
Будто скрытость недуга
В этих листьях зеленых,
И морозом и вьюгой
С первых дней опаленных.
Трудно было не сжаться,
От смертей удержаться, —
То тепло, то остуда, —
Нынче вёсны коварны…
На листву, как на чудо,
Я гляжу благодарно.
1975
«Уж лучше бы мне череп раскроили…»
Уж лучше бы мне череп раскроили,
Как той старухе, — в кухне, топором,
Или ножом пырнули, или, или…
А этих мук не описать пером.
Я замерла, сама с собой в разлуке,
Тоска молчит, тоска мычит без слов.
За что мне, господи, такие муки!
Убил бы сразу, только и делов.
О господи мой боже, не напрасно
Правдивой создал ты меня и ясной
И с детства научил меня слагать
Слова… Какую даровал усладу!
И вот с немой тоскою нету сладу.
Ты прав. Я за грехи достойна аду,
Но смилуйся, верни мне благодать!
1976
«Боже, какое мгновенное лето…»
Боже, какое мгновенное лето,
Лето не долее двух недель,
Да и тревожное знаменье это —
Грозы иные, чем были досель.
Не было молнии, брошенной вниз,
Но полосою горизонтальной
Свет протекал над землею недальней,
Медленный гром на мгновенье навис
Бледному свету вослед и обвалом
Рушился с грохотом небывалым,
Падал сквозь землю, гудел под ней.
Лето промчалось за десять дней.
«Я ненавижу смерть…»
Я ее ненавижу.
М. Булгаков
Я ненавижу смерть.
Я ненавижу смерть.
Любимейшего я уж не услышу…
Мне было б за него и день и ночь молиться:
О жизнь бесценная, умилосердь
Неведомое, чтобы вечно длиться!..
1976
«И вдруг возникает какой-то напев…»
И вдруг возникает какой-то напев,
Как шмель неотвязный гудит, ошалев,
Как хмель оплетает, нет сил разорвать,
И волей-неволей откроешь тетрадь.
От счастья внезапного похолодею.
Кто понял, что белым стихом не владею?
Кто бросил мне этот спасательный круг?
Откуда-то рифмы сбегаются вдруг.
Их зря обесславил писатель великий
За то, что бедны, холодны, однолики,
Напрасно охаял он «кровь и любовь»,
И «камень и пламень», и вечное «вновь».
Не эти ль созвучья исполнены смысла,
Как некие сакраментальные числа?
А сколько других, что поддержат их честь!
Он, к счастью, ошибся — созвучий не счесть.
1976
«Нет несчастней того…»
Нет несчастней того,
Кто себя самого испугался,
Кто бежал от себя,
Как бегут из горящего дома.
Нет несчастней того,
Кто при жизни с душою расстался,
А кругом — все чужое,
А кругом ему все незнакомо.
Он идет как слепой,
Прежней местности не узнавая.
Он смешался с толпой,
Но страшит суета неживая,
И не те голоса,
Все чужое, чужое, чужое,
Лишь зари полоса
Показалась вечерней душою…
1976
Из записных книжек
«Вы горя пожелали мне…»
Вы горя пожелали мне,
А счастье на меня обвалом,
Невероятным, небывалым,
Не грезившимся и во сне.
Вы горя пожелали мне,
Чтобы душа моя очнулась,
Чтоб снова к жизни я вернулась,
Не стыла в мертвой тишине.
… … … … … … … … … … … … … …
И продолжалось так полгода.
И эта явь была как сои.
И голос тот, что телефон
Донес мне, был он как свобода
Для смертника. Он мне вернул
Так просто и непостижимо
Театра восхищенный гул,
Тебя — и в гриме, и без грима,
И вдохновение твое,
И то, что был ты гениален,
И то, что бред и забытье
Вся жизнь моя среди развалин
Минувшего. Твой голос был
По-прежнему широк и молод
И многозвучных полон сил,
Не поврежден и не расколот.
Что скрыто от меня самой,
В чем я себе не признавалась,
Вдруг ожило и вдруг сказалось
Сознаньем истины прямой.
… … … … … … … … … … … … … …
[1976–1977]
«Ждет путь немыслимо большой…»
Ждет путь немыслимо большой
Там, за чертой, за крайним краем.
Работай над своей душой,
Покуда мир обозреваем.
Ты держишься — я поняла —
На невидимке-паутинке.
И я слежу из-за угла,
Как ты в неравном поединке
То затрепещешь, то замрешь…
О продержись, о продержись
Хоть день, хоть два, как можно дольше.
Ты знаешь, что такое жизнь?
Дозволь пожить мне, о дозволь же…
[1978]
«С каждым днем на яблоне…»
С каждым днем на яблоне
Яблоки белее.
А ночами зяблыми
Все черней аллеи.
В полдень небо досиня,
Как весной, прогрето.
Скрыть приметы осени
Умудрилось лето.
Но она, дотошная,
Забирает вожжи.
Петухи оплошные
Запевают позже.
Ты же, лето, досыта
Усладилось медом,
Шло босое пó саду,
Шло озерным бродом.
Встреть же безопасливо
Пору увяданья.
Знаешь ли, как счастливо
Слово «до свиданья».
«Снять с души такое бремя…»
Снять с души такое бремя
Поздновато.
Перед всеми, перед всеми
Виновата.
Неужели может быть
Жизнь другая?
Можно и меня любить,
Не ругая?..
Всех, кого обидой кровной
Оскорбила,
Всех, пред кем была виновна,
Не забыла.
… … … … … … … … … … … … … …
[1978]
«Хоть графоманство поздних дней…»
Хоть графоманство поздних дней
Еще не худшая из маний —
Скажи, что может быть страшней
Придуманных воспоминаний?
Зачем они? Они затем,
Чтоб уцелеть и после смерти,
Чтоб не исчезнуть насовсем…
Ни слову в тех строках не верьте!
… … … … … … … … … … … … … …
Спускаясь в памяти подвал,
Оттуда б брали все, что было.
А там, где памяти провал,
Писали б: «Я забыл», «забыла»…
[1978–1979]
«Перестал человек писать стихи…»
Перестал человек писать стихи.
Почему?
Потому что ясно стало ему,
Что слово его ничего не значит.
Что хоть стар он, но путь его не начат
И не время его начинать,
А время молчать,
И темно, и пора почивать,
И напрасно тоска неуемная гложет…
Пожалейте, кто может.
1979

ПЕРЕВОДЫ ИЗ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ
Иоаннес Иоаннисиан (1864–1929)
«Не забывай, певец, о верной лире…»
Не забывай, певец, о верной лире,
Не дай умолкнуть струнам золотым.
Пускай их звон разносится все шире,
Пусть будет он в веках незаглушим.
Пусть лира славит добрые деянья
И подвиги, не ждущие венца,
Пусть голосом любви и состраданья
Воспламеняет чистые сердца.
И как зима дыханьем ветра злого
Не в силах задержать приход весны,
Так жгучей правоте прямого слова
Ни клевета, ни злоба не страшны.
Аветик Исаакян (1875–1957)
Народная лира (Сербская легенда XVII века)
Над Сербией блещет кривой ятаган
И каркают вóроны, пьяные кровью.
Исхлестанный воздух горяч и багрян.
И ветер разносит рыдание вдовье.
Тиран Абдулла, кровожадный паша,
Пирует в Белграде, победою пьяный.
Ослушников войско во прах сокруша,
Он счастлив богатой подачкой султана.
Замученной Сербии лютый палач
Сидит на резном перламутровом троне.
Шербет, словно кровь непокорных, горяч,
И золото чаши пылает в ладони.
Кругом янычары, что рады и впредь
Разбойничать, лишь бы платили сполна им…
На блюдах дымится обильная снедь,
Струится шербет полноводным Дунаем.
Зловещий подсчет веселит янычар:
По многу ль голов они в битве отсéкли?
Бахвалятся, спорят — чей крепче удар,
Бранятся, хохочут, как дьяволы в пекле.
— Эй, старого Мирко введите-ка в зал!
Его четырех сыновей мы забрали.
Отвагу мятежников он воспевал,
Властителей славу воспеть не пора ли!
И Мирко-гусляр входит словно во сне,
Он слышит застольный прерывистый гомон,
Присев на скамью ото всех в стороне,
Глазами незрячими водит кругом он.
— Послушай, старик, — возглашает паша, —
Во прах уничтожил я Сербию вашу,
Но знаю, что песня твоя хороша,
Твой редкостный дар по заслугам уважу.
Не зря приведен ты на праздничный пир:
Прославь меня песней на вечные годы.
Пускай меня помнит и чествует мир,
Покуда есть небо, и суша, и воды.
Наградой паша соблазняет певца:
Алмазами, золотом — жизнью богатой,
Но Мирко молчит, не поднимет лица,
И зал замирает, смущеньем объятый.
— Эй, Мирко-гусляр, начинай поживей!
В свидетели я призываю аллаха:
Верну тебе всех четырех сыновей,
И вместе домой вы пойдете без страха!
И чудится Мирко, что с ним сыновья
Домой возвращаются живы-здоровы…
Но горько молчит он, печаль затая.
На пиршестве пышном не слышно ни слова.
Разгневанно смотрит на Мирко паша,
И властью, и кровью, и яростью пьяный,
А Мирко-слепец, через силу дыша,
Молчит и темнеет, как в бурю Балканы.
— Проклятый гяур, я сказал тебе: пой!
Не то берегись, как бы ты не заплакал!
Коль будешь упрямиться, дурень слепой,
Сейчас посажу сыновей твоих нá кол!
И чудится Мирко: ведут сыновей
И нá кол сажают и в горестной муке
Пытается гусле
[1] наладить скорей,
Но жалко дрожат непослушные руки.
Касается струн переливчатых он,
Мерещатся старому стоны страдальцев,
Но прятался в гусле серебряный звон,
Не слушают струны немеющих пальцев.
О, как же спасти ненаглядных сынов!
Измучилось сердце от тайных страданий,
Душа не находит угодливых слов,
И голос певца замирает в гортани.
Все чудится: блещет кривой ятаган
Над Сербией милой, над вольною волей,
Пьют вороны кровь из бесчисленных ран,
Багряный туман поднимается с поля…
И Мирко вскочил — не стерпела душа,
Он гусле отбросил — струна зазвенела,
Бесстрашно кричит — пусть услышит паша
Правдивое слово, что в сердце горело:
— Пытайте, казните, в вас нету стыда,
Убийцы безвинных, позорище мира!..
Но помните вы, что народная лира
Не лжет никогда!
Армянское зодчество
Памяти архитектора Т. Тораманяна
Осень, осень… брожу по родимым полям.
Свежий снег, синевой отливая, блестит
На плечах Арарата. Как солнечно там!
А внизу бьется ветер, упрям и сердит,
Неподатливый тополь сгибая, как лук
Гайка-праотца. Холод, безлюдье вокруг,
Но в моем одиночестве я не один,
Предо мною былое в обличье руин.
Здесь, бушуя, неслись ураганы времен
И оставили нам лишь обломки колонн.
Храмы нашей страны! Вы в жестоких веках
Возвышались над жизнью, сожженной дотла.
Этим стенам неведом был трепетный страх,
Солнце ярче сияло, глядясь в купола.
О, как верил народ мой страдающий вам!
В скорби светел душою и сердцем высок,
Видел он, припадая к замшелым камням,
В славе прошлого — будущей славы залог.
Величавые стены и своды! Вы с ним
Говорили на тайном наречье своем
Словом правды и доблести вечно живым
И гармонии чистой простым языком.
Очевидцы великие славы былой,
Созидающей силы, высокой мечты!..
Как сердца охраняла от участи злой
Неприступною крепостью власть красоты!
В этих сводах узорчатых видел народ
Воплощенье высоких стремлений своих.
В этих стенах бессмертная сила живет
Сокровенных мечтаний и дум дорогих.
В смертной битве не дрогнул мой добрый народ.
Вырос он и окреп в этой гордой тиши
И свободной отчизне любя отдает
Все богатства своей вдохновенной души.
Ваан Терьян (1885–1920)
«Был нелегким путь и далеким кров…»
Был нелегким путь и далеким кров.
Я прилег вздремнуть на траве ночной
И уснул, и вдруг — чей-то нежный зов…
Неизвестный друг говорит со мной.
Пробудился я, счастьем обожжен.
Скорби не тая, плачет ветерок.
Ни души кругом, тьма со всех сторон,
На пути моем вновь я одинок…
«Хвала вносившим в сумрак тюрем…»
Хвала вносившим в сумрак тюрем
Живой души высокий свет!
Они, верны бесстрашным бурям,
Молчали палачам в ответ.
Хвала страдавшим величаво,
Хранившим веру в свой народ,
Имевшим мужество и право,
Идя на смерть, смотреть вперед.
Благословенье им и слава!
На каторге
Безмолвная ночь. Не светит луна,
Лишь мертвенный снег сверкает кругом…
«Ручьями шумя, возникни, весна!
Победно греми, раскованный гром!»
Бездушная ночь. Бессветная высь.
А кто-то глядит с тревогой во тьму,
А кто-то зовет: «Рассвет, разгорись!..»
И цепи звенят, и тяжко ему.
Бескрайная ночь. Угрюмая хмурь.
Томятся поля, во тьме онемев.
Взметнитесь, мечи карающих бурь!
Грозой разразись, заждавшийся гнев!
«Мне в этих памятных местах…»
Мне в этих памятных местах
Так ощутима ты!
Знакомый сад заглох, зачах,
Не политы цветы.
Закрыты ставни на замок,
Но мне, как прежде, рад
Заветный сад… О, как я мог
Войти в тот самый сад!
Тот самый и совсем иной —
Он пуст, затоптан, гол.
И он, как я, одной тобой
Дышал, и жил, и цвел…
«Когда неизъяснимо и глубоко…»
Когда неизъяснимо и глубоко
Встревожена порой душа твоя, —
Знай, в этот миг мне горько, одиноко,
В смятении ночном теряюсь я.
Когда тебе в сердечном непокое
Почудится неведомый напев, —
Знай, это я тебя зову с тоскою,
Рыдаю и зову, осиротев.
Глазами золотистыми твоими,
Мне чудится, я озарен порой,
В ночи дневной единственное имя
Внезапно разгорается зарей.
Октябрю
Прочь, осень с тоской беззвучного плача!
Привет мой тебе, разгневанный гром!
Привет мой борьбе, звенящей мечом,
Могучей, как свет, как солнце горячей!
Расстанься, душа, с бессветною хмурью,
Чтоб вольная песнь пылала в груди.
От зорких зарниц светло впереди.
Привет мой тебе, великая буря!
Наири Зарьян (1900–1969)
Тиран и поэт
1
Жил некогда царь, владыка владык.
Свирепый тиран, одетый в парчу.
Богат, и могуч, и славой велик,
Вдруг вздумал он: «Стать поэтом хочу».
Газели писал, вставая чуть свет.
Любовь прославлял двустишьями он.
Тиран приказал, чтоб лучший поэт
Немедленно был к нему приведен.
«Вот, мастер, взгляни на эту газель, —
Сказал ему царь, собою гордясь, —
Искусством стиха владею вполне ль?
Раздумий моих понятна ли связь?»
Поэт прочитал творенье царя,
И кротко сказал тирану поэт:
«Пусть слава твоя, как солнце горя,
Сияет в лучах великих побед!
Завидуют, царь, подобной судьбе.
Всех недругов ты осилил давно.
Полмира — твои. Но, царь мой, тебе
Искусством стиха владеть не дано».
Тиран закричал: «Прощенья проси!
Завистник, ты мнишь свое волшебство,
Свой дар лишь тебе открыл Фирдуси?!
Эй, слуги мои, — в темницу его!»
2
Вот в башню Ануш поэт заточен.
О судьбах людских он мыслит в тиши.
В ответе своем не кается он —
Нет в мире темниц для вольной души.
И силится вновь жестокий тиран
Затмить Фирдуси в рубайях своих,
Он жаждет хвалы, тщеславием пьян,
Придворных зовет оценивать стих.
И каждому царь велит: «Подойди
И честный ответ владыке неси:
Кто первый из нас и кто позади —
Складнее ль меня писал Фирдуси?»
И падали ниц рабы суеты.
Нашелся у всех один лишь ответ:
«Владыка, велик в поэзии ты,
Ты Дарий стиха, ты лучший поэт!
Так бейты слагать не смог бы иной,
Ты в тайны стиха всех глубже проник.
Коль был Фирдуси для бейтов луной,
Ты солнце стиха, владыка владык!..»
Пьянили царя восторгом своим,
И каждый во прах пред ним распростерт,
И стелется лесть и вьется пред ним,
И грозный тиран удачею горд.
Но, слыша хвалы, он вспомнил о том,
Кто брошен во мрак дворцовых темниц,
И снова поэт стоит пред царем,
Стоит не страшась, не падая ниц.
«Вот бейты. На них ты, мастер, взгляни, —
Сказал ему царь, насмешку тая. —
Ответь мне: вполне ль прекрасны они?
Строкой Фирдуси владею ли я?»
Над царским стихом склонился поэт.
Он долго стоял, печален и нем.
И молвил: «С тобой сиянье побед,
Но хочешь ты стать поэтом… Зачем?!
Ты с войском своим отправься в бои
И верным путем к величью придешь…
Над миром развей знамена свои,
Врагов усмири, богатства умножь.
Прославься в веках, как славен Хосров,
Рустама затми бесстрашьем души.
Я правду сказал и к смерти готов…
О царь, никогда стихов не пиши!»
Тиран поднялся, отмщеньем горя:
«Страшись, клеветник, себя самого!
Завидуешь ты искусству царя!
Эй, слуги мои, — в темницу его!»
3
В темнице поэт. Разгул палачу
Его истязать во мраке глухом.
А грозный тиран, одетый в парчу,
И ночи и дни сидит над стихом.
К притворству привык придворный язык,
Бесстыжая лесть звучит и теперь:
«Ты солнце стиха, владыка владык!
Завистнику ты, великий, не верь!»
На троне златом в безмолвии злом
Он внемлет хвале утративших стыд.
С угрюмой душой и мрачным челом,
Потупив глаза, он гневно молчит.
Восторги рабов не в радость ему,
Не их похвалы — мерило удач.
Правдиво судить дано лишь тому,
Над кем день и ночь глумится палач.
И царь приказал, волненьем томим,
Упрямца привесть в покои дворца.
И снова поэт стоит перед ним,
Как призрак судьбы, как тень мертвеца.
«Бессмертный поэт, — промолвил тиран, —
Упрямей тебя не знал я людей.
В поэме моей найдешь ли изъян?
Прочти и скажи всю правду о ней».
Поэт прочитал и краткий лишь миг
В раздумие был душой погружен,
Где жизнь и где смерть, он сердцем постиг,
И тотчас к дверям направился он.
В смятенье тиран воскликнул: «Постой!
Искусство мое признал или нет?
Куда ты?..» — «Мне нет дороги иной,
В темницу иду», — ответил поэт.
Отрывки из драматической поэмы «Ара Прекрасный»
Действие второе
Дворец ассирийского царя Ниноса.
Перед троном стоит царица Шамирам в мрачном раздумье.
Шамирам.
Вот и любовь. К тебе стремилась я
В пустыне грез моих, надеясь и не веря,
С тех дней, когда пастух Симэс нашел меня.
Я выросла в заброшенной пещере,
Мне пищей было молоко тигриц,
Моя безмерна сила, — я красива.
Явилась я как божество, как диво,
И люди предо мною пали ниц.
Но не было того, кто б сердце мне
Воспламенил, в глаза взглянул бы так,
Чтобы душа моя затрепетала.
Менон явился девичьей весне,
Но был безрадостен наш краткий брак,
Любовь его не озаряла.
Супруг мой трепетал пред грозным счастьем,
Над холодом души моей безвластен.
Нинос меня похитил у Менона,
Владычицей привез меня сюда.
Любила ль я Ниноса? Никогда!
Лишь плоть мою он взял; душа неутоленно
Звала, томясь тоскою одинокой:
Где Аттис мой? Где мой орлиноокий?..
И вот явился он и взором вдохновенным
Меня воспламенил. Что это — явь иль сон?..
Земля с таким же трепетом священным
Ждет солнца вешнего. А он,
А урартиец — любит ли меня?
О сердце бедное, в объятиях огня,
О сердце горькое, ты мечешься, тоскуя.
Ара Прекрасный будет здесь царем.
Его венцом Ниноса завлеку я.
Ассирию пред ним я расстелю ковром:
Ассирию пред урартийцем,
Урарту перед Шамирам…
О сердце гордое, сумей лишь укротиться
До времени. Сияет счастье нам.
Дай сил, Набу, победу уготовь.
Борьба лишь началась. Я знаю, знаю,
Что будет пред зарей гроза ночная.
И кровь, и смерть, но славлю я любовь,
Представшею богиней дивноликой.
Лети, мой рок, сверкающей квадригой!
По всей земле, от края и до края,
Твой гром напомнит будущим векам
Про грозную любовь царицы Шамирам…
Действие третье
Песни гусанов
Площадь перед дворцом Ара. Праздник Вардавар[2].
Старик гусан.
К гайканам Бэл воззвал:
«Я всей вселенной свет и время дал,
И лишь моя бессмертна благодать.
Жар солнца я и вечный хлад луны,
Я и земля, и воздух, и вода.
Моим желаньем вы должны желать,
Моим сознаньем сознавать должны…»
И Гайк ему ответил: «Никогда!»
И Бэл Нимруд разгневался, и так
Он вновь воззвал,
Рассвирепевший Бэл:
«Спускайся, Гайк, с посеребренных скал,
Тебе в низине быть я повелел.
Под сенью Бэла робко здесь живи,
Иль задрожит Масис от грозных стрел
И ты утонешь, Гайк, в своей крови!..»
Ответил Гайк с вершины голубой:
«Зачем же мне склоняться пред тобой?
Ты человек, я тоже человек,
И можем мы не враждовать вовек», —
Так Гайк ему сказал сквозь облака.
Бэл потемнел и стал скликать войска, —
В бой за собой повел безвестный сброд,
А Гайк — сынов и внуков, — свой народ.
Сам первым шел, чтоб кровных уберечь.
Он был высок, могуч, широкоплеч…
Семь раз враги сразить пытались нас
И были вспять отброшены семь раз,
Но верил Бэл — победа их близка.
Он ждал на помощь новые войска.
Его надежду злую Гайк постиг
И гневом запылал, и в тот же миг
Он поднял широкотетивный лук,
И гулко натянул он дивный лук.
Трехзубчатая молния-стрела
Поет — летит, остра, быстра, светла,
Навылет Бэлу разрывает грудь,
В сырой земле оканчивая путь.
И рухнул Бэл, судьбу свою кляня…
Пред солнцем расцветающего дня
Войска врага исчезли, как туман,
И стала вольною страна армян.
Пожилой гусан.
Светла армянская гора Масис,
Как царь армян — Ара.
Не клонится армянский кипарис, —
Могучий стан Ара.
Твой лик армянским солнцем позлащен,
Твой взор армянским небом прояснен,
И славит налитых колосьев звон
Высокий сан Ара.
Стремится Тушпы пенистый ручей
Вокруг садов, дворцов и крепостей.
Наш край, великой волею твоей,
Всех краше стран, Ара!
Живи, отчизну строящий Ара,
Страны армян сокровище — Ара,
Немеркнущею силою добра
Ты осиян, Ара!
Молодой гусан.
Омрачена армянская страна,
Масис под грозной тучей потемнел.
Нам горько от веселого вина,
В ворота наши вновь стучится Бэл.
Душа у Шамирам черным-черна.
Краса Нуард
[3] — отравой Шамирам.
Нечистою мечтой упоена,
Посла колдунья отправляла к нам.
Она писала нашему царю:
Себя дарю, Ассирию дарю,
Пускай твой сад армянский пропадет,
А сад мой ассирийский расцветет.
Отказом гордым царь ответил ей,
Не изменил избраннице своей.
Но мучит Шамирам хмельная кровь,
И вот ее посол явился вновь,
Пожаловал посол ее Нирар
И омрачил отрадный Вардавар.
Ваагн, явивший нам дары свои,
И Анаит, защитница семьи,
Армянскому царю вы дайте сил,
Чтобы колдунье он не уступил.
Вы нас уберегите от стыда,
Коварство истребите навсегда!
Действие четвертое
Дворец Ара.
Царица Нуард
(перед статуей богини Анаит.)
Владычица! Праматерь! Анаит!
Ты, без которой в мире все мертво,
Ты видишь, как душа моя горит,
Ее огонь от твоего огня.
Мне мужем стал двойник Ваагна твоего,
Избранницей небес ты сделала меня.
Зачем же ныне отнимаешь ты
Дары своей безмерной доброты?..
Нас на вершину счастья для того ль
Возводят боги, чтобы в тот же час
Низвергнуть в бездну, видеть нашу боль,
Любуясь, как мы катимся ко дну?
Затем ли высоко возносят нас,
Чтобы падения измерить глубину?
Нет, легче от рожденья быть слепым,
Чем видеть солнце и проститься с ним!
Верни мне сердце моего Ара.
Оно украдено. О, как хитра
Та, сладострастная… Ты видишь — свет померк.
Пускай разлучницу Ара отверг, —
Посланьем отказав колдунье той, —
Он с ней неутоленною мечтой,
Он с ней во сне, он у нее, он там,
Он бродит, ничего не видя, днем
И ночью вновь зовет: «Астарта…», «Шамирам…»
О, это имя! Яд змеиный в нем.
Ты, Анаит, была ко мне добра,
Не для того ль ты мне, златая мать,
Так безвозвратно отдала Ара,
Чтобы от сердца с кровью оторвать?
Своей ли волей отнимаешь дар,
Иль эта ассирийская Иштар
Тебя ведет по темному пути,
И ты идешь, срамя армянский край?..
Прости меня, прости меня, прости,
И не отвергни, и не покарай!
Но если в чем-то есть вина моя,
И если Шамирам достойнее, чем я,
И если навсегда из моего гнезда
Любовь умчалась прочь, как птица… О, тогда,
Тогда мне силу дай, дай силу, Анаит,
Пускай к врагу мой стон не долетит!
Чтоб женской гордости алмазная броня
Была неуязвимой, ты меня
Не покидай! Владычица, приди!
Заступница моя, дай силу мне,
От смертной чаши руку отведи
В тот грозный час, что мне страшней всего.
Дай мне для сына жить в родной стране,
Жить для Анушавана моего!
Ара.
Я ночью видел сон. Ужасный сон!
Иду знакомым берегом реки.
То, может быть, Аракс? Конечно, он.
Сияло небо. От прохладных гор
Навстречу мне летели ветерки.
Был беспечален утренний простор,
Легко на сердце и шаги легки,
И всех цветов я слышал голоса,
И наша величавая краса —
В суровом серебре парчовых риз
В тумане чуть поблескивал Масис.
Вдруг из теснины выхлестнул поток
И зашумел почти у самых ног.
Сверкая пеной, бешено крутясь,
Он в злобных волнах нес и кровь и грязь.
Настиг, ударил мне наперерез
И с грозным ревом в Тартаре исчез.
Аракс — о чудо! — не смешался с ним.
Драконопобедителем храним,
Он, чистоводный, блещущий как меч,
Взметнулся, чтобы тот поток рассечь,
Рассек его, ударясь грудь о грудь,
И дальше устремил свободный путь.
Растерянный, один, совсем один
Над краем завывающих стремнин,
Не находя спасения вокруг, —
Я кинулся в клокочущий поток,
Чтобы достичь Аракса вплавь, и вдруг
Почувствовал, что сил лишаюсь я,
В борьбе со злой водою изнемог,
Влекусь уже во власти забытья,
Тисками волн разгоряченных сжат,
И волны мчат меня, теснят, кружат,
Покорного, как жертва палачу,
И вместе с ними в бездну я лечу…
И в Тартаре, в безвестной глубине
Я слышал в безысходном полусне:
Аракс поет прозрачною волной,
В горах, в лугах рыданьями звеня,
Как будто он прощается со мной
Или зовет меня…
Гегам Сарьян (1902–1976)
Деревья
И вновь — наш старый дом, наш старый сад,
И срок цветения едва лишь начат,
Но Иначе деревья шелестят, —
Как будто надо мною тихо плачут.
Года, сменяясь, все переиначат.
Навстречу мне уже не выйдет мать,
И лишь деревья надо мною плачут,
Ветвями нежными хотят обнять.
Радуга
Ты припомнил, ты счел миновавшие дни
И подходишь к черте, где кончается счет…
Сколько дней, приносивших лишь скорби одни,
Сколько дней, окрылявших и звавших в полет!
Но от радости жгучей твой взгляд не угас,
И от стонов душа не оглохла твоя:
Счастья луч, в дымку слез проникавший не раз,
В сердце радугой встал, скорбь и радость тая.
Песня заката
Жар солнца оскудел, в закатный час уходит зной,
Под ветром лишь слегка дрожит листва в закатный час,
Пылают облака, луга объяты тишиной,
На зов издалека — ответа нет в закатный час.
В закатный час от нас уходит солнце в край иной,
От темноты ночной уносит свет в закатный час.
Безмолвная гора вдали темнеет предо мной.
Лишь тьма, немая тьма тебе вослед, закатный час.
Амо Сагиян (1914)
Из цикла «На берегу Воротана»
На берегу Воротана, моего Воротана,
Молоденькая одна — сторожит мой путь.
Весточку от меня кто бы отнес желанной,
Чтоб осушила глаза и смогла бы легко вздохнуть!
Товарищ неведомый мой, сделай дело святое:
Если увидишь ее, поклонись ей, не позабудь.
В душе у нее — печаль, на пальце — кольцо золотое.
С рассвета и дотемна сторожит мой путь.
На берегу Воротана — мать моя в горе.
Глаз не спускает с окна — сторожит мой путь.
Трудные слезы в ее истомленном взоре,
Ей ни покоя, ни сна, — сторожит мой путь.
Та, что мне песнь колыбельную пела с любовью,
Та, что растила меня, жизнь забывая свою,
Та, что отточенный нож клала мне в изголовье,
Чтобы бесстрашен я был, непобедим в бою…
На берегу Воротана — отец мой седоголовый,
Тот, что правдивое сердце вложил мне в грудь,
Тот, что учил отличать доброе дело от злого,
С полною чашей вина — сторожит мой путь.
На берегу Воротана — дедовская могила.
Издали всем видна — сторожит мой путь.
Доброе небо ее голубым укрыло.
С детством моим сроднена — сторожит мой путь.
Пьете вино расставанья — горше и нет вина.
Близкие, ждете меня, горячо, неустанно.
Скоро — клянусь вам, клянусь — возродится весна
На берегу Воротана, моего Воротана…
Детство
Дремучие леса, заоблачные горы,
Окрашенный лазурью отчий дом…
О жаворонок мой, о детство, слишком скоро
Из сердца взмыло ты, блеснув крылом.
Встревоженный птенец стремился не на зов ли
Борьбы морской, где с валом бьется вал.
Я вслед тебе глядел с высокой нашей кровли
И звал тебя, неутомимо звал.
Меня не слышал ты, летящий в жизнь большую,
Тебя манили дальние бои.
И вот я снова здесь, и снова здесь ищу я
Оброненные перышки твои.
Что скажет ветер мне, иль облако, иль птица,
Иль трепетное зеркало ручья?..
Они уже не те, для них ты небылица,
Тебя, мой дальний, помню только я.
Когда ж веселое дитя мое заплачет,
Ручного жаворонка упустив,
Ты, детство, вновь со мной, и день едва лишь начат,
Проверь меня, — я всей душою жив.
А ты, дитя мое!.. Тебе, как мне когда-то,
Цветов и птиц так радостен привет.
Природа вечная меня хранила свято,
Чтоб заново явить на белый свет.
Поет ребенок мой. Как помню тот напев я,
Как властно он зовет меня опять…
Укрылись в сумерках тропинка и деревья,
Меня домой с крылечка кличет мать.
Я сердцем верен вам, дремучие дубровы,
Просторы гор, лазурью крытый дом…
Вы стали песнею, будя за словом слово,
Чтоб я сказал о самом дорогом.
Зеленый тополь Наири
Красуешься под ветерком, сверкаешь свежею листвой,
Дневной дороге тень даришь, глубокой ночью ждешь
зари.
В теснинах сердца моего звонкоголосый говор твой,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь
Наири!
Ах, как взметнувшийся костер, стоит зеленый твой огонь.
Я издали тебя молю, гори, мой трепетный, гори!
Изжаждавшиеся поля желанною прохладой тронь,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь
Наири!
Поет мой жаворонок-сын, играючи в тени твоей.
Его получше приголубь, порадостнее одари,
Листвой веселой осени, отцовской ласкою согрей,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь
Наири!
Меча и пламени певец, хочу я лишь твоей любви,
И если в праведном бою прикажет родина: «Умри!» —
Умру, чтоб вольным быть тебе, исчезну я, а ты живи,
О дальний, дальний, дальний мой, зеленый тополь
Наири!
После грозы
После грозы —
Станет синее небесная синева.
Станет в лугах зеленее трава
После грозы —
После грозы —
Белая лилия станет белей,
Мак разордеется в гуще полей,
Пчелы к цветам полетят веселей.
После грозы —
Кажутся выше вершины гор,
Чудится шире степной простор,
Эхо в ущельях звучит, как хор,
Рощи притихнут, притихнет бор,
Перекликаются птицы живей,
Шумно летая средь влажных ветвей.
После грозы, что гремела с утра,
Солнце становится к миру добрей,
Люди друг другу сердечней желают добра.
После грозы мне понятней и мир, и ты,
Нет и не будет разнящей нас черты…
«Пел зеленый ветер на лугу…»
Пел зеленый ветер на лугу
И зеленой песне былого, —
Песне отрочества моего —
Вторил от слова до слова.
Рдяный ветер громыхал грозой,
Расстилался тенью багровой,
Рдяной песне юности моей
Вторил от слова до слова.
Бурый ветер в глубине теснин
То стихал, то метался снова,
Песне возмужанья моего
Вторил от слова до слова.
Белый ветер подавляет вздох,
Вглядываясь в сумрак суровый,
Белой песне старости моей
Вторит от слова до слова.
Годы мои
Годы мои,
Красные и зеленые,
Куда вы ушли?
Годы светлые, годы под черною тучею,
Леденящие, жгучие,
Взывающие, немые,
Кривые, прямые
Годы мои!
Где ж вы, всеми скорбями заклятые,
Всеми обидами,
Годы мои крылатые,
Годы с крылами подбитыми?
Где ж вы мои, мои быстрогонные,
Не пешие — конные,
Любимые годы мои?
Сколько вы принесли-унесли зазорного,
Черного, черного, черного,
Годы мои!
Сколько присказанных слов унесли вы,
Сколько пристрастий — приливы их и отливы,
Годы мои!
Где ж вы? О вас ни слуху ни духу, —
Запивающие небом каменную краюху,
Годы мои!
Откуда взялись — несродные мне, иные,
Не конные — пешие, посошные,
Спешащие годы мои?
Соберитесь вы все когда-нибудь
Вздохнуть, всплакнуть,
Почтить мой прах, вспомнить минувший путь,
Мои бесценные,
Мои мгновенные,
Черные, белые, зелено-красные,
Напрасные и ненапрасные
Годы мои!
Маро Маркарян (1916)
Горная дорога
Горная дорога,
Трудная дорога,
Через вешние луга,
Через вечные снега,
От отрога до отрога
И отвесно и отлого
Прямо к солнцу ты идешь,
Горная дорога!
Ты кружишь по краю кручи,
Ты спешишь навстречу туче,
Над тобой нависли скалы,
Под тобой гремят обвалы,
Вкруг тебя царит тревога,
Горная дорога!
Ты средь бури и безмолвья
Вьешься ввысь в ожогах молний,
И недаром над тобою
Ветер веял, ливни лили —
Ты не знаешь душной пыли,
Знаешь небо голубое.
Ты прошла и позабыла
Мутнопенные потоки,
У тебя хватило силы
Обрести удел высокий, —
Лишь вершинам снежных круч
Солнце дарит первый луч,
Горная дорога!
«Покоя нет…»
Покоя нет, —
Ты от себя все дальше,
И от невольной фальши
Покоя нет.
И сон не в сон.
Не зная утоленья,
Сжигают сожаленья,
И сон не в сон.
Ни друг, ни враг
Не станут столь сурово
Судить за злое слово
Иль ложный шаг,
Не станут без уступок
За каждый твой проступок
Карать, скорбя.
Ты знаешь всех вернее,
Караешь всех больнее
Сама себя.
«Я в мир пришла как под хмельком…»
Я в мир пришла как под хмельком
И оттого иду не в такт,
Я изнутри обожжена
И оттого иду не так.
В круговорот
Невзгод, забот
Растерянно погружена,
Я выровнять пытаюсь шаг —
Не получается никак!
Швыряет жизнь и в свет и в мрак,
И сердце тайно устает.
Всем улыбаюсь на ходу,
Кто мне знаком и незнаком.
С ноги сбиваясь, я иду
Как в полусне, как под хмельком.
Друг
Пишешь — и не то, не то, не то!
Где оно, сердечное горенье?
Жар души не сможешь ни за что
Весь как есть отдать в стихотворенье.
Разве искорки блеснут с листа,
Пробегая где-то между строчек.
Песня, даже лучшая, — и та
Вдохновенья робкий переводчик.
Но, читатель, мы живем не врозь.
Ты поймешь по беглым вспышкам света
Все, что мне сказать не удалось.
Как тебя благодарить за это?!
Не таю ни радостей, ни бед,
Ни тоски бессонной, ни борьбы с ней.
Милый друг мой, самый близкий в жизни,
Ты со мною — значит, я поэт.
«Ни одно мое пристрастье…»
Ни одно мое пристрастье
Не цвело бесплодным жаром,
Не прошло для жизни даром
Ни одно мое пристрастье.
Сколько в сердце строк заветных,
Сколько в глубине души
Огоньков едва приметных,
А попробуй — потуши!
В знойный час прохладной тенью
Вы ласкали сердце мне,
Словно паводок весенний
Уносили на волне,
Жгли меня без сожаленья,
Гасли, будто навсегда…
Но минувшие пристрастья
Не исчезли без следа.
Чувство боли, чувство счастья
Не сгорит в душе дотла.
Наступающая осень
Обаяньем прошлых весен
Благодатна и светла.
«А помнишь ли ты, дружок ясноокий…»
А помнишь ли ты, дружок ясноокий,
Сестричка моя, шалунья Армúк,
Как мы наизусть зубрили уроки,
Чтоб только от них отделаться вмиг?
Искали впотьмах случайной удачи,
Стремясь угадать готовый ответ…
А жизнь припасла такие задачи,
Что, кажется, им решения нет.
Вопросы ее все жестче, прямее,
Ответить на них труднее стократ,
А я ничего теперь не умею
Зубрить наизусть, решать наугад.
Геворг Эмин (1919)
Наири
Наирú — вековая лоза винограда,
Что из камня растет на вершине крутой.
Не дано ей с чинарой сравниться прохладой,
Не поспорить ей с тополем высотой.
Сколько бурь пронеслось, прошумело над нею!
Тополь — тот раскололся б до самых корней.
Как сравниться с чинарой, земли не имея,
Чтобы шумные ветви раскинуть над ней?
Наири — вековая лоза винограда,
Что из камня растет на земле нежилой.
Мчались конницы вражьи из темной засады,
И земля под копытами стала скалой.
О, лоза эта, в камень пустившая корни!
На листве самоцветами росы горят.
Ты звала созидать и бороться упорней
И на камне резцом высекать виноград.
Наири — вековая лоза винограда,
Что из камня растет, беззаветно щедра,
Вдохновению камень не станет преградой —
В храм Гегард превратили скалу мастера.
И не сладить грозе с этой древней лозою —
Камнем вскормлены, корни ее глубоки,
Наливаются гроздья, сверкая росою,
И сквозь камень упрямо стремятся ростки.
«Я зимою зашел было в сад…»
Я зимою зашел было в сад —
Как здесь холодно, пусто и голо!
Мне бы лучше вернуться назад, —
Уж такой этот сад невеселый!..
Жестким снегом засыпанный весь,
Бугорками белеет уныло.
Я брожу, как по кладбищу, здесь,
Будто в поисках чьей-то могилы.
Мне подумалось — скоро весна,
Стает снег, присмиреют морозы.
Пробудясь от подземного сна,
Зацветут виноградные лозы.
Ну а люди, а люди, что спят
За кладбищенской старой оградой?..
Хоронить бы людей, словно сад, —
Хоронить, как лозу винограда!..
«Любовь моя, моя душа…»
Любовь моя, моя душа,
Скажу от сердца, без прикрас:
Прости, что лишь тобой дыша,
Не замечал тебя подчас!
Разлуки наступили дни,
Мы друг от друга вдалеке,
И сердце, чем ни обмани,
Лишь задыхается в тоске.
Как воздух, ты везде, во всем
Была со мной из года в год…
Но воздух мы осознаем,
Когда его недостает!
«В каждой разлуке счастливее тот…»
В каждой разлуке счастливее тот,
Кто уезжает… Ему от печали
Есть исцеленье — движенье, полет,
Новое небо, новые дали.
А остающемуся каково?
Мало что сердце изныло от жажды, —
Напоминаньями мучит его
Каждое дерево, камушек каждый…
Баллада о доме
1
Он дома óтчего не знал,
Но с детских лет, как виноватый,
О чем-то смутно тосковал,
За что-то ожидал расплаты.
Он дома óтчего не знал,
Но юношей в Александрете
Стал строить дом, — он молот взял,
Гранит тесал он на рассвете.
«Не мучься зря, — сказала мать, —
Пусть кое-как живем покуда,
Нам рано ль, поздно ль, но бежать
Придется, мальчик мой, отсюда!»
Убита мать… Не раз потом
Он вспомнит об ее совете:
Он так и не достроил дом,
От турок скрывшись на рассвете.
2
Он дома óтчего не знал,
В Бейруте, как в Александрете,
Он молот взял, гранит тесал,
Чтоб в отчем доме жили дети.
Жена сказала:
«Сил не трать,
Не верь, что совершится чудо, —
Чужбине родиной не стать,
Мы все равно уйдем отсюда!»
Жена скончалась… А потом,
Ее совет припоминая,
И впрямь он не достроил дом, —
Его звала страна родная.
3
Он дома óтчего не знал,
Больной, уже на склоне жизни,
Он в Ереване молот взял, —
Он строил дом в своей отчизне.
Сказала Смерть:
«Старик, старик,
Пойми тщету твоих усилий,
И вся-то жизнь — лишь краткий миг,
А ты одной ногой в могиле!»
4
Но он уже достроил дом
И кроет кровлю черепицей,
А у стены в саду густом
Играет внучек смуглолицый.
Сильва Капутикян (1919)
Вступление к книге
Безоблачен был ранний мой рассвет.
Цветы, рукоплесканья в людном зале.
Едва сравнялось мне пятнадцать лет,
А уж меня поэтом величали.
Моя дорога ровною была,
До странности был гладок путь широкий,
И шумно заглушала похвала
Нечастые, негромкие упреки…
Но для меня тот возраст миновал,
Когда бездумно впитывают славу.
Я прихожу в смятенье от похвал:
Да разве я их слушаю по праву?
Достойна ль веры, искренней такой,
Что в девичьих глазах блестит невинно
И светится за каждою строкой
В письме армянском, присланном с чужбины?
Чтó создала я за немалый срок?
Достойна ль я признательности этой?
Достаточно ль для совести поэта
Немногочисленных сердечных строк,
Прямолинейной жизни без лишений,
Не трудной и не жертвенной ничуть?..
Взыскательней, суровей, совершенней
В минувшем был поэтов наших путь, —
Когда, как свечи в темноте часовни,
Они сгорали в мраке скорбных лет
(И тем благоговейней, тем любовней
Народ хранил их путеводный свет),
Когда они без хлеба и без крова,
С великой жаждой пламенных сердец,
В чужом краю кончали путь суровый,
Встречали в тюрьмах горький свой конец,
Среди зыбей, вздымавшихся стеной,
Гребли и плыли, отдыха не зная…
А я! Ведь подо мной — земля родная
И солнцем — наше знамя надо мной,
Со мной — отчизна вольная, и нету
Препятствий на пути, и цель ясна,
И внемлет мне, армянскому поэту,
Многонациональная страна, —
О, как ничтожно, как постыдно мало
Тебе я помогала, мой народ,
Как часто к сердцу я не принимала
Твоих печалей и твоих забот!..
Ни счастья, ни любви не жажду я.
К народу обращаюсь, дочь народа:
Нет радости мне ближе, чем твоя,
Нет скорби горше, чем твоя невзгода.
И сколько дней прожить мне ни дано,
И сколько ни дано сложить мне песен, —
Отныне все тебе посвящено,
Мой стих, мой дар, — с тобой отныне весь он.
Посвящено все лучшее во мне
Твоим метаньям от стены к стене,
Твоим путям, где каждый поворот
От века был заклятьем заколдован,
И твоему спасенью, мой народ,
И возрожденью в мире нашем новом.
Подобно лучшим из твоих детей, —
Твоим незабываемым поэтам, —
Я отдаю себя судьбе твоей,
Наполненной и сумраком и светом.
Хоть с лучшими и не равняться мне,
Суди меня лишь с ними наравне!..
«Чтобы поднять тебя на пьедестал…»
Чтобы поднять тебя на пьедестал,
Чтоб удержался ты на пьедестале,
Чтоб крыльями орлиными блистал,
Орлиным взором созерцая дали, —
За это я всю душу отдала.
Я верила в тебя, как верят дети,
За все твои недобрые дела
Передо мною не был ты в ответе.
Закрыв глаза, глядела на тебя,
Чтоб видеть лишь таким, как мне хотелось.
Обманывалась, вымысел любя.
Куда же ослепленье это делось?
Ты рухнул с пьедестала, и тотчас
Прозрела я, но как сознаться тяжко:
Всем сердцем я платила за алмаз,
А оказался он простой стекляшкой…
Из последних песен
Прости меня, любимый мой, прости.
Был прежде твоего рассвет мой ранний.
В моей душе — печаль воспоминаний
И образы, забытые почти,—
Мне их не потерять и не найти…
Прости меня, любимый мой, прости.
И если загляжусь я ненароком,
И если позову полунамеком,
И с жаждой счастья в глубине глубин
К твоей груди прильну на миг один,
Чтобы в тебе опору обрести, —
Прости, любимый мой, прости.
В глазах моих сиянья не лови.
В них не горит счастливый свет любви,
В них — сумрак, Ванским озером хранимый,
Смятение грозы неукротимой
И верность долгу на крутом пути…
Прости, любимый мой, прости.
Должна другая стать твоей судьбою —
Смеющаяся, — та, что вся с тобою,
А я иным мечтаньям предана,
И знать и помнить многое должна,
Мне от моих раздумий не уйти.
Прости, любимый мой, прости.
Творчество
В моих любовных песнях не ищите
Безвестных иль прославленных имен —
Вам не свершить каких-либо открытий,
Я не пойму сама, где явь, где сон.
В глухие дни — их даже вспомнить нечем,
Вдруг песня прерывала немоту
И, благодарная бескрылым встречам,
Крылатая, взмывала в высоту.
Мгновенный шепот, чей-то вздох несмелый
Иль чей-то взгляд, что счастьем засверкал,
И, словно эхо, песня зазвенела,
И, как в горах, в ней отзвук не смолкал.
Где эти люди, где мгновенья эти?..
В душе и в сердце — в существе моем.
Они — один-единственный на свете,
И только с ним сквозь жизнь я шла вдвоем.
Он явью был и вымыслом неясным.
Он был и не был, он не мог не быть.
Он воплощался ожиданьем властным.
Он возникал, чтоб я могла любить.
Он создан мной, мечтаньями моими,
Биеньем жарким сердца моего…
Вы понапрасну не ищите имя —
Ни мне, ни вам не отыскать его.
Лилит
«Ева», — шептали его губы, но душа
его откликалась: «Лилит».
Ав. Исаакян
Ты — первый огонек меж первых двух кремней,
Ты — движущийся блеск неоновых огней,
Неуловимая от самых давних дней,
Лилит, Лилит!
От века скрытая в душевной глубине,
Всегда как в облаке, как в дымке, как во сне,
Вдвойне желанная, бесценная вдвойне,
Лилит, Лилит!
В теснинах сердца ты как праздничный тайник,
Родник влечения, сомнения родник,
Падение и взлет, блаженства краткий миг,
Лилит, Лилит!
Здесь — и земля и хлеб, а ты — порыв мечты.
Ты — где-то, и твои изменчивы черты,
Воспламененная, испепеляешь ты,
Лилит, Лилит!
Здесь — тихий, теплый кров, а ты — пустырь,
простор.
Здесь — тлеющий очаг, а ты — лесной костер,
Здесь — примирение, а ты — извечный спор,
Лилит, Лилит!
Непризнанная, ты всему и всем чужда.
Здесь — Ева. Здесь — плоды. Твой цвет не даст
плода.
Меж небом и землей одна, одна всегда,
Лилит, Лилит!
Раскаяние
Ты любил, но все мне было чуждо:
В тягость были нежные признанья,
Преданность была смешной, ненужной,
Встречи — лишены очарованья.
Мне сказали, что в разгаре боя
Ты погиб… Немилый мой, мой милый,
Как же попрощаться мне с тобою —
На чужой земле твоя могила.
И раскаянье меня отныне
Обличает горько и сурово,
Словно оскорбила я святыню,
Не сдержала клятвенного слова.
Жизнь ты отдал страждущей отчизне…
Как мне жить с безжалостной ошибкой,
Как мне жить, когда тебя при жизни
Не дарила доброю улыбкой!
Отыскать бы мне твою могилу,
Высказать бы в муке нетерпимой
Всю любовь, которой обделила,
Обделила я тебя, любимый!..
Моему ребенку
Обнимаю ль тебя, иль, склонясь пред тобою,
Отмываю от грязи ребячьи ножонки, —
Вдруг в душе зазвучит голос песни незвонкой —
И пойду я за ним, как идут за судьбою.
А когда унесет меня песня далеко,
Обжигая тревогою самозабвенной, —
Стóит крикнуть тебе — и вернусь я мгновенно,
Мне в надзвездных краях без тебя одиноко.
То становишься ты всех сокровищ чудесней,
То забуду тебя, слыша песни начало…
Ах, не песня ль с тобою меня разлучала
И не ты ли, сынок, разлучал меня с песней?
Аветику Исаакяну
в день его восьмидесятилетия
Как солнце медлит, из-за гор вздымаясь,
Так из дому, рассвет встречая летний,
Выходит он, на палку опираясь
Всей тяжестью восьмидесятилетней.
Нет, сверстник он с Ваагном
[4] огнекудрым.
С Месропом
[5] алфавит наш благородный
Он создавал и словно вышел утром
Из врат Звартноца
[6] в праздник всенародный.
В его душе — напев старинных песен.
И на устах — сказанье о Давиде.
И словно мир прошел в скитаньях весь он, —
В пыли подошвы…
И, былое видя,
Его глаза таят пожарищ пламя,
Прощальный чей-то взгляд и сумрак серый,
Но изнутри озарены лучами
Неугасимой мудрости и веры.
Вокруг — цветенье, смех и дети, дети,
И слитый с ними встречею желанной,
Не торопясь, идет он в даль столетий
По улицам родного Еревана…
На дальних дорогах
Плывут, уплывают на юг облака,
А поезд на север спешит, и вокруг
Поля колосятся и даль широка…
Плывут облака, уплывают на юг.
Тоска по Армении сжала мне грудь.
Когда бы на миг очутиться мне там
И облаком белым неслышно прильнуть
К неласковым, диким, скалистым горам!..
Нет для тебя ни преград, ни помех,
Чтобы творить чудеса надо мною,
Сделать меня красивее всех,
Радостней всех под этой луною.
Можешь весь мир движеньем одним
Или одним ласкающим взглядом
Мне подарить и поднять над ним,
Чтоб оказалась я с солнцем рядом!
Дай же мне юность изведать вновь,
Дай же мне силы мои измерить.
Дай мне поверить в твою любовь,
Дай мне поверить, дай мне поверить!..
«Любви загадку — древнюю, бездонную…»
Любви загадку — древнюю, бездонную —
понять я не могу.
Богаче иль бедней душа влюбленная —
понять я не могу.
Люблю тебя, но хмурое, бродячее,
скупое сердце — ты.
Я победительница или побежденная —
понять я не могу.
«Да, я сказала: „Уходи“…»
Да, я сказала: «Уходи», —
Но почему ты не остался?
Сказала я: «Прощай, не жди», —
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор
глаза мне застилали слезы,
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
В минуту тоски
Приди, приди, приди,
Хотя бы для прощанья,
Хотя бы без желанья —
Приди, приди, приди!
Хоть с холодом в груди,
Рассеянный, далекий,
Насмешливый, жестокий, —
Приди, приди, приди!
Пусть горе впереди, —
Что плакать об утрате!
Хоть из чужих объятий —
Приди, приди, приди!..
«Ты моей любовью был, тайный свет былого ты…»
Ты моей любовью был, тайный свет былого ты.
Если кто-то сердцу мил — это снова, снова ты.
Пусть расстались мы, и я знать не знаю о тебе,
Пусть другой меня пленил — это снова, снова ты.
Пусть любуюсь не тобой, призываю не тебя,
Кто бы сердце ни томил — это снова, снова ты.
Мне другого полюбить оказалось нелегко,
Ах, тебя он не затмил — это снова, снова ты.
Напоил ты жизнь мою, как сухую землю дождь.
Если сад мой полон сил — это снова, снова ты…
«Была добра любовь моя…»
Была добра любовь моя,
Великодушна, терпелива.
Тебя благословляла я
И в жесточайший миг разрыва.
Моя тоска была светла,
В мученьях ревности беззлобна,
И все, что зависти подобно,
Испепелила я дотла,
Чтобы душе не жить без света.
А нынче мелким ручейком
Сама себе кажусь, когда я,
Холодный взгляд поймав тайком,
Лишь холодею, не страдая.
Сама страдание прерву,
Когда предчувствую разлуку,
И первой протяну я руку,
Но не прощаю, не зову,
И думаю — любовь ли это?..
«Не заставь меня плакать, — я плакала много, любимый…»
Не заставь меня плакать, — я плакала много, любимый,
И не думай напрасно, что я холодна и надменна.
Мне изранили сердце, и в шрамах оно постепенно
Отвердело, но больно ему от ожога, любимый.
Безоглядно я шла, доверяясь открыто и прямо,
Но как часто встречала я с горечью неодолимой
Камень вместо сердец, я же верила в сердце упрямо…
Нелегко мне досталась прямая дорога, любимый.
Мне бы тихо уснуть, как ребенок склонясь головою
На колени твои, — отдохнуть от тоски нестерпимой.
Тайный свет сбереги, озаряющий сердце живое, —
Вечереет мой день, уже ночь у порога, любимый.
Рачия Ованесян (1920)
Из цикла «Чудесный садовник»
«Я сам себе вопросы задавал…»
Я сам себе вопросы задавал
И не уверен ни в одном ответе.
Как жили до начала всех начал —
До первого садовника на свете?
Но этот сад я знаю с детских лет.
Закрыв глаза, я вижу пред собою
Мой добрый сад, и дать готов ответ
За каждый куст, за деревце любое.
«Мой сад был создан на скале…»
Мой сад был создан на скале
Безжизненной, тысячелетней.
Лишь змеи нежились в тепле
На мшистых кáмнях в полдень летний.
Но я, как прадеды мои,
Работал, рук не покладая,
Чтоб закипели здесь ручьи
И ожила скала седая.
В ущельях звон моей кирки
Звучал настойчиво и долго,
И дружно принялись ростки
В земле, что стала мягче шелка.
Мой сад разросся, полный сил…
Кто ж победил в борьбе упорной:
Скала иль тот, кто раздробил
И вызвал к жизни камень черный?
«Обойду я мой сад, осмотрю…»
Обойду я мой сад, осмотрю.
Каждый кустик полью, подвяжу.
Провожая, встречая зарю,
Я весенним цветеньем дышу.
Зеленеющей завязью лоз
Раскудрявился солнечный скат.
На пригорке цветет абрикос,
Розовеют черешни и пшат.
Я не брошу до первой звезды
Отбеленный землею кетмень.
Лишь под вечер кончаю труды
С чистой верою в завтрашний день.
Я в давильне огонь разведу.
Сяду с четками возле огня.
А деревья в полночном саду
Шелестят в ожидании дня.
«Взволнованно шумит мой добрый сад…»
Взволнованно шумит мой добрый сад,
В саду бушует дождь звонкоголосый.
Трепещет клен, тревогою объят.
Прибрежным ивам ветер треплет косы.
В алмазных брызгах куст продрогших роз.
Мой сад как чаша с влагою кипучей.
Но тот же ветер, что грозу принес,
Уносит прочь разорванные тучи.
Был этот ливень буен и сердит.
Тугую ветку персика сломал он.
На ветке этой, что в траве лежит,
Плоды сквозные рдеют соком алым.
Ну что ж, зато прохладою дыша,
Животворящих капель мириады
Вспоили землю, и моя душа
Светла, как радуга над склоном сада.
«В мирный сад ворвался ураган…»
В мирный сад ворвался ураган.
Посбивал абрикосы с ветвей.
Растрепал на пригорке тюльпан,
Лепестками осыпал ручей.
Крутит, вертит, уносит вода
Листья, ветки, цветы и плоды,
Видно, буря не любит, когда
На земле зеленеют сады.
Но осенних плодов урожай
Необъятно, бескрайно богат.
Вейся, ветер, бушуй, угрожай, —
Все равно не погибнет мой сад!
Ты с плодами, с цветами, с листвой
По земле разбросал семена.
Нет преграды их силе живой —
Прорастут, лишь настанет весна.
«Ну вот и осень вышла на просторы…»
Ну вот и осень вышла на просторы,
Пылая и светясь на все лады…
Шиповник розовеет у забора,
Желтеют тыквы, снятые с гряды.
Молчит моя давильня… Вдоль карниза
Нанизан красный перец над стеной,
А виноград — янтарный, темно-сизый —
Лежит ковром на кровле земляной.
Сижу на пестром, выцветшем паласе
Под яблоней, что в тень меня звала.
Кругом царит глубокое согласье
Благоуханья, света и тепла.
Пылает солнце щедро и богато.
Ни звука… Только с поля над рекой
Вдруг донесется дальний звон лопаты…
И вновь покой, незыблемый покой.
«Чудесно пировать, чудесно!..»
Чудесно пировать, чудесно!
Не лучше, думаю, в раю.
Как смотрят звезды! Значит, лестно
Попраздновать в земном краю.
Гранатов спелых сок багряный
Мы выжмем в знойное вино.
Пусть эта ночь, как гость желанный,
Пирует с нами заодно.
Весельем шумным ночь украсьте,
Встречайте новый день вином.
Мои товарищи по счастью,
Как хорошо в краю родном!
Сомкнитесь, чаши, с легким звоном
Под переплеск хмельной струи…
Как хорошо нам жить, влюбленным!
Итак, за жизнь, друзья мои!

ВОСПОМИНАНИЯ О МАРИИ ПЕТРОВЫХ
В. Адмони. «Вы запомнились сестрою дальней…»
I
Есть у Марии Петровых строки, в которых она говорит о своей поэзии:
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости…
Но эти строки — неверны. Точнее: и верны и неверны.
Цветаевской ярости у Марин Петровых действительно нет. По есть неизбывная страстность, мощная и покоряющая. За которой подчас проглядывает даже исступленность. Страстность предельно самозабвенной любви. Страстная полнота жизни поистине цельной человеческой души. Исступленная страстность, за которой словно проступает что-то древнее, неудержимое, от века свойственное душам бесстрашных людей, чем-то напоминающее старинную раскольничью безудержность.
Но у Марии Петровых доставало сил, чтобы своей исступленностью — овладеть. Чтобы ввести ее в строгое русло. И рождались стремительно-страстные и вместе с тем твердые и упругие строки, которые никто, прочитавший их, никогда не забудет:
Назначь мне свиданье
на этом свете.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
И ахматовской кротости у Марии Петровых действительно нет. Но есть иная, я бы сказал, потенцированная кротость. Кротость-смирение. По меньшей мере — устремленность к смирению. В сонете «Сквозь сон рванешься ты…» об этом сказано прямо:
Зачем проснулась ты? Твоя душа мертва.
Смирись перед немой, перед последней бездной…
И разве не смирение слышится в строках;
Одна на свете благодать —
Отдать себя, забыть, отдать
И уничтожиться бесследно.
И словно об этом же говорит строка:
Что делать? Душа у меня обнищала.
Но самое главное, может
быть, в том, что и ахматовской кротости и смирению Марии Петровых верить на слово нельзя. Это лишь пласты — притом, пожалуй, одни из самых внешних пластов — многослойной поэзии Анны Ахматовой, многослойной поэзии Марии Петровых. Потому что и здесь и там за кротостью и смирением скрывается не слабость, а сила — непреклонная твердость души.
У Ахматовой, впрочем, и сама кротость, как она звучит в первых ахматовских сборниках, не лишена лукавства. Светлые глаза опущены. Но слышится легкая усмешка. А за нею стоит гордость. И речь идет уже о «молитве губ моих надменных». Это в 1913 г. А в 1921 г. Ахматова пишет:
Тебе покорной? Ты сошел с ума!
И в этом был залог той неколебимой твердости, с которой Анна Ахматова прошла сквозь свою жизнь.
Но гордость и твердость стоят и за смирением Марии Петровых при всей предельной самозабвенности ее чувства. А может быть, именно из-за этой предельности. В своей крайней крайности смирение смыкается здесь со страстью: страстное смирение.
Вот что говорит она о себе-поэте в своих ранних стихах:
Ты будешь любоваться тенью,
Отброшенною от стихов, —
Не человек и не смятенье:
Бог, повергающий богов.
Гордостью, в почти лермонтовском соединении с задыхающейся страстностью, живет поэма «Карадаг».
А в более поздних стихах есть такие строки:
Ты видишь — сил влюбленных много.
И еще такие:
Не зря, не даром все прошло,
Не зря, не даром ты сгорела.
Коль сердца твоего тепло
Чужую боль превозмогло,
Чужое сердце отогрело.
Но довольно. Не будем больше говорить о поэзии Марии Петровых, отталкиваясь от творчества других поэтов. Ведь это был только путь к тому, чтобы в споре с самой Марией Петровых увидеть всю широту ее поэтического дарования.
И теперь можно не колеблясь сказать, что поэзия Марии Петровых — это поэзия великого богатства духовных сил. Это поэзия, владеющая многообразнейшими регистрами душевной жизни, но прежде всего теми регистрами, в которых звучит летящее, самозабвенное чувство. Поэзия Марии Петровых — это поэзия неослабного внутреннего напряжения, живущего то прямой стремительностью переживания, то противопоставленностью внешней неторопливости и тишины неизбывной внутренней силе. И поэзия Марии Петровых, именно в основе самой своей сути, — это та поэзия, в которой отсечено все лишнее, даже в самых длинных, самых многострочных, самых многострофных стихотворениях. Здесь все необходимо — и поэтому все естественно. Здесь естественно каждое слово, каким бы приподнятым оно ни казалось. Доходящее чуть ли не до экстатичности переживание заключено здесь — без насилия над ним — в отточенную и четкую форму. И поэтому, в силу своей особой соотнесенности и полной сплавленности с тем, что в поэзии Марии Петровых выражено, традиционная, казалось бы, фактура ее стиха предстает здесь как новое звучание поэтической речи, которым поэт владеет безупречно.
И казалось бы, именно во всех этих свойствах поэзии Марии Петровых, которые мы сейчас назвали, и можно найти разгадку той поразительной поэтической силы и той необычайной многогранности, которыми обладала Мария Петровых-переводчица. Как раз потому, что она владела в своей лирике всем регистром чувств, она могла передать на русском языке самые многообразные по своей тональности иноязычные поэтические системы. А так как основным принципом ее творчества была естественность и вместе с тем безупречная строгость поэтической структуры, то она могла воплотить свое претворение иноязычного стихотворения в естественной и адекватной оригиналу форме.
Все это так. И все-таки этого недостаточно, чтобы объяснить совершенство переводческого искусства Марии Петровых. Исключительно важно здесь еще то, что у нее был особый дар вчувствования в подлинные произведения поэтического искусства, дар их узнавания и познавания. Она была отзывчива на самые глубинные и тайные черты поэзии.
Свои стихи Мария Сергеевна Петровых читала неохотно и лишь изредка. Но с какой охотой слушала и читала она стихи своих друзей-поэтов, своих учеников. С какой тонкостью и точностью ощущала она их поэтическую ткань, радуясь удачам, но неподкупно замечая и то, в чем они были слабы. И с такой же проникновенностью воспринимала она все богатство русской поэзии, и прежней, и новой, и сегодняшней.
Более того. Этот дар вчувствования, узнавания и познавания распространялся у Марии Сергеевны и на поэзию иноязычную. Барьеров здесь у нее не было. Посредничество подстрочников с обозначением ритмического рисунка, посредничество чужого перевода оказывалось достаточным, чтобы и эта поэзия раскрывалась перед ней в своей истинной, внутренней сути. И это охватывало не только поэзию на тех языках, которые постепенно стали уже для Марии Сергеевны привычными, близкими, любимыми, пусть даже она по-настоящему их и не знала. Нет, дар прикосновения к внутренней сути поэтических произведений, редкостная безошибочность узнавания и зоркость касались и такой поэзии, язык которой был для Марии Сергеевны далеким.
Приведу пример. Это отрывок из письма, которое Мария Сергеевна написала мне 21-го октября 1975 г., через полтора года после смерти моей жены, Тамары Сильман. Тамара Сильман много переводила Рильке. Мария Сергеевна эти переводы любила.
«Я давно хотела написать вам один разговор с Тамарой в Комарове, разговор о Рильке. Это было в начале 60-х годов, кажется в 63 г.
Мы бродили с Тамарой по дороге перед Комаровским писательским домом. И говорила я ей о моем впечатлении от стихов Рильке в ее переводе. А впечатление было такое, будто смотрю я в воду глубокого колодца и там, в глубине, по воде пробегают световые блики, возникая-исчезая. Такое почти физическое впечатление возникало у меня всегда при чтении ее переводов Рильке. Тамара была этим образом поражена. Она сказала мне, что это почти совпадает с тем, как сам Рильке воспринимал свои стихи, то же — блики на воде, только без колодца. А я ведь не имею возможности прочесть Рильке в подлиннике. Как же верно — с какой глубокой верностью сути его поэзии — ее сердцевине — передала Тамара на русском его стихи, если у читателя, не знающего подлинник, возникает тот же образ, что и у автора!»
Так пишет Мария Сергеевна. Но дело здесь не только в переводчике. Дело здесь и в читателе. Потому что этим читателем, который почувствовал глубинную окрашенность, глубинную тональность поэзии Рильке именно такой, какой она действительно была в его первых сборниках, а подспудно присутствовала и в его последних стихах, пусть внешне совсем иных, — этим читателем был поэт с замечательным даром приобщаться к подлинной поэзии в ее истинной сути сквозь все средостения, отделяющие его от оригинала.
И только теперь, когда наряду с широтой поэтического диапазона Марии Петровых и точности ее стиха отмечено ее необычайное умение, преодолевая все преграды, вчувствоваться в сокровенную стихию чужой поэзии, — только теперь, пожалуй, до конца становится понятно, почему в переводах Марии Петровых в равной степени оживают в своем русском претворении самые разные и несхожие друг с другом поэты весьма различных народов: А. Исаакян и С. Нерис, С. Капутикян и С. Галкин, В. Незвал и Н. Григ, Ю. Тувим и Т. Тильвитис, А. Далчев и П. Маркиш и многие, многие другие. Конечно, у Марии Петровых были и свои любимые, наиболее обжитые поэтические пространства — в первую очередь армянская поэзия. Недаром такие крепкие узы связывали Марию Петровых с Арменией, с армянскими поэтами. Недаром Армения так высоко ценила переводческий труд Марии Петровых. Но удивительна и та необычайная степень проникновения в оригинал, которая ощутима, например, в переводах Марии Петровых из Далчева или Галкина. А эти имена выбраны мною почти случайно. Здесь можно было бы привести имена и многих, многих других поэтов.
И все же, несмотря на все неизмеримое богатство переводческого наследия Марии Петровых, не это наследие определит место и значимость Марии Петровых в истории русской поэзии. Это место и эта значимость определяются той замечательной лирикой, которую Мария Петровых создала как «самобытный и точный» (по определению Анны Ахматовой) русский поэт.
И еще навсегда в нашей памяти сохранится сам облик Марии Сергеевны Петровых: ее тихий, проникновенный голос, ее скупые и точные слова, ее строгая, сдержанная красота и — за оградой смирения — великая сила ее души.
II
А познакомились мы так.
Середина пятидесятых годов. Зима (или ранняя весна). Я в Москве. Звоню Ахматовой, к Ардовым. Получаю предписание немедленно приехать. В крошечной комнатке Ардовых, которая стала теперь такой знаменитой, Ахматова не одна. У нее юная, совсем юная девушка. Как это обычно и делалось, при моем приходе гостья встает и прощается. (В комнатке места хватало лишь на одного посетителя.) Ахматова знакомит нас. Имени я, естественно, не разбираю. После беседы о чем-то неотложном я спрашиваю: «А кто эта девочка, которая была у вас?» Ахматова удивлена. «Девочка? Но ведь это Маруся Петровых. Превосходный поэт, мой самый близкий друг. Я знаю ее двадцать лет».
Не ручаюсь за точность слов. Но за точность смысла — ручаюсь.
А недели через две, в Ленинграде, мы с Тамарой приехали к Ахматовой, на улицу Красной конницы. Когда мы вошли к Ахматовой в комнату, она смеялась, смеялась громче, чем всегда. И было понятно, что она стала смеяться, когда услышала наши голоса в коридоре. «Вы знаете, — сказала сквозь смех Ахматова, — что спросила меня по телефону Маруся? Она спросила: „А кто был этот мальчик, который к Вам приходил?“»
Мария Сергеевна уверяла потом, что это не так. Что она спросила: «А кто был этот молодой человек?» Но Ахматова твердо стояла на своем.
На этом наше знакомство сперва оборвалось. Но через несколько лет мы оказались вместе в Малеевке. Марию Сергеевну я узнал сразу. Но на мой приветственный взгляд она взглядом не ответила. И когда мы в тот же день встретились снова, она меня снова не заметила, не заметила словно нарочно: так прямо смотрела перед собой. Тогда я подошел и сказал: «Ведь мы знакомы».
Так началась дружба. Скрепленная стихами. Дружба долгих прогулок под августовским, предосенне тревожным небом в быстрых белых облаках, прогулок по сырым малеевским лесам, то стройным и светлым, то сплетенным и темным. Дружба вечерних бесед, долгих и поздних. Дружба, ставшая дружбой на всю жизнь.
Настороженной, сдержанной, чуть ли не пугливой — такой показалась нам сперва Мария Сергеевна. И мы были поражены, когда она вдруг предстала решительной и властной. Это было после того, как Тамара прочитала ей свои переводы из Рильке. Переводов было много. Прочитав несколько стихотворений, Тамара остановилась. Но Мария Сергеевна потребовала, чтобы Тамара продолжала. А когда весь тогдашний Тамарин Рильке был прочитан. Мария Сергеевна безапелляционно сказала: «Вы прочитаете это Самуилу Яковлевичу».
Маршак жил тут же, в Малеевке. Мы встретились с ним, когда приехали, как старые, хотя и весьма далекие знакомые. Он пригласил нас заходить к нему. Но вокруг него всегда было много людей, и мы его приглашением не воспользовались. И теперь Тамара тоже отказалась идти к Маршаку — со своими рукописями к нему обращалось столько литераторов, что не хотелось увеличивать их числа. Но Мария Сергеевна не стала ее даже слушать. На другой же день сказала: «Я уже договорилась с Самуилом Яковлевичем». И заставила нас пойти. Кстати, результат этого чтения был неожиданный: Маршак, которому переводы понравились, добился, что Тамарин Рильке был включен в план Гослита и через несколько лет опубликован. Мы с Тамарой не могли об этом даже мечтать.
И после этого я видел не раз Марию Сергеевну решительной и непреклонной — когда надо было кому-нибудь помочь, когда дело шло о судьбах литературных произведений и когда шел спор о звучании стихотворной строки. Вкусы Марии Сергеевны были широки, она принимала разные поэтические системы, разные поэтические голоса. Но всегда требовала точности и чистоты. А когда этого не находила, то не принимала. Иногда мягко, а иногда с совершенной твердостью.
Порой, встречаясь с чем-то чужеродным, Мария Сергеевна настораживалась и какое-то время колебалась: принять или не принять? Так было с моими стихами. Лучше всего рассказать об этом словами самой Марии Сергеевны (из январского письма 75-го года): «Мне нужно было какое-то время, чтобы привыкнуть к Вашей (завидной) свободе в отношении к рифме».
Но не твердость и непреклонность и не настороженность были главной тональностью характера Марии Сергеевны. Подлинной стихией Марии Сергеевны в ее дружеских беседах была мягкость, величайшая отзывчивость на слова собеседника (порой даже не до конца высказанные), ненастойчивость, порой даже словно неуверенность в своих собственных словах, если только речь не заходила уже о чем-то самом непреложном. Впечатление такой неуверенности подкреплялось тем, что Мария Сергеевна всегда говорила тихо, иногда даже очень тихо, нередко останавливаясь, зажигая спичку, чтобы закурить сигарету, и часто словно задавая молча вопрос — не собеседнику, а себе самой.
Казалось, что она сама не до конца доверяет своей мысли, или, скорее, так внимательно и полно вслушивается в ее течение, в ее возникновение, что лишь отрывочными, незавершенными предложениями, лишь полунамеками может передать это течение, это возникновение своему собеседнику. Со стороны ее слова могли показаться еле внятными. И хотя она могла говорить в высшей степени точно и четко, ясно аргументируя каждую свою мысль и опираясь на свое прекрасное знание русской поэзии, а особенно Пушкина, все же такая невнятица была для Марин Сергеевны чем-то очень характерным и важным.
Мне думается даже, что подобная невнятица — уже не в беседе с другими, а в потоке собственных чувств и мыслей — оказывалась той почвой, в которой вызревали, из которой произрастали стихи Марии Сергеевны. На каких-то внутренних этапах становление стихов, невнятица в той или иной форме, наверное, свойственна каждому поэту, является той стихией, в которой в конечном счете и рождается подлинное искусство, даже самое строгое и формально совершенное. Но иногда претворение невнятицы в ясность совершается в самом начале складывания стихотворения, может быть даже вовсе неосознанно для самого поэта. А иногда такое претворение крайне приближено к последним моментам созидания, а следы невнятицы порой остаются непреодоленными в самом произведении.
Мне кажется, что невнятица сопровождала Марию Сергеевну на пути к стихотворению очень долго, преодолевалась лишь на самых последних отрезках этого пути — но преодолевалась безостаточно. В самих стихах Марии Сергеевны исходная невнятица претворяется в стремительную ясность, в движение четких образов-смыслов. А от смутности невнятицы остается лишь неожиданность смысловых переходов и сопоставлений в их внутренней оправданности и естественности.
А нас невнятица, проступавшая порой в словах Марии Сергеевны, еще больше сближала. Потому что к моей общепоэтической невнятице присоединялась свойственная мне с детства необычайная затрудненность речи, доходившая до жестокого заикания. С годами заикание я преодолел, затрудненность речи внешне сгладилась. Но внутренне я никогда от нее не освободился. И хотя все это было совсем другое, чем у Марин Сергеевны, но что-то было в этом и общее, и мы оба чувствовали это, хотя прямо никогда ничего об этом сказано не было. Если не считать одного стихотворения, написанного мною Марии Сергеевне в первые годы нашего знакомства:
Вы запомнились сестрою дальней.
Только были близкими слова,
В робости первоначальной
Прозвучавшие едва.
Потому что оба мы привычны
К немоте давным-давно.
Потому что мы косноязычны,
Как поэтам суждено.
Когда я прочитал это стихотворение Ахматовой, она сказала: «Да, это вы оба. Вы и Маруся».
III
У Марии Петровых есть стихи очень разные. Но, пожалуй, главные из них — это стихи полета, полета неудержимого, порой — неукротимого. Полета напряженной душевной жизни. Есть и стихи других, более замедленных ритмов. Стихи не страсти, а раздумья. Стихи, обращенные иногда на предметы внешнего мира.
Но определяют творчество Марии Петровых все же стихи стремительные, наполненные энергией, пусть сдержанной, и словами, которые сами по себе могут быть простыми и повседневными, но, вовлеченные в стих, становятся весомыми и значительными. Стихи, в которых даже краски насыщенны, густы, сочетают яркость и темноватость. Так было в ранние годы, так было и в годы зрелости. В одном только стихотворении, состоящем из двенадцати строк («Пылает отсвет красноватый»), сосредоточен огромный пласт красок, различные отрезки цветового спектра: красноватый, фиолетовый, лиловый, розовый, багровый, алый, малиновый. А само стихотворение не разделено на строфы, а движется мощными рывками от двустишия к двустишию, которые объединены парными рифмами.
Такое построение, поддержанное силой, ударностью рифм, составляет одно из важнейших средств достижения особого ритмического напряжения стихов Марии Петровых. Здесь создается разгон, который и позволяет стихам стать стихами полета. Вершиной стихов с таким построением является, говоря словами Ахматовой, одно из лучших любовных стихотворений в русской поэзии XX века: «Назначь мне свиданье на этом свете».
Эмоциональная сила поэзии Марии Петровых сказывается еще и в том, что она насыщена прямыми обращениями, призывами. Сказывается в них и вместе с тем подчеркивается, усиливается ими. Обращениями, призывами живет множество стихов поэта. Вот несколько примеров:
Не думай так, не мучай так, не мучай…
Не взыщи, мои признанья грубы…
Не плачь, не жалуйся, не надо…
Покажи мне, любимый, звезду,
По которой тебя не найду…
Есть целые стихотворения, состоящие из обращений-призывов. И поразительно эмоциональное разнообразие обращений. Здесь есть и страстная мольба, и обвинение, и вопрос, и гордый вызов, но есть и более привычные, более спокойные обращения — приглашение что-то увидеть, что-то почувствовать вместе с поэтом. Преобладают все же призывы, полные внутреннего напряжения. Здесь создается даже подобие диалога — проекция к собеседнику, к тому образу, к которому направляет призывы лирическое «я». Нарастает драматичность, нарастает драматизм.
Эмоциональное напряжение в стихах Марии Петровых реализуется также в нечастых, но крайне действенных отступлениях от заданной в стихотворении ритмической схемы, в частности в «сокращениях» стиха, стоящего в конце строфы или в конце всего стихотворения.
На фоне строгого, классического стихового строя, к традиции которого явственно, даже демонстративно восходит поэзия Марии Петровых, такие перебои и сдвиги особенно ощутимы.
Покажи мне, любимый, коня,
Которым объедешь меня.
Это — концовка стихотворения «Говорят, от судьбы не уйдешь».
И также нередко чрезвычайно действенны те отступления от точной рифмы, которые в стихах Марии Петровых есть, хотя она вообще относилась к таким рифмам скорее неприязненно. Правда, это обычно наиболее типические, как бы ставшие уже «классическими» типы неточных рифм, особенно рифмы замещенные (дороги — строки, смертью — милосердье, бездной — поднебесный, щедром — ветром и т. д.). Иногда они входят — как почти незаметный «призвук» — в гармонию стиха. Но иногда они именно в своей резкой диссонантности особенно ударны и важны для всего смыслового движения стихотворения, хотя никогда гармонии стиха полностью не нарушают. Вероятно, самое резкое проявление такого слияния диссонантности и гармонии — это стихотворение, начинающееся двустишием:
— Черный ворон, черный вран,
Был ты вором, иль не крал?
Такими чертами своего стиха поэзия Марии Петровых органически соотнесена с очень глубинными процессами развития системы русского стиха в XX веке, при всем своеобразии этой поэзии, которая счастливо соединяет в себе приподнятость, доходящую до экстатичности, с абсолютной естественностью, прозрачностью, чистотой.
Распространена точка зрения, что счастливая судьба Марии Петровых-переводчицы как бы компенсировала долгие десятилетия ее отсутствия в текущем литературном процессе как поэта. Но эта точка зрения глубоко неверна. Мария Сергеевна действительно совсем не добивалась печатания своих стихов. Они лежали несобранные, неразобранные, часто оставались набросками. Если бы не энергия Левона Мкртчяна, не состоялось бы, конечно, и издание «Дальнего дерева». Но все же стихи, создание своих стихотворений было самым главным в жизни Марии Петровых. Периоды поэтического молчания были для нее подлинным горем. А переводы созданию стихов нередко мешали.
О том, как тяжело переносила Мария Петровых свое молчание как поэта, немало сказано в ее стихах:
О, как сердце отравлено
Немотой многолетнею!
Когда молчанье перешло предел…
А в стихотворении «Одно мне хочется сказать поэтам» есть слова «жестокое молчание».
И об этом же не раз говорится в письмах Марин Сергеевны. Вот строка из письма 1971 г., где нет жалобы, но ясно слышится тревога:
«Ничего законченного не написала и напишется ли — не знаю».
В более позднем письме (1974 г.) сказано уже прямо:
«Я тяжко страдаю от немоты».
Год спустя называется та преграда, которая стояла между поэтом и его стихами:
«Начала было писать что-то свое и бросила! Когда над душой переводы, которые давно надо было сдать, — свое писать невозможно».
А в последние десятилетия у Марии Сергеевны почти всегда над душой были переводы, с которыми она запаздывала.
Это совсем не противоречит тому, что переводила Мария Сергеевна с предельной самоотдачей и любовью. Напротив, именно поэтому ей было трудно в это же время писать свое. А свое, свои стихи, — вот что было для нее все же самым главным.
Мастер мощного поэтического потока, Мария Петровых особенно любила краткость. И у других поэтов, и у себя. И выражая с предельной силой чувство, она хотела также, чтобы в стихотворении точно и ощутимо были воспроизведены явления внешнего мира. Она стремилась к такому взаимопроникновению души поэта и реальных вещей этого мира, при котором становилась бы зыбкой сама граница между «я» и «не-я». Совсем не случайно, что Марии Сергеевне оказалась такой близкой поэзия Рильке. Едва ли не определяющая лирику Рильке слиянность поэта с миром слышится и в стихах Марии Петровых, пусть в странном, необычайном преломлении:
Иду, иду, и, может быть, вторая
Иль третья жизнь сменилась на ходу.
Конца не видно. Может быть, иду
Уже не я. Иду, не умирая…
И из этого же чувства слиянности с миром возникает у Марии Петровых ощущение глубочайшей связанности этой, земной жизни человека со всей бесконечностью земного существования. Падает завеса между жизнью и смертью. Об этом — «Черта горизонта». И об этом же такие строки:
Давно я не верю надземным широтам,
Я жду тебя здесь, за любым поворотом, —
Я верю, душа остается близ тела
На этом же свете, где счастья хотела,
На этом, на этом, где с телом рассталась,
На этом, на этом, другого не зная,
И жизнь бесконечна — родная, земная…
И об этом же то стихотворение, которое Мария Сергеевна прислала мне после смерти Тамары:
И ты бессилен, как бессилен каждый,
Ей возвратить земное бытие,
Но доброе вмешательство ее
Почувствуешь, узнаешь не однажды —
То отвратит грозящую беду,
То одарит нежданною отрадой,
То вдруг свернешь с дороги на ходу,
Поверив ей, что, значит, так и надо.
Яков Хелемский. Ветви одного ствола
1
На Втором Прибалтийском фронте моим другом стал армянский писатель Рачия Кочар. Военные корреспонденты походной газеты «Суворовец», издававшейся на девяти языках, мы часто выезжали вдвоем в действующие части.
Машину нам давали не всегда. До переднего края мы добирались где на попутном транспорте, а где и пешком. Помогали вытаскивать машины, застрявшие в топкой почве, ночевали в промозглых землянках, зябли на контрольно-пропускных пунктах, топали по бревенчатым гатям, лежали под обстрелом в полузалитых водой кюветах. Все это для фронтового газетчика дело привычное. А тяготы и лишения, как известно, сближают. Да и спутник Рачия был надежный.
Конечно, — утешительно философствовал он, — конечно, это не Араратская долина. Но где легко? Тут болота, в Армении — камень…
Тонкий знаток и ценитель поэзии, Кочар хранил в памяти сотни строк и любил произносить вслух то, что совпадало с его сегодняшним настроением. Благодаря ему я приобщился к армянской лирике. Особенно охотно Рачия читал классиков, читал сперва на родном языке, а потом повторял те же избранные строки в переложении Брюсова или Блока. Широко зная русскую и мировую поэзию, он всегда стремился ошеломить слушателя чем-нибудь неожиданным.
В конце сорок третьего наша редакция оказалась в районе Торопца, в приозерной деревушке, окруженной торфяниками и ельником. Дома тут стояли на сваях, на каждом подворье лежала перевернутая кверху дном лодка, ожидавшая весны, а в сарае сберегался старенький невод.
Вернувшись как-то из очередной совместной поездки, мы с Кочаром сдали в набор свои с ходу написанные репортажи и, изрядно вымотанные, отправились отдыхать. Ноги увязали в месиве из грязи и снега, в лицо била мокрая метель. Мы добрели до избы, где квартировали в скупо отапливаемой горнице, и рухнули на койки, накинув поверх одеял только что полученные армейские полушубки. Но, как это порой бывает при чрезмерной усталости, сон не шел. И тогда Рачия произнес привычные слова:
— Давай почитаем стихи.
* * *
Говоря: «почитаем», Рачия как бы предоставлял мне право перехватить инициативу. Но я тут же отозвался:
— Давай начинай.
Наверное, у меня в ту минуту просто не хватило бы пороху на чтение. Но я еще и почувствовал, что друга
осенило, что у него в запасе
нечто…
Он спросил:
— Надеюсь, тебе, стихотворцу, знакомо имя Марии Петровых?
— Увы, незнакомо, — признался я. Признался честно, потому что в иных случаях кривил душой, чтобы не лишать Кочара удовольствия
просветить меня. А сейчас я с чистой совестью добавил:
— Петровых? Впервые слышу…
Рачия вдруг включил карманный фонарик — должно быть, решил получше разглядеть меня — прикидываюсь я или действительно пребываю в ужасающем невежестве. Очевидно, он убедился в последнем, потому что, выключив пучок света, ставший ненужным, разразился тирадой, полной удивления и гнева:
— Подумать только! Он впервые слышит… Так вот, усвой, несчастный! Мария Сергеевна — замечательная женщина. Талантливый русский поэт. Я — житель Еревана — храню в памяти ее стихи. А ты, москвич, живущий с Петровых в одном городе, ее не знаешь… Слушай, я тебя уважал, возможно, даже любил. Но теперь начинаю сильно сомневаться в правомерности своих чувств. Если ты не хочешь лишиться моего расположения, тебе необходимо срочно ликвидировать ужасный пробел в твоем интеллектуальном развитии, который я сейчас обнаружил.
Рачия, человек душевный и обходительный, иногда взрывался. Но даже в этих случаях его темперамент смягчался улыбкой, велеречивость вдруг окрашивалась иронией. Сейчас он, кажется, раскипятился всерьез. И я поспешил сказать:
— Скорее ликвидируй мой постыдный пробел, умоляю!
Рачия сделал паузу, чтобы остыть. Когда он заговорил, голос его звучал проникновенно:
— Гарантирую, уснешь не скоро. Но дело стоит того. Стихотворение называется «Соловей».
После первых же строк, услышанных мною, я понял — дело и впрямь стоящее.
…Папоротник изнемог,
Он к земле приник, дрожащий…
Зря крадется ветерок
В разгремевшиеся чащи.
Он — к своим. Но где свои?
Я молчу, спастись не чая:
Беспощадны соловьи,
Пламень сердца расточая.
Прерывающийся плач
Оскорбленной насмерть страсти
Так беспомощно горяч
И невольной полон власти…
То ли праздная игра,
То ли это труд бессонный, —
Трепетанье серебра,
Вопли, выплески и стоны.
Ночь с надклеванной луной,
Бор, что стал внезапно молод,
И, просвистанный, сквозной,
Надо всем царящий — холод.
Я попытался было выразить свое одобрение, но Рачия прервал меня:
— Погоди, выскажешься потом. Еще не то будет! И вообще лучше слушать стихи, чем говорить о них. Ты, кажется, бывал перед войной в Коктебеле. На Карадаг, видимо, взбирался?
— Еще бы!
— Тогда замри и внимай! Вот совсем небольшая поэма. Так и называется — «Карадаг». Версия о возникновении знакомой тебе вершины…
Кочар повысил голос. И в пылких строфах, звучавших прерывисто, как затрудненное дыхание, возник облик демона, брошенного на земную твердь, опаленного яростью и обидой, бессильно пытающегося взлететь. Но — «два пламени взметнулись врозь взамен двух крыльев…» Изгой, окутанный огнем и дымом, выкрикивая угрозы, тщится испепелить не только землю, но и небо, покаравшее его.
…Но вспыхнул блеск зарницы черной
Из пустоты,
и пламя вдруг
Окаменело, а кричащий —
Без головы, без ног, без рук, —
Обрубком вырвался из чащи
Рыданий каменных, и ветр
Вознес его на горб вершины,
И там он врос в гранит…
Из недр
К нему вздымаются руины
Пожарища, к нему толпой
Стремятся каменные копья
И в реве замерший прибой —
Окаменевшее подобье
Былого пламени…
Меня поразила мощная фантазия автора этих строк. Я на мгновение забыл о том, что за окном сырая мгла северного предзимья, избы на сваях, студено мерцающее озеро. Привиделась уступчатая крымская крутизна, напоминающая и окаменевшие всплески морского прибоя и застывшие языки пламени. Померещился горный пик, увенчанный вросшим в него трагическим изваянием. Я как бы по-новому взглянул издалека на знакомую громаду Карадага, озаренную тревожными сполохами дерзкого вымысла.
Но Рачия, не давая мне передышки, уже стал читать стихотворение, в котором стихия леса сравнивалась с морским дном: «Я зыбко иду под крылатой водой, едва колыхаюсь волнами прохлады… И памяти черные шрамы свежи на белых стволах… Это — летопись леса. Прочесть лишь начало — и схлынет с души невидимая вековая завеса».
Уже в самом ритме стиха ощущалась зыбкость окружающей среды, сходство ее с колеблющимися водами, с глубинным течением…
Умолкнув, Кочар глубоко вздохнул. Потом сказал:
— Ты ведь знаешь, если у меня бессонница, я всегда читаю стихи. Когда один — мысленно. Когда имеется сосед вроде тебя, то — вслух. Убеждаю и себя и его в том, что стихи — лучший вид отдыха. Сны не выбираешь — может привидеться и плохой. Стихи читаешь обязательно хорошие. А теперь скажи — я тебя сегодня обогатил?
— Не то слово! Твоя Мария Сергеевна — поэт божьей милостью.
— А ведь это ее давние стихи. Проба сил…
— Где она сейчас? Что пишет?
Кто знает? Война, милый, война…
2
Но в начале следующего года мое заочное знакомство с Марией Петровых продолжилось. Благодаря тому же Кочару.
Я вернулся из командировки — наши войска успешно продвигались вперед на Новоржевском направлении. Привезенный материал, как всегда, надо было срочно отправлять в набор. Пристроившись в углу, отгороженном плащ-палаткой, я перестукивал на машинке небольшой очерк и заметки солдат — участников наступления.
В мое укрытие заглянул улыбающийся Рачия.
— Не хотел тебе мешать, — сказал он, — прости, но я сейчас отбываю к танкистам. И мы практически разминемся. А я кое-что приберег для тебя.
Кочар протянул мне номер журнала «Знамя»:
— Отыскался след Марусин! Найдешь свободную минуту, вникни. Исчезаю, привет!
* * *
Стихи Петровых занимали в журнале всего две странички. Это были короткие, но очень емкие лирические записи о войне, о пережитом всеми нами. Очень современные, почти сиюминутные, а ощущение возникало такое, что это написано не на один день, не на один год. Темы привычные — разлука с любимым, первый салют, невосполнимые утраты и необоримая надежда. Но в этой лирике несомненно было что-то своеобычное. И еще — при всей жгучести того, что составляло их суть, стихи в «Знамени» отличались от прежних пылких монологов, которые знал наизусть Рачия. Поэтический голос тот же, но интонация несколько иная. Щедрая фантазия уступила место драматической реальности. Пришли строки простые, насущные, строгие.
В каждом сердце столько горя,
Столько нынче слез лилось,
Что земля их солью вскоре
Пропитается насквозь.
Словно от вины тягчайшей,
Не могу поднять лица…
Дай же кто-нибудь, о дай же
Выплакаться до конца,
До заветного начала,
До рассвета на лугу…
Слишком больно я молчала,
Больше не могу.
А с какой естественностью звучали четверостишия, написанные где-то в тыловой глуши:
Ночью здесь такая тишина!
Звезды опускаются на крышу,
Но, как все, я здесь оглушена
Грохотом, которого не слышу.
Страдание почти не вырывалось наружу. Печаль, мужество, гнев выражались негромко. Но ими было проникнуто каждое слово.
Сдержанным было и выражение радости. Но достоверность чувства не нуждается в пафосе.
Пожалуй, сейчас читатель уже не сможет постигнуть в полной мере волнение, которое я испытывал, впервые прочитав в журнале стихотворение «Ночь на 6 августа». Может быть, эти строки запали мне в душу еще и потому, что ночь первого салюта я провел в только что освобожденном нами Орле. Тьма в городе, разоренном и разрушенном, стояла кромешная, гул московских орудий я слышал лишь по радио, но дальние раскаты словно бы излучали яркий свет. Грозные стволы в разгар войны вели не истребительный, а праздничный огонь. И чудилось, что тревожное небо над Орлом, еще прифронтовым, измученным, но как бы родившимся заново, тоже светлеет. Крупные августовские созвездия, проступившие сквозь облака, казались искрами столичного фейерверка. И эти воображаемые отблески отражались в глазах солдат и освобожденных горожан. Эти гулкие вспышки были целительны для души, переполненной горечью утрат, которые пришлось понести при взятии Орла, напряжением только что минувшего дня и всех предыдущих месяцев. С каждым новым залпом возрастала вера в то, что впереди не только испытания продолжающейся войны, но и торжественные минуты, подобные этим.
Я повторял строки Петровых, удивляясь, как всегда это бывает, когда читаешь чужие стихи, сразу покорившие тебя, — почему не я их написал? Ведь это и мое ощущение!
В каком неистовом молчанье
Ты замерла, притихла, ночь!..
Тебя ни днями, ни ночами
Не отдалить, не превозмочь.
…Всё вдохновенней, всё победней
Вставали громы в полный рост,
Пока двенадцатый, последний
Не оказался светом звезд.
И чудилось, что слезы хлынут
Из самой трудной глубины, —
Они хоть на мгновенье вынут
Из сердца злую боль войны!
(Недавно я взял в библиотеке этот номер «Знамени», помеченный сорок третьим годом. Номер сдвоенный — сентябрьский и октябрьский выпуски уместились в одной книжке. Бумага хоть и газетная, серенькая, а и ее по военному времени приходилось экономить. Журнал небольшого тогдашнего формата, заключен в мягкую обложку защитного цвета. Заново перелистав эти страницы, я не удержался от восторженного возгласа. Каково содержание! Сплошная классика военных лет! Очередные главы «Василия Теркина». Симоновская повесть «Дни и ночи». Блокадные стихи Ольги Берггольц. Фронтовой очерк Андрея Платонова. Вот в каком окружении появился цикл малоизвестной в ту пору Марии Петровых. И если я при этом навсегда запомнил три ее «Знаменских» стихотворения, значит, они по праву оказались рядом с произведениями ныне хрестоматийными. Это одна из немногих прижизненных публикаций Марии Сергеевны, — обстоятельство, безусловно, запоминающееся. Конечно, к встрече с лирикой Петровых меня подготовил Рачия Кочар. Но ведь остались в сознании прежде всего сами стихи! Со времени первого прочтения и по сей день я знаю их от строки до строки. А они после «Знамени» долгие годы не переиздавались.)
3
Война завершилась. Я демобилизовался, хотя и не сразу. Все начиналось заново. Постепенно входя в московскую литературную жизнь, я сперва потянулся к своим довоенным друзьям и давним наставникам. Потом привычный круг стал расширяться. Зазвучали имена молодых, пришедших с фронта. Я сблизился с ними. Возникло общение и с теми старыми мастерами, которых я чтил сызмала, но в прежние годы лично не знал.
Переводы Петровых я часто встречал в периодике и в книгах. Прежде всего — переводы с армянского. Друзья давно приглашали ее в Ереван, — это я еще от Кочара слышал. И вот, оказывается, уже на излете войны Марии Сергеевне удалось впервые увидеть эту землю. Армения пленила Петровых, стала неотъемлемой частью ее судьбы.
Переложения были превосходны. А вот оригинальные стихи в периодике почти не появлялись. Но, несмотря на это, их знали и ценили многие истинные любители поэзии. О Марии Сергеевне всегда говорили с уважением, как о сложившемся, зрелом художнике. Значит, мое восприятие ее лирики оказалось безошибочным.
Не хватало реального знакомства.
* * *
Знакомили нас дважды.
Первая встреча случилась в писательском клубе, где Антокольский, окруженный друзьями, возглавлял стихийно возникшее застолье. Заметив меня, он издал боевой клич: «К нам, к нам!», подкрепляя приглашение бурными жестами. За ресторанным столиком, где нашлось место и для меня, оказалась Петровых. Но, честно говоря, в суматошной тесноте, в гуле голосов, когда ведется беспорядочный веселый разговор, становящийся все громогласнее, когда одни подсаживаются, другие уходят, — расслышать и даже толком разглядеть друг друга почти невозможно.
Поэтому обменяться с Марией Сергеевной несколькими фразами нам удалось лишь некоторое время спустя, в доме у Веры Звягинцевой. В этой крохотной квартирке у Красных ворот порой тоже бывало шумно и многолюдно, когда, казалось, сами по себе раздвигаются стены. Но в тот день здесь гостей не ждали. Я забежал к Вере Клавдиевне на минутку по какому-то несложному делу. А Мария Сергеевна была по соседству, в издательстве на Ново-Басманной, и заглянула на обратном пути без предупреждения.
И в клубе и здесь наши пути пересеклись внезапно. Зато в памяти осталась острота первого впечатления, тоже неожиданного.
* * *
Во всем, что я прочитал и услышал в период заочного знакомства с Петровых, угадывался характер сильный и независимый: демона с пылающими крыльями не устрашится, на Карадаг взойдет запросто. Даже негромкие стихи в «Знамени» не поколебали этот образ. Мне и внешность рисовалась соответственная. Возникала в моем воображении женщина рослая, с решительным взглядом, обязательно по-южному смуглая, позлащенная коктебельским солнцем и ереванским зноем.
А увидел я существо хрупкое, ничем не защищенное, кроме своего тихого обаяния. Лицо неброское, но прелестное, обрамленное пушистыми волосами, скорее светлыми, волнистая челка, наполовину прикрывающая высокий чистый лоб, серые глаза, взирающие на мир почти кротко.
Помнится, в доме Звягинцевой я в таком смысле и высказался, признавшись, что по рассказам Кочара и по стихам, услышанным от него, Мария Сергеевна виделась мне несколько иной.
Она пожала плечами:
— Ну уж, представляю, что вам наговорил Рачик. Это он может…
— Но ведь и ваши строки многое сказали!
Тут она вдруг рассмеялась, весело, озорно, от всей души. Так же смеялась она в писательском клубе, когда за столом лихо актерствовал неотразимый Павел Григорьевич. Это я еще тогда приметил.
Смех умолк, но веселость все еще звенела в голосе моей собеседницы:
— Судить о внешности автора только по его стихам так же наивно, как по щедрым комплиментам Кочара. Кстати, на днях наш друг приезжает в Москву. О
вас он тоже недавно рассказывал мне в тоне весьма возвышенном. Да и Вера… — последовал кивок в сторону кухни, где хозяйка дома позвякивала чайными чашками, — Вера вас и вовсе безудержно хвалит. Допускаю, что преувеличения возможны в обоих случаях. И все же сказанное о вас я не подвергаю сомнению.
— Спасибо! Сомневаться положено мне самому, чем я и займусь по мере сил. А о своем приезде Рачия мне тоже сообщил. Вот и будет у нас повод снова повидаться…
— О, тут уж мы с вами тостов и похвал не оберемся…
Возможно, разговор и дальше велся бы в том же полушутливом тоне. Но меня угораздило спросить Марию Сергеевну, отчего она редко печатает свои стихи.
Веселость мгновенно исчезла. Петровых вся напряглась. Помолчав, она ответила сухо, даже с некоторым вызовом, заметно акцентируя глаголы:
— Одним радостно, когда они
печатаются, другим — когда они
пишут.
Я понял, что мой вопрос был неуместен. И все же не удержался, отпарировал:
— Одна радость не исключает другую. Пишут для того, чтобы кто-то прочитал. Как же без этого?
— Конечно! Тютчев, надо полагать, тоже писал не только для себя. Но
публиковать написанное Федор Иванович не спешил…
Беседа расклеилась. Я что-то говорил, Мария Сергеевна вежливо слушала, но чувствовалось, что она внутренне отключилась.
Тут хозяйка позвала нас к столу. Петровых торопилась. Я тоже — меня ждал Аркадий Кулешов, приехавший на один день из Минска. Поэтому предвечернее чаепитие было кратким. А разговором всецело завладела Вера Клавдиевна, умевшая занимать гостей. Мы услышали стремительный монолог, в котором литературные и житейские новости перемежались мудрыми замечаниями, стихами, юмором.
Петровых немного оттаяла. Во всяком случае, на прощание она улыбнулась мне вполне миролюбиво.
4
Потом было немало встреч с Марией Сергеевной — в писательском клубе, в домах наших общих друзей, в издательских коридорах и на литературных вечерах. Бывал я и у самой Петровых, все больше по рабочему поводу — она много занималась составлением и редактированием переводных книг, иногда привлекала и меня к участию в подготовке этих изданий.
Надеюсь, что смею причислить себя если не к узкому клану ее ближайших друзей, то уж во всяком случае к испытанному кругу ее добрых товарищей. Этот круг был тоже не слишком обширен — Мария Сергеевна и здесь проявляла строгость в отборе.
Свою расположенность ко мне она выказывала не раз, а о моем отношении к ней, к ее таланту и говорить не приходится.
Но вот сейчас, взявшись за перо, пытаясь запечатлеть все, что связано в моей жизни с Марией Сергеевной, я с каждой новой страницей все явственней ощущаю, как непросто в полной мере осуществить такую попытку. Воссоздать черты ее характера — дело весьма трудное. Оттого, вероятно, что характер был нелегкий. Нелегкий прежде всего для самой Петровых.
Ситуация, наблюдающаяся нередко. Натура художника всегда сложна. А порой и вовсе не поддается разгадке. Случается, о стихах куда проще писать, чем об их авторе.
* * *
Здесь я должен вернуться к первому мимолетному разговору с Петровых перед чаепитием у Звягинцевой. Уже тогда я понял, как несхожи эти удивительные женщины, связанные давней дружбой. Очевидно, старая истина, гласящая, что противоположности сходятся, здесь обрела свое достойное выражение.
Истоки их духовного родства изначально благородны. Звягинцева родилась в Москве, но детство провела близ Волги, в радищевских местах. Петровых увидела свет в предместье Ярославля. Обе сохранили верность своим корням, глубинная Россия светло отражалась в их стихах. Вслушаемся в эту перекличку:
«Рдеет веточка рябины на ладони у меня. Видно, впрямь неистребимы искры давнего огня… В память о давнишнем долге эту гроздь я привезла из равнины Средней Волги, из Аблязова села».
«Очарованье зимней ночи, воспоминанья детских лет… Пожалуй, был бы путь короче — и замело бы санный след. Но от заставы Ярославской до Норской фабрики, до нас, — двенадцать верст морозной сказкой под звездным небом, в поздний час…»
Многое сближало их. Беззаветное служение поэзии, общая привязанность к Армении, к ее культуре, древней и нынешней. Талант любить своих друзей больше, чем себя, а отсюда и способность приносить свое оригинальное творчество в жертву переводческому делу. Безупречное чувство слова, тончайший вкус, наконец, удивительная душевная чистота.
И все же эти две натуры несравнимы.
Вера Клавдиевна, порывистая, безгранично общительная, всегда стремившаяся к открытой беседе, в юности причастная к театру и на всю жизнь сохранившая в себе дух сценического действа, всегда была окружена людьми. Не зря она говаривала, посмеиваясь при этом, что друзья называют ее «Павлик в юбке». Имелся в виду Антокольский, столь же распахнутый и легкий в общении.
Мария Сергеевна, не очень словоохотливая, порой замкнутая, отвергавшая суетность, если уж обращаться к аналогиям, чем-то напоминала Николая Алексеевича Заболоцкого. Разговорить ее удавалось далеко не всегда, предугадать ее сиюминутное настроение было довольно сложно. Порой она даже могла показаться надменной. Но за этим внешним покровом таились ранимость и застенчивость. Своими огорчениями делиться она не любила. Радостей в ее жизни было не очень-то много, но и в свои счастливые минуты Мария Сергеевна как бы страшилась внезапного и короткого благополучия.
* * *
За дружеским застольем Петровых становилась раскованной, радовалась метко сказанному слову, чутко воспринимала юмор. Казалось, она от души веселится. Но Мария Сергеевна могла вдруг уйти в себя — то ли ее покоробила чья-то бестактная шутка, то ли в компании появился человек, ей неприятный. Скрывать свою неприязнь она не умела да и не стремилась.
В кругу друзей она любила слушать стихи. Куда менее охотно читала свои. Но, если уж соглашалась, вот тут-то и происходило ее истинное преображение. Пожалуй, самые яркие мои воспоминания о ней связаны с этими минутами.
Помнится, она читала в Голицыне — в Доме творчества. В Хоромном тупике — у Звягинцевой. Вероятно, это бывало и в других местах, где царили немноголюдность и непринужденность.
Но особенно хорош был импровизированный вечер, проведенный в гостиничном номере у Кочара. В один из своих приездов, побывав в домах московских друзей, Рачия затем пригласил их к себе. Номер был невелик, но все отлично разместились. Хозяин принимал гостей по-южному радушно. Гостиничные яства были скрашены ереванским коньяком, лорийским сыром, отборным виноградом. Мы предавались военным воспоминаниям, говорили о поэзии, рассказывали веселые притчи. Рачия тихонько напевал армянские народные мелодии, провозглашал возвышенные и витиеватые тосты. А потом последовало привычное: «Давайте почитаем стихи». При этом Кочар красноречиво посмотрел на Марию Сергеевну, которая, конечно же, была в числе его гостей. Взгляд был подкреплен и устным красноречием — Рачия сказал, что в Армении любят и знают Петровых все — от
варпетов до рядовых читателей. Даже если это было преувеличение, оно не слишком противоречило истине, а в дружеском кругу послужило уместным сигналом — сообща нам удалось уговорить Петровых поделиться с нами новыми стихами. И не только новыми.
Актерская манера чтения была ей чужда. Перед широкой аудиторией она почти не выступала, а если это и случалось, то обычно — в роли переводчика. Но и тогда она читала негромко, избегая жестикуляции. А если дело происходило в домашней обстановке, Мария Сергеевна порой произносила стихи не поднимаясь с места. Вижу ее сидящей в кресле, пальцы рук, нежные и сильные, сцеплены, на щеках слабый румянец, глаза блестят. Нервное напряжение ощутимо. Но голос звучит почти ровно, лишь иногда чуть повышается. А за этой внешней скупостью выражения — такая безоглядность, такая страсть, такая неутомимость души, что с первых строк тебе передается это долго сдерживаемое волнение.
И всякий раз это было открытие. Даже когда слышишь в исполнении автора строки известные, не раз читанные, находишь в них что-то новое. А ведь Мария Сергеевна свои собственные стихи по-прежнему не печатала.
Я довольно внимательно слежу за газетными и журнальными публикациями любимых поэтов. Делаю вырезки. Что-то могу и пропустить, но очень немногое. Так вот, в моем архиве обнаружилась за послевоенные годы лишь одна обширная прижизненная подборка — страница стихов Марии Петровых в «Литературной России». Честь и хвала сотрудникам еженедельника, нарушившим инерцию! Ведь обычно редакции обращались к Марии Сергеевне только как к мастеру перевода. Оригинальных стихов у нее не просили. А сама она никому ничего из написанного не предлагала.
Это уж потом, когда не стало Петровых, начали появляться ее циклы в «Новом мире», в «Дне поэзии» и других изданиях…
А в годы нашего знакомства, повторяю, пожалуй, единственной возможностью приобщиться к тому, что создавалось ею, была счастливая случайность услышать стихи из уст автора.
Так я впервые узнал о существовании ее шедевра «Назначь мне свиданье на этом свете…», услышал строки из лирической летописи, которая велась давно и непрестанно: «Ты не становишься воспоминаньем…», «Судьба за мной присматривала в оба…», «Но в сердце твоем я была ведь? — Была…», «Я думала, что ненависть — огонь…», «Чистополь…»
Тут были отголоски войны и любовные признания, воспоминания детских лет и отзвуки личной утраты. Тут были запечатлены годы мужества и минуты слабости…
Не взыщи, мои признанья грубы,
Ведь они под стать моей судьбе.
У меня пересыхают губы
От одной лишь мысли о тебе.
С ходу врезáлись в память эти откровения, чеканные и в то же время звучащие свободно, как разговорная речь. Но ведь лирика и есть разговор поэта с самим собой, ничем не стесненный, происходящий без свидетелей, но и не прячущийся от них, продиктованный памятью и совестью.
Город Чистополь на Каме…
Нас дарил ты чем богат.
Золотыми облаками
Рдел над Камою закат.
Сквозь тебя четыре ветра
Насмерть бились день и ночь.
Нежный снег ложился щедро,
А сиял — глазам невмочь.
…Если б не росли могилы
В дальнем грохоте войны,
Как бы я тебя любила,
Город, поневоле милый,
Город грозной тишины!
Годы чудятся веками,
Но нельзя расстаться нам —
Дальний Чистополь на Каме,
На сердце горящий шрам…
И вдруг озарение, промельк надежды, лучик будущего — материнские строки, как им и положено, полные рафаэлевской чистоты:
Когда на небо синее,
Глаза поднять невмочь,
Тебе в ответ, уныние,
Возникнет слово: дочь.
…Тебя держать, бесценная,
Так сладостно рукам.
Не комната — вселенная,
Иду — по облакам.
И сердце непомерное
Колышется во мне,
И мир, со всею скверною,
Остался где-то, вне.
Разлука, душевный неуют, житейские горести — где они? Земная женщина в облике мадонны шествует не по скрипучим половицам коммуналки, а по невесомой белизне и синеве.
…Тогда в гостях у Кочара Мария Сергеевна читала много и безотказно. По моей просьбе прозвучали и строфы из поэмы о Карадаге, а потом — «Ночь на 6 августа». Завершилось чтение, уже по общему настоянию, обязательным — «Назначь мне свиданье…»
5
Случались, как я уже говорил, и рабочие встречи, когда она редактировала мои переводы. Квартирка Марии Сергеевны чем-то напоминала звягинцевскую — небольшая, обставленная с благородной скромностью. Обилие книг, памятные фотографии, на столе рукописи, свои и чужие, строгий уют.
Тут сочетались теснота обжитых стен с распахнутостью художнической мастерской.
Работать с Петровых было хорошо. Правда, это немного напоминало священнодействие. Отвлекаться на посторонние разговоры здесь не было принято. Чем бы ни занималась Мария Сергеевна — уединенной работой над своими стихами и переводами или трудом, требующим совместных усилий, — предполагалась полная самоотдача. Замечания ее по рукописи, как правило, были снайперски точны, малейшую небрежность, минимальный огрех она обнаруживала мгновенно. И умела настоять на своем. Чаще всего приходилось с ней соглашаться. Однако порой возникали споры. Петровых была неуступчива. Но уж если удавалось ее убедить, она признавала свою неправоту с таким достоинством, с такой милой, извиняющейся улыбкой, что, право же, хотелось дать обратный ход и, несмотря ни на что, принять ее правку.
* * *
Таких деловых свиданий с Марией Сергеевной у меня было в общем-то немного. Но вот что примечательно — как бы долго они ни длились, все равно сосредоточенность была такова, что поговорить о жизни, обменяться мыслями о радостях и превратностях переводческого искусства, о стихах, пожалуй, ни разу не пришлось. То оказывалось, что Мария Сергеевна уже назначила время для работы следующему автору и мы — в цейтноте. То мои обстоятельства складывались так, что я вынужден был спешно откланяться. Но, конечно же, дело было еще и в том, что сам затеять подобный разговор я не решался — не то чтобы робел, а как-то не ощущал в Петровых стремления к такой беседе.
Редакторская работа занимала в ее жизни заметное место. На титульных листах многих прекрасных книг, переведенных на русский язык, обозначено: «Перевод под редакцией Марии Петровых».
Аветик Исаакян и Саломея Нерис, Ованес Туманян и Юлиан Тувим, Маро Маркарян и Самуил Галкин… Перечень этот неполон.
О том, как много значил для Марии Сергеевны труд, вложенный в эти издания, свидетельствует ее восьмистишие, так и озаглавленное «Редактор». Эти две строфы звучат как оправдание суровой требовательности к себе и другим:
Такое дело: либо — либо…
Здесь ни подлогов, ни подмен…
И вряд ли скажут мне спасибо
За мой редакторский рентген.
Борюсь с карандашом в руке.
Пусть чья-то речь в живом движенье
Вдруг зазвучит без искаженья
На чужеродном языке.
Я как-то не припомню другого примера — некто из поэтов вроде бы о своей практике редактирования стихов не писал. Но, как всегда у Петровых, эти строки — чистейшая лирика, и сказано тут о куда более важных вещах, чем правка чьей-то рукописи.
«Здесь ни подлогов, ни подмен…», — это жизненный девиз.
…Бывает ведь и так. Наговоришься с кем-нибудь из своих знакомых, обсудишь все проблемы — глобальные, литературные, житейские, а потом ничегошеньки не остается ни в памяти, ни в душе.
Можно просидеть с человеком несколько часов, вежливо улыбаться, даже выслушать от собеседника приятные для себя вещи. Через день-другой удивляешься — на что потрачено время? Что общего у тебя с этим сладкоголосым, но равнодушным пустомелей?
И — наоборот, — при встрече почти ничего не сказано, а уходишь со счастливым сознанием взаимной приязни. Или увидишься с коллегой по чисто практическому поводу, проведешь с ним считанные минуты, от силы час, занимаясь, без лишних слов, только решением задачи, ради которой вы объединились на это короткое время. А расстаетесь вы радуясь тому, что все получилось как надо, что вы оказались единомышленниками, что непродолжительная, но успешная встреча сблизила вас. При этом никто никому не льстил, о высоких материях не рассуждали, о несогласии говорили прямо, зато в поисках истины понимали друг друга с полунамека.
После работы с Марией Сергеевной над рукописью я уходил с ощущением, что не только улучшился мой перевод, но я и сам стал чуточку лучше, потому что соприкоснулся с талантом и благожелательностью, с мастерством и бескорыстием. А возможно, и с дружбой, неразговорчивой, но крепнущей и надежной.
* * *
Я не только ни разу не читал Марии Сергеевне своих стихов, я и книжки свои дарить ей не решался, боясь проявить назойливость.
Но однажды, увидев меня на стыке Беговой и Хорошевского шоссе в районе коттеджей, где обитали тогда писатели, Петровых спросила:
— Уж не ко мне ли вы?
— Нет, Мария Сергеевна, иду к одному из ваших соседей. Разве я стал бы являться к вам без предупреждения?
Она улыбнулась:
— А я почему-то решила, что вы несете мне свой новый сборник. Я видела его у Звягинцевой.
— О, я бы с радостью! Но у меня не было уверенности в том, что вам это интересно…
Она очень серьезно поглядела на меня:
— Как я вас понимаю! Конечно, конечно… Так вот, знайте, я слежу не только за вашими переводами. Мне по душе то, что вы пишете сами. И я поздравляю вас с выходом книги.
Поцеловав протянутую мне руку, я поблагодарил Марию Сергеевну. Чем неожиданнее ободряющее слово, тем оно дороже. И, как легко догадаться, раскрыв портфель, я тут же вручил Петровых свой сборник.
6
В Москве в ту пору еще не было такого количества автоматических станций, как сейчас. Даже у живущих в центре не всегда имелись домашние телефоны.
С домом, где обитала Мария Сергеевна, связь была. В старой алфавитной книжке, сохранившейся у меня, я обнаружил тогдашние координаты Петровых. Звонить ей надо было через коммутатор Д. З. 00. 80, добавочный номер 5—29.
Некоторые столичные коммутаторы еще откликались не гудками, а живыми голосами телефонисток. И часто бывали заняты.
Сейчас и в другой город несложно дозвониться. А уж если твой знакомый живет неподалеку, по нынешним московским понятиям почти рядом, набрать нужные цифры и условиться о встрече — проще простого. Нет времени увидеться? Несколько поворотов диска, — и общайся заочно сколько твоей душе угодно.
Как бы там ни было, мы все реже и реже обращаемся к почтовой бумаге и конвертам, предпочитая современные средства связи. Особенно в пределах одного города.
Но, пожалуй, эпистолярный жанр стал угасать уже в те дни, о которых идет речь в моем рассказе.
От начала Хорошевского шоссе до станции метро «Аэропорт», близ которой я живу, — десять минут езды на трамвае. Дозвониться тоже было не так уж сложно. Вот почему я полагал, что, если Петровых, прочитав мою книжку, найдет нужным откликнуться, дело ограничится кратким телефонным звонком. Пусть поощрительным, но именно — кратким. Это подсказывал опыт нашего общения.
Однако Мария Сергеевна прислала мне содержательное письмо. Прочитав его, я испытал счастливое волнение. Не только потому, что был тронут лестным отзывом о моем сборнике. Оказалось, что не очень склонная к устным рассуждениям, Петровых, беря перо в руки, становится щедрым собеседником. Что старинный способ выражения мыслей с помощью почтовой переписки для нее более удобен и естествен. Что здесь-то и обнаруживается ее неприкосновенный запас дружеского тепла, сопереживания, умения радоваться даже скромной удаче товарища. Раздумывая о прочитанном, она делится с тобой своим пониманием задач поэзии, своим отношением к искусству стиха. Уясняешь, вникая в эти строки, что она исповедует, чего не приемлет.
Уж не помню, чем я ответил на это первое письмо — благодарственным звонком или тоже посланием. Но что-то в наших отношениях ощутимо изменилось. Стало само собой разумеющимся, что свои книги я теперь дарил Марии Сергеевне без напоминания. А она одаряла меня прекрасными страничками, написанными ее четким, летящим, почти мужским почерком. Опущенные в недальний почтовый ящик, они приходили ко мне на другой же день. И никакие телефонные беседы, даже самые продолжительные, не оставили бы такой след в душе, как эти городские письма. Самым «глубинным» пунктом отправления было Переделкино. Случилась и телеграмма из Голицына.
И каждая новая весточка открывала новые черты этого трудного и светлого характера. Как и стихи Марии Сергеевны, письма напрочь развеивали внешнее представление о ее замкнутости и отрешенности.
К таким посланиям можно возвращаться без конца. Перечитывая их, снова слышишь памятный голос.
Жаль, что мы утрачиваем вкус к переписке. Жаль, что в более молодые годы не всегда знаем ей цену, не все сохраняем. В моем архиве, увы, многого не хватает. Бережливость приходит с возрастом.
Боюсь, что не все письма Марии Сергеевны ко мне уцелели. Жизнь, становящаяся все суетнее, часто не оставляет времени на приведение в порядок бумаг. Откладываешь это занятие на старость, которая, как тебе кажется, наступит еще не скоро. Потом спохватываешься, а уже поздно, многое исчезло. Теплится надежда, что среди множества папок что-то ненароком обнаружится.
Все чаще думаешь о том, как много значили в твоей судьбе мудрые слова, содержавшиеся в посланиях друзей и наставников. Кстати сказать, газетные вырезки и журнальные страницы со статьями и рецензиями на твои книги, за редким исключением, не только желтеют от времени, но и устаревают по своей сути. И бесспорно, не идут ни в какое сравнение с письмами тех, кого глубоко чтишь, кто мил твоему сердцу. Да и умный читательский отклик нередко бывает существенней, чем торопливый отзыв рецензента-профессионала, промелькнувший в печати.
Порой не работается и досадуешь на себя. Ходишь обиженный на издателей, мысленно жалуешься на невнимание критики. И вдруг придет письмо от Антокольского или Зенкевича, от Ушакова или Сельвинского, от Первомайского или Кулешова — и все огорчения улетучиваются мгновенно.
В этом же ряду и несколько конвертов с обратным адресом — Москва А-284, Хорошевское шоссе, д. 8, корпус 2, кв. 11, М. Петровых.
«По правде сказать, мне грустно… что ни разу по-настоящему с вами не поговорила», — сетовала она в одном из своих писем.
В другой раз, после подробнейшего разбора моей книги, она сочла нужным с присущей ей скромностью сделать оговорку:
«Трудно писать о стихах дорогих и близких. Может быть, когда-нибудь сумею высказать свою благодарность членораздельно».
Я не считаю возможным приводить здесь те извлечения из ее писем, которые касаются моих публикаций, — Мария Сергеевна была чрезмерно добра ко мне, скорее всего я не заслужил и малой доли ее похвал. Единственное, в чем я уверен — в искренности ее щедрых слов. Она была не из тех, кто бесстрастно сочиняет одобрительные отписки, относясь к этому, словно к некоему соблюдению протокольных правил.
Сейчас, когда, к сожалению, и критические публикации довольно часто отдают комплиментарностью, устные отзывы собратьев по перу (письменных становится все меньше) тоже нередко сводятся к бездумному похлопыванию по плечу — мило и в то же время ни к чему не обязывает.
Что же касается писем Петровых, — не прибедняясь, но и не обольщаясь, — думаю, что мои скромные сочинения просто чем-то были ей близки по духу. Возможно, при ее чуткости она догадывалась о моем недовольстве собой, о моих тревогах и стремилась вселить в меня побольше уверенности. В конце концов, это были послания сугубо
личные, не рассчитанные на какой-либо резонанс. И уж чего-чего, а равнодушия в них не было!
И не скрою, сейчас, когда имя Петровых становится все притягательней, когда все больший круг читателей уясняет истинный масштаб ее таланта, я горжусь тем, что она приняла участие в моей судьбе. Я бесконечно признателен ей за это.
* * *
…И все же позволю себе процитировать несколько отрывочных фраз из этих писем, имеющих ценность независимо от того, кому они адресованы и чьими стихами вызваны.
Мария Сергеевна писала, что в поэзии все определяет «слово — окончательное, без ошибки найденное, но, что еще важнее, — значительность духовного мира, обаяние человеческого образа, который как бы вне строк, но возможен только между
этими строками».
Она ценила стихи, которые выполняют «самую высокую задачу — поэтическую и человеческую, — несут людям свет, дают силу жить, преодолевать страдание».
Наконец, ей была близка «пристальная внимательность сердца… мягкость интонации. Эта мягкость потому и привлекает, что она — проявление силы и устойчивости».
Все эти заповеди следует прежде всего отнести к ее собственному творчеству. Свято следуя им, она радовалась, слыша в строках другого поэта родственное звучание.
* * *
Одно извлечение из последнего письма Марин Сергеевны ко мне — оно датировано октябрем 1977 года — публикую более развернуто, потому что в нем Петровых обращается к своей памяти, а фразы, завершающие приводимый отрывок, высвечивают еще одну немаловажную черту ее личности.
В письме эти строки возникли в связи с прочтением моей поэмы «Коктебель, 1929». Опять же опускаю все относящееся к оценке этой вещи. Перехожу к тому, что существенно для читателей:
«Сперва просто обрадовалась: наконец-то нашелся человек, с которым можно поговорить о прежнем, волошинском Коктебеле. Но оказалось, Вы были там позже, в середине 30-х годов, уже без Волошина. Впрочем, в середине 30-х Коктебель, вероятно, почти не изменился. (Теперь, насколько я знаю, он совсем не тот. Понастроили модерновых корпусов, развели древонасаждения, и в „бархатный сезон“ там царит литературная „элита“.) При Волошине Коктебель был скромным и пустынным. Ничего там не росло, кроме полыни и колючего кустарника на Святой горе.
Я провела в Коктебеле лето 30-го года. Жила в поселке. Убитый впоследствии на фронте поэт Александр Миних познакомил меня с Волошиным в то лето. По просьбе Волошина я читала ему мои стихи. Он отнесся к ним хорошо.
Больше я в Коктебеле никогда не была. После 32-го года поняла, что и не хочу туда, хочу сохранить воспоминание. Это иногда дороже сегодняшнести».
Прежде всего обращаешь внимание на свидетельство Петровых о знакомстве с Волошиным, о том, что она читала маститому киммерийцу свои ранние стихи. Примечаешь оговорку: «По просьбе Волошина…» Ну да, конечно, сама бы она не посмела это предложить. Как принял ее строки Максимилиан Александрович? Об этом сказано предельно скромно: «Он отнесся к ним хорошо». Здесь, как и во всем, что касается ее собственных творений, Петровых немногословна.
Начинаешь по-новому осмысливать стихи, написанные ею в то лето, или вскоре после встречи с Волошиным. Перечитываешь строки, в которых опять возникает суровый лик тогдашнего Коктебеля:
И только ветер здесь неукротим:
Повсюду рыщет да чего-то ищет…
Лишь море может сговориться с ним
На языке глубоковерстой тьмищи.
Здесь очевиднее и свет и мрак
И то, что спор их вечный не напрасен.
Расколотый на скалы Карадаг
Все так же неразгаданно прекрасен.
В стихотворении «Акварели Волошина» снова запечатлено навеки покорившее душу, овеянное спором стихий полупустынное побережье. Суровый ландшафт, сливающийся с образом открывателя и певца этих мест, посвятившего Коктебелю себя и свое искусство.
О как молодо водам под кистью твоей,
Как прохладно луне под спокойной рукой!..
Осиянный серебряной сенью кудрей,
Возникал в акварелях бессмертный покой.
…Я б забыла свой облик за блик на песке…
[7]
«Больше я в Коктебеле никогда не была…» Вслушаемся в это признание. Вдумаемся в это решение, принятое Петровых бесповоротно. Здесь не только юношеский максимализм, проходящий с возрастом. В этом поступке — цельность натуры, проявившаяся уже тогда.
А сейчас нам очень легко понять Марию Сергеевну, ее необоримое стремление сохранить в душе свет счастливых летних дней тридцатого года, верность
тому Коктебелю. Той памяти, которая порой дороже сегодняшнести. Все, что может заслонить остроту единственно важного впечатления, исказить последующими переменами самую суть пережитого, — прочь из сознания!
Вот такой характер!
7
В самом конце 1968 года в жизни Петровых произошло знаменательное событие. Усилиями друзей в Ереване вышел томик, где впервые, пусть далеко не полно, были представлены ее оригинальные стихи и переводы с армянского.
Книга эта называлась «Дальнее дерево». Сейчас ереванское издание —
раритет, которым обладают немногие. Выпущенное малым тиражом, оно, однако, стало известно любителям поэзии, о нем
прошел слух.
К тому времени я уже хорошо знал почти все написанное Петровых и тем не менее, прочитав книгу, подаренную мне Марией Сергеевной, понял, что разрозненные стихи, собранные вместе, подкрепленные поэтическими переложениями, обретают иное звучание. Воссоздается единство художнического облика.
Какой-то мудрый человек сказал, что есть поэты, о которых много пишут, но мало говорят. Есть и другие — о них пишут мало или не пишут совсем, а говорят много.
Видимо, это — свойство истинного искусства — «существует и ни в зуб ногой…»
И все же
говорят знатоки и ценители. А хочется приобщить к разговору более широкую аудиторию. Пусть не всем достанется книга, надо хотя бы рассказать о ней, вызвать у читателей интерес к имени, заслуживающему признания.
Движимый этим стремлением, я тут же взялся за перо и написал статью о «Дальнем дереве». Она увидела свет не сразу, зато на страницах «Нового мира» — издания читаемого и почитаемого. Журнальных страниц, правда, отведено было немного — около четырех. Статья — это, пожалуй, тоже громко сказано, скорее — рецензия.
С тех пор прошло много времени. Я раскрыл старый номер журнала, перечитал написанное мной. И мне подумалось, что с некоторыми сокращениями (дабы избежать повторов) эту рецензию стоит включить в мои нынешние страницы. В качестве ретроспективной главы. Давняя попытка бросить общий взгляд на работу Марии Петровых, возможно, кое-что прибавит к сказанному сегодня.
Вот эти фрагменты:
«В литературной периодике сейчас можно найти немало высказываний об искусстве перевода. Размышляют, спорят, анализируют.
Одну из недавних дискуссий озаглавили: „Перевод поэзии и поэзия перевода“. Среди обсуждавшихся вопросов был и такой: как совмещается с оригинальным творчеством труд переводчика?
…В работе истинного художника все первостепенно. Строки, взыскательно отобранные для переложения, так же близки ему, как свои собственные.
Свидетельств предостаточно. Их можно найти у Маршака и Заболоцкого. У Исаковского и Мартынова. У Антокольского и Ушакова. У Ахматовой, чья поздняя лирика столь же естественно сливалась с первоклассным переводческим творчеством.
…Но судьбы поэтов различны. Счастливое родство между стихами и переводами развивается тоже по-разному. Чаще на виду у всех. Но порою и подспудно.
Некоторое время тому назад читатели и критики в потоке поэтических новинок сразу же, безошибочно и убежденно, выделили несколько книг. Это были первые книги. Однако на обложках значились имена широко известные. Потому что авторами оказались мастера перевода, давно завоевавшие высокую репутацию, но со своими стихами либо вовсе не выступавшие, либо выступавшие чрезвычайно редко.
…Об этой плеяде много писали. Поздний ее взлет — явление, на мой взгляд, примечательное. Оно лишний раз заставляет задуматься о многообразии и взаимосвязанности путей в искусстве.
Долгие годы, посвященные переводческой работе, которая отвергает спешку, тщеславие, корысть, но требует полной самоотдачи, были для названных поэтов и годами внутреннего поиска, постепенного самопознания и накопления.
Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Нам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон.
Я думаю о тех, которым
Раздоры ль вечные с собой
Иль нелюбовь к признаньям скорым
Мешали овладеть судьбой.
Строки эти принадлежат Марии Петровых. В них, разумеется, нет и малейшего укора мастерам, по праву завоевавшим раннюю и непреходящую славу. В то же время здесь говорится с искренностью, поистине исповедальной, о неторопливом восхождении других судеб. Оно возникло, это стихотворение, еще в годы войны, но под ним и сегодня могли бы подписаться поэты, пришедшие тем же нескорым путем к признанию.
Знаменательно, что именно этим раздумьем открывается первая книга Петровых „Дальнее дерево“, вышедшая в свет совсем недавно. Путь автора к этой книге тоже был долгим и трудным. За три десятилетия переводческой деятельности, подаривших нам прекрасные строки армянских, литовских, кабардинских, польских поэтов, Петровых опубликовала, пожалуй, не более десятка своих стихотворений. Взыскательность эта может показаться чрезмерной. Зато напечатанное запомнилось, а об одном из стихотворений — „Назначь мне свиданье на этом свете“ — Анна Ахматова отозвалась, как о „шедевре лирики последних лет“.
И вот перед нами томик Марии Петровых, составленный с той же суровой тщательностью. Он весьма невелик по объему, зато в нем трудно найти что-либо случайное. Неслучайно и то, что книга издана в Армении. Судьба поэта давно и прочно связана с этой республикой. И, как бы подчеркивая эту многолетнюю привязанность, оригинальная лирика соседствует с избранными переложениями армянской поэзии, а портрет Марии Петровых, принадлежащий кисти Сарьяна и воспроизведенный в книге, свидетельствует о том, как высоко ценят в Армении эту дружбу.
Мы уже знаем, насколько плодотворна такая взаимная привязанность, какие открытия она сулит художнику, как сказывается на его собственном творчестве. Она вызывает и прямые ассоциации. Вспомним стихи Заболоцкого и Пастернака о Грузии или строки, обращенные Маршаком к родине Бернса. А сколько написано об Армении мастерами, влюбленными в эту землю и ее поэзию.
Мария Петровых выражает эту любовь по-своему.
На свете лишь одна Армения,
Она у каждого — своя.
От робости, от неумения
Ее не воспевала я.
И правда, земле, которая пленила поэта, посвящены считанные строки. Причем эти редкие признания в любви застенчивы, в них ощущается боязнь излишне громкими выражениями снизить большое чувство.
Вот Армения, увиденная впервые:
Осень сорок четвертого года.
День за днем убывающий зной.
Ереванская синь небосвода
Затуманена дымкой сквозной.
Сокровенной счастливою тайной
Для меня эта осень жива.
Не случайно, о нет, не случайно
Я с трудом поднимаю слова, —
Будто воду из глуби колодца,
Чтоб увидеть сквозь годы утрат
Допотопное небо Звартноца,
Обнимающее Арарат.
Затрудненный поиск единственных насущных слов, как бы поднятых со дна колодца, тоже не случайность. Это свойство таланта, во многом определяющее тональность поэзии Петровых. Риторика, суесловие, наигранность не для нее. Темперамент ее обычно подспуден.
Но Армения, даже не будучи названной, неизменно присутствует в книге. И не только в цикле переводов, о котором речь еще впереди. Южное солнце, облучающее каменистые поля и дома из розового туфа, как бы разлито по этим страницам. Оно может вдруг празднично вспыхнуть в описании русской осени, когда, по-сарьяновски озарив облетающие ветви, „семицветное светило рдеет листьями в лесу“. Его отблеск ощущается в стихотворении „Назначь мне свиданье…“, в котором упомянуты улочки южного города, окруженного взгорьями, „где нам отвечали с акцентом нерусским…“ Лирическое действие, судя по всему, происходит в другой географической точке, но и тут невольно проступают черты Армении.
Вот мы и подошли к стихотворению, которое уже упоминалось выше, — оно заслуживает особого разговора.
Назначь мне свиданье
на этом свете,
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье,
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!
Не часто у Петровых прорывается такое заклинание. Но уж коль оно прозвучало, вы верите ему безраздельно. И потому что до этого во многих строках книги, произнесенных вполголоса, накапливался сильный, скрытый до поры заряд, вы подготовлены к этому взрыву.
Хотя бы в последний мой смертный час
Назначь мне свиданье у синих глаз.
То же свойство характера обнаруживаешь и в цикле ранних стихов Петровых и особенно в лирике военных лет. Даже в пору утрат и бед, когда любовь, боль, ярость рвались наружу, патетические строки редко выходили из-под этого пера. Но в том-то и дело, что горькие или радостные слова, произнесенные негромко, порой заставляют сжиматься сердце сильнее, чем вскрик.
„Мы начинали без заглавий“, „Севастополь“, „Город Чистополь на Каме“ полны этой выношенной полузатаенной страсти. Когда в стихах „Апрель 1942 года“ читаешь:
Скворцы звенят наперебой,
И млеет воздух голубой,
И если б только не война,
Теперь была б весна… —
горестное спокойствие и пронзительная простота этих строк впечатляют необыкновенно».
Приведя строки из стихотворения «Ночь на 6 августа», я продолжал:
«Это написано по свежим следам события. Сейчас, утратив злободневность, стихи сохранили самое важное — непосредственность чувств, естественность слов, добытых из самой трудной глубины. Запечатлев тогдашнее восприятие, а значит, и тогдашнее время, стихи оказались и сегодня абсолютно современными.
А уж когда скромность выражения сменяется патетикой, когда Петровых возвышает голос („Проснемся, уснем ли — война, война…“, „Я думала, что ненависть — огонь…“), когда она дает волю скорби или восхищению, это звучит предельно искренне.
…Как уже сказано, в сборник включены переложения с армянского.
Стихи и переводы в „Дальнем дереве“ поистине — ветви одного ствола, они питаются одними соками. Петровых обращается к поэтам очень разным, воспроизводит стихи, написанные в разное время. Стремится при этом сохранить самобытность каждого мастера. И в то же время во всем остается верной себе, отбирает для воспроизведения лишь то, что творчески ей близко. Поэтому строфы Аветика Исаакяна, фрагменты драматической поэмы „Ара Прекрасный“, принадлежащей перу Наири Зарьяна, лирические миниатюры Рачии Ованесяна составляют одно целоес первой половиной книги.
И все же лучше всего в переводах Петровых звучат стихи Маро Маркарян и Сильвы Капутикян. Здесь ощущаешь полное родство.
Пишешь — и не то, не то, не то!
Где оно — сердечное горенье?
Жар души не сможешь ни за что
Весь как есть отдать в стихотворенье.
Разве искорки блеснут с листа.
Пробегая где-то между строчек,
Песня, даже лучшая, — и та
Вдохновенья робкий переводчик.
Это строки Маркарян. Но так могла бы сказать и сама Петровых. Это — продолжение ее лирики.
Прав Левон Мкртчян, написавший предисловие к „Дальнему дереву“, когда замечает, что, переводя стихи армянских подруг, Петровых, „возможно, думала и о своей жизни“.
…Дочитав „Дальнее дерево“, радуешься тому, что к плеяде переводчиков, издавших первые книги своих стихов, прибавилось еще одно достойное имя».
8
Я долго раздумывал над названием рецензии, наконец нашел — «Ветви одного ствола». Видимо, оно оказалось удачным, потому что впоследствии было продублировано разными авторами, тоже писавшими о единстве оригинального и переводческого творчества. Однако я решил сохранить для нынешнего повествования именно это заглавие. Все же оно придумано мной. И по-прежнему соответствует размышлениям о Марии Петровых.
Когда вышел номер «Нового мира», Мария Сергеевна изменила своему обычаю — откликнулась не письменно, а воспользовалась телефоном. Хотя почта доставляется в городских пределах довольно быстро, сказала она, ей не хочется даже на одну минуту откладывать слова признательности.
Ее волнение можно было понять — даже при полном отсутствии тщеславия приятно услышать о себе доброе слово. Да еще опубликованное. И, кстати сказать, неожиданное. Зная превратности журнального дела, я держал в секрете от Марии Сергеевны и написание рецензии, и то, что она готовится к печати. Мало ли что могло произойти, а зря обнадеживать и невольно травмировать Петровых я не хотел.
К счастью, все кончилось хорошо. По голосу Марии Сергеевны я понял, что мне удалось, хоть и ненадолго, по-настоящему обрадовать ее. (Долго предаваться положительным эмоциям она не умела.)
То, что Петровых прибегла не к услугам почты, а к телефону, было благом. Незамедлительность ее реакции в те дни для меня много значила. Дело в том, что ее звонок свидетельствовал об окончании одного весьма досадного недоразумения.
Да, да, так случилось, что мне перед этим здорово влетело от Марии Сергеевны. Впервые за все годы знакомства. И, кажется, по заслугам.
У этого грустного эпизода есть своя предыстория. И нужно сначала обратиться к ней, чтобы лучше понять происшедшее.
* * *
Звягинцева, которая была намного старше Петровых, к тому времени сильно сдала. Зрение ее катастрофически слабело, да и здоровье резко пошатнулось. Вера Клавдиевна тяжело переживала этот возрастной спад. Ее динамическая натура никак не могла смириться с физической слабостью, с тем, что невозможными стали не только дальние путешествия, к которым она привыкла, но даже ее передвижения по Москве. Ограничилась возможность встречаться с друзьями, участвовать в литературных вечерах, наконец, самой заниматься своими издательскими делами.
Между тем за рабочим столом она была по-прежнему активна. В периодике появлялись новые подборки ее стихов. Уже накопилась новая книга лирики. Но на то, чтобы собрать все воедино, подготовить и сдать рукопись, а главное, вести переговоры о выпуске книги — на это сил уже не хватало.
Я предложил Вере Клавдиевне помощь. У меня были вырезки ее последних публикаций. Она передала мне стихи, еще не увидевшие света. После перепечатки на машинке мы занялись составлением. Композиция книги была уже продумана автором. Звягинцева нуждалась лишь в совете, в дружеском взгляде со стороны. Листы будущей рукописи мы раскладывали для простора не на письменном, а на обеденном столе. Вера Клавдиевна, смеясь, называла это
пасьянсом.
Когда рукопись была готова, я принес ее в издательство «Советский писатель», причем, в нарушение правил, с готовым так называемым
внутренним отзывом. Обычно соответствующая редакция сама заказывает такой отзыв на поступившую рукопись, сама выбирает и рецензента. Однако я дерзнул (о, как это просто, когда дело касается других!) и приложил к рукописи несколько страничек со своей оценкой, мотивируя это своеволие необходимостью ускорить дело издания. И возраст и здоровье автора побуждали к этому. Надо отдать должное издателям — они поняли ситуацию и повели себя должным образом. Книга «Исповедь» вышла из печати очень быстро, хотя из-за ускоренного продвижения была оформлена чрезвычайно скромно.
* * *
…Так вот, окрыленный этим успехом, я решил предложить свою помощь и Марии Сергеевне. Я уже знал, что написанное мной о «Дальнем дереве» через некоторое время появится в печати. По моему разумению, такая публикация должна была способствовать изданию нового сборника Петровых, на сей раз в Москве. О готовящейся рецензии я продолжал умалчивать — дабы не сглазить. Но козырь этот имел в виду. И при встрече с Марией Сергеевной сказал довольно решительно:
— «Дальнее дерево» — это прекрасно. Но в книгу вошла лишь часть вашей лирики. Соберите все остальное и составьте рукопись для «Советского писателя». А чтобы избавить вас от хождения в издательство, я сам отнесу туда книгу, сам буду следить за ее продвижением.
Мне следовало бы помнить, как в начале нашего знакомства задел Марию Сергеевну мой вопрос — отчего она почти не печатает свою лирику? Но времени с тех пор прошло много, а легкость, с какой была принята книга Звягинцевой, притупила это воспоминание.
Петровых, выслушав меня, сперва удивилась. Потом рассердилась. Возможно, ей не понравилась категоричность моего тона.
— Запомните, — резко ответила она, — в благодеяниях я не нуждаюсь. Одно дело Вера — она больна и беспомощна. Вы совершили для нее доброе и нужное дело. Спасибо вам за это! Но при чем здесь я? Зрение мое в порядке, ноги ходят. И пожалуйста, никогда больше не возвращайтесь к этому разговору. Ни-ког-да! И поймите, если я никому не навязываю свои рукописи, значит, у меня есть на то взвешенные причины.
О причинах я догадывался. Сама она была редактором взыскательным, но тонким и справедливым. И воинственным, когда надо было отстаивать перед издательством чужие строки, выверенные и одобренные ею. Но она решительно не умела постоять за себя. Обивать пороги начальства, продвигая свой сборник, считала унизительным. Страшилась быть
редактируемой. Опасалась, что чья-то воля будет вторгаться в ее выношенные строки. Что ей придется испытать угнетающее влияние постороннего вкуса. Или того хуже — столкнуться с непониманием, с перестраховкой…
Кому-то эти страхи могут показаться преувеличенными, даже странными. Что это — неуверенность в себе? Послушаем поэта. Если неуверенность, то высшего свойства.
Страшно тебе довериться, слово,
Страшно, а должно…
В своей статье, посвященной Владимиру Державину, который, будучи знаменитым мастером перевода, много лет не публиковал собственных стихов, Антокольский назвал скромность этого поэта
исступленной.
Не знаю, какой уж тогда эпитет можно подобрать к скромности Петровых? К скромности, которая была равна ее гордости.
Впрочем, гордости ли? Верно ли найдено определение? Несколько подчеркнутая независимость — это ведь скорее средство самозащиты, избранное Марией Сергеевной. А защищалось трепетное отношение к своему слову, к своему праву на внимание читателя. И в то же время — неприятие эгоцентризма, спешки, излишней деловитости. Об этом тоже сказано с исчерпывающей ясностью:
Всё про себя: судьба, судьбе,
Судьбы, судьбою…
Нет, вы забудьте о себе,
Чтоб стать собою.
Здесь можно лишь добавить — не только стать, но и
остаться собою.
* * *
Получив от Марии Сергеевны взбучку, я растерялся. Мне бы извиниться, мягко перевести разговор на другую тему. А я почему-то обиделся. Распрощались мы весьма холодно. И долго не виделись.
Спасительный звонок Петровых по поводу «новомирского» отклика на «Дальнее дерево» все поставил снова на свое место.
…Сейчас, вспоминая об этом, я думаю: ну почему, почему у издателей наших нет правила в каких-то особых случаях
самим обращаться к литераторам — не титулованным, но явно талантливым, не напоминающим о себе, но заслуживающим того, чтобы о них помнили? Много ли мы знаем примеров, когда кто-либо из людей, ведающих выпуском книг, позвонил несуетному мастеру со словами: «Не слишком ли вы скромничаете? Нам хотелось бы издать ваши произведения. Хорошо бы получить для прочтения рукопись»?
Утопия! Крылатые строки: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами» — охотно цитируются, но стимулом к действию, судя по всему, так и не стали.
А истинный художник раним. И обладает повышенным чувством собственного достоинства. Если он стар, у него хватает сил только на
главную свою работу. Если он еще крепок и полон замыслов, участвовать в литературной толкотне ему попросту некогда. А посредничество, даже дружеское, ему, естественно, претит.
Теперь-то я понимаю, почему так распекла меня Мария Сергеевна. Своим предложением я невольно разбередил боль, которую она сама тщательно в себе заглушала. Ну и попал под горячую руку…
А в общем тут есть над чем поломать голову всем и каждому.
* * *
Первым, кто рассказал мне о Марии Петровых, был, как вы помните, Рачия Кочар. (Увы, его тоже давно нет среди нас.) Первые строки Марии Сергеевны, услышанные мною в ту фронтовую ночь, были о соловье, который, хоть и прячется от нашего взора, «невольной полон власти».
Петровых сама была при жизни певцом, почти незримым, но обладающим невольной властью над всеми, до кого доходил этот голос.
Сравнение принадлежит не мне. Оно взято из стихотворения, тоже посвященного соловью. Только соловью, укрывшемуся в житейской чаще, как в гуще леса.
…Лишь серебряный голос так страстно,
Так печально, так нежно поет,
Что берет тебя за сердце властно
И уводит из мира забот.
Покажись, безымянное чудо,
Что ты там притаилась одна?
Ты откуда такая, откуда,
Что и слава тебе не нужна?!
…Но поет и поет невидимка,
Не найти ее в частых кустах.
Лишь дрожит паутинная дымка
На рябиновых тонких ветвях.
Это — строки Веры Звягинцевой из ее книги «Вечерний день». Над стихотворением — зашифрованное посвящение «М. П.». Шифр нам понятен. Вероятно, Звягинцева не решилась полностью раскрыть имя, зная характер адресата. А возможно, ограничилась инициалами именно по настоянию своей подруги.
9
…В день, когда я дописываю эти страницы, на моем столе среди бумаг — удивительное совпадение! — оказался только что вышедший в Москве сборник стихотворений Петровых. Этот свод ее лирики все еще неполон, однако достаточно представителен.
Томик издан изящно. На черном фоне обложки проступает портрет автора. Лицо освещено так, что глаза слегка затенены, а ореол волос кажется прозрачным. Губы чуть тронуты улыбкой. Прекрасно это сочетание густой тени и нежного света. Почему-то вспоминаются строки Заболоцкого: «Ее глаза как два тумана, полуулыбка, полуплач… Соединенье двух загадок, полувосторг, полуиспуг…»
Будучи уже зрелым поэтом, но, как это свойственно подлинным художникам, продолжая поиски, испытывая сомнения, Петровых писала в какую-то, видимо очень трудную, минуту:
Конец, конец всему —
Надеждам и мученью.
Я так и не пойму
Свое предназначенье.
Составители Н. Глен и А. Головачева озаглавили посмертную книгу Марии Сергеевны кратко и точно —
«Предназначенье». Да, именно так! Иного слова, пожалуй, тут и не подберешь. Время отвечает на все вопросы. В том числе и на тот, который мучительно задавала себе Мария Петровых. То, что было ей предназначено судьбой,
состоялось. Книга, как и все наследие замечательного поэта, — достойное подтверждение этой истины, отныне бесспорной.
Перечитываю не отрываясь. Почти все знаю — читал если не в периодике, то в списках. Слышал в чтении друзей, а порой в исполнении самой Марии Сергеевны. И все познаю заново. Какая чистота звучания, какая открытость чувства таится в этих негромких, лишь изредка взрывающихся строфах! Как естественно слиты страдание и необоримость, сила и слабость, твердость и доброта! И какая это подлинная поэзия, встречающаяся, к сожалению, а может, к счастью, достаточно редко.
Арсений Тарковский в своем предисловии пишет: «Мне кажется, она знала себе цену втайне: ее стихами восхищались такие поэты, как Пастернак, Мандельштам, Антокольский. Ахматова утверждала: одно из лучших русских лирических стихотворений („Назначь мне свиданье на этом свете“) написано Марией Петровых».
К этому я могу присовокупить свое личное свидетельство — о творчестве Марии Сергеевны при мне высоко отзывались такие разные художники, как Фадеев и Заболоцкий, Ушаков и Маршак.
Еще раз вспомним, что ее запечатлел своей кистью Сарьян.
Конечно же, Мария Сергеевна не оставалась равнодушной к этим знакам внимания. Другое дело, что ей и в голову не могло прийти воспользоваться столь щедрыми оценками в каких-либо своих литературных или просто житейских интересах. Но, уж конечно, такая духовная поддержка придавала силы ей, находившей счастье не в публичном самоутверждении, а в самом творчестве. Размышляя о будущем, она, как бы оправдывая свое внешнее безмолвие, свое твердое отрицание тщеславного мельтешения, оставила нам строки пусть относящиеся не только к себе, но озаглавленные весьма определенно — «Завещание».
…И вы уж мне поверьте,
Что жизнь у нас одна,
А слава после смерти
Лишь сильным суждена.
Не та пустая слава
Газетного листка,
А сладостное право
Опережать века.
Значит, она все-таки размышляла об этом сладостном праве. Значит, хотелось ей верить в долговечность того, что вышло из-под ее неторопливого пера. Не зря ведь повторяла она в другом стихотворении:
Вообрази — тебя уж нет,
Как бы и вовсе не бывало,
Но светится твой тайный след
В иных сердцах. Иль это мало —
В живых сердцах оставить свет?
А разве не о том же говорят строки, взывающие к друзьям:
Одно мне хочется сказать поэтам:
Умейте домолчаться до стихов.
Домолчаться до стихов! Это она умела в совершенстве. Такое умение пришло к ней уже в начальную пору творчества. В стихотворении «Звезда», которое помечено 1927 годом, звучит робкая надежда:
Когда настанет мой черед,
И кровь зеленая замрет,
И затуманятся лучи —
Я прочеркну себя в ночи.
…И не услышу ни толчков,
Ни человечьих страшных слов.
(А утром скажут про меня:
— Откуда эта головня?)
Но может быть еще одно
(О, если б это суждено!):
Дрожать, сиять и петь всегда
Тебя, тебя, моя звезда!
Конечно, были и горестные сомнения:
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости —
Поначалу от робости,
А позднее от старости.
Это написано на исходе шестого десятка. Невеселые строки. Их можно понять. Но сегодня, отойдя на расстояние, мы полнее и точнее постигаем истинную цену того, что нам даровано поэтом. Все было в лирике Петровых — и кротость и ярость.
Своя кротость. И ярость
своя. Незаемные чувства, неповторимые страсти.
Ни робость, ни старость не могут стать помехой исповедальному таланту.
* * *
Долгожданная московская книга издана. Она в течение дня стала библиографической редкостью. Приобрести ее было невозможно. Я оказался удачливым обладателем сборника лишь благодаря дочери Петровых — Арина Витальевна прислала мне экземпляр.
…Недавно среди моих бумаг вдруг обнаружились машинописные страницы давней «новомирской» рецензии. В журнале она появилась в несколько урезанном виде. В частности, выпали завершающие строки, в которых я тогда сетовал на то, что «Дальнее дерево» — издание практически недоступное для широкого читателя: «Тираж 5000 огорчает. За пределами Армении книгу почти никто не увидит». А в следующей фразе высказывалась все та же наболевшая мысль: «Московские издатели, которые, в отличие от ереванских, не догадались в свое время предложить Петровых выпустить книгу, могут исправить свой промах, опубликовав дополненное издание ее лирики».
Возымели бы действие эти строки, появись они тогда в журнале? Не знаю, не знаю… Во всяком случае понадобилось долгих пятнадцать лет, чтобы исправить промах!
Тираж московской книги — 20000. Сейчас и он непомерно мал. Многие ли обретут книгу «Предназначенье» за пределами Москвы? Хочется верить, что для выхода дополненного переиздания, включающего также избранные переводы Петровых, понадобятся более короткие сроки.
Михаил Булгаков говорил: «Рукописи не горят». Николай Ушаков утверждал: «Чем продолжительней молчанье, тем удивительнее речь». Утешительные изречения. Неоспоримые афоризмы. То, что написано
надолго, всегда ко времени.
Не будем искать виноватых. Но вспомним и слова Александра Твардовского, напоминающие горестный вздох. Они написаны по другому, очень трагическому поводу. Однако в наших раздумьях прозвучат уместно:
Но все же, все же, все же…
Наконец, повторим строки самой Марин Петровых:
А слава после смерти
Лишь сильным суждена.
Екатерина Петровых. Мои воспоминания
Когда-то я прочла у Анны Андреевны Ахматовой о том, как надо писать воспоминания: «Если говорить о мемуарах вообще, то, по-моему, как-то неверно их пишут. Сплошным потоком. Последовательно. А память вовсе не идет так последовательно. Это неестественно. Время — прожектор. Оно выхватывает из тьмы памяти то один кусок, то другой. Так и надо писать. Так достоверней. Правды больше. А то ведь как выходит — надо по заданию себе писать связно, последовательно, а материал выпал, не помнится все в связи. И начинает человек сочинять недостающее, выдумывать. И правда уходит».
Мои детские воспоминания и «яркие куски, выхваченные из тьмы памяти», расположенные по возможности в хронологическом порядке, дадут, как мне кажется, представление об обстановке, в которой жила наша семья, о детстве и личности маленькой Маруси.
Начну их с описания местности и природы, где жили наши родители и где появились на свет Мария Сергеевна и ее старшие братья и сестры.
Наш отец, Сергей Алексеевич Петровых, инженер-технолог, более четверти века работал на хлопчатобумажной фабрике «Товарищества Норской Мануфактуры». По окончании Петербургского технологического института он приехал на фабрику и через несколько лет (в 1896 г.) женился на Фаине Александровне Смирновой, нашей матери.
Фабрика стояла на крутом берегу Волги в двенадцати километрах выше Ярославля. Рядом с фабрикой на холмах раскинулся Норский посад, похожий скорее на маленький провинциальный городок. Название свое он получил от речки Норы, впадавшей в его пределах в Волгу.
С представлением о промышленных предприятиях того времени связывались некрасивые унылые здания, грязь, железный лом, промышленные отходы, жалкие жилые постройки. Норская была в этом отношении счастливым исключением. И недаром А. В. Луначарский, приезжавший в Ярославль в 1918 году, назвал ее, законсервированную из-за отсутствия топлива, «спящей красавицей», которую рабочий класс должен пробудить к жизни (это я слышала сама).
Сообщение Норской с городом летом было очень приятным — на курсирующих несколько раз в день небольших пароходах, так называемых «дачниках» или «пчёлках», а круглый год — на лошадях по «большой дороге», обсаженной в четыре ряда старыми екатерининскими березами, о которых упоминала Маруся в своем стихотворении «Сказка», посвященном мне.
…от заставы Ярославской
До Норской фабрики, до нас, —
Двенадцать верст морозной сказкой
Под звездным небом в поздний час…
… … … … … … … … … … … … … …
Пустырь кругом, строенья редки.
Темнее ночь, сильней мороз.
Чуть светятся седые ветки
Екатерининских берез.
На воротах фабрики красовался медведь с секирой на плече — герб Ярославской губернии. Легенду о происхождении этого герба мы, разумеется, знали с ранних лет. В центре фабричного двора — большая роща. По краю высокой набережной Волги росли березы, сосны, липы, кустарник. К югу и западу тянулись леса, поля, перелески. А на восток далеко-далеко простиралось прекрасное Заволжье с редкими селеньями.
Близость реки делала воздух на фабрике настолько чистым (несмотря на постоянно дымившую высокую трубу), что зимою прачка расстилала простыни в огороде на снегу, чтобы они побелели.
Территорию Норской пересекали два глубоких, густо заросших оврага с безымянными ручьями. Летом они оглашались многоголосьем различных птиц, а пенье соловьев вызывало у нас какой-то особый, восторженный трепет. Может быть, это глубокое детское впечатление отразилось в Марусином стихотворении «Соловей».
Там, где хвои да листвы
Изобилие слепое, —
Соловей плескал во рвы
Серебром… От перепоя
Папоротник изнемог,
Он к земле приник, дрожащий…
Зря крадется ветерок
В разгремевшиеся чащи…
Почти рядом с оврагом стоял дом, в котором жила наша семья. Помню рассказы старших о том, что он построен из дерева какой-то особенно прочной породы. Снаружи здание было обшито тесом, окрашенным в блеклый серовато-зеленый цвет. По стенам вокруг рос тщательно ухоженный кустарник — таволга с кисточками мелких белых цветов. В саду, окружавшем дом, росли два огромных кедра, а также клены, березы, липы, где мы искали и находили грибы. Решетчатый забор сада прикрывали акация и жасмин. Огромный куст лиловой сирени возвышался над треугольной клумбой с чудесными розами. Наш дом и сад описаны в Марусином стихотворении «Сон».
Сколько разнообразных впечатлений доставляла нам могучая красавица Волга, до которой от нижней калитки нашего сада было не больше пяти минут ходьбы. От ледохода до ледостава мы едва ли не каждый день ходили на ее высокий берег, поросший деревьями и кустарником.
Наверное, тот кто читает эти страницы, удивляется, как часто я,
вспоминая о фабрике, говорю о красоте окружавшей нас природы. А между тем это так и было. Сама фабрика представляла собой замкнутый огромный кирпичный квадрат (с двумя въездами под вторыми этажами во внутренний двор) и как бы брала сама себя в «скобки». Рядом же была величавая Волга с крутыми зелеными берегами, аллеи, несколько рощ. Сразу же за забором, окружавшим фабрику, были прелестные березовые рощи, темный еловый лес, журчали ручьи…
Наша семья состояла из семи человек («семь я», — говаривал иногда в шутку папа): отец, мать, затем в порядке старшинства: Елена, Николай, Владимир, Екатерина, Мария.
Хотя нас, детей, было пятеро, мы отчетливо распадались на три группы: у старшей, Лели, был отдельный мир с неодобряемой отцом писательницей Чарской, с темно-синим бархатным альбомом, который заполняли подруги-гимназистки, туда же записывались понравившиеся ей стихи современных поэтов. У братьев была своя, мальчишеская, жизнь. На нас они посматривали свысока, как на мелюзгу, и крайне редко принимали в свои игры.
Зимой старшие дети уезжали учиться в Ярославль — Леля в частную гимназию Корсунской, братья — в реальное училище. Мы с Марусей, так же как и летом, много гуляли, катались на санках с горы, ходили на так называемых охотничьих лыжах, копались в снегу, строили крепости, а в оттепель лепили снежных баб. Но все это было, когда Маруся ушла из-под опеки няни. По субботам за сестрой и братьями посылали лошадей. Их приезд вносил всегда радостное оживление в нашу семью.
Таким был в те годы распорядок нашей жизни, изредка нарушаемый достаточно скромно отмечавшимися семейными праздниками (дни именин и рождений) и очень торжественно — рождеством и пасхой.
Во времена нашего детства да и позднее я не припоминаю разговоров старших о том, когда, то есть в каком возрасте формируется человек. Теперь это стало предметом пристального изучения психологов, педагогов, врачей-педиатров. Высказывается мнение, что индивидуальность ребенка складывается к пяти годам. Меня же всегда удивляло, что черты, ставшие впоследствии основными в характере Маруси, появились у нее много раньше.
День появления Маруси на свет (13.03.08 ст. ст.) помню, как будто это было совсем недавно. Утром в нашу детскую вошла фрейлейн Ида со словами: «Кто хочет посмотреть на маленькую сестричку, — идите в столовую». Старших — сестру и братьев — не надо было торопить; через несколько минут они были готовы и выбежали из комнаты. А я тщетно искала свои ночные туфли (как сейчас помню, светло-серые с меховыми помпонами) и отчаянно рыдала: «Фрейлейн Ида! Во зинд майне пантоффельн? Во зинд майне пантоффельн?!» Ида посмотрела под кроватку и тоже не обнаружила туфель. Тогда меня, горько плачущую, она завернула в мое любимое красное стеганое одеяльце (слезы мгновенно высохли) и на руках понесла в столовую. Там по правой стене на двух стульях стояла большая овальная плетеная корзина. В ней спало туго спеленатое крохотное беленькое — именно беленькое — существо. Наверно, оно досматривало свои последние ангельские сны — такой тихий и совершенный покой был на маленьком личике. Старшие дети, молча, сосредоточенно и серьезно, смотрели на новую сестричку.
Через несколько дней я зашла в мамину спальню, где царил полумрак от темно-зеленых тяжелых штор, подошла к кровати и спросила: «А как будут звать маленькую сестренку?» — «Мария, Маруся», — ответила мама. «А мне больше нравится Анюта», — протянула я разочарованно.
Ярко вспомнился кадр из раннего детства Маруси. Она, видимо, только что из ванночки, вся какая-то особенно чистенькая; белый чепчик туго обтягивает головку. Маруся сидит на высоком стульчике. Ясные карие глазки смотрят на меня. Я шепчу ей что-то ласковое, а она, не умея еще говорить, приветливо улыбается мне.
Маруся была самым младшим ребенком в нашей семье и общей любимицей. Внешность ее была очаровательна: правильный овал лица, чистые карие глазки, хорошей формы носик. Крупные легкие локоны цвета неспелой пшеницы как бы парили над ее головкой. Нельзя было не любоваться ею. Старшие, кроме отца и бабушки, выделяли ее из всех детей, часто брали на руки, ласкали, но она, кажется, это не очень любила.
Вот два воспоминания о внешности маленькой Маруси.
На детском празднике кому-то пришло в голову поставить четырехлетнюю Марусю на высокую тумбу из-под пальмы. Вокруг образовали хоровод, который, кружась, пел на разные голоса: «Куколка, куколка, маленькая куколка! Куколка, куколка, миленькая куколка!» Как сейчас вижу личико сестренки, на котором написано неподдельное смущение.
Второй эпизод рассказан нашей старшей сестрой и крестной матерью Маруси. В день ее именин, 11 июля (ст. ст.), пригласили молодежь. Леля прогуливалась по двору с двумя своими поклонниками гимназистами (одного, я помню, звали Николай Добржинский). Отворилась дверь парадного крыльца, и на пороге появилась прелестная девчушка лет пяти, в кружевном платьице, с пышным бантом в волосах. Она начала медленно спускаться по лестнице с широкими ступенями, ставя на каждую обе ножки. Преодолев это препятствие, Маруся направилась к садовой калитке. Коля оставил именинницу, подбежал к малютке и, начав ласковый разговор, принялся гладить ее по головке. Маруся отстранилась, сказав: «Не тронь мои кудри-локоны», — и двинулась к намеченной цели — в сад.
И еще одна сценка из раннего детства Маруси.
Мы вдвоем часто играли с нею в нашем большом зале, принеся туда игрушки. Однажды среди дня отец вернулся с фабрики, очевидно чем-то расстроенный. Я торопливо принялась собирать лежавшие на полу игрушки, чтобы скрыться в детской, и в спешке оставила карандаш. Маленькая Маруся, заметив его, всплеснула ручонками и с волнением воскликнула: «Опади, кадак-то!» (Господи, карандаш-то).
За забытый на полу карандаш нам, конечно, ничего не было бы. Но таково было наше воспитание: мы всегда боялись вызвать неудовольствие старших, то есть родителей, и особенно папы, которого в детстве побаивались, хотя очень любили.
* * *
В одном из поздних стихотворений Мария Сергеевна пишет о «безоглядном любвеобилье детства»… Вот несколько примеров.
Первой сильной привязанностью Маруси была ее няня Харитина Петровна Кокорева. Высокая, худая старуха с коричневым лицом и маленькими, глубоко сидящими голубыми глазами. Маруся ее обожала и всю жизнь с любовью вспоминала о ней. Помню, как малютка целовала ее веснушчатые руки. Жили они с няней очень мирно, как говорится, душа в душу.
Харитина Петровна, как я ее припоминаю, была совершенно темной старухой. Она сильно окала, как и все уроженцы Ярославской губернии; речь ее изобиловала простонародными словами и выражениями, которые повторяла за нею ее воспитанница.
Харитина Петровна никого не подпускала к малютке, даже Лелю, старшую сестру и крестную мать. Меня же она невзлюбила сразу из-за моей чрезмерной веселости и буйной резвости. Я не могла подойти к сестренке и на расстояние пяти шагов.
Припоминаю такие полукомические случаи. Нам с Марусей шили обыкновенно одинаковые «туалеты», но няня одевала малютку в старенькие, застиранные бумазейные платьица, а потом, торжествуя, говорила: «Вот у Марусеньки платьица новенькие, а Катя свои все поизносила».
Харитина Петровна много и подолгу гуляла со своей питомицей. Четко представляю длинную фигуру няни, держащей за ручку крохотную Марусю. Они еле-еле двигались по деревянным тротуарам Норской фабрики, по набережной реки, по нашему саду с его обилием цветов. О чем размышляла старая женщина во время этих прогулок — трудно сказать, а Маруся жадно впитывала обступавший ее мир: и могучую Волгу, и редких прохожих, и красоту окружающей природы. Теперь я иногда думаю, что та медлительность, которая была свойственна Марусе всю последующую жизнь, могла быть заложена в нее во время этих длительных неторопливых прогулок. Она же способствовала развитию в ней задумчивой созерцательности и наблюдательности.
Расскажу эпизод, послуживший, возможно, причиной удаления няни. Она при встрече с механиком фабрики заставила малютку низко поклониться ему со словами: «Здравствуйте, барин-батюшка».
Как сквозь сон слышу плач Маруси при расставании с няней.
Наша дружба и близость с Марусей, редкостным по душевным качествам человеком и моей дорогой сестрой, продолжалась всю жизнь. Началась же она после ухода няни. Сменявшие Харитину Петровну гувернантки, почти все молоденькие прибалтийские немки, были, наверное, довольны, что, позанимавшись с нами положенное время, погуляв по набережной, почитав несколько сказок, они могли беспрепятственно заниматься рукоделием или же бесконечными разговорами по-немецки со старшей сестрой Лелей, которая была почти их ровесница. Читали же они нам сказки братьев Гримм, Андерсена, Перро, где главными действующими персонажами были принцессы, золушки, принцы, а конец всегда был счастливым.
Освободившись из-под опеки гувернанток, мы начинали наши бесконечные игры. Одним из самых больших, но безусловно запрещенных удовольствий было катание верхом на деревянных полированных перилах винтовой чугунной лестницы. Очень мы любили «экспедиции» в кухню и нежилые помещения: чуланы, кладовые, погреб, набитый голубоватыми прозрачными кубами льда, сеновал, где всегда находили что-либо интересное. И особенно — на огромный чердак нашего дома, где были свалены различные старые, отслужившие свой век вещи. О нем Маруся написала стихотворение «А на чердак — попытайся один».
Зимой же очень любили игры в переодевания. Базой для них служил стоявший в гардеробной сундук со старыми мамиными и Лелиными туалетами. Попросив разрешения у мамы, мы открывали его и вынимали то, что подходило для задуманных представлений. Чаще всего в них участвовали персонажи сказок. Маруся была Красной шапочкой, или принцессой, или госпожой; мне же приходилось перевоплощаться из волка в бабушку или же из колдуньи в рыцаря, принца. Было у нас «либретто» балета, называвшегося «Бабочка и девочка». Составленные с подоконников несколько горшков с цветами изображали сад. Я — бабочка — «порхала» среди них, а Маруся с сачком в руках преследовала меня. Кончалось представление тем, что Маруся накрывала меня сачком, а я падала и замирала. Присутствие зрителей было не обязательно, хотя и желательно.
Перехожу снова к воспоминаниям о «безоглядном любвеобилье детства».
В потертом кожаном альбоме с металлическим узором на переплете сохранилась фотография нашей матери. Глядя на нее, понимаешь, почему ярославские знакомые звали ее «Норской жемчужиной». Прекрасные строгие черты лица, задумчивый, несколько отстраненный взгляд.
Помимо естественной любви детей к матери, может быть, эта отрешенность в сочетании с красотой так привлекали нас к ней. Обе мы, по вышедшему из употребления выражению, обожали ее. Но она всегда пресекала чрезмерные проявления наших восторгов.
Маруся писала и посвящала ей свои детские стихи, из которых приведу несколько запомнившихся.
Вот одно, совсем раннее, подаренное маме в день ее рождения.
Сегодня день первого марта
Первый день чистой весны.
И в этот день, светлый и милый,
Родилась прекрасная — ты!
И еще одно; более позднее:
Когда сидишь ты на балконе,
Когда мечтаешь ты одна,
Когда на бледном небосклоне
Уж появляется луна,
Когда и песни соловьиной
Придет прекрасная пора,
Тогда возьми аккорд ты дивный
На лире, милая моя.
И звуки чудные польются,
Сольются с песней соловья,
Когда сидишь ты на балконе,
Когда мечтаешь ты одна.
Бывали также и юмористические стихи:
— Можно ль к вам поближе встать,
Ручку вам поцеловать? —
«Нет!»
— Можно ль на пороге встать,
Поцелуи посылать? —
«Нет!!»
— Можно ли за дверью встать,
Горько-горько там рыдать? —
«Нет!!!»
* * *
Мама вела уединенный образ жизни и выезжала крайне редко. Когда же она выходила нарядно одетая, мы с Марусей приходили в неистовый восторг и бурной пляской вокруг, не смея прикоснуться, чтобы не помять какую-нибудь складочку или кружево, выражали свое восхищение. Особенно хороша она была в длинном светло-сером платье с небольшим треном, расшитом серебристыми цветами, и воротником а-ля Медичи. Как же мы любовались ею! У нее была прекрасная фигура, и держалась она особенно прямо (позднее поэт С. Галкин говорил Марии Сергеевне, что узнает ее мать со спины). Когда же мода изменилась и мама вышла к нам в укороченной юбке клёш, Маруся была потрясена и чуть не плача повторяла без конца: «В прежних платьях мама была так похожа на принцессу, так похожа»…
Обе мы очень любили бабушку (мать нашей мамы), жившую в Норском посаде на маленькую вдовью пенсию. Несмотря на скромное общественное положение, в городе ее уважали за ясный ум, бодрый нрав, смелые суждения. Ее высказывания (даже религиозные) отличались широтой. Приведу такой пример. Несколько лет подряд она сдавала половину своего дома под дачу состоятельному владельцу кожевенного завода Гаркави. Однажды бабушку при мне спросили:
— Вам, наверное, не очень-то приятно сдавать дачу иноверцам?
— Они прекрасные люди, а как они верят — это дело их совести, — отрезала бабушка.
Кроме обширных утренних эпистолярных занятий, бабушка переписывала в особую тетрадь полюбившиеся ей стихи. На моей памяти она переписала «Русских женщин» Некрасова.
Большим праздником для нас были поездки на два-три дня к бабушке. Между сестренкой и бабушкой иногда вспыхивали конфликты — Маруся и в детские годы пыталась отстаивать свои желания. До сих пор слышу голос бабушки: «Ну, Марья, погоди!» Впрочем, этим угроза и ограничивалась. Несмотря на ссоры, они нежно любили друг друга.
Вот еще один пример привязанности маленькой Маруси. Больше всего мы, особенно Маруся, стремились проникнуть в нашу просторную кухню, где среди начищенных до самого яркого блеска медных кастрюль (стоявших на полках «по ранжиру» — от огромной до самой маленькой) царила Маша (Мария Александровна Палисадова), которую мы обе очень любили. Высокого роста, статная, с крупными чертами крестьянского лица, выражавшего всегда особенную доброту и приветливость, она была с нами обеими чрезвычайно ласкова. По ее просьбе мы писали письма в деревню к ее брату и его семье с неизбежными поклонами по порядку всей родне. Маша прожила у нас десять лет, до 1918 года, когда мы с мамой и Марусей уехали с фабрики к бабушке в Норский посад. Отец и старшие дети были тогда уже в Москве. Во время первого голода, в 1919 году, Марусю отвезли на лето к Маше на поправку. Вернулась она загоревшая, поздоровевшая, с большим запасом новых деревенских впечатлений. Помню, с каким увлечением рассказывала она о том, как вместе с Машей жала рожь.
Очень любила Маруся нашу старую собачонку Мальчика. Это была небольшая собака-крысоловка, черная как уголь, с седевшей с годами острой мордочкой, которую Маруся украдкой целовала. Крыс в нашем доме не водилось, так что «работы» у Мальчика не было. Маша по своей доброте хорошо относилась к нему, но была против Марусиных поцелуев.
— Ну что ты, Марусенька, пса-то целуешь!
В детстве мы обе — Маруся и я — вели дневник. Писали обычно в своей конторе «Труд», то есть за верстаком в большой комнате братьев, во время их отсутствия. Но показывали написанное друг другу далеко не всегда, а лишь в минуты наибольшего расположения. Отчетливо помню строчки из дневника Маруси, которые она мне прочитала: «Мы играли с Катей, но потом поссорились. Первая затейница была, конечно, я». Это первое запечатлевшееся в моей памяти проявление ее будущей самокритичности, строгости и взыскательности к себе.
Маруся считала темно-зеленый цвет моих глаз некрасивым. Когда мы изредка ссорились с нею, она, сердись на меня, говорила: «У-у, зеленоглазая», так как бранные слова в нашем лексиконе отсутствовали. Много позже, будучи подростком, она стала посещать поэтический кружок «Ярославские понедельники». Там, по-видимому, от кого-то услышала, что это красивый цвет глаз. Тогда она, может быть памятуя свои детские высказывания, посвятила мне стихотворение:
Как жутко глядеть мне в глаза ваши темно-зеленые,
Там тайн слишком много, но нет объяснения;
Раскрытые, ясные, жутко и странно холодные
Без страсти и без вдохновения.
Стараюсь я тайны узнать в глубине этих глаз схороненные,
Я страстно, безумно хочу их признания,
Но гневно сверкают зрачки оскорбленные,
И гневно ресниц трепетание.
В моих же глазах, о! я знаю, любовь разгорается,
В ресницах безумно дрожит вдохновение,
А в ваших глазах тайный смех разгорается,
Зрачки выражают презрение.
И горько я плачу, насмешками теми обиженный,
Глаза ваши темным сгубили мне сердце презрением.
И горько рыдает поэт в своей страсти униженный,
И сдавлена грудь сожалением.
… … … … … … … … … … … … … …
Но кто же поймет ваши тайны безумно манящие,
Пробудит в зрачках вдохновение?!
* * *
Как и многие дети, мы любили играть в школу, где обучали наших многочисленных кукол. Была среди них и первая ученица — Тамара, с двумя длинными каштановыми косами, была Ленка с растрепанной светлой шевелюрой. За непослушание мы наших учеников шлепали и ставили в угол. Один раз после таких школьных занятий с куклами я, войдя в детскую, застала Марусю утешающей наказанную Ленку. Она прижимала куклу к себе, гладила и
целовала в головку. Увидев меня, она смутилась, так как, очевидно, поняла всю «непедагогичность» своего поведения.
Это один из примеров ее доброты и способности к сочувствию и состраданию, проявившихся в совсем раннем возрасте.
Как-то Маруся и я нашли на садовой дорожке раненого стрижа. Очевидно, он налетел на провода и разбился. Не без труда, так как он вырывался, положили мы стрижа в картонную коробку. Опыта по уходу за больными птицами у нас, конечно, никакого не было, мы пытались только накормить и напоить «стриженьку», как ласково звала его Маруся. Ничего не получалось. Через несколько дней он погиб. Горько плача, мы закопали его неподалеку от нашего маленького огородика.
Рядом с нашим участком находилась большая площадка, превращавшаяся летом в футбольное поле, а зимой — в каток, обнесенная удобными для сидения толстыми брусьями.
Летним вечером 1914 года Маруся, брат Владимир и я устроились на этой ограде. Солнце медленно погружалось за рощу, стоявшую в центре фабричного двора, окрашивая небо, как обычно, в золотисто-розовые тона. Высоко над головой повис тонкий лунный серп.
Вдруг Маруся, как бы неожиданно для себя, указывая на Запад, отчетливо и громко произнесла четверостишие, первое в своей жизни. Позднее она напишет: «Я восприняла его как чудо, и с тех пор все началось, и мне кажется, мое отношение к возникновению стихов с тех нор не изменилось».
К нашему стыду, ни брат, ни я не поняли тогда, что присутствуем при рождении поэта…
Едва освоив азбуку (1912—13 гг.), Маруся принялась за Пушкина. Помню, как она стояла в гостиной перед длинной, доходившей ей до грудки кушеткой, на которой лежал раскрытый однотомник Пушкина. По своей еще малой грамотности она громко прочла: «О, Делея дорогая». Я поправила сестренку; она повторила за мной начало стихотворения и дальше продолжала до конца, ни разу не ошибившись.
Очень рано проявилась в Марусе ее самостоятельность в принятии решений и их осуществлении. Однажды она, четырехлетняя, ушла тайком к бабушке в Норский посад. Туда вели две дороги: одна по набережной Волги, другая — через темный еловый лес. Какую выбрала Маруся, я не знаю, но думаю, что первую. Она застала бабушку сидящей в кресле и углубленной в чтение, с чулком и спицами в руках. Подойдя вплотную, Маруся тронула ее колено и сказала: «Я убежала»… Бабушка тут же отправила прислугу с запиской к маме, что Маруся у нее. Можно представить состояние матери, когда обнаружилось, что Маруся исчезла — ведь Волга была в пяти минутах ходьбы от восточной границы нашего участка. Мама вызвала по телефону экипаж и привезла беглянку домой.
И еще один эпизод, раскрывающий принципиальность и отважность Маруси. Он произошел намного позже. Тринадцатилетняя Маруся при всех твердо запретила сидящей за столом знакомой сплетничать о женщине, которую она глубоко уважала. Маме пришлось извиняться перед гостьей, а Марусе — покинуть столовую. Вот так воспитывалось в нас отношение к старшим. Нам запрещалось не только делать им замечания, но даже возражать на какие бы то ни было высказывания взрослых. (Причем в данном случае я убеждена, что мать в душе была согласна с Марусей.)
А сейчас очень коротко о жизни Маруси и нашей семьи после Октябрьской революции. В середине 1918 года отец ушел с фабрики, остановленной из-за отсутствия топлива, и уехал в Москву к старшим детям. А мама с нами двумя переехала в Норский посад к бабушке. Жили голодно, меняли одежду на продукты, и самым вкусным по воспоминаниям было солоноватое печенье из картофельной шелухи. По вечерам все собирались вокруг обеденного стола, и при свете коптилки, а временами и лучины каждый занимался своим делом. Сохранилось у меня от той поры стихотворение Маруси, к которому я сочинила незатейливый мотивчик (он даже записан на ноты). Мы пели нашу песенку на два голоса: Маруся — первым, я — вторым.
Иду в низину скатами,
Тоска томит, тоска томит.
Норý я слышу с берега —
Журчанье как истерика,
О камни бьется струйками.
Родная, не горюй-ка, мы
С тобою сестры в горести —
Ведь этот стих — мой горе-стих.
Он берегами крепко сжат,
Стремится гневно выбежать,
Разлиться бурной речкою,
Но слабо свою речь кую.
А берега насмешливо,
Победа их. — Как смеешь, вор! —
Промолвят. Сила берега,
Журчанье как истерика.
Тоска томит, тоска томит,
Иду в низину скатами.
* * *
В Норском посаде на базе городского училища была создана школа II-й ступени, в которую мы обе поступили. Уровень преподавания был крайне низок, так что я без труда дважды перескакивала через класс.
В 1920 году Рабочий комитет снова пригласил отца заведовать фабрикой, но обещанное топливо не было отпущено, и папа перешел на работу на Авторемонтный завод на окраине Ярославля. Я уже служила на товарной станции Ярославля Всполье, а Маруся поступила в Ярославскую среднюю школу им. Некрасова.
В школе Маруся стала увлекаться историей и написала пьесу «Жакерия» — о крестьянском восстании в период столетней войны. Директор школы прочитал пьесу и сам поставил ее на сцене, а Марусю назвал талантливой. Тогда же ею было написано стихотворение «Петроний».
С бледным лицом и улыбкой презрительной
Тихо склонил он ресницы.
Мимо рабыни, красы удивительной,
Робкой прошли вереницей.
Вена атласная ниткою стянута,
Кровь тихо каплет на ткани.
Бледный Петроний, никем не разгаданный,
Рушит последние грани.
Кинуты тени на щеки ресницами,
Бледные, тонкие тени.
Смотрят рабыни пугливыми птицами,
Легкие словно виденья.
В Некрасовской школе Маруся познакомилась с тремя сестрами Саловыми. Средняя — Таня — очень красивая, вскоре покончила с собой из-за неразделенной любви к актеру Волковского театра. Марусю потрясла гибель Тани, она посвятила ей три стихотворения.
Старшая сестра Тани стала пожизненным ближайшим другом Маруси. Это она, Маргарита Германовна Салова, ввела ее в ярославский Союз поэтов (где почетным председателем был А. В. Луначарский). Она же познакомила совсем юную Марусю с творчеством гениального художника М. С. Сарьяна, со стихами Блока, Пастернака, Есенина. Маргариту Германовну поражало, как тонко, всем своим существом Маруся воспринимала все прекрасное, относилось ли это к живописи, музыке или поэзии. Так же глубоко она умела слушать и слышать чужую радость, чужое горе.
Несколько слов о Союзе поэтов г. Ярославля, называвшемся «Ярославские понедельники». Членами его состояли главным образом студенты Ярославского университета, и только одна Маруся была еще школьницей предпоследнего класса (тогда было девятилетнее обучение).
Атмосфера в Союзе была очень дружной и чистой. Его посещали гости из Москвы: Вс. Иванов, Г. Шенгели и другие, читавшие свои произведения. Помещался Союз в Доме санитарного просвещения, а затем в каком-то клубе. Так как состав членов был невелик, то собирались иногда на квартире у М. Г. Саловой. Читали не только свои стихи, но и других поэтов. Я, например, присутствовала там, когда «Двенадцать» Блока читал Михаил Павлович Сироткин. Это он, проявив большую энергию, организовал выпуск сборника стихов «Ярославские понедельники» (тоненькая книжка в серой обложке). Там были помещены два стихотворения Маруси — первая ее публикация.
Постепенно Союз поэтов распался: многие члены по окончании Ярославского университета разъехались по местам работы. Маруся поехала в Москву к родителям и поступила там на Высшие государственные литературные курсы.
Заканчиваю свои воспоминания стихотворением близкого друга Маруси в течение всей жизни П. А. Грандицкого, посвященным Марии Сергеевне.
Сгущенный свет, янтарный виноград
В подвалах вековых, в глубокой тьме томят,
Чем дольше вызревает в них вино,
Тем крепче, благороднее оно.
Слова свои — сгущенный сердца свет —
В душевной глубине таишь ты много лет.
Тем благородней, крепче, тем острей
Янтарный хмель поэзии твоей.
Юлия Нейман. Маруся
С Марией Сергеевной Петровых — Марусей, как я звала ее всю жизнь, мы познакомились в студенческие годы. Было это — страшно подумать! — больше чем полвека назад. Обе мы тогда закончили среднюю школу в разных российских городах (Маруся — в Ярославле) и встретились в Москве на Литературных курсах.
Может быть, современным студентам любопытно будет узнать, что представляли из себя эти курсы. За год до того умер Валерий Яковлевич Брюсов. Тогда же был закрыт созданный его властной волей Литературный институт, где обучали не только различным филологическим наукам, но и тому, как писать стихи и прозу. Можно ли этому научить — вопрос спорный… Но Брюсов и другие поэты того же склада считали, что «гармонию» полезно поверять «алгеброй», что искусство литературы требует такого же совершенствования, как музыка.
Сейчас эту традицию в какой-то мере продолжает Литературный институт имени Горького. В годы нашей юности непосредственными наследниками Брюсовского института в Москве оказались наши курсы — ВГЛК.
Так же как раньше в Брюсовский, сюда принимали преимущественно пишущих стихи и прозу. И у нас в числе других лекций читался курс «прозологии», «стиховедения» и прочих подобных наук. Главным стиховедом у нас был позабытый нынче поэт Иван Сергеевич Рукавишников, потрясавший наше юное воображение своим обликом Дон Кихота, черным плащом, звездой на груди, — говорили, что она масонская. «Напевный» стих, преимущества которого Иван Сергеевич запальчиво отстаивал до последних дней своей не слишком счастливой жизни, звучал несколько гнусаво над нашими партами.
Да, партами! Своего здания у курсов не было, и мы в течение нескольких лет блуждали из школы в школу, слушая лекции по вечерам, когда хозяева помещения уходили домой. Мы сидели за партами, от которых еще не успели отвыкнуть, а в перерывах (чуть было не написала — «на переменах») ходили, спорили, смеялись в длинных школьных коридорах. В сущности, большинство из нас и пребывало еще, говоря словами позднейших Марусиных стихов, «в расточительном детстве»… Но среди юных мелькали в коридорах и те, кто постарше и даже вовсе старые. Был у нас в числе слушателей седобородый Аниканов — милейший человек и очень слабый поэт, наивные стихи которого мы с Марусей запомнили почему-то на долгие годы:
Ехал в город Ярославль
Я и Луначарский.
Он народный комиссар,
Но отнюдь не барский…
и т. д.
Вот здесь-то, в коридоре, где сквозь толпу с трудом протискивался, размахивая звенящим колокольчиком, наш завуч Николай Николаевич Захаров-Мэнский («Деточки! Деточки! На лекцию!..»), здесь-то я и увидала впервые Марусю Петровых. Нельзя даже сказать «увидала». Лицо ее трудно было разглядеть из-под глубоко надвинутой панамки с козырьком. И только позднее, когда мы встретились на каком-то литературном вечере и она предстала без пальто и без этой самой панамки, я поняла, какая она необыкновенная. И как только удавалось ей так долго прятать от людских глаз эту стройную, хрупкую фигурку, это прелестное, тонкое лицо, вокруг которого взлетали легкие кудри? «Волос твоих златые крылья», — писал о них один влюбленный мальчик. Теперь я думаю, что это было сказано точно. Но тогда образ казался нам вычурным, и мы — Маруся первая! — смеялись над этой строкой… Да над чем только мы тогда не смеялись!..
В последние годы жизни Мария Сергеевна сокрушалась, что мы «просмеялись» все наши курсовые годы и за смехом почти не слышали лекций наших профессоров… А какие это были лекции и какие профессора!
Брюсовский не передал нам своего помещения. Зато оттуда, из Брюсовского, к нам пришли люди обширнейших знаний, блестящей эрудиции. Стоит только назвать крупнейшего пушкиниста Мстислава Александровича Цявловского, изучившего жизнь Пушкина едва ли не день за днем, или же прекрасного знатока древнерусской литературы и Льва Толстого — Николая Каллиниковича Гудзия, с которым, кстати сказать, Маруся позднее была дружна. Или же Леонида Петровича Гроссмана, автора фундаментальных трудов по русской классике. На семинаре Леонида Петровича (он вел семинар по критике) мы читали доклады на выбранные нами темы. Маруся занималась тогда Аполлоном Григорьевым. Помню, с каким восторгом повторяла она слова Григорьева: «Пушкин — наше все». Для нее с самых юных лет Пушкин был самым дорогим поэтом.
А Иван Никанорович Розанов рассказывал нам о поэтах пушкинской поры так, будто он не далее чем вчера расстался с Вяземским или же с Каролиной Павловой…
У Каролины
Справлял крестины
И лично с Вяземским знаком… —
пели мы в наших курсовых частушках…
Конечно, Иван Никанорович общался с поэтами прошлых эпох лишь в воображении. Но были среди наших наставников и такие, которые въяве, физически соприкасались с великим прошлым русской литературы. Григорий Алексеевич Рачинский, читавший у нас «западную», своими ушами слышал речь Достоевского о Пушкине и навсегда запомнил бледное, взволнованное лицо Тургенева… Рачинский принадлежал к старшему поколению символистов. Блок и Андрей Белый были для него юношами. «Блок был из них самый талантливый, Белый — самый гениальный», — говорил он нам. В доме у Григория Алексеевича Белый писал своего «Серебряного голубя»…
А философ Шпет, читавший у нас эстетику? А Константин Георгиевич Локс — близкий друг Пастернака?.. А Сергей Иванович Соболевский, свободно говоривший не только по-латыни, но и на языке Гомера — по-древнегречески?..
Маруся была права: по легкомыслию молодости мы почерпнули из этой сокровищницы далеко не все, что могли бы. Стройных, систематических знаний нам часто потом не хватало, и временами это болезненно ощущалось. Однако что-то важное — едва ли не самое важное! — мы все же смогли ухватить и впитать не разумом, скорее — кожей. С помощью прекрасных «стариков», даже порой плохо слушая их, мы ощутили красоту большой культуры, окунулись в живую прелесть богатого русского языка… А ведь было это в двадцатые годы, когда во многих учебных заведениях господствовала вульгарная социология, в годы РАППа, когда в журналах сплошь да рядом печатались стихи, которые позднее так метко пародировал Архангельский:
Какой прекрасный красный день
В кругу свободного народа!
Для городов и деревень
Сияет красная свобода!..
От такого рода стихов была у нас «охранная грамота»: чтение образцов подлинной поэзии. Не получив по своей вине глубоких знаний на курсах, мы все же выучились понимать
…Ту музыку, тот блеск и благодать.
Чье имя — Пушкин, Баратынский, Тютчев,
Чье имя — Блок, и Лермонтов, и тот,
Кто жил при нас и нас переживет…
* * *
Курс стиховедения — занятия Рукавишникова — привлекал нас не обилием специальных терминов, а искренней, неподдельной любовью «старого чудака» к поэзии. Стихи для нас, особенно для Маруси, написавшей первое стихотворение в шесть лет, были и остались прежде всего — чудом, которое нельзя расчленить. Лучшие из наших наставников укрепили наше уважение к высокому званию ПОЭТ… Отсюда — а у Марии Петровых с особой силой! — жесткая, прямо-таки беспощадная требовательность к себе… Помню наши ночные разговоры в ее комнатке на Втором Казачьем о поэзии, о том, что не так уж важно — печататься или нет.
Настоящее, считали мы, не пропадет. А если пропадет, стало быть, оно было ничтожно, туда ему и дорога!
Позднее Мария Петровых выразила это в стихах:
Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Нам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон.
Я думаю о тех, которым
Раздоры ль вечные с собой
Иль нелюбовь к признаньям скорым
Мешали овладеть судьбой…
«Раздоры с собой» помешали Марии Петровых «овладеть» при жизни судьбой поэта — широко прославиться своими стихами. Но кто знает, когда она сказывается, судьба поэта?.. Может быть, к иным она приходит только после смерти?
Что касается убеждения, что «ничто ценное не пропадет», то вряд ли мы были правы до конца…
Мне вспоминаются слова Анны Андреевны Ахматовой. Высоко ставя поэзию Марии Петровых, она с ее пожизненной любовью к Пушкину и чутьем к языку считала, что в Марусе пропал тонкий, прозорливый пушкинист. А уж кому-кому, а Анне Андреевне в этом вопросе можно верить…
* * *
Несколько слов о нашем смехе… Теперь мне кажется, Маруся Петровых так много смеялась в те годы не только от непосредственной радости бытия… Серьезное, трагическое уже нарастало вокруг, и от него — до времени — хотелось отгородиться хотя бы смехом…
Уже тогда, в юности, судьба начала «присматривать» за поэтом М. Петровых «в оба», ревниво следя, чтобы не обошла ее какая-нибудь утрата… В комнатке, где мы готовились по ночам к зачетам, спорили о поэзии и сочиняли смешные стихи, в этой мрачноватой комнатке на столе стояла фотография Марусиной ярославской подруги Тани, рано и трагически погибшей.
И в том же году, когда мы все встретились на Литературных курсах, в декабре 1925 года Москву потрясла весть о смерти Сергея Есенина… И Маруся с сестрой Катей — любимым своим другом, была в числе тех немногих, кто провел ночь возле тела мертвого поэта в тогдашнем Доме печати.
Вскоре затем пошли одна за другой личные утраты… Погиб Марусин брат Николай. Помню, как мужественно и молчаливо переносила она это горе. Уже тогда сказалась в ней глубокая нравственная сила.
Хрупкость, ранимость и вместе с тем внутренняя стойкость — эти слова приходят на память, когда пытаешься бегло обрисовать сложный образ Марии Петровых.
Испытаний, утрат на ее долю выпало много, слишком много. Но говорить об этом не хочется. Думаю, что это было бы ей неприятно. Она — даже в стихах — редко и скупо говорила о своих страданиях. Но даром сострадания она владела редкой силы. Она не была сентиментальна, иногда даже как будто суховата, резка, не жалела людей по пустякам. В ней не было никакой «обтекаемости». В оценках людей она была сурова. Но, когда у хорошего человека случалось настоящее горе, она приходила на помощь, находя слова, которые так трудно подыскать и которые так нужны человеку в самый тяжелый его час… Знаю, что некие родители, потерявшие дочь, как талисман хранили письмо Марии Петровых. Удивительно целебные слова нашлись у нее для погибавшей в муках Вероники Тушновой, а ведь они с Вероникой не были до этого дружны… Помню, как поддерживала она своим светом и теплотой нашего общего друга поэта-переводчика Володю Бугаевского, умиравшего от рака…
Это то немногое, что я помню, что случайно помню и знаю! А сколько добра сделано ею втайне, скрытно от всех!.. Сколько она подала незаметной для посторонних «тихой милостыни»! Она подавала ее щедро, расточительно и в своей работе переводчика и в еще более незаметной, еще более неблагодарной работе редактора.
Не щадя себя, она помогала другим, всем нам… А мы? Всегда ли мы помогали ей с той энергией, какая была нужна?
Верно, Мария Петровых не стремилась печатать свои стихи… И все же, когда нашелся человек, заставивший ее чуть ли не силой вытащить из ящика стихи, собрать их, когда этот человек, оградив ее от всех неприятностей, от всех царапин, почти неизбежных при столкновении с любой редакцией — даже самой лучшей, самой гуманной, — когда отыскался такой человек, такой друг, тогда и появилась на свет единственная при жизни книга собственных стихов Марии Петровых — «Дальнее дерево»!
Спасибо этому другу, спасибо Левону Мкртчяну!
Мария Сергеевна была человеком столь ранимым, сколь и мужественным. В одном из поздних стихотворений она писала:
Не отчаивайся никогда —
Даже в лапах роковой болезни,
Даже пред лицом сочтенных дней.
Ничего на свете нет скучней,
И бессмысленней, и бесполезней,
Чем стенать, что зря прошли года…
«Ты еще жива…» — писала тогда о себе Мария Петровых. Сейчас, когда ее нет, эти строки нестерпимо горько читать. И все же верится, что судьба поэта Марии Петровых еще впереди. И все-таки в ушах у меня звучит голос нашего старого стиховеда Ивана Сергеевича. На могиле Брюсова он заклинал всех живых:
Берегите поэтов!
Берегите поэтов!
Все ли сделали мы — друзья, чтобы сберечь большого поэта — Марию Петровых?..
В заключение мне хочется добавить главку из моего стихотворения «Город друзей», где идет речь о наших Литературных курсах и о некоторых наших «стариках» учителях.
* * *
Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Мария Петровых
Арсений Тарковский
Любимая! О, если бы опять
Шепнуть тебе, что сколько ни мудри я,
Но эти годы будут мне сиять
Чудеснейшим из всех имен: «Мария»,
Где каждой буквой, каждой из пяти
Протянуты в грядущее пути.
Я помню сказки золоченый локон.
В предутрии, похожая на дым,
Она входила в прорезь узких окон,
Стучала в стекла пальцем золотым.
Мешая смех и злость веселой тролльши,
И трели брызг, и ветра крутизну,
Она кружила городом и больше
Всего была похожа на весну.
Она прикидывалась зловеселой,
Злолицей дьяволицей в мгле зарниц,
Но золотые маленькие пчелы
Сбирали мед с густых ее ресниц.
И ворохи черемухи грустящей
Кидая в крутопенную лиловь,
Она вершила городом и чаще
Всего была похожа на любовь.
Я помню небывалый ледоход
Москва-реки… Слоистые отвалы
Покачивались… Счастьем этот год
Наполнен был. А нам казалось — мало!..
Нет, молодость! Твоей живой воды
Я все ж напьюсь!.. Я разыщу следы…
И ты войдешь, похожая на дым
И на любовь. И на родном наречье
Заговоришь… Под именем любым
Приму тебя. Рванусь к тебе навстречу
Сквозь сумерки. Сквозь смерч и водоверть.
Сквозь сумерки, растерянность и смерть.
А. Тарковский. Духовная сущность поэта
Марию Петровых я увидел впервые в 1925 году. Учредителем и главой первого в Москве Литературного института был В. Я. Брюсов. После кончины поэта институт его имени прекратил свое существование. Возникло новое учебное заведение — Литературные курсы с правами высших учебных заведений при Всероссийском союзе поэтов. Мария Петровых и я были приняты на первый курс и вошли в один из дружеских кружков юных поэтов. Наша дружба длилась вплоть до ее кончины в 1979 году. В этом кружке Мария Петровых по праву оказалась первой из первых.
Есть вокалисты, у которых врожденный хорошо поставленный голос. Такой
врожденный поэтический голос был у Марии Петровых. Конечно, ее поэзия совершенствовалась от года к году, углублялась, открывала для себя более широкие горизонты, но в своем развитии не отступала далеко от заданного в ранней юности пути.
Она любила жизнь, хотя и вглядывалась в нее не сквозь розовые очки.
Ее стихи —
свидетели живые боли ее души. Даже влюбленность для нее оборачивалась скорее источником горя, чем счастья:
В ту ночь подошло, чтоб ударить меня,
Суровое бронзоволикое счастье…
В другом стихотворении соседствуют такие строки:
Увечья не излечит мгновение покоя,
Но как тепло на солнце и как легко в тени…
Наедине со стихами ее душа, столь надежно защищенная и столь безнадежно беззащитная, вела сама с собой постоянно возобновляемый спор. В этом споре права была поэзия…
На миру, на юру
Неприютно мне и одиноко.
Мне б забиться в нору,
Затаиться далёко-далёко.
Чтоб никто, никогда,
Ни за что, никуда, ниоткуда.
Лишь корма и вода
И созвездий полночное чудо.
Только плеск за бортом —
Равнозвучное напоминанье
Все о том да о том,
Что забрезжило в юности ранней,
А потом за бортом
Потерялось в ненастном тумане…
Почему при жизни Марии Петровых увидела свет только одна ее книга — сборник оригинальных стихотворений и стихотворных переводов с армянского? Да и книга эта была издана без участия автора, собрана одним из ее армянских друзей. Может быть, виновна в этом замкнутость ее души? Может быть, чрезмерная скромность? Нет. Если судить по ее стихам, она знала себе цену. Ее поэзию без устали расхваливали Пастернак, Мандельштам… Ахматова утверждала, что одно из лучших лирических стихотворений нашего века написано Марией Петровых… Может быть, она требовала от себя большего, чем могла дать? Нет, ее дарование было исполнено сил. Откуда нам знать… Да, это странно, но разве не странно то, что она еще девочкой сразу, никому не подражая, заговорила взрослыми стихами…
Это загадка Марии Петровых, но тайна ее не в этом.
На первый взгляд язык поэзии М. Петровых — обычный литературный русский язык. Делает его чудом в ряду большой нашей поэзии способность к особому словосочетанию, свободному от чьих бы то ни было влияний. У нее слова загораются одно от другого, соседнего, и свету их нет конца. Тайна Марии Петровых — тайна обогащенного слова. И тайна в том, что она была большим поэтом.
В самых ранних стихах Марии Петровых заметны черты экспрессивного стиля:
Даль недолётна. Лишь слышно: от холода
Звезд голубые хрящи хрустят…
Позже эти черты сгладятся. Повзрослев, поэт доверчивее отнесется к своему замыслу, к возможности словесного воплощения. Метафора утратит власть над стихом, и счастливое чувство крылатой свободы овладеет и нами, читателями.
Стихи Марии Петровых открывают перед нами ее замкнутую, страстную душу и говорят о духовной сущности поэта больше, чем кто бы то ни было может сказать. А еще больше нам знать не дано. Мне кажется, что стихи поэта — единственный несомненный источник истинного понимания его духовной личности. Пусть литературоведы будущего не гадают — кто адресат такого-то стихотворения… Лучше обойтись без этого. Особенно когда у нас на слуху такие нелживые, такие открытые стихи…
Да, тайна Марии Петровых в том, что она была большим поэтом. Верю, что стихи ее будут собраны и доверены нам во всей их полноте, что ждать этого придется недолго. Читателям уже ясно, что русская советская поэзия немыслима без большой поэзии Марии Петровых.
Натэлла Горская. День прошедший — день сегодняшний
И в окне, наполнившемся светом, —
Все, что близко, все, что далеко,
Все как есть, что было скрыто летом,
Вдруг возникло четко и легко.
Мария Петровых
О Марии Сергеевне Петровых более всего мне хотелось бы сказать кратко: она прекрасна!
Но это и все и — ничего…
Что ж, постараюсь в какой-то мере воссоздать образ, живущий в моей душе. В какой-то мере — потому, что весь образ в целом нечто слишком крупное. Я коснусь лишь особенно мне дорогого, близкого и созвучного.
* * *
Не стану анализировать поэзию Марии Петровых. Я не литературовед и не критик. И потом, просто не хочется этого делать. Когда слушаешь удивительный, единственный в своем роде певческий голос, совсем не обязательно дознаваться, как устроены голосовые связки.
Но о диапазоне ее поэзии я все же скажу. Он необычайно велик. Не по охвату чисто внешних событий, не по многочисленности тем, а по емкости и глубине чувства.
Поэзия Петровых — это сама душа человеческая, в своей чистоте беззащитная и перед радостью и перед горем. Но такая — почти детская — беззащитность отнюдь не синоним слабости. За глубиной чувства — несгибаемая сила духа, гордость, бескомпромиссность. И еще доброта по самому большому счету: готовность бескорыстно творить добро и благодарно принимать все доброе, откуда бы оно ни исходило — от человека, от чужих стихов, от природы ли.
С природой у Марин Сергеевны особые взаимоотношения. Связь исконная, нерасторжимая. И не просто связь, а чувство товарищества, доверительной дружбы, приобщенности к тем тайнам, из которых когда-то давным-давно родилась сказка. Взять хотя бы такие строки:
А воздух? Он с тобой до гроба,
Суровый или голубой,
Вы счастливы на зависть оба, —
Ты дышишь им, а он тобой.
Или это:
Боже, как светло одеты,
В разном — в красном, в золотом!
На лесах сказалось лето
В пламени пережитом.
…Чтó красе их вдохновенной
Близкий смертный снежный мрак…
До чего самозабвенны,
Как бесстрашны — мне бы так!
А эти строки:
В заколдованную сеть
Соловей скликает звезды,
Чтобы лучше рассмотреть,
Чтоб друзьям дарить под гнезда…
Не сам ли поэт «скликает звезды» и раздаривает их?.. Чудо где-то рядом, совсем близко. Надо лишь очень захотеть его увидеть:
И памяти черные шрамы свежи
На белых стволах… Это летопись леса.
Прочесть лишь начало — и схлынет с души
Невидимая вековая завеса.
И вдруг засветился мгновенным дождем
Весь лес, затененный дремучими снами.
Как горько мы жаждем, как жадно мы ждем
Того, что всегда и везде перед нами!
Почему я выбрала именно эти стихи? Может быть, они и не самые значительные, если взять творчество Петровых в целом. Но для меня они своего рода ключ к пониманию сложного и многогранного образа поэта и человека. Кроме того, от них тянется прямая нить к моему собственному восприятию мира.
Скажу еще раз словами поэта:
Я видела и слышала сама,
Как в чаще растревоженного бора
Весна и лето, осень и зима
Секретные вели переговоры.
А теперь обращусь к памяти моей. Погружусь в эту растревоженную чащу, где образы людей, события, вёсны и зимы сосуществуют в сложном, многоликом и нерасторжимом единстве, где день прошедший может стать днем сегодняшним.
* * *
…На заре пришел свет и расширил жизненное пространство: темные провалы в стенах стали окнами во вселенную. Вселенная подарила мне холодный осенний пруд, остров посреди пруда, щедро раскрашенный золотистой охрой, и старинный белый монастырь на острове.
Это вид из моего окна. Есть в Измайлове большой пруд — там, где речка Серебрянка, широко разливаясь, омывает остров.
Из гущины боярышника и давным-давно одичавших яблонь вышла женщина. Остановилась, прислушалась к чему-то и, чуть улыбаясь, пошла по шуршащим листьям.
Мария Сергеевна шла мне навстречу, появившись — бог весть откуда — из своих «Осенних лесов», со своего «Лесного дна»…
Когда-то я гуляла с ней у пруда. Но это был другой пруд — Голицынский, окруженный летним лесом. Крутой берег, сплошь заросший малинником. Невдалеке — где-то за деревьями — пронзительные вскрики электричек. И неожиданный — совсем близкий, над самой головой — стук дятла. Красная шапочка, быстрая пробежка по стволу.
— Где же он? — Мария Сергеевна глянула вверх.
Смотрела, прислушивалась и улыбалась — тихо, уголками губ. А глаза улыбались широко, ярко. Запоминали, наверное, все это: зеленую мутноватую прудовую воду, зеленую тяжелую и чистую после дождя листву, предвечернее небо, уже не голубое, еще не сиреневое, а тоже зеленое, неуловимо зеленое…
* * *
Как хорошо, что Измайловский пруд может превратиться в Голицынский. Или в совсем маленький, не имеющий названия, — и не поймешь, прудок ли, болотце ли, или просто большая лужа, мшистое блюдце, до краев наполненное талым снегом. А рядом — на сухом, открытом солнцу бугре — первая медуница. На одном стебле голубые и лиловато-розовые цветки. И стоит над медуницей женщина в неяркой косынке. Стоит слушает лес, талую воду, беззвучные взрывы почек, первого скворца — ах ты, господи, как рано прилетел нынче! — и еще что-то, слышимое только ей.
Я вдруг пугаюсь, что она простудится. Ноги у нее мокрые — по колена. Холодно ведь еще. Позвать ее, окликнуть?.. Нет, нельзя. Может быть, в этот миг — как медуница из вешнего сумрака — возникает стихотворение. Но все же мне немного тревожно.
— Ничего со мной не случится, — говорит Мария Сергеевна, отвечая моим мыслям. — В лесу-то… Ничего не случится…
* * *
Окно… Мое окно во вселенную. На Измайловском острове сошлись сегодня все времена года. Для «секретных переговоров». Кому же как не Марии Сергеевне при сем присутствовать? Ей ведь любы и медуница, и летний проливень, и метель, и остро пахнущие привядшие листья.
Ничего странного, что все сразу, все вместе. Моя память рассыпает, щедро швыряет в мир, накладывает друг на друга цветные изображения. Кадр за кадром и — кадр на кадр.
* * *
Испорченные туфли. Мокрые чулки… Голицынское лето.
Мария Сергеевна живет в Доме творчества писателей. В коттедже, на первом этаже. Окно выходит в небольшой двор.
Здесь довольно шумно. Три раза в день за едой приходят курсовочники. С детьми. Прихожу порой и я с маленьким, дошкольным еще, племянником. Рвусь поговорить с Марией Сергеевной, но это редко удается: мальчишка все время норовит залезть в собачью конуру, а пес не всегда понимает, что он с самыми добрыми намерениями.
Мария Сергеевна иногда выглядывает во двор. Машет мне рукой. А то я и сама подойду, — если занавески раздернуты, — окликну ее, или, встав на цыпочки, постучу по высокому подоконнику. Мимолетная встреча под кодовым названием «серенада». И действительно, чем не серенада? Она — в окне (балкон можно примыслить), легкая, косо освещенная скудным в то лето солнцем. Я — под окном, тяжелая от резиновых бот и громоздкой куртки. Вместо гитары кошелка, время от времени издающая алюминиевые звуки — кастрюли честно выполняют свои обязанности.
Какой уж тут разговор? Так, короткие фразы:
— Как вам работается?.. Когда можно прийти?..
— Да когда хотите. Когда сможете…
И я, конечно, прихожу, удрав от своих дачных дел.
Сидим, пьем чай. Вечереет. Дождь монотонный, упорный — на всю жизнь. Зареванные оконные стекла. Плачущий сад. Особая тишина вокруг — тишина бесконечно шелестящих капель. Зеленый сумрак.
И плед ее — привезенный из дому, — зеленый с черным. И халат на ней зеленоватый. Подводное царство, а не комната.
Иногда за окном начинает громыхать. Вода лавиной рушится на подоконник. Коттедж вздрагивает, как лодка, — вот-вот пустится в плавание.
Мария Сергеевна рассказывает, как вчера гуляла по болоту. Не захотелось идти к пруду по протоптанной дорожке, в обход. Пошла прямиком, по лугу, через овражек. Влезла в трясину, выпачкалась, промокла до колен. Но шла. Хорошо было. Диковато, пустынно, зелено, влажно. И ароматно. И весело. Когда выходила из болота — выбралась, наконец, на твердую землю, — улыбалась во весь рот.
— А может, и смеялась, теперь уж и не пойму, — говорит она. — Женщины какие-то, местные, испугались даже. За сумасшедшую, видно, приняли.
— За колдунью! — добавляю я.
— За бабу-ягу! — восклицает Мария Сергеевна.
Мы обе смеемся. Бабу-ягу мы любим.
* * *
Через год, через полтора ли после этого маленького «болотного» происшествия нарисовала я бабу-ягу. Небольшой рисунок фломастером и акварелью. Яга стоит в гуще листвы и, приложив согнутую ладонь к уху, слушает лес. Лицо доброе.
Марии Сергеевне рисунок понравился, и я его с радостью подарила ей.
— Это я и есть, — сказала она тогда. — И одно ухо у меня похуже другого слышит. Как у нее…
* * *
С Марией Сергеевной мы не раз говорили и о бабе-яге и о других фантастических существах, лесных и домашних. Всякие там лешие, домовые, кикиморы, русалки.
Зачастую люди взрослые утрачивают непосредственный интерес к волшебным персонажам сказки. Последние как бы уходят из жизни, заняв почетное, отведенное им в фольклоре место. Для Марии Сергеевны сказка во всей ее непосредственности, во всей первозданной прелести продолжалась постоянно.
Она была одной крови с духами лесов и полей, со всеми теми, кого природа — давным-давно, на ранней заре — подарила людям в знак братства всего живого. Подарила, перекинув легкий мостик от лесной чащобы к душе человеческой. Все эти лесовички, водяные, говорящие птицы и звери, разве не требуют они от нас доброты и прежде всего доброты? За добро мы воздадим вам сторицей! — говорят, поют, шепчут они.
Некоторые из них прикидываются злыми, даже зловредными. И баба-яга в том числе. А что ей еще остается делать, если многие глухи к голосу добра? Хоть припугнуть таких… Но зато тем, кому не нужны никакие стращания, она открывает истинное свое лицо: доброе, печальное и мудрое. Лицо самой лесной чащи.
Мария Сергеевна знала это лицо. Шла в лес, в поле, к цветам и деревьям. Как слагались у нее стихи? Не знаю, об этом она никогда не рассказывала. Но думается мне, что многое зарождалось там, за пределами рабочей комнаты. В ее поэтическом голосе нет ни одной фальшивой ноты. Это — чистота собственная, помноженная на чистоту природы, допустившей поэта в свое святая святых.
…То Голицынское лето… Грозовое, ливневое. Волшебное. После прошлогоднего зноя, после измотавшей деревья засухи зелень буйствовала. Малая рощица превращалась в дремучие дебри. И как легко, как вольно дышалось!
Не затем ли мы жаждем грозы,
Что гроза повторяет азы
Неоглядной свободы, и гром
Бескорыстным гремит серебром,
И, прозрачной прохладой дыша,
Оживает, мужает душа…
* * *
…Скоро полдень. На Измайловском пруду — солнце. Выкатилось слева, из-за угла дома. Лучи еще косые, но скоро изменят угол и хлынут на деревья отвесным ливнем. Вода в пруду станет как крепкий чай…
…Чайное золото пруда переливается в чашки… Они стоят на столе, дышут легким паром. И дымок — сизый, от сигареты — смешивается с этой теплой прозрачностью.
Два дивана по обе стороны комнаты, друг против друга, чтобы было удобно и гостям и хозяйке. Большой стол посередине. Чайник и чашки — неизменные участники каждой беседы. Много воздуха. Блещет пол. Сияют оконные стекла. За ними кружатся белые снежные хлопья.
Квартира на Хорошевке. Кто же ее не знает?! Сюда, к Марии Сергеевне, приходят друзья, давние и новые, знакомые, редакторы, собратья по перу, ученики — в прямом смысле, из ее семинара, и те, что считают себя таковыми. Короче говоря, приходят влюбленные. Или, точнее, — любящие и не утратившие влюбленности. Не забывшие очарование первой встречи.
Приходят к поэту, никогда не солгавшему ни единой строкой. Приходят к человеку, никогда не солгавшему ни единым словом. Приходят по делу и просто так — потому что очень хочется увидеть тихо-прекрасное, полное затаенной нежности лицо. Лицо, однажды вдохновившее Сарьяна.
Приходила и я. Я была ученицей Марии Сергеевны в прямом смысле — занималась в руководимом ею семинаре поэтов-переводчиков. Впрочем, и в прямом и в каком угодно. Она учила меня не только искусству перевода, но и неизмеримо большему: понимать поэзию как одно из проявлений душевной чистоты, понимать душевную чистоту как проявление истинной сути человеческой.
Как учила? Да всем творчеством своим, всей жизнью.
* * *
В квартире на Хорошевке был своего рода «филиал» нашего семинара. Правда, здесь мы предпочитали появляться поодиночке. Каждому хотелось не только показать свои переводы или прочитать новые стихи, но и излить душу. Сколько исповедей, сколько рассказов о самом сокровенном выслушала Мария Сергеевна?.. Даже представить себе трудно! Если все это собрать и напечатать, получилось бы многотомное издание. Но наши тайны умирали в этих стенах.
Ей обо всем можно было рассказать: о каком-нибудь незначительном домашнем происшествии, о болезни своей или близких, о первом одуванчике, пробившемся сквозь прошлогоднюю жухлую траву, о размолвке с другом, о похвале редактора. Для нее не было мелочей, ненужных и
неинтересных.
А как она слушала, как вникала!
Впрочем, Мария Сергеевна не только слушала и вникала. Помочь человеку в трудную минуту было для нее делом естественным. Помощь оказывалась мгновенно, без лишних разговоров. Изъявления благодарности пресекались:
— Да будет вам! Ерунда какая…
Я «испытала» на себе самые различные виды помощи. Иногда одалживала у нее деньги, не часто, правда, — она ведь была далеко не богата. Но давала всегда с искренней радостью — что имею, тем и поделюсь. Когда серьезно заболел мой отец, Мария Сергеевна помогла устроить его в хорошую больницу.
Нередко она рекомендовала меня — начинающего переводчика — редакторам издательств. Позже дала мне рекомендацию в Союз писателей.
А еще она умела сорадоваться.
Сопечалиться умеют многие. Если человеку плохо, сказать слово утешения не так уж трудно. Куда труднее разделить радость, искренне, по-настоящему. Для этого надо быть начисто лишенным зависти.
Мария Сергеевна обладала редким даром сорадования. Искорка чужой радости мгновенно подмечалась ею. Подмечалась, выявлялась, выуживалась. И вдруг происходило чудо: маленькое становилось большим, значительным — солнечный блик вырастал до размеров светила.
А уж стихи! Я не знаю второго такого человека, который бы так жадно, так кровно-заинтересованно слушал чужое. Так бы вникал, так трепетал при этом. И так бы радовался, если хорошо. Так даже собственной удаче не радуются. Так ликуют только тогда, когда твой ребенок, детище твое, сотворит нечто достойное похвалы.
…А снег идет. Хлопья кружатся. За окном? Или в комнате — что им стекла и рамы?! Кружатся, шалью ложатся на плечи Марии Сергеевны. Медленно опускаются на стол. Белыми хрупкими кристалликами падают в сахарницу.
Сахарный снег. Снежный сахар. Темно-золотой чай — как вода в осеннем пруду. Чуть голубоватый от сигаретного дыма. И вообще особенный — потому что это чай перед стихами и после стихов.
Сейчас я говорю о своих стихах. Я приносила Марии Сергеевне абсолютно все: поэмы и короткие стихотворения, завершенное и неоконченное. Пока не прочитаю — нет мне покоя…
Появляется Ариша, ее дочь. Такая же затаенно-нежная, как Мария Сергеевна, но не тихая, а задорная, быстрая, порой даже порывистая в движениях. В комнату с новой силой вливаются снежная свежесть, летучий запах морозца, ощущение счастья.
Да, радость теперь полная. Во-первых, потому, что Ариша дома. Когда ее нет, Мария Сергеевна всегда чуть-чуть тревожится. Во-вторых: сейчас будем ужинать. Выясняется, что все голодны, особенно Ариша после работы.
Что греха таить, обеды и ужины в этом доме я тоже люблю. Здесь есть свои фирменные блюда: гречневая каша с крутыми яйцами, пирожки с зеленым луком. Но дело даже не в блюдах, а в атмосфере. Естественно, к столу не каждый день пироги, но уютно за этим столом всегда. И непринужденно, весело. Горит верхний свет. Позванивают ложки-вилки. Болтаем о пустяках.
Стихи. Беседа. Чай. Ужин. И снова стихи. И снова чай. И до неприличия не хочется уходить.
Словно мне в утешение, Мария Сергеевна говорит:
— Мы вас проводим немного. А заодно погуляем с собакой.
Дымка, беспородный и очень благородный песик, уже повизгивает у двери. (Кстати, могли бы вы из-за больной собаки лишить себя летнего отдыха, долгожданного, необходимого? Мария Сергеевна могла.)
Выходим в заснеженный двор. Он огромен — целый поселок с одинаковыми двухэтажными домами, палисадниками, островками деревьев.
«…Очарованье зимней ночи…», «…кусты черны, снега белы…» Как в стихотворении Марии Сергеевны. Не хватает только тройки с «почтенным коренником».
За неимением тройки сажусь в такси. Еду через зимнюю Москву. Дома куда-то отодвигаются, мне видится иное:
На горизонте лес зубчатый,
Таинственный, волшебный лес.
Там в чаще — угол непочатый
Видений, страхов и чудес.
* * *
За моим окном вечереет. Солнце уплывает вправо, скользит по стадиону и валится куда-то вниз — за насыпь окружной дороги. Лучи снова стали косыми, а вода и небо — красными. Скоро все померкнет. Растают деревья. Лишь монастырь будет смутно белеть на острове.
…Но пока догорает закат, я успеваю вернуться в дом на Хорошевке. Взбегаю по деревянной поскрипывающей лестнице на второй этаж. Сейчас дверь откроется… И я верю, я просто уверена, что на этот раз Мария Сергеевна прочитает свои стихи…
* * *
Редко, очень редко она читала свое. И совсем немного. Два-три стихотворения.
Я просила — почитайте еще! Не понимала, почему она не хочет. При такой-то душевной щедрости.
Тогда не понимала. Поняла позже. Во всяком случае мне кажется, что поняла.
Многие поэты пишут, потому что могут писать. Есть у них дар — они и пишут. Напишут — жаждут поделиться. И поскорее. Все понятно, ничего дурного в этом нет. Но бывает и по-другому.
Мария Сергеевна писала только тогда, когда не могла не писать. Подступит к сердцу нестерпимая боль — тогда и напишет. Чтобы выжить и — выживая, выкарабкиваясь из этой боли — дать новую жизнь частице своей души. Или радость когда захлестывала… Выплеснуть ее, необъяснимую, сокровенную… Впрочем, лучше сказать об этом словами самого поэта. Писалось ей лишь тогда, когда:
…Неясное нечто, тебя карауля,
Приблизится произнести приговор…
…И дальше ты пишешь, — не слыша, не видя,
В блаженном бреду не страшась чепухи,
Не помня о боли, не веря обиде,
И вдруг понимаешь, что это стихи.
Но уж если она читала, стихотворение входило в душу навсегда.
Что толковать, остался краткий срок,
Но как бы ни был он обидно краток,
Отчаянье пошло мне, видно, впрок
И не растрачу дней моих остаток.
Я понимаю, что кругом в долгу
Пред самым давним и пред самым новым.
И будь я проклята, когда солгу
Хотя бы раз, хотя б единым словом.
Нет, если я смогу преодолеть
Молчание, пока еще не поздно, —
Не будет слово ни чадить, ни тлеть, —
Костер, пылающий в ночи морозной.
Такие стихи не забываются.
* * *
День кончился. Пруд погас. Деревья на острове слились в сплошную черную массу. И окно мое стало темным. Но Марию Сергеевну я все равно вижу. Светлое лицо. Чистая душа. Удивительная поэзия.
…А когда мне бывает особенно трудно, я повторяю ее строки:
…Сказать тебе, что счастье — будет,
Сказать в безмолвствующий день.
Лев Озеров. Чистый голос
Впервые я услышал о ней от Степана Петровича Щипачева. Незадолго до окончания войны он загадочно спросил меня:
— Вам нравятся такие строки?
И Щипачев тихо, раздумчиво прочитал по листку:
Живи же, сердце, полной мерой,
Не прячь на бедность ничего
И непоколебимо веруй
В звезду народа твоего.
Теперь спокойно и сурово
Ты можешь дать на все ответ,
И скажешь ты два кратких слова,
Два крайних слова: да и нет.
— Кто это? — спросил я нетерпеливо.
— Сперва скажите — нравится ли вам?
— О да! — ответил я.
— Теперь угадайте.
Гадал я долго. Не угадал. Мне не были известны эти строки. Кто?
— Не угадаете. Мария Петровых. Слышали?
— Нет!
— Еще услышите. О ней по-доброму говорят самые взыскательные люди. — И после паузы: — Чистый голос!..
Познакомились мы у Веры Клавдиевны Звягинцевой вскоре после войны. У нее в Хоромном тупике иногда собирались поэты, актеры, музыканты. Добрые хозяева — Вера Клавдиевна и ее муж Александр Сергеевич Ерофеев — создали обстановку непринужденности и радушия. Не исключались остроты, эпиграммы, пародии, словесная пикировка, ирония. Напротив, они оттеняли сердечность, с которой здесь принимали людей любого возраста, звания, любой национальности. Почти всегда на чаепитии присутствовал кто-либо из приезжих армян — поэтов или композиторов.
На одном из таких вечеров Марию Сергеевну Петровых долго упрашивали почитать стихи. Она отказывалась. Застенчивость ее была выражением глубоко скрытой от внешнего взгляда работы души. Сосредоточенность на определенном настроении, мысли, замысле заставляла ее защищаться от резких сигналов извне, от просьб читать на людях, вещать, лицедействовать. Все это ей было чуждо. Иногда она уходила в другую комнату, откуда за руку или под руку ее приводил кто-либо из гостей. Однажды и мне пришлось из другой комнаты увлекать Марию Сергеевну к гостям. Уф! Вконец умаявшись, Мария Сергеевна сдалась на милость неумолимых слушателей. Ну ладно, хорошо, просили? — Так вам и надо! И в полной тишине, когда все боялись шевельнуть рукой или переместиться на стуле, она начала. Это был другой человек. Читала она просто, естественно, степенность была внешним выражением высокого понимания миссии поэта, отрешенность от всех была сосредоточенностью на высказывании и на том, что стоит за ним. Она не заглатывала концов строк и строф, как было тогда принято, не переходила на мелодекламацию.
Общее впечатление было определенным: подлинность, духоподъемность, прозрачность слога, гармония, умеренная, опирающаяся на строгий вкус старомодность. Ничего такого, что било бы на эффект, что было бы не сутью, а посторонней остротой, праздной привлекательностью, переходящей в завлекательность, ни следа модной экстравагантности. Стиль ретро не был тогда принят в такой мере, как сейчас. Если это и была старомодность, то с таким же успехом, если не с большим, ее можно было назвать естественностью и простотой при глубине.
Не об этом ли в стихах Марии Петровых? —
Куда, коварная строка?
Ты льстишься на приманку рифмы?
Ты хочешь, чтобы вкось и вкривь мы
Плутали? Бей наверняка,
Бей в душу, иль тебя осилят
Созвучья, рвущиеся врозь.
Коль ты стрела — лети навылет,
Коль ты огонь — свети насквозь!
«Бей в душу» — это едва ли не самая высокая, резкая нота у Марии Петровых. Но она обращена к строке, к поэзии. И это можно понять, познакомившись хотя бы с двумя-тремя десятками стихотворений этого автора, хотя бы с десятком, хотя бы с тремя…
* * *
Дружба Звягинцевой и Петровых, дружба столь разных женщин, разных характеров и темпераментов, была длительной и трогательной. Их роднила любовь к русской речи, к ее звучанию в стихе — оригинальном и переводном, ревнивое до боли отношение к ее искажениям, из года в год учащавшимся. Обе захлестывали друг друга примерами такого рода искажений, доходивших до уродства. Не тот смысл, не те ударения, не тот оттенок слова. Обе любили толковые словари и не просто листали их, но и носили в себе.
«Мариша» — так называла Звягинцева Петровых. «Мариша не торопится с переводами, а книгу надо сдавать». «Мариша отмалчивается», «Мариша хандрит»… Друг без друга не могли. Три раза в день — не менее — звонили друг другу по телефону. Вера Клавдиевна — с новостями, которые не могла держать при себе, — не терпелось высказать их другому человеку. Мария Сергеевна — со словами сочувствия, участия и с вопросами: кто, что, где, когда…
Бывали случаи, когда ревность порождала подчас недоверие, порой подозрительность, иногда осторожность. Но это — мельком, между прочим, мимоходом. Все проходило быстро, все рушилось, когда в права вступала поэзия, воодушевление, работа. И — Армения. Конечно, Армения. Любовь Звягинцевой и Петровых к Армении не допускала никакой ревности. Обе переводили одних и тех же поэтов и в переводческом искусстве дополняли одна другую. Обе шлифовали две разные грани армянского поэтического кристалла. Аветик Исаакян и Ваан Терьян, Гегам Сарьян и Маро Маркарян, Амо Сагиян и Сильва Капутикян. Никакого спора о дележе. Содружество муз.
На вечерах в Доме армянской культуры, в Клубе писателей (так в ту пору именовался Центральный дом литераторов), на собраниях переводчиков, в Колонном зале Дома Союзов — везде они выступали вместе и пользовались большим успехом. В разное время Пастернак и Антокольский, Твардовский и Фадеев, Маршак и Скосырев, не говоря уже об армянских писателях, с большой похвалой отзывались о переводах Звягинцевой и Петровых.
— Вчера тебя хвалили больше, чем меня, — говорила не без ревности Звягинцева.
— Нет, тебя, Верочка, хвалили куда больше, чем меня, — возражала ей Петровых и принималась доказывать, что это действительно так. Звягинцева таяла, потому что именно это и хотела услышать. Петровых понимала, что делает нечто большое для Звягинцевой.
На портрете Мартироса Сарьяна (работа 1946 года) Мария Петровых запечатлена не только верно, но и проникновенно. Миловидное, мягкое ее лицо обрамлено волосами хотя и коротко подстриженными, но производящими впечатление длинных и пушистых. Челка на лбу не сплошная, а разделена на две-три пряди, открывающие ее лоб, хочется сказать — чело. Голова слегка подалась вперед, навстречу собеседнику, как явленное в жесте внимание к нему.
Взглянув на Марию Сергеевну, один сказал бы: мила, другой — красива. И только третий отметил бы обаяние этого лица, на котором постоянно происходила борьба между желанием высказать то, что на душе, и стремлением сделать его незаметным для постороннего взгляда. С лицом происходило то же, что и со взглядом. Свет и тень вели на этом лице игру, за которой было интересно наблюдать.
Во всей фигуре Марии Сергеевны была выражена истинная грация (хочу употребить именно это старинное слово), какая-то внутренняя пластика. Что-то капризное, вроде бы даже избалованное. Ан нет, что-то отменно знающее тяжелый ежедневный труд, частую нужду, тяжелые утраты («Судьба за мной присматривала в оба, чтоб вдруг не обошла меня утрата»). Нечто было в ней стеснительное, застенчивое и в то же время отважное — от курсистки, начинающей народоволки. Была в ней красота, пугающаяся себя. Желание пригасить на людях свою яркость. Это, как я думаю сейчас (а тогда не думал), врожденный артистизм натуры, жажда высокой игры, игры жизненных сил.
Имел я возможность наблюдать за Марией Сергеевной на собраниях переводчиков (где по ее просьбе я избыточно витийствовал), в Голицыне — за общим столом и в ее комнате, в Вильнюсе. Всюду она привлекала всеобщее внимание своим нежеланием привлекать его.
О себе говорила с неохотой, иногда уничижительно, как о лентяйке, постоянно непоспевающей со взятыми на себя обязательствами. Об этом позднее мы прочитали в стихах:
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости —
Поначалу от робости,
А позднее от старости.
Молчание, активное молчание («Silentium!» — тютчевское, с восклицательным знаком) Марии Сергеевны, ее сомнения в себе, колебания, неуверенность, незащищенность — вся гамма чувств проходила через ее сердце и скупо отражалась на лице. От высокой гордости — до гордыни непризнанности, которую от себя гнала, гнала.
О, как сердце отравлено
Немотой многолетнею!
Что же будет оставлено
В ту минуту последнюю?
Лишь начало мелодии,
Лишь мотив обещания,
Лишь мученье бесплодия,
Лишь позор обнищания.
Она с легкостью признавала себя банкротом, транжиром, человеком, который щедро авансирован, но не в состоянии платить по счетам. Среди бахвалов и фанфаронов, среди любителей бенгальских огней и конфетти, среди самовлюбленных и беззастенчивых — явление Марии Петровых представляется мне уникальным. Как она убереглась, не заразилась, не набралась жестокой обывательской премудрости…
Именно это, очевидно, имела в виду Вера Звягинцева, когда в послании к Марии Петровых писала:
Покажись, безымянное чудо,
Что ты там притаилась одна?
Ты откуда такая, откуда,
Что и слава тебе не нужна?!
Не нужна. Быть не может. Ответ на вопрос Звягинцевой дала Петровых в посмертно опубликованном стихотворении.
…И вы уж мне поверьте,
Что жизнь у нас одна,
А слава после смерти
Лишь сильным суждена.
Не та пустая слава
Газетного листка,
А сладостное право
Опережать века.
Слава Марии Петровых еще не пришла. Но время работает на нее. И я верю, что читатель еще откроет Петровых.
«Безымянное чудо», «притаилась одна»… Что помогало мастеру в его безвестности, в его тени и тиши? В том же посмертно опубликованном стихотворении читаем:
Один лишь труд безвестный —
За совесть, не за страх,
Лишь подвиг безвозмездный
Не обратится в прах…
Ответ простой и четкий.
* * *
Она была внимательна и памятлива.
Вскоре после встречи у Звягинцевой, когда я читал стихи, Петровых попросила меня:
— Прочитайте, пожалуйста, то стихотворение — о дереве на полустанке…
Как она могла запомнить одно из двадцати стихотворений, прочитанных мною тогда?
И я вспомнил юношеских лет стихотворение «Ветром относит осину…» В нем шестнадцать строк. Привожу последние две строфы.
С ветром летящее в вечер,
Гнущееся в дугу,
Что-то в тебе человечье,
Дерево на лугу.
Как бы тебя ни ломало
Ветром или дождем,
Все тебе будто мало,
Все тебе нипочем.
Вопрос Марии Сергеевны:
— И это вы написали в молодости? Каким образом?
— Не знаю. Каждое стихотворение пишется по-своему, по-другому.
— Это «Дерево на полустанке» — ваш «Парус».
— Что вы!
— Не удивляйтесь! У каждого может быть, должен быть свой «Парус». И свой «Анчар» — то же дерево… «Но человека человек послал к анчару…» — продекламировала Мария Сергеевна.
— Должен быть. Верно. Но получается по-другому. Петровых встрепенулась и, как бы отмахнувшись от этой темы, предложила:
— Пойдем дальше!..
И мы заговорили о разных разностях текущей литературной жизни. Под конец Мария Сергеевна и от них отмахнулась и возвратилась к начальной теме.
— Вы увидели в дереве человечное, человека. А иные привыкли в человеке видеть дерево, одеревенелость… — И тут Петровых вспомнила мандельштамовские строки:
Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И я уже не камень,
А дерево пою.
И перед прощанием, уже в передней:
— Прошу вас, когда будете составлять избранное, включите в него «Дерево на полустанке».
— Но ведь это далеко не лучшее мое стихотворение.
— Все равно. Оно вас определяет во многом.
Я не смог ослушаться Петровых. Включил.

М. С. Петровых. Ярославль, 1922.

М. С. Петровых с сестрой Екатериной, Москва, 1936.

На даче М. А. Волошина. Коктебель, 1930 (четвертая слева М. С. Петровых, первый справа М. А. Волошин).

М. С. Петровых с дочерью Аришей. Москва, 1946.

Слева направо: Г. Чулков, М. Петровых, А. Ахматова, О. Мандельштам. Москва, 1933.
 Карандашный портрет М. С. Петровых работы М. Сарьяна. Публикуется впервые.
Карандашный портрет М. С. Петровых работы М. Сарьяна. Публикуется впервые.

Мария Петровых и Маро Маркарян. Москва, 50-е годы.

Мария Петровых и Сильва Капутикян. Малеевка, 1957.

К. И. Чуковский и М. С. Петровых. Переделкино, 1968.

Мария Петровых и Левон Мкртчян. Москва, 1968.

М. Петровых.
Несколько раз Борис Пастернак упоминал при мне имя Марии Петровых, связывая его с Чистополем, военными зимами у Волги.
— Несомненное поэтическое дарование! — говорил он.
Странным образом мне казалось, что строки из «Спекторского» о «Марии Ильиной, снискавшей нам всеобщее признанье», относятся к Марии Петровых. Это, конечно, мой досужий вымысел. Просто подстановка имени Марии Петровых к Марии Ильиной. Так ли это? Написание «Спекторского» относится к самому началу тридцатых годов. А знакомство с Петровых состоялось до этого — в 1927. Мария Ильина чудодейственно казалась мне Марией Петровых. Это чувство, похожее на иллюзию, не прошло до сих пор…
Признаки по-своему пережитой поэтики Пастернака нахожу у Петровых:
Что б ни было — храни себя,
Мы здесь, а там — ни зги.
Моим зрачком пронизывай,
Моим пыланьем жги,
Живи двойною силою,
Безумствуй за двоих.
Целуй другую милую
Всем жаром губ моих.
Неожиданно эта поэтика автора «Поверх барьеров» перекликается с поэтикой Ахматовой, наиболее близкой Марии Петровых, горячо поддержанной ею и продолженной:
Ты отнял у меня и свет и воздух,
И хочешь знать — где силы я беру,
Чтобы дышать, чтоб видеть небо в звездах,
Чтоб за работу браться поутру.
Ко всему, что касалось жизни и работы Ахматовой и Пастернака, Мария Сергеевна относилась с повышенным интересом, как к источнику душевных сил. Она просила меня с протокольной точностью, не опасаясь длиннот, рассказывать ей обо всем, что видел, слышал, узнавал, вычитывал.
* * *
Осанка, оберегаемая боязнью суесловия, гордость женщины и поэта, долготерпение, навык принимать в сердце свои и чужие страдания («чтоб ни было — отмучайся, но жизнь сумей сберечь»), привычка больше терять, чем приобретать, внешне — степенность, — все это заметно перекликалось с Анной Ахматовой. Ее Мария Петровых любила горячо, постоянно, преданно. И при этом пользовалась взаимностью. Я в этом убеждался много раз. Дружеская беседа их — Ахматовой и Петровых — длилась долго. Сравнивают их челки. Этого делать не следует. У Петровых была своя челка, отличная от ахматовской. Дружба с Ахматовой носила еще и характер почтительности младшей к старшей, к ее поэтической величавости. Обе нуждались друг в друге, и это сводило разницу в годах на нет.
При встрече Анна Андреевна спрашивает:
— Вы давно не видели Марию Сергеевну?
— Давно.
Снисходительный взгляд и тишайшая, как бы между прочим произнесенная фраза:
— Это вас не украшает. Вы многое теряете. Она написала прекрасные стихи. Просите, чтобы Мария Сергеевна прочитала их вам…
Перед отъездом в Италию, в город с таинственным названием Таормин, Анна Андреевна просила меня приехать на Ордынку к Ардовым. После недолгого разговора она позволила мне сопровождать ее в такси на Беговую к приболевшей Петровых. Друзья Анны Андреевны беспокоились по поводу поездки в Италию: не стоит ли ей воздержаться от такого длительного путешествия? Но Ахматова решила ехать. Родина Данте и Петрарки, теплынь, почести, которые так поздно пришли к ней, уже и не надеявшейся на них. Некий подарок судьбы. Трудно было отказаться — ей, постоянно читавшей Горация и Данте.
В солнечный день мы приехали на Беговую. Долго, с остановками, взбиралась Анна Андреевна на второй этаж. За это время я успел поведать ей свое, сугубо лирическое. Она выслушала так, как никто никогда не мог выслушать и сочувственно, но довольно уверенно сказала: «Бывает!» Дверь квартиры была уже открыта, и сияющая Мария Сергеевна, кутаясь в шаль, стояла на площадке. Руки рванулись навстречу Ахматовой. Обнялись. Расцеловались. Редко увидишь кадр такой живописной, психологической, историко-культурной наполненности. Он запечатлелся только на пленке моей памяти. Это незабываемо. И это — тема для живописца, наделенного талантом и воображением.
Мать и дочь? Сестры — старшая и младшая? Подруги? Соратницы? Все, вместе взятое. Общее чувство причастности к трагедийной современности.
Разговор был неспешный, несмотря на то что Анна Андреевна уже собиралась в дорогу с сопровождавшей ее Аней Каминской, чувство близкой разлуки витало над словами о сем о том. Мария Сергеевна живописно стояла, прислонясь спиной к стене, словно стена согревала ее. Анна Андреевна сидела на диване — несколько усталая, озабоченная.
Узнав, что за Анной Андреевной кто-то заедет (если, впрочем, она не надумает заночевать у Петровых), я решил оставить их наедине. Может быть, мое присутствие мешает их разговору?
— Ах, зачем вы позавчера сорвались и ушли? — спросила меня Мария Сергеевна по телефону. — Можете посожалеть: Анна Андреевна прочитала три новых стихотворения, одно другого лучше. Вы сможете их прочитать… Но вот я не перестаю беспокоиться: как отважилась Анна Андреевна отправиться в такую дальнюю дорогу.
— Все будет хорошо, — сказал я, — она получит премию, услышит добрые слова, а это лечит получше лекарства…
* * *
Если не ошибаюсь, у Осипа Мандельштама есть посвящение Марии Петровых. Вернее так: стихотворение, ею навеянное. Это, видимо, она «мастерица виноватых взоров». В последней строфе названо имя:
Ты, Мария, — гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить, уснуть.
Я стою у твердого порога —
Уходи, уйди, еще побудь!..
В семье Марии Сергеевны Петровых хранится автограф этого стихотворения с начальной строчкой «Наша нежность гибнущим подмога».
В повадке строфы, в противоречивом движении слов («уходи, уйди, еще побудь»), в самом определении — «мастерица виноватых взоров» есть что-то существенное от Петровых.
Помнится, Анна Андреевна Ахматова говорила о симпатии к Марии Сергеевне, высказанной Мандельштамом. Есть, как известно, снимок, на котором изображены все трое.
Ранней весной 1956 года мы неожиданно встретились на станции Чкаловская, на Клязьме. С матерью моей Софьей Григорьевной мы помещались в бревенчатом одноэтажном Доме отдыха. Неподалеку от нас в большом мрачноватом каменном доме, кажется санатории Министерства иностранных дел, одновременно среди отдыхающих и лечащихся оказались М. С. Петровых, А. Т. Твардовский, М. А. Лифшиц и М. М. Грубиан, еврейский поэт.
Все эти дни мы беседовали то вшестером, то по двое, то по трое, как придется. С Твардовским мы уходили в лес. Он любил перочинным ножом вырезать палки и дарить их. У каждого из нас были такие подарки. Сквозь лес мы проходили в соседнюю деревню и устраивались на лавочке. Иногда Твардовский был очаровательно открыт, разговорчив, весел. Порой им владела тяжелая печаль. Он молчал либо говорил колкое, гневное, уничижительное…
Мария Петровых в эту пору много переводила с литовского: Теофилиса Тильвитиса — «На земле литовской», поэму, в оригинале названную по местности «Уснине». Весна на Клязьме была по душе Марии Сергеевне, она была спокойна, ласкова, внимательна. Мы прохаживались по аллеям парка. Проходили мимо дома, в окне которого в первом этаже нам был виден Твардовский, сидящий за столом, пишущий. Очевидно, он тогда работал над поэмой «За далью даль». Не знаю, не спрашивал, а Твардовский не говорил. Хотелось постоять здесь подольше. Но Мария Сергеевна громким шепотом настаивала: «Уйдем! Уйдем! Заметит, — это ему помешает. Неловко!»
Мы старались развлекать друг друга. Я рассказывал разные смешные истории, приключавшиеся с поэтами. Часто просили меня повторить речь одного известного поэта перед преподавателями МГУ в дни войны. Твардовский, смеясь, багровел и, как бы откашливаясь, говорил с хрипотцой: «Герой как петух с отрубленной головой, головы нет, а трепыхается». Михаил Александрович нежно улыбался и с нежностью смотрел на Твардовского, веселость которого его радовала больше, чем мое лицедейство. Мария Сергеевна качала головой и смеялась от души. При всей меланхоличности она была смешлива, чувствовала юмор. Матвей Грубиан всплескивал руками: надо же такое! Ну и дает!
Мать бранила меня за то, что позволяю себе такое ярмарочное действо, что задеваю в своих устных рассказах титулованных литераторов, что месть может воспоследовать немедленно…
* * *
«Дальнее дерево» так называется единственная изданная при жизни автора книга Марин Петровых в Ереване («Айастан», 1968).
Здесь оригинальные стихи (три цикла: «В годы войны», «Из ранних стихов», «Стихи разных лет») и переводы («Из армянской поэзии»), предваренные вступительной статьей «Поэт» Левона Мкртчяна, стараниями которого книга и увидела свет.
В книге я нашел старых своих знакомцев. Ко мне вернулись некоторые давно слышанные строки:
Беспощадны соловьи,
Пламень сердца расточая.
И ниже:
Заикающийся ритм,
Пробегающий по коже.
Я нашел в книге одно из самых сильных произведений о материнстве. Обращение к дочери:
Тебя держать, бесценная,
Так сладостно рукам.
Не комната — вселенная,
Иду — по облакам.
Кому не придет на память Сикстинская мадонна! Мадонна, говорящая о себе:
Быть может, мне заранее,
От самых первых дней,
Дано одно призвание —
Стать матерью твоей.
Сколько проникновенных, как бы впервые произнесенных строк о любви: «Зиме с землей расстаться трудно, как мне с тобой, как мне с тобой», «Словно от вины тягчайшей, не могу поднять лица», «Назначь мне свиданье на этом свете» — стихотворение, которое Анна Ахматова относила к числу лучших произведений о любви за многие-многие годы, «Как женщина неутомима в жестокой нежности своей».
Мотив невысказанности и пропавшей зря энергии в природе и в жизни человека пробивается во многих стихах. Целиком этот мотив выражен в стихотворении «Пожалейте пропавший ручей!»
Не пробиться далекой струе
Из заваленных наглухо скважин…
Только ива грустит о ручье,
Только мох на камнях еще влажен.
Разве эти стихи только о ручье и об иве? Это о себе. О своей жизни.
Особая воспаленная тема — Армения. Ее небо, ее камни, ее люди, ее поэзия — в армянском цикле Марии Петровых.
…как же я себя обидела —
Я двадцать лет тебя не видела.
Со страной ведется разговор, как с человеком. То же, что и у Звягинцевой. Нет смысла говорить, чья любовь сильнее. Обе сильны и обе выражены по-своему, в духе и манере каждой из поэтесс. Армения стала для них не только предметом любования и восхищения, но и прибежищем их сердец, исполненных жажды жизни, горечи и печали.
…Бескорыстная привязанность к литературе, чистота помыслов, порядочность уберегли Марию Петровых от неразборчивости в человеческих связях. Она была ласкова с людьми. Но даже приближая их к себе, неизменно сохраняла психологическую дистанцию.
…Период, когда Мария Петровых работала над Тильвитисом, отличался от периода, когда она работала над Далчевым, или Галкиным, или Зарьяном. Другое расписание дня, другие интересы, другой ритм. Подъездные пути к Тильвитису были устланы книгами о Литве, литовских обычаях, литовском фольклоре. Болгарские краски — Родопы, Тракия, Великое Тырново, склоны Витоши, крыши Софии виделись на фоне стихов Далчева, сквозь стекла его окна («Прозорец» — «Окно» — основной образ этого поэта).
Она как актриса, готовившаяся к новой роли. Как скульптор, изучавший не только натуру, образ, который предстояло лепить, но и площадки, пространство, где надлежало стоять памятнику.
Она не приноравливалась, как чеховская Душечка, к новому персонажу своих переводческих драм. Нет, она прикасалась к новому для нее характеру, постигала его, а постигая, становилась в какой-то степени этим характером. Она принадлежала к тому разряду переводчиков, которые переводят не слова и строки, а характеры. Поэтические характеры, то есть целые миры.
* * *
Много сил и времени отдавала Мария Петровых молодым одаренным людям, пытавшимся серьезно работать в литературе. Знали, что Петровых строга, но знали также, что она бывает обворожительно добра в том случае, когда видела двуединую работу ума и сердца, жажду совершенствования.
Изредка Мария Петровых своих подопечных посылала ко мне — посмотреть, проверить свое мнение, помочь, дать рекомендацию. Иногда ей не хотелось самой доводить все до конца. Она отходила в сторону, предоставляя удовольствие общаться со своими питомцами Антокольскому, Звягинцевой, Евгенову, ведавшему делами Комиссии по литературам республик, некоторым другим.
Хватало у каждого своих забот. Но на Марию Сергеевну грешно было жаловаться. Она все делала увлеченно. И это тоже связывало людей. Они действительно связывались. А она отходила в сторону и издали любовалась новой общностью. «Теперь моя душа спокойна», — говорила она.
* * *
Мы иногда говорили о природе славы, отделяя ее от репутации.
— Бесславие — это та же слава. Если хотя бы несколько знатоков или любителей понимают, что бесславие в данном случае более почетно и притягательно, чем слава. Иногда бессовестно прославиться.
— «Быть знаменитым некрасиво…» — напомнил я пастернаковское стихотворение.
— Вот именно. Вспомните Арсения.
Думая поначалу, что Мария Сергеевна говорит о себе, я понял, что она имеет в виду не себя, а Тарковского.
— У него бесславие. Но у него есть долготерпение. И это вызывает сочувствие. И это тоже слава. Перевод дает ему передышку. Но он прорвется.
Много лет спустя я напомнил Марии Сергеевне этот разговор. Она просияла:
— Ну вот, видите, я, оказывается, была права…
* * *
Месяцами, нет, годами она могла не общаться с человеком, но, если с ним или с его близкими случалась беда, Мария Сергеевна телефонным звонком или письмом откликалась немедленно. Беда приводила ее в действие. Она брала на себя чужое горе. Это я особенно почувствовал в ту пору, когда лишился матери, — второго апреля 1969 года. Вот письмо Марин Сергеевны, посланное мне:
«Дорогой Лев Адольфович!
Горячо сочувствую Вашему горю. О Вашей утрате я узнала случайно — В. К.[8], видимо, очень худо себя чувствует и не позвонила мне, не сказала ничего о Вас.
Милый Лев Адольфович, Вы были так внимательны и добры к своей маме. Ее жизнь всегда была согрета Вашей любовью.
Я очень помню ту раннюю весну на Чкаловской, 1956 г.[9] Я тогда очень почувствовала Вашу любовь к матери, Вашу близость с нею.
Милый мой, от всего сердца желаю Вам душевных сил.
Хотела как раз послать Вам свою книжечку, но Вам сейчас не до того; потом как-нибудь пришлю.
Очень хочу, чтоб Вы сейчас писали — стихи помогут Вам.
Сердечный привет мой Маргарите Григорьевне.
10 апр. 1969
М. Петровых»
Среди немногих привязанностей на всю жизнь — Самуил Галкин. В их творческих принципах было много родственного. Мария Сергеевна переводила его и редактировала некоторые его книги. Редактором она была строгим, внимательным, неуступчивым. Кто надеялся на «все сойдет», не мог с ней иметь дела. Кто хотел в своем искусстве добиться максимальных результатов, тот много получал от Марии Сергеевны.
Несу Марин Сергеевне переводы Галкина.
— При вас читать не буду, милый. Оставьте их, прочитаю быстро.
«Милый» — ее любимое словцо. Оно в ее устах звучало напевно и успокаивающе.
На следующий день звонит Мария Сергеевна:
— Приходите. Все хорошо. Но — надо поговорить.
Пришел, говорили и час и два. Мария Сергеевна, как опытный педагог, учит не поучая. Берет строфу и показывает, что
этот эпитет ее губит. Подумаем над эпитетом. Думаем долго. Придумали. Оказывается, одно слово потянуло за собой другое, третье. Поворачиваешь, ворошишь строфу, и вот глядишь — она другая, она ближе к искомой истине оригинала. Звоним по телефону Галкину. Он слушает, соглашается, но… Это «но» грозит новыми переделками. Мария Сергеевна устала. Пришел после обеда — досиделись до сумерек.
— Перерыв! — говорит Петровых. — Довольно.
Свет не включен. Вглядываюсь в Марию Сергеевну. Сожалею, что не живописец. Овальный портрет. Пастельные тона. Нет, персидская миниатюра. Еще лучше — старинная акварель, тоже овал.
Было очень тихо. Мария Сергеевна подошла к окну — сизо-синему. Стояла долго, безмолвно. Я видел ее голову с распущенными с боков волосами, спину, мягкую, певучую линию перехода от затылка к спине, от спины к бедрам. Фигура была обведена синькой вечера. В стекле стали появляться огоньки — больше, больше. Их отсветы двигались по комнате. Мы молчали. Сколько прошло времени — десять минут, полчаса, два часа? — не знаю. Тишина звенела. Мы молчали. Бывают такие редкие минуты сумеречной тишины, когда люди общаются без слов и жестов. Незримое и пока непонятное им общение происходит стремительно и запоминается навсегда, как некое откровение, явленное таинственным образом. Об этом у Бориса Пастернака:
При музыке? Но можно ли быть ближе,
Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами погодно,
О, пониманье дивное, кивни,
Кивни и изумишься: ты свободна.
Да, это понимание. Иначе это не назовешь.
Внезапно Мария Сергеевна обернулась и включила свет. Я увидел сияющий, больше — ликующий взгляд, в котором были и свет понимания и явное нежелание говорить. Такого взгляда больше я не видел у нее. Это была она в наиболее полном и истинном выражении.
Как она самозабвенно слушала, когда говорил или читал стихи Галкин! Еврейского языка Мария Сергеевна не знала, но поэт чувствует поэта особым способом. Она схватывала на лету самое главное, что присуще Галкину. Самуил Залманович о лучшем редакторе и не мечтал. Он доверял ее вкусу, выбору, суждению. Ценил Марию Сергеевну как собеседницу и был уверен, что все ее так ценили.
— Вы еще не влюбились в Марию Сергеевну? — лукаво спрашивал Галкин.
— Нет, — отвечал я растерянно, полагая, что в таком отрицании есть что-то ущербное, неразумное: как так не влюбиться в Петровых!
— Вы железный человек! Как можно не поддаться очарованию этой женщины! Надежный друг. У нее голос идет не из горла, а из сердца. Ах, вам не дано различать голоса! Это беда, большая беда.
И вдруг Галкин произнес то же словосочетание, которое впервые я услышал от Щипачева: чистый голос!
Есть у художника суровость в пору, когда его художество нуждается в защите. У Марии Сергеевны эта суровость была нежной и одновременно непреклонной. О чем веду речь?
Приношу Петровых перевод (того же Галкина). Долго читает. Кладет листок передо мной. И, не говоря ни слова, пальцем изящно показывает на строку. Затем отходит в сторону, смотрит в окно, дает мне возможность подумать. Поворачивается ко мне лицом и вопрошающе смотрит на меня…
— Понял, надо править, — говорю с некоторой растерянностью.
— В том-то и дело, милый…
Предлагаю варианты. Думает, не сразу отвечает. Нет! Нет! Поиск продолжается. Нашел! Мария Сергеевна расцветает, идет навстречу.
Что значит так называемая жизнь человека, если далеко не все, связанное с ним, завершено, если наша память не отказывает нам в высоком праве говорить об ушедшем человеке, как о части нашей собственной жизни, если его стихи достойно продолжают его, если еще не выполнен наш долг перед ним. Перед ней — Марией Сергеевной Петровых.
Отзовись из безвестности! —
так вопрошала она. Так вопрошаем мы. И она отзывается.
Д. Самойлов. Наброски к портрету
Я впервые увидел Марию Сергеевну через несколько лет после войны, в обстановке для нее необычной. В Литовском постпредстве нескольким переводчикам вручались грамоты Верховного Совета.
За банкетным столом напротив меня сидела хрупкая большеглазая женщина лет около сорока, бледная и как-будто отрешенная от всего происходящего. Впоследствии я узнал, как мучительны были для нее многословные чествования и официальные
мероприятия. Она чувствовала себя здесь чужой.
Она была хороша собой, хотя почему-то трудно ее назвать красавицей. Во внешности ее была усталость, одухотворенность и тайна. Я попробовал с ней заговорить. Она ответила односложно.
Мне сказали, что это переводчица Мария Петровых. Большего о ней я тогда не знал. Мало знали о ней и в литературных кругах, с которыми я соприкасался. Мы встречались иногда в Клубе писателей, раскланивались. Никогда не заговаривали друг с другом.
Однажды в Клубе Павел Григорьевич Антокольский подозвал меня к столику, где сидел с Марией Сергеевной. Она протянула мне руку, маленькую, сухую, легкую. Назвалась. Назвался и я.
Павел Григорьевич любил оживленное застолье. Еще кого-то подозвал, заказал вина. Возник какой-то веселый разговор.
Павел Григорьевич был особенно приподнят, остроумен, вдохновен. Мария Сергеевна говорила мало, негромко, мелодичным приятным голосом. Она была другая, чем в Литовском постпредстве. В ней чувствовалась внутренняя оживленность, внимание ко всему, что говорилось, особенное удовольствие доставляли ей речи и шутки Павла Григорьевича.
Деталь, которая мне вспомнилась и которая характеризует женственность Марин Сергеевны: она всегда была скромно (чаще в темном) и необычайно уместно одета.
С этого вечера мы встречались уже как знакомые. Она даже как-то высказалась по поводу одной из моих первых публикаций, передала мнение Ахматовой, с которой была близка. Ее слова помогли мне отважиться на встречу с Анной Андреевной. Но это уже другой сюжет.
Именно эти предварительные обстоятельства способствовали быстрому нашему сближению, когда Петровых, Звягинцева и я были назначены руководить семинаром молодых переводчиков во время одного из мероприятий Московского отделения Союза писателей. Петровых и Звягинцева давно дружили. Возможно, что именно Вера Клавдиевна «втянула» Марию Сергеевну в перевод с армянского.
Семинар был рассчитан на неделю, но так оказался интересен для участников и руководителей, что продолжался и дальше. Мы регулярно встречались раза два в месяц (потом реже) в продолжение двух лет. А возможно, и дольше.
На семинаре читались переводы и стихи. Порой приходили почитать молодые поэты, входившие в славу. Отношения были самые нелицеприятные. Хвалили друг друга гораздо реже, нежели ругали. Но все выступления были горячими, искренними, заинтересованными. Обижаться было не принято.
Мария Сергеевна и Вера Клавдиевна в резкой критике участия не принимали, часто брали обиженного автора под защиту.
Иногда, когда что-то им сильно не нравилось, смущались, стыдились за того, кто написал нечто дурное или безвкусное.
Обычно первым подводил итоги обсуждения я. Тогда я был намного самоуверенней и задорней, чем сейчас. Рубил с плеча. Меня участники семинара между собой называли «Малютка Скуратов».
Вера Клавдиевна что-то растерянно гудела под нос, не то одобряя, не то осуждая меня. Мария Сергеевна, взволнованная, слушала молча. Изредка, если я слишком уж зарывался, осаживала меня:
— Ну что вы, Давид. Это уж слишком.
В заключение часто выступала она. Она была доброй, но не «добренькой». Умея не обидеть, она достаточно твердо давала оценку тому, что ей не нравилось, но с большим удовольствием отмечала достоинства обсуждаемого. Сама очень ранимая, она понимала всякую ранимость и умела сказать главное, не обижая автора. Впоследствии с ее твердостью столкнулся и я, когда она несколько раз была редактором моих переводов.
Когда постепенно семинар угас — отчасти потому, что некоторым не под силу был его накал, отчасти потому, что многие уже не нуждались в постоянном творческом руководстве, — многие из нас подружились.
Несколько верных друзей и учеников приобрела на семинаре и Мария Сергеевна.
Наши с ней отношения тоже сложились и укрепились благодаря совместным занятиям.
Не могу назвать нашу дружбу слишком тесной. Она основывалась на взаимной любви и уважении, общих вкусах и интересах и общем деле. Мария Сергеевна никогда не посвящала меня в тайны своей жизни, не делилась подробностями своего прошлого. Она вообще мало говорила о себе. Никогда не читала стихов. Только изредка жаловалась, что стихи не получаются. «Нелюбовь к признаньям скорым», — сказала она о себе. Не могу, однако, сказать, что у нашей дружбы были какие-то четкие пределы. Мы могли сказать друг другу многое или даже все, ибо мало было людей в моей жизни, к которым я относился бы с большим доверием, чем к Марии Сергеевне. Просто так сложилось, что о многом мы не говорили. Впрочем, скорей она, чем я. Мне случалось прибегать к ее душевному опыту в нескольких случаях, когда нравственные решения были для меня трудны.
Я бывал регулярно у Марин Сергеевны в доме со скрипучей лестницей на Хорошевском шоссе, в ее деревянной скромной квартирке. Мария Сергеевна кормила ужином, наливала мне водки. Сама только пригубливала. Просила читать стихи. Всегда очень эмоционально отзывалась на них.
Однажды навестил на Хорошевке Ахматову, кочевавшую в ту пору по Москве, потому что место ее у Ардовых на Ордынке было занято. Мария Сергеевна из деликатности при нашей беседе не присутствовала. Она знала, что Анна Андреевна больше любит разговоры с глазу на глаз.
Обхаживать Анну Андреевну в беспорядочной квартире и без всякого умения хозяйствовать ей было трудно. Да и вообще нелегко, наверное, было жить рядом с Ахматовой. Но Мария Сергеевна старалась и только как-то вскользь пожаловалась: трудно. Она относилась к Ахматовой с восхищением и громадной любовью. Та говорила о ней с нежностью. Называла: Маруся. Высоко ценила ее поэзию.
А я, представить сейчас трудно, не знал тогда стихов Петровых. Когда-то прочитал ее журнальную публикацию. Но она не запомнилась. И как поэта оценил Петровых, только прочитав ее маленькую книжку, вышедшую в Армении.
В Армении ее высоко почитали как переводчицу, и оригинальные ее стихи получили там признание раньше, чем в России.
Трудно писать о Марин Сергеевне. Ведь все, что говорится о ней, — говорится впервые. Я рассказываю детали. А сам образ еще не намечен, хотя бы приблизительно. И возможно, по недостатку материалов он будет выстроен по ее стихам. Ну что ж, личность поэта — его стихи. А несовпадение земного облика с этим высоким образом, в сущности, случайность. И Мария Петровых предстанет перед будущими поколениями не в разрыве от своих стихов, а только в единстве с ними.
У меня несколько писем от Марии Сергеевны. Написаны они по поводу посланных ей моих книг.
Там несколько признаний.
«А я совсем перестала писать, Давид. Для человечества от этого потери никакой, но душе моей очень больно. Беда, когда есть какие-то данные, но нет призвания».
«Я нелепый, нескладный, оцепеневший человек».
Так она думала о себе. Думала в прозе. А в поэзии другие слова: «пристальная душа», «невольная сила». Это вернее.
Менее чем за год до смерти переехала она в удобную квартиру на Ленинском проспекте. По этому поводу писала:
«Очень понятно мне Ваше стихотворение про „ветры пятнадцатых этажей“. Я живу на 11-м, но это все равно что пятнадцатый… А я очень тоскую по тем низеньким ветрам — слишком привыкла к ним за всю жизнь.
Не уверена в том, что живу, но существую. Здесь много неба, которого в городе не видишь, не замечаешь и даже забываешь о нем. Вот небом и утешаюсь».
Это из последнего письма ко мне.
Еще детали. Первый посмертный цикл стихотворений Марии Сергеевны был опубликован в газете Тартуского университета.
Мария Сергеевна — редактор. Кто-то из переводчиков о ней, доброй и кроткой, выразился: «зверь». По ее редакторской работе я понял ее отношение к переводу: страстное, личное. Пристальность души проявлялась и здесь. Она волновалась, огорчалась, когда чувство и мысль переводимого автора искажались своеволием переводчика. Она всегда любила того, кого переводила. Она болела за каждую строчку, словно сама ее написала. Редактируемые обижались. Им хотелось проявить поэтическую индивидуальность. Но в переводе она проявляется именно в страстном и бережном отношении к тексту. Свойства «пристальной души» проявились и здесь. А в редакторском деле — твердость и воля.
Впрочем, это все наброски к портрету. Я еще напишу о Марии Сергеевне Петровых.
* * *
Я посвятил ее памяти «Три стихотворения».
I
Этот нежный, чистый голос,
Голос ясный, как родник…
Не стремилась, не боролась,
А сияла, как ночник.
Свет и ключ! Ну да, в пещере
Эта смертная свеча
Отражалась еле-еле
В клокотании ключа.
А она все пряла, пряла,
Чтоб себе не изменить,
Без конца и без начала
Все тончающую нить.
Ах, отшельница! Ты лета
Не видала! Но струя
Льется — свежести и света —
Возле устья бытия.
Той отшельницы не стало,
Но по-прежнему живой
Свет лампада льет устало
Над водою ключевой.
II
Во сне мне послышался голос,
Так тихо, что я не проснулся,
И сон мой к последнему вздоху
Как будто в тот миг прикоснулся,
К последнему вздоху Марии,
Который настолько был легким,
Что словно уже относился
К бессмертью души, а не к легким.
На миг, что почти неприметен,
Сошлись непохожие двое —
С ее сновиденьем бессмертным
Мое сновиденье живое.
III
И вот уже больше недели,
Как кончилась вся маята,
Как очи ее не глядели
И не говорили уста.
Казалось, что все это рядом,
Но это уже за чертой,
Лишь память не тронута хладом
И не обнята немотой.
И можно ли страхам и ранам
Позволить себя одолеть?
Лишь память, лишь память дана нам,
Чтоб ею навеки болеть.
Елена Николаевская. Тайна
Назначь мне свиданье
на этом свете,
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!..
Сколько лет тому назад услышала я впервые эти строки — 25, 30?.. А потом — прочла в давнем альманахе… И сейчас они так же потрясают, пронзают своей истинностью, обнаженной первозданностью чувства и выражения, страстью, обладают магической силой, как подобает всамделишному заклинанию…
Когда-то поэт Максимилиан Волошин в одном из своих стихотворений сказал удивительно точно: стих создают безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность…
Мне кажется, эти слова могли бы быть с полным правом и основанием обращены к стихам Марии Сергеевны Петровых.
Вот как писала Мария Сергеевна Петровых о себе, о своей судьбе, приоткрывая сущность своего душевного строя:
Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Мам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон.
Я думаю о тех, которым
Раздоры ль вечные с собой
Иль нелюбовь к признаньям скорым
Мешали овладеть судьбой…
«Нам даже разговор о славе казался жалок и смешон», — вот суть ее поэтического, ее человеческого характера, — и «нелюбовь к признаньям скорым», несуетность, бескорыстие…
Если бы отвлеченные понятия обрели плоть и кровь — такие как благородство, деликатность, тактичность, естественность, сдержанность и постоянное горение, удивительное чувство собственного достоинства (чуждое малейшего желания хоть чуть-чуть потеснить, ущемить чужое достоинство), — эти абстрактные понятия приняли бы облик Марии Сергеевны Петровых.
…Так размышляет о своей поэтической судьбе, о своей жизни Мария Петровых: «Ни ахматовской кротости, ни цветаевской ярости — поначалу от робости, а позднее от старости. Не напрасно ли прожито столько лет в этой местности? Кто же все-таки, кто же ты? Отзовись из безвестности!..»
Кто же все-таки, кто же?.. Поэт — по самой своей глубинной сути. По складу своему. По ощущению и восприятию мира.
«Поэт —…человек, одаренный природой способностью чувствовать, сознавать поэзию и передавать ее словами, творить изящное…», — вот как пишет Вл. Даль в своем знаменитом словаре…
Мария Петровых одарена природой чувствовать и сознавать поэзию и передавать ее словами…
(Не о том же ли, в сущности, что и Вл. Даль, писала Марина Цветаева: «Равенство дара души и глагола — вот поэт».)
У М. С. Петровых абсолютный слух. Абсолютная зоркость. Чуткость. Совершенное чувство гармонии, чувство меры. Вкус. Чувство природы, слиянности с нею.
Здесь когда-то блестела вода,
Убегала безвольно, беспечно,
В жаркий полдень поила стада
И не знала, что жить ей не вечно.
В ее стихах — предельная естественность, подлинность судьбы и голоса, огромный эмоциональный накал — и поразительная сдержанность в выражении, точность слова и лаконизм; отсюда, вероятно, такая пронзительная трепетность строк — бесстрашных, открытых, исполненных благородства и достоинства…
Я на перекресток выйду,
На колени упаду.
Дайте слез омыть обиду,
Утолить беду!
О животворящем чуде
Умоляю вас:
Дайте мне, родные люди,
Выплакаться только раз!
Таким стихам — в их безоглядности — чужд всякий намек на позу, на аффектацию. Они не нуждаются во внешних эффектах или в шаманстве: магия, заклинание заложены в них самих… Голос слышен ее — при том, что она никогда не форсирует звука…
По складу характера, по человеческой сущности, которая совершенно совпадает с ее поэтическим обликом, Марии Сергеевне Петровых присущ особый талант — талант дарения. Да, это талант, и нечастый: уметь дарить и испытывать радость от дарения. От самоотдачи. Это — о ней: цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех… Она умеет слушать другого, вернее, выслушивать, понять и, обладая не менее редким даром сочувствия, может встать на место другого, понимая его и сострадая ему.
Поэтому так живо, подлинно и трепетно звучат ее переводы.
Ей свойствен истинный артистизм, дар проникновения в душу, в переживание другого, дар постижения и воспроизведения живого состояния души — перенесения этого состояния души из одного языка в другой, из одного бытия в другое… Труднее всего не нанести ущерба гармонии, магии стиха, внутренней, трудно уловимой мелодии…
Мария Сергеевна Петровых знает тайну гармонии.
Всегда, когда я читаю новый сборник поэта, которого знаю и люблю — я имею в виду переводной сборник, — я угадываю переводы М. Петровых сразу, безошибочно — и это не моя доблесть, а особенность голоса Марии Сергеевны, исполнительского ее мастерства.
Читая, например, переводы ее из лирики Маро Маркарян, просто физически ощущаю поразительную прозрачность, акварельность красок, всюду — воздух: осенний в листопад, весенний — перед грозой, и прозрачен он, воздух, и прозрачен лед, и прозрачны даже сумерки.
Вот одно короткое стихотворение из Маро Маркарян:
И сребролистый пшат,
Грустящий над водой,
И пустота дорог
В полдневной знойной мгле,
Где ширь безгрешных нив
Желта,
Желта,
Желта,
И одинокий дрозд
На сумрачной скале,
И магия имен,
Презревших тлен времен,
Гранитною плитой
Приникнувших к земле…
И слышу взволнованный голос Маро: «Я в мир пришла как под хмельком. И оттого иду не в такт, Я изнутри обожжена И оттого иду не так… Я выровнять пытаюсь шаг — Не получается никак…» И слышу «тишину, вплетенную в кусты…» Все светится изнутри, светится в русских стихах Марии Петровых, постигшей внутреннюю мелодию чужого стиха, угадавшей его интонацию, гармонию, движение…
Переводчики «привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне…» — писал Б. Пастернак о русских переводах из Рильке…
Мария Сергеевна удивительно точно воспроизводит живое дыхание стиха, живой голос автора, тот самый «тон сказанного», о котором говорилось выше…
…И вот Мария Петровых уже исполняет иную роль, перевоплотившись в другую свою (нашу) подругу — Сильву Капутикян, точно передавая откровенность, страстность и отважную незащищенность ее строк:
Да, я сказала: «Уходи», —
Но почему ты не остался?
Сказала я: «Прощай, не жди», —
Но как же ты со мной расстался?
Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы,
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?
И — совершенно совпадающее интонационно, метрически, ритмически стихотворение:
Приди, приди, приди,
Хотя бы без желанья —
Хотя бы для прощанья,
Приди, приди, приди!
… … … … … … … … … … … … … …
Пусть горе впереди, —
Что плакать об утрате!
Хоть из чужих объятий —
Приди, приди, приди!
Может быть, иным покажется, что я много цитирую «чужих» стихов. Да, это их стихи, Маро и Сильвы, это доподлинно так, но это — и стихи Марии Петровых, они принадлежат и ей; и прямота, и открытость, и бесстрашие души — ее…
… … … … … … … … … … … … … …
О чем же, о чем, если мир необъятен?..
Я поздно очнулась, кругом ни души.
О чем же? О снеге? О солнце без пятен?
А если и пятна на нем хороши?..
О людях? Но либо молчание, либо
Лишь правда, а мне до нее не дойти.
О жизни?.. Любовь моя, свет мой, — спасибо.
О смерти?.. Любовь моя, свет мой, — прости.
И эти стихи помню с давних пор. И повторяю их — как впервые читаю, всякий раз перехватывает горло…
Есть финское слово «runo», означает оно «стих» и «песнь», что, в сущности, одно и то же, и должно совпадать, как испокон веку слова «поэт» и «певец» совпадали и были взаимозаменяемы (это сейчас они порой разбегаются в разные стороны). И оказывается, как мне объясняли финны на одной встрече в Хельсинки, по-древнескандинавски «runa» значило — «тайна»… Таким образом, «стих — песня — тайна» едины и неразделимы: и совпадение это — многозначительно…
Песнь, тайна Марии Сергеевны Петровых осталась с нами, и нам — внимать ей, постигать ее снова и снова и не расставаться с нею…
В. Купченко. М. С. Петровых в Коктебеле
В обители Максимилиана Волошина Мария Сергеевна была в 1930 году. Жила в поселке, но часто бывала в Доме поэта. Сохранились фотографии, где она снята вместе с хозяевами и их гостями: филологом М. С. Альтманом, поэтом А. В. Минихом (Масловым), композитором А. А. Шеншиным, художницей Е. Н. Ребиковой. Времяпровождение ее, по-видимому, не отличалось от других: купанье, прогулки, чтение книг из волошинской библиотеки. Всего один летний месяц! А затем, после отъезда, начинается преображение Коктебеля — и творческий заряд, полученный там, действует несколько лет…
17 марта 1931 года, извиняясь за долгое молчание, Петровых пишет Волошину:
«Если бы знали Вы, как глубоко благодарна я Вам за Ваше отношение ко мне, как бесконечно дорожу я Вашим высоким вниманием. И жить, и писать могу, когда думаю о Вас».
Жалуясь на душевыматывающую службу «в редакции одной паршивенькой газетки», Мария Сергеевна дает обет: «Как бы то ни было, я непременно буду на родине стихов — в Коктебеле».
Продолжались и человеческие коктебельские связи: Петровых виделась с Е. Н. Ребиковой, познакомилась с поэтессой Р. М. Гинцбург. В июне, находясь в доме отдыха в Сестрорецке, она пишет: «Здесь очень красиво: песок и сосны. И море, — которое заставляет еще горячее тосковать о Черном». Спрашивая М. С. Волошину о возможности своего приезда в августе, поэтесса снова готова квартировать в поселке:
«Ведь, где бы я ни жила, я всегда буду чувствовать себя в гостях у Вас и Максимилиана Александровича. Потому что душа Коктебеля принадлежит ему».
Недостаток средств помешал поездке. «Ужасно горько. Если б Вы знали, как я тоскую о Вас и о Коктебеле, — пишет Мария Сергеевна Волошину 30 сентября. — Всю зиму мечтала о нем, прекрасном»… Увидев у Р. М. Гинцбург портрет Волошина, купленный у фотографа в Коктебеле, Петровых собирается переснять его для себя. И, как «фактическое доказательство» своей тоски о Коктебеле, посылает маленькую поэму «Карадаг»…
Летом 1932 года мечта о поездке на юг вновь оживает. «Мне пришлось пережить трудную зиму, — пишет поэтесса Волошиным 20 июля. — Трудную и душевно, и телесно — я почти все время болела. Теперь я здорова, чувствую себя хорошо и очень хочу к вам, мои дорогие». В это время Мария Сергеевна живет в Саввинской слободе под Звенигородом, — и здесь, среди среднерусской природы, пишет стихи о Киммерии. «Акварели Волошина» датированы одиннадцатым августа: в этот день и в эти часы в Коктебеле скончался Максимилиан Александрович. Другое стихотворение — клятва верности Коктебелю! — называется «Перед смертью» — и, по-видимому, также написано до того, как Петровых получила горестную весть…
Уже из Москвы она пишет М. С. Волошиной горячие слова утешения.
«Я всей душой с Вами… Только любовь пусть будет в сердце Вашем, только любовь, но не отчаяние, не уныние. Сохраните для всего мира, для будущих людей все, что создано им: его рисунки, его стихи… Ведь его еще не знают по-настоящему. Но узнают! И будут любить глубоко».
В начале 1933 года Мария Сергеевна повидалась с Марией Степановной в Москве — но недолго. И 6 мая писала ей:
«Так хотелось бы мне быть сейчас в Коктебеле — вздохнуть полной грудью, до конца. Для меня только там это возможно. А как хочется распрямиться во весь рост и вздохнуть — до отказу»…
В дальнейшем М. С. Петровых вспоминала Коктебель еще в нескольких стихотворениях: «Мне вспоминается Бахчисарай…», «Нет, не поеду я туда…», начало поэмы «Адорай». Во всех этих стихах Коктебель предстает как «адо-рай», смешение ада и рая. Объясняя происхождение «окаменелого костра» древнего вулканического массива Кара-Даг, поэтесса творит легенду о мятежном серафиме-богоборце. В морской пучине ей чудится «рьявол» — рьяный дьявол, повелитель водных стихий (стихотворение «Рьявол» 1931 года). И в то же время Коктебель — край вдохновенного покоя и гармонии, «пленительная земля», которую невозможно забыть…
Е. Ольшанская. «Какая радость — каждый истинный поэт!»
В одну, из первых встреч Вера Клавдиевна Звягинцева спросила, кого из современных поэтов я люблю. Я ответила: «Люблю многих. Но двое мне особенно близки: Арсений Тарковский и Мария Петровых».
Вера Клавдиевна сказала, что оба они — ее друзья, но с Арсением Александровичем они давно не виделись, а Мария Сергеевна часто у нее бывает и очень к ней внимательна.
В следующий свой приезд в Москву я услышала от Веры Клавдиевны, что Мария Сергеевна хочет со мной познакомиться. Тут же Звягинцева и познакомила нас по телефону.
Мария Сергеевна, узнав, что я уезжаю вечером следующего дня, пригласила приехать днем. Она подробно рассказала, как удобнее добираться (в моем блокноте и поныне хранятся ее указания о том, что это правый корпус, второй этаж…). Но на следующий день мне не удалось попасть к Марии Сергеевне; когда я на всякий случай предварительно позвонила по телефону, ответила ее дочь, что ночью у мамы случился сердечный приступ, была «скорая», мама всю ночь не спала и вот сейчас вздремнула…
В 1971 году я послала Марии Сергеевне свой сборник стихов. Она откликнулась письмом, внимательно и очень тепло отозвавшись о стихах, выразила надежду на встречу.
Письмо заканчивалось вопросами:
«Любите ли Вы стихи Елены Благининой, Александра Гитовича, Александра Кушнера? Это — сильные поэты, но, может быть, они Вам далеки? Любите ли Вы стихи Давида Самойлова? Прекрасный поэт! Какая радость — каждый истинный поэт!»
Только 2-го июня 1972 года я, наконец, смогла побывать у Марии Петровых.
Скрипучие деревянные ступени вели на второй этаж. Вот и одиннадцатая квартира.
Звонок. Открывает Мария Сергеевна.
Я знала ее по портрету работы Сарьяна, помещенному в книге «Дальнее дерево». На этом портрете у нее короткие, лежащие волнами волосы, челка.
Женщина, открывшая мне дверь, была худенькой, с тонким выразительным лицом, с черными, строго подобранными волосами. «Турчанка» — вспомнилось мне (так называл ее Осип Мандельштам).
Мария Сергеевна встретила меня приветливо, словно давнюю знакомую. Немногословная, она умела удивительно хорошо слушать собеседника, поэтому и в первую и в последующие встречи я не чувствовала никакой скованности. Наоборот, все время ощущалось, что внимательна она не просто из вежливости, а что ей действительно интересно. Я это приписываю не себе лично: видно, к людям, к их судьбам и к тому, что они делают на земле, у Марии Сергеевны всегда был живой интерес.
И в первую и в следующие встречи я не припомню разговоров о будничном, случайном, житейском. Говорилось о самом насущном: о поэзии.
Уже с первых минут меня удивило и порадовало то, с какой личной заинтересованностью говорила Мария Сергеевна о творчестве своих собратьев-поэтов, как гордилась их удачами.
На ее рабочем столе лежало несколько книг современных поэтов и среди них — новая книга переводов Наума Гребнева. Мария Сергеевна прочитала оттуда два особенно понравившихся ей стихотворения. Я взяла в руки эту книгу и на титульной странице увидела надпись автора: «Мария Сергеевна, как я Вас люблю!»
С исключительной нежностью говорила Мария Сергеевна о Вере Клавдиевне Звягинцевой, о ее стихах:
— Как она владеет интонационной речью! А язык какой богатый — так уже по-русски и не говорят…
Мария Сергеевна поделилась своими мыслями о том, как много поэту дает переводческая работа. Чувствовалось, что поэты, которые являются в то же время талантливыми переводчиками, ей особенно близки.
В связи с этим я вспомнила киевского поэта Р. Заславского, который много лет был известен как переводчик и лишь в прошлом году издал хорошую книжку собственных стихов.
Мария Сергеевна:
— Ах, это прекрасный поэт, а я так перед ним виновата: не ответила, не поблагодарила за книгу. Если представится возможность — сделайте это за меня!
Попросила меня
: почитать свои новые стихи. Я читала много, Мария Сергеевна все хвалила. Я смутилась:
— Мария Сергеевна, вы столько хорошего наговорили, что мне просто неудобно!..
Мария Сергеевна, обиженно:
— Я
не наговорила, а сказала то, что думаю.
Поднялась, пошла к книжному шкафу, говоря:
— Хочу подарить вам «Дальнее дерево», но все экземпляры раздала. Есть у меня один — с надписью, но я ее заклею и надпишу вам.
— Мария Сергеевна! У меня есть уже ваша книга.
Это не важно: ее вы кому-нибудь подарите. А я хочу, чтобы у вас была книга от меня…
Достала сборник стихов, надписанный кому-то, заклеила надпись плотным бумажным прямоугольником, на котором написала крупным почерком:
«Дорогой Евдокии Мироновне Ольшанской с благодарностью за её стихи
М. Петровых
1972 г.»
Когда я уходила, Мария Сергеевна сказала:
— Мы должны были встретиться… Пишите, присылайте стихи. Я, правда, никому не пишу писем, но вам постараюсь ответить. И позвоните, когда будете уезжать…
А на следующий день, уже собираясь на вокзал, я слушала по телефону добрые напутствия Марии Сергеевны.
* * *
В начале мая 1972 года, приехав в Москву, я гостила у Тарковских.
В первый же вечер Татьяна Алексеевна спросила, какие у меня планы на следующий день. Я ответила, что собираюсь в гости к Марии Сергеевне.
— К Марусе… — задумчиво сказал Арсений Александрович. — Мы с ней очень давно дружим. И начинали вместе. Она удивительный поэт.
Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата, —
начала вполголоса читать Татьяна Алексеевна.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба, —
подхватил Арсений Александрович.
Она ко мне внимательна особо
И на немые муки торовата, —
читали они уже в два голоса. Так и дочитали стихотворение до конца.
Когда я пришла к Марии Сергеевне, то сразу же рассказала об этом.
— Спасибо, — сказала она. И по лицу ее было видно, что она взволнована.
В этот раз Мария Сергеевна спросила меня, каких поэтов я особенно люблю. Я перечислила почти всех, кого она называла в письме, добавив к ним Булата Окуджаву и Вадима Шефнера.
— Окуджаву я тоже люблю. Вот Шефнера, к сожалению, не помню, — смущенно сказала она.
Я прочитала два очень любимых мной стихотворения — «Отлетим на года, на века» и «Переулок памяти».
— Поразительные стихи! — ахнула Мария Сергеевна. — И как это раньше я их не знала.
Когда я заметила, что она радуется чужим стихам, как своим, Мария Сергеевна удивилась:
— А как же иначе?
…Зная о давней дружбе Марии Сергеевны с Анной Ахматовой, я попросила ее рассказать об Анне Андреевне. Вот что я запомнила из этого рассказа, а вечером записала:
«Николай Николаевич Пунин называл Марию Петровых ведомая. Она боготворила Пастернака, а Ахматову просто ценила. И вдруг в 1933 г. пошла к ней („нагло“, как сказала сама) знакомиться.
Анна Андреевна лежала в полупустой комнате, была очень худа. Когда Мария Сергеевна вошла к ней, поднялась. Петровых читала свои стихи.
Анна Андреевна спросила, где она остановилась.
— У Р.
А на следующий день Мария Сергеевна была дома, когда ей сказали: „К вам пришли!“
Это была Анна Ахматова — в узкой фетровой шляпе, облегавшей голову, удивительно шедшей к ней, к ее огромным серым глазам.
С этого и началась их дружба.
Ахматова была бесконечно добра. Она делала Марии Сергеевне бесценные подарки: покупала у букинистов свои ранние книги и дарила ей с автографом.
Однажды подарила великолепный перстень. Это произошло в доме Ардовых, примерно в 1957 году. Мария Сергеевна не хотела брать, а Борис Пастернак, лукаво поигрывая глазами, уговаривал взять. (Теперь этот перстень хранится у дочери Марии Сергеевны.)
Он был очень велик, Мария Сергеевна вообще не носила колец, — вот он и лежал у нее в коробочке на столе. Однажды Анна Андреевна, в то время жившая у нее, спросила:
— Что это за перстень?
— Да это вы подарили!
— Я? Не может быть!
— Анна Андреевна, об этом знают Пастернак и Ардовы…
С трудом припомнила.
К Анне Андреевне ходило множество народу. Марии Сергеевне приходилось выходить на остановку автобуса встречать их.
Ахматова говорила:
— У Маруси вторая стадия: я только не отвечаю на письма, а она уже не распечатывает их».
* * *
В мае 1974 года я приехала в Москву вместе с мужем, и Мария Сергеевна предложила, чтобы мы пришли к ней вдвоем. С большой любовью говорила она в этот день о стихах Давида Самойлова и об их авторе, радовалась выходу в свет книг Елены Благининой, Юлии Нейман. Вспоминала о В. К. Звягинцевой — какой у нее был удивительный голос…
Я сказала, что у меня есть стихи памяти Веры Клавдиевны, и прочитала их. Когда окончила чтение, Мария Сергеевна попросила переписать ей эти стихи, что я тотчас и сделала.
На вопрос, пишет ли она, ответила:
— Очень мало. И какие-то длинные стихи. Я ими недовольна.
(Теперь, когда было несколько посмертных публикаций, еще раз убеждаюсь в том, как безмерно была она добра к другим и как требовательна к себе.)
Прошу почитать что-нибудь из новых стихов, но она отказывается наотрез:
— Я давно не читала и совсем отвыкла. Раньше, когда писалось, изредка читала.
Очень просит меня почитать. О многих стихах, которые я читаю по ее просьбе, говорит: «Это прекрасно», «Чудесные стихи» и т. д.
Рассматривая блокнот с моими стихами:
— Какая маленькая книжечка. Вы и пишете на маленьких листках? А я пишу только на больших. Я не могу писать за столом. Пишу там (показывает на диван), что-нибудь подложив под лист. Впрочем, какое имеет значение, на чем и где мы пишем. Главное — стихи.
Заговорили о тех, кто ушел. Я сказала, что в этот день узнала о смерти Сильвы Соломоновны Гитович, вдовы поэта Александра Гитовича.
Мария Сергеевна стала говорить о Сильве Соломоновне: какая это была удивительная женщина, сколько в ней было доброты и преданности мужу, что Сильва до конца оставалась очень красивой; заговорили, естественно, об Александре Гитовиче. Петровых сказала, что он не мог пережить Анну Андреевну: «Никто ее не любил так, как он!»
Я рассказала, как ходила в 1964 году к даче Ахматовой в Комарове, как ко мне вышел Александр Ильич с собакой, очень похожий на Хемингуэя, как он был приветлив и обещал, что сообщит мне, когда приедет Анна Андреевна. Сказала также, что я ему выразила признательность за его стихи о Пикассо, а он ответил:
— Эти стихи стоили мне инфаркта…
Мария Сергеевна:
— Это удивительно, что он вас так встретил: он очень ревновал Анну Андреевну. Ревновал не только к мужчинам, но и к женщинам. Анна Андреевна говорила: «Ну, я понимаю, когда ревнуют жену, любовницу… Но ревновать старуху соседку!..»
— Ко мне, — продолжала Мария Сергеевна, — он вначале тоже страшно ревновал, а потом привык и полюбил меня…
Заговорили о Георгии Щенгели.
Мария Сергеевна:
— Последние его стихи очень хороши. В них стало много души. Особенно хороши стихи о птицах. Прочитала их мне Анна Ахматова, причем сразу не назвала автора, — она знала, что прежние книги Шенгели я считала холодными и несколько искусственными. И очень рада была Анна Андреевна, что мне понравились эти стихи.
Когда я сказала, что Арсений Тарковский познакомился с Анной Андреевной у Шенгели, Мария Сергеевна ответила:
— Может быть, впервые встретился с ней у Шенгели, но подружились они потом, в Голицыне. Анна Андреевна очень ценила Арсения Александровича. Я тоже очень люблю его поэзию, с нетерпением жду новой книги.
Когда мы уходили, Мария Сергеевна неожиданно поцеловала меня. А потом сказала:
— Приходите. Приходите вместе.
Эм. Александрова. Горная дорога
«Мысль изреченная есть ложь». Об этом особенно следует помнить, приступая к воспоминаниям. И в роли читателя. И в роли автора.
Непредвзятый, достоверный словесный портрет — мечта недостижимая, ибо человек — многогранник. К одному повернулся одной стороной, к другому — другой. И только совокупность многих зарисовок, сделанных людьми разными и с разных точек зрения, может дать более или менее полное представление об оригинале. Надеюсь, то немногое, что я хочу сказать о Марии Сергеевне Петровых, тоже послужит этой цели.
Первое, что заставляет меня задуматься, это поразительная разность, попросту — полярность моего изначального и моих последующих впечатлений о ней. Та Петровых, которая раскрывалась мне на протяжении долгих лет и продолжает раскрываться поныне (во вновь опубликованных стихах, в рассказах товарищей), ничего не имеет общего с невзрачной, неопределенного возраста женщиной в порыжелой фетровой шляпе, порожденной модой двадцатых годов и непостижимым образом дотянувшей до сорок пятого — то есть до того именно года, когда я увидела Марию Сергеевну впервые в саду Московского крематория, в день похорон Владимира Яхонтова.
Впрочем, нет. Не то чтобы в ней ничего не осталось от той, давней. Неумение одеваться сопутствовало ей всегда. Но сегодня оно для меня не досадный недостаток, а существенный штрих к образу человека, поначалу воспринятого с долей снисходительного недоумения и постепенно выросшего в фигуру героическую, близкую по сути Дон Кихоту и Жанне д’Арк…
В высказываниях о Петровых обычно преобладают определения «тихая», «скромная». На мой взгляд, они требуют раскрытия. Ее тишина была тишиной подвижничества, а скромность воистину паче гордости. Да что там гордости — гордыни! Ее чувство избранности сродни тем, что отличали Ахматову и Цветаеву. Поэзия была ее сутью, ее счастьем и несчастьем. Единственным способом жить. А способ жить и способ добывать средства к жизни, увы, не одно и то же. Свести их воедино не всякому дано. Марии Сергеевне меньше, чем кому бы то ни было.
Не отсюда ли, при всем ее бесспорном женском обаянии, это гордое пренебрежение к элегантности? Не отсюда ли шляпка двадцатых годов в середине сороковых? И надменное выражение вызова на ее лице, такое странное, даже смешноватое для меня тогдашней и такое прекрасное для меня нынешней?
Нет, в моих глазах она не тихая скромница. Воительница из стана поэтических пророков. Пушкинский «рыцарь бедный». Суровый паладин, стойко защищающий достоинство и чистоту Поэзии.
Чистота, кстати, была ей присуща не только в стихах, но и в быту. Вспомнить монашескую, почти стерильную вылизанность ее аскетического жилья (хочется сказать — «кельи») на Беговой, где не было, кажется, ни одной лишней, суетной вещи. Ни одной безделушки. Никакого намека на женщину. А ведь она была истой женщиной! Женщиной, всегда возвращавшейся в свое гордое одиночество, в свое, говоря словами Цветаевой, «гетто избранничества», где не было места и малейшему компромиссу. Ни в чем. Ни в стихах, ни в любви. Где на первом плане всегда пребывало служение Слову. Слову, нередко даже и не произнесенному…
Одно мне хочется сказать поэтам:
Умейте домолчаться до стихов.
Не пишется? Подумайте об этом
Без оправданий, без обиняков.
Но, дознаваясь до жестокой сути
Жестокого молчанья своего,
О прямодушии не позабудьте
И главное — не бойтесь ничего.
Какой великолепный и какой точный автопортрет оставила нам Петровых в этой краткой стихотворной формуле!
…Сейчас уже с трудом представляю себе, что когда-то она могла казаться мне некрасивой. В памяти — благородный овал под пажеской челкой. Нежно очерченный нос. Нежная вмятинка на подбородке. В памяти прелестный женственный голос: спокойно-доброжелательный, когда надо деликатно указать новичку на неудачный оборот в переводе. Волнующий, завораживающий, когда она читает стихи.
Горная дорога,
Трудная дорога,
Через вешние луга,
Через вечные снега,
От отрога до отрога
И отвесно и отлого
Прямо к солнцу ты идешь,
Горная дорога!..
Эти переведенные Петровых и не раз ею читанные на поэтических вечерах строки Маро Маркарян запомнились мне особенно. Мария Сергеевна трактовала их как стихи о трудном пути поэта. И воспринимались они как поэтическое кредо не только автора подлинника, но и автора перевода. Что ж, ничего удивительного, когда перевод — не средство заработка, а потребность души выразить другую душу.
Петровых и здесь никогда не шла против своей художнической совести, отбирая, как правило, лишь то, что было созвучно ей самой. И переводное переставало быть переводным, становилось фактом русской поэзии.
К сожалению, не могу причислить себя к близким друзьям Марии Сергеевны. И все-таки мне повезло: я не раз испытала на себе ее благотворное влияние. И как
редактора. И как старшего товарища, доброжелательно следившего за моей литературной работой на протяжении нескольких десятилетий. И в качестве высокого нравственного примера, который подает нам ее поэтическая судьба, ее трудная горная дорога.
Григорий Левин. Человек среди людей
Мне выпало на долю большое счастье — знать лично многих дорогих мне поэтов, которыми, как и сверстники мои, я бредил в молодости, в их числе Н. Асеева, М. Зенкевича, Б. Пастернака, А. Прокофьева, В. Саянова, М. Светлова, И. Сельвинского, Я. Смелякова, Н. Тихонова, И. Эренбурга… Знакомству с А. Ахматовой я обязан М. С. Петровых.
В 1937—41 годы я учился в Харьковском государственном университете на филологическом факультете. Первый курс мы прошли — плечо в плечо — с моим заветным другом Михаилом Кульчицким. Кульчицкий после окончания первого курса ХГУ перевелся в Литературный институт имени Горького Союза писателей СССР. Мы переписывались, а когда Кульчицкий приезжал в Харьков — неизменно встречались. Он познакомил меня с тогда еще мало известным Б. Слуцким.
Михаил Кульчицкий пристально следил за всем талантливым, что появлялось в советской поэзии.
Вот в эти-то предвоенные годы мы с моим другом под многими переводами, забыть которые было невозможно, впервые обнаружили имя М. Петровых. С тех пор для нас стало важно не столько то, кого переводит Мария Сергеевна, а то, что переводит именно она. Ее голос в переводах — при всей верности оригиналу — мы угадывали даже без подписи.
На моем жизненном пути, где-то в конце 1941 года, я случайно встретил в Казани замечательного еврейского поэта Самуила Галкина. И при первом случайном знакомстве он рассказал мне о смерти Марины Цветаевой. Тогда же рассказал о чистопольском братстве и — особо — упомянул о блистательном успехе М. Петровых, о ее стихах, посвященных Пушкину, высоко оцененных всеми поэтами, в том числе Н. Асеевым и Б. Пастернаком.
Запавшее мне в память имя М. Петровых, которое я отыскивал во всех сборниках переводов, можно сказать, облеклось плотью и кровью, когда я услышал Самуила Галкина. В его словах явственно проступало слово «открытие». Кстати скажу, именно Марии Сергеевне мы обязаны лучшими книгами Самуила Галкина: высоко она его ценила и, не зная языка подлинника, проявила редчайший вкус и чутье. В связи с этим вспоминаю вечер С. Галкина, на котором председательствовал Константин Симонов. Мария Сергеевна на этом вечере не произнесла ни слова. Но когда К. Симонов сказал о ее заслугах в открытии русскому читателю большого поэта С. Галкина, — весь зал встал и бурно аплодировал русскому поэту, который столько сделал во имя Поэзии. Вспоминаю характерную для нее записку во время вечера: если буду выступать, надо сказать о достоинствах ценимого ею переводчика И. Гуревича.
Однажды, перелистывая журнал «Русская литература» (Ленинград), я обнаружил и переписал опубликованное там стихотворение Б. Пастернака, записанное в альбом одному из его чистопольских почитателей. И здесь я услышал отзвук того, о чем рассказывал мне С. Галкин:
…Где, лучшие среди живых,
Читали Федин и Леонов,
Тренёв, Асеев, Петровых…
Как видим, имя Марии Сергеевны здесь даже зарифмовано. И думаю, не случайно. Ведь она так высоко чтила имя Бориса Пастернака.
…На единственной своей прижизненной книге «Дальнее дерево» Мария Сергеевна написала: «…скромный знак благодарности за двадцать пять лет нашей дружбы. Мария Петровых. 10 января 1969 г.» В «Литературной газете» была напечатана моя статья об этой книге: «Зоркость сердца». Мария Сергеевна прислала мне теплое письмо, написанное характерным для нее сдержанным и благородным стилем… Чем дороже тебе человек, тем труднее говорить о нем, когда его уже нет… Удивительная черта Марии Сергеевны — при ее вошедшей в поговорку скромности — душа, открытая общению с людьми. Степень ее доверия к людям, веры в них была беспредельна. Мне запомнились в стихотворении Веры Звягинцевой, посвященном Марии Петровых, такие строки: «Ты откуда такая, откуда, Что и слава тебе не нужна?!» И там же есть еще одна примечательная строка: «Покажись, безымянное чудо». Вот именно — безымянное…
Но имя-то было. И не одно только имя…
Кстати, существенная деталь: Мария Сергеевна как-то рассказывала мне, что получила письмо от Александра Трифоновича Твардовского, когда он снова вступил в должность редактора «Нового мира», с просьбой прислать в журнал ее стихи. Среди многих имен не забыл все же Александр Трифонович — Марию Петровых. Но свои стихи в «Новый мир» она так и не отправила… Еще один штрих в этом же плане. Михаил Львов готовил очередной выпуск «Дня поэзии». А ведь именно в «Дне поэзии» в 1956 году впервые было опубликовано стихотворение М. Петровых «Назначь мне свиданье на этом свете…», о котором А. Ахматова сказала как о «шедевре лирики». М. Львов читал по телефону Марии Сергеевне строки ее стихотворений, просил, чтобы она дала что-нибудь в очередной выпуск «Дня поэзии», при этом гарантируя безусловную публикацию стихов. Тем не менее Мария Сергеевна отказалась решительно. Случилось так, что я присутствовал при этом разговоре, и об отказе М. Львов говорил мне с большим сожалением.
Три состава отдела поэзии издательства «Советский писатель», возглавляемые последовательно поэтами В. Субботиным, М. Львовым, Е. Исаевым, зная единственную в своем роде, ничем не преодолимую скромность Марии Сергеевны и высоко ценя ее дарование, предлагали неслыханное в издательской практике: приехать к ней на дом и на дому у нее составить книгу. В этом плане я должен был как бы играть роль связующего звена. А Мария Сергеевна все отнекивалась, отговаривалась, искала — и находила — поводы, чтобы отложить встречу с работниками издательства.
Вспоминаю — единственное в своем роде — заседание секции поэтов Московской писательской организации (ныне — Творческое объединение поэтов). Удивительное было заседание: заведующий отделом русской советской поэзии «Советского писателя» Егор Исаев докладывал план отдела поэзии на очередной год. Встаю и говорю: «План хороший. Но есть одно упущение: нет в нем имени Петровых». А книги-то не было: Мария Сергеевна так ее и не составила. Но настолько был высок авторитет поэта, что все единодушно высказались за включение в план издательства практически еще не существовавшей книги. Однако и в этом случае Мария Сергеевна так и не сдала рукопись в издательство.
Когда подумаешь о напористости иных молодых да ранних, у которых уже издано по десять-пятнадцать книг, как правило, книг без стихов, — вот тут-то и заходится сердце…
Одного-единственного человека, достойного Марии Сергеевны по таланту и по скромности, могу назвать — А. Тарковского. Как и Мария Сергеевна, многие годы он был преимущественно известен как переводчик. Первая книга оригинальных стихов А. Тарковского «Перед снегом» вышла в свет, когда Арсению Александровичу было за пятьдесят… Но после этого, хотя и с перерывами, книги А. Тарковского находили дорогу к читателю. Что же касается М. С. Петровых, то «Дальнее дерево» осталось единственной прижизненной книгой ее оригинальных стихотворений.
Десять последующих лет жизни поэта подарили нам немало блистательных переводов, в том числе удивительную книгу, открывшую читателям своеобразного болгарского поэта Атанаса Далчева. Но так мы и не дождались тогда второй книги Марии Сергеевны. Только посмертно, в 1983 году, вышла книга ее стихов разных лет «Предназначенье».
М. Петровых вела уединенный образ жизни. В течение многих лет она редко выходила на люди. И тем не менее она всегда была с людьми. В числе неизменных ее друзей такие имена, как Н. Заболоцкий и А. Тарковский. Были в кругу этих имен — В. Звягинцева и К. Арсенева, В. Потапова и Ю. Нейман, Н. Гребнев и Г. Корин… Было много молодых ленинградских поэтов. А главное — неизменно была А. Ахматова, которая в свои приезды в Москву неоднократно останавливалась у Марии Сергеевны. В один из таких приездов Мария Сергеевна и познакомила меня с Анной Андреевной Ахматовой, зная, что для меня это будет большим праздником.
Нежно полюбили Марию Сергеевну участники руководимого мною в течение многих лет литературного объединения «Магистраль». Мария Сергеевна не однажды присутствовала на занятиях этого коллектива, в частности на выездном заседании секции художественного перевода. Вместе с ней были П. Антокольский, С. Городецкий, Л. Пеньковский, В. Звягинцева — всего, кажется, одиннадцать человек. Это выездное занятие объяснялось тем, что в «Магистрали» были талантливые молодые переводчики. У меня сохранилась фотография так называемой поэтической встречи Нового года в «Магистрали», здесь рядом с Марией Сергеевной — С. Наровчатов, П. Антокольский, М. Шехтер…
Участники «Магистрали» бывали и дома у Марии Сергеевны. Она слушала их стихи, говорила о них строго, но бережно.
Внимательно слушая и точно оценивая стихи других поэтов, свои же Мария Сергеевна, как правило, читать не любила. Больших трудов стоило добиться от нее, чтобы она прочитала или дала прочитать несколько своих стихотворений. Как большую драгоценность храню я переписанные ею после моих просьб несколько стихотворений, среди них — широко известное ныне «Дальнее дерево» («От зноя воздух недвижим…»), о дереве, не находящем покоя и в тихую погоду. Помню, как поразили меня строки: «Оно бы радо убежать, Да корни глубоки».
Марии Сергеевне я обязан чутким пониманием и ободрением. Каждая встреча с ней — это была не только оценка стихотворений, но большой разговор о поэзии, встреча с русским языком в его корневой основе. Теперь могу покаяться: заметив, что Мария Сергеевна увлечена разговором, я старался незаметно для нее записывать наиболее замечательные ее высказывания, хотя лучше меня справился бы с этим магнитофон: записывать надо было бы все подряд. Каждое ее слово мы старались вобрать в себя, буквально в плоть и кровь. И к концу встречи было такое ощущение, как после целого дня напряженной творческой работы. Она прямо-таки излучала какую-то радиоактивную энергию, которая требовала столь же радиоактивной реакции.
И как она умела радоваться удачам своих товарищей, особенно молодых, как умела их окрылять! И как старалась достойно проводить в последний путь своих сверстников. В этих случаях она не только нарушала свое затворничество, но заботилась о том, чтобы о них сказано было должное слово. Помню, как просила она меня сказать это слово при проводах Веры Звягинцевой, Клары Арсеневой…
Щедрая душой, Мария Сергеевна не была безразлично добренькой. Как бы ни было знаменито то или иное имя, если оно было ей не дорого, не близко, то она говорила спокойно и безразлично: «Это не мой поэт». В литературе она выбирала душевно родственное себе.
Вспоминаю отдельные имена. Прежде всего — драматурга А. Н. Островского. Высоко ценила А. Ахматову, М. Цветаеву, М. Волошина, Б. Пастернака.
О чувстве языка у Марии Сергеевны можно было бы рассказать очень много. Ограничусь одним личным примером. В двенадцатом номере «Юности» за 1956 г. было опубликовано мое стихотворение «Я тебя другой хотел бы видеть». Мария Сергеевна обращает мое внимание на строку «Не хочу совсем тебя обидеть» и говорит, примерно, следующее: «Значит, совсем обидеть не хотите? А все же обижаете? Здесь надо было сказать не „совсем“, а „вовсе“», — с некоторым даже раздражением сказала Мария Сергеевна, как бы с обидой за язык, который она так любила и чувствовала. Мне стало совестно, что я сам не сумел заметить досадной неточности. А как-то в разговоре я употребил слово «языкóвая». Мария Сергеевна с досадой говорит: «Запомните: это колбаса есть такая — языкóвая, а о языке надо говорить — языковáя». Вспоминается, как Марину Цветаеву раздражало употребление слова «обязательно» в смысле слова «непременно».
Как и многие другие, бесконечно обязан я Марии Сергеевне ненавязчивыми уроками языка, художественного вкуса, такта.
Как и многих других, привлекала и меня Мария Сергеевна к переводу стихотворений любимцев своих — того же С. Галкина, Маро Маркарян. По личному опыту скажу, что была она образцовым редактором — точным, предельно внимательным к слову, но ничего не навязывала, только советовала.
Кровью сердца написанные стихи М. С. Петровых отзываются постоянной и бесконечной болью в душе. Для очень многих она была олицетворением чистоты, подлинности, благородства.
О широте творческих интересов М. Петровых говорит ее дружба с такими замечательными учеными, как Н. Гудзий, В. Адмони.
Свои несколько отрывочные воспоминания разрешу себе закончить стихотворением, посвященным дорогому мне поэту и человеку. Надеюсь на то, что оно доскажет невысказанное прозой.
М. Петровых
Мне кажется, что вы светлее,
Что в вас того смятенья нет,
С которым жить вдвойне труднее,
Что вас спасает этот свет.
Что вас спасает этот свет.
Та мудрость жизни, чистота,
Как та вершина снеговая
Большого горного хребта.
Свою умея слабость прятать,
А может быть, одолевать,
Иную ведаете правду
И с нами делитесь опять.
И всем вы щедро раздаете,
С кем только случай ни сведет.
И оттого вы так живете,
Как правду знающий живет.
А у меня стезя иная,
В ней радость тоже есть своя.
Порою с ней и я узнаю
Тот смысл высокий бытия.
Пускай и увлечен иною
Стихией, я опять стою
Пред вашей чистой глубиною,
И в ней себя я узнаю.
Светлана Куралех. За раздвоенной асфальтовой дорожкой…
…Мне сел на ладонь соловей молодой,
И дрожью откликнулись в листьях рулады.
… … … … … … … … … … … … … …
И вдруг засветился мгновенным дождем
Весь лес, затененный дремучими снами…
Как горько мы жаждем, как жадно мы ждем
Того, что всегда и везде перед нами!
Так просто, рядом, прочно на земле и высоко в небесах одновременно. Кажется, близко лежит, легко додуматься, но в том-то и секрет… Именно эти стихи Марии Петровых попались мне первыми на глаза. И уже потом:
Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Нам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон…
Или:
Я думала, что ненависть — огонь,
Сухое, быстродышащее пламя,
И что промчит меня безумный конь
Почти летя, почти под облаками…
Или:
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости —
Поначалу от робости,
А позднее от старости…
Поразили в ее стихах выстраданность и непоколебимость чувства, спаянность и отточенность строк, безукоризненный музыкальный слух.
«Дальнее дерево» я впервые увидела у своих знакомых. Взяла почитать. «Только осторожно, — сказали мне, — листы плохо сшиты». Очевидно, это относилось ко всему тиражу, потому что листы плохо держались и в книге, подаренной мне через несколько лет Марией Сергеевной.
* * *
…В годы учебы в Литературном институте имени Горького (училась я на заочном отделении) многие мои сокурсники посещали «великих». За бесконечными студенческими чаепитиями проскальзывали «между прочим» то подробное описание обстановки в квартире поэтессы А., то рассказ о встрече в дружеском кругу с поэтом Е. Мария Петровых в списках «великих» не значилась. И в институте о ней говорили редко. Разве что однажды ее имя было упомянуто на семинаре по русской советской литературе — вслед за именем Арсения Тарковского — среди поэтов, поздно получивших признание.
В разговоре с одной из сокурсниц я поделилась впечатлениями от стихов Марии Петровых и не удержалась: «Вот бы познакомиться!» — «Запросто, — обронила небрежно сокурсница. — Сходи — старушки страсть как обожают подобные визиты». Позднее я убедилась в том, что Мария Петровых и слово «старушка» не имеют друг к другу никакого отношения. Из-за этого случайно оброненного «старушка» никогда никому в институте не могла рассказывать о встречах с Марией Сергеевной.
А начались они с моего телефонного звонка. Уже в том, как она объясняла дорогу, угадывался поэт: «Взгляните на Пушкина (памятник на Пушкинской площади) и переходите на другую сторону. Садитесь на двадцатый троллейбус, доезжайте спокойно до остановки „Первый Беговой проезд“ и тут насторожитесь, потому что на следующей вам выходить. За раздвоенной асфальтовой дорожкой…» Последние слова до сих пор звучат во мне как начало ненаписанного стихотворения:
За раздвоенной асфальтовой дорожкой,
Где живет Мария Петровых…
Говорила она спокойно и понятно, будто чертила устный план. По этому плану я вовремя насторожилась, вышла на нужной остановке, быстро нашла небольшой дом. Но прежде передо мной предстали тополя — те самые «заблудившиеся в веках вельможи».
…Их пудреные парики,
Темно-зеленые камзолы,
Всему на свете вопреки,
Как возле царского престола,
Красуются перед окном.
И думать ни о чем ином
Я не могу. На миг забуду
И снова погляжу в окно.
И снова изумляюсь чуду…
Это я прочту позднее, уже в посмертной книге. А сейчас войти в дом на Хорошевском шоссе, подняться по старой деревянной лестнице, позвонить. Дверь открыла она сама. Ошибиться было невозможно, раз увидев молодую Марию Петровых на портрете Сарьяна.
* * *
Один из моих недостатков тот, что я много и назойливо умею извиняться, вызывая хозяев на: «Да что вы!», «Какие могут быть хлопоты!» и так далее. Моя первая же попытка начать нечто подобное в доме Марии Сергеевны встретила такой удивленно-спокойный взгляд, что больше при ней ничего из этой серии повторять было невозможно. Да и с другими потом я старалась одергивать себя. В первый же приход мне стало здесь как-то очень уютно. Располагали к этому и скромная обстановка, и ровный голос хозяйки. Она все делала без суеты. Спокойно опускала цветы в вазу. Спокойно шла на кухню и, возвращаясь с едой, расставляла ее на столе. Покормить в первую очередь, и никаких возражений. А потом чай, а за чаем разговоры.
Обычные, чисто бытовые вещи обретали в ее устах некое таинственное значение, становились поэзией. «А знаете, — говорила она, — почему мне нужен именно валокордин? В нем есть хмель». И за этим «хмель» чудилось неотстоявшееся, бродящее стихотворение. Она усаживалась на тахту, подобрав под себя ноги, брала сигарету, рассказывала о том, что курит, никогда не затягиваясь, но без сигареты не может, и вспоминалось:
Пусть будет близким не в упрек
Их вечный недосуг.
Со мной мой верный огонек,
Со мной надежный друг…
«Почитайте стихи», — обращалась я к Марии Сергеевне. Читать свои стихи она не любила. Читала, но мало, если я просила понастойчивей. Чаще давала читать с листа. Еще чаще ей удавалось как-то ловко переводить разговор на другое, и вот уже выходило само собой, что читала свои стихи не она, а я. Слушать Мария Сергеевна и любила, и умела. Радовалась удачно найденному образу, тонко подмечала огрехи, находила очень точные слова для оценки. А как она была внимательна! Не забывала похвалить новое платье, подробно расспрашивала о занятиях в институте, о литературной жизни моего города, о моей, тогда инженерной, работе. В какой-то период я вдруг начала писать для детей, и Мария Сергеевна настояла на моей встрече с Еленой Александровной Благининой, «свела» меня с ней. На прощанье Елена Александровна сказала: «Мария Сергеевна — редкий человек. Дорожите этим знакомством».
Со дня этого знакомства прошло уже десять лет, а я так ясно вижу небольшой дом на Хорошевском шоссе
; старую деревянную лестницу и дорогое лицо Марии Сергеевны.: Для меня ее образ связан только с этим домом. Они так подходили друг другу.
Знала Марию Сергеевну внимательной, заботливой, готовой прийти на помощь. Знала ее спокойной и деликатной. Как же я была изумлена, когда в разговоре о стихах Петровых один из наших преподавателей, пожилой поэт, лично знавший ее, охарактеризовал Марию Сергеевну как человека резкого и вспыльчивого. Это долго не укладывалось в голове, мучило меня. И только недавно я нашла объяснение этому в воспоминаниях Ю. Нейман, где приводится случай, когда Мария Сергеевна выставила за дверь юношу, позволившего неосторожно высказаться о том, что было для нее очень дорого. Видимо, и в общении с нашим преподавателем она приняла в штыки что-то органически ей чуждое, чем и заслужила столь неодобрительную его оценку.
Не все удержалось в памяти (знала бы, что когда-нибудь решусь на воспоминания, записывала бы), но всплывают отдельные обрывки наших вечерних разговоров за чаем. Не всегда помню точные слова, но четко — голос, интонацию, выражение глаз.
Говоря о новой поэме Давида Самойлова «Снегопад», будто выпрямляется вся. Давид Самойлов — ее любимый современный поэт. Разговор заходит об Арсении Тарковском. О его стихах, которые она высоко ценила, и вдруг: «Только недавно заметила, какие у него глаза. Не понимаю, как я умудрилась в него не влюбиться». С огромным уважением рассказывает о поэте-переводчике, всю жизнь ждавшем книгу своих оригинальных стихов и отказавшемся от нее из-за того, что редактор не включил в сборник дорогую для автора поэму. Имя критика Левона Мкртчяна произносится тепло, с той долей нежной иронии, которую можно себе позволить только по отношению к близким друзьям. Не раз слышала от нее: «Это починил Левон», «Это было, когда приезжал Левон», «Вот приедет Левон». Об Армении и армянских поэтах говорила часто. Но о том, что она — заслуженный деятель культуры Армянской ССР, не обмолвилась ни разу.
В памяти остались и отдельные фразы, эпизоды.
По телевизору звучит привычная, полюбившаяся всем музыкальная заставка к передаче «В мире животных». Я хвалю музыку. «А по-моему, слишком мрачно», — замечает Мария Сергеевна. Она слышит в этой музыке что-то глубже и сильнее других, а главное, по-своему, не боясь пойти вразрез с общим суждением.
«Не могу плакать. Другие могут, а я так устроена, что никогда не плачу». (У Марии Сергеевны есть об этом замечательные стихи:
…О животворящем чуде
Умоляю вас:
Дайте мне, родные люди,
Выплакаться только раз!
Пусть мольба моя нелепа,
Лишь бы кто-нибудь принес, —
Не любви прошу, не хлеба, —
Горсточку горючих слез.
Я бы к сердцу их прижала,
Чтобы в кровь мою вошло
Обжигающее жало,
От которого светло…)
«Не упускайте стихи. Не теряйте того, что пришло — потом будет поздно».
И за этим угадывается лично ею пережитое. О том, как работала Мария Сергеевна сама, сколько сил и сердца вкладывала в стихи свои и чужие, можно было только догадываться. В одном из писем ко мне в феврале 1977 года она писала:
«Была в отчаянной работе — срочная корректура и следом — срочная сдача переводов. После этого долгого и трудного напряжения я чувствовала себя скверно, очень подорвала силы, могла только лежать. Теперь мне гораздо лучше».
Писала так, не жалуясь, а объясняя долгое свое молчание.
Наша последняя встреча. Мне пора уходить. Обнялись на пороге. Мария Сергеевна: «Я приняла вас в свое сердце».
* * *
Отчетливо помню ее взгляд в окно из-под руки: смотрит, как я пройду безлюдное место. Забегала к Марии Сергеевне обычно на часок, а возвращалась не раз еле успевая на метро. Шла ничего не замечая, не боясь темноты, переполненная впечатлениями и радостью от встречи, желанием делать что-то, уверенностью, что смогу.
…Ясный день. Введенские горы. Ряд могил тянется в одном направлении. Поперек других — могила Марии Петровых. Мне кажется, в этом есть что-то от судьбы поэта.
Вспоминаю Марию Сергеевну часто. Достаю с полки подаренный ею томик Лесьмяна — слышу голос:
Лесьмян — он по вертикали, —
В глубь земли и в глубь небес…
Ее взгляд следит за мной с обложки новой книги «Предназначенье». В который раз открываю:
Мне слышится — кто-то у самого края
Зовет меня. Кто-то зовет, умирая,
А кто — я не знаю, не знаю, куда
Бежать мне, но с кем-то, но где-то беда,
И надо туда, я скорее, скорее —
Быть может спасу, унесу, отогрею…
Левон Мкртчян. Поэт
Мария Петровых почти не печатала своих стихов. Но если писала (а писала она с конца двадцатых годов), то так, чтобы надолго, может быть, навсегда. О стихотворении Петровых «Назначь мне свиданье на этом свете…» Анна Ахматова сказала как о «шедевре лирики последних лет»
[10]. Высоко ценил дарование М. Петровых Борис Пастернак
[11]. Однако она, подобно тенелюбивому растению, всегда держалась не на виду, была равнодушна к шуму известности. Вера Звягинцева в своем посвящении ей пишет:
Покажись, безымянное чудо!
Что ты там притаилась одна?
Ты откуда такая, откуда,
Что и слава тебе не нужна?!
… … … … … … … … … … … … … …
Но поет и поет невидимка,
Не найти ее в частых кустах,
Лишь дрожит паутинная дымка
На рябиновых тонких ветвях.
Эти оценки очень интересны, хотя, может быть, не совсем правильно представлять одного поэта ссылками на других. Да и трудно писать после таких имен и оценок: начнешь искать эпитеты посильнее, что плохо само по себе и всегда нетактично по отношению к поэту, о котором пишешь…
В шесть лет Петровых сочинила четверостишие.
«Я восприняла это, — пишет она в одном из писем, — как чудо, и с тех пор все началось, и, мне кажется, мое отношение к возникновению стихов с тех пор не изменилось».
В середине двадцатых годов ученица восьмого класса М. Петровых посещала собрания Союза поэтов Ярославля (она родилась под Ярославлем, в Норском посаде), а вскоре была принята в Ярославское отделение Союза поэтов. Здесь же, на вечерах поэзии, она узнала о Мартиросе Сарьяне, об Армении.
«Одна из поэтесс — Маргарита Салова — влюблена была в искусство Сарьяна, много посвящала ему стихов, из которых помню только две строки:
Павлиньи тона осенние
Звенят о тебе, Сарьян…
От нее я еще в школьном возрасте узнала о Сарьяне, и у меня защемило сердце даже от одних репродукций. Думала ли я тогда, что Армения станет моей пожизненной любовью и что мне выпадет счастье побывать в мастерской Сарьяна, познакомиться с этим гениальным художником, человеком исключительной духовной силы и красоты».
Окончив школу, Петровых поступает в Москве на Высшие литературные курсы. С 1934 года начинает переводить. Первая переводческая работа — стихи Переца Маркиша, затем лирика Молланепеса, сборник Саломеи Нерис, стихи армянских поэтов, поэма Тильвитиса «На земле литовской» и многое, многое другое. В зрелые годы М. Петровых переводила в основном славянских поэтов, преимущественно польских. Под ее редакцией в 1965 году вышел в свет прекрасный однотомник Юлиана Тувима.
Мария Петровых сделала многое, чтобы иноязычных поэтов донести до русского читателя. Однако ее собственных стихов читатель не знал.
Есть у Петровых стихи, относящиеся к ее сверстникам, поэтам близкого ей душевного строя, а может быть, и ей самой, ее судьбе:
Мы начинали без заглавий,
Чтобы окончить без имен.
Нам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон.
Я думаю о тех, которым
Раздоры ль вечные с собой
Иль нелюбовь к признаньям скорым
Мешали овладеть судьбой…
Порой Мария Петровых пишет, что жизнь ей, может, и не удалась:
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости —
Поначалу от робости,
А позднее от старости.
Не напрасно ли прожито
Столько лет в этой местности?
Кто же все-таки, кто же ты?
Отзовись из безвестности!..
В таких стихах (если даже они мрачные) всегда много жизни: боль по несодеянному — искренний и сильный источник нравственной энергии, здоровья. После таких стихов хочется жить остро, напряженно: «Живи же, сердце, полной мерой, не прячь на бедность ничего». Стихи Марии Петровых именно об этом: жить полной мерой. Она написала о пропавшем ручье:
…Здесь когда-то блестела вода,
Убегала безвольно, беспечно.
В жаркий полдень поила стада
И не знала, что жить ей не вечно,
И не знала, что где-то вдали
Неприметно иссякли истоки,
А дожди этим летом не шли,
Только зной распалялся жестокий.
И здесь та же мысль — надо жить, хотя речь в стихотворении о другом — о гибели ручья, о несостоявшейся жизни. В беде, в горьком горе помогут читателю и такие скорбные, мужественные стихи:
Стоногий стон бредет за колесницей,
Стоногое чудовище с лицом
Заплаканным… Так, горе. Это — ты.
Тяжкоступающее, я тебя узнала.
Куда идем? На кладбище свернули.
Тебе другой дороги нет, о скорбь!..
Без скорби поэзия во многих случаях утратила бы способность находить отклик в сердцах людей.
Печалей в жизни Марии Петровых, видимо, было достаточно: «Судьба за мной присматривала в оба, чтоб вдруг не обошла меня утрата». Стихотворение Петровых «Не плачь, не жалуйся, не надо…», появившееся в час горя, в час одинокой печали, дарит людям надежду, возвращает им счастливое чувство единства человека и природы. Земля, солнце, дождь, воздух — они с человеком безотлучно, они его защита в минуту одиночества… Может показаться, что суждения общепринятые я ставлю в заслугу М. Петровых. Но ведь в искусстве нет общепринятого. Без художественного, эстетического обоснования даже самая глубокая, самая оригинальная мысль поверхностна и иллюстративна. В годы войны ненависть к врагу стала темой всей советской литературы. Индивидуальность писателя выражалась в том, как по-своему он приходил к этому чувству. Мария Петровых в начале войны писала:
Я думала, что ненависть — огонь,
Сухое, быстродышащее пламя,
И что промчит меня безумный конь
Почти летя, почти под облаками…
Но ненависть — пустыня. В душной в ней
Иду, иду, и ни конца, ни края,
Ни ветра, ни воды, но столько дней
Одни пески, и я трудней, трудней
Иду, иду, и, может быть, вторая
Иль третья жизнь сменилась на ходу.
Конца не видно. Может быть, иду
Уже не я. Иду, не умирая…
Такое не придумаешь. Это надо выстрадать. Ненависть народа к врагу была так велика, что мучила, мешала дышать. Петровых передала это чувство в стихах большой силы и точности. Ее военные стихотворения масштабны по мысли, по чувствам («Апрель 1942 года», «Севастополь», «Ночь на 6 августа», цикл «Осенние леса»). «1942 год» мне кажется одним из наиболее сильных в русской советской поэзии о войне. Оно и впрямь звучит «как колокол на башне вечевой». В нем голоса тысяч и тысяч людей, проклинающих войну за всех убитых, всех осиротевших, в нем ненависть тысяч и тысяч:
Проснемся, уснем ли — война, война.
Ночью ли, днем ли — война, война.
Сжимает нам горло, лишает сна,
Путает имена.
О чем ни подумай — война, война.
Наш спутник угрюмый — она одна.
Чем дальше от битвы, тем сердцу тесней,
Тем горше с ней.
Восходы, закаты — все ты одна.
Какая тоска ты — война, война.
Мы знаем, что с нами
Рассветное знамя,
Но ты, ты, проклятье, — темным-темна.
Где павшие братья — война, война!
В безвестных могилах…
Мы взыщем за милых,
Но крови святой неоплатна цена.
Как солнце багрово! Все ты, одна.
Какое ты слово: война, война…
Как будто на слове
Ни пятнышка крови,
А свет все багровей во тьме окна.
И, наконец, заключительное четверостишие. По интонации, по стиху оно проще. Это заключение, вывод, он и должен быть суров своей немногословной прямотой:
Тебе говорит моя страна:
Мне трудно дышать, — говорит она, —
Но я распрямлюсь и на все времена
Тебя истреблю, война!
Тревожно, неотвязно звучит в этом стихотворении слово «война», усиленное повторяющейся рифмой.
Звуковая, интонационная природа стихотворения «1942 год» разнообразна и богата, чему способствуют и редифная рифма, и укороченные, обрывающиеся строки. Разнообразие и повторяемость звуковых пар создают определенное настроение, слово сливается с мелодией, и мысль приобретает глубину и силу, какая бывает возможна только в поэзии.
Вся нелепость, вся дикая неестественность войны остро выражена Марией Петровых в пейзажных стихотворениях. Перед лицом природы нельзя себе представить ничего более противоестественного и более безумного, чем война.
Пейзажные стихотворения Марии Петровых — и ранние, и созданные в зрелые годы — воспринимаются как стихи о России, родной земле.
Человек и природа, родной пейзаж — эта тема проходит через всю поэзию Марии Петровых. Среди ее ранних произведений (конца двадцатых и самого начала тридцатых годов) выделяются именно пейзажные стихотворения («Лесное дно», «Соловей», «Из ненаписанной поэмы»). Или стихи на иную тему, но возникшие из пейзажа. Вот начало стихотворения 1930 года «Муза»:
Когда я ошибкой перо окуну,
Минуя чернильницу, рядом, в луну,—
В ползучее озеро черных ночей,
В заросший мечтой соловьиный ручей, —
Иные созвучья стремятся с пера,
На них изумленный налет серебра,
Они словно птицы, мне страшно их брать,
Но строки, теснясь, заполняют тетрадь…
Ранние стихотворения М. Петровых отмечены интенсивностью цвета и образов. Ее поэма о демоне «Карадаг» (1930) написана твердой врубелевской кистью:
Два пламени взметнулись врозь
Взамен двух крыльев и впервые
Земли коснулись….
Словно лось,
Огонь с трудом ворочал выей,
Качая красные рога.
Они, багровы и ветвисты,
Росли, вытягиваясь в свисты,
Нерадостные для врага…
Так мужественно, так ярко написана вся поэма. Позже, в зрелые годы, Петровых стала более сдержанной, тяготея к поэзии скрытого огня. Не случайно ей так дорог Пушкин:
«Больше всего на свете я люблю Пушкина — стихи, прозу, письма, статьи и весь его человеческий облик, его суть, сущность, люблю с малых лет и на всю жизнь».
Петровых писала в традиционном ключе и думала об одном — суметь бы. И чувство ответственности (всегда у нее обостренное) стало для нее чем-то вроде запрета — она больше писала для себя, печаталась крайне редко. То, что М. Петровых долго не печатала своих стихов, конечно, сковывало ее возможности. Но она была мастером, она многое умела и немало успела.
* * *
Значительны были успехи Петровых-переводчицы. Переводчик поэзии пишет стихи — пишет либо хорошо, либо плохо. Петровых-переводчица писала прекрасно.
…Осенью 1944 года М. Петровых и В. Звягинцева приехали в Армению. Они переводили стихи молодых тогда поэтов Г. Боряна, С. Капутикян, М. Маркарян, Р. Ованесяна, Г. Эмина, А. Сагияна.
«Это была замечательная, незабвенная осень, — вспоминала Петровых. — Мне мало пришлось поездить по Армении, но все же я была в Эчмиадзине (даже на богослужении), была на Севане… Молодые поэты оказались на редкость одаренными, работать над переводами было упоительно. Кроме того, мы с В. Звягинцевой много бродили по Еревану и окрестностям. Бывали в Норке, ходили к Зангу. Конечно, были в Матенадаране…
С тех пор — моя любовь к Армении, моя верность».
Есть у Петровых об этой поездке стихи:
Осень сорок четвертого года.
День за днем убывающий зной.
Ереванская синь небосвода
Затуманена дымкой сквозной.
Сокровенной счастливою тайной
Для меня эта осень жива,
Не случайно, о нет, не случайно
Я с трудом поднимаю слова…
«Армянских» стихов у Марии Петровых не много. Образ Армении, говорила она, «ушел в глубины глубин души». Поездка оказалась плодотворной для Петровых-переводчицы.
«Армения научила меня глубже, вернее понимать, чувствовать армянскую поэзию. Терпкость исаакяновской печали; чудесную раскованность, свободу Туманяна, его поэтический диапазон, естественное родство поэзии с прозой (которое так любил и ценил в искусстве Пастернак), его лукавый обаятельный юмор; Терьяна — трагического по самой его природе, при всем его жизнеутверждающем миропонимании — трагического; Наири Зарьяна с его истинно поэтическим „Ара Прекрасным“, со стихами, которые возникли сами по себе, как и должны возникать стихи…»
Стихами, которые возникали сами по себе, правильно было бы назвать также и переводы Марии Петровых. Для Петровых как переводчицы не было специально приспособленного для переводов русского языка. Она переплавляла стихи подлинника в новый языковый материал, пользуясь всем богатством, всей гибкостью русского языка. Это давало ей возможность сохранять стилевые и интонационные особенности подлинника. Удачны переводы Петровых из Наири Зарьяна: его поэма «Тиран и поэт» (1939) звучит сильно и свободно. В ней рассказывается о восточном деспоте, пишущем стихи. Тиран жаждет похвал знаменитого поэта, но, услышав правдивую речь о том, что он, царь, пишет плохо, приказывает бросить поэта в темницу.
Вот в башню Ануш поэт заточен.
О судьбах людских он мыслит в тиши.
В ответе своем не кается он —
Нет в мире темниц для вольной души.
И силится вновь жестокий тиран
Затмить Фирдуси в рубайях своих,
Он жаждет хвалы, тщеславием пьян,
Придворных зовет оценивать стих.
… … … … … … … … … … … … … …
И падали ниц рабы суеты.
Нашелся у всех один лишь ответ:
«Владыка, велик в поэзии ты,
Ты Дарий стиха, ты лучший поэт!
Так бейты слагать не мог бы иной.
Ты в тайны стиха всех глубже проник.
Коль был Фирдуси для бейтов луной,
Ты — солнце стиха, владыка владык!..»
Благодаря таланту Марии Петровых «Тиран и поэт» армянского писателя Наири Зарьяна звучит как русские стихи.
Ярким свидетельством мастерства Петровых явилась большая и трудная работа по переводу знаменитой трагедии Наири «Ара Прекрасный». М. Петровых отлично передала мужественный, дышащий глубокой страстью язык ее героев. Она сохранила высокий слог речи персонажей, не подменив его цветистостью, сохранила лапидарность языка, часто переходящую в афористичность. Петровых индивидуализировала язык героев трагедии и стиховыми приемами: она допускает в речи ассирийцев женские и дактилические окончания, тогда как речи действующих лиц — армян имеют лишь мужские окончания, вообще характерные для армянского языка.
С высокой степенью приближения Петровых передает сердечную мягкость и суровую откровенность лирики Маро Маркарян:
Пишешь — и не то, не то, не то!
Где оно, сердечное горенье?
Жардуши не сможешь ни за что
Весь как есть отдать в стихотворенье.
Разве искорки блеснут с листа,
Пробегая где-то между строчек.
Песня, даже лучшая, — и та
Вдохновенья робкий переводчик…
Петровых хорошо чувствовала переводимого поэта и старалась быть близкой его голосу. Переводя Рачия Ованесяна, она сохраняла горячую восторженность его стихов:
И вновь я вином наполняю агат.
Вино золотистое солнцем прогрето,
В нем темных подвалов хмельной аромат…
Во славу друзей моих здравица эта!..
Близка Марии Петровых лирика Сильвы Капутикян. В своих переводах она оставалась верной ее искреннему, сильному стиху, работа над ним всегда доставляла ей радость.
Словно убывающий Севан —
Жизнь моя… Бессонно мчатся годы.
Так Зангу несется сквозь туман
И севанские уносит воды…
Переводя эти стихи, Петровых, возможно, думала и о своей жизни. Творческая дружба двух поэтов была глубока и плодотворна. Сильва Капутикян посвятила Марии Петровых прекрасное стихотворение, выражающее и дружбу двух наших народов:
Высокая дружба подмены не хочет,
Не нужно ей фальши и лести ничьей.
Бывает, что чистые чувства порочат
Потоком неискренних, праздных речей.
… … … … … … … … … … … … … …
Мне кажется: предки в тоске о свободе
Искали такого тепла и добра,
Когда говорили о русском народе —
Они о тебе говорили, сестра!..
(Перевод Веры Звягинцевой)
Так искренне, так горячо написала Сильва Капутикян о нашем друге, переводчике армянской поэзии.
Часто работу переводчика не замечают. Еще более незаметна работа редактора. Мария Петровых много сделала как редактор переводов из армянской поэзии. Под ее редакцией выходили на русском языке стихи Аветика Исаакяна (1956), Гегама Сарьяна (1974), первая книга Сильвы Капутикян, несколько сборников Маро Маркарян; вышел в свет том поэзии Ованеса Туманяна (1969), стихи которого в значительной мере были скомпрометированы множеством посредственных, аморфных переводов. Как редактор Петровых была очень требовательна и очень добросовестна — она подолгу работала с переводчиками, помогала им. Так, в частности, она работала с Наумом Гребневым, когда он переводил «Книгу скорби» Григора Нарекаци. И если перевод удался (я считаю, что удался), то в этом заслуга и Марии Петровых. Я был свидетелем, как однажды между Гребневым и Петровых разгорелась целая дискуссия по поводу одного слова. У Гребнева было: «Святой исполнив
промысел господень». Петровых возражала: надо
промысл, но не
промысел. В современном русском языке — это два разных слова.
Промысел — добывание, добыча, охота, мелкое ремесленное производство…
Промысл — провидение.
Гребнев чисто интуитивно отстаивал «промысел господень». Решили обратиться к Пушкину и у него нашли:
Наперснику богов известны бури злые,
Над ним их промысел…
И еще у него же:
Вы знаете, как промысел небесный
Царевича от рук убийцы спас…
— Пушкин помог, он всегда помогает, как господь бог, — говорила Петровых. — Можно оставить
промысел. Во времена Пушкина так говорили. Можно поэтому и в стихах Нарекаци оставить это слово. Так даже лучше. Но вот у Чехова уже
промысл: «В ее преждевременной смерти я усматриваю промысл божий».
Переводчику и редактору пришлось вникать во все значения одного слова, чтобы не ошибиться, лучше, точнее воссоздать на русском языке «Книгу скорби» Григора Нарекаци.
В другой раз какое-то редкое слово, оказавшееся в русском Нарекаци, Петровых нашла у Даля и улыбнулась:
— Какая даль!
Мария Петровых была явлением самобытным в современной русской поэзии. Думая о ее стихах, о том, что она так долго их не издавала, я вспоминаю строки из «Калевалы»:
Долго песни на морозе,
Долго скрытые лежали.
Не убрать ли их с мороза?
Песен с холода не взять ли?
Не внести ль ларец в жилище,
На скамью его поставить,
Под прекрасные стропила,
Под хорошей этой кровлей…
(Перевод Л. Бельского)
Сильва Капутикян. Наша дорогая сестра
«Из жизни ушла Мария Петровых — прекрасный поэт и переводчик, человек, беззаветно преданный армянской литературе, достойный преемник Валерия Брюсова и Веры Звягинцевой.
В жизни знавших ее близко не стало удивительного человека, любящего, трепетного сердца. Угас голос совести, всегда бдительный, отмечавший твою правду, корректировавший твою ошибку.
Я была из тех, кто близко знал ее, более того, я тридцать лет была ее другом, ее подругой. Встречая ее, я забывала, что говорю не на родном языке. С ее потерей в Москве закрылась дверь, которая распахивалась на мой истосковавшийся звонок, закрылось ее окно, излучавшее свет и сияние на моем пути. Нет больше отзывчивой, понимающей души, поддерживавшей меня в трудную минуту. И я знаю, всякий раз, когда буду ступать на московскую землю, до боли буду чувствовать всю невосполнимость этой утраты.
Каждого человека можно сравнить с каким-либо литературным жанром. Есть человек-роман, может быть человек-драма или трагедия, есть человек-поэма или же эпос. Мария Петровых была стихотворением, трепетным — каждый нерв как струна натянут, — тревожным, но крепким, дышащим цельностью классическим стихотворением. Как ни трепали ее хрупкое существо жизненные перипетии, они не смогли сломить ее цельности, не исказили ее благородной структуры.
Для нас было счастьем и честью, что такой человек раз и навсегда полюбил Армению и как родной связал с нашей страной свою жизнь и свой светлый талант, посвятив себя переводу нашей поэзии, редактированию наших русских изданий. И как же это было справедливо, что последней радостью последних дней жизни для Марии Петровых явилась благодарная оценка армянского народа — премия имени Егише Чаренца, первая в нашей истории премия за перевод».
Эти строки были написаны в первые же минуты после того, как я узнала о кончине Марии Петровых, в момент, когда из души, потрясенной внезапной вестью, вырываются самые горячие, самые взволнованные слова. И сейчас, после стольких лет, они не только не кажутся преувеличенными, а наоборот — даже скудными, сдержанными по сравнению с тем, что я испытываю, произнося ее имя, читая ее стихи и переводы.
Мария Петровых была из тех людей, которые раз и навсегда входят в твою судьбу, и никакая смерть не может вытеснить ее из твоей жизни, из твоего сердца. Она для меня не только близкий, родной человек, но своеобразный символ, воплощение нечто большого и значительного.
Я посвятила ей стихотворение «Русскому другу».
Русскому другу
Поэтессе Марии Петровых
Высокая дружба подмены не хочет,
Не нужно ей фальши и лести ничьей.
Бывает, что чистые чувства порочат
Потоком неискренних, праздных речей.
Словами, подобными липкому тесту,
Спешат доказать, что, мол, слаб я и мал,
И к месту подчеркивают и не к месту,
Что жизнь и дыхание кто-то нам дал.
Мне попросту хочется снова сегодня
С тобою, сестра моя, поговорить.
Как быть, чтоб слова зазвучали свободней,
Чтоб с праздником их не посмели сравнить?!
В Звартноце мы встретились… Что-то большое
Светилось во влажных глазах, в глубине.
Ты — тоненькая — мне казалась свечою,
Сгорающей на своем же огне.
И мы подружились. И стала ты другом
Заветной, как памятка, древней страны,
Коснулась ты с благоговейным испугом
Души ее, словно письмен старины.
И ты увидала, как в глуби колодца,
Бездонное горе — наш давний удел,
И то, как, поднявшись из праха Звартноца,
Орел на колонны из туфа взлетел.
Как я, ты гордишься красой наших песен,
Без скидки осудишь любой наш порок,
И не покровителем — другом без спеси
Ты переступила наш новый порог.
Сестрой ты бываешь мне в грусти и горе,
Защитником-братом в опасности час,
Когда ошибаюсь, взволнованно споря,
Меня исправляешь, любя, горячась.
Когда обижаюсь на мир, на тебя я,
Прощаешь ты мне охлажденье мое,
Смеешься, когда, чувство меры теряя,
Без удержу славлю я только свое…
И пусть друг от друга живем далеко мы, —
Я знаю, что в снежной Москве для меня
Открыты всегда двери доброго дома,
Что есть у тревожного сердца родня.
Мне кажется: предки в тоске о свободе
Искали такого тепла и добра,
Когда говорили о русском народе —
Они о тебе говорили, сестра!..
(Перевод Веры Звягинцевой)
Отрывок из интервью «Литературной газете»
(7 ноября 1981 г.)
Мария Петровых и Вера Звягинцева, приехавшие в конце войны в Армению, изменили течение всей моей жизни. С ними пришло чувство общности, которое соединяет меня с широким миром. Наша дружба с Марией Петровых длилась тридцать лет.
В хрупкой внешне, удивительно скромной этой женщине была скрыта огромная сила, металл в характере. Для меня она была как внутренняя совесть, всегда в дни сомнений я обращалась к ней — она одобряла или осуждала, и я знала: она права. Ей первой всегда читала новые стихи. Когда беседовала с ней, то забывала, по-русски я говорю или по-армянски. Это был особый язык — язык души.
Ныне, после долгого-долгого перерыва, заполненного работой над прозаическими книгами, вновь родились стихотворные строки. (Правда, я говорила уже, что и прозу свою считаю частью работы поэта. Просто то, о чем хотела сказать, не ложилось в рифму, требовало большего полотна. Да и что такое художественная публицистика, если не родная сестра поэзии? Ведь и то и другое требует обнажения души.)
Но тут, случайно или нет, между пушкинским праздником в Михайловском и Всесоюзным писательским съездом, две недели в Малеевке подарили мне новые стихи. Они совсем иные, чем прежде. Пятнадцать четверостиший-раздумий. Годы, опыт, видимо, диктуют и форму и содержание. Впервые есть стихи и… нет Марии. Вот подстрочный перевод четверостишия, посвященного ей:
Сердце мое переполнено, кто в его дверь постучится?
Со своими новыми песнями к кому мне теперь постучаться?
Ах, ты одна умела лить слезы по-армянски,
Чтоб перевели мои слезы, к кому мне теперь постучаться?
Маро Маркарян. «Отзовись из безвестности…»
Все было свято для нее — перо, бумага, слово, все, что было в природе, в окружающем мире, на все и на всех смотрела она с неуступчивой, незамутненной честностью, с бесконечной добротой и непременным чувством — сделать добро, все, что другим в помощь.
Она ни на гран не облегчала себе жизнь. Писала прекрасные стихи, но не публиковала их. Большую часть своих сил она отдавала переводческой работе, в которую вкладывала столько жизни, столько сердца и души. Она переводила блестяще, но медленно, ища совершенное и находя его.
Я не знаю никого другого из встречавшихся мне людей, к кому бы все без исключения относились с таким почтительным восхищением, с таким чувством высокого уважения и признания. Такой была только наша любимая Мариша — тончайшая среди утонченных, честнейшая среди честных, человек глубоких чувств и несокрушимо стойкого сердца. Вспоминая ее, я думаю о поэтической неповторимости ее души.
Не напрасно ли прожито
Столько лет в этой местности?
Кто же все-таки, кто же ты?
Отзовись из безвестности!..
Как и у многих поэтов, стихи Марии Петровых — биография ее. И в них всегда есть особый оттенок, присущий натурам глубоким и гордым. Она хорошо знала цену всему — людям и событиям, ложной славе и бескорыстному служению:
Нам даже разговор о славе
Казался жалок и смешон.
Не верится, что в Москве на Хорошевском шоссе уже не придется стучаться в дверь маленького гостеприимного дома. И она, просто и скромно одетая, не встанет в проеме открывающейся двери как богоматерь.
И кажется, еще работает, еще трудится она неустанно, бесшумно. Погруженная в работу целиком. Строгая и сердечная.
Не в пример многим, она бралась переводить, только когда вещь действительно нравилась ей, и не отдавала в печать, пока сама не была удовлетворена сделанным, пока не находила последнее верное слово и нужную строку. Для нее свята была каждая строка истинной поэзии. И она имела дело только с истинной поэзией.
Велики заслуги ее в национальной поэзии: сколько книг перевела она из сокровищницы разных народов! И сыграла благородную, честную роль в духовном сближении, породнении народов, даруя им прекрасное, величественное, возвышенное — Поэзию.
Впервые Мария приехала в Армению в 1944 году, еще молодая, в самую прекрасную, цветущую свою пору. Приехала и с присущей ей глубиной и проникновенностью полюбила Армению и армянскую литературу на всю жизнь. Наш большой мастер Мартирос Сарьян написал тогда прекрасный ее портрет. И с тех самых воистину счастливых дней наша любимая Мария посвятила себя переводу армянской поэзии и была верна ей до последних дней своей красивой и неповторимой жизни.
Мы все любили Марию достойной ее чистой и глубокой любовью. Она сама как бы диктовала уровень этой возвышенной любви.
Я словно вижу ее в маленькой комнатке, на уютной тахте, с пледом на ногах, оперевшуюся на подушку, с листами в руках — перед настольной лампой. Вижу любимые благородные черты ее одухотворенного лица.
Она жила очень скромно, но никогда не заботилась, никогда не говорила о деньгах, о гонорарах. Все это, она считала, не имело ничего общего с поэзией. Вся ее жизнь была поэзией. И годы тягот ни в малейшей мере не преуменьшили романтики ее жизни.
Есть неповторимые дорогие спутники в нашей жизни, бесценные друзья, утрата каждого из них словно уносит, отрывает часть твоей собственной жизни.
Мы потеряли многих близких, десятки лет дымятся наши сердца, тоскуя по ним, но только в этот раз я особенно горько почувствовала, что значит потерять родную душу, незаменимого друга твоего духовного дела, твоих дум и чувств.
Марии Петровых
1
В дни тяжкой ее болезни.
Если в мире существует святость,
Это ты, Мария, это ты,
Если в нем присутствует крылатость
Песен, что коснулись высоты,
Что парят, летят,
Но на страницы
Строками пока что не легли…
Трепетные — с ними что сравнится? —
Набегают волнами любви…
И взываю я
К Природе ныне,
Чтоб твои она продлила дни…
Припаду с мольбой
К ее святыням —
Если вправду в мире есть они…
2
Хрупка ты и робка, но тайной властью
Наделена — и потому смела:
Каким же чудом бурю и ненастье
Ты, трепетная, выдержать смогла!..
Вот нежностью твоею изначальной
Осенены —
Скользят из дальних лет
К нам образы, прекрасны и печальны,
Из давних бед —
И им разгадки нет…
Ты в наших песнях и сердцах осталась,
Ты в нашей яви, в наших снах осталась,
Ушла от нас, но твой остался свет.
(Перевод Елены Николаевской)

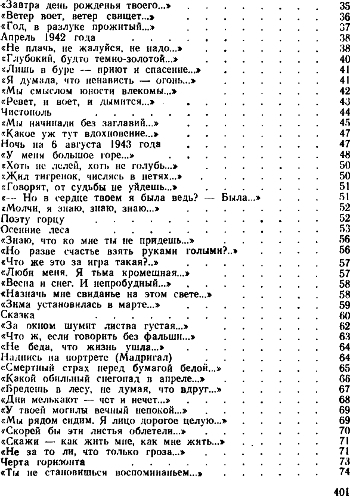







Примечания
1
Гусле — югославский народный смычковый инструмент.
(обратно)
2
Вардавар — праздник цветов.
(обратно)
3
Нуард — армянская царица, супруга Ара Прекрасного.
(обратно)
4
Ваагн — мифический бог.
(обратно)
5
Месроп Маштоц — создатель армянской письменности (412 г.).
(обратно)
6
Звартноц — храм, памятник VII века.
(обратно)
7
Строка цитируется неточно: см. стихотворение «Акварели Волошина». — примеч. верстальщика.
(обратно)
8
Вера Клавдиевна Звягинцева.
(обратно)
9
Ст. Чкаловская на Клязьме, Дом отдыха.
(обратно)
10
«Вопросы литературы», 1965, № 4, с. 187.
(обратно)
11
Об этом говорит, в частности, стихотворение поэта, опубликованное Р. Порманом в журнале «Русская литература», 1966, № 3, с. 194.
(обратно)
Оглавление
СТИХИ
Стихи 20-х — 30-х годов
«Весна так чувственна. Прикосновенье ветра…»
Звезда
Отрывок
«За одиночество, за ночь…»
Последнее о звездах
Море
История одного знакомства
Соловей
«А на чердак — попытайся один!..»
Сон
Муза
Болдинская осень
«Мне вспоминается Бахчисарай…»
Карадаг (Поэма)
Акварели Волошина
Сказочка
«Неукротимою тревогой…»
Конец года
К жизни моей
«Стихов ты хочешь? Вот тебе…»
«Когда на небо синее…»
«Когда я склонюсь над твоею кроваткой…»
Стихи 40-х—50-х годов
«Ты думаешь, что силою созвучий…»
«Не взыщи, мои признанья грубы…»
«Проснемся, уснем ли — война, война…»
«Завтра день рожденья твоего…»
«Ветер воет, ветер свищет…»
«Год, в разлуке прожитый…»
Апрель 1942 года
«Не плачь, не жалуйся, не надо…»
«Глубокий, будто темно-золотой…»
«Лишь в буре — приют и спасение…»
«Я думала, что ненависть — огонь…»
«Мы смыслом юности влекомы…»
«Ревет, и воет, и дымится…»
Чистополь
«Мы начинали без заглавий…»
«Какое уж тут вдохновение, — просто…»
Ночь на 6 августа
«У меня большое горе…»
«Хоть не лелей, хоть не голубь…»
«Жил тигренок, числясь в нетях…»
«Говорят, от судьбы не уйдешь…»
«— Но в сердце твоем я была ведь?..»
«Молчи, я знаю, знаю, знаю…»
Поэту горцу
Осенние леса
«Знаю, что ко мне ты не придешь…»
«Но разве счастье взять руками голыми?..»
«Что же это за игра такая?..»
«Люби меня. Я тьма кромешная…»
«Весна и снег. И непробудный…»
«Назначь мне свиданье на этом свете…»
«Зима установилась в марте…»
Сказка
«За окном шумит листва густая…»
«Что ж, если говорить без фальши…»
«Не беда, что жизнь ушла…»
Надпись на портрете (Мадригал)
«Смертный страх перед бумагой белой…»
«Какой обильный снегопад в апреле…»
«Бредешь в лесу, не думая, что вдруг…»
«Дни мелькают — чет и нечет…»
«У твоей могилы вечный непокой…»
«Мы рядом сидим. Я лицо дорогое целую…»
«Скорей бы эти листья облетели!..»
«Скажи — как жить мне, как мне жить…»
«Не за то ли, что только гроза…»
Черта горизонта
«Ты не становишься воспоминаньем…»
«Кузнечики… А кто они такие?..»
«Пылает отсвет красноватый…»
Сон на рассвете
«Даже в дорогой моей обители…»
«О, глупомудрый, змеиногубый!..»
Размолвка
«За что же изничтожено…»
«Развратник, лицемер, ханжа…»
«Ты что ни скажешь, то солжешь…»
«Ты отнял у меня и свет и воздух…»
«Я равна для тебя нулю…»
«Постылых „ни гу-гу“…»
В минуту отчаянья
«Ты думаешь, правда проста?…»
Дальнее дерево
«К твоей могиле подойду…»
«Если говорить всерьез…»
Стихи 60-х—70-х годов
«О чем же, о чем, если мир необъятен?..»
Плач китежанки
«Сквозь сон рванешься ты помериться с судьбою…»
«День изо дня и год из года…»
«Нет, мне уже не страшно быть одной…»
«Но только и было что взгляд издалёка…»
«Ты сама себе держава…»
«Куда, коварная строка?..»
«Не отчаивайся никогда…»
Горе
Армения
«После долгих лет разлуки…»
«Давно я не верю надземным широтам…»
«Ужаснусь, опомнившись едва…»
«Тихие воды, глубокие воды…»
«Прикосновение к бумаге…»
Средневековье (Читая армянскую лирику)
«Оглянусь — окаменею…»
«Подумай, разве в этом дело…»
«— Черный ворон, черный вран…»
«Судьба за мной присматривала в оба…»
«О, какие мне снились моря!..»
«Что делать! Душа у меня обнищала…»
«Пожалейте пропавший ручей!..»
«Что толковать! Остался краткий срок…»
«Одна на свете благодать…»
«Сердцу ненавидеть непривычно…»
«Пусть будет близким не в упрек…»
«Ни ахматовской кротости…»
«Никто не поможет, никто не поможет…»
«Немого учат говорить…»
«О, ветром зыблемая тень…»
«А ритмы, а рифмы невемо откуда…»
«Осень сорок четвертого года…»
«Есть художник неподкупный…»
«Сверчок поет, запрятавшись во тьму…»
«Легко ль понять через десятки лет…»
«Я живу, озираясь…»
Молитва лесу
«Я здесь любила все как есть…»
«Нас предрассветная заря…»
«Нет, не поеду я туда…»
Эскиз к портрету
Четверостишия и наброски
«Слова пустые лежат, не дышат…»
«По мне лишь так: когда беда настанет…»
«Ты говоришь: „Я не творила зла…“»
«Взгляни — два дерева растут…»
Болезнь
«К своей заветной цели…»
О рыбах
«Когда слагать стихи таланта нет…»
Завещание (Отрывок)
«Пустыня… Замело следы…»
«Одно мне хочется сказать поэтам…»
Рылеев
Тревога
«На миру, на юру…»
«Сказать бы, слов своих не слыша…»
Летень
Превращения
«И ты бессилен, как бессилен каждый…»
Редактор
«Разбила речка поутрý…»
«Неужели вот так до конца…»
Весна в детстве
О птицах
О собаках
«Красотка, перед зеркалом вертясь…»
«Когда молчанье перешло предел…»
Бессонница
«Что печального в лете?..»
«Уж лучше бы мне череп раскроили…»
«Боже, какое мгновенное лето…»
«Я ненавижу смерть…»
«И вдруг возникает какой-то напев…»
«Нет несчастней того…»
Из записных книжек
«Вы горя пожелали мне…»
«Ждет путь немыслимо большой…»
«С каждым днем на яблоне…»
«Снять с души такое бремя…»
«Хоть графоманство поздних дней…»
«Перестал человек писать стихи…»
ПЕРЕВОДЫ ИЗ АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ
Иоаннес Иоаннисиан (1864–1929)
«Не забывай, певец, о верной лире…»
Аветик Исаакян (1875–1957)
Народная лира (Сербская легенда XVII века)
Армянское зодчество
Ваан Терьян (1885–1920)
«Был нелегким путь и далеким кров…»
«Хвала вносившим в сумрак тюрем…»
На каторге
«Мне в этих памятных местах…»
«Когда неизъяснимо и глубоко…»
Октябрю
Наири Зарьян (1900–1969)
Тиран и поэт
Отрывки из драматической поэмы «Ара Прекрасный»
Гегам Сарьян (1902–1976)
Деревья
Радуга
Песня заката
Амо Сагиян (1914)
Из цикла «На берегу Воротана»
Детство
Зеленый тополь Наири
После грозы
«Пел зеленый ветер на лугу…»
Годы мои
Маро Маркарян (1916)
Горная дорога
«Покоя нет…»
«Я в мир пришла как под хмельком…»
Друг
«Ни одно мое пристрастье…»
«А помнишь ли ты, дружок ясноокий…»
Геворг Эмин (1919)
Наири
«Я зимою зашел было в сад…»
«Любовь моя, моя душа…»
«В каждой разлуке счастливее тот…»
Баллада о доме
Сильва Капутикян (1919)
Вступление к книге
«Чтобы поднять тебя на пьедестал…»
Из последних песен
Творчество
Лилит
Раскаяние
Моему ребенку
Аветику Исаакяну
На дальних дорогах
«Любви загадку — древнюю, бездонную…»
«Да, я сказала: „Уходи“…»
В минуту тоски
«Ты моей любовью был, тайный свет былого ты…»
«Была добра любовь моя…»
«Не заставь меня плакать, — я плакала много, любимый…»
Рачия Ованесян (1920)
Из цикла «Чудесный садовник»
«Я сам себе вопросы задавал…»
«Мой сад был создан на скале…»
«Обойду я мой сад, осмотрю…»
«Взволнованно шумит мой добрый сад…»
«В мирный сад ворвался ураган…»
«Ну вот и осень вышла на просторы…»
«Чудесно пировать, чудесно!..»
ВОСПОМИНАНИЯ О МАРИИ ПЕТРОВЫХ
В. Адмони. «Вы запомнились сестрою дальней…»
Яков Хелемский. Ветви одного ствола
Екатерина Петровых. Мои воспоминания
Юлия Нейман. Маруся
А. Тарковский. Духовная сущность поэта
Натэлла Горская. День прошедший — день сегодняшний
Лев Озеров. Чистый голос
Д. Самойлов. Наброски к портрету
Елена Николаевская. Тайна
В. Купченко. М. С. Петровых в Коктебеле
Е. Ольшанская. «Какая радость — каждый истинный поэт!»
Эм. Александрова. Горная дорога
Григорий Левин. Человек среди людей
Светлана Куралех. За раздвоенной асфальтовой дорожкой…
Левон Мкртчян. Поэт
Сильва Капутикян. Наша дорогая сестра
Маро Маркарян. «Отзовись из безвестности…»
*** Примечания ***










 Карандашный портрет М. С. Петровых работы М. Сарьяна. Публикуется впервые.
Карандашный портрет М. С. Петровых работы М. Сарьяна. Публикуется впервые.