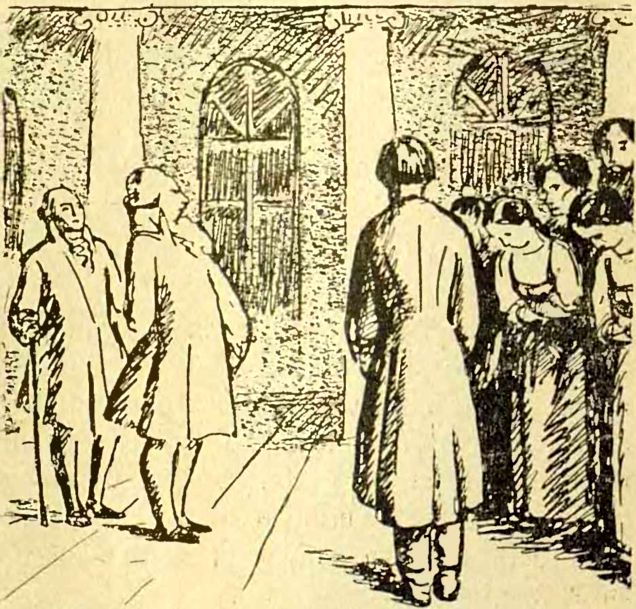Наталия Венкстерн
ПОБЕГ
Из жизни крепостных актеров


Прасковья Федотовна, неслышно ступая войлочными туфлями, вышла из спальни и затворила за собой дверь Большие ее очки в темной оправе были подняты на лоб, а покрасневшие от долгого чтения глаза щурились на свет свечи, горевшей в высоком медном шандале.
— Започивала матушка! — сказала она шопотом. — В полночь приказала, чтобы обязательно добудиться их. «Я драться буду, а ты все равно буди». Так и сказали.
В зале собрались человек пять дворовых девушек. Несмотря на то что на дворе стояла зима и в плохо протопленной комнате было не более 8–9 градусов, все они были босые. Гладко зачесанные в косу волосы да одинаковые у всех темно-синие сарафаны делали их похожими друг на друга. Стояли они неподвижно, с сложенными на животе руками, скорей похожие на восковые куклы, чем на живых людей.
Прасковья Федотовна присела на кончик стула и оглядела «свою команду».
— Уж и чучела, — сказала она, — сущие чучела. Чай, во всей губернии таких других, как вы, не найдешь. Страмота глядеть — в деревне и то чище вашего ходят. Ну, куда я с вами такими, а?
Девушки во все глаза продолжали глядеть на Прасковью Федотовну и молчали. Впрочем она, повидимому, и не ждала от них ответа.
— Спать ложимшись, — продолжала она, — такой каприз на них нашел, хуже дити малого. «Я, говорят, разнесчастная, хуже последней холопки. Стара стала, все в глаза глядят с одной думой: когда ты, мол, помрешь и от себя, постылой, землю ослобонишь?» Я им и так, и этак… и в плечико целую и ручки, и ножки. Куда. Кричит да и все.
Прасковья Федотовна спустила очки на нос и взглянула в угол. Девушки молчали.
— Твое, говорит, это дело, чтобы в доме и светло, и тепло, и нарядно. Чтобы приехал он, ручками бы всплеснул и ко мне с ласковым словом: «У вас, мол, маменька, рай земной и блаженство сущее». А какой, говорит, у меня рай: и грязь, и холод, и штукатурка лупится, а дворовые хуже свиней — смотреть тошно.
Девушки молча оглянулись друг на друга и, переступив с ноги на ногу, вздохнули.
— Я им с поклоном: отпустите, матушка, дровец да мало-мальски чего получше девушкам на снаряд. Хошь времячка, говорю мало осталось, а всех на ноги подыму, и к утру у нас красота красотой будет. В сундучках-то у вас, говорю, и занавесочки, и скатерти, и коврики — и столичного, говорю, господина в самый раз в удивленье произвести можем.
Прасковья Федотовна горестно закачала головой.
— И-и, девушки… и что с ей только после этих моих слов грубых сделалось! В волосики ручками так и вцепилась, и ну давай рвать их. «Ты, говорит, по миру пустить меня хочешь, леса вырубить, сундуки раскопать…» А сами плачут, из-под подушечки ключики свои вытащили и, как дитю родного, к сердцу прижимают. Насилу я их, девки, успокоила, через липовый только чай. Пропотели да так с ключиками в руках и уснули.
Девушки вздохнули.
— А спать вам сегодня не придется, — продолжала Прасковья Федотовна. — хотя из малого, а все какое ни на есть им ублаготворение сделать надо. Не шумевши, потихоньку, пол подмойте, половички старые подштопайте и застелите, ручки дверные кирпичиком потрите, наберите где щепочек, прутиков, соломки, а в комнате барина молодого огонек поярче разведите. Да смотрите, чтобы к двенадцати часам поспеть. Приедет, нет ли, а все равно, чтобы готово было.
Девушки двинулись было к двери но Прасковья Федотовна остановила их.
— Стойте! забыла сказать: баню вчера топили, чай, не простыла еще. Уберетесь — все мыться ступайте.
И Прасковья Федотовна, рассердившись, сердито крикнула:
— У дурехи, погибели на вас нет — навязались вы на мою шею!
* * *
В то время как в доме помещицы Надежды Афанасьевны Кулибиной шла уборка и девушки, согнувшись в три погибели мыли и скребли запущенные залы и лестницы холодного дома, вдоль по замерзшей, накатанной и ровной реке мчалась ямщицкая тройка. Покрытая льдом Волга казалась полем, ткнувшимся на необозримые пространства.
Далеко-далеко на берегах кое-где появлялись и скрывались за поворотами огоньки.
Ямщик застыл, несмотря на то, что надвинул на самый нос высокую шапку и поднял воротник суконного армяка. Ехать ему было скучно: важные господа, которых он вез, приказали ему подвязать колокольчик.
— Без колокольчика какая же езда, — ворчал про себя ямщик, тщетно стараясь закрыть ноги растрепанными и жидкими пучками сена.
В кибитке путешественники чувствовали себя прекрасно. Со всех сторон она была завешана не пропускающими воздуха коврами. Огромная медвежья полсть предохраняла ноги от стужи. Едущих было двое: Антон Петрович Кулибин и его приятель, барон Грасс.
Хотя Антона Петровича в доме матери и принято было называть «молодым барином», ему было уж лет сорок пять. Это был большой, тяжеловесный человек, с черной расчесанной на две стороны, вьющейся бородой. Своей особой он занял больше двух третей тесной кибитки и совсем затер в угол маленького барона. Барон был противоположностью Кулибина. Насколько румян и здоров был Кулибин, настолько же барон был бледен и болезнен. В одном они сходились: оба были весельчаки. Кулибин беспрерывно принимался хохотать; барон вторил ему звонким визгливым смехом.
— Распатроним маменьку, распатроним, — басил Антон Петрович. — Она теперь ждет сынка драгоценного, не дождется а он— вот он — своей почтенной особой да не то, что на время, а надолго, на всю жизнь…
— Врешь, врешь, — хохотал барон. — Не выдержишь у маменьки, со скуки сбесишься, пешком убежишь.
— Да что я, дурак что ли? У моей старухи не то, что сундуки, подвалы золотом набиты: одной разборки имущества на десять лет хватит. Нет, дружище, соскучиться не с чего. В три месяца маменькину Копиловку обращу во дворец и в этой дыре заведу столичную жизнь.
— И театр, — захлебнулся от удовольствия барон.
— Уж это первым делом: музыканты, танцовщики, актеры. Из Петербурга смотреть приедут — даю тебе слово.
— Воображаю, какая там скука: старуха, ты говоришь, скупа изрядно.
— В молодости и то скупа была, — подхватил Антон Петрович — я помню, когда я еще маленьким был, ходил в штопанных курточках, игрушек у меня никогда не было, а у маменьки на столе копилки стояли, и при мне она в них золотые монетки опускала…
— Ну ты что же?
— Сначала ничего, а подрос, стал эти монетки ножиком выковыривать. Бояться, сам понимаешь, нечего было: на меня никто бы не подумал, а все на прислугу. Я крал, они расплачивались.
Барон захохотал.
— Ну, а как подрос, — продолжал Антон Петрович, — тут и вовсе стесняться перестал. Маменьку застращивать. Не пустите, говорю, меня в Петербург, я дом спалю или все равно ограблю вас ночью и убегу. «Да на какие, говорит, деньги я тебя отправлю?» А уж это, говорю, ваше дело. Если, говорю, у вас денег нет, то позвольте мне, я сам поищу, может быть, где-нибудь завалились, а вы про них и забыли?
— Ну и что же?
— Нашлись деньги и без меня. Отправила. На прощанье расцеловались мы с ней, а уж я по глазам ее видел, что она рада до смерти от меня избавиться. За двадцать пять лет я всего только разочек у нее побывал и то на три дня, а теперь уж десять лет не бывал.
— Решил старушку на старости лет порадовать?
— Радость ни ей, ни мне не велика, а только мои денежные дела не важны прожился в столице: надо поправиться. Ведь именье-то не маменькино, а мое, от отца. Приеду, отчета спрошу. Чай, она столько накопила, что мне до конца дней хватит, а ей и вовсе немного жить осталось.
Так беседовали оба друга. Между тем на одном из берегов показались постройки, и ямщик, попридержав озябших лошадей, свернул на проселочную дорогу, поднимающуюся в гору.
* * *
Издавна во владениях господ Кулибиных, в деревне Копиловке, жила семья Тарасовых. Еще в середине XVIII столетия дед и прадед Антона Петровича, жившие на широкую ногу в своем поместьи, хвастались перед приезжими гостями красивыми братьями, Иваном и Яковом Тарасовыми. Мастера они были во всех ремеслах, да еще был у них от отца к сыну переходящий талант: все Тарасовы были певцы. Из семьи Тарасовых всегда двое или трое попадали в число помещичьей дворни, обучались играть на самодельных инструментах и тешили господ пением. Один из Тарасовых даже был взят помещиком в Питер флейтистом, да только провинился в чем-то и, несмотря на свое дарованье, был сдан в рекруты да и пропал без вести. Перед самой пугачевщиной Тарасовская семья была самая большая в деревне — жили они в двух избах, и в праздничные вечера под их окнами собирался народ, слушая, как поют хором три Ивановых сына да две красавицы, Якова дочки. Про них говорили в деревне: «Тарасовым бабушка ворожит». Они и в самом деле были счастливыми, во всем везло им: и здоровы были и сильны, и собой красивы, а главное — была семья эта на редкость дружная. Породниться с Тарасовыми считалось за большую удачу: из их семьи всегда выходили хорошие люди— сильные, смелые, ни перед какими затруднениями не становившиеся в тупик.
Но пришла и для семьи беда. Разразилась по всему Поволжью пугачевщина, заволновалось крестьянство, прослышав про яицкого казака, который несет им из-за Урала освобожденье от помещичьей неволи. Вся Копиловка поднялась с Тарасовыми во главе, чтобы принять участие в крестьянской борьбе.
Надежда Афанасьевна с мужем своим, Петром Сергеевичем, едва успели убежать из дома.
Но недолго пожила Копиловка на свободе. Мятеж задушили, и еще злее навалилась на плечи крестьян скинутая было с плеч неволя. Больше всех поплатились Тарасовы. Из большой семьи уцелела только полуслепая бабка да двое ее внучат, Ефимка да Федосьюшка, годовалые близнецы. Помещики вернулись в именье. Узнав о гибели Тарасовых, Надежда Афанасьевна перекрестилась.
— Ну, теперь спокойней будет, — сказала она, — даром, что певцы были хорошие, а очень мне лица их не правились. Сущие разбойники!
Когда Ефимка и Федосьюшка подросли, Надежда Афанасьевна взяла их в дом для того, чтобы были на глазах: «а то, — говорила она, — если их в деревне оставить, они опять бунт поднимут— уж это порода такая».
И, правда, брат с сестрой сохранили в себе все черты Тарасовской семьи. Красивые, высокие, сильные, они обладали прекрасными голосами, веселым правом и, как было в обычае в семье, крепко любили друг друга. Бабка умерла. Ефимка говорил Федосьюшке:
— Ты у меня, сестренка, одна на свете. Ты на меня надейся, а я на тебя буду надеяться.
Помещица не взлюбила брата с сестрой. Вслед за барыней не взлюбила их и Федотовна, главная в доме наушница и сплетница.
Еще совсем маленькими ребятами Ефим и Федосья тешили всю дворню своим пением. Слушали и дивились — откуда только все это берется. Ефимка сам песни сочинял, сам напев придумывал. Вместе с сестрой мастерили дудочки и на них играли, как на настоящих флейтах. Словом, и тут сказалась Тарасовская кровь.
Из-за этой-то любви к музыке и начались их первые детские горести. Капризная Надежда Афанасьевна терпеть не могла пения. Услыхав как-то раз Ефимку и Федосьюшку, она вошла в гнев, позвала Федотовну и стала упрекать ее: «Так-то ты за холопами глядишь. Песни у тебя поют. Значит, у них радость какая-нибудь завелась, что они горло дерут. Они разбойники, зря радоваться не будут. Против меня замыслили какую-нибудь каверзу, уж я знаю».
Тщетно ее убеждала Федотовна, что ребятам всего-навсего по десяти лет и что поют они по глупости, — Надежда Афанасьевна слушать ничего не хотела.
— Ну, голубчики, — сказала Федотовна детям, — я по вашей милости хозяйской блажи терпеть не согласна. — И строго-настрого запретила им петь.
Но разве ребят удержишь? То и дело то Федосьюшка, то Ефимка, разбаловавшись, замурлыкают какую-нибудь любимую песенку, и удары, розги, пощечины так и сыпались на них.
Когда Ефимка подрос, его определили конюхом на конюшню, Федосьюшку обучили рукоделью и заставляли работать, не разгибая спины. Брат с сестрой видались только урывками.
— Нечего вам шляться друг к другу, — говорила Федотовна.
Но, как ни старались, любви брата и сестры уничтожить было невозможно.
О приезде «молодого барина» давно прослышали в дворне. Дворовые не знали, радоваться им или плакать. Люди постарше с сомненьем покачивали головами.
— Нам все одно: что в лоб, что по лбу. Старая барыня скупостью извела, новый хозяин с собой и новую блажь привезет.
Доверчивая молодежь ждала чего-то. О барине ходили разные слухи. Рассказывали, что Антон Петрович на маменьку свою ничем не похож: человек веселый, деньгам счета не знает. До пляски и песен большой охотник.
Ефимка стал возлагать надежды на приезд барина: ему уже представлялось, как купит он гитару, как разучит под нее «Лучинушку», как, наконец, отправят его в Питер учиться, как удивляться там все будут, дадут ему с сестрой на радостях вольную, как заживут они свободными людьми… и многое, многое еще представлял себе Ефимка.
* * *
— Вот и приехали, — сказал Антон Петрович, откидывая ковер, закрывавший кибитку.
Только в двух-трех окнах дома горел свет. На крыльцо выскочила с фонарем Прасковья Федотовна и, не зная, чем бы ублажить молодого барина, пустилась в слезы и причитанья. Выбежали еще дворовые и подхватили гостей под руки.
— Однако домик не из веселых, — сказал барон, входя в темную, облупленную переднюю, по стенам которой свисала паутина.
— Да и плеснью пахнет, — сказал Антон Петрович, недовольно оглядываясь. — Маменька спит, что ли?
Федотовна стащила с барина шубу и беспрестанно целовала его в плечи.
— В зале ожидают— уж какой тут сон. Как получили весточку, что ожидать им гостя дорогого, так сна от радости и решились. Ожидаючи, ночи напролет плакали.
В зале, несмотря на семейное торжество, горела одна сальная свеча, и на одном углу стола был накрыт холодный скудный ужин. Черноглазая Федосьюшка, в поношенном сарафане, босая, вносила кипящий самовар В комнате было холодно и неприветливо, как в сарае. Надежда Афанасьевна встретила сына в зале.
— Антоша! Друг мой! Наконец-то!
Антоша очень холодно поздоровался с маменькой и, обернувшись к столу, указал пальцем на стоявшие на нем тарелки.
— Вы разве не ждали меня маменька?
— Ждала, ждала! День и ночь ждала, только и думала, как тебя встретить.
— И только всего и придумали. Я вижу вы, маменька, все такая же. Ну-ка. Федотовна, поворачивайся да погляди, нет ли там на погребе чего-нибудь поприличней.
Надежда Афанасьевна опустилась в кресло.
— От бедности, мой друг, — пролепетала она.
Приятель Антона Петровича с улыбкой наблюдал за встречей матери и сына. Надежда Афанасьевна передала дрожащей рукой Федотовне ключи от погреба и испуганными глазами следила за сыном, который ходил по комнате, трогая рваную обивку кресел, пробуя крепость мебели и разглядывая с отвращением мрачное жилище матери.
— Много ли накопили? — спросил, наконец, Антон Петрович.
— Сколько могла, дружочек, только мало, совсем мало. Крестьяне, сам знаешь, все пьяницы и лентяи, дворовые— воры, сама я стара, где мне доглядеть?
— А вот на утро посчитаем, — сказал Антон Петрович. — На меня хватит. С завтрашнего утра, маменька, уж вы не обижайтесь, у нас тут новая жизнь пойдет. Вы по-своему пожили, теперь придется вам пожить по-моему. Так я говорю, барон?
В ответ барон радостно захохотал.
* * *
Устройство новой жизни в имении Антон Петрович предпринял с первого же дня. Прежде всего маменьку свою, Надежду Афанасьевну, он загнал во второй этаж, в две маленькие тесные комнатки.
В нижний этаж Антон Петрович велел перетащить все мало-мальски ценное, сохранившее еще хороший вид, из имущества матери. Очень довольный новым занятием, барон давал советы, переставлял мебель, беспрерывно требовал у Федотовны то наливки, то закуски, то чая со сливками, бегал, суетился и все приговаривал:
— Вот это, и правда, по-дворянски, вот это настоящий барин.
Антон Петрович обошел всю дворню, зашел на конюшню поглядеть на лошадей. Красавец Ефимка понравился помещику.
— Ты здесь кто?
— При лошадях, конюх…
— Что же это у тебя за лошади: они на первой версте сдохнут.
Конюх не смутился.
— Без овса, известно, какая же лошадь: овес-то бережем, а лошадок нет.
— Кто же велит?
— Барыня велит… — Ефимка с трудом удержал улыбку. — Говорит: они с овса жиреют, резвости в них нет.
Антон Петрович пробормотал сквозь зубы что-то вроде ругательства.
— А что ты еще делать умеешь?
— Ничего не умею, меня не учили. Петь умел, да барыня не велит.
— Петь умеешь? Это надо послушать. Придешь вечером ко мне в дом. С кем же ты поешь?
— А сестра тут еще моя — у ней голос с моим не сравнять— хорошо поет.
— Это надо, надо будет посмотреть! — сказал Антон Петрович и вышел из конюшни.
Под вечер во дворе сошлись Ефимка с Федосьюшкой, и брат рассказал сестре о своем разговоре с новым хозяином.
— Я ему это нарочно ввернул насчет пенья. Федотовна сказывала — он любитель. Глядь, и на нашей улице праздник будет.
Но Федосьюшка неожиданно напустилась на брата.
— И кто просил? И куда ты выскочил! Посмотрел бы на глазища его — он матери своей хуже. От такого добра нечего ждать. Да и вправду, когда нашему брату от помещика добро бывает? Сидел бы ты лучше да молчал, Ефимка.
— Молчаньем-то много не высидишь. И чего бояться. Не съест. Дед-то наш, чай, слышала, за голос свой в Питер попал.
— Ну и попал. И что толку? Добро бы счастье там нашел, а ведь, говорят, пропал ни за что.
Ефимка с досадой махнул рукой.
— Тебя послушать— ложись на печь и умирай.
— Да уж попомни мои слова: от помещичьей милости добра не бывает.
* * *
Антон Петрович привез с собой новые взгляды, новые моды, новые требования.
Было как раз то время, когда даже в среду провинциального дворянства стала проникать склонность к роскоши, к широкой жизни по образцу петербургского двора. В прошлое отходило то время, когда помещик в халате, с бородой по пояс, находил удовольствие только в том, чтобы с утра до ночи греться на лежанке да есть за обедом жирную, тяжелую пищу. С такими привычками нельзя было и надеяться угодить государыне. От дворянина требовался теперь внешний лоск, изящество, французский язык. Старосветским маменькам пришлось приглашать французских учителей к своим сыновьям и учить танцам и поклонам подрастающих девиц. Дворянская молодежь тянулась в столицу, где посредством острых слов и грации люди делались вельможами и первыми богачами. Обратно в свои поместья привозили новые нравы и новые моды. Появились в отдаленных вотчинах сады на английский манер, с выписанными для них специалистами садовниками, картины, роскошные обстановки, задавались обеды на всю округу, появились домашние оркестры и главным образом, как самое модное развлеченье домашние театры.
Как же было Антону Петровичу отстать от общей моды? У графа Орлова был театр, театр графа Каменского славился на всю Орловскую губернию, своим театром князь X. заслужил особое внимание императрицы. Почему же Кулибину не прославиться тем же? В беспутной голове Антона Петровича уже носились мысли о том, как загремит в большом зале вновь отделанного кулибинского дома свой домашний оркестр, как он превратит крепостных девушек в герцогинь, княгинь и сказочных фей. На эту затею и обрекал Антон Петрович облитые слезами сбереженья Надежды Афанасьевны.
— Детей, слава богу, у меня нет, — рассуждал он, — беречь не для кого, а на мой век, авось, хватит.
Его приятель, барон, всячески поддерживал эту затею. Сам он считался знатоком театрального дела.
— Взбаламутим всю губернию. — говорил он.
Первое впечатление от дворни у Антона Петровича было самое печальное.
— Что сделаешь с этими уродами, — говорил он, — они и ходить-то толком не умеют не то что плясать. Их в десять лет не научишь.
— Это как учить, — говорил барон, — строгостью все сделаешь.
— Это их маменька так заморили своей дурацкой экономией.
На первых порах приезд Антона Петровича действительно как будто внес улучшение в жизнь дворовых.
Выдали девушкам новые сарафаны, на кухне появился в изобилии хлеб.
— Может быть, отъедятся, толковей будут, — говорил Антон Петрович.
Между тем барон хлопотал, ездил в губернский город, вымерял с приезжим архитектором залу, чертил планы. Наконец, прибыли и главные, давно ожидаемые Антоном Петровичем помощники: немец-музыкант со скрипкой подмышкой и с целым возом всяких инструментов и юркий маленький француз-танцмейстер.
Дело оставалось за набором исполнителей для спектаклей. Федотовна оповестила дворню, что на утро барин им всем ревизию сделает, и велено почище приодеться да смелей держаться и каждому показать, кто на что способен.
— Говорил тебе, Федосьюшка! — радовался Ефимка. — Наша череда пришла.
Федосьюшка отмалчивалась, как бы предвидя беду.
На утро во вновь отделанном кулибинском зале с хорами выстроилась дворня, наряженная в новую только что выданную одежду. Все стояли, уныло опустив руки, не представляя себе, какую еще барскую затею придется им выполнять. В зале суетились два будущих учителя наскоро создаваемых артистов.
Антон Петрович вышел, сияя удовольствием. Маленький барон семенил рядом с ним.
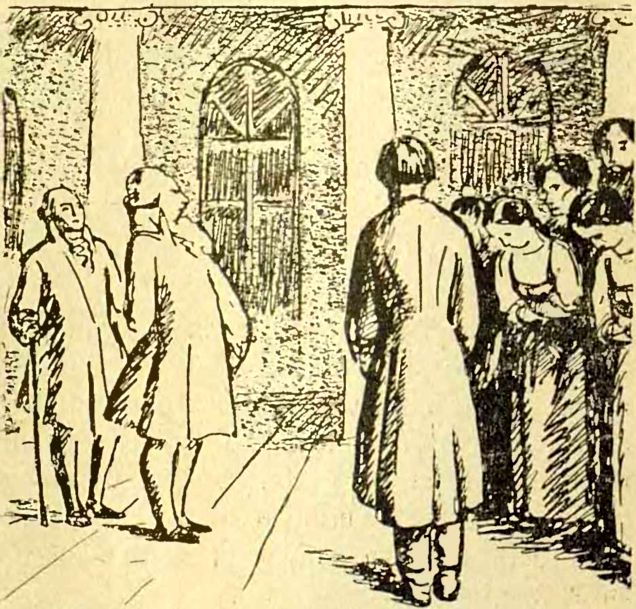
— Кто плясать умеет? Выходи! — скомандовал Кулибин.
Дворовые молчали, переступая с ноги на ногу.
— Внушим внушим, — лепетал француз, заискивающе улыбаясь.
— Неужели никто плясать не умеет? Да это не люди, а камни какие-то, — горячился Антон Петрович. — Кто петь умеет?
Красавец Ефимка, улыбаясь и блестя глазами, вышел из рядов.
— Я тебя видел где-то! На конюшне, что ли?
— Так точно!
— Конюх, да помню, помню!
— Он самый и есть.
— А ну-ка покажи свое искусство.
Ефимка оглянулся на толпу, где, прячась за спины подруг, сердито выглядывала Федосьюшка.
— Позвольте, барин, я уж с сестрой спою. Мне с ней сподручней. Вместе привыкли.
— Ну что же тем и лучше, послушаем и сестру.
Федосьюшка неохотно вышла из рядов.
Ефимка встряхнулся, взглянул на сестру которая стояла сердитая с опущенными глазами, и запел. Голоса у них и в самом деле были чудесные. Давно не слыхал старый кулибинский дом такого прекрасного пения.
— Да откуда вы научились! — закричал восторженно Антон Петрович. — Ведь это такие голоса, каких в Питере поискать, да им цены нет!..
Ефимка не без гордости сказал:
— Тарасовские мы, это в роду у нас, пение-то!
Антон Петрович потирал себе руки, оглядывал брата и сестру с довольным видом.
— Ну, хоть по крайней мере из этих толк выйдет, — сказал он, — есть с чем начать. Будет и у Кулибина театр почище, чем у других выскочек.
Федосьюшка оказалась права. С этого самого дня началась для кулибинских крепостных ужасная жизнь. Такая жизнь, что поневоле вспоминалась порой сама Надежда Афанасьевна с ее скупостью и мелкими придирками.
Антон Петрович все забросил, кроме театра, хозяйство отдал в руки вновь прибывшему управляющему, который распоряжался, как хотел, именьем. Сам помещик с утра до ночи устраивал репетиции. Особенно тяжелы для девушек были уроки танцев: привыкшие только к тяжелой и грубой работе, они не в состоянии были научиться принимать красивые позы, заламывать руки, прыгать, ходить особенной театральной походкой.

Антон Петрович приходил в ярость и проявлял с полной откровенностью свою жестокость и дурной характер. Удары так и сыпались на несчастных. Особенно доставалось Федосьюшке. Барин сильно невзлюбил упрямую девку, которая словно поклялась никогда ничему не научиться. Когда Федосьюшку заставляли плясать, она выходила на середину зала, опустив руки, и стояла столбом.
— Ты что, глуха что ли? — кричал Антон Петрович. — Пляши!
Федосьюшка оставалась неподвижной. Танцмейстер подбегал к ней, начиная насильно заламывать ей руки, переставлять ноги, делал ей больно.
— Ведь она может плясать, может, только не хочет, — выходил из себя помещик.
По вечерам, если была какая-нибудь возможность, Ефимка пробирался к сестре и начинал ее бранить.
— Да ты что это, на самом деле, беды нажить хочешь?
— Не хочу плясать и не буду.
— Да ведь все равно заставят. И чего тебе не плясать?
Федосьюшка сердито взглядывала на брата.
— Они бьют нас, голодом морят, а я их потешать буду. Не хочу плясать и петь не буду. Что хотят, то пусть со мной и делают.
— Да ведь пела же один раз!
— Дура была, вот и пела. Это ты меня уговорил. А теперь я разглядела, какой он есть злодей, и больше не хочу.
Ефимка хорошо знал сестру, знал, что. уж если она заберет себе что-нибудь в голову, ее не переспоришь. У Ефимки характер был другой. Он не любил сердиться, не любил и отказывать себе ни в чем. С тех пор, как приехал Антон Петрович, жизнь его лучше стала, его хвалили, награждали, сняли с него тяжелую работу, и он день-деньской играл на гитаре да плясал. Чего же лучше! О том, что за человек помещик, Ефимка вовсе и не думал.
* * *
Между гем наступило лето. Съехались в округе помещики из Питера и Москвы. Заговорили кругом про Кулибина и его новую затею.
Кулибин решил среди лета устроить праздник — всех соседей поразить роскошью дома и театра. Разослал даже приглашенья в столицы знакомым, чтобы приехали важные люди погостить у него и поглядеть на театр. Репетиции шли с утра до ночи. Дворовые были совершенно замучены. Учили роли с голоса.
Кулибин из-за обеда вскакивал и кричал подающим к столу девушкам: «Герцогиней пройдись!» «А ну, как графини кланяются?»
Федотовна сбилась с ног. Надежда Афанасьевна плакала ночи напролет о том, что сын ее по миру пустит.
Танцмейстер и немец-музыкант уверяли Антона Петровича, что дело идет на лад, что хор выходит на славу, девки и танцам научились и роли говорят толково. На одну только Федосьюшку жаловались. Федотовна ее на хлеб и на воду сажала и наказывала ее, не хочет петь да и все, нарочно фальшивит, а плясать заставляют— она соседкам на ноги наступает.
— Ну, я сам примусь и из нее дурь выбью, — сказал Кулибин.
Но дурь выбить из Федосьюшки ему не пришлось, потому что помешало одно непредвиденное событие.
* * *
Кулибин издавна считался одним из самых богатых помещиков губернии. Правда, благодаря бесхозяйственности все понемногу приходило в упадок, но слава богача все еще держалась за ним. Его в губернии уважали. Богаче него в губернии был только князь Вольский, его ближайший сосед. Этот князь был настоящий вельможа и придворный человек. Его дворец был окружен, английским парком с бьющими фонтанами; была у него и псовая охота, и конский завод, и всевозможные барские затеи. Только так же, как и Кулибин, он лет десять уже не жил в своем имении, предоставив управленье бурмистру.
О князе и думать забыли, забыл о нем и Кулибин, считая себя за его отсутствием самым важным барином в округе.
Вдруг… однажды вечером, когда Кулибин был занят в зале примеркой костюмов на актеров, вбежал к нему взволнованный барон.
— Новость, и очень неприятная, — сказал он.
— Что такое?
— Вышли людей — расскажу.
Когда крепостные вышли, Антон Петрович с недовольным лицом уселся против своего приятеля.
— Князь вернулся, — сообщил барон.
— Как вернулся? Почему ты знаешь. Какой вздор!
— Ничего не вздор. Я гулял и встретил его самою: ехал верхом, и с ним целая компания…
— Да, может быть, ошибся — не он?
— Как же не он, когда я с ним разговаривал. Узнал меня, остановил, сказал, что вернулся в именье, хочет здесь погостить!
— Зачем его принесло?
— Да ты погоди, слушай дальше. Он меня спрашивает: «Я, говорит, слышал, что мой сосед Кулибин театр у себя устроил. Любопытно бы посмотреть». Я говорю: «Он не замедлит вас пригласить, как узнает о вашем возвращении». Тут князь улыбнулся, да если бы ты видел какой улыбкой насмешливой. «Ну что ж, говорит, потягаемся с ним — я сюда своих комедиантов привез и имею обещанье от государыни, что она непременно нынешним летом посетит меня». Каково? А?
Антон Петрович побледнел.
— Это он назло, не иначе как назло. Десять лет не бывал, а теперь пожалуйте.
— Театр-то, наверное, образцовый — тебе свой и показывать стыдно будет.
Антон Петрович вскочил и заходил по комнате.
— Ну это мы еще посмотрим, посмотрим! Разорюсь до тла, все на ноги поставлю, а будет мой театр не хуже княжеского.
Государыня приедет — я ее к себе приглашу, и увидим, увидим, кто ей больше доставит удовольствия— я или этот несчастный князишка.
— Хвались, хвались, а актрисы-то у тебя для главной роли нет. Хор, правда, хорош, ну а все-таки, какая же комедия, когда ни одной красавицы нет. Девок-то, по правде говоря, ничему еще не научили. Одна эта Федосья с голосом, да и та столбом стоит, — не хочет ни петь, ни плясать.
— А вот посмотрим, посмотрим!
Антон Петрович в сильном гневе кликнул Федотовну и, топая ногами, приказал тотчас же созвать всех комедиантов в залу для репетиции, несмотря на надвигающуюся ночь.
Были позваны и танцмейстер, и музыкант, и одевальщик, и цырюльник с целым ворохом париков.
Дворня, перепуганная, собралась, прослышав, что барин в великом гневе: кой-кому уж было известно о возвращении князя, о соперничестве между двумя вельможами.
— Ну, теперь начнет чудить, — говорили дворовые.
Но не успел сердитый и красный Антон Петрович войти в зал в сопровождении своего вечного спутника, барона, как из другой двери вбежал запыхавшийся казачок с криком:
— Гости приехали!
И почти следом за ним вошел нарядный, красивый, молодой еще князь.
Антон Петрович, который за пять минут до этого бранил его, на чем свет стоит, вскочил ему навстречу с самой приветливой улыбкой:
— Гость дорогой! Какая честь для меня!
— Вот я вас и застал, — начал князь, пожимая руку соседу, — как раз за тем самым делом, о котором и хотел говорить с вами. Я такой же любитель театра, как и вы, и очень, очень рад встретить здесь в глуши образованного человека, знающего в нем толк.
— По мере сил, — отвечал польщенный Кулибин, — хочу, чтобы и наши провинциальные соседи немного попривыкли к тому, что уже вошло в моду в столице. Знаю, что и государыне это приятно.
— А как же, как же. Государыня ценит образование, любит искусство. Побольше бы таких людей, как вы, и вся страна бы преобразилась. Искусство так облагораживает, даже холопов наших оно превращает в грациозных и покорных исполнителей господской воли. Я, дорогой Антон Петрович, буду говорить о вас с государыней — она обещала посетить меня.
Антон Петрович был в восторге: князь оказался неожиданно милейшим и любезнейшим человеком.
— Я уверен, дорогой Антон Петрович, — продолжал князь, — что между нами не будет соперничества: я считаю, что люди нашего круга должны во всем помогать друг другу. Если у вас чего-нибудь недостает, я весь к вашим услугам.
Антон Петрович совсем просиял и захлопотался, усаживая дорогого гостя. Барон тут же лебезил и подлизывался. Между тем глаза князя быстро перебегали по лицам неподвижно выстроившихся актеров с накинутыми на плечи комедийными костюмами.
— Однако труппа у вас изрядная, а о вашем хоре я кое-что уже слышал. Но мне самому было очень желательно лично убедиться в ваших успехах.
Антон Петрович, обвороженный князем, принял на веру все его любезности и тотчас приказал актерам показать свое искусство.
Грянул хор, заиграли на хорах недавно обученные скрипачи и флейтисты.
Князь, казалось, слушал с большим удовольствием.
— Прекрасно, прекрасно, — говорил он.
— А вот и самый лучший мой актер, — сказал Антон Петрович, вызывая Ефимку. — Из Тарасовской семьи, когда-то голосами они славились на всю губернию. У деда моего одного из Тарасовых граф Орлов купил за большие деньги. Музыкальный талант у них в роду.
— Да, я кое-что слышал о них, — сказал князь, прищуриваясь на красавца Ефимку. — И собой хорош и ловок. Вы счастливец, Антон Петрович, у меня таких нет.
Антон Петрович вздохнули.
— Вы совершенно правы, князь, но без актрисы какая же комедия! Скажу вам по секрету, что это главный недостаток в моей труппе. Девки — сущие медведи, ни плясать ни ходить, и учу их и секу — все толку нет!

— Это, право, очень досадно. А вот эта девушка, которая прячется там в углу, — и красива и стройна.
— Вот это-то и есть мое главное горе. И собой хороша и голос есть. — а ничему не выучишь: сущий столб.
— И голос есть? — переспросил князь.
— Тоже из Тарасовской семьи, да на что мне ее голос: у меня и без нее хор хорош. А актрисы нет — вот в чем беда.
По лицу князя пробежала улыбка.
— Ну этому горю мы поможем, — сказал он, — то чего нет у вас — найдется у меня.
Антон Петрович бросился пожимать руки князя. Этот враг явился к нему сущим благодетелем. В столовой уже накрыли ужин, и князь, сопровождаемый восторженным хозяином и забегающим вперед бароном, отправился к столу.
* * *
Князь вернулся от Кулибина очень поздно в прекраснейшем настроении духа. В огромной гостиной его дворца его ждало веселое общество. Кроме приехавших из Питера гостей, были здесь и кое-кто из соседей.
— Ну как, съездили, устроили, видели? — закричали гости при входе князя.
Князь развел руками.
— Ну, друзья мои, — сказал он, — этот Кулибин оказался совершенным дураком, его ничего не стоит провести. Я проучу этого выскочку с его затеей. И подумать только, этот дворянчик вздумал удивлять губернию театром!
Гости расхохотались.
— Самое смешное, — продолжал князь, — это его актеры. Это какие-то медведи, а не люди; говорят, его матушка морила дворовых голодом, не даром они все такие тощие, бледные.
— Ну, а знаменитые его певцы.
— Видел и их. Ефимка этот— певец замечательный, и Кулибин не надышится на него. Его у Кулибина никакими хитростями не оттягаешь, ну а есть другое дело, и его-то я, кажется, и окончил сегодня.
— Что, что такое?
— А то, что, как я и думал, этот Кулибин ничего не понимает в деле, за которое взялся. Ефимка хорош — спорить не стану, но он и в подметки не годится своей сестре.
— Что же, тоже певица?
— Да и певица, и актерка, и плясунья, и собой хороша, и всего забавней то, что эту самую Федосьюшку, лучшую девку из всей труппы, единственную стоящую вниманья, Кулибин мне продал.
— Продал. Быть того не может! Каким образом?
Князь расхохотался и самодовольно оглядел своих слушателей:
— Кулибин жаловался мне, что у него нет хорошей актерки, а я гляжу на эту Федосьюшку и думаю: какой же тебе еще актерки нужно, — эта не то что за герцогиню, за царицу сойти может. Я его осторожно спросил: «А что эта девушка какова?» — «Да что, говорит, столб столбом стоит и ничему учиться не хочет». Ну, думаю, и дурак же ты, коли своих крепостных принудить не можешь; на что, думаю, такому олуху помещичья власть дана. А как запел хор, я так подсел, чтобы ее голос слышать. Ну и голос, друзья мои! Честное слово, такого отродясь не слыхал. Ну прямо соловей поет, а не человек. Потом выбрал я минуточку и сунул кулибинской домоправительнице золотую монетку. «Что, мол, у вас за девка Федосья.» — «Сущий, говорит, чорт, никакого с ней сладу нет, мы и бьем ее, и то, и се, злится и молчит». «А плясать умеет?»— «Да как же, говорит, батюшка, и плясать и петь. Бывало раньше всю дворню потешала, а как барин приехал, заупрямилась: ничего я де не умею, и хоть в гроб меня вколотите, а на театре ихнем играть не буду». Ну тут я сообразил, что девка клад. Из нее такую актерку сделать можно, что не только на губернию, на весь Питер прославишься. А уж от упрямства отучить за это я берусь, у меня дворня не по-кулибински вышколена. Ну подъехал я к Кулибину: «Актерки у вас нет, уж вы позвольте мне по дружбе вас выручить. Есть, мол, у меня одна, благодарить будете». Решил я ему Дашку сплавить — она все равно никуда не годится Он кинулся благодарить. Я ему и говорю: «Только услуга за услугу; у меня, говорю, в хору одного женского голоса не хватает, может быть, у вас найдется, мы бы и обменялись». Задумался. «Да уж и не знаю, говорит, кого бы вам получше предложить». Я глаза в потолок, напустил на себя равнодушие. «Может быть, говорю, Тарасову сестру дадите, у нее как будто голосенок славный». — «Голос-то говорит, есть, да вот только петь она не хочет». «Одна петь не хочет, а в хору ведь поет же. Мне больше ничего не надо». Ударили по рукам, распрощались друзьями. Кулибин меня до крыльца провожал, не знал, как ублажить, и все благодарил.
Князь и вместе с ним гости расхохотались.
— Завтра поеду, заберу девку и отправлю ее на выучку в Питер. Готов биться об заклад, года не пройдет, как выйдет из нее первостатейная актерка. Посмеюсь я тогда над Кулибиным.
* * *
Федосьюшка заметила, как во время представленья князь глядел на нее, слушал ее голос, но не пришло ей в голову, что за этим таится у князя какое-нибудь намеренье. Только тогда шевельнулась у нее в душе тревога, когда встретившая ее в коридоре Федотовна, всегда отличавшаяся болтливостью, показала ей золотую монетку и сказала:
— Князь приезжий дал. И к чему дал, не знаю. Про тебя спрашивал, умеешь ли плясать да петь…
— Вы что же сказали, тетенька? — спросила Федосьюшка с внезапно забившимся сердцем.
— Сказала, как есть, что все умеешь, только упрямишься, и духа твоего тарасовского никакими палками не выбьешь.
Федосьюшка, сама не отдавая себе отчета в причине своего волненья, бросилась искать брата. Нашла она его за домом, где Ефимка, беспечный как всегда, бренчал что-то на гитаре, подаренной ему барином за хорошее поведение.
— Что это, Федосья, как шальная бежишь? — спросил он.
Федосьюшка села рядом с ним на траву и вдруг заплакала.
— Да что ты, о чем, случилось что-нибудь?
— Ничего не случилось, а только боюсь я.
— Боишься — вот новости! Обидели тебя, что ли?
— Нет, Ефимка, только чувствую я, что замышляет этот князь что-то: он и Федотовну про меня спрашивал.
— Князь? Да что тебе князь? Мало ли к Кулибину гостей ездит.
— Ефимушка, узнай!
— Да что узнать-то, глупая?
— Заперлись они в комнате и о чем-то разговаривают, князь с нашим иродом. Узнай, Ефимушка.
Ефимушка пожал плечами.
— Да мне-то какое дело, что они там между собой брешут. Ты, Федосья, с ума спятила.
— Говорю тебе, про меня говорят.
— Да с чего ты взяла?
— Говорю тебе про меня, уж я знаю, чувствую.
Федосьюшка продолжала плакать, повторяя: «про меня, про меня». Для Ефимки было только одно на свете, что могло нарушить беспечное и веселое настроение, — это горе сестры. При виде ее слез в нем тоже пробудилась тревога. Он знал сестру она была не из тех, которые тревожатся попусту, уж, верно, она что-нибудь да приметила. Ефимка подумал.
— Ладно, постараюсь разузнать, в чем там дело?
* * *
Окна кабинета Антона Петровича приходились довольно низко над землей, так что Ефимке не стоило особого труда, потихоньку ступая, прокрасться так близко, чтобы услыхать беседу Кулибина с приезжим князем. Он стоял тут, выпучив глаза, схватившись руками за волосы, слушал и как будто не понимал того страшного преступного дела, которое веселые собеседники обсуждали так беспечно и легко. Как? Разлучить его с сестрой. С сестрой, с которой он вместе вырос, которая была единственным дорогим для него человеком. Продать Федосьюшку, как собаку, как вещь? Конечно, Ефимка знал, что в любой час хозяин мог распорядиться с каждым из них по собственному усмотрению, но, и зная, он как будто не верил в это. Его беспечный веселый нрав не принимал мысли о таком ужасном непоправимом несчастьи.

— Как же это, как же, — шептал ом помертвевшими губами, — да как же я без нее-то? А до его ушей доносился голос князя, говорившего равнодушно:
— Я в Питер ее отправлю, там у меня в хору как раз одного голоса недостает. Уж как-нибудь да заставим петь. У меня, знаете, с такими упрямыми расправа коротка. Я пощады не знаю.
Федосьюшка с трепетом ожидала возвращения брата. Она старалась самое себя успокоить: «И что это я за дура такая, отродясь со мной такого не бывало, никогда не боялась, а вот теперь забоялась чего-то. Да и Ефимку напугала».
Уже совсем сгустилась ночь, на траве блестела роса, помещичий дом один сиял освещенными окнами. Федосьюшка увидала, как вышла на крыльцо Федотовна, огляделась по сторонам и крикнула в темноту: «Федосья а Федосья, и куда же это девка запропала?»
Федосьюшкино сердце забилось: «И зачем я ей? Нет, — решила она, — подожду, как Ефимка вернется, что он скажет, а там и спать пойду. Пускай ругают, по крайней мере хоть успокоюсь».
Как бы в ответ на ее мысль Федотовна еще раз позвала ее:
— Федосья! Слышь, Федось… тебя барин кличет.
В тот же миг из мрака беззвучно вынырнула фигура Ефимки. Он схватил руку сестры, другую приложил к губам, умоляя сестру хранить молчание.
— Ну? — спросила Федосьюшка шопотом.
Не отвечая, Ефимка потянул ее за руку, увлекая в глубь сада. Вслед им раздавался все более и более раздраженный голос Федотовны, зовущий Федосью.
— И что это за девка, прости господи, как нужна, так и нет. Погоди же, дай срок, я тебе покажу…
— Ну, как же, что? — продолжала спрашивать Федосьюшка.
Только тогда, когда дом исчез за высокими липами и перестал быть слышен голос Федотовны, Ефимка остановился. Тут смогла Федосьюшка разглядеть, каким отчаянием было искажено лицо брата.
— Ефимка! Братик, аль и впрямь беда?
— Беда, ох, такая беда!
Ефимка едва мог говорить; он рвал руками рубашку на груди и задыхался.
— Да скажи что, что?
— Хотят тебя, тебя…
Ефимка мог не договаривать, сестра уже поняла. Тогда, как брат в отчаянии ломал руки, ее лицо при страшном известии сразу переменилось: оно приняло злое выражение, брови ее сдвинулись.
— Будет тебе, — крикнула она Ефимке, — поняла уж… так и знала я… — И, подумав прибавила: — хороню, что хоть узнать успели заранее…
Ефимка продолжал рыдать.
— Как быть-то, как же я без тебя… да я на себя руки наложу.
— Постой… постой… неужели ничего не придумаем?
— Что ж придумать… их сила.
Федосьюшка глядела прямо перед собой.
Ее губы чуть слышно прошептали:
— Бывало… что и убегали.
Ефимка перестал плакать. Теперь он стоял перед Федосьюшкой, глядя на нее во все глаза.
— Убегали?
— А ты что ж думаешь, — крикнула Федосьюшка, — так я и дамся им, злодеям, как скотина на убой.
— Да как же?
— Эх, Ефимка, гляжу я на тебя, словно ты и не наш вовсе, не Тарасовский. Плачешь, а еще мужик. Вот гляди на меня, я— баба, а реветь не буду. Ты только скажи: согласен быть со
мной заодно или боишься?
— Боюсь? Это я-то боюсь?
От обидных слов сестры Ефимку бросило в жар. Разве не был он самым сильным, самым смелым и предприимчивым парнем во всей округе?
— Ну покажу я тебе, Федосьюшка, как я боюсь. Бежать, так бежать.
— Когда отправлять-то меня хотят?
— Завтра.
— Так одна только ночь у нас?
— Одна только ночь!
Они стояли друг против друга, напряженно думая. Вдруг совсем близко от них раздался голос:
— Спряталась она что ли? Федосья! Экой грех! Барин кличет, а ее нет! Федосья!
Это была Федотовна; с ней вместе, с фонарем в руках, шел кучер Ермил. Ефимка и Федосьюшка спрятались за деревья, и оба ищущих прошли рядом с ними, не заметив их.
— Нарочно спряталась, балуется, — пробасил кучер.
— Девку-то барин князю уступил, — сказала Федотовна. — Может, пронюхала стороной, да, не приведи бог, над собой беду сделает. Найду — в чуланчик запру от греха, до утра и просидит.
Они пришли мимо и исчезли в глубине сада.
Быстро, как бы преображенный от сознания близкой опасности, Ефимка обернулся к сестре.
— Ничего, не бойся! Выручу! — сказал он и повлек ее в сторону дома.
* * *
Время близилось к полночи, но в это время года, в начале лета, сумрак наступал ненадолго; через час должно было начать светать. В доме улеглись. Погас свет наверху в комнатах Надежды Афанасьевны. Кулибин, рассердившийся на то, что не дозвались проданной им девки, тоже удалился к себе. Только Федотовна и Ермил, начавшие уже тревожиться, холили по усадьбе, ища в росистой траве следов Федосьюшкиных ног.
— Не утопилась ли? — говорила Федотовна. — На моей памяти случай такой-то был. Столярова жена, как сына в рекрута забрили, в Волгу и бросилась.
— Да разве знала Федосья-то?
— А как знать, может, и догадалась.
— Ох беда, — сказал Ермил, — отвечать-то тебе придется!
— А то кому же? Дрожу я вся, Ермилушка, девке-то, по правде говоря, грош цена, а все-таки барское добро.
— У Ефима-то спрашивала?
— Ахти, про Ефимку-то и забыла — может, она где-нибудь с ним.
— Ты вот что: дойди до людской избы, там всех опроси, а я на конюшню сбегаю, он не иначе как там. Как же это нам в голову не пришло.
Федотовна и Ермил торопливо пошли обратно. Неприятное предчувствие начинало охватывать обоих.
* * *
В конюшне было темно. Лошади неподвижные стояли, опустив морды на грудь. В одном стойле красавица Ласка, недавно купленная Кулибиным молодая горячая кобыла, изредка переступала с ноги на ногу и волновалась. Малейший шум ее тревожил и иногда она издавала слабое ржание, как будто зовя кого-то. На ржанье ее большой пес Кусай тотчас отвечал сердитым рычаньем. Он сидел на цепи у самых дверей конюшни и мог своим огромным ростом навести страх на самого дерзкого конокрада.
Вдруг две фигуры — мужская и женская— мелькнули у самых дверей конюшни. Они держали друг друга за руки. Кусай поднялся и зарычал.
— Кусай, Кусай, Кусаюшка! Это я — не тронь, — зашептал знакомый собаке голос Ефимки, и рука его торопливо погладила мохнатую голову пса, — Да тише, Кусаюшка, не выдавай!
Злоба Кусая сменилась радостью, он визжал и подпрыгивал, стараясь лизнуть Ефимку в лицо.
Федосьюшка просунула голову внутрь конюшни, откуда повеяло теплым лошадиным запахом.
— Ермил! — шепнула она довольно громко, чтобы удостовериться в его отсутствии. — Нет его! Входи, Ефим!
Не прошло и пяти минут, как Ефимка вывел дрожащую Ласку из стойла. Федосьюшка помогла ему; уздечка висела тут же у самых дверей. Брат и сестра быстро, неслышно двигались, переговариваясь вполголоса.
— Без седла?
— Где же возьмешь — провозимся долго. Я тебя кушаком привяжу.
Ефимка взнуздал кобылу, уговаривая ее ласково.
— Стой, матушка, стой, голубушка!
Взнузданная Ласка поводила по сторонам большими испуганными глазами.
— Ну, садись! — сказала Федосьюшка.
Внезапно луч света ворвался в полуоткрытую дверь конюшни, чья-то рука раскрыла ее, и на пороге изумленный, с вытаращенными глазами, появился Ермил. Он еще не понимал того, что происходит перед ним, но уже открыл рот, чтобы позвать кого-нибудь.
Ефимка смертельно побледнел, но не потерялся. Он подскочил к Ермилу, втащил его за собой в конюшню и запер за ним дверь.
— Давай кушак! — приказал он Федосьюшке шопотом.
— Да ты что эго, разбойник, делаешь? — наконец, нашел в себе силы сказать кучер.
— Молчи, а то убью!
— Убьешь?
Ермил начал приходить в себя и, сжав кулаки, пошел на Ефимку; он был выше него ростом и казался сильней.
— Лошадей выводить будешь ты, а я отвечай! Эй! Народ!
Крик замер в горле у кучера… Две руки маленькие, но сильные, зажали ему рот. Федосьюшка, схватившая его сзади за лицо, оттягивала его голову назад.
— Пусти, пусти, — хрипел он.
Ефимка воспользовался моментом и подножкой сшиб кучера с ног. Пока Ефимка закручивал ему руки и ноги кушаком, Федосьюшка, сорвав с головы платок, засунула его в рот Ермиле. Вся борьба длилась несколько мгновений.
Обезоруженного кучера брат и сестра отнесли в пустое стойло Ласки и положили его там на солому.
Оба были в поту, руки у них дрожали. Тем не менее Ефимка скомандовал твердым голосом: «Едем!»
Они приоткрыли дверь конюшни: двор был пуст, и только в окнах людской избы, перебегая, двигался свет. Там не спали. Испуганная Ласка птицей вылетела из дверей конюшни с двумя седоками на спине. Впереди сидел Ефимка, Федосьюшка сзади обнимала его обеими руками. Ворота усадьбы были заперты, но ограда была низкая и Ласка, управляемая опытной рукой, легко оттолкнулась от земли, поднялась на воздух и через мгновение уже мчалась по начинающей белеть в раннем летнем рассвете дороге.
* * *
Гости князя довольно долго засиделись у него в эту ночь за вином и картами. Уже начинало светать, когда вышли из-за стола. Князь, привыкший за свою петербургскую жизнь к бессонным ночам, вышел на крыльцо проводить гостей. Вся окрестность была еще в тумане, расходившемся медленно.
— А хорош денек нынче будет, — сказал князь. — Хорошо в такое утро прокатиться по росе верхом. Право, я вам завидую.
— А что же? — сказал один из гостей, которому заспанный конюх подводил к крыльцу вороного жеребца. — Конюшни у вас полны, велите оседлать да и проводите нас.
— А в самом деле, — оживился князь, — проедусь, а там и засну покрепче. Эй. Филипп, оседлать мне буланого, да живо.
Князь с гостем ехали по дороге, с удовольствием вдыхая свежий утренний воздух. В тумане вырисовывались группы деревьев, окружавшие близкую Кулибинскую усадьбу. Глядя на нее, князь с удовольствием вспомнил о том, как ловко он обманул соседа, вырвав у него из рук драгоценный товар, каковым он считал живых людей, обреченных на рабство.
— А все-таки и глуп же Кулибин! — сказал он.
В это время топот отдаленно скачущего коня привлек внимание князя и его гостя.
— Скачет кто-то!
— Да как быстро!
— Это от Кулибиных — сказал князь. — В какую рань поднялись, уж не случилось ли у них там чего?
— Глядите, глядите! — воскликнул гость и в изумлении схватил князя за руку.
По дороге мчалась пущенная во весь опор лошадь. С молниеносной быстротой приближалась она к стоящим на дороге всадников. Мелькнули две головы над ее спиной, женское платье и распустившаяся коса, развеваемая ветром.
— Двое скачут! — сказал князь.
Но беглецы увидали всадников. На всем скаку сидящий впереди мужчина повернул, гикнул и, свернув с дороги, дал ходу прямо по ржаному полю, в объезд изумленной компании.

Хотя расстояние, отделявшее князя от беглецов, было довольно велико, ему все же показалось нечто знакомое в быстро промелькнувшем перед ним лице женщины.
— Это от Кулибиных, — проговорил князь, после нескольких минут оторопелого молчания. — Доехать что ли, узнать!
— И без седла ехали, — сказал гость.
— Во всяком случае странно, — сказал князь, и не в силах будучи справиться с любопытством, хлеснул лошадь и рысью поехал в сторону Копиловки.
Гость последовал за ним.
* * *
У Кулибиных ворота были раскрыты настежь; среди двора Кулибин, поднятый с постели, в халате, с красным от гнева лицом стоял, окруженный дворней. Ермил валялся перед ним на коленях, принимая удары, которыми осыпал его барин. Из окна дома выглядывало испуганное лицо Надежды Афанасьевны. Федотовна с сбившимся на голове платком рыдала и причитала на весь двор.
— Лошадь лучшую увел. — кричал Кулибин. — Двор народу полон, удержать не сумели… изрублю вас… в ступе растолку.
В это время князь въехал во двор. Кулибин бросился к нему.
— Антон Петрович, дорогой, что случилось?
— Ах, князь, лучшую лошадь, лучшую увел; конюх мой, Ефимка, на глазах вот этого дурака, дал себя связать… растяпа, тряпка… баба ведь связала, баба…
— Ничего не понимаю. Кто увел?
— Да Ефимка, конюх мой, лошадь мою лучшую, кобылу Ласку, увел, с сестрой той самой Федосьей…
Тут в свою очередь князь побледнел от гнева.
— Так это, значит, — сказал он, отчеканивая злобно слова, — не вашу только лошадь, а и мою девку украли. — Ведь вы продали мне ее!
— Ах, князь!
— А за чужим имуществом смотреть надо, не кучер ваш растяпа, а вы сами — вдруг закричал князь, теряя самообладание. — Они из-под носа у вас ушли, я сейчас видел их.
— Да, чорт возьми! — вмешался выбежавший на ссору барон. — Чем ссориться, в погоню скорей, господа. Вы, князь, на коне; где вы их видели?
Но князю хотелось выговорить до конца свое раздражение перед Кулибиным.
— А еще помещик! Этой девке цены нет, слышите?
Он взмахнул хлыстом, дернул поводья и, уже вылетая за ворота, крикнул:
— Даю вам слово — найду ее, и уж тогда не гневайтесь— без всякого обмена возьму себе. Судом хоть ищите.
* * *
Между тем, Ласка мчалась берегом Волги, неся своих двух измученных, ошалелых всадников. Солнце давно взошли. Жизнь началась, и эта скачка становилась с каждой минутой опасней и опасней. Попадались навстречу крестьяне, с изумлением оглядывавшие мчавшихся безумцев. Любой из них мог указать помещику, который, несомненно, пустится вдогонку, их след. К тому же лошадь начинала уставать, тяжело дышала и спотыкалась.
Только там по ту сторону Волги, мыслилась беглецам возможность спасения, где-нибудь среди кочующих киргизских племен или еще дальше, в сибирской тайге, где-нибудь далеко, далеко; где именно, они и не представляли себе. Но надо было уйти, уйти во что бы то ни стало, от лютости господ, которая теперь, после их побега, грозила им ужаснейшими мучениями, разлукой, а быть может, и смертью.
Ефимка остановил Ласку, соскочил на землю и снял с лошади полумертвую от усталости Федосьюшку.

— Есть силы еще?
— Найдутся, — сказала Федосьюшка. Ефимка ласково провел рукой по взмыленной шее Ласки и гикнул, чтобы испуганная кобыла бросилась дальше. Она встрепенулась и мелкой рысью побежала прочь, нюхая воздух.
Ефимка спрятал уздечку за пазуху, оглянулся во все стороны и, схватив сестру, повлек ее по крутому обрыву к реке. Посредине реки плыли баржи, на берегу было тихо, маленький ручей журча стекал в реку, образуя болотистое место, где росли камыши.
— Иди тихонько, не топчи травы, — прошептал Ефимка. Он осторожно раздвинул камыши и пробрался в самую их середину. Оба опустились прямо на болотистую почву, закрытые со всех сторон шелестящими высокими стеблями. Обоим хотелось пить. Холодная вода ручья показалась им необычайно вкусной.
— Теперь ждать надо, — прошептал Ефимка, обнял сестру, тесно прижавшись к ней, и оба измученные, усталые заснули.
* * *
Уже к полудню вся округа знала о бегстве двух дворовых из кулибинской усадьбы. Все было поднято на ноги. Неистовствовал Кулибин, чувствовавший себя обманутым и князем и своими людьми, неистовствовал и князь, которому, в особенности после пропажи Федосьюшки, захотелось найти ее во что бы то ни стало, главным образом, чтобы наказать Кулибина, этого дурака, не умеющего беречь собственное добро. Оба бросились по следам Ласки. Многие видели утром двух мчащихся на неоседланной лошади людей, многие могли указать и направление их бегства, по берегу реки. Но Ласку удалось найти только к вечеру, пасущуюся в поле без уздечки. Она все еще тяжело дышала после бешеной скачки, и, увидав ее, Кулибин всплеснул руками.
— Испортил лошадь, негодяй, совсем испортил. Погоди, ответишь ты мне за нее и за весь сегодняшний денек.
Злоба его на беглецов росла с каждым часом. Несколько раз в течение дня, он съезжался с князем, который так же, как и он был неутомим в поисках и поднял на ноги всю многочисленную дворню. Князь и Кулибин смотрели друг на друга злобно, но объединенные общей целью, перекинулись несколькими словами:
— Никаких следов?
— Никаких.
— Через Волгу переправились.
— Не может быть — их бы видели.
— Ночи ждут где-нибудь.
— Дозорных на лодках поставлю, — сказал князь.
— И я поставлю, — сказал Кулибин, и они разъехались.
* * *
К вечеру голод и сырость измучили Федосьюшку и Ефимку. Платье на них промокло насквозь. Они жевали корешки растущих на берегу трав.
— Ну, — сказала Федосьюшка, — чем здесь помирать, надо что-нибудь придумать. На утро в город знать дадут, народ пригонят.
— Через Волгу надо, — сказал Ефимка, глядя на расстилающуюся перед ним темневшую реку.
— Через Волгу, — повторила Федосьюшка, — да только как?
Как бы в ответ на их слова тихий всплеск весел раздался почти у самого берега, и лодка проплыла недалеко от них. В лодке сидело трое людей, на одной из скамеек стоял фонарь.
— Причалим тут, — сказал голос, — а как совсем потемнеет, выйдем на середку сторожить. Обязательно они где-нибудь здесь кроются.
— Не уйти им, сердечным, — сказал другой голос со вздохом.
— Где ж уйти: по всему берегу сторожат, почитай, лодок двадцать.
— А уж и храбрая же нонче молодежь пошла, — подхватил другой, — кабы моя воля, сам бы их на тот берег перевез.
— Перевез, — передразнил его первый: — князь те перевезет. Коли, говорит, не найдете беглых, лучше вам на свет не родиться. Жалей, не жалей а своя рубашка ближе к телу.
Голоса замолкли, и лодочка, шурша в камышах, причалила в нескольких шагах от Ефимки и Федосьюшки. Люди соскочили на берег.
— Поужинаем что ли? — сказал один из них.
Голодным Ефимке и Федосьюшке пришлось слушать, как закусывали на берегу их близкие соседи, лениво переговариваясь.
— Соснуть бы.
— Соснешь и, того гляди, проворонишь.
— Не проворонишь! Другие усторожат. Эк ты до княжеских дел ретивый!
— Свою спину жалею, — проворчал голос.
— Полчасика и отдохнуть, чай, можно.
Понемногу люди стали умолкать, — повидимому, они решили позволить себе короткий отдых. Минуты шли за минутами. Федосьюшка и Ефимка сдерживали дыхание и охватившую их дрожь.
— Ну, — сказал, наконец, Ефимка едва уловимым шопотом и беззвучно поднялся на ноги. Федосьюшка раздвинула камыши. Лодка привязанная веревкой к торчащей из воды коряге, стояла тут же; трое людей спали на берегу. Дрожащими руками отвязали веревку. За храпом спящих не было слышно тихого всплеска опускаемых в воду весел.
— Ложись на дно, — шепнул Ефимка Федосьюшке и тихо оттолкнулся от берега.
На воде было совсем темно, только там и здесь мелькали фонари лодок, рыскавших и стороживших вдоль берегов.
— Потушить фонарь? — спросил Ефимка.
— Не надо, — прошептала Федосьюшка, — пускай нас за сторожевых примут.
Взмах — другой весла, и проклятый берег медленно стал удаляться. Федосьюшка лежала на дне, слушая громкое биение своего сердца. Ефимка вглядывался во мрак следя глазами за одним из огоньков, который быстро приближался к нему.
Он надвинул шапку на самые глаза и греб все быстрей и быстрей. На приближающейся лодке уже можно было различить фигуры двух гребцов.
— Если кулибинские люди, то мы пропали, — подумал Ефимка. — Узнают.
— Ого-го! — вдруг пронеслось по реке, свои что ли?
— Свои. Не видать ничего?
— Ничего, ты что ж один?
На минуту слова как бы застряли в горле у Ефимки; он почувствовал, как страшно вздрогнула лежащая на дне лодки сестра.
— Товарищи-то на берегу… — откликнулся он чувствуя сам неправдоподобие своих слов.
— Как так… — начали было с лодки, которая приближалась все быстрей, так что можно было даже разглядеть лица сидящих в ней.
Вдруг с берега, только что покинутого беглецами, раздался страшный крик, прервавший разговор.
— Держи, держи, — Кричали неистово чьи-то голоса.
Ефимка понял: это проснулись те дозорные, на чьей лодке он плыл теперь. Все в этот миг зависело от его сообразительности.
— Ну, — сказал он громко, — видно, поймали их. Айда, братцы, к берегу! — И, пропуская соседнюю лодку вперед, стал делать вид. что поворачивает руль.
На берегу крики раздавались все громче и громче, но к счастью слова доносились неясно. По всей реке замелькали фонари. Подъехавшие было к Ефимке дозорные ударили в весла и изо всех сил загребли к берегу. Лодка беглецов устремилась в противоположную сторону.
— Теперь туши фонарь. — прошептала Федосьюшка.
На берегу все усиливалось и усиливалось волнение. Ефимка видел, как все огоньки съехались вместе и, один миг постояв рядом, с напряженной быстротой понеслись в его сторону.
Но их отделяло от него уже большое пространство.
— Ну, Федосья, — сказал он, — садись на весла. Теперь уже все равно. Либо пан, либо пропал.
— Уйдем! — сказала Федосьюшка с неожиданной бодростью и села рядом с братом. Теперь они неслись с удвоенной быстротой. Из мрака стали вырисовываться контуры противоположного берега, с кое-где стоящими по берегам рыбацкими избами. Берег был гладкий, пустынный. Казалось, невозможно было укрыться где-нибудь. Но в этот миг брат с сестрой не думали об этом. Ефимка щупал веслом дно; делалось все мельче и мельче.
— Ну, теперь айда в воду! — крикнул он. Темная вода забулькала под ними. Ефимка оттолкнул от себя лодку, которая поплыла одна вниз по течению.
— Пока за ней пускай гонятся, — сказал он, и оба поплыли к берегу.
* * *
В маленькой рыбацкой избушке на берегу Волги, среди ночи, проснулась старая бобылка Марьюшка, жившая здесь давным-давно, с незапамятных времен, как про нее говорили. Она была уже полуслепа, с трудом передвигала ноги и не могла больше работать. Жила она здесь из милости, питаясь тем, что принесут ей соседи. Марьюшка была молчалива и не любила говорить о себе. Были, рассказывали, у нее муж и сыновья, да всех с земли сдуло тогда, когда приходил на Поволжье Пугачев. Осталась она одна-одинешенька, никому не нужная. Сама себя называла она «старой казачкой», а когда ее спрашивали, чья она, отвечала: «Ничья, батюшка, земляная я; господам я не нужна, и они мне не нужны. Счеты у меня есть к ним, да сведу ли их, не знаю».
— Бабка из ума выжила, — говорили про нее.
Бабка проснулась ночью оттого, что ей показалось, что кто-то тихо, как мышь, скребется у нее под окном. Прислушалась, тихо все… и вот опять у самой двери точно шепчут. Бабка встала и подошла к двери.
— Кто там?
— Пусти, не лихие люди.
— Да кто вы такие?
В ответ голос сказал придушенно:
— Не обидим, коли в душе жалость имеешь — отомкни.
Бабке бояться нечего было: изба пуста, взять нечего.
— Ну что ж — сказала она спокойно, входите.
За дверью, прижимаясь к ней, чтобы не видать их было при утреннем свете, стояли Ефимка и Федосьюшка. Федосьюшка с трудом переводила дыхание, оба были бледны, с волос и с платья их струилась вода.
— Гонятся, — прошептал Ефимка и, вскочив в избу вместе с Федосьюшкой крепко запер за собой дверь.
Тут только бабка услыхала, что по всему берегу раздаются крики гиканье, перекликание чьих-то зовущих голосов.
Не обращая внимания на хозяйку, Ефимка подбежал к окошку и прильнул к закопченной слюде, через которую хоть и с трудом, но все же можно было различить, что делалось снаружи. По берегу бежали люди. Вероятно, они догнали пустую лодку и убедились, что беглецы спаслись вплавь.
— Здесь они где-нибудь. Уйти им некуда! — кричали голоса. — Обходи избы.
Разбуженные жители рыбацкой деревушки тоже стали высыпать из домов, заслыша тревогу. В этой избушке Федосьюшка и Ефимка были бы пойманы, как звери в капкан. Еще несколько минут, и догоняющие ворвутся сюда. Это было ясно.
Бабка между тем с изумлением глядела на незванных гостей, которые метались по ее крошечной избе.
— Да откуда, чьи? — пролепетала она. Твердая духом Федосьюшка внезапно зарыдала и в отчаянии кинулась к старушке.
— Бабушка! Гонятся за нами: беглые мы, кулибинские. Лютостью своей извел нас хозяин. Бабушка! Что делать нам?
Ефимка обернулся от окна.
— Сюда идут — проговорил он чуть слышно.
Марьюшка по-старушечьи пожевала губами, соображая что то. Она провела рукой по мокрым волосам Федосьюшки.
— Ничего, голубушка, авось…
Мелкими шагами подошла она к углу, где стояли полуразвалившийся сундук и лавка, служившая ей кроватью.
— Ну-ка, парень, отдовинь, да скорей поворачивайся. Слава те, господи, избу с умом строили: в подполье схороню вас.
В один миг был отодвинут сундук, открыта дверца подполья, и оба беглеца провалились в темную сырую дыру. Бабка задвинула лавку на прежнее место и кряхтя улеглась. Тотчас раздался стук в дверь.
— Кто там?
— Отворяй!
— Да кто такие?
— Отворяй! Не то избу разнесем!
— Обуться-то дайте.
Когда Марьюшка с непроницаемым видом отворила дверь, перед ней оказалась целая толпа людей. Ермил впереди всех готов уж был ломать дверь.
— Чего вам?
Лица заглядывали в избу, обшаривали ее глазами — все было пусто, измятая бабкина постель свидетельствовала о прерванном сне хозяйки.
— Никого ты не видала, старуха.
— А кого, батюшка, видать-то? Кто ко мне забредет, у меня взять нечего.
— Одна ты?
— Одна, милые, заходите коль надо что.
— Айда, братцы! — крикнул Ермил, — идем дальше, все равно не уйдут от нас.
Старуха вышла вслед за толпой на крыльцо и, провожая их, приговаривала спокойно:
— Не уйдут, не уйдут. Где уйти?
* * *
Дни и недели длились, делавшиеся все более рьяными, поиски князя и Кулибина. Подняли на ноги всю губернию, обещали награду тому, кто выдаст им беглецов. Раздражала обоих смелость, с какой был совершен побег, и все больше и больше разгорались их ненависть и соперничество в этой бесплодной охоте. Беглецы, как в воду канули. Никто не встретил их на много верст кругом. Где они могли быть?
Между тем бобылка Марьюшка продолжала жить попрежнему, одна в своей избушке, только чаще стала выходить посидеть на завалинке, прося у проходящих соседей хлебушка, картошки.
— Одна, — говорила она, — радость на старости лет пожевать чего-нибудь.
И ей подавали, подсмеивались над ней, говоря, что смерть забыла ее.
В холодном крошечном подполье Марьюшкиной избы томились бледные, исхудавшие Ефимка и Федосьюшка: только ночью выпускала их старуха в комнату, где они могли размять затекшие члены, вздохнуть иным воздухом.
Старуха говорила:
— Потерпите, ребятки, потерпите. Поищут да и бросят, тогда вам путь, как вольному ветру, на все четыре стороны.
И они терпели и рады были терпеть, не зная, как и благодарить свою спасительницу.
* * *
Только с наступлением осени, когда окончательно прекратились поиски отчаявшихся помещиков, Марьюшка в темную ночь выпустила своих пленников на волю. С одной стороны темнела Волга с казавшимся мрачным нависшим противоположным берегом, с другой— расстилались безвестные дали степей. Туда на восток, в далекую Сибирь, где можно было найти приют в непроходимой чаще лесов, где скрывался обиженный бродячий люд, держали путь Федосьюшка и Ефимка.
Они были истомлены, замучены, но радость и надежда не покидали их. Что могло быть страшного для них в лишениях и трудах, раз они были обладателями величайшего человеческого блага — свободы.
* * *
— Ну, касатики, — сказала Марьюшка на прощание. — Живите долго да свободно. Путь долог, да силушки много в вас. Дойдете.
— Дойдем, бабушка! Только тебя-то оставлять жалко.
— Чего жалеть? Я с господами счеты свои свела. Хоть вас из когтей ихних вырвала. Теперь и помирать можно.