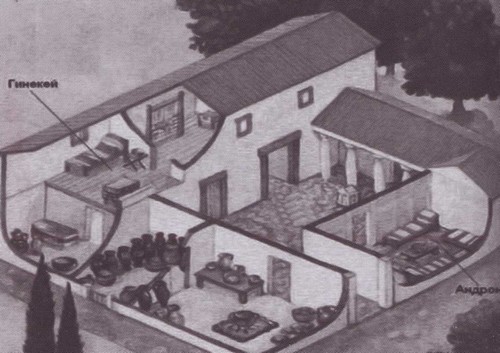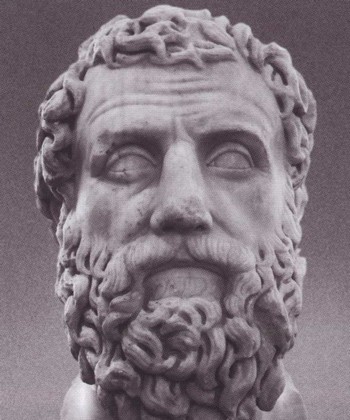И. Е. Суриков
Сапфо
«ДЕСЯТАЯ МУЗА»
Всем известно, что древнегреческая мифология знала девять муз — прекрасных дочерей Зевса и богини памяти Мнемосины, покровительниц различных искусств. Каллиопа — муза эпической поэзии, Евтерпа — лирической, Эрато — любовной, Полигимния — муза гимнов, Мельпомена — трагедии, Талия — комедии, Терпсихора — муза танца, Клио — истории, Урания — астрономии. Из этого, кстати, вытекает, что историю и астрономию античные эллины тоже долгое время относили к искусствам, а не к наукам.
Итак, девять сестер. Однако вот перед нами эпиграмма:
Девять считается муз. Но их больше: ведь музою стала
С Лесбоса дева Сапфо. С нею их десять теперь.
(Платон. фр. 16 Diehl)
Да, автор этих строк — не кто иной, как гениальный философ Платон (427–347 годы до н. э.), который, помимо всего прочего, был еще и выдающимся художником слова. От Платона сохранилось несколько десятков стихотворений, в основном сочиненных им в молодости. Среди них — и процитированное двустишие.
С легкой руки Платона, жившего лет на двести позже, чем Сапфо, ее стали часто называть «десятой музой». Разумеется, он дал ей этот эпитет в фигуральном, а не буквальном смысле, желая подчеркнуть свое восхищенное преклонение перед ее талантом. К музам в строгом смысле слова, то есть к сонму богинь, героиня нашей книги, конечно, никогда причислена не была. Она — смертная женщина, поэтесса, то есть саму ее можно назвать служительницей муз. Даже конкретнее — служительницей двух муз, Евтерпы и Эрато, если учесть, что она писала лирические стихи, причем почти исключительно о любви, о любящих и возлюбленных.
«Певица любви» и сама была впоследствии окружена любовью потомков. Платон здесь не исключение, а правило. На протяжении всей античности к Сапфо относились с глубоким пиететом и, главное, говорили о ней с какой-то особенной нежностью.
Вот отрывок из поэта Посидиппа (III век до н. э.), смысл которого таков: гетера Дориха из греческой колонии Навкратис в Египте осталась в памяти поколений только потому, что о ней упоминала в своих произведениях Сапфо:
Мирно лежат твои кости, Дориха. Давно стали прахом
Пряди пушистых волос, ткань ароматных одежд…
Живы, однако, еще и жить будут белые свитки
Песен чудесных Сапфо, звуком своим веселя.
Имя блаженно твое! Хранить его станет Навкратис,
Здесь доколь Нила ладья сможет моря бороздить.
(Цит. по: Афиней. Пир мудрецов. XIII. 69)
Интересно, что высказывалась-то Сапфо о Дорихе в весьма негативном духе: опасалась за своего брата, который вступил с этой гетерой в связь. О данном эпизоде из биографии поэтессы будет подробнее рассказано в одной из следующих глав, а пока заметим: по мнению Посидиппа, даже и брань со стороны Сапфо сделала Дориху бессмертной!
А вот еще одна цитата — на сей раз из Страбона, одного из крупнейших древнегреческих географов, жившего еще позже (64 год до н. э. — 24 год н. э.), спустя более полутысячелетия после нашей героини. Рассказывая об острове Лесбос и посвятив несколько строк знаменитому тамошнему поэту Алкею (с которым нам тоже еще предстоит познакомиться, поскольку он был современником Сапфо и знал ее), Страбон далее говорит:
«Одновременно с ним (с Алкеем. —
И. С.) процветала и Сапфо — удивительное явление. Ведь, насколько я знаю, за все то время, которое сохранилось в памяти людей, не появилось ни одной женщины, которая могла быть хоть отдаленно с ней сравниться в области поэзии» (
Страбон. География. XIII. 617).
А ведь, между прочим, Страбон вообще-то отнюдь не склонен к пафосу, к прочувствованным сентенциям. Общий тон изложения в его труде — практически всегда сугубо научный, суховатый. Но вот заведя речь о Сапфо, даже и этот автор, как видим, не удержался от эмоций.
Да и возможно ли даже и в наши дни спокойно, бесстрастно, без волнения писать об этой гречанке — миниатюрной, смуглой и, судя по всему, не блиставшей телесной красотой? Последнее, кстати, может удивить читателя: как же так, прославленная поэтесса, воспевавшая любовь, была некрасивой? Но похоже, что это действительно так. Правда, тот же Платон в одном месте называет ее «прекрасной Сапфо»
(Платон. Федр. 235с), но он, несомненно, имеет тут в виду не внешний облик, а душевные качества.
Как-то о Сапфо написал небольшую поэму римский поэт Овидий, живший с 43 года до н. э. по 18 год н. э., то есть тогда же, когда и Страбон. И написал в своеобразной форме — будто от лица самой Сапфо, пишущей письмо юноше Фаону, в которого она влюбилась. В этом сочинении очень много недостоверного, просто придуманного. Но вот в тех строках, где Овидий заставляет героиню описывать свою внешность, он, весьма вероятно, все-таки опирается на какие-то заслуживающие доверия сведения, сохраненные древним преданием. И картина — в смысле чисто физическом — вырисовывается не самая привлекательная:
Пусть красоты не дала мне природа упрямая — что же!
Все изъяны ее дар мой с лихвой возместил.
Ростом мала я — зато мое имя по целому миру
Слышно; высоко оно — значит, и я высока.
Кожа моя не бела; но Персей ведь любил Андромеду,
Хоть Кефеида была смуглой, как все в той стране.
(Овидий. Героиды. XV. 31–36)
Упомянутая тут Андромеда, дочь царя Кефея (отсюда — Кефеида) и возлюбленная мифологического героя Персея, спасшего ее от морского чудовища, была эфиопской царевной и потому, естественно, темнокожей. Отсюда — и сравнение Сапфо именно с ней. Во всём же отрывке отчетливо прочитывается противопоставление неказистого внешнего вида и богатого внутреннего мира поэтессы.
Очень многие, едва ли не все наверняка видели, хотя бы в репродукциях, знаменитую фреску в Помпеях, выполненную в I веке н. э., — ту, которую обычно считают портретом Сапфо. На ней молодая, светлокожая женщина с довольно короткой стрижкой, задумавшись, держит в левой руке деревянные навощенные дощечки, а правой поднесла к губам стиль — заостренную с одного конца палочку, какой на этих дощечках писали. Она, несомненно, изображена сочиняющей стихи. Но даже если безымянный художник и хотел запечатлеть облик именно Сапфо (строго говоря, это ни из чего не следует: портрет не подписан), то сделал это совершенно неверно. Чему, впрочем, удивляться не приходится: ведь с момента смерти знаменитой гречанки, жившей в VII–VI веках до н. э., до времени, когда была создана фреска, прошло много столетий.
Что в первую очередь бросается в глаза — так это абсолютно невозможная прическа. Такую в эпоху Сапфо женщины еще не носили, они начали коротко стричься лет на сто — полтораста позже. В этом плане ближе к истине некоторые античные статуи поэтессы. Цвет кожи скульптура, естественно, не передает, а вот волосы отображены правильно: они длинными прядями спадают на плечи.
Да и сочиняла Сапфо совсем не так, не со стилем и дощечками в руке, с задумчивостью на лице… Времена ее жизни были временами абсолютного преобладания устной культуры слова
[1]. Стихи тогда складывались экспромтом, в дружеской компании мужчин или женщин (гораздо чаще мужчин), тут же и зачитывались собеседникам. Случалось — и очень нередко, — что поэтические произведения становились результатом спонтанного коллективного творчества: один из участников какой-нибудь веселой пирушки (у греков такие пирушки именовались
симпосиями [2]) «выдавал» первую строфу, второй подхватывал, третий продолжал и т. д. Конкретный случай Сапфо, пожалуй, не укладывается в эту модель — уж очень индивидуально, оригинально, «узнаваемо» звучит едва ли не каждая ее строка. Но все-таки и ее стихотворения явно по большей части звучали и даже рождались в кругу подруг (с этим кругом мы тоже еще познакомимся, насколько это нам позволят сведения источников), а уж точно не вымучивались в тиши кабинета (да и кабинета-то никакого у нее быть не могло…).
* * *
Итак, можно ли без волнения душевного, бесстрастно и даже скучно писать о Сапфо? Как выясняется — все-таки, видимо, можно. Относительно недавно, лет десять назад, в достаточно престижном санкт-петербургском издательстве «Алетейя» увидела свет книга, написанная работающим в Новосибирске ученым Т. Г. Мякиным и прямо озаглавленная «Сапфо»
[3]. Мы твердо знаем, что многие читатели, увидев на прилавках магазинов книгу со столь увлекательным названием, купили ее, надеясь узнать что-то интересное о личности и жизни великой представительницы античной литературы. Однако их ждало жестокое разочарование: вопреки заголовку, они натолкнулись не на некий целостный рассказ о Сапфо, а на цикл очерков, написанных очень сухо, в высшей степени наукообразно, посвященных по большей части отдельным аспектам и проблемам (в основном чисто лингвистическим) некоторых ее стихотворений. Такую работу даже специалисту по античности (если он не занимается конкретно спецификой лесбосско-эолийского диалекта древнегреческого языка) читать непросто, да и не слишком занимательно. А «непосвященный» просто отбросит ее, просмотрев первые же несколько страниц.
Но, как ни парадоксально, упомянутая монография, а также еще несколько, написанных тем же Т. Г. Мякиным
[4], до сих пор остаются, кажется, единственными существующими на русском языке книгами о Сапфо. А как же быть широким кругам образованной читающей публики? Они ведь тоже хотят узнать что-то осмысленное и в то же время доступное об эллинской поэтессе. Ситуацию необходимо исправлять, ликвидировать существующий пробел. Ради этого и написана та ее биография, которую читатель держит сейчас в руках.
А пробел действительно имеет место. Имя Сапфо слышал, вероятно, каждый, но что имел возможность прочесть о ней? Практически ничего. Не знаем, в чем дело: то ли из-за оригинальности, «нестандартности» ее творчества, из-за того, что она как-то выбивается из традиционных представлений об античном мире, то ли по некой иной причине, — но пишут о ней немного и как-то скупо.
Характерный пример. Ныне, наверное, самая читаемая неспециалистами книга о древнегреческой культуре — это «Занимательная Греция» М. Л. Гаспарова. Да она и специалистам нравится: что ни говори, автор ее — человек замечательный, редчайшим образом совместивший в себе три дара: являвшийся одновременно и выдающимся ученым-исследователем, и блестящим популяризатором науки, и плодовитым переводчиком с классических языков. Так вот, даже в книге Гаспарова посвящено Сапфо… меньше половины страницы, один абзац
[5]. Да и этот-то абзац целиком посвящен недостоверной побасенке о несчастной любви поэтессы к красавцу Фаону. А завершается он словами: «Сафо (вариант написания имени Сапфо; подробнее см. ниже. —
И. С.) написала много замечательных стихов, но их забыли, а легенду о Фаоне помнили».
Стихи, однако, не забыли; здесь явное преувеличение. Нам на протяжении всей книги много раз придется цитировать фрагменты из произведений Сапфо. Но тенденция характерна: сказать о великой по возможности кратко и нейтрально. И тенденция эта прослеживается не только в отечественной, но и в мировой антиковедческой литературе.
Очень не хотелось бы утомлять читателя сухим перечнем иностранных работ (а то ведь и данная книжка будет им отброшена, как книжка Мякина). Но о некоторых важнейших всё же нельзя упомянуть. Великий немецкий филолог-классик Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф около ста лет назад издал работу «Сапфо и Симонид: исследования о греческих лириках»
[6]. Как видно уже из ее названия, это не монография конкретно о Сапфо, а сборник статей разных лет, посвященных различным представителям эллинской лирической поэзии. Одним из таковых являлся, например, упомянутый Симонид — фигура тоже очень значимая, но о ней нужно говорить отдельно
[7].
О Сапфо вообще обычно пишут как бы «за компанию» с кем-то. Так, известное исследование Д. Пейджа озаглавлено «Сапфо и Алкей»
[8]. Конечно, разбор творчества этих двоих очень даже логично объединять: они и жили в одно и то же время и в одном и том же месте, и работали в одинаковом жанре
мелики (то есть песенной лирики), да и вообще между ними немало общего, вплоть до того, что и тот, и другая изобрели собственные стихотворные размеры (это соответственно алкеева строфа и сапфическая строфа). Но все-таки, как видим, отдельной книги Сапфо и на сей раз не досталось. Абсолютно аналогичные примеры — монографии Э. Боуи «Поэтический диалект Сапфо и Алкея»
[9], Э. Бернетта «Три архаических поэта: Архилох, Алкей, Сапфо»
[10].
Не то чтобы книг именно о Сапфо и только о ней совсем не было. Они на Западе есть
[11], но их реально очень мало. Во всяком случае, серьезных: естественно, нельзя брать в расчет разное «бульварное чтиво», которое просто не могло не появиться в связи с такой «завлекательной» личностью. Так что представляется сильно преувеличенным суждение в одном из последних по времени обобщающих трудов о древнегреческой лирике: «Библиография о Сапфо огромна, более обширна, чем о любом другом архаическом лирическом поэте»
[12]. Что не «огромна» — это совершенно точно; но даже и со второй частью приведенного высказывания нам согласиться трудно. Мы твердо знаем, что, например, гораздо обширнее библиография о Солоне
[13] — еще одной «звезде первой величины» среди эллинских лириков. Понятно, это связано с тем, что Солон не только сочинял стихи, но и активно занимался государственной деятельностью, был законодателем, слыл одним из Семи мудрецов…
Всё это так. Но факт остается фактом: пишут о Сапфо относительно редко (во всяком случае, если иметь в виду процентную долю литературы о ней в общем огромном, ежегодно увеличивающемся потоке того, что создается учеными об античности в целом), и особенно редко — именно как о человеке, как о личности. Бесспорно, тому есть объективные причины. Сведения о жизненном пути великой поэтессы чрезвычайно скудны. По крайней мере это можно сказать о достоверных сведениях. Ясно, что вокруг ее имени, как и вокруг имен многих выдающихся деятелей истории и культуры, со временем сложилось немало легенд и просто анекдотов. Их много больше, чем подлинных фактов о Сапфо, имеющихся в нашем распоряжении. Как мы далее увидим, не подлежат сколько-нибудь точному определению ни дата ее рождения, ни дата смерти.
Так что же, биографию Сапфо вообще нельзя написать? Это не так, иначе мы бы за нее и не взялись. Но, конечно, при написании такой биографии предстоит проделать нелегкую работу «отделения зерен от плевел» и составления из тех немногих штрихов, которыми мы располагаем, некой целостной картины. Кроме того, в любом случае придется мириться с тем, что — если уподобить реконструкцию жизни нашей героини сборке из кусочков головоломки-«пазла», — когда эта головоломка будет собрана, в ней останется изрядное количество недостающих, утерянных деталей. Их, пожалуй, будет даже больше, чем оставшихся.
Но что ж поделать? Ровно то же или почти то же можно сказать о значительном числе великих людей античной Греции. Ранее автору этих строк доводилось писать в серии «ЖЗЛ» о трех из них — Геродоте, Сократе и Пифагоре
[14]. И только о Сократе имелось налицо достаточно биографического материала, а об остальных двух такого сказать ни в коей мере было нельзя. Ситуация вполне закономерная: ведь речь идет о лицах, которые жили и действовали более двух тысяч лет назад, а кто-то из них — и более двух с половиной (как Пифагор или та же Сапфо). Это — не исторические деятели XIX–XX веков, почти наши современники, в чьей жизни события едва ли не каждого дня можно с немалой степенью детальности восстановить по воспоминаниям, прессе, переписке, архивным документам и другим источникам.
Когда биографических данных мало — само жизнеописание неизбежно приобретает несколько специфический вид. Говорить нам придется не только о самой Сапфо, но и о ее стихах. Да и как же иначе? Ведь только благодаря своим стихам она и вошла в историю. Не было бы их — утрачивал бы смысл и любой рассказ о Сапфо. Поэтому в последующих главах ее произведения будут в разных контекстах цитироваться (разумеется, в русских переводах) очень часто, почти постоянно.
Далее, говорить придется также и о том времени, когда Сапфо жила и творила, — архаической эпохе истории Эллады. Время это — уникальное, бурное, кипевшее переменами: именно тогда рождалось «греческое чудо», начинал говорить о себе в полную силу гений маленького народа, обитавшего на юге Балканского полуострова и в бассейне Эгейского моря. Среди ранних проявлений этого гения весьма значимое место занимает, в частности, и лирика Сапфо.
* * *
Сапфо — поэтесса. Если не первая в мире (впрочем, может быть, что даже и так, но с полной уверенностью утверждать нельзя), то уж точно самая знаменитая. Вплоть до того, что и по сей день она воспринимается как некий идеал, образец поэтессы «на все века». Сравнение с Сапфо в последующие эпохи было и остается высшей похвалой для представительниц прекрасного пола, пишущих стихи. Так, «русской Сапфо» называли и Ахматову, и Цветаеву…
Сапфо — женщина. И это очень чувствуется по ее стихам, в которых воистину главное действующее лицо — Эрос, любовь. Любовь страстная, пылкая, чувственная; любовь-мучение, любовь-болезнь, любовь-наваждение…
Сапфо — античная гречанка. Иными словами, она родилась, взросла, жила и умерла в среде этноса, который, по всей вероятности, следует признать — не в обиду остальным, конечно! — самым творчески одаренным в мировой истории, обогатившим культурную сокровищницу человечества наибольшим количеством признанных шедевров и плодотворных идей. И сама была плотью от плоти и кровью от крови этого этноса, в полной мере воплощала греческий, так сказать, «национальный дух» (приходится ставить это словосочетание в кавычки, поскольку, согласно современным представлениям, наций еще не было в эпоху Древнего мира) со всеми его основными особенностями.
Обо всех этих ее «ипостасях» и пойдет речь в этой книге.
ДОЧЬ ЭЛЛАДЫ
В названии этой главы акцент следует сделать на слове «дочь». Дело в том, что между «дочерьми Эллады» (одной из которых является героиня этой книги) и «сынами Эллады» проходила слишком уж резкая грань. Мало где на протяжении мировой истории конфликт между мужским и женским полом был таким же острым.
Чтобы понять, почему так получилось, просто необходимо сказать хотя бы несколько слов об общем характере античной греческой цивилизации, — кстати, первой высокоразвитой цивилизации в Европе. По своей основной сути она была полисной — от слова «полис». А что такое полис?
Греция уже во времена Сапфо (то есть в архаическую эпоху, которую принято датировать VIII–VI веками до н. э.) не представляла собой некоего целостного государственного единства. Эллины жили в условиях большой политической раздробленности. Греческий мир делился на несколько сотен маленьких, но совершенно независимых государств, которые назывались полисами. Полис обычно определяют как «город-государство», то есть государство, включающее в себя городской центр и его сельскую округу (ясно, что без сельскохозяйственной территории, хотя бы минимальной, никакой государственный организм прожить просто не сможет).
Правда, определение полиса как «города-государства» неоднократно подвергалось критике — критике серьезной и отчасти справедливой. Отмечалось, что, хотя первое и основное значение древнегреческого слова «полис» действительно «город», все-таки между понятиями «полис» и «город» не всегда можно поставить знак равенства. Известны полисы, в которых имелся не один, а два городских центра, а то и больше.
Возьмем афинский полис, охватывавший всю область Аттику — на востоке Средней Греции, на характерной формы полуострове, который своеобразным «рогом» вдается в Эгейское море. В этом обширном полисе наряду с главным городом, самими Афинами, в V веке до н. э. вырос приморский, портовый Пирей. В период наивысшего расцвета он по размеру не очень уступал Афинам, а по уровню городского благоустройства даже превосходил их. Судя по всему, городом, пусть небольшим, было и еще одно поселение в Аттике — Элевсин, прославленный знаменитейшим святилищем богини Деметры. Но в полисах такого типа один город обязательно выделялся на фоне всех других, играл роль столицы.
Имелись и примеры противоположного характера: полисы, вообще не обладавшие ярко выраженным городским центром. Такова была Спарта: она представляла собой, в сущности, пять лежавших по соседству, но разрозненных деревень, не имевших даже городской стены. Однако случаи такого рода все-таки нетипичны: и Афины, и Спарта являлись не нормой, а исключением в мире греческих полисов. Кстати, полис Сапфо — Митилену в этом плане как раз можно отнести к вполне типичным. В нем имелся город, и только один город. Он назывался так же, как и сам полис, — Митилена. Как правило, именно так и бывало.
Равным образом не все согласны с тем, что полис можно считать государством. Есть точка зрения, согласно которой о государстве можно говорить только тогда, когда существует отдельно государственный, бюрократический аппарат, оторванный от народа, от общества, не совпадающий с ним, неподконтрольный ему. А в греческих полисах такого бюрократического аппарата как раз не было: граждане направляли внутреннюю и внешнюю политику сами, своими совместными решениями, принятыми в народном собрании.
Если исходить из этого критерия, оказывается, что, например, Древний Египет, Вавилония, Персия были государствами, а Афины, Спарта, Коринф или та же Митилена — не были. Но чем же тогда они были? Ведь они обладали всеми остальными важнейшими признаками государственности: полным политическим суверенитетом и независимостью, системой органов и учреждений, осуществлявших власть, системой письменно зафиксированных правовых норм — законов, стабильной территорией, вооруженными силами и т. п.
Одним словом, тезис о том, что античный полис — не государство, звучит парадоксом. Особенно если вспомнить о том, что сама наука о государстве зародилась в Древней Греции. Ведь не на пустом же месте, не в виде чистой фантазии она возникла. Поэтому среди ученых-историков, специально и углубленно исследующих древнегреческий полис, решительно преобладает мнение, что он был государством.
Другое дело, что государственность в разные эпохи, в неодинаковых условиях может принимать различные формы, совершенно не схожие между собой. И в этом смысле полисный тип государственности действительно представляется очень непохожим на те ее типы, которые ныне нам привычны. Но на этом и основан принцип историзма: не следует подходить к явлениям предшествующих эпох с нашими современными мерками.
Итак, определение полиса как «города-государства», хоть оно и имеет недостатки, можно считать в принципе приемлемым. Однако необходимо помнить о том, что в античности и понятие «город», и понятие «государство» имели во многом иной смысл, чем тот, который мы теперь вкладываем в эти слова.
Слово «полис» по-древнегречески действительно означает «город». Но как это понимать? Когда в наши дни говорят «город», имеют в виду некую территорию и находящиеся на ней постройки. Город — это улицы и площади, жилые дома и общественные здания… Когда же древний грек говорил «полис», он имел в виду город не в смысле зданий, улиц, оборонительных сооружений и т. п., а в смысле совокупности граждан — свободных и полноправных жителей этого города. Полис для эллина — это «люди, а не стены» (
Фукидид. История. VII. 77. 7). Выражаясь несколько иначе, полис — это городская гражданская община, община граждан города.
С другой стороны, слово «полис» означает также и государство, но опять же не вполне в привычном для нас смысле. Мы понимаем под государством некую единую территорию, которая находится под управлением определенной верховной и независимой власти. Именно таковы современные государства, будь то Франция, Китай, Россия или любое другое. Для грека же при определении государства территория — отнюдь не самое главное. Главное в государстве — та же гражданская община, гражданский коллектив (демос), который осуществляет своими силами власть на принадлежащей ему территории.
Полис, покинутый своими гражданами, в древнегреческом восприятии никак уже не мог считаться полисом: он не был больше ни городом, ни государством. А в то же время, скажем, войско на походе могло в некоторых ситуациях выступать в качестве полиса — постольку, поскольку оно являлось коллективом граждан. Хотя понятно, что войско не обладало ни городскими постройками, ни сельской территорией.
Одним словом, полис — очень сложное понятие. Он являлся не только городом и не только государством. Его уточненное определение может быть таким: полис — это городская гражданская община, конституирующая себя в качестве государства. В этом определении, как можно увидеть, акцент делается на роли коллектива граждан — а роль эта действительно была основополагающей для полисного типа государственности.
Не случайно в правовой практике и теории греческого мира полис — это именно граждане и только граждане. Так, в межгосударственных отношениях полисы официально именовались не «Афины», «Спарта» или «Коринф», а «афиняне», «спартанцы» или «коринфяне», что для нас совсем уже непривычно. Это хорошо видно даже при беглом прочтении как античных исторических трудов, так и сохранившихся документов: воюют друг с другом, заключают мир, вступают в союз не Афины и Спарта, а всегда только афиняне и спартанцы (или, скажем, милетяне и самосцы, а не Милет и Самос).
Конечно, граждане были не единственными людьми, населявшими полис. На его территории жили и другие лица, не пользовавшиеся гражданскими правами. Это — рабы, женщины, переселившиеся в данный полис жители других городов (метэки). Все эти люди, разумеется, не могли не быть частью общества. Но в состав гражданской общины, в состав полиса как такового они парадоксальным образом не входили.
В греческом полисе приобрело очень выраженную форму противопоставление граждан всем прочим категориям населения. Гражданский коллектив был в известной степени некой замкнутой кастой, которая держала в своих руках всю власть в государстве. Можно назвать полис корпорацией граждан, сплотившейся перед лицом всего остального мира — как окружавшего полис, так и «проникавшего» в него в лице жителей без гражданских прав. Отсюда — определенная военизированность полиса, постоянная готовность к мобилизации всех сил перед угрозой враждебной внешней среды. Идеальным воплощением полиса была изобретенная в нем фаланга — этот замкнутый и сомкнутый строй тяжеловооруженных пехотинцев (гоплитов), как бы «ощетинившийся» навстречу противнику и могучий своим коллективным порывом.
Не случайно одним из самых основополагающих элементов всего бытия полиса считалась политическая независимость, обозначавшаяся термином «автономия» (в переводе с древнегреческого — «жизнь по собственным законам»). Конечно, случалось, что эта автономия нарушалась, полис на время подпадал под чью-нибудь чужую власть. Но свободолюбие греков, как правило, не позволяло им терпеть такой ситуации. Они продолжали бороться за возвращение собственному государству независимости и чаще всего рано или поздно добивались своего. Любой, даже самый маленький полис держался за эту самостоятельность всеми силами.
Таким образом, свобода была, пожалуй, главной ценностью для грека полисной эпохи. Речь идет не только о свободе как независимости полиса, но и о свободе гражданина в полисе. Сам статус гражданина являлся, в сущности, новаторским. Он впервые появился в широких масштабах и стал общераспространенным как раз в полисном мире Эллады. Ранее, в древневосточных цивилизациях, безусловно преобладающим был статус подданного. Подданный всецело зависит от произвола монарха или иного вышестоящего начальства; гражданин, в отличие от него, наделен совокупностью неотъемлемых прав и подчиняется только закону.
Для того чтобы входить в состав граждан, лицо должно было удовлетворять целому ряду необходимых требований. Прежде всего, гражданином мог являться только свободный человек; понятия «гражданин» и «раб» были несовместимы друг с другом.
Далее, чтобы стать гражданином греческого полиса, необходимо было родиться мужчиной. Этот момент очень важно подчеркнуть именно в данной книге — постольку, поскольку ее героиня, естественно, мужчиной не являлась, а стало быть, и к гражданам принадлежать не могла. Полисная цивилизация была всецело построена на решительном преобладании мужской части населения. Женщины не имели не только политических, но и остальных гражданских прав, даже имущественных.
К важнейшим требованиям относилось также происхождение от предков-граждан — по меньшей мере по прямой мужской линии. С «приезжими», выходцами из других городов и их потомками любой (без исключения) полис делился гражданскими правами в высшей степени неохотно — разве что за особые заслуги и лишь в очень редких случаях. В некоторых полисах это требование еще ужесточалось. Так, в демократических Афинах с середины V века до н. э. гражданином могло быть только лицо, происходящее от граждан не только по мужской, но и по женской линии.
Гражданин был обязан участвовать в военных мероприятиях полиса, то есть служить в полисной армии. Собственно, армии всех полисов представляли собой не какие-то отдельные профессиональные структуры, а именно ополчение граждан, тождественное народному собранию. Потому-то войско в походе и могло при желании так легко превратиться в «полис без территории». Государство даже не обеспечивало своих воинов доспехами и оружием: каждый должен был экипироваться сам, за свой счет.
Всеобщая воинская повинность порождалась необходимостью защищать свободу и целостность полиса, его независимость и законы, собственность членов гражданской общины. Эта повинность, впрочем, была не только обязанностью, но и правом, ибо она тоже являлась одним из критериев статуса гражданина. Лица, не входившие в гражданский коллектив, привлекались в войско лишь в редчайших случаях самой крайней необходимости. Ведь участие в военных походах — это не только труд, лишения, опасность для жизни. Это — еще и возможность обогатиться за счет добычи, а кроме того, отличившись на поле боя, заслужить почет от сограждан и повысить свой авторитет, влиятельность в государственных делах. В полисном мире было так: чем выше роль гражданина на полях сражений — тем выше его роль и в политической жизни
[15].
Кстати, вот перед нами и объяснение, почему женщины не включались в гражданский коллектив. Ведь ясно, что в войнах они участия не принимали, а нулевая роль на войне, согласно приведенной в предыдущем абзаце формулировке, означала и нулевую роль в политической жизни. Сражающаяся женщина — это для грека было чем-то за гранью абсурда. Точнее, признаком чего-то совершенно иного, негреческого по определению. Не случайно именно в эллинской мифологии возник рельефный образ амазонок — якобы существовавшего племени женщин-воительниц. Амазонки в древнегреческих представлениях всегда были явственным воплощением чуждого мира, «мира наоборот»
[16].
Граждане полиса имели право (и это одновременно было их обязанностью) принимать участие в управлении государством. Именно гражданский коллектив в форме народного собрания осуществлял — реально или хотя бы номинально — высшую власть. В любом полисе именно народное собрание считалось верховным органом управления, выносящим окончательное решение по всем важнейшим вопросам. Правда, фактически оно было полновластным только в тех полисах, где утвердилась демократия; наряду с ними существовали и олигархические (аристократические), где наибольшие полномочия концентрировались в руках самых знатных и богатых граждан. Но даже и такие полисы без народного собрания не обходились.
Полисная государственность не предусматривала особых органов власти, оторванных от народа. Как уже говорилось выше, полисы являлись — редчайший случай в мировой истории! — государствами без бюрократии. Должностные лица в них были не назначенными вышестоящим начальством (чиновниками, или бюрократами), а исключительно избранными (магистратами, как их называют в науке). Выборы проводились либо путем прямого голосования граждан, либо — что для нас совсем уже необычно — путем жеребьевки. Жребий считался самым объективным способом избрания, поскольку он исключал любые симпатии и пристрастия сограждан. Кроме того, в жребии видели проявление воли богов, а в богов верили все: религиозное мировоззрение было абсолютно преобладающим, атеистов практически не существовало.
Гражданин греческого полиса мог с полным основанием сказать о себе то, что в XVIII веке заявил абсолютный монарх Людовик XIV: «Государство — это я». Но при этом гражданин полиса являлся представителем и воплощением государства не в одиночку, а лишь в совокупности с другими такими же, как он, гражданами. Таким образом, в греческом полисе, пожалуй, впервые в мировой истории сформировалось правильное и стабильное республиканское устройство, причем такое, при котором общество и государство не были отделены друг от друга.
Из всего, что было сказано о полисах, читателю, наверное, уже стало ясно: эти государства могли быть лишь очень небольшими по территории и особенно по населению. Даже самые крупные из них можно условно сопоставить разве что с карликовыми государствами современной Европы, типа Лихтенштейна, Монако, в крайнем случае Люксембурга. Да и то далеко не все полисы, а лишь самые крупные из них, нетипичные, такие как Спарта или Афины.
Так, Спарта — крупнейший по территории полис греческого мира — имела в период своего наибольшего расширения площадь 8400 кв. км. Население этого полиса составляло около 200–300 тысяч человек, из них полноправных граждан — не более девяти тысяч. Афинский полис, если рассмотреть его на высшей точке процветания, в середине V века до н. э., охватывал собой область Аттику площадью 2500 кв. км. Население было побольше, чем в Спарте: по разным подсчетам, от 250 до 350 тысяч человек, из них полноправных граждан — в пределах 45 тысяч
[17].
Но даже и такие полисы, как Спарта и Афины, были скорее исключениями, полисами-гигантами. Если же не брать их в расчет, у «нормальных» полисов территория, по большей части, не превышала 100–200 кв. км, а общее население — 5 тысяч человек, из которых граждан было не более тысячи. К государствам подобной категории принадлежала, в частности, и Митилена на Лесбосе, где Сапфо прожила бо́льшую часть жизни. Встречались и совсем маленькие полисы с территорией 30–40 кв. км, на которой жили несколько сотен человек. Таким, насколько можно судить, был Эрес на том же Лесбосе — в этом городе наша героиня, по некоторым сведениям, появилась на свет.
Иными словами, типичный полис — крошечное государство, состоящее из города (скорее городка) и его ближайших окрестностей. Такой полис можно было полностью обойти из конца в конец за несколько часов или, поднявшись на какой-нибудь холм, увидеть всё государство целиком. А все или почти все граждане должны были знать друг друга в лицо. Это было неизбежно и необходимо: только при таких условиях коллектив граждан мог реально осуществлять власть, собираясь на народные собрания. Понятно, что, скажем, в современных государствах с их большими размерами никакие народные собрания просто не могут иметь места.
«Миниатюрность» полиса была обусловлена рядом причин экономического, политического и культурного характера. Играла важную роль так называемая стенохория — земельный голод, недостаток пригодных для сельскохозяйственного возделывания территорий. Эллада — небольшая, крайне гористая по рельефу страна, по большей части с каменистыми, малоплодородными почвами, скудно рождавшими хлеб. Сплошь и рядом люди в ней не столько жили, сколько выживали (и при этом создавали шедевры высокой культуры — вот парадокс!).
В большинстве греческих областей полисы находились буквально вплотную друг к другу, и расширяться им было просто некуда: ни один из них не мог расти больше, чем позволяли соседи. Именно такая ситуация сложилась, в частности, и на Лесбосе. Он, конечно, являлся одним из самых крупных островов в Эгейском море, но все-таки — островом: за береговую кромку при всем желании ногой не ступишь и выращивать там ничего не начнешь… Греческие острова делились на такие, которые были целиком заняты одним полисом, и такие, на которых располагалось несколько этих государственных единиц
[18]. Лесбос принадлежал ко второй из этих категорий. Какие именно полисы на нем существовали — подробнее будет рассказано в одной из следующих глав. А пока приходится отметить, что волей-неволей остров был рано поделен, «ничейных» земель там не оставалось.
А как же быть тем, кому этих земель уже начинало просто не хватать? Ведь население-то прирастало: архаическая эпоха древнегреческой истории — время мощного демографического взрыва. Безземельные граждане чаще всего отправлялись в колонии в поисках лучшей доли. Лесбос принял активное участие в Великой греческой колонизации VIII–VI веков до н. э., и его жителями было основано немало новых поселений на «варварских» побережьях («варварами» греки обобщенно именовали все остальные народы).
Можно было еще и заняться торговлей, с ее помощью обеспечивать себе какой-то более или менее приемлемый уровень жизни. Как мы увидим далее, именно такой путь избрал брат Сапфо — Харакс, но до добра его это не довело.
Кроме того, малые размеры гражданского коллектива полиса порождались необходимостью сохранять и поддерживать этот коллектив как реальное единство. В чрезмерно разросшемся полисе народное собрание переставало быть подлинным воплощением общины граждан. Так, в огромных по греческим меркам Афинах из 45 тысяч граждан регулярно посещали народное собрание около шести тысяч. А это, конечно, уже непорядок, искажение принципа полисного народоправства.
Отметим еще, что мировоззрению античных эллинов была в высшей степени свойственна пластическая идея меры и формы. Ко всему безмерному, беспредельному грек испытывал инстинктивное отвращение, отождествляя его с неоформленным, хаотичным. «Ничего слишком», «Лучшее — мера» — такие афоризмы часто раздавались из уст древних эллинских мудрецов, современников Сапфо. Именно чувство меры породило едва ли не все крупнейшие достижения древнегреческой культуры: и доведенные до совершенства очертания статуй, и отточенную ритмику поэтических произведений, и «самодостаточные» космогонические системы философов…
А на политическом уровне то же чувство меры жило в концепции полиса. Полис был, помимо всего прочего, еще и произведением искусства, грек любовался им, как художественным изделием своего ума и рук. Огромные древневосточные державы, без остановки расползавшиеся вширь и не знавшие предела, должны были представляться ему чем-то чуждым и даже чудовищным.
Вот что пишет о мере применительно к государству один из величайших философов в древнегреческой истории, завершивший и обобщивший классическую традицию, — Аристотель: «Опыт подсказывает, как трудно, чтобы не сказать невозможно, слишком многонаселенному государству управляться хорошими законами; по крайней мере мы видим, что все те государства, чье устройство слывет прекрасным, не допускают излишнего увеличения своего народонаселения… Для величины государства, как и всего прочего — животных, растений, орудий, существует определенная мера… Так, например, судно в одну пядь не будет вообще судном, равно как и судно в два стадия (стадий — около 180 метров. —
И. С.)» (Аристотель. Политика. VII. 1326а 26 слл.).
Греческий полис как бы сам обозначал себе пределы, ставил в какой-то момент точку в собственном расширении. Для каждого конкретного полиса эти пределы роста, разумеется, были неодинаковыми. Для Афин они совпали с пределами области Аттики. Спарта пошла дальше: для нее точкой в расширении полисной хоры стало покорение вдобавок к Лаконике еще и Мессении. Да, собственно, Спарта, насколько можно судить, уже переросла необходимые пределы, превзошла заданную ей меру, и отсюда — все трудности, которые это государство в дальнейшем испытывало, и все перипетии его странной судьбы.
А для подавляющего большинства полисов этот предел расширения должен был наступать едва ли не сразу же после их возникновения. Приходилось переходить с экстенсивного пути развития на интенсивный, то есть выживать не за счет присоединения новых территорий, а за счет оптимального использования имеющихся ресурсов — как материальных, так и духовных, человеческих. А это в цивилизационном плане, конечно же, было благом.
Подчеркнем снова и снова: каким бы миниатюрным ни был полис, он обязательно имел все атрибуты полностью независимого государства: органы власти, войско, финансы. И за эту свою свободу и независимость полис держался всеми силами, отстаивая ее от любых покушений со стороны соседей.
* * *
Итак, из данной краткой характеристики античного греческого полиса напрямую вытекает, что женщина в условиях этого типа государственности находилась заведомо в приниженном положении, была практически бесправной: гражданами являлись только мужчины. Из этого и приходится исходить в дальнейшем изложении.
Впрочем, следует ли осуждать древних греков за то, что они не дали свободы и равенства всем — женщинам, рабам? Разумеется, нет; это означало бы слишком уж далеко отклониться от принципа историзма. Достаточно напомнить, что полноправие женщин — это вообще очень недавний феномен, если смотреть на вещи «с точки зрения вечности». Скажем, еще в XVIII веке представительницы слабого пола и помыслить не могли о том, что их когда-либо в правовом отношении уравняют с мужчинами. В XIX
веке процесс такого уравнения худо-бедно со скрипом пошел, а завершения своего достиг только в XX веке, то есть в том столетии, в котором, мы полагаем, родились практически все читатели этой книги. Да даже и поныне равноправие женщин — удел только западного мира, а, скажем, в мусульманском всё пока значительно сложнее…
Любую цивилизацию необходимо оценивать по ее достижениям, а не по ее недостаткам, по тому, что в ней было, а не по тому, чего в ней не было. Главное в античной Элладе — не то, что в ней далеко не все еще были свободны, а то, что в ней
уже были свободные, впервые в истории человечества.
«Свобода, равенство, братство» — нам привычно, что со времен Великой французской революции конца XVIII века эти три слова стоят рядом. Если исключить из этой триады «братство» (риторический лозунг, вряд ли в нашем грешном мире в полной мере осуществимый на практике), то окажется, что две оставшиеся категории — «свобода» и «равенство» — в какой-то степени конфликтуют друг с другом. Общества Древнего Востока (от Египта до Китая) не знали свободы, но там было своеобразное равенство — равенство подданных перед лицом всесильного монарха, который мог казнить без суда и следствия в одинаковой мере последнего бедняка и первого вельможу. В античной Греции — всё наоборот: свобода получила высочайшее развитие, а вот равенства-то как раз мы в этой цивилизации не находим (впрочем, в человеческой истории существовало и существует более чем достаточно обществ, в которых нет ни свободы, ни равенства).
Как же так? Ведь прекрасно известно, что граждане древнегреческих полисов были равны между собой в политическом отношении. Во всяком случае, в идеале: реальное равенство, вне зависимости от происхождения, богатства, общественного положения, было достигнуто лишь в наиболее демократических государствах Эллады, например в Афинах V–IV веков до н. э. (то есть заведомо позже того времени, когда жила Сапфо).
Между прочим, существовало две концепции равенства: «арифметическая» и «геометрическая», как их называли любившие математику греки. «Арифметическое» равенство — это действительное, полное равенство всех граждан. «Геометрическое» равенство — это совсем другое: равенство прав и обязанностей. Чем больше человек делает для полиса, тем выше должна быть его политическая роль. В рамках этой концепции, исходящей из того, что «неравные не должны быть равными», не может быть даже и речи о том, чтобы одинаковые права имели бедняк, который не в состоянии даже купить себе доспехи и встать в ряды гоплитов, и богач-аристократ, который в военную пору снарядил для государства целый корабль. Понятно, что идея «геометрического» равенства преобладала в олигархических полисах, а идея «арифметического» — в демократических.
Но главное даже не в этом. Необходимо подчеркнуть: равенство, отсутствие юридически разграниченных сословий и каст распространялось именно только на граждан. Остальные слои населения оно никак не затрагивало. Можно сказать, что гражданский коллектив по отношению к прочим жителям полиса был самой настоящей привилегированной кастой. Даже в демократических Афинах народовластие не имело никакого отношения к женщинам, метэкам, не говоря уже о рабах.
Античный мир был полем, где сосуществовали самые различные правовые положения, статусы, сословия. Это воспринималось как нечто вполне естественное: еще не возникло представления об абстрактном равенстве всех людей «от природы», о пресловутых «правах человека», обращалось внимание только на «права гражданина». Иная ситуация в те времена была и немыслимой. Ведь еще не прозвучала проповедь христианства, не раздались знаменитые слова апостола Павла: «Нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Послание к галатам. 3:28).
Итак, в полисном мире, мире неравенства, полномасштабная свобода была возможна лишь для членов гражданского коллектива. И это вполне закономерно, поскольку древнегреческая свобода была именно «свободой-в-полисе», в рамках полисных структур и законов. Это была свобода только для «своих», неграждане к ней не допускались.
Свобода понималась не в привычном для нас смысле, как отсутствие тех или иных ограничений, а как принадлежность к общине. Такое восприятие свободы (можно назвать его позитивным, а не негативным, рождающимся через утверждение, а не через отрицание какого-либо факта), насколько можно судить, вообще характерно для архаичных обществ. Так, даже русское существительное «свобода» этимологически восходит к местоимению «свой». Изначально «быть свободным» означало — «быть своим в данном коллективе людей».
Пожалуй, именно на примере «женского вопроса» (непосредственно интересующего нас в связи с биографией Сапфо) особенно четко видны границы древнегреческой идеи равенства
[19]. Даже самая радикальная демократия в Элладе была в полном смысле слова «демократией для мужчин».
Нужно сказать, что взаимоотношениями между полами в человеческих обществах самых различных эпох — от глубочайшей древности и вплоть до наших дней — занимается особое направление внутри исторической науки, так называемая
гендерная история. Название ее происходит от английского слова
gender, обозначающего, вообще говоря, «пол», но не как физическую, а как социокультурную категорию.
Гендерная история родилась относительно недавно, в 1980-х годах, и сразу стала весьма перспективной дисциплиной. Она органично выросла из так называемой «истории женщин», получившей широкое распространение в предшествующие десятилетия в связи с успехами феминистского движения. Но это перерастание было сопряжено, по справедливому указанию Л. П. Репиной, с радикальной сменой исследовательской модели: «…центральным предметом исследований гендерных историков становится уже не история женщин, а история гендерных отношений»
[20].
Именно Лорина Петровна Репина, член-корреспондент Российской академии наук, является ныне крупнейшим в нашей стране специалистом по гендерной проблематике. Ее книге, указанной в предыдущем примечании, автор этих строк во многом обязан исходными установками. Однако эта исследовательница занимается не античностью, а европейской цивилизацией более позднего времени. Что же касается гендерных отношений в Древней Греции, по этому кругу вопросов на русском языке в общем-то и почитать почти нечего.
Так ли это? — могут возразить нам. Ведь на прилавках магазинов можно найти достаточное количество книг (не только романов, но и вполне серьезных научных монографий) о знаменитых женщинах эллинского мира. Возьмем ту же Сапфо, или скандально прославившуюся подругу Перикла Аспасию — едва ли не самую умную и образованную среди своих современниц, или Клеопатру, о которой и вовсе слышал буквально каждый (Клеопатра, хотя и являлась царицей Египта, этнически была чистокровной гречанкой)… Пишут же о всех о них.
Это верно. Но необходимо оговорить один тонкий нюанс. Заниматься женщинами — это вовсе еще не обязательно означает быть гендерным историком. Работа, главной героиней которой выступает женщина, еще не может автоматически расцениваться как гендерное исследование. Характерный пример — упоминавшаяся в предыдущей главе книга Т. Г. Мякина «Сапфо». Ее автор претендует на применение гендерного подхода, но реально это ни в чем не выражается, кроме как в избыточном и не всегда уместном употреблении «модной» гендерной терминологии.
А в то же время вполне возможен, например, гендерный анализ римской армии
[21] — этого сугубо «мужского мира», в котором женщин не было и быть не могло. Как отмечает Л. П. Репина, «…именно изучая историю мужчин, можно убедительнее всего показать, как гендерные представления пронизывают все аспекты социальной жизни, вне зависимости от присутствия или отсутствия женщин»
[22]. С этим тезисом можно только солидаризироваться.
Да, действительно, в представлениях неспециалистов, не соприкасавшихся напрямую с гендерной проблематикой, гендерная история до сих пор подчас еще воспринимается как некая разновидность «женской истории». В обыденном сознании «гендер» — это то, что каким-то образом связано с женщинами и — более того — с феминизмом. На самом же деле на современном этапе такой подход, конечно, уже неверен. Смеем надеяться, что гендерные исследования ныне обрели уже вполне академичную форму, стали вполне нейтральными по отношению к политизированному радикальному феминизму, избавились (или по крайней мере избавляются) от его «родимых пятен».
Конечно, пресловутый женский вопрос слишком долго и слишком явно доминировал в сознании ученых, занимающихся гендерной проблематикой, а отказываться от устоявшихся стереотипов всегда бывает нелегко. Но это необходимо.
В связи с гендерной историей мужчин, которая только-только обретает право на существование и делает свои первые шаги, нередко тоже встречаемые со скептицизмом, в категориальном аппарате науки о гендере появляются такие понятия, как маскулинность, маскулинная идеология (от лат.
masculinum, что в грамматике означает мужской род). Признаться, автору этих строк подобные выражения пока еще несколько режут слух, но это, очевидно, связано только с их новизной и непривычностью; такова, наверное, судьба всех впервые вводимых терминов, а впоследствии, со временем, они приживаются в научном обиходе и становятся общепринятыми, уже не вызывающими недоуменных вопросов.
Так вот, мир древнегреческого полиса — это сугубо маскулинный мир, в котором для женщин уготована специфическая ниша, и уготована она, если можно так выразиться, по остаточному принципу: представительницам «прекрасного пола» было дано то, что по какой-либо причине не взяли себе мужчины. Впрочем, само выражение «прекрасный пол», столь часто применяемое нами именно к женщинам, для античного грека прозвучало бы в этом смысле, пожалуй, абсурдом. Для него «прекрасный пол» — это безусловно мужчины и только мужчины.
Вот перед нами короткая, афористично-четкая фраза, сохранившаяся у выдающегося историка Фукидида и принадлежащая не менее выдающемуся афинскому государственному деятелю Периклу: «Та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди мужчин, в порицание или в похвалу»
(Фукидид. История. II. 45. 2).
Приведенная цитата — отрывок из знаменитой «Надгробной речи» Перикла, произнесенной в 431 году до н. э. Вся эта речь и в целом имеет колоссальное значение: она является лучшим, наиболее значимым памятником древнегреческой демократической идеологии. В ней нарисован стройный космос идеального полиса, с присущей этому космосу системой категорий, норм и ценностей. В текстах такого рода каждая фраза необычайно весома, воплощает в себе общепринятые аксиомы публичного дискурса: оратор говорит то, что ожидает услышать от него аудитория, с чем она безоговорочно согласна. Иными словами, перед нами не частное мнение Перикла или Фукидида, а устоявшийся в обществе взгляд. Согласно этому взгляду, как видим, главным достоинством женщины является ее максимальная «незаметность»
[23].
Разумеется, «Надгробная речь», как и любой текст такого рода, отражает не действительность, а идеал, не практику, а скорее теоретические принципы. Но ведь именно принципы для нас в данном случае и важны. Ясно, что в реальной жизни предписанный здесь норматив для женщин не реализовывался со всей жесткостью. В частности, по иронии судьбы, тогдашняя супруга самого Перикла — известная Аспасия
[24] — всем стилем своего поведения менее всего соответствовала этому нормативу: она была постоянно на виду, а ее имя — у всех на устах
[25].
Но Аспасия ведь и была не афинской гражданкой, а уроженкой Милета, поэтому сказанное на нее не должно было в полной мере распространяться; впрочем, и ее, по мнению демоса, чрезмерно активная роль в общественной жизни Афин вызывала ярко выраженное неприятие и отторжение
[26], вылившееся в конце концов в организованный против нее судебный процесс, когда ее едва-едва смог защитить сам Перикл (
Плутарх. Перикл. 32)
[27]. При этом ее влияние на главу государства систематически преувеличивалось и современниками, и позднейшими авторами по сравнению с тем, которое имело место на самом деле.
А что касается женщин-гражданок, то об их даже самом мимолетном появлении на политическом поприще, за редчайшими исключениями, и речи быть не могло. Для них главным жизненным правилом должно было стать — существовать как можно более незаметно. Впрочем, в своем подавляющем большинстве они воспринимали это как должное, довольствовались существующим положением вещей и не добивались большего.
Да, женщины, как правило, полностью соглашались со всеми императивами маскулинной идеологии, не возражали против собственной маргинализации. Да и чего могли они добиваться в полисных условиях? Сколько-нибудь равноправное положение женщин было затруднено практически до полной невозможности не только и, может быть, даже не столько отсутствием у них гражданских прав
[28], тем более не какими-то специальными законами на сей счет, а прежде всего полным консерватизмом общественного мнения. Любые попытки женщин как-то заявить о себе, если они и имели место, встречали самое решительное осуждение, в том числе, не приходится сомневаться, и со стороны других представительниц этого пола.
Перикл, чьи слова были процитированы, являлся по своим взглядам, как известно, самым передовым из афинских политиков своего времени, намного превосходивших сограждан в этом отношении. Менее всего его можно назвать закоснелым консерватором. И тот факт, что он все-таки проводит в своей речи идею полного ограничения общественной деятельности женщин, лишний раз говорит: Перикл высказывает здесь отнюдь не собственное частное мнение (как раз оно-то вполне могло быть иным), а не подлежащий пересмотру постулат коллективного опыта. Иными словами, он, при всей широте своего кругозора, в этом вопросе придерживался — во всяком случае в публичных выступлениях — вполне традиционных, общепринятых взглядов.
Следующий текст, к которому хотелось бы привлечь внимание, взят из трактата видного писателя, историка и мыслителя первой половины IV века до н. э. Ксенофонта. Название трактата на русском языке обычно передают как «Домострой», поскольку он посвящен ведению домашнего хозяйства. Этот отрывок дает гораздо более развернутую картину, нежели краткое суждение в «Надгробной речи» Перикла. Главный герой трактата — образцовый хозяин Исхомах — пересказывает в беседе с Сократом содержание поучения, с которым он обратился к своей юной жене вскоре после вступления в брак, — причем тоже, вне сомнения, отражая господствовавшее в его время мнение:
«…Природу обоих полов с самого рождения, мне кажется, бог приспособил: природу женщины для домашних трудов и забот, а природу мужчины — для внешних. Тело и душу мужчины он устроил так, что он более способен переносить холод и жар, путешествия и военные походы; поэтому он назначил ему труды вне дома. А тело женщины бог создал менее способным к этому и потому, мне кажется, назначил ей домашние заботы. Но ввиду того, что в женщину он вложил способность кормить новорожденных детей и назначил ей эту обязанность, он наделил ее и большей любовью к новорожденным младенцам, чем мужчину. Но так как бог назначил женщине также и охранять внесенное в дом добро и знал, что для охраны не худое дело, если душа труслива, то он наделил женщину и большей долей трусости, чем мужчину. С другой стороны, бог знал, что тому, кто занимается трудом вне дома, придется и защищаться в случае нанесения обиды, и потому наделил его большей долей смелости… Обычай указывает также, что для мужчины и женщины приличны те занятия, к которым бог даровал каждому из них больше способности: женщине приличнее сидеть дома, чем находиться вне его, а мужчине более стыдно сидеть дома, чем заботиться о внешних делах. А если кто поступает вопреки порядку, установленному богом, то едва ли от богов скроется такое нарушение им порядка, и он несет наказание за то, что пренебрегает своими делами и занимается делами женскими» (
Ксенофонт. Домострой. 7. 22–26, 30–31).
Заметим: во внешне нейтральное в этическом смысле и, казалось бы, не вызывающее возражений рассуждение об обязанностях мужчины и женщины периодически вторгается нечто совсем иное — оценочные суждения о свойствах «души» обоих полов. Так, женщинам приписывается такое качество, как большее чадолюбие. Это в греческой традиции считалось чем-то само собой разумеющимся и распространялось даже на животный мир. Вот как, например, «отец истории» Геродот описывает кошек, впервые увиденных им в Египте: «Всякий раз, как у кошек появляются на свет котята, они уже больше не идут к котам, а те, желая с ними спариться, не находят их. Поэтому коты прибегают к такой хитрости: они силой похищают котят у кошек, умерщвляют их, но не пожирают. А кошки, лишившись своих котят и желая снова иметь других, приходят тогда к котам. Ведь это животное любит детенышей»
(Геродот. История. II. 66).
Приписывается женщинам также бо́льшая трусость, чем мужчинам; последнее никак не относится к вещам, которые приятно слышать. Приводится также и религиозная санкция гендерной асимметрии, вплоть до угрозы божественного наказания тем, кто нарушает устоявшийся порядок. И это при том, что Исхомах, как его изображает Ксенофонт, — отнюдь не обскурант, напротив, передовой по взглядам и вполне толерантный человек. Он добр к своей супруге
(Ксенофонт. Домострой. 8. 2), разговаривает с ней почти на равных, не грубо-приказным тоном, а с использованием убеждения и логических аргументов.
Отметим, наконец, такие литературные памятники, прекрасно выражающие мироощущение среднего афинянина классической эпохи, как так называемые «женские» комедии великого драматурга Аристофана («Лисистрата», «Женщины на празднике Фесмофорий», «Женщины в народном собрании»). В них гендерная ситуация, типичная для полиса, получает уже достаточно детальное воплощение, хотя воплощение весьма своеобразное, которое должно восприниматься в рамках гротескной, шутовской картины мира, создаваемой в произведениях комического жанра V века до н. э.
[29]
Как изображаются Аристофаном женщины? В однозначно непривлекательном виде, как лживые, похотливые, склонные к пьянству существа. Приведем опять же типичную цитату. В комедии «Женщины на празднике Фесмофорий» персонаж Мнесилох, переодевшись в женскую одежду и проникнув в компанию афинских гражданок, так характеризует «собственный» пол:
…Отдаемся мы,
Когда другого нет, погонщикам, рабам…
…Возбужденные излишеством ночным,
Принуждены чеснок жевать мы поутру,
Чтоб муж, вернувшись с караула к нам домой,
Не заподозрил нас ни в чем дурном…
…Женщина одна взяла красивый плащ,
Чтоб мужу показать при свете утреннем,
И, им укрыв, любовника спровадила.
Другая женщина родами десять дней
Всё мучилась, нигде ребенка не купив,
А муж по городу всё бегал и искал
Лекарство, чтоб жене ускорить роды им.
Ребенка принесла старуха им в горшке…
…Берем мы обруч для прически,
Вино из бочки тянем мы по этой трубке…
Мы сводням мясо раздаем во время Апатурий
[30],
Потом на кошку говорим…
Сказать ли вам, как топором жена убила мужа?
Другая зельем извела, ума его лишила.
В Ахарнах
[31] женщина одна под ванной… отца зарыла.
А ты с рабынею своей ребенком поменялась:
Взяла ты сына у нее, а ей дала девчонку.
(Аристофан. Женщины на празднике Фесмофорий. 491 слл., 556 слл.)
Перед нами, таким образом, набор расхожих, даже банальных обвинений. Но как реагируют на них сами аристофановские женщины (ведь всё происходит в их присутствии)? Они не пытаются отрицать, опровергать слова Мнесилоха как возводимую на них напраслину. Они возмущены только его откровенностью:
Говорит такие вещи
Так открыто, так бесстыдно!
Этой дерзости не ждали
Мы в своем кругу никак.
(Там же. 524 слл.)
При этом Аристофана никак нельзя назвать каким-то мрачным женоненавистником. Совсем наоборот: как ни парадоксально, в целом женщины в его произведениях выступают в более благоприятном свете, чем у многих других античных авторов. Такие героини аристофановских комедий, как Лисистрата или Праксагора, относятся к числу самых симпатичных женских образов во всей древнегреческой литературе. Но при этом комедиограф, чтобы найти успех у зрителей, должен был своими пьесами отвечать их ожиданиям, представлять перед ними то, что они предполагали увидеть и услышать, то есть те же аксиомы гендерного опыта общины. А аксиомы эти вполне однозначны:
Сознаться надо, по натуре женщины бесстыдны,
И нет зловреднее созданий, кроме тех же женщин.
(Там же. 531 сл.)
Эта фраза вложена в уста
женского хора! Правда, позже в комедии женщины пробуют оправдаться от клеветнических обвинений, но их оправдания звучат не слишком убедительно:
Все и каждый чернят, унижают наш пол, все о нас говорят много злого.
Ведь повсюду твердят, что мы сеем крутом только зло в человеческом роде,
Что исходит от нас и вражда, и война, и восстанья, и распри, и горе.
Допускаем: мы — зло, мы действительно зло, но зачем бы тогда вам жениться?
Для чего запрещать выйти нам со двора или просто стоять у окошка?
Для чего бы стеречь так старательно вам ваших жен, это зло, эту язву?
…У мужей мы таскаем, но скромно:
Много-много мешочек муки украдем, да и то возмещаем немедля.
Из числа же мужчин очень крупных хапуг
Указать мы могли бы не мало.
(Там же. 785 слл.)
Итак, «исходит от нас и вражда, и война…». Женщину воспринимали как неизбежное зло. Не случайно известный миф о Пандоре, рассказанный Гесиодом, гласил: именно через женщину в мир пришли все беды и несчастья (
Гесиод. Теогония. 570 слл.). Виновницей величайшего бедствия — Троянской войны — тоже была женщина (Елена). В V веке до н. э. бытовала точка зрения, согласно которой весь многовековой конфликт между миром Запада и миром Востока начался из-за серии похищений женщин (из Финикии была увезена Европа, из Колхиды — Медея, из Спарты — пресловутая Елена и т. д.)
[32]. Эта точка зрения отразилась в самом начале труда Геродота; «отец истории» при этом резонерски замечает: «Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не хотели» (
Геродот. История. I. 4).
* * *
Самая известная из «женских» комедий Аристофана — «Женщины в народном собрании» (или «Законодательницы»), поставленная в 392 году до н. э. По сюжету этой пьесы описывается следующий утопический проект: в один прекрасный день афинские женщины решают, что их мужья плохо управляют государством и что им самим необходимо взять власть в свои руки. Переодевшись мужчинами, подвязав искусственные бороды, они приходят в народное собрание, составляют большинство при голосовании и выносят решение: «Бразды правления предоставить женщинам»
(Аристофан. Женщины в народном собрании. 430). Придя таким образом к власти, афинянки вводят в полисе полный коммунизм — с обобществлением всего имущества, отменой частной собственности и семьи.
Как правило, в названном произведении Аристофана видят отражение каких-то реально выдвигавшихся в Афинах на рубеже V–IV веков до н. э. программ радикального переустройства общества
[33]. Однако это первое впечатление обманчиво. «Женщины в народном собрании» — не утопия и даже не антиутопия. Афинская комедия V века до н. э. — это мир карнавальный
[34], мир, «вывернутый наизнанку». В ней изображались сказочно-фантастические ситуации, заведомо невозможные в реальности и даже немыслимые; в этом-то и заключался комизм данного жанра, здесь лежит соль аристофановского юмора.
Комедиографы показывали в своих пьесах то, чего не может быть. Один из героев Аристофана летит на небо к богам, оседлав гигантского навозного жука (комедия «Мир»); другой становится царем птиц и основывает город между небом и землей, на облаках (комедия «Птицы»); третий заключает сепаратный мир со Спартой и наслаждается благами мирной жизни в то время, как все его сограждане воюют (комедия «Ахарняне»)…
И комедия «Женщины в народном собрании» — не исключение. Переход власти в полисе к женщинам точно так же входил для греков в категорию абсолютно невозможного, как полет на жуке или постройка птичьего города. Уже сама идея, что такое может случиться, вызывала у зрителей только дружный смех. По данным комедии можно составить представление как раз о том, чего в греческом мире
не было. И эта идея могла родиться только в воображении автора; зрители, хохотавшие над аристофановскими шутками, не допускали даже и возможности, чтобы в реальной жизни женщины получили хотя бы какую-то долю в управлении государством. Тем, кто пытается найти в «Женщинах в народном собрании» отголоски действительно предлагавшихся проектов по вовлечению гражданок в политическую жизнь, следовало бы чаще вспоминать о пресловутом жуке. Ибо при подобном подходе и по поводу комедии «Мир» с тем же успехом можно утверждать, что в Афинах рассматривались идеи о разведении этих полезных животных с целью использования их в качестве транспортного средства.
Итак, повторим и подчеркнем: для жителя античной Греции женщины в политике — это нечто из той же серии, что и полет на жуке.
Были ли женщины исключены из
всех сфер общественной жизни в греческом полисе? Это очевидным образом неверно, поскольку они принимали вполне активное участие в такой важнейшей форме этой общественной жизни, как религия
[35]. Празднества в честь различных божеств, шествия, жертвоприношения — во всех этих проявлениях религиозного культа мы вполне встречаем женщин наряду с мужчинами. Но с важной оговоркой: по большей части в роли пассивных участниц, скорее даже зрительниц.
Характерный пример. Афинский театр V века до н. э. представляется зрелищем, мало приспособленным для женских глаз и ушей. В трагедиях поднимались серьезнейшие религиозно-этические и философские вопросы, к пониманию которых представительницы женского пола, практически не получавшие образования, были вряд ли подготовлены. В комедиях со сцены постоянно раздавались шутки настолько непристойного характера, что даже и куда более эмансипированных женщин наших дней они не могут не смутить
[36]. Одним словом, трудно представить, чтобы афиняне могли позволить своим женам посещать эти представления. И тем не менее это так; теперь уже, кажется, со всей бесспорностью показано: в театре вместе с мужчинами присутствовали и женщины, даже в «день комедий»
[37].
Но, следует специально подчеркнуть, присутствовали они там только как зрительницы. В актерских же труппах античной Греции, как всем прекрасно известно, были одни лишь мужчины, исполнявшие также и женские роли. На наш взгляд, это напрямую связано с тем, что древнегреческий театр был феноменом религиозного происхождения и воспринимался именно как таковой. Причем он относился к культу мужского божества — Диониса. В подобных условиях быть актером означало, в сущности, то же самое, что быть жрецом Диониса. Допустить же женщину к жречеству в этом культе было невозможно, поскольку женщины могли быть жрицами только богинь.
Геродот с удивлением пишет о египтянах: «Ни одна женщина у них не может быть жрицей ни мужского, ни женского божества, мужчины же могут быть жрецами всех богов и богинь»
(Геродот. История. II. 35). Это суждение по контрасту предполагает, что в Греции ситуация была иной. Характерно, что даже клясться в эллинском мире у различных полов было принято по-разному: у мужчин — именами только богов, у женщин — именами как богинь, так и богов (а не одних богинь, как мы бы ожидали). В вышеупомянутых «Женщинах в народном собрании» Аристофана женщины, тайно сойдясь, «репетируют» свои речи. Одна из них в какой-то момент употребляет привычный оборот: «Клянусь двумя богинями» (то есть Деметрой и Персефоной). Руководительница заговора Праксагора тут же поправляет свою согражданку: поклявшись таким образом, она немедленно выдаст себя перед мужчинами (
Аристофан. Женщины в народном собрании. 155 слл.). Отметим кстати, что знаменитая клятва Сократа, которую обычно переводят на русский «клянусь собакой», на самом деле должна быть понимаема как «клянусь псом», поскольку в оригинале — артикль мужского рода.
Итак, в «мужских» культах женщины являлись только зрительницами — и всё же участвовали, хотя бы и в таком качестве. Исключение составляет такой важнейший общегреческий религиозный праздник, как Олимпийские игры. На состязания атлетов в Олимпии женщины не допускались ни в каком качестве. И причина здесь вовсе не та, которую часто выдвигают в популярной литературе: дескать, атлеты состязались обнаженными. Это правда, но обнаженное мужское тело женщины в Элладе могли увидеть в самых разных ситуациях; греческие мужчины не были чрезмерно стеснительны в данном плане. На наш взгляд, дело в другом: на спортивных играх даже те, кто просто наблюдал за ними, приравнивались к активным участникам. Они были «феорами», священными послами, чья задача — «созерцать».
Но, во всяком случае, из мужского сакрального пространства женщины не были полностью исключены. А в то же время у женщин было собственное сакральное пространство, в которое мужчины как раз не допускались. Например, центром «эксклюзивной» религиозной жизни афинских гражданок являлся сугубо женский праздник Фесмофорий, справлявшийся, кстати, как раз в честь тех самых «двух богинь» — Деметры, покровительницы земледелия, и ее дочери Персефоны-Коры, супруги Аида и владычицы подземного мира.
Достоверных свидетельств о том, что происходило на этом празднике, не сохранилось, поскольку женщины своих тайн не разглашали, а мужчины по этому поводу могли только строить догадки. Во всяком случае, если судить по комедии Аристофана «Женщины на празднике Фесмофорий», они полагали, что женщины на Фесмофориях проводят какие-то имитации народных собраний со всеми их атрибутами — вступительной молитвой, избранием председателя и секретаря, ведением протокола, произнесением речей, принятием решений и т. п.
(Аристофан. Женщины на празднике Фесмофорий. 295 слл.), — то есть попросту живут собственной общественной жизнью, параллельной по отношению к мужской или копирующей ее.
Да, у женщин было собственное публичное пространство (в основном имевшее отношение к сфере религии), строго отделенное от мужского, и уж в нем-то они царили безраздельно. В дальнейшем, когда речь пойдет непосредственно о Сапфо, мы увидим, что она являлась как раз руководительницей некоего «женского клуба», который, с одной стороны, можно назвать этаким «институтом благородных девиц», где юные митиленские леди под присмотром своей наставницы обучались хорошим манерам; но, с другой стороны, это был и
фиас — объединение культового характера.
В связи с чем мы об этом заговорили? Известно, что во многих культурах гендерная асимметрия напрямую сопряжена с категориями публичного и частного пространства
[38]. Первое считается всецело «мужской зоной», второе — «женской». Применима ли эта модель к древнегреческому полисному обществу, в котором деление пространства на публичную и частную сферу, несомненно, имело место
[39]?
Обычно считается, что это именно так. И действительно, как раз такую ориентацию дает своей юной супруге Исхомах в «Домострое» Ксенофонта, в цитировавшемся чуть выше отрывке. Однако ситуация, на первый взгляд обманчиво-простая, на практике была намного сложнее. Как мы только что увидели, публичное пространство у эллинов не было исключительно мужским. А как обстоит дело с частным пространством? Тут тоже неверно было бы полагать, что оно являлось всецело «женской» областью: мужчины отнюдь не были из него исключены.
Многие слышали о том, что жилые помещения древнегреческого частного дома делились на две «половины»: мужскую (
андрон) и женскую (
гинекей)
[40]. Первая размещалась обычно ближе ко входу с улицы, вторая занимала внутренние покои, более удаленные от «шума городского»; если здание было двухэтажным (а выше в Элладе той эпохи, о которой мы говорим, не строили), то андрон находился на первом этаже, гинекей — на втором.
Андрон воплощал собой публичное пространство дома: там отправлялись домашние культы, туда приглашались гости. Гинекей же являлся пространством чисто частным, куда посторонние не допускались. Это были, так сказать, владения хозяйки; там она занималась повседневными делами, воспитывала малолетних детей.
Однако, что интересно, археологические исследования — а в ходе раскопок обследовано уже весьма значительное количество греческих жилищ
[41] — показали интересную вещь: никаких сколько-нибудь четких критериев для вычленения в доме андрона и гинекея вообще не обнаруживается. Структурно, а значит, и функционально они ничем не отличались друг от друга
[42]. А это означает, что «домашнее пространство» было в принципе однородным, не делилось строго на два отдельных, специализированных пространства — публичное и частное, чисто мужское и чисто женское.
Одним из главных элементов частной, домашней жизни греков был симпосий — веселая дружеская пирушка, важная форма досуга, культурного общения
[43]. Так вот, как раз из симпосия женщина-гражданка, супруга хозяина, мать семейства была совершенно исключена. Она оставалась на своей половине, в гинекее, в то время как муж кутил с гостями в обществе музыкантов и танцовщиц. Да, вот так: хозяйка дома на пир не допускалась, а в то же время посторонние женщины, правда, низкого статуса (танцовщицы, певицы, гетеры), в нем вполне могли участвовать.
Сказанное о том, что женщина отнюдь не господствовала в частной сфере, подтверждается и данными с совершенно другой стороны, из уже неоднократно упоминавшегося ксенофонтовского «Домостроя». Его герой Исхомах проводит со своей молодой женой настоящий курс обучения, довольно длительный. Обстоятельно и даже нудно он растолковывает ей обязанности супруги по обеспечению порядка и благосостояния в доме, подробно, в деталях описывает, что должна делать рачительная хозяйка: как обращаться с вещами, какие поручения отдавать слугам и пр. (
Ксенофонт. Домострой. 7–10). Он сам вникает во всё это: частная жизнь, частное пространство ему вовсе не чужды. А вот его жене-то как раз они, судя по всему, были совершенно чужды вплоть до вступления в брак: она воспринимает рекомендации мужа как некое откровение, как вещи, совершенно неизвестные.
И это вполне закономерно: как говорит о своей супруге Исхомах, «когда она пришла ко мне, ей не было еще и пятнадцати лет, а до того она жила под строгим присмотром, чтобы возможно меньше видеть, меньше слышать, меньше говорить. Как, по-твоему, разве я мог удовольствоваться только тем, что она умела сделать плащ из шерсти, которую ей дадут, и видела, как раздают пряжу служанкам?» (
Ксенофонт. Домострой. 7. 5–6). И столь ранние браки для девушек являлись нормой.
А что касается мужчины, самым подходящим временем для вступления в брак считалось достижение тридцатилетия. Понятно, что при таких условиях семья строилась на заведомо неравных основах. Муж был уже вполне взрослым, самостоятельным человеком, а жена — совсем юной, не имеющей еще ровно никакого жизненного опыта. И она с самого начала привыкала смотреть на супруга «снизу вверх».
Кстати, при заключении брака мнение невесты не имело никакого значения. Всё за нее решали родители; именно с ними и договаривался жених, с ними вел все дела, связанные со сватовством. А свою будущую спутницу жизни он зачастую впервые видел только на свадьбе, самое раннее — на специально устроенных смотринах. Как о некой сенсации, рассказывали афиняне о поступке одного из своих граждан, экстравагантного богача-аристократа по имени Каллий (он жил в VI веке до н. э.), который смело пошел наперекор устоявшимся традициям. Он имел трех дочерей, и — сообщает Геродот — «когда дочери достигли брачного возраста, он роскошно одарил их и позволил каждой выбрать себе среди афинян мужа, какого она сама хотела, и тому отдал ее» (
Геродот. История. VI. 122).
Обычно же браки в таких условиях заключались — в силу понятных причин — не по любви, а по расчету. Это подчеркивалось тем, что за невестой всегда давалось приданое — крупная сумма денег или какое-нибудь имущество (чаще всего недвижимое).
О неравенстве сторон в браке ярко свидетельствуют способы его расторжения. Развод считался делом вполне допустимым, но очень многое зависело от того, кто был его инициатором
[44]. Если муж хотел развестись с женой, он просто отсылал ее обратно к родителям и возвращал приданое; никаких формальностей не требовалось. Но если развод происходил по инициативе женщины, ей нужно было пройти через сложную юридическую процедуру, подавать ходатайства в различные инстанции и т. п. Кстати, если в семье были дети, то при разводе они в любом случае оставались с отцом (как известно, в наши дни в подавляющем большинстве случаев делается наоборот).
Вот одна интересная история, связанная с разводом. Афинский политический деятель и полководец Алкивиад, о котором говорили, что «никто не мог сравниться с ним ни в пороках, ни в добродетелях»
(Корнелий Непом. Алкивиад. 1), женился на знатной девушке Гиппарете из богатейшей семьи (кстати, праправнучке только что упоминавшегося Каллия) и получил с ней огромное приданое. Брак оказался несчастливым. Гиппарета, удрученная полным отсутствием внимания со стороны мужа, его постоянными изменами, в конце концов покинула Алкивиада, вернулась в родительский дом и решила подать на развод. «Письмо о разводе супруга должна была подать архонту
[45] не через второе лицо, а собственноручно, — рассказывает знаменитый биограф Плутарх, — и когда, повинуясь закону, она уже подавала прошение, явился Алкивиад, внезапно схватил ее и понес через всю площадь домой, причем никто не посмел вступиться и вырвать женщину из его рук… Примененное им насилие никто не счел ни противозаконным, ни бесчеловечным: по-видимому, закон для того и приводит в общественное место женщину, покидающую своего супруга, чтобы предоставить последнему возможность вступить с ней в переговоры и попытаться удержать ее»
(Плутарх. Алкивиад. 8).
Резонерство Плутарха выглядит тут каким-то неуместным. Ведь Алкивиад отнюдь не вступал с женой в переговоры, а попросту применил к ней грубую силу. Возвратить же Гиппарету в свой дом ему нужно было не ради ее самой, а, конечно, ради приданого, которое в противном случае он терял бы. Несчастная женщина довольно скоро умерла.
Итак, отношение греческих мужчин к представительницам противоположного пола выглядит прагматичным до цинизма. В своей супруге эллин видел не столько возлюбленную, сколько хранительницу домашнего очага и мать законных наследников. Вот как говорится об этом в одной из речей Демосфена. Слова, которые сейчас будут процитированы, многим из наших современников могут показаться глубоко циничными и шокирующими. «Гетер мы заводим ради наслаждения, наложниц — ради ежедневных телесных потребностей, тогда как жен мы берем для того, чтобы иметь от них законных детей, а также для того, чтобы иметь в доме верного стража своего имущества»
(Демосфен. Речи. LIX. 122).
Из этого сообщения видно, что грек мог обзавестись, помимо законной жены, еще и наложницей
[46]. Наложницы чаще являлись рабынями, но не обязательно; среди них вполне могли быть свободные женщины и даже гражданки данного полиса. Однако дети гражданина от наложницы как минимум со времени реформ Солона (начало VI века до н. э.)
[47] считались бастардами (незаконнорожденными) и были ущемлены в правах по сравнению с детьми, рожденными в законном браке
[48]. В частности, они не могли наследовать отцу.
Упомянуты в отрывке из Демосфена и
гетеры, о них тоже необходимо сказать подробнее. Гетеры были женщинами легкого поведения, но, как ни парадоксально, эллины искали в общении с ними не столько чисто сексуальных утех (как раз их они со значительно меньшими расходами вполне могли получить и в семье или, в крайнем случае, взяв наложницу, а гетеры требовали за свои услуги немалую плату), сколько интеллектуального удовольствия.
В сущности, грекам-мужчинам было просто неинтересно в компании своих законных жен. Сами-то они были политически развитыми и всесторонне образованными людьми. Могли и поспорить на философские темы, и посостязаться в произнесении речей, и почитать наизусть большие куски из произведений великих поэтов… А женщины ничем этим похвастаться отнюдь не могли. Если мальчиков в семь лет отправляли учиться в школу, то девочки из семей граждан практически никакого образования вообще не получали. Они жили в гинекее под присмотром матери вплоть до замужества и перехода в дом супруга. В большинстве своем женщины не были даже грамотны. Им, как упоминалось, не прививали также и никаких практических умений, кроме разве что самых элементарных.
Итак, слишком многое разделяло мужа и жену в древнегреческой семье — и большой разрыв в возрасте, и не менее значительная разница в уровне образованности. Потому-то многие граждане и предпочитали обществу своих жен компанию гетер.
В отличие от женщин-гражданок, которые были совершенно
неразвитыми в духовном плане (безусловно, не по своей вине), гетеры (гражданками, как правило, не являвшиеся) как раз получали вполне достойное воспитание. Они могли поддержать беседу о литературных, философских или даже политических предметах, обладали хорошими манерами, да и в целом кругозор их был весьма широк.
Поведение гетеры было куда в меньшей степени, чем поведение гражданки, сковано традиционными стереотипами и предрассудками. И по образу гетеры в известной мере можно судить о взглядах эллинов на то, какой должна быть женщина. Характерно, что это оказывается женщина, максимально похожая на мужчину (разумеется, не в физическом, а в гендерном смысле), — женщина с мужскими запросами, с мужскими интересами. Перед нами — очередное проявление маскулинной идеологии, всецело доминировавшей в мире полиса.
Некоторые из древнегреческих гетер оставили заметный след в истории. Именно гетерой по основному роду своих занятий была упоминавшаяся выше Аспасия, которая сумела очаровать самого Перикла и которой приписывали (пусть и вряд ли вполне основательно) даже решающее влияние на государственную политику. Впоследствии, в IV веке до н. э., славилась красотой и скандальным образом жизни гетера Фрина, неоднократно служившая моделью для лучших скульпторов и живописцев. Несколько позже гетера Таида (Таис) была близка к Александру Македонскому и участвовала в его великом походе на Персидскую державу.
О гетерах речь зашла постольку, поскольку их просто нельзя было оставить в стороне, описывая положение женщин в Элладе. Но героиня нашей книги, Сапфо, конечно, никаким образом к гетерам не принадлежала. Она была гражданкой, и гражданкой из знатной, уважаемой лесбосской семьи. Что касается женщин такого статуса, из них, как мы видели, не готовили членов гражданского коллектива полиса. Но, как ни парадоксально, не готовили из них и домашних хозяек, «владычиц частного пространства». Характерно в этом смысле полное отсутствие у представительниц «слабого пола» в большинстве древнегреческих государств не только политических, но и имущественных прав. Женщина не могла получить что-либо в собственность, не могла стать наследницей…
Так какой же жизненный удел ей предназначали?
* * *
Из всего, что мы знаем о гендерной ситуации у эллинов, создается однозначное впечатление: полис стремился в максимальной степени, насколько это вообще было физически возможно, вытеснить, «убрать» женщин из всех сфер своего бытия — как из публичных, так и из частных. Даже те гендерные роли, которые в подавляющем большинстве обществ безусловно принадлежат женщинам, интенсивно перенимались мужчинами.
Это можно сказать и о такой сфере, где присутствие женщины, казалось бы, совершенно необходимо, — о любовных отношениях. Греки классической эпохи знали романтическую любовь, но это была не любовь мужчины к женщине, а любовь мужчины к мужчине. О широчайшем распространении гомосексуализма в античной Греции написано немало
[49], но это в основном чисто специальные работы, а вот в научно-популярной литературе об этом феномене, как правило, стыдливо умалчивают. Но что ж! — из песни, как говорится, слова не выкинешь. Особенно когда приходится рассказывать о Сапфо. Отметим только, что древнегреческий гомосексуализм, по нашему глубокому убеждению, был явлением не сексуальным в собственном смысле слова, а гендерным, то есть в конечном счете социальным. Его широчайшее распространение стало результатом кардинального перераспределения гендерных ролей в полисных условиях, о котором говорилось выше.
Гомосексуализм в Элладе являлся абсолютно повсеместным и повседневным компонентом всего образа бытия. Практически каждый мужчина в молодости, до вступления в брак, имел гомосексуальный опыт, который на последующих этапах его жизни сохранялся, но совмещался с гетеросексуальным. Гомосексуальные отношения обычно имели форму эротически и романтически окрашенной дружбы между юношей и зрелым мужем. Последний всячески ухаживал за своим возлюбленным, старался вызвать у него ответное чувство, дарил дорогие вещи и пр. По отношению же к женщине подобный романтизм считался совершенно неуместным: за ней не ухаживали, ее просто «брали». И дело здесь не только в том, что возможности такого ухаживания, скажем, за своей будущей женой просто не существовало: девушки жили затворницами, и жених, как отмечалось выше, впервые видел невесту не раньше, чем на смотринах. Важнее другое: в те времена, когда жила Сапфо, считалось, что однополая любовь в принципе выше и достойнее, чем любовь к противоположному полу.
В древнегреческой литературе нам встречаются различные образы женщин. И верные, преданные, самоотверженные жены — как Андромаха в «Илиаде», верная поддержка и опора своего Гектора, или Пенелопа в «Одиссее», двадцать лет непоколебимо ждущая супруга с Троянской войны, и менее известная Алкестида (Алкеста), охотно соглашающаяся даже умереть за собственного мужа Адмета… Есть и жены-чудовища, злодейки, совершающие самые немыслимые преступления, убийцы собственных детей, мужей, родителей, бесстыдные совратительницы, коварные обманщицы — как Медея, Клитемнестра, Федра в произведениях классической афинской трагедии.
Но вот чего мы до довольно позднего времени, до начала эпохи эллинизма (конец IV — конец I века до н. э.) почти не встречаем в этой литературе (а она, надо полагать, отражала реальную жизнь) — так это романтической любви мужчины к женщине.
Но как же? — возразят нам. А Анакреонт? А та же Сапфо? Ведь все знают, что главная тема их стихов — любовь. Да, среди широчайшего спектра тем древнегреческой лирической поэзии есть и любовная лирика. Хотя, кстати, в греческой античности она занимает не столь большое место, как в последующие времена. Начиная с первых образчиков новоевропейской лирики — сонетов Петрарки и Шекспира, — главной темой в этом жанре всецело является любовная. «Люблю — но реже говорю об этом, люблю нежней — но не для многих глаз…» Беатриче, Лаура — как памятны нам все эти имена! Или возьмем русских поэтов: Анна Керн и Наталья Гончарова, многочисленные возлюбленные Лермонтова (почему-то в большинстве своем не отвечавшие взаимностью этому изящному юноше и тем подвигавшие его на довольно-таки оскорбительные стихи по их адресу) или, скажем, Черубина де Габриак, из-за которой состоялась последняя в истории России «литературная» дуэль (между Максимилианом Волошиным и Николаем Гумилевым)…
А вот у эллинов все-таки преобладает лирика политическая, философская, нравоучительная… Впрочем, главное даже не в этом. Скажем несколько слов о творчестве вышеупомянутых греческих поэтов. Анакреонт (VI век до н. э.), родом из города Теос в Ионии, действительно писал в основном о любви. Но сам образ любви у него несколько снижен. Поэзия Анакреонта легкомысленна, шутлива; в ней мы не найдем глубоких чувств. Процитируем один его очень известный фрагмент, оговорив предварительно, что в нем слово «лесбиянка» употреблено в своем изначальном значении, то есть это всего лишь девушка с острова Лесбос (но все-таки не Сапфо — Анакреонт жил позже, — а, видимо, кто-то из ее талантливых выучениц).
Бросил шар свой пурпуровый
Златовласый Эрот в меня
И зовет позабавиться
С девой пестрообутой.
Но, смеяся презрительно
Над седой головой моей,
Лесбиянка прекрасная
На другого глазеет.
(Анакреонт. фр. 13 Page)
Кстати, поскольку именно Сапфо со временем начала восприниматься как «лесбиянка по преимуществу», то некоторые античные авторы впоследствии стали ошибочно считать, что Анакреонт здесь писал именно о ней и был, соответственно, в нее безответно влюблен. Вот как комментирует ситуацию эрудит Афиней, живший уже во II–III веках н. э., во времена римского владычества над Грецией:
«Гермесианакт ошибается, считая, что Сапфо и Анакреонт — современники: последний жил во времена Кира и Поликрата, а первая во времена Алиатта, отца Креза. Хамелеонт же в сочинении о Сапфо даже говорит, что, по утверждению некоторых, о ней Анакреонтом написано следующее… (и далее цитируется именно тот фрагмент, который был приведен нами чуть выше. —
И. С.). А Сапфо, говорит Хамелеонт, ответила ему вот что:
Муза на престоле златом! Твоя то
Песнь с земли красавиц, с земли теосской
Славной — песнь, что некогда пел так сладко
Старец блаженный.
Но всякому как-то ясно, что это стихотворение не принадлежит Сапфо. Я же считаю, что Гермесианакт в шутку говорит об этой любви. Ведь и автор комедий Дифил в драме “Сапфо” сделал влюбленными в Сапфо Архилоха и Гиппонакта»
(Афиней. Пир мудрецов. XIII. 72).
Этот пассаж переполнен именами, подавляющее большинство которых мало что скажут непосвященному, поэтому абсолютно необходимы некоторые пояснения. Упомянутые Гермесианакт, Хамелеонт, Дифил — древнегреческие писатели, жившие позже Сапфо и в той или иной степени касавшиеся ее личности в своих произведениях (драматург Дифил, как видим, даже сочинил пьесу, названную в ее честь). Из них для нас наиболее интересен Хамелеонт — ученый, живший на рубеже IV–III веков до н. э. и принадлежавший к перипатетической школе (то есть к школе, основанной Аристотелем). О Хамелеонте еще придется кое-что говорить в дальнейшем, поскольку о нем известно, что он написал специальный труд о Сапфо (от которого, к сожалению, почти ничего не сохранилось).
Архилох и Гиппонакт — выдающиеся лирические поэты архаической эпохи, фигуры примерно такого же масштаба, как сама Сапфо. Остальные же фигурирующие тут имена принадлежат уже к сфере политической истории: Поликрат — тиран острова Самоса, Кир — знаменитый персидский царь, Алиатт и Крез — цари Лидии…
Для нас все эти детали в общем-то не столь уж и принципиальны: важнее другое — что хочет доказать Афиней. А мысль его заключается в следующем: не может быть и речи о любви между Сапфо и Анакреонтом и даже о знакомстве между ними, поскольку лесбосская поэтесса жила в первой половине VI века до н. э., а теосский лирик — во второй половине того же столетия (так получается, если переводить привычные для античности датировки по правителям в употребительную ныне хронологическую шкалу). Следовательно, ответное стихотворение об Анакреонте, якобы написанное Сапфо, в действительности не может ей принадлежать и в действительности относится к литературному наследию кого-то иного (кого именно — неизвестно и по сей день).
Афиней спорит в первую очередь с поэтом Гермесианактом, который утверждал, что в Сапфо был влюблен не только Анакреонт, но и Алкей:
Сколько пиров повидать довелося лесбосцу Алкею,
Нежное чувство к Сапфо лирною славя игрой,
Знаешь прекрасно. Певец полюбил соловья, причиняя
Мужу теосскому боль песен своих мастерством,
Анакреонт поелику старался о ней сладкогласный.
К разным лесбоскам она часто ходила порой,
Он же скитался по свету, то Самос покинув, то город
Бросив родной, что лежит, выю во гроздьях склонив
К винопрекрасному Лесбосу…
(Гермесианакт. фр. 1 Powell)
Дело здесь, насколько можно судить, вот в чем. Великие имена прошлого имеют свойство как бы «притягивать» к себе друг друга. И в чисто психологическом плане это вполне понятно. С одной стороны, биография едва ли не каждого выдающегося деятеля истории и культуры со временем «обрастает» легендарными и даже анекдотическими подробностями (особенно если достоверных фактов о жизни той или иной личности известно мало). С другой стороны, по прошествии веков автоматически начинает казаться, что раз все эти люди жили «в старину», — то, стало быть, они знали друга и, наверное, поддерживали между собой какие-то отношения: дружеские, враждебные, любовные… Тому, что «старина» — понятие растяжимое, уже как-то не придается особого значения: ну подумаешь, полувеком раньше, полувеком позже!
Примеров такого подхода можно перечислить сколько угодно, в том числе и из интересующей нас архаической эпохи истории Эллады. Так, упорно заявляли, будто бы однажды лично сошлись на поэтическое состязание Гомер и Гесиод, причем Гесиод даже одержал победу над «отцом поэтов». Или возьмем традицию о Семи мудрецах: согласно соответствующим рассказам, умнейшие люди греческого мира, жившие в первой половине VI века до н. э. (Фалес, Солон, Периандр, Клеобул, Хилон, Биант, Питтак), создали некое подобие клуба: постоянно общались, переписывались, спорили… И это, конечно, тоже фикция: мудрецы обитали в разных городах, подчас далеко друг от друга, и единственным, что их объединяло, было более или менее одинаковое время деятельности.
Вот так получилось и в данном случае. Порой такого рода мифы, очевидно, творились и сознательно, — например, в шутливых целях. Выше уже упоминалось (со ссылкой на того же Афинея), что комедиограф Дифил сочинил пьесу «Сапфо» и в ней вывел влюбленными в лесбосскую поэтессу лириков Архилоха и Гиппонакта. И это тоже невозможно: Гиппонакт жил позже Сапфо, а Архилох, напротив, раньше. Дифил, скорее всего, это прекрасно понимал и просто прибегнул к так называемой поэтической вольности, вполне уместной в жанре комедии.
Но вернемся к основной нити изложения. Как видим, для Анакреонта любовное увлечение девушкой с Лесбоса — это не вполне серьезная игра, не более того. «Позабавиться» — так и говорит поэт. Здесь, кстати, уместно сказать о разных оттенках любви у древних греков и о различных терминах, которыми они обозначались. Да, эллины имели именно целый ряд слов для выражения этого чувства (точнее, гаммы чувств) — и нам, например, это даже трудно осознать, поскольку в русском языке вся гамма передается одним-единственным словом: «любовь» (плюс несколькими однокоренными, например «влюбленность»).
Из греческих же терминов, конечно, самым известным является
эрос. Какова роль этого понятия в древнегреческой цивилизации? Уже самые ранние поэты уделяли ему в своих произведениях большое место, но прежде всего не как индивидуальной любви, а как одному из главных принципов мироздания. Например, у Гесиода в поэме о происхождении мира и богов читаем:
Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом
Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,
Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,
И, между вечными всеми богами прекраснейший — Эрос
Сладкоистомный — у всех он богов и людей земнородных
Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает.
(Гесиод. Теогония. 116 слл.)
Кстати, как правильнее — «Эрос» или «Эрот», как мы встречали выше, в переводе из Анакреонта? Оказывается, верны оба варианта. И вообще это не два разных греческих существительных, а одно, начальная форма которого —
эрос, а корень —
эрот-. В древнегреческом языке бывает, что корень слова проявляется в начальной форме в несколько измененном виде. Вот параллельный и очень схожий пример: «свет» по-гречески будет
фос, а корень слова —
фот-. В результате в словах, заимствованных из греческого в современные языки, в том числе и в русский, может встретиться как элемент «фос-», так и элемент «фот-». Например,
фосфор («светоносный»), но
фотография («светопись»).
Наверное, сразу нужно оговорить во избежание возможных недоразумений: у античных эллинов, разумеется, еще не было фотографии. Равно как не было у них и телефонов, микроскопов и других подобного рода устройств. Почему же эти входящие в современную интернациональную лексику слова — греческого происхождения? А это действительно так: если переводить дословно,
телефон — «далекий голос»,
микроскоп — «мелкое зрение» и т. д.
Все эти слова искусственно сочинены учеными, изобретавшими соответствующие приборы. И составлены из корней именно древнегреческого языка. Такова уж была традиция, сложившаяся в Европе Нового времени. Так поступали из уважения к античной науке, предвосхитившей последующую европейскую.
Но вернемся к «эросу». Слово это означает любовь — но не всякую. Как было сказано чуть выше, в русском языке «любовь» практически не имеет синонимов, а вот в древнегреческом существовал целый ряд существительных, выражавших это понятие, но не вполне совпадавших по значению: каждое имело свой особый оттенок.
Так,
эрос — любовь как страстное влечение. А существовали еще
филия — любовь-привязанность, не столь бурная, но более прочная и постоянная, похожая на дружбу;
сторге — любовь-уважение, например, к родителям;
гимерос — легкая влюбленность, ни к чему особо не обязывающая;
потос — любовь-тоска к чему-то, чего не имеешь, чувство даже более интенсивное, чем
эрос. Позже остальных становится широко употребительным слово
агапе, означавшее любовь духовную. Именно этот термин приняло на вооружение возникшее христианство, когда потребовалось выразить совершенно новое чувство — христианскую любовь людей к Богу и Бога к людям, а также любовь к ближнему. Когда мы в русских переводах Нового Завета встречаем упоминания любви (например, «Бог есть любовь»), будем уверены, что в оригинале стоит именно «агапе», а не «эрос» и не какое-нибудь другое слово.
И все эти довольно различные между собой чувства, перечисленные в предыдущем абзаце, на русском языке приходится передавать одинаково — «любовь». Вообще возникают немалые трудности при переводе с языка более богатого по словарному запасу на более бедный. При этом русский — еще один из самых богатых лексически языков мира; он изобилует синонимами, отражающими тонкие оттенки понятий. Но с древнегреческим в этом отношении даже и наш язык сравниться не может.
Отметим еще, что в древнегреческом языке особенно обширная и разветвленная синонимика связана, помимо любви, еще с несколькими сферами бытия. А именно — с понятиями «говорить», «видеть» и «познавать». Такие экскурсы в тематику, казалось бы, чисто лингвистическую на самом деле тоже способны много сказать о мировоззрении и мироощущении античных эллинов, о том, что для них было особенно важно в жизни.
Но вернемся к Сапфо. У нее мы не встретим и следа анакреонтовской шутливости, несерьезности. Уже не раз упоминалось: главная тема этой поэтессы — любовь-страсть, любовь, буквально испепеляющая человека, ни на минуту не дающая ему покоя… Но чья это любовь и к кому? Приведем полностью (правда, конец не сохранился) самое, пожалуй, знаменитое стихотворение Сапфо (в 1970-х годах его положил на музыку Давид Тухманов):
Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться:
Лишь тебя увижу — уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же
Звон непрерывный.
По́том жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы, и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
Но терпи, терпи: чересчур далёко
Всё зашло…
(Сапфо. фр. 31 Lobel-Page)[50]
С огромной наблюдательностью и талантом описаны все «симптомы любовной болезни». Однако, если пристальнее всмотреться в процитированные строки, нетрудно заметить, что поэтесса описывает свою любовь к девушке. И нельзя сказать, что она перевоплощается в этом стихотворении в образ мужчины (как в более близкие к нам времена делала, допустим, Зинаида Гиппиус); нет, подобные поэтические приемы в ту эпоху были еще неизвестны, да к тому же в оригинале относящиеся к первому лицу прилагательные стоят в женском роде.
Именно таковы же и остальные стихотворения Сапфо.
…Приходит
Нынче всё далекая мне на память
Анактория.
Девы поступь милая, блеском взоров
Озаренный лик мне дороже всяких
Колесниц лидийских и конеборцев,
В бронях блестящих.
(Сапфо. фр. 16 Lobel-Page)
Правда, писала Сапфо и свадебные песни. Вот, например, чрезвычайно известный, даже хрестоматийный отрывок (упоминаемый в нем Гименей — божество свадьбы у эллинов):
Эй, потолок поднимайте, —
О Гименей! —
Выше, плотники, выше!
О Гименей! —
Входит жених, подобный Арею,
Выше самых высоких мужей!
(Сапфо. фр. 111 Lobel-Page)
Перед нами гипербола — одно из самых распространенных средств художественной выразительности или фигур речи, сознательное преувеличение: входящий жених уподобляется Аресу (Арею) — богу войны у греков. Божества, как известно, представлялись эллинами хотя и имеющими человеческий облик, но огромными, многократно больше обычных людей. И здесь у Сапфо жених настолько высок, что для его входа нужно поднять потолок, а то ведь не вместится в комнату…
Немало таких свадебных песен (эпиталамиев) написала лесбосская поэтесса; некоторые из них нам и впредь предстоит цитировать. Но как же — спросит человек современности — могут совмещаться друг с другом воспевание однополой любви и воспевание брака, коим сочетаются жених и невеста, лица разных полов? Однако тут мы должны вспомнить то, о чем уже говорилось выше: в Элладе тех времен, о которых идет речь, любовь и брак четко отделялись друг от друга. В брак вступали не по любви.
Сапфо возглавляла у себя в городе что-то вроде «института благородных девиц», если употреблять более или менее понятные нам выражения (а что конкретно это заведение собой представляло — у нас еще будет возможность подробнее узнать в дальнейшем). В ее «пансионе» находились на воспитании юные девушки, которых она, естественно, должна была готовить к супружеской жизни. Но замужество замужеством, а пока до него было далеко — поэтесса и ее воспитанницы предавались женской дружбе с несомненным эротическим оттенком.
* * *
О гомосексуализме в Древней Греции необходимо было сказать (надеемся, нас не привлекут к ответственности по не столь давно принятому закону о запрете пропаганды этого извращения: информация не есть пропаганда), поскольку без этого мало что в творчестве Сапфо, в ее биографии, в истории ее эпохи читателю будет понятно. Женский гомосексуализм (та самая «лесбосская» или «лесбийская» любовь, получившая свое название именно от Сапфо, точнее, от места ее проживания) имел место точно так же, как и мужской, но последний в большинстве источников проявляется рельефнее.
В сущности, эллинский полис в значительной мере передал мужчинам даже женскую сексуальную функцию. Это та же политика вытеснения женщин отовсюду, откуда только возможно. Не оставляет ощущение, что, если бы можно было мужчинам же передать и функцию деторождения, в полисе и это с удовольствием было бы сделано, а от женщин избавились бы совершенно. Однако поскольку это было невозможно, а продолжение рода необходимо, то и с присутствием женщин приходилось мириться. Но при этом они подвергались поступательной маргинализации, вытеснялись за пределы того «мужского клуба», которым являлся полис. «Богини, блудницы, жены и рабыни» — такое, очень точное название дала Сара Померой, известнейшая исследовательница гендерной проблематики в античности, своей знаменитой книге о женщинах Древней Греции
[51]. Здесь перечислены «женские» статусы, возможные в полисных условиях, и нетрудно заметить, что все эти статусы маргинальны или даже ультрамаргинальны.
Отчуждение от женщин («И с ними плохо, и без них никак нельзя!» — любили греческие мужчины повторять этот неведомо кем сочиненный стих) было связано с базовым взглядом на саму суть их «природы». Женщина для эллинов — существо, принадлежащее скорее к миру Хаоса, чем к упорядоченному мужскому Космосу
[52]. Она — игрушка страстей и эмоций, которые решительно преобладают у нее над разумом, между тем как в норме все должно быть наоборот. Женщина в чем-то даже сродни дикому животному, которое нужно укрощать, приручать.
И это не метафора. Уже знакомый нам Исхомах (герой произведения Ксенофонта) вспоминает: его жена спустя некоторое время после замужества «привыкла ко мне и была ручной, так что можно было говорить с ней» (
Ксенофонт. Домострой. 7. 10). Обратим внимание на сам способ выражения, на лексику: ведь так обычно выражаются именно о животных. Не приходится сомневаться в том, что юная супруга Исхомаха, скорее всего, впервые в своей жизни оказавшаяся один на один с чужим, раньше незнакомым ей мужчиной, действительно первое время «дичилась». Точно так же вели себя и все ее сверстницы.
К слову сказать, уроки мужа, кажется, не пошли жене Исхомаха впрок. После его смерти она отличалась крайне безнравственным поведением, в частности, «отбила» мужа у собственной дочери, после чего последняя даже пыталась покончить самоубийством (
Андокид. Речи. I. 124–127). Кстати, только из этого свидетельства мы узнаём имя супруги Исхомаха — Хрисилла. Ксенофонт его ни разу не называет, поскольку упоминать имена порядочных женщин было не принято
[53].
Маргинализация женщины сопровождалась ее изоляцией, затворническим образом жизни. Скудна содержанием, скучна была жизнь эллинской гражданки. Муж, встав утром и позавтракав, покидал жилище, а возвращался лишь к вечеру. Ведь грек-мужчина вел жизнь в высшей степени общественную, проводил целый день на улицах и площадях своего города. Там он участвовал в работе органов власти, общался с друзьями, узнавал последние новости…
А его жена всё это время была замкнута в пространстве дома, причем, как мы видели выше, не столько как хозяйка и владычица домашнего очага, сколько как его своеобразная пленница. Позволялось разве что изредка побывать в гостях у подруги, да и то обязательно под присмотром кого-нибудь из слуг. Даже на рынок за покупками женщины (во всяком случае, из состоятельных семей) не ходили: это считалось сугубо мужским делом. «Жизнь женщин до старости скрывалась от посторонних глаз. Предполагалось, что женщина из приличного семейства может впервые выйти из дома, лишь достигнув того возраста, когда встречный поинтересуется тем, чья это мать, а не тем, чья это жена», — остроумно замечает современный ученый
[54]. Законы Солона о погребениях
[55], принятые в Афинах в начале VI века до н. э. (то есть именно тогда, когда у противоположного побережья Эгейского моря жила и творила Сапфо), настрого запрещали участвовать в погребальных обрядах женщинам моложе шестидесяти лет, не считая самых близких родственниц (
Демосфен. Речи. XLIII. 62).
Причины таких ограничений становятся ясны, например, из перипетий одного афинского судебного процесса, известного из речи оратора Лисия (
Лисий. Речи. I). Некто Эратосфен увидел молодую, недавно вышедшую замуж женщину, шедшую в процессии на похоронах ее свекрови, и затем соблазнил эту афинянку. Муж, узнав об этом, убил любовника жены. Кстати, по афинским законам подобное убийство — если оно совершалось «на месте преступления» — было неподсудным: считалось, что муж таким образом удовлетворяет свое оскорбленное чувство собственника.
Итак, достаточно было одного появления молодой дамы «на людях», чтобы почти немедленно произошел адюльтер. Тут нужно еще помнить о горячем южном темпераменте греков. В результате в Балканском регионе, в том числе у южных славян, подобные обычаи изоляции женщин существовали вплоть до недавнего времени; где-нибудь в сельской местности, наверное, они живы и по сей день.
Возникает даже некоторое противоречие между этим затворничеством представительниц слабого пола и отмеченной выше возможностью их участия в религиозных праздниках. Можем объяснить это противоречие только тем, что «праздничное пространство» воспринималось как сущностно отличное от пространства повседневности, и в нем действовали свои законы
[56].
В отношении типичного грека к женщине, насколько можно судить, сосуществовали и боролись две эмоции: настороженное чувство собственника и инстинктивная боязнь, доходящая порой до отторжения и прорывающаяся, например, в таких строках поэта конца VII века до н. э. Семонида Аморгского: женщины
…и были бедствием и будут для мужей.
Да, это зло из зол, что женщиной зовут,
Дал Зевс, и если есть чуть пользы от нее —
Хозяин от жены без меры терпит зло.
И дня не проведет спокойно, без тревог,
Кто с женщиной судьбу свою соединил.
(Семонид. фр. 7 West)
Обратим внимание на интересное обстоятельство. В целом произведения архаической лирической поэзии греков сохранились в очень незначительной степени, в виде маленьких фрагментов, по несколько строк каждый. Самое значительное исключение из этого правила — большое стихотворение Семонида, главная и единственная тема которого — поношение женщин (именно из него только что был процитирован отрывок). Это стихотворение насчитывает более ста строк и дошло практически полностью, а это, безусловно, говорит о том, что в античности оно было чрезвычайно популярно, следовательно, отвечало мыслям и чувствам аудитории.
Согласно поэту, существуют разные типы женщин (происшедшие — образцовая метафора! — от тех или иных животных или природных явлений), и каждый из этих типов (за единственным исключением) наделен какими-то недостатками:
Различно женщин нрав сложил вначале Зевс:
Одну из хрюшки он щетинистой слепил —
Всё в доме у такой валяется в грязи…
Другую из лисы коварной создал бог…
Иной передала собака верткий нрав.
Проныра — ей бы всё разведать, разузнать,
Повсюду нос сует, снует по всем углам,
Знай лает, хоть кругом не видно ни души…
Иную, вылепив из комьев земляных,
Убогою Олимп поднес мужчине в дар,
Что зло и что добро — не по ее уму.
И не поймет! Куда! Одно лишь знает — есть…
Ту из волны морской. Двоится ум ее:
Сегодня — радостна, смеется, весела…
А завтра — мочи нет: противно и взглянуть.
Приблизиться нельзя: беснуется она,
Не зная удержу, как пес среди детей…
Иной дал нрав осёл, облезлый от плетей;
Под брань, из-под кнута, с большим трудом она
Берется за дела — кой-как исполнить долг…
Иную сотворил из ласки — жалкий род!
У этой ни красы, ни прелести следа,
Ни обаяния — ничем не привлечет,
А к ложу похоти — неистовый порыв…
Иная род ведет от пышного коня:
Заботы, черный труд — ей это не под стать…
Иную сотворил из обезьяны Зевс…
Лицом уродлива. Подобная жена
Идет по городу — посмешище для всех…
На выдумки ж хитра, уверткам счету нет…
(Семонид. фр. 7 West)
Как видим, сплошной негатив. Мы уже приводили все эти резиньяции с большими сокращениями. Для тех, кто желает познакомиться с ними полностью, даем ссылку на одно из последних изданий, содержащих русский перевод стихотворения Семонида
[57]. Но все-таки под конец встречаем хоть капельку позитива. Уж эти-то строки процитируем полностью:
Иную — из пчелы. Такая — счастья дар.
Пред ней одной уста злословия молчат:
Растет и множится потомство от нее;
В любви супружеской идет к закату дней,
Потомство славное и сильное родив.
Средь прочих жен она прекрасней, выше всех,
Пленяя прелестью божественной своей,
И не охотница сидеть в кругу подруг,
За непристойными беседами следя.
Вот лучшая из жен, которых даровал
Мужчинам Зевс-отец на благо, вот их цвет.
(Семонид. фр. 7 West)
Таков идеал женщины у греков. Не случайно они любили давать своим дочерям имя Мелисса («пчела»). Трудолюбивая, плодовитая, бережливая, беспрекословная… И, в общем, опять же максимально незаметная. Какой контраст с нашим временем, когда предпочитают ярких женщин, а «серенькая мышка» вряд ли кого-то устроит! Впрочем, и среди греческих мужчин, конечно, разные бывали. Знаменитый философ Антисфен (основатель кинической, или цинической, школы) «…на вопрос, какую женщину лучше брать в жены… ответил: “Красивая будет общим достоянием, некрасивая — твоим наказанием”»
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. VI. 3). Эту остроумную сентенцию (в оригинале игра слов звучит еще более рельефно по сравнению с переводом) иногда приписывали и другому, менее известному философу — Биону из Борисфена (то есть из Ольвии на северном побережье Черного моря), правда, в чуть иной форме: «На вопрос, стоит ли жениться… он сказал: “Уродливая жена будет тебе наказанием, красивая — общим достоянием”»
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. IV. 48). А Сократ, уж и вовсе всем известный, однажды изрек такое: «Человеку, который спросил, жениться ли ему или не жениться, он ответил: “Делай, что хочешь, — всё равно раскаешься”»
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 33). Сам Сократ, что интересно, был женат, — возможно, даже и не единожды
[58].
Что еще поражает в вышеприведенной «классификации» Семонида? Она, конечно, насквозь женоненавистническая, но насколько изощренно-разнообразно это женоненавистничество автора! Ясно, что многократно в истории человечества мужчины ругали, оскорбляли женщин, а случалось, что даже и женщины мужчин. Но удалось ли кому-нибудь сделать более эффектными, чем поэту, писавшему на самой заре европейской цивилизации, свои «гендерные насмешки» — и именно посредством введения такого широкого спектра карикатурных портретов?
Автор этих строк показал стихотворение Семонида своей супруге (не являющейся специалистом в области античности). Прочтя его, она выразилась в том духе, что это-де типичный мужской шовинизм и что женщины могли бы при желании точно так же «расписать» виды мужчин. Пришлось ответить: «Так пусть они сделают это, если так просто; а то ведь пока из их уст мы слышим по своему адресу в основном предельно простую типологию — мужчина либо козел, либо баран».
Но, с другой стороны, — и это также невозможно не констатировать, — интересный ведь идеал предложен Семонидом (и греками в целом, которые охотно соглашались с ним): женщина-пчела. А для кого пчела является идеалом, всякий знает: для самца пчелы. Как называют оного, даже и упоминать неудобно — ввиду полной общеизвестности этого слова, ставшего синонимом «тунеядца». Маленький факт из энтомологии: этих существ, тоже на букву «т», после того как они выполнили свою функцию, пчелы убивают своими укусами и выбрасывают из улья.
Так что же, в древнегреческой литературе не присутствуют образы действительно ярких женщин? Присутствуют, и их немало. Но это — женщины-злодейки, «инфернальные женщины», как мы их называем. Они — как правило, героини мифов. Они совершают самые чудовищные преступления; они — убийцы собственных детей, мужей, родителей, бесстыдные совратительницы, коварные обманщицы. Это — Медея, Клитемнестра, Федра, Электра… Многим из них приписывается занятие волшебством, чародейством
[59]. Особенно изобилуют такими образами произведения афинской трагедии V века до н. э.
Однако менее всего было бы правомерным привлекать эти образы как свидетельства о том, какими в действительности были древнегреческие женщины. Здесь перед нами не более чем проекция мужских фобий. Реальные случаи совершенных женщинами тяжких преступлений исключительно редки. Проверив на этот предмет все дошедшие до нас судебные речи афинских ораторов, обнаруживаем, кажется, только один-единственный судебный процесс такого рода: I речь оратора Антифонта (V век до н. э.) была написана для суда по обвинению женщины в отравлении, да и то неясно, насколько это обвинение было обоснованным. Случаев тяжких преступлений, совершенных мужчинами, в тех же ораторских речах находим многократно больше.
Самая знаменитая судебная речь против женщины — это уже цитировавшаяся LIX речь корпуса Демосфена («Против Неэры»), но в ней обвиняемой инкриминируют всего лишь то, что она, принадлежа к сословию метэков и являясь гетерой, жила как законная жена с афинским гражданином, тем самым нарушая закон, да и в целом вела непорядочный образ жизни. Есть и другие известные процессы против женщин — Аспасии, Фрины, — но и в них о тяжких преступлениях речь тоже не шла.
Судя по всему, греческие женщины были злодейками, мужеубийцами и прочее только в литературных произведениях, а в реальной жизни они весьма мало были склонны к подобному девиантному поведению. Образцами, на которые они ориентировались, являлись отнюдь не Медея или Федра, а, конечно, образы добродетельных жен в мифологической и литературной традиции — Пенелопа, Алкестида и т. п.
Легко представить себе, какие формы должно было иметь складывавшееся в подобной обстановке мироощущение представительниц женской половины «эллинской вселенной». Не высовывайся — и будет тебе счастье. Но неизбежен вопрос: если всё было так плохо, то почему же именно в античной Греции выкристаллизовывается такой феномен, как
женщина-поэтесса? И получает свое первое (более того, вечное) воплощение в фигуре Сапфо? Поэтесса — это по определению яркая женщина, женщина с рельефно очерченной индивидуальностью, женщина, которой действительно есть что сказать миру. Мы имеем в виду, конечно, истинных поэтесс. Заниматься досужим рифмоплетством многие могут, тут особого умения не нужно.
Так вот, нет ли тут все-таки противоречия: с одной стороны, женщин греки всячески «зажимали», с другой же стороны — из среды «зажимаемых» вдруг поднялась Сапфо. Причем не с «протестом и укором», как поэтессы из феминисток-суфражисток иных времен, а просто сама по себе, со своим словом, реально весомым, реально звучным, реально новым.
Конечно, из мировой истории известны ситуации, когда именно угнетение порождало гения. Известный пример — Тарас Шевченко, «вдвойне угнетенный» — как представитель некоренной нации и как урожденный крепостной, выкупленный потом на свободу. Его известные строки из «Завещания» —
Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте —
и поныне понимаются по-разному: чья тут «вражеская злая кровь» — крепостников-помещиков или русских? Как бы то ни было, некая ненависть налицо. Так вот, в стихах Сапфо нет ненависти (разве что к совратившей ее брата Харакса гетере Дорихе), только любовь!
Всё не так-то просто. Выше, описывая положение женщин в Греции, мы дали некую «усредненную» картину; теперь пришло время ее дифференцировать. В истории античной Эллады две эпохи имели особенное значение: архаическая (VIII–VI века до н. э.) и классическая (V–IV века до н. э.). Вторая всем знакома лучше: это время Фемистокла и Перикла, Сократа и Платона, Геродота и Гиппократа, Фидия и Демосфена… В общем, это высший пик во всей истории античной цивилизации.
Но Сапфо-то жила в эпоху архаики, то есть раньше. И имеет смысл разъяснить, в чем разница между этими двумя периодами — а между ними действительно пролегла четкая грань.
Наверное, лучше всего будет оттенить отличия, сказав так (это упрощение, но упрощение не всегда является недостатком): архаическую эпоху можно охарактеризовать как аристократическую, а классическую — как демократическую. В первую из них тон задавали полисы, управлявшиеся знатной элитой (таковы были и полисы Лесбоса, где жила Сапфо), а во вторую всецело выдвинулись на первый план Афины, установившие у себя наиболее полное по тем временам народовластие.
Что есть прогресс и что есть упадок? На первый взгляд, казалось бы, всё ясно: демократия являет собой шаг вперед по сравнению с правлением аристократов. Не будем спорить: это — предмет отдельного разговора. Но как отражаются такого рода перемены на судьбах женщин?
Уже давно был замечен один интересный парадокс гендерной истории, который Л. П. Репина формулирует так: «В эпохи, которые традиционно считаются периодами упадка, статус женщин относительно мужчин отнюдь не снижался, а в так называемые эры прогресса плоды последнего распределялись между ними далеко не равномерно»
[60]. Приводятся и конкретные примеры, четко подтверждающие этот тезис. Так, в эпоху Возрождения, которая обычно рисуется как пробуждение от «темной ночи Средневековья», положение женщин не только не улучшилось, а, напротив, ухудшилось, их гендерный статус снизился. Точно так же произошло и во время Великой французской революции, которая — при всех своих красивых лозунгах «Свобода, равенство, братство» — реально отнюдь не оказала раскрепощающего, эмансипирующего влияния на историю женщин
[61].
Античная Греция являет нам еще один пример подобной же ситуации, причем такой пример, который по своей яркости и законченности, пожалуй, не имеет себе равных
[62]. В классических, демократических Афинах женщины постоянно ущемлялись. А в предыдущую эпоху, как мы видели, аристократ Каллий мог взять да и предложить своим трем дочерям самостоятельно выбрать себе мужей (в эпоху Перикла такое даже и представить невозможно!!). Кстати, получается, что коль скоро дочери Каллия имели возможность выбирать, то, значит, они еще до замужества как минимум видели каких-то мужчин и, следовательно, не вели абсолютно затворническую жизнь в гинекее, столь характерную для афинских женщин классической эпохи.
Да, как ни странно, особенно приниженным положение женщин было в самых демократических полисах — таких как классические Афины. Там, где у власти стояла аристократия, у представительниц «слабого пола» было хоть чуть-чуть, но все-таки побольше возможностей проявить себя в общественной жизни.
Особенно ярким контрастом Афинам выступала в данном аспекте Спарта. В этом жестком, военизированном полисе, где элементы радикальной демократии практически отсутствовали, женщина пользовалась несравненно большей свободой. Спартанцы в высшей степени уважали своих жен и матерей (а порой — даже дочерей), во всем прислушивались к их голосу. Некоторые греческие авторы считали даже, что реальная власть в спартанском государстве находится в руках женщин, а не мужчин
[63].
Вот перед нами одна из этих спартанок — Горго, дочь царя Клеомена I, правившего в конце VI — начале V века до н. э. Уже когда она была девочкой, отец принимал во внимание ее мнение. Однажды в Спарту прибыл посол из Милета Аристагор с просьбой о военной помощи. Спартанцы ответили отказом. Тогда посол стал предлагать Клеомену взятку. Царь заколебался, но тут присутствовавшая при разговоре Горго воскликнула: «Отец! Чужеземец подкупит тебя, если ты не уйдешь!» «Клеомен обрадовался совету дочери и ушел в другой покой, а Аристагору, ничего не добившись, пришлось покинуть Спарту», — пишет Геродот (
Геродот. История. V. 51). Царевне было тогда всего лишь восемь или девять лет.
Впоследствии Горго стала женой брата своего отца (в Греции браки между дядей и племянницей или между двоюродными братом и сестрой считались вполне допустимыми) — Леонида, следующего спартанского царя, того самого, который героически погиб, сражаясь с персами при Фермопилах. Она всегда оставалась одной из самых влиятельных женщин в Спарте. Как-то ее спросили: «Почему вы, спартанки, единственные из женщин командуете мужами?» — «Потому, что мы единственные и рожаем мужей», — ответила Горго (
Плутарх. Моралии. 240 е).
* * *
Такой вот парадокс. В демократических полисах классической эпохи особенно сильно проявлялось «засилье» мужчин. А в архаическую эпоху, когда у власти стояла еще аристократия, ситуация была несколько иной. Ни в коей мере не будем утверждать, что отличия были кардинальными или что женщины в этот период были полноправны. Но всё же у представительниц «прекрасного пола» было, повторим, несколько больше возможностей проявить себя в общественной жизни. Разумеется, речь здесь идет не обо всех женщинах, а только о тех, которые принадлежали к аристократической элите
[64].
Выдающаяся французская исследовательница Николь Лоро
[65] предлагает убедительную трактовку причин сдвигов в гендерной ситуации. В аристократическом обществе для определения места индивида в иерархии статусов единственным по-настоящему важным критерием был критерий социальный: знатен индивид или не знатен. Половым (а также и возрастным) различиям придавалось куда меньшее значение.
После установления демократии в конце VI века до н. э. социальной иерархии юридически уже не существовало (на практике она какое-то время еще проявлялась, но всё в меньшей и меньшей степени, и примерно через столетие окончательно сошла на нет). Евпатрид и простолюдин по объему своих прав были отныне равны. Однако потребность в иерархическом структурировании общества не отпала (очевидно, эта потребность коренится в достаточно глубинных ментальных структурах), и создалась иерархия совсем иного рода, на вершине которой стояли мужчины-граждане (знатные или незнатные — теперь уже не имело принципиального значения), составлявшие демос, гражданский коллектив.
А более низкое положение в иерархической структуре нового типа занимали другие статусы, отличные от статуса мужчин-граждан. Помимо метэков, рабов и т. п., о которых здесь речь, разумеется, не идет, в число этих статусов входили и женщины. В том же словосочетании «знатная женщина» теперь сместились акценты: в условиях демократии социальный компонент «знатная» отходил на второй план, а на первый решительно выдвигался гендерный компонент «женщина».
В чем конкретно выражалась возможность женского влияния в обществе архаической Греции (постольку, поскольку эта возможность существовала)? Здесь придется углубиться в сферу матримониальных (то есть брачных) отношений.
С течением времени само отношение греков к браку и к месту женщины в нем претерпевало весьма серьезные изменения. Если сравнить в данном контексте ту картину, которую встречаем в гомеровском обществе (это, усредненно говоря, VIII век до н. э.), и ту, которая имела место в классическом афинском полисе, они окажутся едва ли не противоположными. В первом случае жених дает выкуп родителям невесты, чтобы получить ее в жены. Во втором случае — всё наоборот: родители невесты, как мы уже знаем, дают вместе с ней жениху приданое
[66]. Девушку, не имевшую приданого, выдать замуж было весьма непросто, и уж во всяком случае достойное брачное партнерство ее не ожидало.
Просто-таки бросается в глаза различная позиция невесты в двух описанных ситуациях. У Гомера, в описанном им аристократическом мире, невеста — предмет желания; в каком-то отношении, конечно, вещь, которая «покупается», но всё же вещь дорогая, ценная, и за нее щедро платят. Как нам кажется, в прямой связи с подобной практикой стоят образы гомеровских женщин: Елены и Клитемнестры, Пенелопы и Навсикаи… Это зачастую сильные характеры, они знают себе цену. Женщины и даже девушки в «Илиаде» и «Одиссее» наделены относительной свободой. Достаточно вспомнить эпизод с царевной Навсикаей, которая вместе со своими служанками (без всякого сопровождения мужчин!) отправляется к морю стирать белье и там встречается с Одиссеем, вынесенным на берег после кораблекрушения. В классической Греции подобный эпизод — незамужняя девушка, оставленная без присмотра и вступающая в контакт с незнакомым мужчиной — был бы просто заведомо невозможен. В классическом полисе невеста — уже не ценность, а, напротив, некое «бесплатное приложение» к приданому; именно это последнее преимущественно принимается во внимание, когда идет речь о заключении брака.
Весьма интересен в аристократических полисах феномен так называемых «политических браков». Знатные роды, желая установить между собой дружественные отношения или, скажем, помириться после долгой вражды, чаще всего скрепляли свой союз брачными узами. Пока аристократы играли видную роль в общественной жизни, «политические браки» постоянно практиковались как на внутриполисном, так и на межполисном уровне. Свидетельствами о них изобилует источники, повествующие о событиях VII–VI веков до н. э. — времени, когда жила Сапфо. Особенно информативен в данном отношении Геродот; именно из его «Истории» мы приведем несколько рельефных примеров.
В 571 году до н. э. тиран города Сикиона Клисфен, весьма известная личность своего времени, крупный военачальник и победитель в Олимпийских играх, объявил своеобразный конкурс за руку своей дочери Агаристы: пригласил молодых аристократов со всех концов греческого мира, в течение целого года устраивал между ними различные состязания, оценивал и в конце концов остановил свой выбор на афинянине Мегакле из рода Алкмеонидов (
Геродот. История. VI. 126–130). Весь этот эпизод несет на себе отпечаток еще абсолютно «гомеровского» духа: «золотая» молодежь охотно и ревностно борется за то, чтобы заполучить завидную невесту.
Другой знатный афинянин, соперник только что упомянутого Мегакла, в конечном счете одержавший над ним победу и ставший тираном Афин, — Писистрат
[67] — был женат трижды. О первой его супруге ничего не известно, кроме того, что она являлась тоже афинянкой (источники не называют даже ее имя). Второй его женой была Тимонасса, знатная гражданка Аргоса, которая, как специально отмечается
(Аристотель. Афинская полития. 17. 3), ранее была замужем за одним из представителей разветвленного тиранического рода Кипселидов. Это, между прочим, сам по себе достойный внимания факт: знатные женщины порой как бы «переходили» от членов одной аристократической фамилии к членам другой.
Перипетии этих двух браков Лисистрата для нас остаются в тени. Более всего известен и интересен его третий брак
[68] — с Кесирой
[69] из рода Алкмеонидов. О нем подробно сообщает тот же Геродот
(Геродот. История. I. 60–61). Вскоре после того, как Писистрат в 560 году до н. э. захватил тираническую власть, его противники свергли и изгнали его. Однако некоторое время спустя Мегакл по политическим соображениям решил примириться со своим бывшим врагом и «…послал вестника к Писистрату. Он предложил ему свою дочь в жены, а в приданое — тиранию». Писистрат согласился; было организовано его торжественное возвращение в Афины, после чего он «по уговору с Мегаклом взял в жены его дочь. Но так как у него были уже взрослые дети, а род Алкмеонидов, к которому принадлежал Мегакл, как считали, был поражен проклятием, то Писистрат не желал иметь детей от молодой жены и потому общался с ней неестественным способом. Сначала жена скрывала это обстоятельство, а потом рассказала своей матери (в ответ на ее вопросы или же по собственному почину), а та — своему мужу». Мегакл, разгневавшись, вновь поссорился с Писистратом, что повело ко второму изгнанию последнего
[70]. В данной ситуации гендерное поведение двух женщин — самой Кесиры и ее матери, уже знакомой нам Агаристы, — их реакция на девиантные сексуальные действия Писистрата (в чем конкретно заключалось в данном случае отклонение от нормы — здесь не место разбирать; отметим лишь, что вопрос сложнее, чем может показаться на первый взгляд
[71]) фактически стали толчком к государственному перевороту.
С помощью «политических браков» формировались и распадались коалиции аристократических родов, лежавшие в основе политических группировок. Можно ли считать роль женщин в таких браках целиком пассивной? Несмотря на то, что выбирающей стороной в подавляющем большинстве случаев были не они (случай с дочерьми Каллия — исключение, лишь подтверждающее правило), все-таки на поставленный вопрос должен быть дан скорее ответ «нет». Женщины могли содействовать заключению или разрыву союза (этот тезис был проиллюстрирован выше эпизодом с Писистратом, Кесирой и Агаристой). Не следует списывать со счетов и влияние, которое женщины могли оказывать на мужей-политиков в повседневной жизни.
Вот, например, свидетельство, относящееся к другому аристократическому политику начала V века до н. э. — Фемистоклу
[72]: «Сын Фемистокла своими капризами заставлял мать исполнять все его желания,
а через нее и отца. Фемистокл, подсмеиваясь над этим, говорил, что его сын самый сильный человек в Элладе, потому что эллинам дают свои повеления афиняне, афинянам — он сам,
ему самому — мать его сына, а матери — сын»
(Плутарх. Фемистокл. 18; курсив наш).
Фемистокл, как известно, отличался цинизмом и откровенно говорил то, о чем обычно в обществе принято умалчивать. Можно предположить, что и в данном случае у него было «на языке» то, что «на уме» было у многих. Обратим внимание на несколько интересных нюансов процитированного отрывка. Во-первых, как видим, сын Фемистокла мог влиять на отца не непосредственно, а только через мать. Очевидно, ребенку не было еще семи лет: до этого возраста, то есть до начала получения образования, дети содержались в гинекее на попечении матери, а отец с ними практически не общался. Во-вторых, не может не броситься в глаза, что Фемистокл здесь называет свою супругу не супругой, а матерью его сына! Это тоже многое объясняет: видимо, влияние жен на мужей — в той мере, в какой о нем можно говорить, — обусловливалось не статусом жены как таковой, а статусом матери законного сына. Иными словами, ради сына жена Фемистокла могла просить своего мужа о многом; но если бы она стала просить его о чем-то не для сына, а для себя самой, то вряд ли встретила бы такое же понимание.
Всё сказанное выше о «политических» браках относится, подчеркнем, исключительно к представительницам аристократической элиты. А незнатным женщинам какой бы то ни было путь в политику, прямой или косвенный, был закрыт в принципе даже и в архаическую эпоху, не говоря уже о классической. Сапфо
была аристократкой. Но, впрочем, политикой интересовалась мало. Однако не то чтобы совсем находилась вне этой сферы. Смуты, потрясавшие Лесбос в ее эпоху — о них еще пойдет речь ниже, — не могли не отразиться и на ее судьбе. Как мы увидим, из-за этих смут поэтессе (точнее, будущей поэтессе) в какой-то момент даже пришлось покинуть родной остров.
* * *
Подведем итоги данной главе — самой общей по своей тематике из всех, что есть в этой книге. Сапфо жила в архаической (а не в классической) Греции, прежде тех времен, когда родилась демократия. И поэтому — именно поэтому! — она, несомненно, пользовалась относительной свободой. Родись она века на полтора позже, да и к тому же не на Лесбосе, а в Афинах, — мир не знал бы поэтессы Сапфо. Как многое в истории человеческой культуры все-таки зависит от случайностей… Впрочем, автор этих строк не верит в случайности и в их «живительную силу». Мы глубоко убеждены, что так называемые случайности — на самом деле просто пока не познанные закономерности.
ЭПОХА ЛИРИКИ И ЛИРИКОВ
Теперь вопрос следует поставить так: почему первая и величайшая поэтесса античности творила именно в архаическую эпоху истории Древней Греции (а эпоха эта, напомним, датируется VIII–VI веками до н. э.)? И тут перед нами — тоже не случайность, а закономерность.
Именно в архаическую эпоху у эллинов появляется литература. По той простой причине, что именно тогда у них впервые возникает алфавитная письменность (самая ранняя древнегреческая надпись датируется рубежом IX–VIII веков до н. э.
[73]). А пока нет письменности — по вполне понятным причинам нет и литературы, а есть только устное народное творчество, фольклор.
Литература органично вырастает из фольклора. С этим обстоятельством, вне всякого сомнения, связан тот факт, что первые литературные памятники — это памятники поэзии. Да и на протяжении почти всей архаической эпохи поэтические жанры всецело доминируют в сфере словесности. Только в период поздней архаики у греков начинает появляться первая проза: юридическая (тексты древнейших законов), философская (трактаты самых ранних из досократиков), протоисторическая (сочинения мифографов и генеалогов). Но от этой прозы дошли настолько жалкие остатки, что их подчас невозможно полноценно анализировать. И, как бы то ни было, годы, в которые жила Сапфо, — это совершенно точно годы, когда не было еще литературной прозы.
Полагаем, что данный феномен характерен для всех или почти всех цивилизаций, когда-либо существовавших в истории (во всяком случае, для цивилизаций «первичных», а не «вторичных», то есть возникавших на периферии более крупных и под их определяющим влиянием). Задумаемся: шумеро-аккадский «Эпос о Гильгамеше» и индоарийские «Веды», англосаксонский «Беовульф» и скандинавская «Старшая Эдда», французская «Песнь о Роланде» и былины о богатырях Киевской Руси — всё это памятники поэзии, отнюдь не прозы: Примеры можно было бы множить и множить…
Причина же этого заключается именно в том, что, повторим, литература вырастает из фольклора. А в области фольклора, несомненно, главным, ведущим жанром является песня — прообраз любой поэзии. Были у тех же греков (как и у всех народов), несомненно, и не-песенные фольклорные произведения — сказки, загадки, пословицы, да отчасти и мифы можно отнести к той же категории (хотя нередко они подавались в стихотворной форме).
Но в самом начале песенный жанр безусловно главенствовал. Песня, вообще говоря, играла огромную роль в культуре древнейших обществ; именно она-то и была колыбелью литературы как таковой. Главным элементом песни, как известно, является ритм; с помощью ритма человек, как мог, упорядочивал хаос повседневной жизни, превращал его в стройный, организованный мир (космос, как выражались греки).
В Элладе, как и где угодно, песен было бесчисленное количество, и они отличались чрезвычайным разнообразием. Всё зависело от исполнителей и от ситуации. Свои песни были у работающих, свои — у воинов, свои — у детей… Особенно много было культовых, обрядовых песен, исполнявшихся в разные моменты религиозной жизни общества. На свадебной процессии пелся гименей, или эпиталамий (выше уже цитировался один эпиталамий, сочиненный Сапфо, в дальнейшем мы познакомимся с некоторыми другими), на похоронах — трен (плач). К божествам обращались с особыми песнопениями — гимнами. Специальные песни существовали для различных празднеств календарного цикла (таких как праздники сбора урожая, выжимания винограда или, скажем, наступления весны).
Из песен-то и родилась литературная поэзия как таковая; далее мы увидим, что она еще долго после своего появления большей частью не читалась вслух (и уж тем более «про себя»). Техникой чтения «про себя», то есть чисто глазами, без участия голоса, античные греки вообще не пользовались
[74], как ни парадоксально для нас может это прозвучать. Обычно читали, собравшись группой: кто-нибудь один из ее состава брал на себя роль чтеца и, держа в руках папирусный свиток (именно такую форму имели тогда книги), оглашал его содержание, а остальные слушали. По мере того как чтец уставал, его могли сменять другие. Но даже если эллин читал «наедине с собой» — то всё равно, как правило, читал вслух.
Так поступали с прозой. Стихи же, повторим, в принципе не читали, не декламировали, а именно пели — под аккомпанемент какого-нибудь музыкального инструмента. В некоторых случаях — как бы полупели, то есть плавно и мерно, речитативом выговаривали стихотворение — слово за словом, строку за строкой. Но уж Сапфо-то, как представительница мелики (то есть песенной лирики; подробнее об особенностях этого жанра будет рассказано ниже), совершенно точно представляла свои произведения слушателям (в основном, конечно, слушательницам) посредством пения. Собственно, то, что мы называем стихами Сапфо, это, если выражаться максимально верно, песни Сапфо (за редкими исключениями).
Кстати, выше уже цитировалось несколько памятников древнегреческой поэзии. И внимательный читатель, вероятно, обратил внимание на интересный нюанс: в них не встречается рифма! Это не случайность; не то чтобы мы до сих пор выбирали какие-то исключения. Это норма: поэты античности действительно не обращались в своем творчестве к рифме.
Вот и опять вещь, для человека нашего времени совершенно непривычная и едва ли не абсурдная. Мы-то считаем само собой разумеющимся, что именно рифмой, а не чем-то иным, поэзия отличается от всего остального. А «всё остальное» — это проза (в том числе и наша повседневная речь; вспомним удивление заглавного героя мольеровской комедии «Мещанин во дворянстве», от кого-то узнавшего, что он… говорит прозой).
Не удержимся от того, чтобы процитировать Владимира Маяковского. Он отнюдь не принадлежит к числу любимых литераторов автора этих строк, но в «Разговоре с фининспектором о поэзии» дал довольно чеканные формулировки:
Вам,
конечно, известно явление рифмы.
Скажем,
строчка
окончилась словом
«отца»,
и тогда
через строчку,
слога повторив, мы
ставим
какое-нибудь:
ламцадрица-ца́.
Говоря по-вашему,
рифма —
вексель.
Учесть через строчку! —
вот распоряжение.
И ищешь
мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
склонений
и спряжений…
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
Взрывается строчка, —
и город
на воздух
Одним словом, для нас поэзия и рифма неразрывно связаны. Бывают, конечно, «белые», нерифмованные стихи. Но они и воспринимаются как необычное и именно поэтому интересное исключение. А вот поэты Древней Греции и Рима обходились без рифмы.
Иной раз приходится даже слышать, что-де античность не знала рифмы, еще не изобрела ее. Это не так. Феномен рифмы — то есть, собственно, созвучные окончания определенных отрезков литературной речи — был вполне известен эллинским писателям и читателям (его называли
гомеотелевт, что и означает «схожее окончание»). Но, что интересно, применялся он не в поэзии, а в прозе, особенно ораторской. Снова совершенно чуждый нашему времени факт: рифмованная проза казалась бы нашему уху совершенно неестественной. А стихотворцам, как ни странно, рифма казалась каким-то чересчур «приниженным», что ли, приемом, не гармонирующим с задачами высокой поэзии.
И античное поэтическое искусство, соответственно, зиждилось
не на рифме, а на ритме — на разнообразных сочетаниях стихотворных размеров (или, как их тогда называли,
метров)[76]. Что такое стихотворный размер — всякий понимает, это «проходится» еще в средней школе на уроках литературы. В современной поэзии размеров пять: ямб, хорей (двусложные), дактиль, амфибрахий, анапест (трехсложные). Названия всех пяти — древнегреческие по происхождению, порой поддающиеся буквальному переводу. Например, дактиль (ударный слог, за ним два безударных, скажем,
о́-зе-ро) — «палец» (посмотрите на указательный палец своей левой руки и увидите: первая фаланга длинная, вторая и третья — короче). Амфибрахий (безударный слог, ударный, вновь безударный, скажем,
хо-ро́-ший) — «обоюдократкий» (то есть краткие слоги окружают долгий).
«Краткий», «долгий» — здесь неспроста звучат эти слова. Если при классификации нынешних стихотворных размеров исходят из противопоставления ударных и безударных слогов, то в античности принималось во внимание не это, а слоги долгие и краткие. Дело в том, что и у древних греков, и у римлян гласные звуки различались по долготе/краткости, что не совпадало с ударной или безударной позицией. Нам, говорящим по-русски, это совсем уж трудно понять, а вот англоязычный читатель понял бы без проблем: в английском гласные тоже бывают долгими и краткими.
Итак, все пять ныне употребляющихся стихотворных размеров имеют древнегреческое происхождение, что ясно уже из их названий. Но в античности количество размеров было многократно бо́льшим. Многие из них просто не могут быть адекватно воспроизведены в русском переводе. Простейший пример —
спондей, метр, состоящий из двух долгих слогов. По логике, переводиться спондей должен двумя ударными слогами подряд. Однако в современной языковой практике такое случается редко; а главное — два ударных слога подряд наше ухо не воспримет как стихотворный размер.
Вернемся к вопросу о происхождении античной поэзии из песенного фольклора. Из его обширного круга наибольшую будущность имели
эпические песни, повествовавшие о славных деяниях великих героев легендарного прошлого. Эти песни исполняли на пирах аристократов
аэды — странствующие певцы-сказители. О них многое сообщает нам Гомер, — а он ведь и сам был аэдом, стало быть, знал, о чем рассказывает. В его изображении аэды — почтенные седые старцы, часто слепые (считалось, что слепота способствует поэтическому вдохновению), под аккомпанемент лиры услаждающие присутствующих своими песнопениями. Вот, например, описанный Гомером аэд Демодок:
Муза его при рождении злом и добром одарила:
Очи затмила его, даровала за то сладкопенье.
Стул среброкованый подал певцу Понтоной, и на нем он
Сел пред гостями, спиной прислоняся к колонне высокой.
Лиру слепца на гвозде над его головою повесив,
К ней прикоснуться рукою ему — чтоб ее мог найти он —
Дал Понтоной, и корзину с едою принес, и подвинул
Стол и вина приготовил, чтоб пил он, когда пожелает…
Муза внушила певцу возгласить о вождях знаменитых,
Выбрав из песни, в то время везде до небес возносимой,
Повесть о храбром Ахилле и мудром царе Одиссее…
(Гомер. Одиссея. VIII. 63 слл.)
Кстати, на примере процитированного отрывка легко увидеть, что представлял собой стихотворный размер, всегда употреблявшийся греками именно в эпической поэзии, —
гекзаметр. Он состоял из шести стоп: первые пять — дактили, шестая — хорей (трохей). Притом каждая из этих стоп могла заменяться спондеем. Гекзаметр — величавый, торжественный размер; его длинные строки мерно, плавно сменяют друг друга, подобно набегающим одна за другой волнам морского прибоя…
Каждый аэд хранил в памяти огромное количество песен о героях. При этом сказители, конечно, импровизировали
[77]; поэтому даже одна и та же песня всякий раз звучала несколько по-иному. В сущности, процесс исполнения в какой-то степени совпадал с процессом сочинения, как всегда и бывает во времена устного народного творчества, когда нет еще записанных, то есть зафиксированных в окончательной и неизменной форме, текстов литературных сочинений.
Со временем отдельные песни о героях начали связываться в циклы, а циклы — в большие эпические поэмы. «Илиада» и «Одиссея» Гомера — время их создания относят к VIII веку до н. э. — были, возможно, первыми среди таких поэм. И уж во всяком случае лучшими, а также и самыми знаменитыми. Но существовали и другие произведения аналогичного жанра. Как раз в это время появилась алфавитная письменность, и гомеровские поэмы, судя по всему, были сразу же записаны, превратившись, таким образом, из факта фольклора в факт литературы, древнейшими литературными памятниками в истории Европы.
Темы свои героический эпос черпал исключительно из мифов. Так, сюжеты «Илиады» и «Одиссеи» взяты из мифологического цикла о Троянской войне. Существовала и другая разновидность эпоса, возникшая, похоже, несколько позже. Это — эпос дидактический (поучительный), сформировавшийся на основе пословиц и прочих афоризмов житейской мудрости. Его крупнейшим представителем был поэт Гесиод, живший на рубеже VIII–VII веков до н. э. Именно его надлежит считать первой твердо установленной личностью в истории греческой литературы. В отличие от полулегендарного Гомера, о котором не известно ровно ничего (в античности, как известно, семь городов спорили о том, в каком из них он родился, а ныне ученые спорят о том, существовал ли такой человек вообще, написаны ли «Илиада» и «Одиссея» одним лицом или разными, и т. п.
[78]), о биографии Гесиода мы кое-что знаем. Он был зажиточным крестьянином из области Беотии, а на досуге занимался сочинением стихов.
Поэмы Гесиода по размеру намного меньше гомеровских. Особенно прославились его «Труды и дни» — произведение, представляющее собой стихотворный кодекс нравственных правил и хозяйственных наставлений земледельцу. Если «мир Гомера» — это мир героев-аристократов, чья жизнь состоит из кровавых битв, пиров, атлетических состязаний, то «мир Гесиода» совсем иной: перед нами картины мирной сельской жизни. Мирной, но отнюдь не благостной: жизнь эллинского крестьянина, наполненная постоянным тяжким трудом, была в какой-то степени борьбой за выживание.
Но об эпосе мы в этой книге подробно говорить не будем: ведь не в этом жанре писала Сапфо. По мере того как мы приближаемся к ее временам, вырисовывается важное и интересное обстоятельство. Если на протяжении первой половины архаической эпохи эпос решительно и, можно сказать, безраздельно преобладал в области поэзии, то примерно с середины VII века до н. э. ситуация радикально изменилась. Эпос не то чтобы исчез, но резко отодвинулся на второй план, а на первый выдвинулась лирика, как раз тогда впервые появившаяся. Не случайно видный специалист по античной истории и литературе Э. Берн назвал свою книгу, посвященную второй половине эпохи архаики, «Лирический век Греции»
[79].
* * *
В чем принципиальные различия между поэзией эпической и лирической? Главное даже не в том, что первая предполагает произведения достаточно крупного размера, поэмы, а вторая — в основном небольшие стихотворения.
Эпос, особенно героический, повествователен и, так сказать, объективен. Иными словами, автор эпического сочинения как бы отстранен от описываемых им событий, изображает их «со стороны». В поэмах Гомера мы не найдем самого Гомера, его личности. А в лирике, наоборот, авторское «я» — на первом месте. Творчество лирических поэтов в несравненно большей степени допускает и даже предполагает проявление индивидуальных чувств, суждений, устремлений… Соответственно, куда больше у них и субъективизма. Сюжет же, то есть повествовательный элемент, как раз совершенно не обязателен (хотя и вполне возможен).
Вне всякого сомнения, переход от эпоса к лирике напрямую связан с развитием личностного самосознания по мере эволюции общества и цивилизации. Но одним лишь этим всё не объяснить: уж слишком стремительной была перемена, в результате которой VII–VI века до н. э. стали временем наивысшего расцвета древнегреческой лирики вообще.
Здесь, думается нам, сыграло определенную роль еще и такое обстоятельство, как ярко выраженный аристократический характер эллинского полиса архаической эпохи. Причем аристократизм этот чем дальше, тем больше нарастал и к концу периода достиг, пожалуй, своего апогея. Если вдуматься, лирическая поэзия — жанр аристократичный по определению, очень тонкий как по форме, так и по содержанию. Произведения такого рода не назовешь общедоступными; их создают «избранные» и «для избранных». Не случайно, наверное, что величайшие мастера русской лирики «золотого» XIX века все как один принадлежали к знатной элите. Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Фет… Даже и Некрасов был дворянином, а не разночинцем.
Ровно то же самое, — полагаем, даже в большей степени — можно сказать о лириках греческой архаики. Практически все их крупнейшие представители — аристократы. Это, кстати, отличает их от предшественников — аэдов «эпического» века. Те знатью не являлись. О Гесиоде-крестьянине мы уже знаем; относительно Гомера судить труднее, но нет ровно никаких свидетельств в пользу того, что «великий слепец» (если его вообще можно считать реальной личностью — о спорах по этому вопросу уже упоминалось) обладал знатным происхождением. Да и трудно представить, чтобы аристократ пошел в рубище и с лирой «по градам и весям» добывать себе на хлеб насущный песнями о героях…
Сообщается, правда, об эпическом поэте Евмеле из Коринфа (жившем в VIII веке до н. э.), который вроде бы происходил из знатнейшего рода Бакхиадов. Даже если это так (о Евмеле чрезвычайно мало сведений, сочинения его не сохранились
[80]), — все-таки исключения ведь не отменяют правило. У архаических аристократов имелось немало более свойственных им занятий: те же войны, пиры, состязания… И конечно же политика.
Многие из великих лириков Эллады, кстати, были видными политиками, принимали активное участие в государственной жизни, а на сочинение и чтение стихов смотрели как на форму времяпрепровождения на досуге, не более того. В высшей степени характерно, что лирическая поэзия архаической эпохи (во всяком случае, многие ее формы) была теснейшим образом связана с феноменом симпосия.
В начале книги уже пояснялось, что симпосиями назывались веселые дружеские пирушки. Если говорить совсем уж точно, симпосий был отделен от пира как такового (то есть от принятия пищи), следовал за ним. После того как хозяин с гостями заканчивали есть (а ели, возлежа на ложах, — такой был у греков обычай), рабы уносили столы с остатками пиршества, а затем сервировали новые, причем на сей раз только вином и посудой для его употребления. Присутствовавшие тем временем молились богам (прежде всего Дионису, поскольку теперь предстояло приступать именно к его «плодам»), а затем возвращались на свои места, и начиналась, так сказать, вторая часть мероприятия, по отношению к которой первая — собственно ужин — фактически становилась неким предварением.
Вот как рассказывает об этом обычае Платон, описывая дружескую встречу нескольких афинских аристократов (в числе которых был Сократ) дома у драматурга Агафона. Последний накануне одержал победу на театральных состязаниях и по этому поводу праздновал с друзьями вот уже второй день подряд.
«После того как… все поужинали, они совершили возлияние, спели хвалу богу, исполнили всё, что полагается, и приступили к вину. И тут Павсаний (один из гостей. —
И. С.) повел такую речь.
— Хорошо бы нам, друзья, — сказал он, — не напиваться допьяна. Я, откровенно говоря, чувствую себя после вчерашней попойки довольно скверно, и мне нужна некоторая передышка, как, впрочем, по-моему, и большинству из вас: вы ведь тоже вчера в этом участвовали; подумайте же, как бы нам пить поумереннее…
Все сошлись на том, чтобы на сегодняшнем пиру допьяна не напиваться, а пить просто так, для своего удовольствия.
— Итак, — сказал Эриксимах (еще один из участников симпосия, врач. —
И. С.), — раз уж решено, чтобы каждый пил сколько захочет, без всякого принуждения, я предлагаю отпустить эту только что вошедшую к нам флейтистку, — пускай играет для себя самой или, если ей угодно, для женщин во внутренних покоях дома, а мы посвятим сегодняшнюю нашу встречу беседе» (
Платон. Пир. 176 а — е).
И собравшиеся начинают знаменитый, глубоко философский разговор о любви — тот самый, который и составляет главное содержание диалога Платона «Пир», одного из самых утонченных шедевров древнегреческой мысли. Отметим, кстати, что, хотя в русских переводах это произведение обычно озаглавливается «Пир», в оригинале его название — именно «Симпосий». А это, как мы видели, не вполне одно и то же.
В приведенной цитате бросается в глаза интересная особенность: если рассуждать «от противного», то получается, что обычно-то на симпосиях как раз крепко напивались. Если в обычных условиях эллины, как известно, пили вино, разбавленное водой (для этой операции служили особые сосуды —
крате́ры) в пропорции примерно 1:3 или 1:2, что делало получающийся напиток совсем слабоалкогольным, то для праздничной обстановки симпосия могли делать исключение: вино разливалось по киликам (кубкам, или чашам для питья) чистым.
Думаем, нелишним будет также пояснить смысл выражения «совершили возлияние», употребленного Платоном. Дело в том, что к нашим дням оно полностью изменило свое значение, и ныне, когда говорят «совершить возлияние», фактически употребляют эвфемистическую метафору глагола «выпить» (понятно, чего выпить). Отнюдь не так было в античности. В тогдашнем понимании возлияние — одна из форм почитания богов, подвид жертвоприношения. Но если в процессе обычных жертвоприношений закалывался домашний скот и его мясо сжигалось на очаге, то при возлияниях пользовались различными жидкостями. В огонь очага лили вино, мед, молоко… В данном случае, очевидно, вино, поскольку, судя по всему, возлияние совершалось в честь Диониса.
Вернемся к общему содержанию симпосия. Разумеется, тот, который описывает Платон, представляет собой исключения: в пиршественной зале собрались интеллектуалы, охотно готовые порассуждать о самых высоких материях. В норме же, конечно, на симпосиях звучали не столько философские споры, сколько музыка и песни (вспомним о приглашенной флейтистке, которую отпускают — но только ради особого случая). Вот тут-то и наступало самое подходящее время для поэзии, которая, как мы уже знаем, была неразрывно связана с пением.
Как бы то ни было, симпосий являлся для греческих аристократов (а он был востребован почти исключительно именно в знатных слоях общества) важнейшей формой досуга, культурного общения. Именно культурного! Он нимало не напоминал привычные нам буйные попойки, завершающиеся нередко невменяемым состоянием гостей, ссорами, драками или, как говорится, «лицом в салате». Эллины, народ с колоссальным чувством меры, проявляли это чувство даже и в самом питии. Вот блестящее описание симпосия, сделанное поэтом-лириком и философом Ксенофаном (VI век до н. э.):
Чист ныне пол, и руки у всех, и килики чисты.
Кто возлагает венки свитые всем вкруг чела,
Кто благовонное миро протягивает в фиале,
Доверху полный кратер с увеселеньем стоит.
Есть и еще наготове вино — отказа не будет —
В амфорах, сладко оно, благоухает цветком.
А посредине ладан святой аромат источает,
Есть наготове вода — хладна, сладка и чиста…
Жертвенник, весь утопая в цветах, стоит посредине,
Пеньем охвачен весь дом и ликованьем гостей.
Надобно бога сперва воспеть благомысленным мужам
В благоговейных словах и непорочных речах,
А возлиянье свершив и молитву, да правду возможем,
А не грехи совершать — так-то ведь легче оно —
Можно и выпить, но столько, чтоб, выпив, самим воротиться
Без провожатых домой, коли не очень-то стар.
Тот из мужей достохвален, кто, выпив, являет благое:
Трезвую память свою и к совершенству порыв.
Не воспевать сражений титанов или гигантов,
Иль кентавров — сии выдумки прежних времен —
Или свирепые распри, в которых вовсе нет проку,
Но о богах всегда добру заботу иметь.
(Ксенофан. фр. В 1 Diels — Kranz)
Многое пелось, говорилось, рассказывалось на симпосиях. В числе прочего делалась на них и политика. Алкей — земляк, современник и, несомненно, знакомый Сапфо — обсуждал с сотоварищами свои заговоры, направленные на государственный переворот, именно на таких вот дружеских пирушках. А в какие игры там играли! Например в коттаб: нужно было вином из своего килика как можно точнее плеснуть в какую-нибудь мишень. «Вином? Плескать? Вместо того чтобы выпить его?!» — гневно восстанут многие суровые жители России (все же мы помним реплику героя Юрия Никулина в «Операции “Ы”»: «Разбить? Поллитру? Да я тебя…»). Но Греция была на редкость богата виноградом…
О симпосиях можно было бы рассказывать долго и интересно
[81], но мы не будем этого делать. По той простой причине, что к нашей героине они ровно никакого отношения не имели. На симпосии собирались мужчины — граждане того или иного полиса, — и уж жен своих с собой они точно не звали. Мини-копия полиса, «мужской клуб»… Если не считать, конечно, пресловутых флейтисток и танцовщиц. Сапфо к таковым не относилась; соответственно, она на симпосиях не присутствовала и стихов для них не писала.
Вернемся к лирике. В классическую эпоху (V–IV века до н. э.), которая пришла на смену архаической, лирика постепенно сошла на нет, повторив судьбу эпоса. А почему? Классическая эпоха характеризовалась решительной демократизацией политической жизни в большинстве полисов. На первое место в Греции выдвинулась афинская демократия — самая радикальная из всех, какие только можно представить для античных условий
[82]. Афины и в культурной сфере начали диктовать всем свою моду.
И на смену лирике пришла возникшая в Афинах драма — жанр воистину общенародный. Афинский театр вмещал до 17 тысяч зрителей; потом появились театры и побольше. Тут уж были не посиделки небольших групп аристократов, на которых автор стихов мог в этих своих стихах позволить себе изрядную толику личного и даже интимного; тут автор-драматург был просто обязан возвещать зрителям (посредством актеров, которых сам же он, как правило, и обучил, выступая в качестве режиссера) некие вечные истины, понятные каждому. Так и делалось.
* * *
Получается, что лирика у греков — посередине между эпосом и драмой (в хронологическом плане). Но какой блистательной была ее судьба! За короткий промежуток времени в поэзии появилось целое созвездие воистину крупных имен. Основные из этих авторов обязательно должны быть нами упомянуты и охарактеризованы. Во-первых, потому, что это подлинный «круг Сапфо»; нам не будет полностью ясна историко-культурная роль великой поэтессы, если мы не будем представлять — хотя бы в первом приближении — тот фон, на котором она работала.
Во-вторых, сказать о великих лириках нужно и потому, что им не повезло, и они, как ни прискорбно, ныне малоизвестны. Если эпика Гомера знают все, то о лириках Архилохе или Анакреонте слышала лишь какая-то часть читателей этой книги. А уж если мы назовем Алкмана или Симонида — то эти имена и вовсе окажутся знакомыми, опасаемся, только специалистам. А при всём том это — великие имена, не уступающие по своему масштабу Петрарке или Гёте, Пушкину или Тютчеву…
Главная причина малой известности архаических греческих лирических поэтов — чрезвычайно плохая сохранность их сочинений. Основным писчим материалом в Древней Греции был папирус, привозившийся из Египта. Папирус изготовлялся из стеблей одноименного растения. Стебли разрезались на тонкие полосы, которые складывались между собой и
склеивались. Папирусные книги имели форму свитков. Во II веке до н. э. в связи с дороговизной папируса был изобретен второй важный материал для письма — пергамент (особым образом обработанная телячья кожа); тогда же появилась и современная форма книги (с обложкой, страницами, которые можно перелистывать, и т. п.) — кодекс.
Конечно, писали греки и на более прочных материалах. Надписи высекались на каменных плитах, процарапывались на глиняных черепках, отчеканивались на монетах. Большое количество таких надписей найдено по всему Средиземноморью и за его пределами. Но почти все они по понятным причинам очень кратки; в основном это документы — законы, договоры, надгробные эпитафии и т. п. Философский трактат или сборник стихотворений на мраморе не особо-то выбьешь.
И папирус, и пергамент куда долговечнее нашей бумаги (от бумажных книг, которые мы ныне пользуемся, через две тысячи лет не останется и трухи), но неумолимое время не пощадило и их. Подавляющее большинство античных свитков и кодексов безвозвратно погибло. Лишь в долине Нила время от времени археологи обнаруживают в ходе раскопок обрывки папирусов — не только с древнеегипетскими, но и с греческими письменами. Порой среди этих бесценных находок мелькнет и клочок, на котором удается прочесть несколько строк из стихотворения того или иного лирика.
Но это, конечно, исключения. В основном же те произведения эллинских авторов, которыми располагает современная наука, сохранились только благодаря тому, что их переписывали любители словесности уже в послеантичное время, в основном в Византии — средневековой греческой державе. Соответственно, эти памятники дошли до нас не в оригиналах, а в более поздних (то есть датирующихся именно Средними веками) копиях. И мы должны быть благодарны византийским эрудитам, зараженным страстной любовью к своему прошлому, к его культурному наследию и не желавшим, чтобы оно «кануло в Лету»
[83]. И ради этого трудившихся, трудившихся в скрипториях…
Среди таких энтузиастов имелись как светские, так и духовные лица. Вторых, пожалуй, было больше: в монастырских условиях легче создать мастерскую переписчиков. Особо следует отметить деятельность Фотия, патриарха Константинопольского (IX век)
[84] — человека непревзойденных для своего времени образованности и интеллекта, одной из центральных фигур культурной истории Византии. В частности, по его инициативе в Константинополе был организован первый в Европе университет; сам же патриарх и стал первым главой этого заведения.
Фотий, коль скоро уж о нем зашла речь, играл выдающуюся роль также и в религиозно-политической жизни своего бурного и напряженного времени. Его стараниям следует приписать такие события церковной истории, как принятие христианства болгарами, миссия Константина (Кирилла) и Мефодия в Моравию, плодами которой стали создание славянской азбуки — кириллицы и перевод Библии на старославянский язык. При Фотии имело место первое открытое проявление раскола между Римом и Константинополем по вопросам догматическим
(filioque) и каноническим (проблема первенства римского папы), что через пару столетий привело к окончательному разделению христианства на католицизм и православие. Соответственно, отношение к деятельности Фотия в последующие эпохи было крайне неоднозначным. Православной церковью он был канонизирован, в то время как католики считают его злостным еретиком и схизматиком.
Фотий — во всех отношениях очень яркая личность — проявлял значительную независимость, даже неуступчивость по отношению к светским властям. Из-за этого византийские императоры то отрешали его от сана и отправляли в заточение в монастырь, то опять возвращали на пост патриарха — все-таки без человека такого масштаба трудно было обойтись. Нам же Фотий интересен в первую очередь как беззаветный книголюб, не мысливший своей жизни без постоянного чтения. При своем университете он собрал огромную библиотеку. И, более того, самолично (впрочем, наверное, все-таки при участии помощников) составил ее, как теперь выражаются, «аннотированный каталог». То есть такой, в котором присутствуют не только названия книг, но и для каждой — краткое изложение содержания. Этот монументальный труд (он так и называется «Библиотека») сохранился до наших дней. Увы, имя Сапфо в нем упоминается всего лишь два раза, до и то мимоходом. Чувствуется, не слишком интересовала патриарха великая лесбосская поэтесса.
Последнее суждение, впрочем, относится не только к Фотию и не только к Сапфо. Византийские копиисты и в целом крайне мало обращались к наследию архаических лириков. Они охотно переписывали сочинения философов, ученых, ораторов. Благодаря их усилиям мы и теперь можем читать все произведения Платона и значительную часть трудов Аристотеля, трактаты «отца истории» Геродота и его «наследника» Фукидида, знакомиться с плодами изысканий «отца медицины» Гиппократа и с десятками речей выдающихся мастеров красноречия — Демосфена, Лисия, Исократа и др. Переписывали, конечно, поэмы Гомера, поскольку великий старец греками-византийцами, точно так же как и греками античными, воспринимался как «наше всё».
А вот лирические поэты как-то выпали из сферы их внимания. В результате из сочинений этих авторов (будь то та же Сапфо, ее земляк Алкей или даже «основатель лирики» Архилох) на сегодняшний день известны не целые сборники произведений, а лишь разрозненные фрагменты. Откуда такие фрагменты берутся, ярко и образно рассказал М. Л. Гаспаров
[85]. Говоря кратко, это — цитаты из интересующих нас авторов, сделанные авторами более поздними, но тоже античными (или византийскими), то есть обладавшими еще полными текстами сборников архаических стихотворцев.
Гаспаров приводит остроумный пример: представим себе, что по какой-нибудь причине в мире полностью пропали все издания сочинений Пушкина. Означает ли это, что бы остались бы без Пушкина вовсе? Нет, поскольку из учебников, хрестоматий, антологий и всяческих других книг нам удалось бы извлечь изрядную долю его литературного наследия — именно потому, что есть (и всегда был) обычай цитировать автора, о котором рассказываешь, приводить — иллюстрации ради — выдержки из его произведений. Причем отрывки, как правило, лучшие, самые характерные и выразительные.
Таким-то вот образом до нас и дошли отрывки лириков эпохи архаики, в том числе и Сапфо. Был и другой путь: через упоминавшиеся выше находки папирусов. Но папирусные фрагменты в подавляющем большинстве случаев гораздо хуже по сохранности; порядком поврежденные из-за многовекового пребывания под землей свитки древнего писчего материала содержат многочисленные лакуны, то есть испорченные (банально порванные) места, порой не подлежащие надежному восстановлению.
Почему византийские переписчики оставили «за бортом» своей работы раннюю греческую лирическую поэзию? Можно догадываться, что она, видимо, мало что им говорила. Лирика (во всяком случае, во многих своих жанрах) — достаточно злободневный род литературы. Эпос — он, как говорится, навсегда. В нем трактуются настолько вечные темы, что они еще долго и долго будут отдаваться отзвуком, даже среди совсем иных народов в совсем иные эпохи… И в XX, и в XXI веке отнюдь не забыли об осаде Трои или о странствиях Одиссея. Фильмы, снятые на эти сюжеты, ожидаемо получают хорошие кассовые сборы. Или вот хотя бы такой пример: военная операция, несколько лет назад ведшаяся рядом западных стран во главе с США против ливийского лидера Муамара Каддафи, носила официальное название «Одиссея. Рассвет». Романтично… Конечно, каждому, кто хоть что-то читал, сразу вспомнится гомеровское: «Встала из мрака златая с перстами пурпурными Эос…» Правда, натовская Эос в своих пурпурных перстах держала бомбы, но это — вопрос отдельный, которого мы здесь не касаемся.
Уже античная драма в меньшей степени, нежели античный эпос, обладает этими чертами некой «всеобщности», «всечеловечности». Но — все-таки обладает. Она тоже, пусть при некотором усилии, позволяет человеку нашего времени вдохнуть полной грудью пресловутый «ветер времен». Автор этих строк не может удержаться от того, чтобы привести здесь собственное стихотворение, посвященное «отцу трагедии»:
Эсхил
Над земною разверзнутой твердью,
Над тревожною дремой могил,
Над судьбою, над жизнью и смертью
Торжествует кудесник-Эсхил.
Так возвышенно-косноязычен
Этих ямбов прерывистый строй…
Он вещает — и глас его зычен,
Словно буря ночною порой.
Пробужденные гением к скене,
В тяжком скрежете смертных оков
Ходят, ходят усталые тени,
Ходят тени великих веков.
Слышно эхо умолкнувшей сечи,
Виден след огневого столпа…
И внимает неведомой речи
Пораженная громом толпа
[86].
Ну а лирика… Уж слишком она индивидуальна и, можно даже сказать, ситуативна. Какое, собственно, дело нам до того, что Архилох ругательски поносит отца девушки, которую он хотел взять в жены, но получил от несостоявшегося тестя отказ? До того, что Алкей с сотоварищами совещаются, как бы поудачнее совершить государственный переворот? До того, что Солон рассказывает о проведенных им в Афинах реформах? До того, что та же Сапфо нежно беседует с девушками — своими ученицами и подругами, называя в своих стихах их по именам (именно благодаря ей мы и поныне знаем, как звали этих мало чем примечательных девиц)?
Вот точно так же и византийским эрудитам, которые, не будем забывать, сами жили через этак полторы-две тысячи лет после расцвета архаической лирики, всё это было не особо интересно. Понятно, почему они переписывали Платона: это, ясное дело, философ на все времена. Понятно, почему они переписывали Геродота и Фукидида: история воспринималась как «учительница жизни». Понятно, почему они переписывали Демосфена: риторические школы продолжали функционировать, и обучающимся в них всего легче было упражняться на лучших образцах — речах величайших ораторов прошлого. Понятно, почему они переписывали мелика Гиппократа (по его рекомендациям века и века продолжали лечить людей) или математика Евклида (по его простым и исчерпывающим формулировкам века и века продолжали преподавать геометрию).
И именно по тем же самым причинам не переписывали древнейших лирических поэтов. Они представлялись чем-то совсем далеким, экзотичным, малопонятным. Некоторые из них, кстати, были малопонятными даже в самом прямом — языковом — смысле. Сапфо и Алкей писали на эолийском диалекте древнегреческого языка (о диалектах нам еще предстоит поговорить подробнее), который к эпохе «усердных переписчиков» совсем уж подзабылся. Не забудем, этих византийских переписчиков отделял от времен архаики более долгий временной отрезок, чем нас — от самих переписчиков! Это даже трудно представить, но это так. Тот же Фотий и его сотрудники жили в IX веке. Сейчас на дворе — XXI. Легко посчитать разницу: 12 столетий. Строго говоря — даже меньше, поскольку Фотий трудился в конце своего века, а мы живем в начале своего.
Ну так вот, а жизнь Сапфо — напомним снова и снова — приходится на VII–VI века до н. э. Опять посчитаем и получим: между Сапфо и Фотием — 14 столетий, огромная бездна! Какой глубокой древностью должно было представляться время Сапфо уже в те годы, когда жили эрудированный константинопольский патриарх и его присные…
Говоря, что лириков не переписывали, приходится все-таки отметить одно значимое исключение. Это — Феогнид Мегарский
[87], творивший несколько попозже нашей героини; от него дошли до нас не разрозненные фрагменты, а целый сборник объемом почти в полторы тысячи строк. Такая хорошая сохранность, несомненно, связана с тем, что стихи Феогнида в большинстве своем написаны на максимально общие темы, интересные для мыслящих и чувствующих людей самых разных эпох. Причем спектр тем, затрагивавшихся этим поэтом, исключительно широк: тут дружба и любовь, благородство и низость, слава и позор, счастье и страдание… Произведения Феогнида — это в какой-то мере квинтэссенция архаической лирики. В этом смысле они хрестоматийны и были обречены на успех.
Впрочем, «Феогнидов сборник» на самом деле представляет собой пестрый конгломерат, складывавшийся на протяжении многих столетий. Не то чтобы имя Феогнида, стоящее в качестве его автора, было чисто условным. Нет, данный поэт — лицо вполне историческое (хотя, кстати говоря, относительно времени его жизни единства мнений нет — то ли это первая половина VI века до н. э., то ли вторая). Однако никто не сомневается в том, что далеко не все строки «Феогнидова сборника» действительно принадлежат его перу.
Грубо говоря, после Феогнида в его «собрание сочинений» добавляли свои стихи другие поэты. Имена их нам неизвестны, поскольку они их не ставили и тем самым приписывали собственную литературную продукцию Феогниду — этакий «плагиат наоборот», довольно типичный для античной культуры. В результате в сборник заведомо попали элегии, созданные уже после окончания архаической эпохи — в следующую, классическую (V–IV века до н. э.), а возможно, даже и еще позже.
* * *
Каждый из крупных архаических лириков — поэт с «лица необщим выраженьем», яркая индивидуальность, которую ни с какой другой не спутаешь. К тому же все они были новаторами, смело делавшими замечательные открытия в области стихосложения, образности, стилистики, средств художественной выразительности. Как мы уже отмечали, эти авторы принадлежали по происхождению к знатной аристократии, и, что интересно, многие из них не ограничивались работой на литературном поприще, были людьми деятельными, с широким кругом интересов и занятий. Афинянин Солон — законодатель, мудрец, путешественник; Архилох — воин-наемник, ведший полную трудностей и лишений жизнь — от похода к походу, от сражения к сражению; Алкей — активный участник политической борьбы на родном острове Лесбос, член одной из соперничающих за власть группировок
(гетерий), подбодрявший сотоварищей «Песнями гражданской смуты», как он сам назвал сборник своих стихов…
Раньше безраздельно царил величественный, но несколько однообразный гомеровский гекзаметр, — а в VII–VI веках до н. э. возникло богатейшее разнообразие самых непохожих друг на друга стихотворных размеров. Некоторые из них получили названия по именам придумавших их поэтов (архилохов стих, алкеев стих и, конечно же, сапфическая строфа), а это ведь тоже проявление индивидуалистического начала. Гекзаметр никто никогда не называл «гомеровым стихом».
Прежде чем перейти к характеристике конкретных лириков, нужно сказать хотя бы несколько слов о классификации того рода поэзии, которым они занимались. В науке принято делить древнегреческую лирическую поэзию на два основных вида. Это — декламационная лирика, которая исполнялась скорее речитативом, чем пением, и либо без аккомпанемента, либо под музыкальное сопровождение флейты, и песенная лирика. Для последней есть особый термин — «мелика» (от слова «мелос» — песня; кстати, от этого же корня происходит знакомое всем нам интернациональное существительное «мелодия»).
Как правило, если поэт писал декламационную лирику — он уже не уклонялся в область мелики. И наоборот. Были, конечно, и исключения. Великий лирик рубежа эпох архаики и классики Симонид Кеосский (не следует путать его с жившим раньше «почти тезкой» — Семонидом Аморгским, чьи колоритные женоненавистнические стихи цитировались выше) работал на обоих поприщах. Но, как давно уже было сказано, исключения только подтверждают правило.
Сапфо — представительница жанра мелики. Посему об этом жанре в дальнейшем у нас и пойдет более подробный разговор. Но начнем мы все-таки с декламационной лирики, поскольку в хронологическом плане она появилась раньше.
Да и памятники ее более просты, чем мелические. Тут мы встречаем два жанра — элегию и ямб. Первая — в большей степени задумчиво-созерцательная (хотя и не обязательно с грустными нотками, которые волей-неволей всплывают в нашем сознании, когда мы слышим слово «элегия»); второй — в большей степени язвительно-разухабистый (хотя тоже не всегда). Соответственно, употреблялись два основных стихотворных размера: элегический дистих и ямбический триметр.
Дистихами написано, например, приводившееся выше сочинение Ксенофана о симпосии. Размер, о котором идет речь, представляет собой, как ясно уже из его названия, строфу, состоящую из двух стихов (строк). Вначале — уже знакомый нам гекзаметр, а за ним следует
пентаметр; он несколько короче, и его введение придает строфе определенную завершенность по сравнению с «чистым» эпическим гекзаметром, который длится, длится, длится и, кажется, никогда не закончится.
Триметр же напоминает употребляющийся в стихосложении Нового времени шестистопный ямб. Если привести пример из русской литературы, которая ближе всего нам знакома, то вот хотя бы начало хрестоматийной вещицы Пушкина:
На холмах Грузии лежит ночная мгла…
Строго говоря, между современным шестистопным ямбом и античным ямбическим триметром имеются некоторые различия, но нам сейчас незачем вдаваться в эту непростую материю, тем более что героиня книги Сапфо ямбами почти не писала. Пожалуй, отметим только, что стихи, написанные триметром, тоже уже цитировались ранее. В частности, именно таково знаменитое обличение женщин Семонидом Аморгским.
Ну а в дальнейшем оба охарактеризованных размера тоже будут регулярно нам встречаться, поскольку мы переходим уже к краткой характеристике ряда конкретных выдающихся мастеров архаической эллинской лирики.
Начать, несомненно, следует с Архилоха, поскольку он являет собой один из колоритнейших примеров яркой индивидуальности в Греции интересующей нас эпохи. Как Гомера называют «отцом» греческого эпоса, так Архилоха — «отцом» лирической поэзии
[88].
Позволим себе маленькое наблюдение из собственного преподавательского опыта. Читая лекции по древнегреческой истории и культуре, конечно же, обязательно приходится в какой-то момент упомянуть об Архилохе, кое-что рассказать о нем. И вот что автор стал замечать в последние годы (раньше, между прочим, такого не было): как только в аудитории звучит это имя, по рядам слушающих студентов проносится смешок. Очевидно, возникают ассоциации с нынешними молодежными жаргонизмами… А вообще-то имя поэта имеет вполне достойное значение, его можно перевести как «командир отряда воинов».
Архилох жил в середине VII века до н. э. Родиной его был небольшой, малоплодородный эгейский остров Парос. Отцом будущего поэта был знатный аристократ, но матерью — рабыня-наложница. Иными словами, по греческим обычаям Архилох считался незаконнорожденным и не мог рассчитывать на получение гражданских прав.
Впрочем, отец относился к нему хорошо, вырастил в своем доме, дал хорошее образование, а потом взял с собой, когда отправился с отрядом соратников основывать колонию на острове Фасос у северных берегов Эгеиды. Фасос юному Архилоху не понравился; впоследствии он описывал его такими словами:
…Как осла хребет,
Заросший диким лесом, он вздымается,
Невзрачный край, немилый и нерадостный.
(Архилох. фр. 21 West)
А потом для поэта началась воинская судьба: он стал солдатом-наемником, прожил трудную жизнь, полную приключений, опасностей, авантюр… Война — одна из главных тем творчества Архилоха, он и изображает себя как поэта-воина:
Я — служитель царя Эниалия (то есть Ареса. — И. С.), мощного бога.
Также и сладостный дар Муз хорошо мне знаком…
В остром копье у меня замешен мой хлеб. И в копье же —
Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье.
(Архилох. фр. 1–2 West)
Будучи «полукровкой», лирик с замечательным пренебрежением относился к традиционным аристократическим ценностям. Так, страшнейшим позором, худшим, чем сама смерть, считалось бежать с поля боя, бросив щит (щит был предметом громоздким, и для успешного бегства с ним поневоле приходилось расстаться). А для Архилоха ничего позорного в таком поступке нет:
Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Сам я кончины зато избежал. И пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть.
(Архилох. фр. 5 West)
Щит для Архилоха уже не имеет былого сакрального, символического значения. Или скажем иначе: жизнь для него дороже чести, в отличие от высокородных героев Гомера.
Впрочем, первый лирик писал не только о войне. Дружба, любовь, ненависть — тоже среди сюжетов его поэзии. Язвительность, даже злоба нередко видна в архилоховских строках. О поэте сохранилось такое предание: он влюбился в юную девушку Необулу и посватался. Но ее отец Ликамб отказал незнатному жениху. Тогда Архилох начал буквально изводить Ликамба и Необулу издевательскими стихами.
Необуле:
Нежною кожею ты не цветешь уже: вся она в морщинах,
И злая старость борозды проводит.
(Архилох. фр. 188 West).
Ликамбу:
Что в голову забрал ты, батюшка Ликамб?
Кто разума лишил тебя?
Умен ты был когда-то. Нынче ж в городе
Ты служишь всем посмешищем.
(Архилох. фр. 72 West)
Не выдержав этих и других подобных поношений, и Ликамб и Необула будто бы даже повесились.
А вот — знаменитейшее стихотворение Архилоха, полностью отражающее его жизненную позицию:
Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады — твердо стой, не трепещи.
Победишь — своей победы напоказ не выставляй,
Победят, — не огорчайся, запершись в дому, не плачь.
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.
(Архилох. фр. 128 West)
Позиция стойкого, мужественного жизнелюбия слышна в произведениях Архилоха. Причем это жизнелюбие не идеалиста «в розовых очках», а человека, реально смотрящего на мир, не понаслышке познавшего все подстерегающие в нем трудности. Человека, для которого «жить», по сути, означает «выживать», — и тем не менее он любит и ценит жизнь даже такой.
Видным представителем архаической лирики был спартанец Тиртей. Он работал несколько позже Архилоха, во второй половине VII века до н. э. Тиртей — спартанский поэт, и этим, в сущности, всё сказано. Перед нами стихи, цель которых — воспеть патриотизм, мужество в битве, призвать соотечественников к героической борьбе с врагами, к стойкости:
…Стойте под сводом щитов, ими прикрывши ряды,
Каждый в строю боевом…
Копья, угрозу мужам, крепко сжимая в руках.
И на бессмертных богов храбро во всём положившись,
Без промедленья словам будем послушны вождей.
Тотчас все вместе ударим…
Возле копейщиков свой близко поставивши строй.
Скоро с обеих сторон железный поднимется грохот:
Это по круглым щитам круглые грянут щиты.
Воины копья метнут, друг друга железом сражая,
В панцири, что у мужей сердце в груди берегут.
Вот уж колеблется враг, отступая с пробитым доспехом,
Каменный сыплется град, шлемы стремясь поразить,
Медный разносится звон…
(Тиртей. фр. 19 West)
Так как потомки вы все необорного в битвах Геракла,
Будьте бодры, еще Зевс не отвратился от нас!
Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха.
Каждый пусть держит свой щит прямо меж первых бойцов,
Жизнь ненавистной считая, а мрачных посланниц кончины —
Милыми, как нам милы солнца златые лучи!
Опытны все вы в делах многослезного бога Ареса,
Ведомы вам хорошо ужасы тяжкой войны,
Юноши, вы и бегущих видали мужей и гонящих;
Зрелищем тем и другим вдоволь насытились вы!
Воины те, что дерзают, смыкаясь плотно рядами,
В бой рукопашный вступить между передних бойцов,
В меньшем числе погибают, а сзади стоящих спасают;
Труса презренного честь гибнет мгновенно навек…
Пусть же, широко шагнув и ногами в землю упершись,
Каждый на месте стоит, крепко губу закусив,
Бедра и голени снизу и грудь свою вместе с плечами
Выпуклым кругом щита, крепкого медью, прикрыв;
Правой рукою пусть он потрясает могучую пику,
Грозный шелома султан над головой всколебав…
Пусть он идет в рукопашную схватку и длинною пикой
Или тяжелым мечом насмерть врага поразит!
Ногу приставив к ноге и щит свой о щит опирая,
Грозный султан — о султан, шлем — о товарища шлем,
Плотно сомкнувшись грудь с грудью, пусть каждый дерется с врагами,
Стиснув рукою копье или меча рукоять!
(Тиртей. фр. 11 West)
Будем за эту страну с отвагою биться и сгибнем
За малолетних детей, жизни своей не щадя!
Юноши, не отходя ни на шаг друг от друга, сражайтесь,
И да не ляжет на вас в бегстве позорном почин, —
Нет, себе в грудь вы вложите великое, мощное сердце,
В битву вступая с врагом, жизнь не щадите свою
И не бегите из боя, старейших годами покинув,
Старцев, чьи ноги уже легкости чужды былой!..
Жив если юноша, дорог мужам он и сладостен женам,
Сгибнет он в первых рядах — смерть красоты не возьмет!
Пусть же, шагнув широко, обопрется о землю ногами
Каждый и крепко стоит, губы свои закусив!
(Тиртей. фр. 10 West)
И так у Тиртея — из элегии в элегию… Он являлся, повторим, очень крупным лириком, но все-таки, если читать его сохранившееся наследие «сплошняком», в какой-то момент возникает ощущение некоторой монотонности. Ведь автор — ярко выраженный поэт «одной темы». Впрочем, именно эта тема и была мила воинственным спартанцам. Тиртей, в сущности, подробно описывает атаку фаланги.
Куда более разнообразна тематика, которую затрагивает в своих стихах Солон (первая половина VI века до н. э.). О нем уже упоминалось, и мы знаем, что он не только подвизался на ниве словесности, но и был крупным государственным деятелем, законодателем, реформатором, считался, кроме того, одним из Семи мудрецов. У Солона мы встречаем и политическую, и назидательную, и (хотя в меньшей степени) даже любовную лирику.
Процитируем одну из интереснейших его элегий, которую принято озаглавливать «Седмицы человеческой жизни». Ее основная идея такова: человек живет 70 лет, и этот срок четко разделяется на десять семилетних отрезков. У каждой из таких «седмиц» — свои особенности:
Мальчик впервые ограду зубов, во младенчестве нежном
Взросших, теряет, когда семь исполняется лет.
Ну а как только вторые семь лет ему бог завершает —
Признаки явны уже будущей силы мужской.
Что же в третью седмицу? Еще он растет, но пушок уж
На подбородке его; кожа меняет свой цвет.
Вот и четвертая: в возрасте этом любой совершенен
Силой и тем, от чего высшая доблесть в мужах.
В пятую — самое время мужчине помыслить о браке
И сыновей пожелать, чтобы продолжился род.
Ну а в шестую уже вполне упорядочен разум,
И не стремится теперь муж к бестолковым делам.
В годы седмицы седьмой и разум и речь совершенны,
Также и в годы восьмой — вместе четырнадцать лет.
Что же в девятую? Есть еще силы, но начали гаснуть
Мудрость, дар речи — уже трудно большое свершить.
Если же кто-то достигнет конца и десятой — то, значит,
Срок наступил, и пора смертную участь встречать.
(Солон. фр. 27 West)
Кстати, обратим внимание на то, какая картина предстает тут перед нами, если взглянуть с гендерной точки зрения. Чисто маскулинная! Человек Солона — это мальчик, юноша, зрелый муж, старик. О женщинах автор вообще ничего не говорит, не считая краткого упоминания о том, что в пятую седмицу (то есть в возрасте от двадцати восьми до тридцати пяти лет) мужчине хорошо бы жениться. Но не из соображений какой-то там «любви», а единственно ради того, чтобы родились сыновья (именно сыновья!), «чтобы продолжился род». Интересно, что самому Салону в данном отношении, кажется, не повезло. Неизвестно, был ли он женат, но детей у него не было. Во всяком случае, не было сыновей, а для античного грека эти две вещи, в общем-то, практически совпадали. Дочь не могла стать продолжательницей рода, поскольку по определению попадала после брака в чужую семью.
Вероятно, Солон принадлежал к той же породе мыслителей, что и живший через полтора века после него философ Анаксагор, учитель Перикла. Последний, как сообщается, сказал, услышав о смерти своих сыновей: «Я знал, что они родились смертными»
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. II. 13).
Мировоззрение Солона проникнуто идеей разумной меры, искренней верой в богов — хранителей мировой справедливости. Скажем, он отнюдь не выставляет себя бессребреником. Он честно говорит:
Деньги желаю иметь, но если неправедна прибыль —
Нет, не хочу! А не то позже расплата грядет.
То богатство, что боги дают, достанется мужу
Прочным — от самых корней вплоть до вершины своей;
То же, которое люди берут через наглость, беспутно, —
Хоть и приходит оно, злым покоряясь делам,
Но неохотно идет, и вскоре ущерб уж примешан.
А появляется он медленно, будто огонь:
Сущая мелочь вначале, а кончится тяжким мученьем…
(Солон. фр. 13 West)
Перед нами — очень частый у Солона мотив: богатство полезно только тогда, когда оно приобретено справедливым путем, в противном же случае оно принесет только беды как самому индивиду, так и общине в целом. В другом месте автор высказывается против страсти к накопительству еще более акцентированно:
Равно богаты и тот, у кого серебро в изобилье,
Золото есть, есть поля, чтобы выращивать хлеб,
Кони есть, мулы, — но также и тот, кто немногого хочет:
Лишь бы усладу иметь чреву, бокам и ногам,
Да чтобы отрок был или жена — это тоже неплохо —
В самой цветущей поре, в юной своей красоте.
Вот и богатство для смертных. Ведь всех своих денег избыток,
Сколько бы кто ни имел, право, в Аид не возьмет
И не избегнет, дав выкуп, ни смерти, ни тяжких болезней,
Платою не отвратит старости злобной шаги.
(Солон. фр. 24 West)
В связи с последними двумя цитатами кем-то, возможно, будет поставлен вопрос: а что, во времена Сапфо и Солона уже были деньги? Впрочем, большинство читателей воспримут упоминание о «презренном металле» как что-то собой разумеющееся. Мы настолько уже не мыслим себе жизни без денег, что нам кажется — они были всегда.
На самом деле ситуация сложнее
[89]. Деньги как таковые — феномен достаточно древний. Но что только не служило деньгами в архаичных обществах! Где-то — раковины каури, где-то — скот… В поэмах Гомера отражено именно такое положение, при котором мерой стоимости (а это одна из главных функций денег) являлся именно крупный рогатый скот. Количеством голов скота определялось не только богатство человека, но и его престиж.
Деньги не стоит смешивать с одной из их форм — монетой. Монетная чеканка началась, согласно самым современным данным, в конце VII века до н. э. либо в Лидии, восточной соседке Греции, либо у самих греков — но в самом восточном, ионийском ареале их тогдашнего обитания. В Афинах во времена Солона монет никак еще не могло быть. Расплачивались при различных сделках предметами, которые можно с полным основанием назвать «прото-монетами»: круглыми и плоскими серебряными слиточками небольшого размера, разве что без каких-либо надписей и изображений
[90]. А вот на острове Лесбос в те годы, когда там жила Сапфо, могли уже обращаться самые настоящие монеты. Металлом, из которого они чеканились, был
электр — природный сплав золота и серебра, добывавшийся по крупинкам в лидийских реках.
Но вернемся к архаическим греческим лирикам. Выше уже упоминался еще один колоритный представитель их когорты — Феогнид Мегарский. Он был современником Солона, тоже творил в первой половине VI века до н. э. (такая его датировка всё же ближе к истине, чем любые более поздние). Жизнь этого поэта и политика сложилась очень нелегко.
Знатный аристократ, он оказался свидетелем демократического переворота в родных Мегарах. Власть победившей бедноты Феогнида никоим образом не устраивала, и он без обиняков об этом заявлял. Вот замечательная (хотя и очень тенденциозная) элегия, в которой возникает образ, ставший потом очень популярным в мировой литературе, — государство как корабль:
Знаю, ради чего понеслись мы в открытое море,
В черную канули ночь, крылья ветрил опустив.
Волны с обеих сторон захлестывают, но отчерпать
Воду они не хотят. Право, спастись нелегко!
Этого им еще мало. Они отстранили от дела
Доброго кормчего, тот править умел кораблем;
Силой деньги берут, загублен всякий порядок,
Больше теперь ни в чем равного нет дележа,
Грузчики встали у власти, негодные выше достойных.
Очень боюсь, что корабль ринут в пучину валы.
Вот какую загадку я гражданам задал достойным,
Может и низкий понять, если достанет ума.
(Феогнид. Элегии. I. 671 слл.)
Правящий демос, естественно, не мог стерпеть столь откровенной критики, и Феогнид был отправлен в изгнание. Долгие годы провел он на чужбине и получил возможность возвратиться на родину лишь под старость, когда мегарская демократия была свергнута. В подобных условиях неудивительно, что неприязнь поэта к народу в конце концов приобрела просто-таки экстремистский характер:
Крепкой пятою топчи пустодушный народ, беспощадно
Острою палкой коли, тяжким ярмом придави!
(Феогнид. Элегии. I. 847 сл.)
Можно объяснить и чернейший пессимизм, характерный для стихов Феогнида:
Лучшая доля для смертных — на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
Если ж родился, войти поскорее в ворота Аида
И глубоко под землей в темной могиле лежать.
(Феогнид. Элегии. I. 425 слл.)
Похоже, что дальше по стезе пессимистических настроений двигаться уж и некуда. Так, может быть, пессимизм Феогнида — это всего лишь раздраженные резиньяции защитника уходящих ценностей, озлобленного аристократа? Отнюдь нет, его процитированные слова о том, что лучше всего вообще не родиться, а уж если родился — то как можно скорее умереть, отражают мироощущение достаточно широких кругов. Возьмем уже знакомого нам Гесиода. Вот уж ни в малейшей мере не аристократ: зажиточный крестьянин из Беотии, посвящавший поэтическому творчеству досуги между своими трудами.
Однако взгляды этого представителя древнегреческой литературы не менее пессимистичны. Он изображает всю историю человечества как последовательность сменяющих друг друга и постоянно ухудшающихся поколений или «веков»: золотого, серебряного, медного… Наконец наступает «железный век» — тяжелое, мрачное время жизни самого поэта. Но Гесиод и в будущее смотрит без малейшего признака надежды. Дальше будет еще хуже:
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут.
Чуждыми станут товарищ товарищу, гостю — хозяин.
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут;
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью, не зная возмездья богов; не захочет
Больше никто доставлять пропитанья родителям старым.
Правду заменит кулак. Города подпадут разграбленью.
И не возбудит ни в ком уваженья ни клятвохранитель,
Ни справедливый, ни добрый. Скорей наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаньями, ложно кляняся.
Следом за каждым из смертных бессчастных пойдет неотвязно
Зависть злорадная и злоязычная, с ликом ужасным.
Скорбно с широкодорожной земли на Олимп многоглавый,
Крепко плащом белоснежным закутав прекрасное тело,
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесть и Стыд. Лишь одни жесточайшие, тяжкие беды
Людям останутся в жизни. От зла избавленья не будет.
(Гесиод. Труды и дни. 182 слл.)
Справедливости ради следует сказать, что подчеркнуто пессимистической позиции Гесиода и Феогнида можно противопоставить, например, реалистическое жизнелюбие Архилоха, о котором говорилось выше. Но в целом идея исторического прогресса, движения «от худшего к лучшему», от низшего состояния к высшему упорно не приживалась в Греции.
Возвращаясь к Феогниду, отметим еще, что сочинения этого поэта отличаются афористичностью, четкостью и ясностью мысли. Вот одно его совсем крохотное стихотворение, которое нам очень нравится:
Трудно разумному долгий вести разговор с дураками,
Но и всё время молчать — сверх человеческих сил.
(Феогнид. Элегии. I. 625 сл.)
Первая строчка двустишия кажется несколько тривиальной, а вот затем следует достаточно неожиданная сентенция. Проницательный Феогнид порой поднимается даже до критики богов — за то, что они не блюдут справедливость, позволяют злодеям оставаться в безнаказанности, а невиновным людям страдать:
Кто ужасные вещи творил, не ведая в сердце
Страха, богов позабыв, кары ничуть не страшась, —
Сам и платится пусть за свои злодеянья, и после
Пусть неразумье отца детям не будет во вред.
Дети бесчестных отцов, но честные в мыслях и в деле,
Те, что боятся всегда гнева, Кронид (Зевс. — И. С.), твоего,
Те, что выше всего справедливость ценили сограждан,
Пусть за поступки отцов кары уже не несут.
Это да будет угодно блаженным богам. А покамест —
Грешник всегда невредим, зло постигает других.
(Феогнид. Элегии. I. 733 слл.)
Завершая разговор о древнегреческих элегистах, нельзя хотя бы вкратце не остановиться на Симониде Кеосском. Хотя он и жил несколько позже (в конце VI — начале V века до н. э.), но принадлежал к той же традиции. Симонид, впрочем, отличается тем, что немалое количество своих стихотворных произведений посвятил историческим сюжетам. Среди его поэм — несохранившиеся «Царствование Камбиса и Дария», «Навмахия Ксеркса» (тут речь идет о морском сражении при Артемисии 480 года до н. э.), «Навмахия при Саламине».
И всё же имя Симонида (который был, помимо своих остальных заслуг, еще и изобретателем мнемотехники) до последнего времени достаточно редко фигурировало в исследовательской литературе в связи с генезисом античной историографии. Однако относительно недавно (в 1992 году) были опубликованы такие папирусные фрагменты его произведений, которые произвели просто ошеломляющее впечатление. Речь идет в первую очередь об отрывках из поэмы о Платейской битве 479 года до н. э. (к сожалению, оригинальное название не сохранилось).
В начале самого крупного отрывка речь идет о делах мифологических, о событиях Троянской войны: упоминаются гибель Ахилла, взятие Илиона, воздается честь Гомеру, благодаря которому эти деяния стали достоянием потомков. А затем автор внезапно переходит к Греко-персидским войнам и описывает выступление к Платеям спартанского войска во главе с командующим Павсанием.
Многоименная Муза, тебя призываю на помощь,
Если любезна тебе смертного мужа мольба.
Лад заведи сладкозвучный, чарующий, песни ты нашей,
Чтоб вспоминали всегда подвиготважных мужей,
Ибо от Спарты родной, от Эллады ярмо отвратили
Горького рабского дня — больше он нам не грозит.
Да не забудется слава, что гордо подъемлется к небу,
Доблесть могучих мужей смерти навек избежит!
Вот уж, покинув теченье Еврота и пажити Спарты,
В спутники взяли себе Зевса красавцев сынов,
Дерзко коней укрощавших, и мощного духом Атрида,
Отчего града вожди, лучшие в бранных делах
[91].
Вел же их сын благородный божественного Клеомброта
[92];
…имя Павсаний ему.
Скоро достигли на Истме земли достославной Коринфа,
Края, в котором царил Тантала отпрыск — Пелоп.
Вот миновали Мегары, город древнего Ниса,
Там и другие сошлись, кто проживает окрест.
В знаменья божьи уверовав, вместе они поспешили
В землю, любезную всем, милый сердцам Элевсин…
(Симонид. фр. 11 West)
Итак, здесь повествуется о том, как спартанцы — поэт награждает их пышнейшими эпитетами — начинают поход, как они продвигаются от города к городу. Причем продвижение это происходит в весьма насыщенном «сакральном ландшафте»
[93], постоянно упоминаются чтимые герои. Аналогичная черта, кстати, впоследствии прослеживается и у «отца истории» Геродота.
Одним словом, перед нами уникальный памятник протоисторической мысли. Он находится уже на грани между поэзией и собственно историческим повествованием. Симонид решает задачу в эпическом духе рассказать не о сюжетах из мифологии, как делалось раньше, а о событиях недавних, современником и свидетелем которых он сам был.
* * *
Перейдем теперь к мелике — песенной лирике. Ее произведения исполнялись под сопровождение струнных инструментов. Этот жанр был той областью, где слово наиболее тесно соприкасалось с музыкой и танцем, сливаясь в единое искусство.
Тут имеет смысл сказать несколько слов об античной музыке как таковой. Она, необходимо отметить, была довольно простой и нашему искушенному слуху, пожалуй, показалась бы даже примитивной. Самостоятельной роли музыка, как правило, не играла (то есть чисто инструментальные номера отсутствовали, кроме как на войне) и использовалась главным образом как аккомпанемент к вокалу. Несложным был и набор музыкальных инструментов; среди них главное место занимали струнные, связывавшиеся самими греками с Аполлоном, и духовые, ассоциировавшиеся преимущественно с Дионисом.
Уже у Гомера упоминается древнейший из струнных инструментов — форминга. Она состояла из деревянного корпуса с двумя ручками, соединенными сверху перемычкой, к которой крепились четыре струны. От форминги произошли всем известная лира и ее усовершенствованный вариант — кифара.
Лира, изобретателем которой мифы называют бога Гермеса, стала в наши дни, можно сказать, символом музыкального искусства: ее стилизованное изображение помешают на зданиях оперных театров, филармоний и т. п. (поэтому каждый и представляет, как она выглядит); само слово «лирика» произошло от ее названия! Но вообще-то лира использовалась в основном как любительский инструмент или для обучения музыке в школе.
А вот кифара, более крупная по размеру и более сложная по устройству, служила профессионалам — кифаристам, которые на ней просто играли, и кифаредам, которые играли и при этом пели под ее аккомпанемент. Устройство кифары в общем-то демонстрировало ее происхождение от древней форминги: тот же деревянный корпус с двумя ручками, соединенными перемычкой с крепящимися на ней струнами, которых, впрочем, было уже не четыре, а семь, впоследствии даже десять-двенадцать.
Играли на кифаре либо с помощью пальцев, либо посредством плектра (медиатора). Подобным медиатором и поныне пользуются гитаристы. В связи со сказанным, видимо, нелишним будет заметить: само слово «гитара» этимологически происходит именно от «кифары» (замените всего лишь две буквы — и получите искомое). Языком-посредником послужил, естественно, испанский.
Еще больше кифары был редко встречавшийся барбитон. Но перейдем уже к духовым инструментам, среди которых основными являлись разные виды флейт. Впрочем, «флейта» — это уж как-то несколько по-современному звучит. У греков соответствующий музыкальный инструмент назывался
авлос. И по большому счету был он похож скорее на банальную дудку, чем на ту флейту (с ее весьма изощренными вариантами, как кларнет, гобой, саксофон и т. п.), которую мы видим в современных симфонических оркестрах.
Да, по сути, дудка. Простая или сложная — то есть состоящая из одной трубки, снабженной отверстиями с клапанами, или же из нескольких таких трубок. Например, сиринга (или «флейта Пана») имела пять, семь, порой даже девять стволов разной длины. Этот излюбленный инструмент эллинских крестьян и пастухов в переводах подчас именуют «свирелью», но тут, безусловно, нужно соблюдать некоторую терминологическую строгость.
Были, конечно, и военные трубы (сальпинги), и т. п. Но в целом греки однозначно ставили струнные инструменты на более высокую ступень, нежели духовые. Есть тут и несомненный прагматический резон: музыкант, перебирающий пальцами по струнам лиры или кифары, при этом может еще и петь, а вот для того, кто играет на флейте, это никак невозможно. А в эллинской культуре, с ее комплексным характером, важно было, чтобы «всё и сразу».
Но, естественно, в какой-то момент возник и миф, объяснявший-де подробные симпатии-антипатии. Гласил он следующее. Флейту изобрела богиня Афина. Но, посмотрев в момент игры на ней на свое отражение в воде и увидев, как некрасиво раздуваются щеки в момент такой игры, Афина просто бросила наземь свое изобретение — и пошла себе дальше. А флейту подобрал сатир Марсий (сатиры — низшие козлоподобные божки в древнегреческой мифологии). И настолько изощрился в ее использовании, что набрался наглости вызвать самого Аполлона на состязание в музыкальном искусстве. Один — на лире (точнее, все-таки на кифаре), другой — на флейте-авлосе… Победил, естественно, Аполлон и приказал: с Марсия — в качестве кары за его хвастовство — снять живьем кожу.
Если уж рассказывать о древнегреческих музыкальных инструментах более или менее исчерпывающим образом, то надо упомянуть, что были, конечно, и ударные: тимпан (что-то вроде бубна), кимвал (прообраз позднейших литавр). Но, вообще говоря, едва ли главным «музыкальным инструментом» для эллинов, в сущности, оставался все же человеческий голос. Музыка и пение, кстати, были основаны скорее на ритме, нежели на мелодии; а пели хором исключительно в унисон, без привычного для нас разделения на голоса.
Между прочим, несколько раз ученым-археологам повезло: удалось обнаружить нотные записи древнегреческой музыки (которые, естественно, ничем не напоминали современные: знаки и их расположение были совершенно иными). А ученые-музыковеды сумели эти записи расшифровать, перевести в принятую ныне систему — так, чтобы античную музыку можно было исполнить и услышать. И, нужно сказать, странное, парадоксальное впечатление произвели раздавшиеся звуки! Они оказались совершенно непонятными уху сегодняшних людей, не складывались во что-то стройное и чарующее, скорее напоминали некую какофонию…
Одно из двух: либо неправильно была произведена расшифровка (но в это все-таки поверить трудно), либо музыка древних греков была совсем, так сказать, не конгениальна современной. Вот это как раз представляется более вероятным. Было бы странно, если бы эллины, столь творчески одаренные и, без преувеличения, гениальные во всех остальных сферах культуры, именно в музыкальном искусстве — и только в нем — оказались бы какими-то по-детски отсталыми.
Нет, лучше выразиться так: их музыка по сравнению с нашей была не примитивной, а просто
иной. Принципиально иной — потому-то и не воспринимается ныне. Очень специфической и опять же во многом непонятной нам была, кстати, и музыкальная терминология, использовавшаяся в античных трактатах. Например, имелось понятие «лад»; оно существует и поныне, но то же ли самое значение теперь в него вкладывается? Непохоже. Вот хотя бы характерная цитата из автора, которого все признают «самым энциклопедическим умом древности»:
«…Музыкальные лады существенно отличаются один от другого, так что при слушании их у нас является различное настроение, и мы не одинаково относимся к каждому из них; так, слушая один лад, например, так называемый миксолидийский, мы испытываем более скорбное и сумрачное настроение; слушая другие, менее строгие лады, мы размягчаемся; иные лады вызывают у нас преимущественно среднее, уравновешенное настроение; последним свойством обладает, по-видимому, только один из ладов, именно дорийский; фригийский лад действует на нас возбуждающим образом»
(Аристотель. Политика VIII. 1340а 40 — b 6).
В современном понимании лад — это некий звукоряд, набор определенных нот в определенном порядке. И, что ни говори, имеет свой резон известный исследователь античной музыки Е. В. Герцман (в книгах которого разбирается, помимо многих других, и эта проблема), когда он с удивлением отмечает: «Представить только, что для жителей Древней Греции и Древнего Рима, например, звукоряд
ми — фа — соль — ля (понимаемый как дорийский лад) был воплощением мужественности и героизма, а звукоряд
ми — фа-диез — соль — ля (якобы фригийский лад) — экстатическим и оргиастическим, ну а последовательность, основанная на звукоряде
ми — фа-диез — соль-диез — ля (трактуемая как лидийский лад), — погребальная и жалобная…»
[94]
Представить такое действительно очень трудно. Разница-то между приведенными звукорядами воистину минимальна: могли ли они давать столь разительно различный эффект? И поневоле закрадывается подозрение: а может быть, нынешние ученые говорят совсем не о том, что имели в виду в своих трудах древнегреческие теоретики…
Наконец, и древнегреческий танец соответствовал простоте музыкального сопровождения. Преобладали коллективные танцы культового характера; они, в сущности, сводились к плавному, синхронному движению хора в одну сторону, а затем, после поворота, — в другую. Древнегреческий танец — это в большей степени танец рук, чем ног.
Нельзя, конечно, сказать, что индивидуальных танцев не было вообще. Разумеется, где-нибудь на симпосии уже разгоряченные вином гости могли посмотреть и какую-нибудь пляску гетеры, имевшую более оживленный и даже откровенно эротический характер. Но это уже, так сказать, субкультура. Есть вещи, которые в принципе существуют, но не включаются в правильный социальный быт. Вещи, которые для порядочных людей попадают в категорию «не комильфо». Тот же античный грек, который, может быть, и с удовольствием взирал, как некая дама легкого поведения в пиршественной обстановке в танце вертится перед ним осой, мягко говоря, отнюдь не приветствовал бы аналогичное поведение со стороны собственной супруги.
Мелика делилась на сольную (когда свои песни автор исполнял сам и себе же аккомпанировал) и хоровую. В рамках последней песни писались для хоров, исполнялись по разного рода торжественным случаям, а автор выступал в роли хормейстера и, наверное, дирижера. Впрочем, слишком уж строгой грани между этими двумя родами мелики проводить не стоит. Та же Сапфо свои произведения порой предназначала для собственного индивидуального исполнения, а порой сочиняла явным образом так, что сразу видно — это будет петь девичий хор.
Мелика, если говорить о ней в целом (а это наиболее уместно), отличалась от декламационной лирики меньшим количеством размышлений на общие темы и большей эмоциональностью. В ее памятниках, так сказать, преобладает сердце, а не разум. Мелика отличалась богатством ритмических форм, сложностью стихотворных размеров. Последние подчас очень сложно или просто невозможно передать в русских переводах соответствующих стихотворений, — в отличие от элегического дистиха или ямбического триметра, которые как раз без особых усилий «перелицовываются» и на наш, и на любой европейский язык.
Характерным примером может послужить творчество Пиндара («лебедя», как его называли) — последнего и крупнейшего из поэтов, работавших в жанре мелики. Пиндар, уроженец Фив, родился в последней четверти VI века до н. э. и прожил около семидесяти пяти лет. Иными словами, не стало его тогда, когда на дворе уж давно стояла не архаическая, а следующая, классическая эпоха — очень даже иная по множеству своих параметров. В частности, лирика как таковая верно шла навстречу своей смерти, уступала место драме. Но великий фиванец как будто не замечал перемен; он до предела совершенствовал старинный стиль торжественной, пышной оды. Не случайно у нас нередко называли «русским Пиндаром» не кого иного, как Ломоносова, столь преуспевшего в высоком одическом слоге.
Вот цитата из «настоящего», греческого Пиндара, взятая едва ли не наугад. Впрочем, у него какое место ни начнешь читать — тут же как бы подхватывает некий бурный поток смелых, порой несколько непонятных образов, сменяющих друг друга по какой-то странной ассоциативной связи.
О златая лира! Общий удел Аполлона и муз
В темных, словно фиалки, кудрях.
Ты основа песни, и радости ты почин!
Знакам, данным тобой, послушны певцы,
Лишь только запевам, ведущим хор,
Дашь начало звонкою дрожью.
Язык молний, блеск боевой угашаешь ты,
Вечного пламени вспышку; и дремлет
Зевса орел на его жезле,
Низко к земле опустив
Быстрые крылья, —
Птиц владыка. Ты ему на главу с его клювом кривым
Тучу темную сама излила,
Взор замкнула сладким ключом — и в глубоком сне
Тихо влажную спину вздымает он,
Песней твоей покорен. И сам Арей,
Мощный воин, песнею сердце свое
Тешит, вдруг покинув щетинистых копий строй.
Чарами души богов покоряет
Песни стрела из искусных рук
Сына Латоны и дев —
Муз пышногрудых…
(Пиндар. Пифийские оды. I. 1 слл.)
Да уж, по полету причудливой фантазии Пиндар подобен каким-нибудь скандинавским скальдам с их кеннингами — сложными, многоуровневыми метафорически-метонимическими фигурами. Фиванский лирик порой не прочь поразить слушателей крайне парадоксальным ходом мысли. Например:
Лучше всего на свете —
Вода;
Но золото,
Как огонь, пылающий в ночи,
Затмевает гордыню любых богатств.
(Пиндар. Олимпийские оды. I. 1 слл.)
Заметим, какой зачин: «Лучше всего на свете…» И после этого, несомненно, пауза. Так что же лучше всего на свете? И вдруг — неожиданное «вода». Вода, которую можно встретить на каждом шагу. А золото, получается, лишь на втором месте. То самое золото, которое так любили греки, за которым они — поскольку в их собственной стране оно почти не встречалось — отправлялись в далекие плавания… Кому не знаком миф о том, как Ясон с сотоварищами на знаменитом корабле «Арго» добывал золотое руно в Колхиде (то есть в Западной Грузии)?
Но возвращаемся к разговору о стихотворных размерах в мелике. Перед нашими глазами прошли два отрывка из Пиндара. Первый перевела М. Е. Грабарь-Пассек, стараясь по возможности передавать средствами нашего языка пиндаровскую метрику (или хотя бы держаться близко к ней). И сразу можно увидеть: какая сложная метрическая система! До того сложная, что непросто уловить какие-то закономерности в ней. Тем не менее закономерности были, и весьма строгие.
Во втором случае (в котором вроде бы всё выглядит гораздо проще) перевод принадлежит уже знакомому нам М. Л. Гаспарову. Этот выдающийся специалист осуществил, в числе прочих своих заслуг, полное русское издание стихов Пиндара
[95]. И в статье, сопровождавшей это издание, оговорил, что, ощущая полную свою неспособность адекватно воспроизвести размеры, которыми пользовался фиванский поэт, он даже и не стал пытаться это делать, а попросту переводил, не опираясь на какую-либо метрику в принципе. Иными словами, верлибром.
Автор этих строк, признаться, все-таки не верит, что никак невозможно перевести Пиндара, сохраняя и смысл и размеры. Полагаем, что когда-нибудь это будет сделано в отечественной словесности. И если такое произойдет — то можно будет сказать, что свершилось воистину событие. Ибо на поприще лирической поэзии равных Пиндару (в мировом масштабе!) не было, нет и, наверное, уже не будет.
Но вернемся к более ранним представителям мелики, более или менее современным Сапфо. Нельзя не упомянуть поэта Алкмана, работавшего в VII веке до н. э. Городом, в котором он жил и творил, была Спарта. Выше уже упоминался один спартанский лирик того же времени — Тиртей, известный крайней мужественностью, воинственностью своих элегий. У Алкмана с ним — ничего общего, он в стихах демонстративно миролюбив. Возможно, связано это с тем, что Алкман являлся не коренным спартанцем, а греком из Лидии (уроженцем ее столицы — Сард), перебравшимся на жительство в спартанский полис, возможно, потому, что тот слыл самым могущественным в Элладе.
Алкмана прославили песни, сочиненные им для девичьих хоров. Такие песни назывались парфениями — от слова
парфенос, означавшего «дева», «девушка». Тут уж, видимо, имеет смысл сказать, что знаменитый афинский Парфенон — величайший архитектурный шедевр всех времен и народов — именно потому так и называется, что он был «храмом Девы». Парфенон строили в честь Афины, которую греческие мифы изображали богиней-девственницей. По иронии судьбы, после смены язычества христианством на эллинской земле Парфенон был переоборудован в церковь Богородицы. Почитание одной Девы органично перешло в почитание другой…
Сейчас мы приведем один отрывок из Алкмана, исполненный глубокой и высокой лиричности. Это — картинка из жизни природы. Вообще говоря, древнегреческая культура не очень-то тяготела к пейзажности
[96], но архаические лирики тут как раз были исключением. Мы и в дальнейшем тоже — и у Алкея, и, конечно, у Сапфо, к рассказу о которой мы всё ближе подходим, — неоднократно встретим щемящие, за душу берущие описания природных красот. А применительно к тому фрагменту Алкмана, который будет процитирован, можем с полной уверенностью сказать одно: в нашей стране у каждого, кто прочтет эти несколько строк, обязательно возникнут некие ассоциации — пусть несколько смутные, неясные, но притом безусловные. Некий эффект дежавю: почему-то, откуда-то это знакомо…
Спят вершины высокие гор и бездн провалы,
Спят утесы и ущелья,
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел,
звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстролетающих птиц.
(Алкман. фр. 89 Page)
Согласитесь: даже вне зависимости от каких бы то ни было ассоциаций уже этого отрывка достаточно, чтобы признать: перед нами великий поэт. А это — лишь один из когорты архаических эллинских лириков, и любой другой из них — фигура такого же масштаба.
Теперь об эффекте дежавю. Объясняется он просто. В свое время великий Гёте перевел эту вещицу Алкмана на немецкий. А получившееся в итоге стихотворение Гёте, в свою очередь, перевел на русский язык Лермонтов. И вот что в итоге вышло:
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Эти строки ведь принадлежат к числу самых знаменитых во всей истории русской поэзии. Какой свежестью веет от них! Почти такой же, как от алкмановского оригинала. Хотя, естественно, Лермонтов — на то и гений — внес в стихи свои мысли, свои эмоции, отсутствовавшие у эллина. Возможно, он даже и не знал, что переводит в конечном счете произведение античного автора. Даже скорее всего, что это было именно так: стихотворение озаглавлено им «Из Гёте», а отнюдь не «Из Алкмана». Древнегреческого языка не знал даже Пушкин, окончивший Царскосельский лицей — одно из лучших учебных заведений тогдашней России; что ж говорить о Лермонтове, который прожил жизнь гусара?
Ведя рассказ об архаической мелике, никак нельзя обойти стороной и имя Анакреонта, хотя оно и упоминалось уже выше. Этот уроженец Теоса как-то написал о себе:
…Бросился я
в ночь со скалы Левкадской
И безвольно ношусь
в волнах седых,
пьяный от жаркой страсти.
(Анакреонт. фр. 31 Page)
С Левкадской скалы (на острове Левкада, к западу от Греции) по обыкновению бросались в море те, кого уж совсем истерзала безответная любовь. Прыжок, как правило, не был смертельным, поскольку принимались определенные меры предосторожности: к прыгающему «привязывали всякого рода перья и птиц, чтобы парением облегчить прыжок, а внизу множество людей в маленьких рыбачьих лодках, расположенных кругом, подхватывали жертву; его (бросившегося. —
И. С.) по возможности невредимым переправляли за пределы своей страны» (
Страбон. География. X. 452).
Ох сколько легенд было связано у эллинов с Левкадской скалой! Согласно одному из рассказов (несомненно, не имеющему ничего общего с действительностью), сама Сапфо совершила прыжок с нее, не в силах справиться со своей неразделенной любовью к красавцу Фаону. Причем для нее этот прыжок будто бы стал-таки последним; так-де она и погибла.
Да и у Анакреонта здесь мы имеем лишь красивый образ, словесные красоты, не более того. Никогда не решился бы на столь опасное дело поэт-гедонист, горячо влюбленный в жизнь с ее радостями и наслаждениями и остро боящийся смерти. Вот что он говорит в одном из стихотворений, написанных, как видно из содержания, уже в немолодом возрасте:
Сединой виски покрылись, голова вся побелела,
Свежесть юности умчалась, зубы старческие слабы.
Жизнью сладостной недолго наслаждаться мне осталось.
Потому-то я и плачу — Тартар мысль мою пугает!
Ведь ужасна глубь Аида — тяжело в нее спускаться.
Кто сошел туда — готово: для него уж нет возврата.
(Анакреонт. фр. 50 Page)
Но все-таки «безвольно ношусь в волнах седых» — это в точности об Анакреонте. Вот только носился-то он в этих седых эгейских волнах от одного греческого города к другому. То он оказывался при дворе самосского тирана, то при дворе тиранов афинских (талант ведь повсюду ценят правители-меценаты) — и всё в поисках легкого существования, безбедного, обеспеченного, наполненного любовью и вином.
Принеси мне чашу, отрок — осушу ее я разом!
Ты воды ковшей с десяток в чашу влей, пять — хмельной браги,
И тогда, объятый Вакхом, Вакха я прославлю чинно.
Ведь пирушку мы наладим не по-скифски: не допустим
Мы ни гомона, ни криков, но под звуки дивной песни
Отпивать из чаши будем.
(Анакреонт. фр. 11 Page)
Перед нами — типичная обстановка эллинского симпосия. Приводятся даже детали: как видим, поэт предпочитал, чтобы вино с водой было смешано в пропорции 1:2 (несколько крепче, чем пили обычно, — 1:3).
И все-таки это тоже позиция. Определенная жизненная позиция, честно и искренне выраженная:
Я ненавижу всех
Тех, кто заботы дня, тягость трудов своих
В душах лелеют. Тебя, кажется мне, Мегист,
Жизнь без тревог вести я научил сполна.
(Анакреонт. фр. 71 Page)
Наверное, за эту искренность, сочетающуюся с искрометным, сочным стихом, Анакреонта так любили — и в античности, и в последующие эпохи. А любили — значит подражали. Сапфо, которую, конечно, тоже знали все, даже в отдаленной степени не имела такого количества подражателей, как теосский старец. Среди его поклонников был, кстати, и наш Пушкин, неоднократно в своем творчестве обращавшийся к «анакреонтике». Правда, у него мы встретим скорее приблизительные переложения оригинала, нежели точные, научные переводы: тогда и техника таких переводов с классических языков была в России в зачаточном состоянии (ее как раз разрабатывал применительно к Гомеру современник Пушкина Николай Гнедич), да и сам Александр Сергеевич, как упоминалось, древнегреческим не владел и Анакреонта читал, полагаем, по-французски.
Два только что процитированных отрывка из теосского лирика как раз существуют и в «переводах» Пушкина. Это стихотворения «Поредели, побелели / кудри, честь главы моей…» и «Что же сухо в чаше дно? / Наливай мне, мальчик резвый…». Оба входят в любое собрание сочинений великого русского поэта.
* * *
Но самая крупная, самая прославленная школа мелической поэзии сложилась в VII веке до н. э. на острове Лесбос. Именно к ней принадлежала и наша героиня, и поэтому о лесбосских лириках имеет смысл рассказать подробнее, чем о каких-либо иных.
Первым по времени из них считается Терпандр. Впрочем, о жизни этого поэта известно довольно мало (сообщается, в частности, что со своей родины он перебрался в Спарту), да и дошли до нас из его наследия совсем уж жалкие отрывки. Один из этих фрагментов все-таки хотелось бы процитировать ввиду его необычности. Это — гимн Зевсу (или, вероятнее, только начало гимна, его первые строки), а особенность стихотворения — в том, что оно написано только долгими слогами. Мы уже знаем, что в античной метрике имели значение именно долгота или краткость слога, а не его ударная или безударная позиция. Но как передать редкий пример, примененный Терпандром, средствами современного стихосложения? Получается, что единственным способом: сделать так, чтобы в переводе были только ударные слоги (а это значит, что должны употребляться одни лишь односложные слова). В начале прошлого столетия именно нечто подобное и попытался сделать Вячеслав Иванов — яркий представитель российской культуры Серебряного века, ученейший поэт, тонко и глубоко знавший и чувствовавший литературу Эллады. Удачно ли то, что у него получилось, — судить читателю:
Зевс, ты — всех дел верх,
Зевс, ты — всех дел вождь!
Ты будь сих слов царь;
Ты правь мой гимн, Зевс!
(Терпандр. фр. 2 Page)
Вообще, следует сказать, что именно лирики Лесбоса в большой степени выделялись стремлением к метрическим экспериментам, к изобретению новых стихотворных размеров. Отнюдь не случайно, что именно на этом острове появились сапфическая строфа и алкеева строфа, которыми в дальнейшем постоянно пользовались античные поэты — и древнегреческие, и, впоследствии, римские.
Оба этих размера гораздо сложнее встречавшихся нам ранее гекзаметра, элегического дистиха и ямбического триметра. Каждый из них состоит из четырех строк неодинаковой длины, в которых к тому же чередуются различные метры. Конкретные примеры нам еще неоднократно предстоит увидеть (а сапфическая строфа, кстати, уже попадалась и выше). Пока же оговорим, что название они получили, естественно, в честь своих изобретателей, которыми считались, соответственно, Сапфо, которой посвящена эта книга, и тоже уже знакомый нам ее современник Алкей. Впрочем, нововведения великих лириков не оставались в их, так сказать, монопольном употреблении. И Алкей не раз писал сапфической строфой, и Сапфо, случалось, алкеевой.
На Алкее необходимо остановиться более детально, и это вот-вот уже будет сделано. Но перед этим нельзя не сказать хотя бы несколько слов об еще одном лесбосском лирике. Это — знаменитый Арион. Тут перед нами парадокс: имя Ариона знакомо, наверное, любому образованному человеку (хотя бы по пушкинскому стихотворению, названному в его честь), а вот может ли кто-нибудь сказать, что читал его сочинения? Нет — поскольку из его стихов не сохранилось вообще ничего.
А при жизни его слава была чрезвычайно громкой. Впрочем, слава не только (может быть, даже и не столько) как автора, сколько как кифареда — певца и музыканта, исполнявшего собственные произведения. Об Арионе сложилась даже известная легенда, содержащаяся в труде Геродота:
«Арион из Мефимны (города на Лесбосе. —
И. С.) был… несравненный кифаред своего времени и, насколько я знаю, первым стал сочинять дифирамб (тип торжественной песни, чаще всего в честь Диониса. —
И. С.), дал ему имя… Этот-то Арион бо́льшую часть времени своей жизни провел у Периандра (коринфского тирана. —
И. С.) и затем решил отплыть в Италию и Сицилию. Там он нажил великое богатство, потом пожелал возвратиться назад в Коринф. Он отправился в путь из Таранта (греческого города в Южной Италии. —
И. С.) и, так как никому не доверял больше коринфян, нанял корабль у коринфских мореходов. А корабельщики задумали злое дело: в открытом море выбросить Ариона в море и завладеть его сокровищами. Арион же, догадавшись о их умысле, стал умолять сохранить ему жизнь, предлагая отдать все свои сокровища. Однако ему не удалось смягчить корабельщиков. Они велели Ариону либо самому лишить себя жизни, чтобы быть погребенным в земле, либо сейчас же броситься в море. В таком отчаянном положении Арион всё же упросил корабельщиков (раз уж таково их решение) по крайней мере позволить ему спеть в полном наряде певца, став на скамью гребцов. Он обещал, что, пропев свою песнь, сам лишит себя жизни. Тогда корабельщики перешли с кормы на середину корабля, радуясь, что им предстоит услышать лучшего певца на свете. Арион же, облачась в полный наряд певца, взял кифару и, стоя на корме, исполнил торжественную песнь. Окончив песнь, он, как был во всем наряде, ринулся в море. Между тем корабельщики отплыли в Коринф. Ариона же, как рассказывают, подхватил на спину дельфин и вынес к Тенару (мысу на юге Пелопоннеса. —
И. С.). Арион вышел на берег и в своем наряде певца отправился в Коринф. По прибытии туда он рассказал всё, что с ним случилось. Периандр же не поверил рассказу и велел заключить Ариона под стражу и никуда не выпускать, а за корабельщиками внимательно следить. Когда же те прибыли в Коринф, Периандр призвал их к себе и спросил, что им известно об Арионе. Корабельщики отвечали, что Арион живет и здравствует где-то в Италии и они-де оставили его в Таранте в полном благополучии. Тогда внезапно появился Арион в том самом одеянии, в каком он бросился в море. Пораженные корабельщики не могли уже отрицать своей вины, так как были уличены. Так рассказывают коринфяне и лесбосцы. А на Тенаре есть небольшая медная статуя — жертвенный дар Ариона, — изображающая человека на дельфине»
(Геродот. История. I. 23–24).
Это — одно из характерных в древнегреческой среде сказаний о «волшебной силе искусства». Бессловесное животное, дельфин, заслушавшись знаменитого кифареда, спасает его от гибели. У эллинов существовали и многочисленные другие легенды аналогичного рода, — о том, как пение Орфея заставляло двигаться деревья и камни, или об «Ивиковых журавлях»… Но почему-то именно дельфины считались особенно восприимчивыми к музыке. Вот, например, история, которую мы встречаем у другого, гораздо более позднего автора и применительно к совсем другим местам — побережьям пролива Боспор Фракийский (ныне Босфор):
«Следующая местность именуется Дельфином и Карандом. А причина таких названий следующая. Там поселился некий Халкид, родом византиец (то есть из города Виза́нтия. —
И. С.), а по занятию — кифаред, не уступавший никому из лучших мастеров этого искусства. Когда он, одетый в свое облачение, пел ном (один из видов торжественных песнопений. —
И. С.) в высоком тоне, из глубины выплывал дельфин, прислушиваясь к приятным звукам песни и, останавливаясь у самого выхода из моря, высовывался из воды: животное хотело слышать мелодию целиком и внятно, не заглушаемую для слуха подводными шумами. И так оно наслаждалось и радовалось, пока длилось пение Халкида. А когда тот заканчивал, дельфин погружался в море, возвращаясь к своему обычному образу жизни. А Каранд был пастух, живший поблизости. Он, — возможно, из зависти и ненависти к Халкиду, но, может быть, и из жадности — подстерег дельфина, когда тот медленно скользил по морю и на самом очаровательном месте мелодии высунулся наружу, и поразил его насмерть. Но ему не досталась эта добыча: ведь Халкид пышно похоронил своего слушателя. Он и дал этим местам названия Дельфин и Каранд: первого хотел он почтить памятью, второму же отомстить» (
Дионисий Византийский. Плавание по Боспору. 42).
Пожалуй, в связи с Терпандром и Арионом можно отметить еще вот что. Оба они — уроженцы Лесбоса, но прославились за его пределами. Лесбосские поэты, насколько можно судить, вообще были востребованы по всему эллинскому миру и путешествовали — не в последнюю очередь, конечно, ради высоких гонораров. Ариона, как мы видели, «занесло» даже в колонии далекой западной Италии. Но вот Сапфо и Алкей творили в основном на своей родине.
Мы как раз переходим к Алкею, жившему в Митилене — самом крупном городе Лесбоса. Годы рождения и смерти поэта нельзя назвать с полной определенностью. Обычно его деятельность датируют несколько «округленно»: конец VII — начало VI века до н. э. Алкей был знатным аристократом, человеком горячего политического темперамента, активным участником междоусобных войн в родном городе. Не случайно сборник своих стихотворений он озаглавил «Песни гражданской смуты».
Медью воинской весь блестит,
весь оружием убран дом —
Арею в честь!
Тут шеломы как жар горят,
и колышутся белые
на них хвосты;
Там блестящие медные
поразвешены поножи —
покров от стрел;
Вот холстинные панцири,
вот и полые, круглые
лежат щиты;
Есть булаты халкидские,
есть и пояс, и перевязь;
готово всё!
Ничего не забыто здесь;
не забудем и мы, друзья,
за что взялись!
(Алкей. фр. 357 Lobel-Page)
Воистину незабываемая по яркости картинка, но подготовка к чему, собственно, здесь изображена? К отражению внешнего врага? Конечно же нет. К перевороту, к уличной стычке с согражданами, — одним словом, к очередному витку внутриполисного конфликта. И песнь поэта явным образом исполняется им на пирушке-симпосии, где собрались его сотоварищи по гетерии, дабы заодно и устроить смотр своего вооружения.
В конфликт, в борьбу Алкей втянут буквально всеми силами своей души. Политика — главная тема его произведений. Не случайно они входят в число самых главных и лучших источников по политической истории архаического Лесбоса, которая была чрезвычайно богата разного рода смутами. Когда в следующей главе о ней пойдет речь, нам нередко придется обращаться к данным, почерпнутым из стихов Алкея. И, кстати, всегда нужно будет учитывать, что данные эти — в высшей степени тенденциозны, субъективны. Нашего поэта никак не назовешь беспристрастным. Какая-нибудь удача его гетерии повергает его в бурную радость, а неудача, напротив, заставляет буквально зубами скрипеть от злости. Если уж кто-то для Алкея враг, то поэт обливает его потоком издевательской, порой самой низкопробной брани, — даже если это входит в полную противоположность с исторической истиной.
Например, правитель Митилены Питтак от всех остальных античных авторов получил исключительно высокую оценку. А Алкей находит для него слова только в таком вот духе:
Всенародным судом
Отдали вы
Родину бедную,
Злополучный наш град,
В руки — кому ж?
Родины пасынку!
Стал тираном Питтак,
Города враг,
Родины выродок.
(Алкей. фр. 348 Lobel-Page)
Лирик не гнушается даже нападками на внешний облик Питтака. Тот был невысоким, коренастым — поэтому для Алкея он всегда «толстяк», «пузан», а то и какая-нибудь «косолапая деревенщина». Или возьмем такой выпад:
…На всех попойках бражник безудержный,
С утра пьянел он полными кубками
Неразбавляемого хмеля,
А по ночам клокотал в застолье.
Он не оставил прежних обычаев
И в новой доле, первый меж первыми,
Задорясь пьяными ночами
Так, что у бочек трещало днище.
Каким отцом, такой же и матерью
Рожденный, ты ли требуешь почести,
Как будто вольный и достойный…
(Алкей. фр. 72 Lobel-Page)
Здесь Питтак в гиперболизированной форме обвиняется в якобы присущей ему чрезмерной страсти к винопитию (хотя не думаем, что в этом плане он как-то особо отличался от остальных представителей лесбосской элиты). Ну, и, конечно, не обходится без попрека «низким», «недостойным» происхождением…
Откуда же такая жгучая ненависть? Всё выясняется из следующего стихотворения:
Не всегда продувной
Бестией был Питтак
И беспечен умом.
Нам, главарям, клялся,
На алтарь положа
Руку, а сам берег
Злорадетелей родины…
(Алкей. фр. 67 Lobel-Page)
Как видим, вот в чем дело: вначале Питтак был союзником Алкея, входил в одну с ним гетерию, а потом отделился от нее, и их политические пути разошлись. Понятно, что поэт воспринял это как черное предательство, а предателей ненавидят, как известно, сильнее, чем просто врагов.
В алкеевской политической лирике рефреном проходит один развернутый образ, очень сильный и оригинальный для того времени: государство, погруженное в пучину гражданских смут, уподобляется попавшему в бурю кораблю. Похоже, у Алкея эту метафору позаимствовал и Феогнид, использовав ее в элегии, которая уже звучала.
«Морские» стихи Алкея (хотя на самом деле они и не вполне морские, учитывая их аллегорический характер) необычайно сильны, они принадлежат к высочайшим шедеврам всей античной лирики. Главные из них просто нельзя не процитировать, тем более что тут видны блестящие образчики алкеевой строфы:
Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся — этот отсюда, тот
Отсюда… В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смоленым.
Едва противясь натиску злобных волн,
Уж захлестнула палубу сплошь вода;
Уже просвечивает парус,
Весь продырявлен. Ослабли скрепы.
(Алкей. фр. 326 Lobel-Page)
Под взметом вихря новый взъярился вал.
Навис угрозой тяжких трудов и бед.
Натерпимся, когда на судно
Бурно обрушится пенный гребень.
Дружней за дело! И возведем оплот,
Как медной броней, борт опояшем мы,
Противоборствуя пучине,
В гавань надежную бег направим.
Да не поддастся слабости круг борцов!
Друзья, грядет к нам буря великая.
О, вспомните борьбу былую,
Каждый пусть ныне стяжает славу.
Не посрамим же трусостью предков прах,
В земле под нами тут упокоенных:
Они воздвигли этот город
На благоденствие нам, потомкам.
Но есть иные — люди, не властные
В своих желаньях. Темным страстям служа,
Их опозоренные руки
Предали город рукам таким же.
(Алкей. фр. 6 Lobel-Page)
Что делать, буря не унимается,
Срывает якорь яростью буйных сил,
Уж груз в пучину брошен. В схватке
С глубью кипящей гребут, как могут.
Но, уступая тяжким ударам волн,
Не хочет больше с бурей бороться струг:
Он рад бы наскочить на камень
И погрузиться на дно пучины.
Такой довлеет жребий ему, друзья,
И я всем сердцем рад позабыть беду,
И с вами разделить веселье,
И насладиться за чашей Вакха.
Тогда нас гибель ждет неминуемо.
Безумец жалкий сам ослепит себя —
Но мы…
(Алкей. фр. 73 Lobel-Page)
Строка внезапно обрывается. И, как ни странно, это выглядит органично. Как бы последний выкрик утопающего — а дальше всё захлестнуто волнами, которые так и ходят, так и ходят в этих строках Алкея. Нам кажется, что и сама алкеева строфа родилась в уме моряка, который видел волны не так, как певцы эпоса, взиравшие на них с берега (с берега-то они все видятся более или менее
равномерными), а именно так, как видят их мореходы с корабля: все волны разные, не случайно же представление о девятом вале.
Смоленый, терпкий, воистину морской дух ощущаем мы, читая процитированные стихи Алкея. И это даже несмотря на то, что мыслит-то он тут отнюдь не о море. Аллюзии предельно прозрачны: корабль — это город, он тонет, его надо как-то спасать… Как? Темпераментный Алкей, поэт-политик, твердо знал рецепт спасения: свергать, свергать, свергать… Не важно кого, но главное — что любой существующий режим нехорош, а хорош он станет тогда, когда к власти придет сам Алкей с единомышленниками.
Судьба поэта складывалась по-разному; порой и он ощущал себя каким-то абсентеистом и выдавал следующие (совершенно гениальные!) строки:
Дождит отец Зевс с неба ненастного,
И ветер дует стужею севера;
И стынут струйки дождевые,
И замерзают ручьи под вьюгой.
Как быть зимой нам? Слушай: огонь зажги
Да, не жалея, в кубки глубокие
Лей хмель отрадный, да теплее
По уши в мягкую шерсть укройся.
(Алкей. фр. 338 Lobel-Page)
Что-то глубоко пушкинское звучит для нас в этих стихах (помните: «Выпьем с горя, где же кружка? / Сердцу станет веселей»?). Но, конечно, со скидкой на особенности климата. Алкей описывает зиму, но что представляет собой греческая, средиземноморская, субтропическая зима? Она вызывает ровно те же ассоциации, что для нас, жителей умеренных широт, — осень. В нашем понимании зима — это морозы, сугробы… А для эллина с зимой связывалось совсем иное — дождь, слякоть, пронизывающий ветер.
Алкей был вообще мастером описаний природных явлений — особенно процессов изменений в природе. Иной раз его читаешь как будто Фета:
И звенят и гремят
вдоль проездных дорог
За каймою цветов
многоголосые
Хоры птиц на дубах
с близких лагун и гор;
Там вода с высоты
льется студеная,
Голубеющих лоз —
всходов кормилица.
По прибрежью камыш
в шапках зеленых спит.
Чу! Кукушка с холма
гулко-болтливая
Всё кукует: весна.
Ласточка птенчиков
Под карнизами крыш
кормит по улицам.
Хлопотливо мелькнет
в трепете быстрых крыл,
Чуть послышится ей
тонкое теньканье.
(Алкей. фр 115 Lobel-Page)
А вот любовная тематика, судя по всему, не была этому лирику особенно близка. Позже сложилась легенда, будто бы Алкей был безответно влюблен в Сапфо. И написал ей такие строки:
Сапфо фиалкокудрая, чистая,
С улыбкой нежной! Очень мне хочется
Сказать тебе кой-что тихонько,
Только не смею: мне стыд мешает.
(Алкей. фр. 384 Lobel-Page)
А поэтесса будто бы ответила ему другим четверостишием (которое, кстати, тоже написано алкеевым стихом, хотя к нему Сапфо вообще-то обращалась редко):
Будь цель прекрасна и высока твоя,
Не будь позорным, что́ ты сказать хотел, —
Стыдясь, ты глаз не опустил бы,
Прямо сказал бы ты всё, что хочешь.
(Сапфо. фр. 137 Lobel-Page)
Иными словами, Алкей тут как бы пытается заигрывать с Сапфо, используя смесь комплиментов и туманных намеков. А она не принимает этого игривого тона и дает решительный отпор, даже пристыжает земляка. Впрочем, современные ученые с достаточными основаниями отрицают достоверность этой стихотворной «дуэли». Скорее всего, она была кем-то придумана позже, тогда же были сочинены и соответствующие строфы. Что поделать — подобный миф просто не мог не возникнуть: Сапфо и Алкей жили в одно и то же время, в одном и том же месте. Нельзя допустить, чтобы они не были знакомы друг с другом. И, конечно, трудно было отказаться от соблазна домыслить какие-то детали их личных отношений…
* * *
Завершая эту главу, совершенно необходимо хотя бы вкратце остановиться на проблеме диалектов античной эллинской поэзии. О чем вообще идет речь?
Древнегреческий язык подразделялся на ряд диалектов, несколько отличавшихся друг от друга. Подчеркнем, речь идет именно о незначительных отличиях, так что следует говорить не об отдельных языках, а именно о разновидностях одного и того же языка. Носители разных диалектов без проблем понимали друга, поддерживали вполне полноценное общение. Спартанец и афинянин, милетянин и обитатель, скажем, того же Лесбоса, вступая в разговор, отнюдь не нуждались в переводчике.
Собственно, что такое диалекты — это и поныне каждый из нас понимает. В русском они ведь тоже есть. Кто не слышал, что в северных регионах у нас «окают», в более южных — «акают»? Правда, чем дальше, тем больше — буквально на наших глазах — эти особенности стираются под влиянием общеязыковой нормы (в основе которой в России лежит московский говор). Кстати, могучими проводниками этой последней в условиях современности служат телевидение и радиовещание, теперь проникшие уже, наверное, и в самую отдаленную «глубинку». В результате люди, живущие в различных местностях, постоянно слышат слова языка в том звучании, которое ныне признано правильным, и сами сознательно или бессознательно воспроизводят в своей речи такое же звучание. Диалекты отмирают…
В античной Греции такого фактора, естественно, не было и не могло быть. И поэтому диалекты сохранялись на протяжении веков и веков, не утрачивая ни одной из своих специфических черт. Важно еще и то, что в отличие от тех же русских диалектов, существующих только в устной речи (нам случалось слышать, как говорят «стокан», «торелка», но никто, конечно же, так не пишет), различия между древнегреческими диалектами фиксировались и на письме. Различия эти имели в основном фонетический характер, то есть в одних и тех же словах носителями разных диалектов отдельные звуки произносились неодинаково. Так, имя одной и той же богини (мы ее знаем как Афину) афинянин произносил «Атена», коринфянин — «Атана», милетянин — «Атене» и т. д.
Диалектов было довольно много. Важнейшими из них принято считать аттический, дорийский, ионийский и эолийский. Первый использовался в Афинах, второй — в основном на юге Греции, на полуострове Пелопоннесе, где находились такие значительные города, как Спарта, Коринф, Аргос… На ионийском диалекте говорили, разумеется, в Ионии как таковой — греческой области на западном побережье Малой Азии, — а также на большинстве островов Эгейского моря. А главным центром распространения эолийского диалекта была, соответственно, Эолида. Так называлась местность, расположенная к северу от Ионии. К ней принадлежали остров Лесбос и прилегающие материковые малоазийские территории.
Таким образом, для Сапфо, жительницы Лесбоса, родным был именно эолийский диалект — в его лесбосской разновидности. Дело в том, что даже в рамках одного и того же диалекта полного единообразия не наблюдалось, — напротив того, фиксировались, так сказать, «подвиды». Дорийцы Спарты говорили не вполне так же, как дорийцы Коринфа, и речь эолийцев Лесбоса имела некоторые отличия от речи обитателей совсем недалекой материковой Кимы, хотя те тоже были эолийцами.
Соответственно, в трудах о языке Сапфо (и прочих поэтов той школы, к которой она принадлежала, — Алкея и др.) разные ученые пользуются понятиями «лесбосский вариант эолийского диалекта», «лесбосско-эолийский диалект» или даже просто «лесбосский диалект». Какое из этих определений лучше — в рамках данной книги в общем-то не имеет принципиального значения. Лично автору представляется, что первое из них наиболее точно, зато последнее имеет другое преимущество — оно самое короткое. Может быть, имеет смысл в основном им и пользоваться в дальнейшем.
Специально нужно оговорить: на лесбосском диалекте Сапфо не только говорила, но и писала. Но, казалось бы, разве может быть иначе? Оказывается, в античной Греции — могло. В ней рано сложилось обыкновение, по которому в различных жанрах поэзии требовалось пользоваться строго определенными диалектами. Так, элегии можно было сочинять только по-ионийски. И именно так поступали Солон, Тиртей, Феогнид, несмотря на то, что первый из них был афинянином, а остальные два — дорийцами. Таким образом, каждый из них писал не на родном диалекте, не на том, который употреблял в повседневном устном общении.
А вот с меликой лесбосской школы было иначе: ее представители — так уж повелось — писали так же, как и говорили, то есть на своем эолийском диалекте в том его варианте, который звучал на Лесбосе. Сказанное относится, само собой, и к Сапфо.
МАЛАЯ РОДИНА: ОСТРОВ ЛЕСБОС
Что для грека или гречанки входило в понятие «родины»? Иными словами, к чему относился патриотизм античных эллинов? В том, что они были патриотами — и очень горячими патриотами! — сомневаться не приходится. Собственно, и само слово «патриот», вошедшее в интернациональную лексику, происходит именно из древнегреческого языка, в основе его — существительное
patris, которое как раз и означает «родина», «отечество» (оно в свою очередь образовано от
pater — «отец»).
Однако, следует подчеркнуть, эллинский патриотизм имел, в сущности, исключительно полисный характер. В качестве родины воспринималась отнюдь не Греция в целом, а именно тот город или остров, где человек родился и жил. Свой, так сказать. Афинянин был патриотом Афин, спартанец — патриотом Спарты, милетянин — патриотом Милета… И так далее. Да и как могло быть иначе, коль скоро полисы — те же Афины и Спарта, Милет и соседний Самос — очень часто воевали друг с другом?
У нас есть понятие малой родины — не столько противопоставляемое понятию Родины большой (их даже и принято писать, соответственно, со строчной и прописной букв), сколько дополняющее ее. Любой житель России — в то же время москвич, или рязанец, или Вологжанин… «Тихая моя родина» — так озаглавил свое прекрасное стихотворение, кстати, как раз поэт-вологжанин, Николай Рубцов. И уже из этого названия видно: речь пойдет именно о родине в узком смысле. О родине, а не о Родине. Последнюю «тихой» назвать трудно.
А вот у греков, если вдуматься, была только «малая родина». Во всяком случае, это совершенно верно применительно к архаической эпохе, когда жила и писала Сапфо. Уже позже положение дел начало меняться — когда в начале V века до н. э. на Элладу пошла рать всего Востока, сплотившаяся под скипетром персидских царей… Вот тогда-то, отражая эту опаснейшую угрозу, греки и задумались всерьез о собственном единстве. Возникло противопоставление «эллинов» и «варваров» (то есть греков и всех остальных, всех не-греков
[97]). И кончилось это ментальное, а затем и политическое движение (панэллинизм — так его называют ученые) тем, что Греция, объединившись под гегемонией Македонии — самого северного из находившихся на ее территории государств, — сама покорила всю колоссальную Персию. Кто не слышал о походах Александра Македонского (Великого)?
Но Сапфо-то о них точно не слышала, поскольку они состоялись спустя несколько столетий после ее смерти. А во времена нашей героини, что бы там ни говорилось, имела место парадоксальная ситуация: в политической сфере — абсолютный партикуляризм, при одновременном наличии в культурно-ментальной сфере предельно четкого понятия о том, что эллины — единый народ: говорящий на одном и том же языке (непринципиальные различия между диалектами — не в счет), верящий в одних и тех же богов, наслаждающийся одними и теми же произведениями искусства и литературы (естественно, поэмами Гомера заслушивались повсюду, где только жили греки), имеющий общий образ жизни, общую историческую судьбу… А вот побуждения создать единое государство как-то не возникало.
Взглянем на любую карту Греции: прежде всего бросится в глаза просто-таки усыпанное островами Эгейское море, которое в этом отношении ни в малейшей мере не схоже с каким-нибудь другим морем Европы
[98]. Этих островов, наверное, сотни! По большей части они невелики, но есть и несколько крупных. Эти последние (если не считать особенно заметного Крита, а также Эвбеи, настолько тесно прильнувшей к Греции как таковой, что даже не сразу и различишь разделяющий их узкий пролив) в основном как бы жмутся к восточному, малоазийскому побережью Эгеиды. Если перечислить их, следуя с юга на север, то перед нами они пройдут в таком порядке: Родос, Самос, Хиос, Лесбос.
Кстати, заметим вот это характерное окончание
— ос. Исторически сложилось так, что названия эллинских островов употребляют с этим окончанием. Не только перечисленных, но и других: Парос, Фасос, Наксос, Делос, Мелос, Кос (и т. д., и т. п.). Хотя вообще-то при транскрипции остальных древнегреческих топонимов средствами русского языка это окончание обычно отбрасывают. Мы говорим и пишем не «Коринфос», а «Коринф», не «Олимпос», а «Олимп»…
А вот с островами сложилось как-то иначе. Может быть, потому, что их названия, примени к ним обычную практику удаления окончаний, зазвучали бы как-то уж чрезмерно непривычно, экзотически. И, главное, вызывали бы совсем неподходящие ассоциации. Остров Род? Остров Сам? Остров Пар? Остров Мел? А Кос — с ним-то как быть? Просто «К»?
Но возвращаемся к перечисленной выше четверке — Родос, Самос, Хиос, Лесбос. Из этих больших островов каждый чем-то был в античности знаменит. Уж о Родосе не говорим: о нем слышал каждый хотя бы в связи с Колоссом Родосским — самой большой статуей античного греческого мира, одним из семи чудес света. Родос, конечно, был прославлен и многим иным, но речь сейчас не о нем.
Далее, Самос — отечество великого Пифагора (хотя этот философ и ученый вынужден был покинуть родные места, преследуемый тираном Поликратом — еще одним выдающимся самосцем, — и местом своей дальнейшей деятельности избрал Южную Италию). На Хиосе изготовлялось лучшее во всей Греции вино. Но мы перемещаемся всё севернее, и вот перед нами — Лесбос. Тут мы и остановимся.
Сразу бросаются в глаза причудливые очертания острова, к которому в конце концов привел нас наш путь по карте Эгейского моря. С юго-западной стороны большой, с узкой горловиной, залив врезается в «плоть» Лесбоса, немного не дойдя до того, чтобы разделить его на две части. Поневоле закрадывается мысль: не было ли здесь вулкана в какую-нибудь незапамятную пору? Ведь Эгейское море в древности было регионом большой вулканической активности, и именно ее следами остаются аналогичные заливы-лагуны на многих тамошних островах. Особенно часто пишут в этой связи об острове Фера (Санторин); он расположен гораздо южнее, и именно на нем в середине II тысячелетия до н. э. произошло чудовищное извержение, погубившее критскую минойскую цивилизацию…
Но в значительном удалении от залива, о котором шла речь, находился самый крупный город Лесбоса — Митилена. Он лежал на востоке острова, и из него, конечно же, была прекрасно видна через неширокий пролив Малая Азия. Этот город и поныне является главным центром Лесбоса, и даже название его почти не изменилось (на новогреческом языке оно звучит как «Митилини»).
Впрочем, особенностью, отличавшей Лесбос от большинства других греческих островов, являлось наличие на нем нескольких полисов. Гораздо чаще было так: один остров — один полис. А вот на Лесбосе, помимо Митилены, находились еще Мефимна (выше упоминалось, что в ней родился Арион), Эрес (а вот в нем, судя по всему, появилась на свет наша героиня, — подробнее об этом будет говориться в следующей главе), Антисса, Пирра…
Роль этих маленьких городков явно была второстепенной, и политическая жизнь острова сосредоточивалась в основном в Митилене, там происходили ее наиболее яркие события. Тем не менее каждый из полисов острова являлся, как и подобало полису, вполне независимым государством со всеми атрибутами такового и отнюдь не находился по отношению к Митилене в административном подчинении или какой-либо иной форме зависимости.
Впрочем, можно догадываться, что лесбосские полисы все-таки поддерживали между собой несколько более близкие связи по сравнению с тем, как в норме было принято в Греции. Иначе вряд ли в условиях, когда на небольшом в общем-то пространстве (к тому же неизбежно замкнутом ввиду его островного положения) буквально бок о бок могло существовать несколько городов-государств. Это должно было подталкивать к достаточно интенсивному общению.
В частности, не будет чрезмерно фантастичным предположение, что между полисами Лесбоса действовал договор о
симполитии, то есть о взаимных правах гражданства. Иными словами, гражданин, допустим, Мефимны, тем самым являлся гражданином и Митилены, и Эреса, — в общем, всего Лесбоса. Симполития у эллинов хотя и редко, но встречалась, представляя собой самый тесный вид политических союзов из тех, которые у них практиковались.
А если не было симполитии — то уж точно должна была иметься как минимум
эпигамия. Этот последний термин обозначал правовую норму, согласно которой граждане разных полисов (то есть, естественно, гражданин какого-нибудь одного из них и гражданка какого-нибудь другого) могли вступать в брак, признававшийся законным в обоих этих полисах, со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями.
Вообще-то эпигамия в греческом мире была крайне редким явлением
[99]. Не любил, ох не любил гражданский коллектив практически любого полиса допускать чужих в свою среду. А женитьба «своего» гражданина на «не своей» женщине именно что-то в этом духе и предполагала. Не случайно в Афинах в 450 году до н. э. по инициативе Перикла был принят специальный закон, согласно которому афинянин имел право брать в жены только афинянку
[100]. В противном случае их отношения считались не браком, а обычным сожительством, при котором родившиеся дети автоматически получают статус незаконнорожденных. По сути, это равнялось запрещению жениться на ком-либо, кроме собственных согражданок.
Так вот, на Лесбосе явно было иначе. Такой вывод можно сделать хотя бы исходя из того, что Сапфо, родившись в Эресе, в конечном счете оказалась в Митилене — как замужняя женщина и мать (мать по меньшей мере одного ребенка — дочери Клеиды, о которой она упоминает в своих стихах; но ни из чего не следует, что у нее не было и других детей).
Притом из всего ясно, что положение Сапфо как законной супруги полноправного гражданина (а не какой-нибудь сожительницы, наложницы и т. п.) в Митилене не подвергалось сомнению. Даме подозрительного статуса, конечно, не доверили бы воспитание юных девушек, их подготовку к браку и семейной жизни.
Читатель наверняка заметил, что предыдущие несколько абзацев были написаны, так сказать, в «вероятностном модусе». Уж очень мало мы знаем (точнее, почти ничего не знаем) о внутриполитических процессах в лесбосских полисах архаической эпохи, потому-то часто и приходится довольствоваться догадками. Да и о чисто событийной истории этих государств в нашем распоряжении имеется лишь весьма скудный материал. Впрочем, вот тут как раз необходима оговорка: сказанное не относится к Митилене. История крупнейшего города Лесбоса во времена жизни Сапфо, то есть в VII–VI веках до н. э., может быть изложена со многими своими интересными подробностями, но предварительно стоит затронуть еще вот какой вопрос.
Жители Лесбоса, как упоминалось в предыдущей главе, говорили на эолийском диалекте древнегреческого языка. Поставим вопрос так: ведь те же самые диалекты — не просто же так они появились? Нет, конечно: каждый из них принадлежал к одной из племенных групп, или субэтносов, на которые делился эллинский народ.
Субэтносы внутри этноса — опять же явление вполне общечеловеческое. И в России, коль уж на то пошло, вполне четко зафиксированы субэтносы: поморы, казаки, сибиряки (чалдоны)… А когда-то — лет тысячу тому назад — были поляне, древляне, вятичи, кривичи и т. д.
История древнегреческих субэтносов, похоже, не менее богата. Во II тысячелетии до н. э. важнейшими из них были ахейцы. Не случайно еще Гомер в своих поэмах о Троянской войне часто употребляет именно термин «ахейцы», когда имеет в виду эллинов в целом.
Однако ахейцы на рубеже II–I тысячелетий до н. э. были оттеснены в горные области срединного и северного Пелопоннеса (Аркадию и Ахайю), где с тех пор и жили. Пришло время, когда на историческую арену выдвинулись субэтносы, которым с тех пор предстояло играть решающую роль: дорийцы, ионийцы и эолийцы.
Они расположились в Элладе как бы этажами или слоями. Да, действительно, имела место вот такая занятная ситуация: «трехэтажная Греция». Если ориентироваться по привычной нам карте, где север наверху, а юг снизу, то окажется, что «первый этаж» древнегреческого «дома» был занят дорийцами. Они заселили бо́льшую часть Пелопоннеса, Крит и другие острова южной части Эгейского моря, а также крайнюю юго-восточную оконечность Малой Азии. Севернее жили ионийцы. Ареал их обитания — Аттика, острова центральной части Эгеиды и, естественно, малоазийская Иония.
А еще севернее расположились эолийцы — к этой племенной группе древних греков принадлежала Сапфо. Эолийцы возводили свое происхождение к Эолу (потому так и назывались). Но не к Эолу — повелителю ветров, а к другому персонажу греческой мифологии, носившему такое же имя. Этот Эол, согласно мифам, был одним из сыновей Эллина — легендарного первопредка всех греков (эллинов).
Во II тысячелетии до н. э. эолийцы жили еще в материковой, Балканской Греции. Но уже тогда занимали ее северные районы — Беотию и Фессалию. Когда в Элладу с «огнем и мечом» вторглись дорийцы и другие племена с еще более дальнего севера, это привело к полной перекройке всей этнической карты страны. Вот тогда-то и эолийцы, спасаясь от истребления, в массе своей бежали на восток, за море. Обосновались они в конечном счете в той области, которая и стала называться Эолидой.
Кратко уже говорилось о том, что собой представляла Эолида, но теперь необходимо описать ее с большей детализацией. Это, в сущности, Лесбос и его окрестности — некоторые материковые районы прилегающего побережья Малой Азии. С запада Эолида омывалась Эгейскими волнами, а с остальных трех сторон граничила с другими областями: на юге — с Ионией, на востоке с Миссией, на севере — с Троадой (то есть регионом, получившим свое название от древней, к тому моменту уже разрушенной Трои).
Новые места были чужими, незнакомыми; их приходилось обживать. А это затруднялось, в числе прочего, и тем, что приходилось искать какой-то способ взаимоотношений с туземными, «варварскими» народами, далеко не всегда дружелюбно настроенными. Да что там говорить о «варварах», коль скоро и свои же собратья — поселившиеся поблизости греки других субэтносов — всегда готовы были пойти войной на тех соседей, что выглядели послабее, и по возможности чем-нибудь от них поживиться.
Характерный пример. Эолийцы основали в своей области 12 городов, которые постепенно сформировались в полноценные полисы. Однако через какое-то время этих эолийских городов было уже не двенадцать, а одиннадцать. Потеряна была Смирна — богатый и процветающий по тем временам приморский торговый центр. И захватили Смирну отнюдь не какие-нибудь «варвары», а греки-ионийцы, с юга, как мы знаем, соседствовавшие с эолийцами. Смирна превратилась в ионийский город.
Впрочем, для всех малоазийских эллинов — враждовали ли они или жили мирно — главной все-таки была «варварская» проблема. Ведь они воистину вели в своем роде «кромочное» существование на узкой полоске прибрежных земель: с одной стороны — море, с другой — древневосточные государства и племена.
Собственно, эта особенность характерна, пожалуй, не только для эолийцев или ионийцев, но и для греков как таковых. Ее уже тогда же подметил гениальный Платон, писавший: «…Мы теснимся вокруг нашего моря, словно муравьи или лягушки вокруг болота» (
Платон. Федон. 109 b).
Да, эллины, воздвигая свои города, действительно обосновывались на самой кромке беспредельного «варварского» мира; последний в своей европейской и западноазиатской части оказался в результате украшен по южному «подбрюшью» (средиземноморскому и черноморскому) этакой пестрой каймой греческих полисов (просим прошения за невольную метафору).
Вглубь материка греки не забирались (то есть совершали, конечно, туда поездки торгового и иного характера, но на постоянное жительство не переселялись). Да и не только вглубь материка! Даже Сицилия — хоть и большой, но остров — точно так же была лишь «обшита» эллинской «каймой» по побережьям, а в ее центральной части обитали одни «варварские» племена (сикулы, сиканы и др.).
Это интереснейшее явление — «кромочное» существование — не могло не породить особую психологию постоянного пограничья, «фронтира». Последняя в качестве одного из своих важных компонентов включала, естественно, впитавшуюся в «плоть и кровь» потребность постоянно быть начеку, всегда ожидать опасности.
Весьма закономерно и ожидаемо, что если та или иная группа прибывших греков имела возможность поселиться не на самом материке, а на каком-нибудь прибрежном острове, — то именно такой выбор по большей части и делался, во всяком случае на первых порах. Что и говорить, остров куда надежнее в плане защиты от вражеских угроз. Правда, нередко бывало и так, что через несколько десятилетий греки, в ограниченных островных условиях начиная уже ощущать тесноту и недостаток ресурсов, а с другой стороны — убеждаясь, что туземцы-варвары не так и страшны, как казалось попервоначалу, — совершали, как выражаются, «прыжок на материк», то есть переносили свой город туда. Впрочем, Лесбос как раз был одним из самых обширных и богатых островов Эгейского моря, так что его эллинским обитателям «прыгать» никуда не пришлось, они на нем так и остались.
Как бы то ни было, встреча с «иными», «чужими» — это далеко не непременно и даже, пожалуй, не в первую очередь стимул к
конфликтам. Как минимум не в меньшей степени это стимул к
контактам. Наиболее естественный вопрос, возникающий при подобного рода встречах — не «как мы можем им навредить?», а «что мы можем от них получить?». Такие ситуации должны были подталкивать не только к враждебности, но и к конструктивному диалогу.
Греки, обосновавшиеся на малоазийском берегу Эгейского моря, постепенно открывали для себя «варваров». Узнавали о них много нового. Хотя бы то, например, что «варвары» — не такие уж и дикие, как могло представиться на первый взгляд. Точнее будет выразиться так: что «варвары» могут быть очень и очень разными. Среди них встречались как этносы, живущие действительно еще вполне родо-племенным строем, так и носители достаточно высокой цивилизованности, создавшие свои государства и города.
Среди последних на особом месте стояли лидийцы. Их государство с VII века до н. э., когда в нем установилась власть династии Мермнадов, стало сильнейшим в Малой Азии. В годы, когда жила и писала Сапфо, Лидией правил царь Алиатт, отец Креза — того самого Креза, чье имя стало в устах греков символом чудовищного, немыслимого богатства. Да и поныне говорят «богат, как Крез». Кстати, подчеркнем, именно Крез, а не Крёз, как почему-то произносят и даже пишут некоторые люди, видимо, не отличающиеся особенной грамотностью.
Когда царствовал Крез (в 560–546 годах до н. э.), Сапфо, кажется, уже не было на свете, или, во всяком случае, она была уже пожилой. Но на самом деле Крез попросту пожинал (и не особо даровито) те плоды, которые посеял его покойный родитель. По большому счету, именно Алиатт сделал Лидию одной из великих держав Ближнего Востока
[101]. Ряд его деяний позднейшими авторами оказался по недоразумению приписан его сыну и преемнику
[102].
Возьмем хотя бы такой эпизод из жизни одного знатного афинянина. «Алкмеон, сын Мегакла, оказал помощь лидийцам, прибывшим из Сард от Креза к Дельфийскому оракулу, и заботился о них. Услышав от своих послов к оракулу об услугах Алкмеона, Крез просил его прибыть в Сарды. Когда Алкмеон приехал в Сарды, царь дал ему в подарок столько золота, сколько он мог сразу унести на себе. Алкмеон же ухитрился еще умножить этот щедрый дар. Он облекся в длинный хитон, оставив на нем глубокую пазуху. На ноги он надел самые большие сапоги, которые только можно было найти. В таком одеянии Алкмеон вошел в сокровищницу, куда его ввели. Бросившись там на кучу золотого песка, Алкмеон сначала набил в сапоги сколько вошло золота. Потом наполнил золотом всю пазуху, густо насыпал золотого песку в волосы на голове и еще набил в рот. Выходя из сокровищницы, Алкмеон еле волочил ноги и был похож скорее на какое-нибудь другое существо, чем на человека. Рот его был полон, и вся одежда набита золотом. При виде этого Крез не мог удержаться от смеха и не только оставил всё унесенное им золото, но еще и добавил не меньше. Так-то этот дом чрезвычайно разбогател. Алкмеон этот держал четверку лошадей и победил в Олимпии, получив награду» (
Геродот. История. VI. 125).
А ведь действительно колоритный рассказ! С одной стороны — эллин, употребляющий любые средства, чтобы обогатиться (вспомним выше цитированный отрывок из Пиндара: «Лучше всего на свете — вода; но золото…»), не боящийся для этого и смешным показаться. С другой стороны — горделивый и самоуверенный восточный владыка, которому всё это только забавно, поскольку он твердо знает: сколько бы ни унес у него этот гречишка — в казнохранилищах не убудет.
Самое интересное, однако, заключается в том, что не Крез на самом деле смеялся над Алкмеоном, а его отец Алиатт. К 560 году до н. э., когда Крез вступил на престол, Алкмеона уже и на свете-то не было. А олимпийская победа этого афинянина, одержанная, судя по контексту Геродота, уже позже посещения им Лидии, имела место в 592 году до н. э., когда Крез был трехлетним ребенком (но уже, конечно, наследным принцем). Одним словом, совершенно ясно, что на самом-то деле Алкмеон гостил у Алиатта.
Столицей Лидии, как уже упоминалось, были Сарды. Греки малоазийского побережья Эгейского моря и сами жили в городах, но Сарды для них были Городом. С большой буквы. В какой-то степени — средоточием мира, тогдашним «Парижем». Именно такая ситуация отражена, кстати, и в стихах Сапфо
[103].
Ты ж велишь мне, Клеида, тебе достать
Пестро-шитую шапочку
Из богатых лидийских Сард,
Что прельщают сердца митиленских дев…
Но откуда мне взять, скажи,
Пестро-шитую шапочку?
Ты на наш митиленский народ пеняй,
Ты ему расскажи, не мне
О желанье своем, дитя.
У меня ж не проси дорогую ткань…
(Сапфо. фр. 98 Lobel-Page)
Поэтесса обращается здесь к своей дочери, горячо любимой ею Клеиде. Та просит у матери обновку, да не откуда-нибудь, а обязательно из самих Сард. Та же в ответ с сожалением разочаровывает ее: нет-де такой возможности, причем нет ее явно по каким-то политическим причинам. В том варианте реконструкции стихотворения (в нем много лакун, которые приходится заполнять, порой гадательно), на которую опирается приведенный нами перевод
[104], виноватым в сложившейся ситуации оказывается митиленский народ. Есть, однако, и иное понимание этих строк, согласно которому в них на самом деле упоминается «Митилены правитель»
[105]. Кто именно имеется в виду — можно только гадать. Вполне возможно, что Питтак — лицо, уже знакомое нам (а скоро нам предстоит с ним еще ближе познакомиться). Но совершенно не исключено, что и кто-нибудь другой: немало правителей сменилось в крупнейшем полисе Лесбоса на протяжении архаической эпохи, очень бурной в эти века была его история, с которой, повторим, мы уже очень скоро начнем знакомиться вплотную.
Также не вполне ясна и связь политических обстоятельств с невозможностью достать сардскую шапочку. Митиленские власти (кем бы они ни были), о которых говорит Сапфо, испортили либо разорвали отношения с Лидией? Или же довели город до такой нищеты, что жителям уже не до дорогих «импортных» уборов? Вопрос приходится оставить открытым.
Как бы то ни было, лидийские товары ценились, считались самыми роскошными. В другом отрывке у Сапфо говорится о ком-то:
…а ногу
Пестрый сапожок обувал, лидийской
Тонкой работы.
(Сапфо. фр. 39 Lobel-Page)
Одним словом, ходить в сардских вещах считалось у греков востока Эгеиды и модным, и престижным.
Или вот перед нами воспоминание о девушке, воспитывавшейся в «пансионе» нашей героини, а потом отбывшей в Лидию, — скорее всего, выданной туда замуж. Это небольшое произведение — подлинный шедевр, просто невозможно удержаться от того, чтобы не процитировать его полностью (точнее, всё, что от него дошло; в частности, начало стихотворения утрачено):
…Издалече, из отчих Сард
К нам стремит она мысль, в тоске желаний.
Что таить?
В дни, как вместе мы жили, ты
Ей богиней была одна!
Песнь твою возлюбила Аригнота.
Ныне там,
В нежном сонме лидийских жен,
Как Селена, она взошла —
Звезд вечерних царицей розоперстой.
В час, когда
День угас, не одна ль струит
На соленое море блеск,
На цветистую степь луна сиянье?
Весь в росе,
Благовонный дымится луг;
Розы пышно раскрылись; льют
Сладкий запах анис и медуница.
Ей же нет,
Бедной мира! Всю ночь она
В доме бродит… Аттиды нет!
И томит ее плен разлуки сирой.
Громко нас
Кличет… Чуткая ловит ночь
И доносит из-за моря,
С плеском воды, непонятных жалоб отзвук.
(Сапфо. фр. 96 Lobel-Page)
Каким глубоким лиризмом веет от этих строк! Изумительное описание природы впечатляет даже независимо от заключенной в нем тонкой метафорике. Ведь луна (Селена) здесь — не только небесное светило; аллегорически она воплощает героиню стихотворения Аригноту. По мысли поэтессы, ее юная подруга на новом месте затмила красотой самих лидиянок, стала «царицей звезд». Но она тоскует по прежнему окружению, и эта грусть не дает ей в полной мере насладиться блеском и пышностью восточной столицы, «отчих Сард».
Но особенно характерен, пожалуй, вот какой фрагмент. В ней речь идет опять о дочери нашей героини:
Есть прекрасное дитя у меня. Она похожа
На цветочек золотистый, милая Клеида.
Пусть дают мне за нее всю Лидию, весь мой милый…
(Сапфо. фр. 132 Lobel-Page)
К глубокому сожалению читателей, фрагмент внезапно обрывается, и что в нем стояло дальше — об этом можно только догадываться. Предлагалось, в частности, такое восстановление: «весь мой милый Лесбос». Впрочем, это всего лишь один из возможных вариантов, — в отличие от Лидии, название которой сохранилось в тексте надежно.
Однако что наиболее интересно? Идея стихотворения вполне ясна даже из этих трех строчек: Сапфо настолько любит свою дочь, что не отдаст ее, что бы ей ни предлагали. Как у нас говорят в таких ситуациях, «не отдам за все сокровища мира» — или употребляют какие-нибудь другие выражения в подобном же роде. Иными словами, называют обязательно что-то очень-очень ценное, с чем и сравнить-то ничего невозможно. И в высшей степени показательно, что для лесбосской поэтессы таким «суперценным» предметом оказывается именно Лидия. Но Клеида, естественно, ей еще дороже…
* * *
Возвратимся к истории Лесбоса. Особенно интересной, богатой событиями она была как раз в период архаики, в VII–VI веках до н. э., когда жила Сапфо. В те времена лесбосские полисы (в первую очередь Митилена) относились к наиболее развитым, передовым во всем греческом мире. Они стали крупными центрами ремесла и морской торговли, значительными очагами культурной жизни. Эти города были сильно затронуты основными процессами и феноменами, характерными для эпохи, — колонизационным движением, законодательными реформами, междоусобной борьбой (
стасисом), установлением тиранических режимов…
Впрочем, что касается Великой греческой колонизации, участие лесбосских эолийцев в ней свелось к освоению относительно недалеких от острова территорий. Колонисты из расположенных неподалеку ионийских полисов плыли подчас весьма далеко: так, выходцы из Милета усыпали своими поселениями побережья Понта Евксинского (Черного моря), а жители Фокеи, прославленные мореходы, добирались даже до Западного Средиземноморья и оседали там. Иное дело — лесбосцы. Их колонии возникли в основном в Троаде — области, расположенной непосредственно к северу от Эолиды, — и в районе пролива Геллеспонта.
Геллеспонт (на современных картах он обозначается как Дарданеллы) был исключительно важным морским путем
[106]. Вход в него открывался в северо-восточном углу Эгеиды, и здесь начиналась цепочка так называемых Черноморских проливов, связывавших, как уже ясно, Эгейское и Черное моря. Кто контролировал Геллеспонт — тот, по сути, становился хозяином этого оживленного торгового маршрута.
Приведем характерный пример. Каждый, конечно, слышал о Трое и Троянской войне. Эта последняя, как теперь признают все ученые, являлась реальным историческим событием, а не просто красивой легендой, и имела место, скорее всего, в начале XII века до н. э. Но зачем союзу греческих царств понадобилось тратить столько сил и времени на осаду Трои с целью завладеть ею? Согласно мифам и Гомеру, дело в Елене Прекрасной. Эту знаменитую спартанку похитил-де троянский царевич Парис; ради ее возвращения эллины и отправились воевать.
Одним словом, «cherchez la femme», как говорят французы. Или, как изящно выразился Осип Мандельштам в своем известном стихотворении «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»:
…Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?
И море, и Гомер — всё движется любовью…
Однако объяснение, которое вполне удовлетворяет поэта, оказывается неприемлемым для историка. Войны, конечно, не ведутся из-за женщин; они начинаются чаще всего по куда более приземленным причинам. Так, по всей видимости, было и тут: уж очень удачным было геостратегическое положение Трои: как раз у входа в Геллеспонт, близ его малоазийского побережья.
Закономерно, что Геллеспонт фигурирует в «Илиаде» Гомера, причем многократно и с разнообразными эпитетами: «бурнотечный» (
Гомер. Илиада. II. 845; XII. 30), «обильный рыбой»
(Гомер. Илиада. IX. 360), «широкий»
(Гомер. Илиада. VII. 86; XVII. 432), «бесконечный»
(Гомер. Илиада. XXIV. 545).
Некоторое удивление вызывают последние два из этих эпитетов. Геллеспонт — совсем неширокий пролив. Его обычная ширина — 5–6 километров, но местами встречаются теснины, в которых пролив суживается до полутора-двух километров (самое узкое место — 1220 метров). Либо перед нами свойственные поэтическому языку гиперболы, либо же поэт включал в понятие «Геллеспонт» не только сам нынешний Дарданелльский пролив, но и примыкающую к нему северо-восточную часть Эгейского моря (вторая из этих точек зрения является ныне преобладающей).
Как бы то ни было, не приходится сомневаться в том, что стремление греков овладеть Троей было не в последнюю очередь связано с их интересом к пути в Черное море. Кстати, мы отнюдь не случайно в главе, посвященной истории Лесбоса, вдруг заговорили о Трое. В ходе Троянской войны, как известно, славный город был разрушен. До недавнего времени считалось, что после этого на протяжении нескольких столетий место бывшей Трои просто пустовало. Однако теперь, как подчеркивает крупнейший археолог и специалист по ранней истории Греции Дж. Н. Колдстрим
[107], «от этого взгляда приходится отказаться». Раскопки выявили, что какая-то жизнь, пусть и не слишком интенсивная, в Трое продолжала теплиться. Впрочем, там в лучшем случае существовало небольшое поселение сельского типа. А вот в VIII веке до н. э. Троя заново основывается как город. И, что для нас наиболее важно, возникает в этом месте именно эолийская (то есть скорее всего лесбосская) колония.
А в окрестностях появляется еще целый ряд таких колоний, основанных лесбосскими же жителями. Среди них — Алопеконнес, Мадит, Сест (особенно крупный центр, в районе которого обычно переправлялись через Геллеспонт), Сигей и др. Располагались они на обоих берегах пролива, а время их основания определяется как VIII–VI века до н. э.
Тогда же и в том же регионе проявляли колонизационную активность ионийцы (в основном милетяне); их колониями были города Абидос (напротив Сеста, в районе вышеупомянутой переправы), Кардия, Лампсак, Парий и др. Иногда говорят в связи с этим о двух «волнах» колонизации Геллеспонта — эолийской и ионийской, из которых первая предшествовала, а вторая следовала за ней.
В целом какое-то зерно истины здесь есть: выходцы из Ионии действительно появились в этих водах чуть позже эолийцев. Однако вряд ли стоит формулировать данный взгляд в чрезмерно категоричной форме, поскольку и первые ионийские колонии начинают появляться на Геллеспонте весьма рано, в VIII веке до н. э., и эолийские поселения продолжают основываться до достаточно позднего времени, как минимум до VII века до н. э. Иными словами, «волны», во всяком случае,
накладываются друг на друга.
Можно ли уловить какую-то систему в географическом расположении эолийских и ионийских городов в регионе? Пожалуй, можно
[108]. На обоих берегах Геллеспонта эолийцы обосновываются южнее, а ионийцы — севернее. На азиатском побережье выходцы из эолийских полисов осваивают Троаду (повторим, что и греческая Троя, возникшая в VIII веке до н. э., была эолийской), что вполне естественно, поскольку эта область фактически примыкала к Эолиде в собственном смысле слова. Но к северу от Сигея по азиатскому берегу пролива встречаем исключительно ионийские поселения. Аналогичная картина и на Херсонесе Фракийском — полуострове к западу от Геллеспонта: южнее расположены эолийские колонии (преимущественно лесбосские), а севернее — ионийские.
Разумеется, мы можем только гадать, каким образом эолийцы и ионийцы распределяли между собой смежные территории. Можно ли говорить о каком-то рациональном факторе, о договоренностях по разделу «сфер интересов»? Или же всё происходило стихийно: милетяне и их сородичи просто приходили туда, где еще не обосновались эолийцы? Во всяком случае, система распределения колоний все-таки побуждает говорить скорее о кооперации, чем о соперничестве.
При этом есть все основания с достаточной долей уверенности констатировать существенное различие в характере эолийской и ионийской колонизации Геллеспонта. Эолийцев, насколько можно судить, земли на берегах пролива интересовали сами по себе, то есть их колонизация имела вполне аграрный характер. Ионийская же колонизация здесь, как и в других местах, была феноменом более сложным, комплексным и многогранным. В ней изначально, насколько можно судить, присутствовал мотив освоения морского пути в Понт.
Выше было перечислено немалое количество топонимов, в которых неискушенному читателю, пожалуй, легко и запутаться. Но из всех названных городов обратим внимание на Сигей, являвшийся гаванью древней Трои (которая сама, как известно, лежала не на побережье, а несколько далее вглубь материка) и по своему положению буквально-таки «стороживший» вход в Геллеспонт.
Сигей был основан лесбосцами из Митилены не позднее VII века до н. э. Но в конце того же столетия он выступил в роли главного объекта притязаний Афин в регионе; туда отправилась самая ранняя по времени колонизационная экспедиция афинян
[109] во главе с олимпиоником (то есть победителем в Олимпийских играх), знатным аристократом Фриноном. На этом эпизоде, на борьбе за город, которая развернулась между митиленянами и афинянами и завершилась победой последних, имеет смысл остановиться. Тем более что нам тут предстоит встретить нескольких уже неплохо знакомых лиц (но не Сапфо, естественно).
Древнейший автор, подробно пишущий об инциденте, связанном с Сигеем, — «отец истории» Геродот. Он сообщает: «…Митиленцы и афиняне из городов Ахиллея и Сигея вели постоянные войны друг с другом. Митиленцы требовали назад Сигейскую область, а афиняне оспаривали их право на нее, указывая, что на земли древнего Илиона (Илион — другое название Трои. —
И. С.) эолийцы имеют отнюдь не больше прав, чем они, афиняне, и другие, кто помогал Менелаю отомстить за похищение Елены. Во время этих войн в битвах случилось много замечательных происшествий. Между прочим, после одной стычки, в которой победили афиняне, поэт Алкей спасся бегством, но его оружие попало в руки афинян, и они повесили его в храме Афины в Сигее. Алкей же воспел это событие в песне и послал ее на Митилену, чтобы сообщить о несчастье своему другу Меланиппу. Митиленцев же с афинянами примирил Периандр, сын Кипсела, которого они выбрали посредником. А примирил он их вот на каких условиях: каждая сторона получала то, что у нее было. Так-то Сигей остался за афинянами» (
Геродот. История. V. 94–95).
Так-с, вот два знакомца уже есть. И если о коринфском тиране Периандре ранее упоминалось лишь мимоходом, то знаменитому лесбосскому поэту Алкею давалась довольно подробная характеристика.
Живший через несколько веков после Геродота Страбон добавляет новые детали. О Сигее и Троаде в целом он рассказывает так: «…Передают, что митиленец Археанакт возвел из камней, взятых оттуда (с развалин древней Трои. —
И. С.), стену вокруг Сигея. Этот город захватили афиняне, которые послали туда Фринона, победителя на Олимпийских играх, хотя лесбийцы добивались обладания почти всей Троадой. Действительно, большинство поселений в Троаде основано лесбийцами (некоторые из них существуют и теперь, другие же исчезли). Питтак Митиленский, один из так называемых Семи мудрецов, отплыл с кораблями против стратега Фринона и некоторое время воевал с ним, плохо справляясь с делом и терпя неудачи. В то время и поэт Алкей, как он сам говорит, в одной схватке попал в тяжелое положение, так что ему пришлось, бросив оружие, бежать… (далее следует цитата из Алкея, она будет приведена ниже. —
И. С.) Позднее, когда Фринон вызвал его на единоборство, Питтак, взяв рыбацкую сеть, напал на противника; он накинул на него сеть и убил, заколов трезубцем и кинжалом. Но так как война продолжалась, то обе стороны выбрали посредником Периандра, который и положил ей конец. По словам Деметрия, сообщение Тимея о том, что Периандр воздвиг укрепление Ахиллея против афинян из камней Илиона, чтобы помочь войску Питтака, неверно. В действительности это место, как он говорит, было укреплено митиленцами против Сигея, но не этими камнями и даже не Периандром. Да и как же можно было выбрать посредником лицо, принимавшее участие в войне?» (
Страбон. География. XIII. 599–600).
Этот интереснейший рассказ во всех основных деталях совпадает со свидетельством Геродота (у Страбона мы также встречаем и Алкея, и Периандра), а кроме того, вносит ряд новых немаловажных нюансов, подтверждающих датировку афинской экспедиции в Сигей концом VII века до н. э., временем жизни Сапфо. Выясняется, помимо прочего, что митиленским командующим был не кто иной, как знаменитый Питтак — современник и «заклятый друг» Алкея. Вот и еще один знакомец!
О событиях, связанных с Питтаком и Фриноном, а также в целом с разбираемой здесь войной между Афинами и Митиленой, упоминает также позднеантичный историк философии Диоген Лаэртский, повествуя о жизни того же Питтака — главного митиленского мудреца: «…Когда афиняне воевали с митиленянами за область Ахиллеитиду, то Питтак начальствовал над митиленянами, а Фринон, олимпийский победитель-панкратиаст
[110], — над афинянами; Питтак вызвался с ним на поединок и, спрятавши под щитом своим сеть, набросил ее на Фринона, убил его и тем отстоял спорную землю. Однако и после этого (говорит Аполлодор) афиняне с митиленянами тягались за ту землю, а решал тяжбу Периандр, который и отдал ее афинянам»
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 74).
Тот же эпизод с Питтаком и Фриноном сохранен еще в некоторых источниках, но без каких-либо новых деталей. Неожиданно информативным оказывается свидетельство такого позднего памятника, как византийский лексикон X века н. э. «Суда»: в нем приводится даже довольно точная датировка: «Питтак… в 42-ю олимпиаду (612/611–609/608 годы до н. э. —
И. С.) убил Меланхра, тирана Митилены, а также сразил в поединке Фринона, полководца афинян, который вел войну из-за Сигея. Питтак набросил на него сеть» («Суда», статья «Питтак»). Интересно, что это единственное конкретное событие, подробно пересказанное автором словаря в биографии такого крупного деятеля, как Питтак; очевидно, единоборство с Фриноном всегда считалось одним из самых славных его деяний. Античные авторы пишут, что именно после этого события Питтак стал пользоваться в Митилене большим почетом и в конечном счете получил власть (
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 75).
Каков был статус колонизационной экспедиции Фринона? Нам представляется, что неправомерно видеть здесь акцию, подготовленную и предпринятую афинским государством. Несравненно вероятнее, что это была личная, независимая инициатива олимпийского победителя — человека, вне сомнений, амбициозного.
Фринон, отправляясь с группой колонистов в Троаду, действовал на свой страх и риск. Он явно желал занять позицию, соответствовавшую его рангу олимпийского победителя (таковых вообще-то в Греции окружали чрезвычайным почетом), но почему-то не преуспел в этом на родине. Вот тогда-то и отплыл создавать колонию. Являясь вождем экспедиции, Фринон должен был стать основателем (
ойкистом) нового города; после смерти (и даже, возможно, еще при жизни) ему должны были оказываться почести как герою, то есть, в понимании греков, сверхчеловеческому существу.
Как бы то ни было, на новом месте Фринон нашел свою гибель. Мы видели из свидетельств источников, что афинская активность в Троаде вызвала ожесточенное сопротивление лесбосцев, рассматривавших этот регион как сферу своих интересов. Остался в памяти потомков поединок двух вождей — Питтака и Фринона, с помощью которого стороны пытались решить исход войны. Кстати, обратим внимание на сам этот чрезвычайно интересный факт единоборства между командующими — прямо-таки в «гомеровском стиле». Он показывает, насколько эпическим по своему духу было еще в то время мировоззрение аристократии.
Однако убийство Питтаком Фринона не привело к завершению афино-митиленского конфликта из-за Сигея. В конце концов, чтобы прекратить затянувшиеся военные действия, пришлось прибегнуть к услугам авторитетного внешнего посредника — коринфского тирана Периандра. Последний решил вопрос о Сигее в пользу афинян, и, видимо, при жизни этого могущественного правителя принятое им решение соблюдалось. Но впоследствии митиленяне на каком-то этапе (точную дату установить не представляется возможным) вновь вырвали спорный город из рук своих противников. Афинянам же, в свою очередь, удалось в очередной раз овладеть Сигеем при тиране Писистрате, как считается, около 530 г. до н. э.
[111]Иными словами, Митилена окончательно лишилась этой своей колонии уже много времени спустя после смерти Сапфо, а при ее жизни, как можно видеть, вела постоянную борьбу за важный стратегический пункт с сильными пришельцами из-за моря.
При Писистрате и его преемниках удержание Сигея явно было для Афин компонентом целостной и широкой внешнеполитической линии, направленной на контроль над Северной Эгеидой и Черноморскими проливами. Что можно сказать в данной связи о первой афинской (то есть «фриноновской») колонизации Сигея в конце VII века до н. э.? Резонно указывается
[112], что на нее нельзя автоматически переносить тот же контекст. В ту эпоху, когда Фринон отправился в Троаду, афиняне еще и помышлять не могли о том, чтобы наложить свою руку на проливы. У них просто не было для этого достаточно сил: этих сил в те времена им не хватало даже на то, чтобы отвоевать у Мегар остров Саламин, лежащий буквально по соседству. Что уж говорить о более далекоидущих замыслах!
В целом это верно, если вести речь об афинском полисе как таковом. Однако не забудем, что колонизация Сигея была не государственным мероприятием, а частной инициативой Фринона, которого в тот момент больше волновали не общеафинские дела, а свое собственное положение. В свете того, что он обосновался у входа в Геллеспонт на обоих берегах (напротив Сигея он основал городок Элеунт), ответ на вопрос может быть только один: контроль над проливами просто не мог не входить в его планы.
Рассматривая эту проблему, необходимо помнить еще и о том, что колонисты были направлены не в какой-либо удаленный и слабозаселенный регион. Скорее напротив: Троада и в целом берега Геллеспонта к тому времени были уже густо усеяны греческими колониями, в большинстве лесбосскими, поскольку выходцы с крупнейшего эолийского острова, как уже говорилось, проявляли особую активность в освоении этих территорий
[113]. В результате афинянам приходилось готовиться к тому, что, пытаясь обосноваться в Сигее, они отнюдь не будут дружески приняты, а натолкнутся на ожесточенное сопротивление, как и получилось: лесбосцы всеми силами пытались изгнать незваных гостей.
Коль скоро Фринон, несмотря на всё это, все-таки избрал полем своей деятельности Троаду, значит, у него были на то весомые причины; Сигей был зачем-то нужен афинскому олимпионику и прибывшим с ним колонистам. Зачем? В частности, могли ли они руководствоваться какими-то экономическими мотивами? Не похоже. Необходимость оттока «лишнего» населения из Аттики можно исключить сразу же: от земельного голода афинский полис, достаточно обширный по территории, в архаическую эпоху отнюдь не страдал. Далее, могли ли играть роль торговые интересы? Неизбежно вырисовывается вариант с получением зерна из Северного Причерноморья, для чего проливы, безусловно, были насущно нужны. Но конец VII века до н. э. — слишком ранняя эпоха для того, чтобы относить к ней попытки афинян установить торговлю зерном с Понтом Эвксинским
[114]. Есть, правда, и точка зрения, согласно которой Афины столкнулись с проблемой недостатка собственного хлеба уже достаточно рано, ко времени Солона. Но в любом случае Фринон, навсегда покинув родину, вряд ли думал о необходимости снабжения ее тем или иным продуктом.
Выскажем идею, которая, возможно, покажется неожиданной и даже «еретической», но, как представляется автору этих строк, хорошо укладывается в общий контекст архаической эпохи. По нашему мнению, Фринон, осев на обоих берегах Геллеспонта, намеревался попросту заниматься разбоем: грабить минующие пролив корабли и таким образом обогащаться. В каком-то смысле этот мотив, пожалуй, тоже можно назвать «экономическим», но в целом под экономикой мы привыкли понимать что-то иное, а не грабеж — экспроприацию ценностей путем внеэкономического, чисто силового нажима.
Говоря о побуждениях, которые могли руководить Фриноном, стоит отметить еще один момент чисто ментального порядка. Троада для любого грека, особенно для аристократа, являлась местностью совершенно особого рода: совершенно неотъемлемыми от нее были ассоциации с Троянской войной, с мифологическими героями, с гомеровским эпосом. Достаточно перечитать большую главу Страбона, посвященную этому региону, чтобы увидеть, какой ореол легенд его окутывал, какой интенсивный и разнообразный мифополитический дискурс развертывался вокруг Троады. Так было всегда — не только во времена Страбона, но и во времена Геродота (выше цитировались почерпнутые из его труда аргументы афинян и лесбосцев в споре за Троаду, связанные с мифами о Троянской войне), и раньше. И, между прочим, Сигей занимал на «ментальной карте» Троады весьма значимое место (выше об этом упоминалось, но мимоходом). Ведь именно на его территории, согласно преданию, находилась знаменитая «Корабельная стоянка», то есть лагерь ахейцев, осаждавших Трою.
Хотя Афины, казалось бы, находились неблизко от северо-запада Малой Азии, но в афинском полисе архаической эпохи, особенно в кругу аристократии сюжеты, связанные с Троянской войной, тоже были весьма актуальны. Дело в том, что эпическая традиция получила в Афинах VII–VI веков до н. э. особенное развитие. Афины сыграли значительную роль в складывании гомеровского эпоса; некоторые специалисты считают даже, что эта роль была определяющей
[115]. При Солоне и Писистрате осуществлялась письменная фиксация канонического текста «Илиады» и «Одиссеи»
[116], причем, естественно, не с чисто антикварными, а с насущно-политическими целями.
Фринон же был человеком, мыслившим вполне эпическими категориями. Достаточно вспомнить в данной связи его поединок с Питтаком, упоминавшийся выше. Допускаем поэтому, что он отправился совершать свои славные подвиги именно в Троаду, помимо прочих причин, из стремления подражать эпическим героям, да и в целом привлеченный «святостью места».
Можно привести параллель из истории средневековой Европы. Такое грандиозное явление, как Крестовые походы, имело, безусловно, свои политические и социально-экономические причины, детально изученные в историографии. Но тот факт, что пыл крестоносцев направлялся именно на Палестину, несомненно, объяснялся особенной святостью этого региона в глазах европейских христиан, колоссальным количеством христианских легенд, которыми был овеян этот регион.
Завершить рассказ об инциденте с Сигеем уместно свидетельством современника. По данным как Геродота, так и Страбона, в войне между митиленянами и афинскими пришельцами принимал участие в числе прочих поэт-лирик Алкей. Причем проявил себя далеко не блестящим образом, а именно — попросту бросил щит и бежал. И, что интересно, описал этот свой поступок в стихотворении, которое было известно и Геродоту, и Страбону. От него сохранились следующие строки:
Моим поведай: сам уцелел Алкей,
Доспехи ж взяты. Ворог аттический,
Кичась, повесил мой заветный
Щит в терему совоокой Девы.
(Алкей. фр. 290 Lobel-Page)
«Совоокая Дева» — это, конечно, Афина (сова считалась ее священной птицей), богиня-покровительница того города, который носил ее имя и граждане которого воевали с Митиленой из-за Сигея. «Теремом» тут метафорически назван ее храм в Афинах.
Мотив воина, бежавшего с поля боя и бросившего при этом щит, для нас уже не нов: мы встретили его в одном из стихотворений Архилоха. Последний как будто даже бравировал этим своим поступком, бросая — мы видели — вызов традиционным аристократическим ценностям. У Алкея такой бравады, кажется, все-таки не видно (хотя и стыда тоже не видно). В любом случае, в том, что лесбосский лирик пользовался архилоховым образом как образчиком, сомневаться не приходится. Да и античные поэты последующих эпох этот образ активно использовали. Например, великий римлянин Гораций, вспоминая в стихотворении, обращенном к его другу Помпею, о том, как они вместе служили в войске Брута, участвовали в битве при Филиппах (город в Македонии) и проиграли ее, использует тот же самый мотив:
С тобой Филиппы, бегство поспешное
Я вынес, кинув щит не по-ратному,
Когда, утратив доблесть, долу
Грозный позорно склонился воин.
(Гораций. Оды. II. 7)
Характерно, что Гораций эту свою оду написал именно алкеевой строфой. Вряд ли случайно…
* * *
Что же касается внутриполитической истории архаической Митилены (заметим, истории очень сложной, во многих своих эпизодах поддающейся лишь гипотетическому восстановлению), то первоначально в этом городе-государстве (как в общем-то и во всех эллинских полисах на самом раннем этапе их становления) формой государственного устройства была монархия, царская власть. Правящая династия называлась Пенфилидами (видимо, по имени ее основателя — Пенфила).
Однако уже в VII веке до н. э. монархия в Митилене переродилась в олигархию. Впрочем, в олигархию самого крайнего толка — такую, которую Аристотель определял термином «династия». Олигархия и вообще-то, по самому своему определению, означает «власть немногих» (то есть элиты, состоящей из наиболее знатных и богатых граждан). А тут и вообще речь идет о власти одного-единственного рода, бывшего царского, тех самых Пенфилидов
[117]. Естественно, пользуясь неограниченным контролем над полисом, Пенфилиды всячески бесчинствовали, и это порождало крайнее недовольство ими в среде граждан
[118].«…В Митилене Мегакл напал со своими друзьями на Пенфилидов, которые, шатаясь по городу, били встречных дубинами, и перебил их. И впоследствии Смерд, который был избит Пенфилом и оттащен от его жены, убил его» (
Аристотель. Политика. V. 1311 b 25 слл.). Кто такие упомянутые здесь Мегакл и Смерд — совершенно неизвестно. У последнего из них, — похоже, иранское (персидское?) имя, у первого — чисто греческое, очень аристократически звучащее («Обладающий великой славой» — так можно было бы его перевести). Как бы то ни было, ясно, что это были какие-то митиленские граждане. А происходили описанные Аристотелем события, видимо, около 620 года до н. э.
Путем подобных насильственных акций правление рода Пенфилидов завершилось — они были свергнуты. Но к спокойствию в полисе это отнюдь не повело: разразилась вспышка стасиса — братоубийственной, ожесточенной гражданской войны. Группировки аристократов сменяли друг друга у власти, на улицах Митилены гремело оружие, лилась кровь.
В качестве главных соперников выступали на первых порах два других старинных аристократических рода — Клеанактиды и Археанактиды. Название первого в переводе с древнегреческого означает «потомки славных вождей», название второго — «потомки древних вождей». Как говорится, знатность так и брызжет.
Об обоих этих родах упоминают в своих произведениях лесбосские поэты. Возьмем ту же Сапфо. Выше цитировалось ее стихотворение, обращенное к дочери Клеиде — с отказом подарить ей лидийскую обновку. После этого отказа наша героиня продолжает так:
О делах Клеанактидов,
О жестоком изгнании —
И досюда об этом молва дошла…
(Сапфо. фр. 98 Lobel-Page)
Что за изгнание здесь упоминается? Стихотворение сохранилось плохо, с большими лакунами, и можно высказать разве что гадательное предположение: поэтесса, возможно, говорит о своем собственном изгнании. Ей ведь в юношеском или даже детском возрасте довелось как-то оказаться в качестве беженки на Сицилии и провести там несколько лет. А Сицилия — край весьма неблизкий от ее родного Лесбоса, как может убедиться всякий, бросив хотя бы беглый взгляд на карту. Вполне допустимо, что бегство семьи Сапфо из отчизны было связано с политической борьбой, в числе ключевых участников которой были упомянутые Клеанактиды. Возможно, упоминает Сапфо и Археанактидов, но с уверенностью об этом говорить нельзя: тот фрагмент, в котором, как считается, она это делает
(Сапфо. фр. 213 Lobel-Page), настолько плохо сохранился, что однозначному восстановлению и переводу просто не подлежит.
Больше пишет о Клеанактидах и Археанактидах Алкей, что более чем естественно: он все-таки напрямую — и очень активно — участвовал в политической борьбе этих лет. Страбон рассказывает о ней так: «В те времена городом правило несколько тиранов вследствие гражданских распрей между жителями. К этим распрям относятся так называемые “мятежные” стихотворения Алкея… Алкей одинаково поносил и Питтака, и прочих тиранов: Мирсила, Меланхра, Клеанактидов и некоторых других, хотя и сам не был чужд стремлений к переворотам» (
Страбон. География. XIII. 617).
Географ тут, правда, кое-что путает, смешивая тиранов как таковых с деспотически правившими олигархами. Что же касается упомянутых в цитате персонажей, то с двумя из них нам еще предстоит ближе познакомиться. Это Меланхр и Мирсил.
Первый из них, — вне сомнения, «на волне смуты» — захватил тираническую власть в Митилене в 610-х годах до н. э. Есть мнение, что он принадлежал к роду Клеанактидов
[119], хотя доказать это невозможно. Против Меланхра сложилась сильная оппозиционная группировка, которую возглавлял Питтак, а входил в нее, в числе прочих, и Алкей (в то время Алкей и Питтак еще были союзниками). От Алкея, кстати, сохранилась одна строка о Меланхре, звучащая несколько странно:
Меланхр, меж граждан достопочтеннейший…
(Алкей. фр. 331 Lobel-Page)
Обычно здесь предполагают иронию. Как бы то ни было, примерно в 610 году до н. э. Меланхр был свергнут (по некоторым сведениям, даже убит) гетерией Питтака и Алкея. Привело ли это к успокоению? Как бы не так!
Чувствуется, вот именно тут-то поссорились Алкей и Питтак. О последнем все-таки буквально назрело рассказать подробнее. Что ни говорить, Митилена времен Сапфо и Алкея — это в первую очередь Митилена Питтака, фигуры первой величины в истории архаической Греции. И, напомним, помимо всего прочего, Питтак был признан одним из Семи мудрецов — высокая честь, выше уже почти некуда! Именно поэтому, кстати, биографию Питтака и сохранил для нас Диоген Лаэртский: первая книга его труда о философах посвящена исключительно Семи мудрецам.
«Питтак, сын Гиррадия, из Митилены» — так начинается это жизнеописание
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 74). Здесь, судя по всему, позднеантичным писателем допущена небольшая ошибка. По данным Алкея, отца Питтака звали не Гиррадием, а Гирром. А этим данным, естественно, с куда большим основанием можно доверять: Алкей являлся современником Питтака, а Диоген Лаэртский жил много веков спустя.
В любом случае, перед нами — имя, звучащее явно как-то не по-гречески. Ситуация разъясняется уже буквально следующей фразой Диогена Лаэртского: «отец его (Питтака. —
И. С.)… был фракиец». Таким образом, персонаж, о котором идет речь, был лицом смешанного, греко-«варварского» происхождения. Это совершенно не обязательно должно означать, что он принадлежал к простолюдинам. Скорее наоборот: гречанку-митиленянку могли выдать замуж за представителя знатного фракийского рода.
Диоген Лаэртский, упомянув далее, что Питтак «с братьями Алкея низложил лесбосского тирана Меланхра» (об этом мы уже знаем), и рассказав о том, как он убил в войне с афинянами их командира Фринона (данное свидетельство тоже цитировалось выше), продолжает: «С тех пор Питтак пользовался у митиленян великим почетом, и ему была вручена власть. Он располагал ею десять лет; а наведя порядок в государстве, он сложил ее и жил после этого еще десять лет»
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 75).
На самом деле всё было не так просто: перед тем как Питтак получил в свои руки бразды правления, имели место еще несколько эпизодов гражданской смуты. Перед тем, как к ним перейти, приведем из того же труда несколько штрихов, характеризующих личность Питтака.
Он «имел жену знатнее себя — сестру Драконта, сына Пенфила, высокомерно презиравшую его. Алкей обзывал его “плосконогом»”, потому что он страдал плоскостопием и подволакивал ногу; “лапоногом”, потому что на ногах у него были трещины, называемые “разлапинами”;…“пузаном” и “брюханом” — за его полноту; “темноедом”, потому что он обходился без светильника; “распустехой”, потому что он ходил распоясанный и грязный. Вместо гимнастики он молол хлеб на мельнице…» (
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 81).
Выпады Алкея против Питтака нам уже встречались. Они, конечно, глубоко несправедливы, продиктованы личной неприязнью. Но и в общем-то весь только что процитированный пассаж рисует интересующего нас лесбосца в не слишком выгодном свете. Так, может быть, мы все-таки ошибаемся, относя его к аристократической элите? Не был ли он на самом деле «плебеем», мельником? Есть и такая точка зрения.
Да, Питтак молол на мельнице. Но, судя по всему, не для того, чтобы заработать, а в качестве своеобразного развлечения. В частности, он продолжал этим заниматься даже и тогда, когда стал правителем полиса, хотя уж тогда-то ему, конечно, не приходилось думать о добывании хлеба насущного. На Лесбосе еще долго после этого бытовала народная песня, включавшая такие слова:
Мели, мельница, мели,
Так ведь мелет и Питтак,
Царь великой Митилены!
(Плутарх. Моралии. 157е)
Странноватое, конечно, хобби, не очень-то подходящее для представителя знати. Питтак, как видим, и в целом в повседневном быту вел себя, так сказать, антиаристократически. Обходился без светильника, ходил распоясанный и грязный… Да к тому же и босиком, коль скоро другим были видны трещины у него на ступнях. Это и вправду образ жизни, характерный для последнего бедняка.
Но, думается, тут перед нами сознательная позиция. Питтак, видимо, презирал аристократические ценности и сопряженную с ними модель поведения, потому-то и отвергал ее. Иными словами, поступал в точности так, как полтора века спустя поступал великий афинянин Сократ. Тот ведь тоже жил максимально непритязательно; его часто называют «босоногим мудрецом», а ведь этот эпитет, кстати, с тем же успехом можно было бы дать и Питтаку. В результате Сократа тоже очень часто, почти всегда (и ошибочно!) считают выходцем из простонародья, в то время как в действительности его происхождение было достаточно знатным
[120].
Возвращаясь к Питтаку, можно, правда, обратить внимание еще и на то, что он «имел жену знатнее себя». Но и это тоже ровным счетом ни о чем не говорит. Вспомним, что эта его жена была дочерью некоего Пенфила. А это означает, что она принадлежала к роду Пенфилидов — самому элитарному в полисе, бывшему царскому. Уже поэтому по отношению к женщине из этого рода абсолютно любой митиленянин, кто бы ни стал ее мужем, оказывался менее знатным.
В ходе смут, начавшихся на Лесбосе после свержения Меланхра, к власти уже вскоре удалось прийти новому тирану — Мирсилу. По мнению Г. Берве
[121], этот последний тоже был из Клеанактидов и ранее являлся одним из сподвижников Меланхра. Когда правление того было насильственно прервано, Мирсил то ли был изгнан, то ли сам бежал, но уже через несколько лет сумел вернуться на родину и установить собственную тиранию.
Возможно, его успех был связан с тем, что в Митилене остро воспринимались внешнеполитические трудности — неудачи в борьбе с афинянами за Сигей. Потому-то междоусобица и не прекращалась. Впрочем, не смог прекратить ее и Мирсил. Непохоже, что положение (по крайней мере вначале) его было прочным, а сам он завоевал популярность в среде лесбосской аристократии.
Алкей с братьями и Питтак на первых порах еще сообща боролись против этого нового режима единоличной власти. Скорее всего, именно тогда ими и были даны взаимные клятвы, о которых упоминалось в предыдущей главе (и цитировалось соответствующее алкеевское стихотворение). Между прочим, в клятвах между союзниками нужда возникает тогда, когда подлинного доверия уже нет…
И неудивительно, что в какой-то момент пути Алкея и Питтака разошлись самым решительным образом. Их гетерия запланировала переворот, но заговор был раскрыт, и его участники в большинстве своем вынуждены были обратиться в бегство. Такая судьба постигла и Алкея. Но не Питтака! Этот последний внезапно перешел на сторону Мирсила и в дальнейшем входил в его ближнее окружение.
Ну как тут было лесбосскому лирику не возненавидеть бывшего друга и союзника, оказавшегося в стане противников? Да и нам теперь, признаться, очень хотелось бы получить какое-нибудь объяснение подобному поведению Питтака. За многое его порицали, за что-то, возможно, и заслуженно, — но при всём том он как-то не производит впечатления беспринципной личности, этакого «политического флюгера».
Можно, конечно, только гадать, какими соображениями руководствовался Питтак, столь резко меняя курс. Один из возможных (а на наш взгляд, даже наиболее вероятных) вариантов таков. Питтак — а он, будучи, бесспорно, умным человеком, прекрасно понимал, что город пресыщен многолетней смутой, — посчитал Мирсила человеком, который сможет исправить ситуацию. Выражаясь современным языком, сделал на него ставку.
Если действительно так оно и было, то Питтак, похоже, имел основания для своего поступка. О Мирсиле, вообще говоря, отрицательных отзывов почти нет. Не считая, конечно, выпадов Алкея — но уж Алкей-то, как мы неоднократно видели, ругал чуть ли не всех и каждого. А правление Мирсила, по мнению такого авторитетного специалиста, как Г. Берве, было умеренным и не имело деспотического характера; в результате этот тиран сумел со временем сделать свою власть устойчивой и приобрести немалое количество сторонников
[122]. В числе последних был теперь и Питтак, который мог ведь рассуждать, в частности, и так: тирания, хоть как-то обеспечивающая стабильность и порядок, все-таки лучше, чем постоянный хаос междоусобиц.
«Умеренный тиран» — для нас подобное выражение звучит парадоксом, оксюмороном. Но это только потому, что само слово «тиран» со времен древних греков изменило свое значение. Ныне оно содержит однозначно негативные обертоны, его относят к жестокому, склонному к террору и репрессиям правителю-самодуру. А вот в архаической Элладе этот термин был еще нейтральным в этическом плане. Тираном (в отличие от царя) называли любого монарха, который пришел к власти не законным путем (то есть получив ее по наследству), а посредством захвата, узурпации. Но это еще ничего не говорит о том, как такое лицо своей властью будет пользоваться. Совершенно не исключено, что и на пользу государству.
Кстати, еще несколько слов о поступке Питтака. Если бы у сограждан осталось впечатление, что он попросту «продался» Мирсилу, то вряд ли ему удалось бы сохранить авторитет в Митилене, его стали бы презирать. Но этого-то как раз и не произошло; напротив, еще какое-то время спустя Питтак по всенародному решению возглавил полис…
Но до этого мы еще доберемся. А пока отметим: Алкей, ставший изгнанником по воле Мирсила, не переставал его ненавидеть — как при жизни, так и тогда, когда тиран умер (насколько известно, своей смертью, а не погиб в результате переворота, и это опять же говорит, что он не был немил гражданам). Когда весть о кончине этого митиленского правителя дошла до поэта, он откликнулся двустишием, которое просто-таки источает ликование:
Пить, пить давайте! Каждый напейся пьян,
Хоть и не хочешь, пьянствуй! Издох Мирсил.
(Алкей. фр. 332 Lobel-Page)
И позже, вспоминая о Мирсиле, Алкей писал, что тот «пожирал город»
(Алкей. фр. 70 Lobel-Page). Но, как уже не в первый раз приходится повторять, суждения автора здесь никак нельзя назвать объективными. Как бы то ни было, теперь великий лирик получил возможность вернуться из изгнания в родную Митилену. И, конечно же, с новой силой включился в борьбу. Но вновь его ждали неудачи. Все-таки, конечно, литература, а не политика была его истинным призванием, хотя сам он, наверное, и считал иначе.
Влияние Питтака продолжало возрастать. А с этим человеком у Алкея теперь уже не могло быть никакого примирения. В его стихах появляется новый мотив — Питтак как угроза, как очередной потенциальный тиран.
Метит хищник царить,
Самовластвовать зарится,
Всё вверх дном повернет, —
Накренились весы. Что спим?
(Алкей. фр. 141 Lobel-Page)
Это явно о Питтаке. Равно как и, например, следующие строки, обращенные к соотечественникам:
Он знай шагает по головам, а вы
Безмолвны, словно оцепенелые
Жрецы перед загробной тенью,
Грозно восставшей из мрака мертвых.
Пока не поздно, вдумайтесь, граждане,
Пока поленья только чадят, дымясь,
Не мешкая, глушите пламя,
Или запылает оно пожаром.
(Алкей. фр. 58 Lobel-Page)
Или такие:
Не помню, право, — я малолетком был,
Когда милы нам руки кормилицы, —
Но помню, от отца слыхал я:
Был возвеличен он Пенфилидом.
Пусть злорадетель родины свергнут им:
Меланхр низвергнут! Но низвергатель сам
Попрал тирана, чтоб тираном
Сесть царевать над печальным градом.
(Алкей. фр. 75 Lobel-Page)
Здесь содержится ряд намеков на уже известные нам факты: на давние связи Питтака со знатнейшим родом Пенфилидов (выше упоминалось, что его жена происходила из этого рода), на его ключевую роль в свержении тирана Меланхра… Алкей, однако, теперь уверен: Питтак низложил того с единственной целью — самому прийти к власти. Но на момент этого стихотворения, насколько можно судить, еще не пришел.
В конце концов поэт опять был изгнан из Митилены: так уж неудачливо складывалась его политическая карьера. И на сей раз инициатором его удаления стал, как можно утверждать с наибольшей вероятностью, не кто иной, как сам Питтак. Да оно и понятно: кому же понравится подобный поток талантливой стихотворной брани?
Кончился этот «виток» гражданской смуты тем, что в 590 году до н. э. митиленяне поставили Питтака во главе полиса сроком на десять лет. Он занял экстраординарную должность
эсимнета. Сущность этого поста разъясняет Аристотель (в качестве примера он приводит именно лесбосские события), давая в своем знаменитом трактате «Политика» классификацию различных видов царской власти:
«…Другой вид, существовавший у древних эллинов, носит название эсимнетии. Она, так сказать, представляет собой выборную тиранию; отличается она от варварской монархии… тем, что не является наследственной. Одни обладали ею пожизненно, другие избирались на определенное время или для выполнения определенных поручений; так, например, граждане Митилены некогда избрали эсимнетом Питтака для защиты от изгнанников, во главе которых стояли Антименид и поэт Алкей. О том, что митиленяне избрали Питтака именно тираном, свидетельствует Алкей в одной из своих застольных песен…» (
Аристотель. Политика. III. 1285а 20 слл.).
Как видим, даже такой скрупулезный и проницательный ученый, как Аристотель, оказался введен в заблуждение алкеевыми выпадами. Да, лесбосский поэт называл (скорее, обзывал) Питтака тираном, но из личной неприязни. В действительности же, хотя эсимнеты и располагали очень широкими властными полномочиями, всё же вполне уподоблять их тиранам не следует. Если тиран обычно становился во главе полиса в результате переворота, то тот же Питтак, во-первых, был законно избран согражданами, во-вторых же, с ограничением срока правления (десять лет). Для «настоящих» тиранов такого ограничения и представить невозможно. Они правили или пожизненно, или до тех пор, пока их не свергали в ходе нового переворота.
Статус эсимнета на Лесбосе можно определить как статус посредника-примирителя, функция которого — покончить со смутой, со стасисом, восстановить мир и стабильность внутри полисного коллектива. В архаическую эпоху многие города Эллады были вынуждены прибегать к услугам таких посредников-примирителей. Человек, которого выбирали на подобную роль, назначался на высшую государственную должность и даже облекался чрезвычайными полномочиями для проведения реформ по своему усмотрению.
На что должны были быть направлены эти реформы, как можно было прекратить междоусобицу? Разумеется, лучший способ — достижение компромисса (хотя бы относительного) между враждующими группировками и слоями. Желаемого компромисса, при котором ни одна сторона не почувствовала бы себя обиженной, впрочем, достичь было очень непросто. Не случайно иной раз для выхода из смуты приглашали посредника-примирителя «со стороны», из другого города: вердикт такого незаинтересованного и авторитетного лица мог лучше удовлетворить участников конфликта, чем решение своего же согражданина. Бывало, конечно, и так, что согражданин, которого все уважали и которому все доверяли, отыскивался в своем же полисе. Сейчас перед нами именно такой случай.
И Питтак оправдал доверие митиленян. Он ликвидировал смуту, установил гражданский мир, ввел свод письменных законов. А пробыв у власти десять лет и исполнив свою миссию, сложил с себя полномочия, то есть поступил именно так, как требовал закон. Разве это поведение, характерное для тирана?
О законах, изданных Питтаком, к сожалению мало что известно. Привлекает к себе внимание один из них, довольно занятный, который передается античными авторами в следующей формулировке: «С пьяного за проступок — двойная пеня, чтобы не напивались пьяными оттого, что на острове много вина» (
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 76).
Греческие острова, в том числе и Лесбос, действительно славились своим виноградарством и виноделием. Но обратим внимание прежде всего на то, что уже в такую раннюю историческую эпоху — в начале VI века до н. э.! — Питтак вводит правовую норму, согласно которой состояние опьянения считается отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Вот к какой глубокой древности восходит борьба с пьянством…
Кстати, коль скоро Питтак являлся его противником, то оказывается, что и то стихотворение Алкея, в котором митиленский эсимнет объявляется горьким пьяницей (оно цитировалось в предыдущей главе), на деле представляет собой полную клевету. Алкей, естественно, продолжал злопыхательствовать против Питтака и после того, как последний возглавил государство.
Нам сказать бы ему: флейта он сладкая,
Да фальшиво поет дудка за пиршеством.
Присоседился он к теплым приятелям,
В глотку льет заодно с глупою братией.
За женою он взял, кровной атридянкой,
Право град пожирать, словно при Мирсиле,
Пока жребий войны не обратит Apec
Нам в удачу. Тогда — гневу забвение!
Мы положим конец сердце нам гложущей
Распре. Смуту уймем. Поднял усобицу
Олимпиец один; в горе народ он ввел.
А Питтаку добыл славы желанной звон.
(Алкей. фр. 70 Lobel-Page)
Процитированное стихотворение довольно сложно; в нем необходимо кое-что пояснить. Жена Питтака названа здесь «атридянкой» потому, что она, напомним, принадлежала к знатному роду Пенфилидов, который возводил свое происхождение к самому Атрею — легендарному царю древних Микен, отцу знаменитого Агамемнона. Далее, под «олимпийцем» (в предпоследней строке) имеется в виду некий бог — Зевс или какой-то иной. Греки называли своих богов олимпийцами, потому что местом их пребывания считали гору Олимп.
Общий
настрой стихотворения таков: Алкей всё еще в изгнании, но страстно желает возвратиться. Он уверяет, что только ему и его сторонникам под силу положить конец смуте. Но чем дальше, тем более иллюзорной становится эта надежда на возвращение; соответственно, всё озлобленнее тон алкеевских стихов. Возьмем хотя бы вот это — в нем Питтак даже не назван по имени, а обозначен как «сын Гирра», и на его голову поэт призывает кару Эриний — богинь мщения:
…На сына ж Гирра впредь да обрушится
Эриний злоба: мы все клялись тогда,
Заклав овец, что не изменим
В веки веков нашей крепкой дружбе:
Но иль погибнем, землей закутавшись,
От рук всех тех, кто правил страной тогда,
Иль, их сразивши, от страданий
Тяжких народ наконец избавим.
А он, пузатый, не побеседовал
С душой своей, но без колебания,
Поправ ногами нагло клятвы,
Жрет нашу родину, нам же…
(Алкей. фр. 129 Lobel-Page)
Фрагмент обрывается чуть ли не на полуслове, как это столь часто бывает с отрывками, дошедшими до нас от архаических лириков. Но обратим внимание: кое-что из сказанного здесь нам уже встречалось. И упоминание о попранной клятве, и характерный образ Питтака, «жрущего» полис… Алкей начинает повторяться, а это верный признак того, что из-за нарастающей ненависти ему порой изменяет даже литературный дар. В конце концов он доходит просто-таки до каких-то яростных выкриков:
И того отца-то побить камнями
Впору, а его уж отца — подавно:
Нет на нем стыда…
Всем ненавистный.
(Алкей. фр. 68 Lobel-Page)
Хотя тут и не упомянуто никаких имен, но нетрудно догадаться, к кому Алкей относится настолько враждебно, что переносит эту вражду на покойных отца и деда этого человека. А в то же время — вот парадокс! — он в какой-то момент обратился (видимо, письменно) к Питтаку с прошением позволить ему вернуться на родину. Эсимнет ответил мягким отказом; поэт откликнулся стихотворением, в котором главное звучащее чувство — даже уже не гнев (хотя и он присутствует), а какая-то высокая скорбь:
Какой, поведай, бог соблазнил тебя,
Злодей, ответить: «Мне не представился
Предлог тебя вернуть»? Где совесть,
Что неповинного ты караешь?
Но чист мой демон. Или ты мнишь: отказ
Твой сумасбродный звезды не слышали
На небесах? Умолкни! Небо
Тьмы наших бедствий моли ослабить.
Твой праздник жизни — время твое прошло.
Плоды, что были, дочиста собраны.
Надейся, жди: побег зеленый
Отяжелеет от винных гроздий.
Но поздно, поздно! Ведь от такой лозы
Так трудно зреет грузная кисть, склонясь.
Боюсь, до времени нарядный
Твой виноград оборвут незрелым.
Где те, кто прежде здесь пребывал в трудах?
Ушли. Не гнать бы от виноградников
Их прочь. Бывалый виноградарь
С поля двойной урожай снимает.
(Алкей. фр. 119 Lobel-Page)
Алкей, как говорится, «ничего не забыл и ничему не научился». Этот активнейший разжигатель гражданской смуты продолжал считать себя «неповинным», был уверен в своей правоте и по-прежнему чаял, что в конечном счете он победит, а Питтак уйдет в небытие.
В каком-то смысле он оказался провидцем: сам Алкей вошел в историю как великий поэт, а Питтак — отнюдь нет. Хотя «пузан», между прочим, тоже писал стихи, — например, такие:
С луком в руках и с полным стрелами колчаном
Пойдем на злого недруга:
Нет у него на устах ни слова верного —
Двойная мысль в душе его.
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. I. 78)
Кого здесь Питтак имел в виду? Внешнего ли врага — такого, как афинянин Фринон, которого он сам сразил? Или же врага внутреннего, каким для него с некоторых пор стал тот же Алкей? Второе, кажется нам, вероятнее. Как бы то ни было, Алкей, насколько известно, так и окончил жизнь в изгнании.
* * *
Во всех событиях, о которых только что было рассказано, Сапфо, естественно, напрямую не участвовала и не могла участвовать. То, что мы знаем о положении женщин в античной Греции, о их полном отстранении от политической жизни, вполне объясняет это. Неудивительно, что в сохранившемся наследии поэтессы ни разу не упоминается, кажется, даже Питтак — не говоря уже о менее значительных деятелях митиленской истории.
И тем не менее перипетии ожесточенной борьбы, кипевшей на острове, так или иначе должны были сказаться и на личной судьбе его великой уроженки, и на ее творческом наследии. В чем заключалось их конкретное влияние — об этом предстоит поговорить подробнее в следующей главе.
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Итак, мы переходим непосредственно к той биографической информации, которая имеется в распоряжении науки о женщине, которую мы знаем как Сапфо, но которая, кстати, сама себя называла, насколько можно судить, несколько иначе — Пса́пфо или Пса́пфа. Именно так звучит это имя на лесбосско-эолийском диалекте древнегреческого языка.
Вот несколько примеров из наследия самой поэтессы. В стихотворении, посвященном Афродите, Сапфо описывает свой воображаемый разговор с богиней любви, явившейся ей:
…И, представ с улыбкой на вечном лике,
Ты меня, блаженная, вопрошала,
В чем моя печаль и зачем богиню
Я призываю,
И чего хочу для души смятенной.
«В ком должна Пейфо
[123], укажи любовью
Дух к тебе зажечь? Пренебрег тобою
Кто, моя Псапфа?»
(Сапфо. фр. 1 Lobel-Page)
В другом месте знаменитая уроженка Лесбоса вспоминает о разлуке с одной из подруг:
…А прощаясь со мной, она плакала,
Плача, так говорила мне:
«О, как страшно страдаю я.
Псапфа! Бросить тебя мне приходится!»
(Сапфо. фр. 94 Lobel-Page)
Но почему же тогда она сейчас для нас не Псапфа? Выше уже упоминалось, что между разными эллинскими диалектами существовали определенные различия, в основном фонетические. Сейчас перед нами именно такой случай. Эолийский диалект со своими разновидностями, получивший широкую известность в архаический период — именно благодаря лирике лесбосских поэтов! — в последующие эпохи античной истории стал полузабытым, мало кто в нем хорошо разбирался (кроме, естественно, специалистов-филологов). В основу обще греческого литературного языка со временем лег иной диалект — аттический. В частности, и личные имена деятелей культуры мы поныне транскрибируем, опираясь на то произношение, какое они имели в этом последнем. Потому и Пса́пфа превратилась в Сапфо́ (реже встречавшиеся варианты написания — Сафо́, Саффо́). Что же касается значения этого имени — вне зависимости от звучания в том или ином диалекте оно будет одним и тем же. По-русски оно должно быть передано примерно как «ясная», «светлая»
[124].
Что же можно поведать о жизни нашей героини? Увы, досадно мало. И тому, наверное, есть две причины. Во-первых, справедливо ведь говорится, что биография писателя, поэта (да и в принципе любого деятеля культуры, будь то художник или ученый) — это, как правило, прежде всего история его творчества. Перипетии личной судьбы могут влиять, а могут и напрямую не влиять на это творчество; но в любом случае такие перипетии редко будут особенно выразительными. Если, скажем, жизнеописание полководца являет собой череду ярких событий, войн, сражений, подвигов и т. п., жизнеописание лирика сводится по большому счету к эволюции его, так сказать, взаимоотношений с музой.
Бывают, конечно, исключения, и их легко припомнить, даже если говорить о самых великих представителях мировой литературы. Байрон объехал полмира, воевал за независимость Греции… Сервантес тоже воевал и даже лишился руки в сражении, а потом еще сидел в тюрьме… Достоевский прошел через эшафот и сибирскую каторгу…
Но точно так же легко припомнить и множество противоположных случаев. Что запоминающегося в жизненном пути Гёте? То, что он много лет прослужил министром в своем Веймарском княжестве? Мы уж не говорим о Шекспире, о котором известно, по сути, только то, что он был режиссером и актером театра «Глобус» (в результате в литературоведении раз от раза закипают дискуссии о том, действительно ли написал Шекспир свои произведения — настолько контрастирует их гениальность с ничем не примечательным жизненным путем автора).
Но разве Гёте, Шекспир (или Тургенев, или Тютчев…) становятся менее великими от того, что скудны их «внешние» биографии? Нет конечно же. Ровно то же самое можно сказать и о выдающихся эллинских писателях. Да, был Алкей, активный участник гражданских смут; был Солон, сочетавший стезю лирика с деятельностью законодателя, прослывший одним из Семи мудрецов; был Эсхил, бившийся с персами при Марафоне и Саламине и ставивший эти свои деяния даже выше написанных им драм (хотя потомки, естественно, рассудили иначе).
Но был и Гесиод — мирный крестьянин, пасший овец на склонах беотийских холмов, а на досуге сочинявший эпические поэмы и самым ярким событием своей жизни считавший поездку на состязание аэдов — на лодке через узкий пролив на остров Эвбею. Наряду с героем Эсхилом были его земляки и младшие современники Софокл и Еврипид, о которых рассказать в общем-то тоже особенно нечего. Софокл занимал жреческие должности, выполнял военные и дипломатические поручения? Еврипид в конце жизни переселился из родных Афин к македонскому царскому двору? Всё это так, но подобного рода факты звучат как-то обыденно, без рельефности.
Боимся, Сапфо принадлежала именно к этой второй категории деятелей культуры: жизнь ее протекала без уникальных, врезающихся в память событий. А те, что и были (среди них, как увидим, вынужденная разлука с родиной в юности, потом замужество, потом материнство…), — являлись значимыми лишь для нее самой, а прочими, несомненно, воспринимались как нечто обычное и банальное. А если мы сейчас припомним то, что было сказано выше о затворническом образе существования древнегреческих женщин, о их отстранении от почти всех форм общественной жизни (кроме разве что религии), о практической невозможности для них хоть как-то «блеснуть», проявить себя в подавляющем мужском социуме (не говорим, конечно, здесь о гетерах, Сапфо и ее круг — это, что называется, порядочные женщины), то тем более не будет удивительной тихая, скромная, незаметная история нашей поэтессы как человеческой личности.
Это, повторим, первый из двух факторов, в силу которых жизнеописание Сапфо будет заведомо блеклым и суховатым. Есть и второй. Биографические сведения о ней, которыми мы располагаем, и крайне немногочисленны, и крайне отрывочны, и крайне противоречивы. Многие из них просто производят впечатление недостоверных или малодостоверных. Так как же на их основании реконструировать некий целостный образ? Выход один: использовать в дополнение к ним данные самой поэзии Сапфо. Или, точнее, так или иначе, прямо или косвенно, порой с немалым трудом извлекать из ее стихов требуемые данные. Но ведь ровно так же дело обстоит чуть ли не со всеми архаическими греческими лириками. Мы бы очень, очень мало знали о судьбе Архилоха, Алкея, Феогнида, если бы не сохранилось довольно многое из того, что ими было написано.
У Сапфо был в античности свой биограф — писатель Хамелеонт. Он являлся уроженцем Гераклеи Понтийской, греческой колонии на южном берегу Черного моря, и принадлежал к философско-научной школе перипатетиков, то есть к ученикам Аристотеля. Родился Хамелеонт около 350 года до н. э., скончался после 281 года до н. э. (когда именно — сказать невозможно). Писал он много, как почти все перипатетики. В частности, его перу принадлежал труд, посвященный Сапфо. К глубокому сожалению, от него почти ничего не сохранилось.
Впрочем, к столь ли уж глубокому? То очень немногое, что от него дошло, несколько разочаровывает. В одном из фрагментов Хамелеонта говорится, что поэтесса «имела… дочь Клеиду, соименную ее собственной матери» (
Хамелеонт. фр. 27 Wehrli). Но ведь об этой дочери известно и без всякого Хамелеонта, ее упоминает сама Сапфо в своих произведениях; соответственно, и читателям нашей книги это имя уже встречалось.
Другое суждение Хамелеонта о Сапфо
(Хамелеонт. фр. 26 Wehrli), сохраненное позднеантичным автором Афинеем
(Афиней. Пир мудрецов. XIII. 72), выше уже цитировалось: будто бы поэтесса имела некую стихотворную переписку с теосским лириком Анакреонтом. А это чистой воды миф, даже более недостоверный, чем тот, который предполагал ее аналогичную переписку с Алкеем. Сапфо и Алкей хотя бы
теоретически могли-таки вступать в диалог, поскольку были современниками. А Анакреонт жил намного позже; его расцвет как поэта пришелся на вторую половину VI века до н. э., когда Сапфо уже и в живых-то не было.
Такие вот нелепые ошибки допускал даже писатель, рассказывавший о Сапфо спустя каких-нибудь два с небольшим века после того, как ее не стало. Поэтому совсем уж снисходительно должны мы отнестись к той единственной — очень коротенькой (полтора-два десятка строк) и невнятной — биографии поэтессы, которая дошла до нас. Чуть ниже она будет приведена полностью, но перед тем нужно будет кое-что в связи с ней разъяснить, а после того — кое-что в ней прокомментировать.
Это жизнеописание находится в анонимном византийском энциклопедическом словаре «Су́да», составленном в X веке н. э. Кем бы ни был автор (или скорее авторы?) этого словаря, его (их?) отделял от Сапфо огромный хронологический отрезок — более полутора тысяч лет! Меньше времени прошло от написания «Суды» до нас, чем от времен Сапфо до написания «Суды».
Перед нами, в сущности, именно краткая словарная статья. Вот она:
«Сапфо — дочь Симона, а по мнению других — Евмена, а по мнению третьих — Ээригия, а по мнению четвертых — Экрита, а по мнению пятых — Сема, а по мнению шестых — Камона, а по мнению седьмых — Этарха, а по мнению восьмых — Скамандронима; мать же ее — Клеида. Лесбиянка
[125] из Эреса, лирическая поэтесса, родившаяся в 42-ю олимпиаду, тогда же, когда Алкей, Стесихор
[126] и Питтак. У нее были и три брата: Ларих, Харакс, Евригий. Замуж же она вышла за Керкила, богатейшего человека, переселившегося с Андроса
[127], и родила от него дочь, которая была названа Клеидой. А приятельниц и подруг у нее было три: Аттида, Телесиппа, Мегара, из-за которых ее и упрекали в постыдной дружбе. Ученицы же ее — Анагора-милетянка, Гонгила-колофонянка, Евника-саламинянка. Она написала 9 книг лирических стихотворений и первая изобрела плектр. Писала же она и эпиграммы, и элегии, и ямбы, и монодии.
Сапфо — лесбиянка из Митилены, арфистка. Она из-за любви к митиленянину Фаону бросилась в море с Левкадской скалы. Некоторые же и ей приписали сочинение лирических стихов» («Суда», статья «Сапфо»).
Как видим, всё это не слишком-то информативно. Однако попытаемся извлечь из процитированной биографии все данные, какие только можно, попутно разбираясь с разного рода путаницей, которая сплошь и рядом в ней наличествует, и пытаясь разрешить прочие возникающие при работе с ней проблемы. Кстати, сразу обратим внимание на то, что на самом деле перед нами не одна статья, а две. Автор словаря, соответственно, полагал, что существовали две разные Сапфо. Как к этому мнению отнестись, — возможно, покажет дальнейший анализ.
Итак, прежде всего — вопрос о родителях поэтессы. В «Суде» перечислены аж восемь (!) вариантов имени ее отца. Какой же из них верен? Как ни странно, тот, который назван последним. О том, что Сапфо была дочерью Скамандронима, сообщают гораздо более ранние и заслуживающие доверия источники. Так, уже у Геродота упоминается «митиленец Харакс, сын Скамандронима, брат поэтессы Сапфо» (
Геродот. История. II. 135).
Далее, писатель-эрудит Элиан, живший во II–III веках н. э., сообщает следующее: «Поэтессу Сапфо, дочь Скамандронима, Платон, сын Аристона, считает мудрой женщиной. Я слышал, что на Лесбосе существовала другая Сапфо, не поэтесса, а гетера»
(Элиан. Пестрые рассказы. XII. 19). Будем держать в памяти тот факт, что в приведенном свидетельстве тоже фигурирует некая «другая Сапфо», — не исключено, что в дальнейшем это нам что-то даст, — но пока вернемся к сюжету об отце нашей героини.
О восхищенном отношении философа Платона к творчеству Сапфо нам уже известно. Здесь, стало быть, Элиан говорит правду. А его ссылка на Платона, видимо, означает, что эрудитом использован какой-то из его трудов. Иными словами, Платон — а он всеми признаётся автором весьма авторитетным — тоже считал, что отца Сапфо звали Скамандронимом.
Имя Скамандроним — редкое; в переводе с древнегреческого оно будет примерно означать «названный в честь Скамандра». А Скамандр — знаменитая река, близ которой стояла легендарная Троя. Поэтому Скамандр постоянно упоминается в «Илиаде» Гомера: на его берегах происходили многие сражения Троянской войны. Отец Сапфо — лесбосец, родившийся и живший в VII веке до н. э., — был наречен Скамандронимом, вне всяких сомнений, в связи с освоением лесбосскими эолийцами региона разрушенной Трои, имевшим место как раз тогда, в период их колонизационной деятельности, о которой говорилось в предыдущей главе.
Что же касается имени матери поэтессы, то относительно его, напротив, вообще не возникает разногласий: ее звали Клеидой («Славной»). Тут никаких иных вариантов ни античные, ни византийские источники не предлагают. Стало быть, и спорить не о чем. Как уже отмечалось, именно в честь родительницы Сапфо назвала и свою дочь. Стихи, посвященные ею этой Клеиде-младшей и демонстрирующие горячую материнскую любовь, цитировались выше.
А обращалась ли Сапфо в своем творчестве к образам Скамандронима и Клеиды-старшей? Отец в ее сохранившихся фрагментах нигде не упоминается, а вот о матери говорится в одном из лучших стихотворений поэтессы:
Мать моя говорила мне: «Доченька,
Помню, в юные дни мои
Ленту ярко-пурпурную
Самым лучшим убором считали все,
Если волосы черные;
У кого ж белокурые
Кудри ярким, как факел, огнем горят,
Той считали к лицу тогда
Из цветов полевых венок»…
(Сапфо. фр. 98 Lobel-Page)
Здесь перед нами яркое воспоминание детства — или, скорее, подросткового возраста, когда девочки начинают уже интересоваться нарядами и украшениями. Очень характерно, что именно им посвящен разговор матери и дочери. Не приходится, конечно, удивляться и тому, что у Сапфо были более теплые, доверительные отношения с матерью, чем с отцом. Так по большей части и бывает, а в условиях древнегреческого полисного общества с имевшей в нем место известной сегрегацией полов, когда женщины вели жизнь затворническую, а мужчины, наоборот, мало времени проводили дома, эта тенденция должна была проявляться в еще большей степени: у будущей поэтессы, несомненно, просто не было особых возможностей для общения с родителем.
Переходим к вопросу о том, когда Сапфо родилась. Это тоже непростая проблема, имеющая разные варианты решения. В словаре «Суда», как мы видели, сказано, что она родилась в 42-ю олимпиаду. Древнегреческие историки с определенного момента приняли обыкновение осуществлять счет времени по олимпиадам — промежуткам времени между Олимпийскими играми, проводившимися, как все знают, раз в четыре года
[128]. Этот обычай существует и в наши дни, возрожденный чуть более века тому назад основоположником современного олимпизма Пьером де Кубертеном. Разница заключается только в том, что в античности игры проходили не в разных городах, как привычно нам, а всегда в одном и том же месте — в Олимпии (отсюда и название), священном городе Зевса, расположенном в южной части Греции
[129]. Они и были по своему статусу религиозным празднеством в честь верховного бога эллинов.
Первые Олимпийские игры, согласно традиции, состоялись в 776 году до н. э. Исходя из этой датировки
[130], несложно рассчитать, что 42-я олимпиада пришлась на 612/611–609/608 годы до н. э. Даты с дробями стоят здесь потому, что Олимпийские игры проводились всегда летом (зимних античность не знала), а мы ныне празднуем Новый год зимой, и в результате «первый год 42-й олимпиады» в пересчете на наше летосчисление будет соответствовать второй половине 612 года до н. э. и первой половине 611 года до н. э. И то же относится, само собой, к любому году любой античной олимпиады. Если о ком-то в источниках сказано, что он родился в первый год 42-й олимпиады (и при этом нет никаких дальнейших уточнений), то мы вынуждены констатировать, что рождение этого лица приходится
либо на 612-й,
либо на 611 год до н. э.
Но с Сапфо ситуация еще сложнее. В статье словаря «Суда» указан только номер олимпиады, но не год внутри нее. Вот так и приходится теперь писать: поэтесса, согласно «Суде», родилась в хронологическом промежутке между 612/611 и 609/608 годом до н. э. Это в любом случае дает хоть какую-то определенность: время появления на свет девочки, которой суждено было стать знаменитейшей из всех гречанок, следует отнести практически к самому концу VII века до н. э. Это — тот период, когда к власти в лесбосской «столице» Митилене пришел тиран Меланхр, но вскоре же был свергнут совместными усилиями Питтака и Алкея.
Получается, последний являлся уже зрелым мужем, активным участником политической борьбы, когда Сапфо была грудным младенцем? Это смущало многих ученых, поэтому предлагалась и совершенно иная датировка рождения нашей героини: «самое позднее в 630 году до н. э.»
[131]. Заметим, это ведь не шутки: разницу в пару десятилетий маленькой не назовешь.
Сторонники этой более ранней даты рождения поэтессы исходят даже не столько из наличия «поэтической дуэли» Алкея и Сапфо (да, последняя, родись она в 630-х годах до н. э., могла бы в такой «дуэли» участвовать, но ведь сама-то стихотворная переписка между двумя великими представителями лесбосской лирики, как уже неоднократно отмечалось, представляет собой фикцию), сколько, пожалуй, из того, что во фрагментах Сапфо упоминается род Клеанактидов, который был наиболее активен в Митилене в 610-х годах до н. э. Но это еще ничего не решает: мы видели, что, согласно авторитетному мнению Г. Берве, митиленские тираны Меланхр и Мирсил принадлежали к этому самому роду или по крайней мере имели к нему какое-то отношение. Клеанактиды могли оказывать влияние на лесбосскую политику вплоть до прихода к власти Питтака, который падает на 590 год до н. э. А в то время Сапфо — если исходить из более поздней датировки ее рождения примерно в 610 году до н. э. — была уже двадцатилетней женщиной.
Это не оговорка: если в наше время привычнее выражение «двадцатилетняя девушка» (а то и «тридцатилетняя девушка»), то в античной Элладе представительниц слабого пола, как мы уже знаем, очень рано выдавали замуж: лет в пятнадцать, а то и в еще более юном возрасте. Соответственно, к двадцати годам гречанка, как правило, имела уже и детей.
Выше цитировалось стихотворение Сапфо, обращенное к ее дочери Клеиде. Та просит купить ей лидийскую шапочку из Сард, а мать ей объясняет, что это невозможно; причины неясны, но, согласно одной из версий, в сложившемся положении как-то виноват правитель Митилены Питтак. Последний, напомним, возглавлял полис с 590 по 580 год до н. э. А теперь произведем некоторые хронологические расчеты, дабы попытаться установить, ранняя или поздняя датировка рождения поэтессы даст более целостную и последовательную картину.
Если Сапфо родилась в 42-ю олимпиаду, то в брак она должна была вступить около 595 года до н. э. И если вскоре после этого у нее родилась дочь, то как раз в правление Питтака Клеида достигла подросткового возраста и начала выпрашивать у матери дорогие и труднодоступные вещи. Всё сходится.
Но если Сапфо родилась в 630 году до н. э. или раньше, то к моменту прихода к власти Питтака ей было не менее сорока лет, к моменту же ухода эсимнета со своего поста — не менее пятидесяти. Теоретически можно, конечно, допустить, что и в такие годы у нее могла быть дочь-подросток. Но, что и говорить, такое допущение выглядит куда менее вероятным, чем высказанное ранее.
Итак, поскольку все-таки надо как-то определяться и переходить к следующим вопросам, констатируем: в дальнейшем изложении мы будем исходить из того, что Сапфо появилась на свет на хронологическом промежутке между 612 и 608 годами до н. э. Иными словами, около 610 года до н. э. (плюс-минус один-два года). Именно так будет указано в перечне основных дат в конце книги.
* * *
Статья о нашей героине в словаре «Суда», как заметил читатель, указывает и место ее рождения — Эрес, один из малых городов Лесбоса. Сомневаться в достоверности этой информации не приходится — кому и зачем бы ее надо было придумывать? В истории случается, что возникают споры о том, где родилась та или иная знаменитость. Как известно, за право считаться отечеством Гомера спорили семь городов. Однако Сапфо и Гомер в этом отношении быть сравнены друг с другом никак не могут: первая — лицо вполне реальная, а второй — полулегендарная фигура, о жизни которой вообще ничего не известно
[132].
Впрочем, главное даже не в этом. Как предположить, что родиной поэтессы реально была, скажем, Митилена, главный центр Лесбоса, а потом таковой почему-то стали считать захолустный Эрес? Так не бывает; допустимо уж скорее противоположное развитие событий, когда более крупный и влиятельный город, так сказать, присваивает себе не принадлежащую ему славу, отнимая ее (путем, например, каких-нибудь фальсификаций) у городка малого и слабого. Иными словами, если бы Сапфо родилась в Эресе, а потом об этом забыли бы и стали бы называть ее исконной митиленянкой (тем более что она впоследствии и стала митиленской гражданкой), — вот это было бы не удивительно. Но этого не случилось, и по счастливой случайности память об истинном месте рождения нашей героини сохранилась.
Итак, во-первых, никому не придет в голову сомневаться в том, что Сапфо появилась на свет на Лесбосе. Во-вторых же, вряд ли следует подвергать серьезному сомнению и факт ее рождения именно в Эресе. Но, с другой стороны, только это мы и можем сказать, а больше никаких сведений о самых ранних годах ее жизни мы не имеем.
В какой-то момент будущей поэтессе пришлось бежать с родного острова на далекую Сицилию. Если исходить из принятой нами поздней даты ее рождения, то следует вести речь не о бегстве в строгом смысле слова, а о том, что ее еще девочкой увезли в эмиграцию родители.
Об этом событии сохранились сведения в важном эпиграфическом памятнике, который принято называть «Паросской хроникой» (или «Паросским мрамором»). Это огромная надпись на мраморной плите, сделанная в III веке до н. э. и содержащая некое подобие хроники различных исторических и историко-культурных событий, имевших место в Древней Греции, притом в самые разнообразные времена.
Первая часть плиты с «Паросской хроникой» была найдена в 1627 году; она находится ныне в Оксфорде. Вторая же часть открыта гораздо позже, в 1897 году, и хранится в музее на острове Парос, где надпись была и составлена, и обнаружена
[133]. Хроника начинается с правления мифического афинского царя Кекропа (начавшего править будто бы в 1581/1580 году до н. э.) и заканчивается упоминанием афинского архонта Диогнета, занимавшего свой пост в 264–263 годах до н. э. И первая, и последняя даты, видимо, не случайны: именно история Афин описана в рассматриваемом памятнике особенно детально. Но все-таки не только она. Те, кто составлял надпись, уделили внимание также и некоторым другим регионам греческого мира, в том числе и Сицилии. Именно в связи с последней в ней и упоминается Сапфо.
«Паросская хроника», как и почти любая большая древнегреческая надпись, дошла до нас в далеко не идеальном состоянии; в ней имеются утраты текста. Мрамор — очень прочный, долговечный камень, но всемогущее время сильнее даже мрамора. На плите в течение веков и тысячелетий появлялись повреждения; некоторые слова, буквы и цифры, стоявшие на ней, ныне не могут быть прочитаны. В частности, и тот отрывок из нее, касающийся Сапфо, который сейчас будет процитирован, тоже пострадал. Особенно досадно, что не сохранилась дата события, о котором в нем идет речь:
«С тех пор, как Сапфо, спасаясь бегством, отплыла из Митилены на Сицилию… в то время, когда архонтом в Афинах был Критий Старший, а в Сиракузах власть находилась в руках гаморов» («Паросская хроника», 36). Ключевой момент в свидетельстве — многоточие, которым обозначена порча текста. Именно в этом его месте должна была находиться датировка. Но, коль скоро она пропала, можно ли «извлечь ее из небытия», основываясь на каких-либо прямых или косвенных данных?
Гаморами, объясним сразу, в Сиракузах — самой крупной греческой колонии на Сицилии — назывались аристократы, в архаическую эпоху являвшиеся правящей элитой этого города. Указание на них пока еще никакой конкретики в хронологическом плане не дает. Упомянут тут также афинский архонт Критий Старший. Это уже более утешительно. Архонты в Афинах занимали свой пост в течение одного года — не больше и не меньше. И никому из них не было дозволено занимать архонтский пост вторично.
В Афинах велся список архонтов
[134]; он был выставлен на Агоре — главной городской площади. Собственно, без него было и никак не обойтись. Дело в том, что в летосчислении древнегреческих полисов годы обозначались не цифрами, как привычно нам (2015 год, 1945 год и т. п.), а именами верховных должностных лиц. В тех случаях, когда ныне принято говорить, скажем, «Я родился в 1965 году», эллин говорил: «Я родился в год архонтства Солона» (или в год чьего-либо другого архонтства).
Что́ из этого вытекает — вполне понятно: перечень архонтов должен был быть в общей доступности. Без этого трудно или даже невозможно было подсчитать, сколько лет тому или иному гражданину. А информация о возрасте чрезвычайно важна, например, в тех случаях, когда производится призыв на военную службу (весьма актуальный мотив, поскольку полисы Эллады воевали друг с другом очень часто).
Итак, список афинских архонтов существовал; однако, увы, самая древняя его часть не дошла до нас. Когда занимал этот пост Критий Старший? Ученый, наиболее скрупулезно исследовавший афинскую систему должностей, причем именно в аспекте занимавших эти должности лиц
[135], датирует его архонтство 600/599 годом до н. э., но, впрочем, ставит знак вопроса. Этот знак препинания, впрочем, не должен нас удручать. Он показывает только то, что с датировкой нет
полной точности; а нас совершенно устроит и некая достаточно приблизительная цифра. Тем более что она указывает как раз на то время, когда жила Сапфо, так что сомневаться в общем порядке даты нет никаких серьезных оснований.
Нужно учитывать еще и то, что в «Паросской хронике» события перечисляются в основном в порядке их последовательности. Так что время, когда Сапфо оказалась на Сицилии, нетрудно вычислить и путем сопоставления оповещающих об этом событии строк надписи с предшествующими и последующими.
Все авторитетные специалисты, занимавшиеся «Паросским мрамором», начиная с самого главного из этих «авторитетов» — Феликса Якоби, — абсолютно уверены только в одном: время бегства Сапфо с Лесбоса на Сицилию пришлось на временной промежуток между 603/602 и 596/595 годами до н. э.
Что это для нас означает? То, что уже говорилось и выше: поэтесса покинула родину еще девочкой. Ей было около десяти лет. Но опять же приходится оговорить, плюс-минус два-три-четыре года в ту или другую сторону. Это не принципиально.
Видимо, именно потому-то сицилийское изгнание (оно, похоже, было недолгим) никак не отразилось в стихах Сапфо. Или почти никак. Есть у нее строка:
Ты на Кипре ль, в Пафосе иль в Панорме…
(Сапфо. фр. 35 Lobel-Page)
Говорится тут, естественно, об Афродите: именно ее родиной считался Кипр
[136]. Наряду с этим островом и находившимся на нем же городом Пафосом упомянут, однако, и некий Панорм. Городов с таким названием (обозначавшим в переводе «всем подходящая гавань») в античном греческом мире, и особенно в регионах, где эллины основывали свои колонии, было немало. Но самый крупный и известный из этих Панормов находился именно на Сицилии.
Мы полагаем, о Палермо слышали все? Это ныне самый крупный сицилийский город и, так сказать, «столица мафии». Но ведь современный Палермо — это и есть античный Панорм. Название в общем-то изменилось отнюдь не до неузнаваемости; гораздо труднее, скажем, опознать в нынешнем Стамбуле былой Кон
стантино
поль.
Впрочем, нельзя испытывать уверенность в том, что здесь у Сапфо упомянут именно сицилийский Панорм. Да даже если и он — никаких новых данных к биографии нашей героини это не дает. Размышляя о том, почему уроженка Лесбоса вдруг оказалась так далеко от дома, резоннее будет привлечь те данные, которые нам известны (и излагались выше) об истории ее острова на рубеже VII–VI веков до н. э.
Около 610 года до н. э. свергли тирана Меланхра. В 590 году до н. э. пришел к власти эсимнет Питтак. А находящееся в промежутке между этими датами двадцатилетие (именно оно нам и интересно теперь, именно тогда покинула родину Сапфо!) — время какой-то полной неясности с точки зрения хронологии. Смуты; война Митилены с Афинами за Сигей, в которой отличился Питтак; опять смуты; установление тирании Мирсилом; после смерти последнего — опять смуты; возрастание влияния Питтака…
Крайне малоинтересная картинка. Но, во всяком случае, позволяющая заключить: по всей вероятности, именно в связи с этой смутой, стасисом, семья Сапфо и отбыла временно на Сицилию. Но, видимо, ненадолго. К тому времени, когда Скамандроним и Клеида-старшая выдавали свою пятнадцатилетнюю (или около того) дочь замуж, семья уже опять жила на Лесбосе.
Впрочем, новый этап жизни Сапфо протекал уже в Митилене. И это, полагаем, было даже к лучшему для нее. Что ждало бы ее, останься она в своем маленьком Эресе? Суждена ли была ей такая же слава? Сильно сомневаемся. Опыт самых разных эпох, обществ, цивилизаций показывает: в столице и посредственность может прославиться, а в провинции и таланту нетрудно заглохнуть.
Как Сапфо стала митиленянкой? Напрашивающийся ответ: в связи с замужеством. В цитировавшейся выше статье из словаря «Суда», напомним, сказано: «Замуж же она вышла за Керкила, богатейшего человека, переселившегося с Андроса».
Кто такой был этот Керкил? Очень хотелось бы знать, но, увы, вновь приходится только высказывать догадки, ибо о нем практически ничего не известно. Мы видим, что он был уроженцем не Лесбоса, а другого эгейского острова — Андроса, однако с какого-то момента поселился в Митилене. Можно предположить, что он за какие-то заслуги был принят в число граждан митиленского полиса. За какие же? Намек, полагаем, содержится в только что приведенном свидетельстве: Керкил был очень богат. Вероятно, в какой-то момент он оказал митиленянам существенное финансовое вспомоществование, за что они его и отблагодарили гражданскими правами.
Такого рода ситуации, вообще говоря, достаточно характерны для Древней Греции. Например, в Афинах в начале IV века до н. э. жил некто по имени Пасион. По происхождению он вообще был рабом, в этническом плане — не греком, а, видимо, финикийцем
[137], трудился в одном из банков (да, у античных эллинов были уже банковские конторы — назывались они
трапезами, — равно как были таковые даже и еще раньше, в древнем Вавилоне).
Коммерческий талант Пасиона был несомненен; «эффективный менеджер» вскоре был замечен, его начали «продвигать», и он достиг положения фактического управляющего банком. Кончилось тем, что хозяин дал ему свободу, и тот, превратившись из раба в вольноотпущенника, по нормам афинского права вошел в сословие метэков. Пасион быстро стал владельцем собственного крупного дела, тем более что прежний его господин сделал его своим наследником.
Подвизаясь на ниве подобной деятельности, трапезит-метэк
[138] сколотил состояние, оценивавшееся цифрой — для того времени почти немыслимой — в 60 талантов (1 талант — 26 килограммов серебра), достигнув положения едва ли не первого богача в Афинах (во всяком случае, однозначно входившего в первую тройку)
[139]. А самое главное — уже под старость он с потомством получил-таки права афинского гражданства за неоднократные «благодеяния», то есть за финансовую помощь оскудевшей в IV веке до н. э. государственной казне.
Теперь Пасион имел полную возможность участвовать в общественной жизни полиса, выступать в народном собрании и т. п. Впрочем, сам он этой возможностью так в полной мере и не воспользовался до конца жизни: видимо, сфера бизнеса продолжала интересовать его куда больше. А вот его сын Аполлодор (он, будучи уже взрослым, стал вместе с Пасионом из метэка гражданином) не пошел по отцовским стопам. Он видел в себе не делового человека, а политика и оратора, в результате устремился именно на это поприще. Впрочем, подвизался на ней не слишком удачно: и в числе наиболее крупных государственных деятелей не попал, играя сугубо второстепенную роль, и деньги, что оставил ему родитель, растратил.
Вернемся к Керкилу. Очень характерно, что он опять же ни разу не упоминается в своем творчестве самой поэтессой. В ее стихах нет даже и намека на какие-либо чувства, испытываемые к мужу. Вряд ли отношения между этим мало чем примечательным греком и его выдающейся супругой были какими-то особенно близкими и теплыми.
Тут следует припомнить то, что говорилось в предшествующих главах об отношениях мужчин и женщин в Элладе и, в частности, о брачных практиках. Браки практически всегда заключались по расчету. Жених, которому было лет тридцать или около того, вел все переговоры с родителями невесты, которая в норме была намного его моложе, принадлежала фактически к другому поколению. Ясно, что ни для какой романтики в подобных ситуациях просто не могло быть места. Главной целью женитьбы считалось продолжение рода. Иными словами, муж ждал от жены прежде всего рождения детей. Причем мальчиков, поскольку девочка полноценной продолжательницей рода выступить не могла.
И вот в этом-то отношении, похоже, Керкила ждало разочарование. У него и Сапфо родилась дочь Клеида — об этом мы уже знаем. А о каких-либо их сыновьях нигде и никем не упоминается. Похоже, что их и не было вообще. Вряд ли супруг поэтессы был этим доволен. Весьма возможно, в семействе со временем сгустилась атмосфера постоянной напряженности, которая должна была усугубляться еще и тем, что Керкил прекрасно понимал: отнюдь не он занимает в душе Сапфо главное место, ей гораздо милее общение с подругами и ученицами, да еще с растущей дочерью…
Но мы опять слишком уж далеко углубляемся в сферу догадок. Строго говоря, нет ясности даже и в вопросе о том, долго ли продлился брак Сапфо с Керкилом. Ниже к этой проблеме еще предстоит вернуться.
Итак, из всего, что было сказано выше, наша героиня предстает, казалось бы, едва ли не мужененавистницей. О матери и дочери она в своих сочинениях говорит (а еще чаще и подробнее — о пресловутых подругах, с которыми далее предстоит познакомиться ближе) — а об отце и муже ни слова, как если бы они ей были совершенно безразличны или даже неприятны. Однако совершенно точно известно, что на свете существовал по крайней мере один мужчина, который был поэтессе небезразличен. Она его, наверное, любила — и, уж во всяком случае, переживала за него. Речь идет о ее брате Хараксе.
Словарь «Суда», как мы видели, упоминает трех братьев Сапфо. Но из них только о Хараксе мы имеем кое-какую информацию. Точнее так: известен один случай из его жизни, и известен он именно потому, что Сапфо о нем писала.
Любой достоверный эпизод, связанный с ее биографией, для нас буквально на вес золота: настолько мало таких эпизодов. И поэтому решительно необходимо рассмотреть, приведя их дословно, все важнейшие свидетельства источников, где излагается эта история с Хараксом и Сапфо.
«Отец истории» Геродот, рассказывая о Египте и, конечно же, не обходя вниманием тамошние пирамиды, вот что говорит об одной из этих прославленных построек (о той, которая известна как пирамида Микерина и является самой маленькой из трех «Великих пирамид» в Гизе — после пирамид Хеопса и Хефрена):
«…Некоторые эллины думают, что это пирамида гетеры Родопис, но это неверно. Они утверждают так, очевидно, не зная, кто такая Родопис. Иначе ведь они не могли бы приписать ей постройку такой пирамиды, для чего, вообще говоря, потребовались бы тысячи и тысячи талантов. Кроме того, Родопис жила во времена царя Амасиса, а не при Микерине, то есть много поколений позднее строителей этих пирамид. Родопис происходила из Фракии и была рабыней одного самосца, Иадмона, сына Гефестополя. Вместе с ней рабом был и баснописец Эзоп… А Родопис прибыла в Египет; ее привез туда самосец Ксанф. Прибыв же туда для занятия своим “ремеслом”, она была выкуплена за большие деньги митиленянином Хараксом, сыном Скамандронима, братом поэтессы Сапфо. Так-то Родопис получила свободу и осталась в Египте. Она была весьма прелестна собой и потому приобрела огромное состояние — для такой, как Родопис, — но далеко не достаточное, чтобы на него построить такую пирамиду. Десятую часть ее добра каждый
желающий может видеть еще и сегодня (поэтому можно думать, что оно было не слишком уж велико). Ведь Родопис пожелала оставить о себе память в Элладе и придумала послать в Дельфы такой посвятительный дар, какого еще никто не придумал посвятить ни в одном храме. На десятую долю своих денег она заказала (насколько хватило этой десятой части) множество железных вертелов, столь больших, чтобы жарить целых быков, и отослала их в Дельфы. Еще и поныне эти вертелы лежат в куче за алтарем, воздвигнутым хиосцами, как раз против храма. Гетеры же в Навкратисе вообще отличались особенной прелестью. Эта, о которой здесь идет речь, так прославилась, что каждый эллин знает имя Родопис. После Родопис была еще некая Архидика, которую также воспевали по всей Элладе, хотя о ней было меньше толков, чем о Родопис. А когда Харакс, выкупив Родопис, возвратился в Митилену, то Сапфо зло осмеяла его в одной своей песне. Впрочем, о Родопис достаточно» (
Геродот. II. 134–135).
Этот рассказ не лишен кое-каких противоречий (к которым мы еще вернемся, когда будем проводить сравнительный анализ свидетельств), но содержит и ценные данные. Кстати, процитированное место — вообще единственное у великого историка, где появляется имя Сапфо. Географ Страбон, в отличие от Геродота, упоминает лесбосскую поэтессу несколько раз, и однажды — именно по поводу случая с Хараксом. Интересно, что речь о нем Страбон заводит ровно по тому же поводу, что и Геродот, а именно при описании пирамиды Микерина:
«…Далее, на большей высоте горного плато стоит третья пирамида, гораздо меньше первых двух, хотя для ее сооружения потребовалось гораздо больше средств, ибо от самого основания и почти до середины она построена из черного камня, из которого делают ступки, причем камень доставляют издалека — с гор Эфиопии; вследствие своей твердости и трудности обработки этот материал сильно удорожает строительство. Пирамида эта называется “Гробницей гетеры”; она построена любовниками гетеры, которую Сапфо, мелическая поэтесса, называет Дорихой, возлюбленной ее брата Харакса, привозившего в Навкратис на продажу лесбосское вино; другие же называют ее Родопис. Они рассказывают мифическую историю о том, что во время купания орел похитил одну из сандалий Родопис у служанки и принес в Мемфис; в то время когда царь производил там суд на открытом воздухе, орел, паря над его головой, бросил сандалию ему на колени. Царь же, изумленный как прекрасной формой сандалии, так и странным происшествием, послал людей во все стороны на поиски женщины, которая носила эту сандалию. Когда ее нашли в городе Навкратисе и привезли в Мемфис, она стала женой царя; после кончины царица была удостоена погребения в вышеупомянутой гробнице» (
Страбон. География. XVII. 808).
У Страбона, как видим, фантазий намного побольше, чем у Геродота. Он, в частности, принадлежит к числу именно тех легковерных, которые принимали смехотворную байку о связи египетской пирамиды с греческой гетерой. Далее, в связи с последней географ передает историю о женитьбе на ней фараона, а это — сюжет чисто фольклорного характера (впоследствии, кстати говоря, использованный — с некоторыми вариациями — Шарлем Перро в «Золушке»).
Приведем, наконец, отрывок из Афинея — древнегреческого автора, жившего еще позже, чем Страбон. Текст в нескольких местах испорчен; там, где пропущены слова, приходится ставить многоточия.
«А знаменитых и выдающихся красотой гетер породил и Навкратис: в их числе — и Дориху, которую прекрасная Сапфо из-за того, что ее брат Харакс, плававший в Навкратис по торговым делам, влюбился в эту Дориху, порицает в своей поэзии как сильно обобравшую Харакса. Геродот же называет ее Родопис, не зная, что это — не та же самая женщина, что и Дориха, а та, которая посвятила в Дельфах знаменитые вертела, о которых упоминает Кратин
[140] в следующих словах… А о Дорихе вот какую эпиграмму написал Посидипп, часто вспоминавший о ней и в Эфиопии. Вот эта эпиграмма (далее следует текст эпиграммы Посидиппа, которая нами уже цитировалась в самом начале книги и поэтому здесь повторена не будет. —
И. С.). И Архедика была из Навкратиса, и она — прекрасная гетера. Ибо Навкратис как-то любит, как говорит Геродот, иметь прелестных гетер. И из Эреса гетеры… Сапфо, влюбившаяся в прекрасного Фаона, была знаменита, как говорит Нимфид в “Перипле Азии”» (
Афиней. Пир мудрецов. XIII. 69–70).
Если не считать упоминания Фаона (о котором будет сказано ниже), здесь мы, кажется, не встречаем какой-то принципиально новой информации по сравнению с тем, что было написано Геродотом и Страбоном. Афиней в чем-то ближе к версии первого, в чем-то — к версии второго… Одним словом, пришло уже время сопоставлять свидетельства и пытаться извлечь из них всю достоверную информацию, а недостоверную — отбросить.
* * *
Итак, прежде всего не приходится сомневаться в том, что Харакс, брат Сапфо, бывал в Египте. Равно как и в том, что бывал он там по торговым делам: возил в эту страну вино с родного Лесбоса. Следует думать, что его товар пользовался там спросом. Долина Нила — регион не самый благоприятный для виноградарства; там всегда гораздо лучше росли зерновые культуры. Поэтому у египтян основным алкогольным напитком являлось пиво, а вино было в диковинку. Может быть, местным жителям оно не очень-то и нравилось ввиду непривычности (хотя, напомним, лесбосское вино славилось своим качеством и считалось одним из лучших в Греции). Но, во всяком случае, Харакс должен был иметь благодарных покупателей в лице поселившихся в Египте греков, которые наверняка скучали без одного из основных элементов привычного для них образа жизни.
А греков в нильской дельте жило немало. В то время, о котором идет речь, в Египте правила XXVI, или Саисская, династия (называющаяся так потому, что при ней столицей страны был город Саис — как раз в дельте, — а уже не более южный Мемфис, вопреки ошибочному указанию Страбона). Принадлежавшие к этой династии фараоны отличались своим, так сказать, грекофильством. Они поддерживали взаимовыгодные отношения с полисами Эллады, и большое количество выходцев из этих городов подвизалось отныне в их владениях
[141]. Одни прибывали как воины-наемники, другие — как торговцы, подобно Хараксу…
Еще в VII веке до н. э. основатель XXVI династии Псамметих I разрешил греческим купцам основать на одной из проток дельты свою факторию Навкратис. Это поселение быстро разрослось, превратилось в богатый, процветающий город
[142]. Ведь только в нем позволено было проживать эллинам, а в остальном Египет оставался страной закрытой, отнюдь не выказывавшей гостеприимства по отношению к пришлецам. «Первоначально Навкратис был единственным торговым портом для чужеземцев в Египте; другого не было. Если корабль заходил в какое-нибудь другое устье Нила, то нужно было принести клятву, что это случилось неумышленно. А после этого корабль должен был плыть назад…»
(Геродот. История. II. 179).
Не случайно Навкратис уже довольно часто упоминался в тех свидетельствах источников, которые цитировались в связи с Хараксом. Это был своеобразный «кусочек Греции» на египетской земле, и брат Сапфо, прибывая с Лесбоса с вином, должен был чувствовать себя там как дома, в родной среде. Особенно учитывая то, что Митилена входила в число метрополий Навкратиса, то есть городов, которые его основывали.
Нормальная греческая колония, как правило, имела одну метрополию (в буквальном переводе с древнегреческого — «мать-город», а колония, таким образом, воспринималась как «дочернее» поселение). Но Навкратис как раз назвать нормальной колонией нельзя; он был купеческой базой, и вполне закономерно, что создавали его эллинские торговцы из разных городов. Каких именно? Эту информацию опять же дает нам Геродот. Когда он сам приехал в Египет, то, естественно, в первую очередь побывал именно в Навкратисе и осмотрел тамошние достопримечательности, в том числе святилища богов. И вот что написал по этому поводу:
«Самое большое, знаменитое и наиболее часто посещаемое из этих святилищ называется Эллений. Его основали сообща следующие города: из ионийских — Хиос, Теос, Фокея и Клазомены; из дорийских — Родос, Книд, Галикарнас и Фаселида; из эолийских — одна Митилена. Эти-то города сообща владеют святилищем, они же назначают начальников для надзора за торговлей в порту. Прочие города, которые посещают святилище, там только гости. Город Эгина воздвиг особое святилище Зевса, самосцы — Геры, а милетяне — Аполлона»
(Геродот. История. II. 178).
Почему Эгина, Самос и Милет решили как бы обособиться и построить отдельные храмы, вместо того чтобы участвовать в сооружении общего — Элления (от слова «эллины», то есть «греки»), — вопрос, не имеющий однозначного ответа. Возможно, эти три особенно значительных торговых центра не хотели, так сказать, смешиваться с общей массой. Впрочем, для нас это непринципиально. Главное — в том, что перечисленные Геродотом 12 городов и были метрополиями Навкратиса. Как видим, среди них — и Митилена.
Харакс так и странствовал между Лесбосом и Навкратисом и наверняка не бедствовал: морская торговля в античном мире
[143] была делом чрезвычайно прибыльным. А Навкратис являлся одним из главных ее средоточий в Средиземноморье, и, как в любом крупном портовом городе, там, конечно же, кишела публика самого разного сорта: отнюдь не только купцы, но и всяческие люди, приехавшие в поисках удачи, в стремлении разбогатеть… Были среди них, само собой, и проститутки
[144].
Именно тут, в Навкратисе, брат Сапфо и влюбился в рабыню-гетеру, писаную красавицу. Как ее на самом деле звали — Родопис или Дориха? Как мы видели, у цитировавшихся выше авторов нет на этот счет единого мнения: Геродот именует ее Родопис, Афиней — Дорихой, при этом подчеркивая, что Родопис и Дориху не следует смешивать друг с другом. А Страбон, напротив, считает, похоже, что Дориха и Родопис — одно и то же лицо. Возможно, что именно он-то и стоит всего ближе к истине.
Мы бы предположили, пожалуй, следующее: от рождения девушка носила имя Дориха, но оно казалось не слишком благозвучным, и когда она занялась ремеслом гетеры, то подобрала себе (или ее хозяева подобрали ей) красивый «профессиональный псевдоним» — Родопис, что переводится примерно как «Розоликая». Известно, что во все времена «жрицы любви» очень часто представляются клиентам не своими собственными именами.
А гетеры, подчеркнем, являлись не какими-то там низкопробными проститутками. Среди женщин легкого поведения они составляли в полном смысле слова элиту: имели дело исключительно с богатыми людьми, брали за свои услуги крупные суммы и, как результат, сами тоже рано или поздно оказывались весьма состоятельными. Та же Дориха-Родопис хотя никакую пирамиду, конечно, и не строила, но, во всяком случае, имела достаточно средств, чтобы послать, как упоминалось, в Дельфийский храм очень впечатляющее, оставшееся в памяти потомков приношение.
Вот под очарование этой-то дамы и попал Харакс. Он, видимо, был всецело ею покорен и тратил на ее содержание много денег. Один из трех вышецитированных источников — Геродот — упоминает даже, якобы лесбосец выкупил свою возлюбленную из рабства. Но в истинности этой информации позволительно усомниться. Страбон и Афиней ни о чем подобном не говорят. Да и факты, приводимые самим «отцом истории» в этом месте, вступают, повторим, в определенное противоречие между собой.
А именно: уж если бы Харакс выкупил Родопис (а можно представить, сколько ему пришлось бы заплатить за это, — полагаем, целое состояние!), то он, естественно, выкупил бы ее «для собственного пользования», а не для того, чтобы сделать ее «общим достоянием». И в таком случае он, возвращаясь из Египта на родину, взял бы ее с собой. Но этого не произошло: у самого же Геродота сказано, что гетера осталась в Египте.
Возможно, он что-то недопонял в истории, сообщенной ему его египетскими информаторами. Скорее всего, дело обстояло так: Харакс не что чтобы выкупил Родопис из рабства в прямом смысле слова, а, если так можно выразиться, приложил руку (в числе других мужчин) к обретению ею свободы. То есть: собирая щедрые «гонорары» со своих поклонников (среди которых был и Харакс), популярная гетера в конце концов накопила сумму, которой хватило для выкупного платежа.
Собственно, у античных авторов весь эпизод с Дорихой-Родопис и Хараксом фигурирует в первую очередь потому (и даже, видимо,
только потому), что он оказался отражен в поэзии Сапфо. Поэтесса проявила выраженно негативное отношение к увлечению брата. И опять же ясно почему: этот «роман», не приходится сомневаться, сильно разорял человека, который был для Сапфо отнюдь не чужим, и мог довести его до нищеты.
У Геродота есть достаточно точное указание на время, когда жила Родопис: при царе Амасисе. Фараон Амасис (Яхмос II) — один из представителей Саисской династии — правил Египтом в 570–526 годах до н. э. Это, правда, довольно широкие хронологические рамки — несколько десятилетий. Но не без оснований можно предположить, что описанные выше события имели место не во второй, а в первой половине царствования Амасиса, ближе к его началу. И вот почему.
Напомним: Сапфо, согласно выкладкам, которые были сделаны ранее, родилась около 610 года до н. э. Если отношения между Хараксом и Родопис завязались в 560-х годах до н. э., поэтесса была в тот момент зрелой матерью семейства, в возрасте за сорок, не одобрявшей чрезмерно легкомысленного поведения брата, которое, в ее понимании, должно было бросать тень и на всю родню. Ситуация, выглядящая вполне естественно.
А легко ли допустить, что Харакс увлекся гетерой, скажем, в 540-х годах до н. э.? А Сапфо — шестидесятилетняя старушка (да, этот возраст для женщин в античности, безусловно, считался уже старческим, даже глубоко старческим) — вдруг начала порицать его в энергичных, эмоциональных стихах? Да нужно учитывать еще и то, сколько лет должно было быть самому Хараксу. Примерно столько же. Ну, допустим, даже лет на десять поменьше (если он был младшим братом поэтессы и между ними была большая возрастная разница, — хотя, строго говоря, это ровно ни из чего не следует и в нашем распоряжении нет абсолютно никаких данных на сей счет). Всё равно от человека, перевалившего уже за полувековой рубеж и имеющего соответствующий жизненный опыт, трудно ожидать такого порыва юношеской страсти, который заставил бы его спустить на «жрицу любви» чуть ли не все накопленные деньги.
Тем более что Харакс был торговцем, а этот род занятий располагает скорее к прагматичности и бережливости, нежели к мотовству. Во всяком случае, в зрелом возрасте. Остается одно: считать, что при встрече с Родопис он находился еще в поре своей молодости, когда страсть может и возобладать над разумом.
Итак, постулируем, как наиболее вероятную версию, что Харакс встретился с прекрасной Родопис в 560-х годах до н. э. и, стало быть, в Египет купцом плавал тогда же (хотя, конечно, плавать туда он вполне мог также и до того, и после того). Кстати, всё, что было только что сказано, похоже, должно поставить «жирный крест» на упоминавшейся несколько ранее версии о рождении Сапфо якобы не позднее 630 года до н. э. Ибо в таком случае она уже в начале правления египетского фараона Амасиса была бы шестидесятилетней старухой, а стало быть, вступают в силу все контраргументы, приведенные выше.
Да, и надо же, наконец, процитировать сами стихи Сапфо о Хараксе и соблазнившей его гетере, — точнее, то очень немногое, что от них сохранилось. Саму гетеру, кстати, поэтесса называет только Дорихой, никогда — Родопис (скорее всего, из презрения к ней).
…Горькой для нее ты явись, Киприда,
Пусть не смеет хвастаться нам Дориха,
Что опять любовь у нее, как прежде,
С другом желанным.
(Сапфо. фр. 15 Lobel-Page)
Киприда — всем известный эпитет богини любви Афродиты, с которой, как понятно, преимущественно были связаны гетеры, воспринимая ее как свою покровительницу. Сапфо, таким образом, просит богиню, чтобы та отказала в своем покровительстве ненавистной ей любовнице брата.
Возможно, о Дорихе же идет речь и вот в этих, можно сказать, проклинающих строках:
Ты умрешь и в земле
Будешь лежать;
Воспоминания
Не оставишь в веках,
Как и в любви;
Роз пиерийских ты
Не знавала душой;
Будешь в местах
Темных Аидовых
Неизвестной блуждать
Между теней,
Смутно трепещущих.
(Сапфо. фр. 55 Lobel-Page)
Но тут перед нами — ирония истории: имя Дорихи, воспоминание о ней как раз осталось в веках, но осталось-то именно благодаря тому, что о ней упомянула сама Сапфо! Как и заметил, совершенно справедливо, поэт Посидипп, эпиграмма которого приводилась во введении. Поэтесса, конечно, желала своей врагине всяческого зла и уж точно не стремилась обессмертить ее — а вот обессмертила же. Таковы парадоксы литературного творчества.
Иногда считается, что та же Дориха имеется в виду и в следующем отрывке:
И какая тебя
Так увлекла
В сполу одетая
Деревенщина?
…Не умеет она
Платья обвить
Около щиколки.
(Сапфо. фр. 57 Lobel-Page)
Но это крайне маловероятно. Тут описывается какая-то женщина, по всей видимости, уродливо одетая (хотя что представляет собой упомянутая во фрагменте «спола» — затрудняются сказать даже специалисты) и, во всяком случае, с грубыми, «деревенскими» манерами. О Дорихе-Родопис такого явно нельзя было сказать: гетеры, главной целью которых было завлекать мужчин, и одевались изящно, и поведение их было соответствующим. Так что это сочинение нельзя считать обращенным к Хараксу.
Как бы то ни было, отношения между сестрой и братом в конце концов нормализовались. Ярким свидетельством тому служит одно из лучших стихотворений Сапфо, которое, судя по всему, сохранилось полностью или почти полностью:
Ты, Киприда! Вы, нереиды-девы!
Братний парус правьте к отчизне милой!
И путям пловца и желаньям тайным
Дайте свершенье!
Если прежде в чем прегрешил — забвенье
Той вине! Друзьям — утешенье встречи!
Недругам — печаль! Ах, коль и врагов бы
Вовсе не стало!
Пусть мой брат сестре не откажет в чести,
Что воздать ей должен. В былом — былое!
Не довольно ль сердце мое крушилось
Братней обидой?
В дни, когда его уязвляли толки,
На пирах градских ядовитый ропот:
Чуть умолкнет молвь — разгоралось с новым
Рвеньем злоречье.
Мне внемли богиня: утешь страдальца!
Странника домой приведи! На злое
Темный кинь покров! Угаси, что тлеет!
Ты нам ограда!
(Сапфо. фр. 5 Lobel-Page)
Итак, поэтесса молит о благополучном возвращении Харакса на родину. Обратим, кстати, внимание на то, кого она об этом молит. Появление в ее обращении нереид, морских богинь, вполне понятно, а вот при чем тут Афродита (Киприда)? Сам этот эпитет произошел, естественно, от того, что, согласно мифам, Афродита родилась из морской пены у берегов Кипра и именно там впервые ступила на землю. Кипр поэтому считался священным островом Афродиты. И вполне понятно, что, например, современник Сапфо — афинский поэт Солон, — находясь на Кипре и мечтая о возвращении на родину, апеллирует к этой богине:
Мне же пора! Жду — придет от фиалковенчанной Киприды
Быстрый корабль, чтоб я мог с острова славного плыть.
За основанье же
[145] пусть благодарность и добрую славу
Даст мне богиня и даст здравым вернуться домой.
(Солон. фр. 19 West)
Но Сапфо-то ждала своего брата не с Кипра, а из Египта. Разве что он на обратном пути завернул на «остров Афродиты» и пробыл там какое-то время? Такого варианта, конечно, нельзя исключать. Но скорее наша героиня обращается к Киприде все-таки по иной причине: потому что считает ее, так сказать, своей личной покровительницей, находящейся с ней в особых отношениях. В начале этой главы отмечалось, что в одном из стихотворений она изображает себя беседующей с Афродитой.
А процитированное чуть выше стихотворение проникнуто духом примирения. О былых обидах, конечно, упоминается, но выражаются готовность и желание забыть, простить их. Видимо, Харакс нашел в себе силы порвать компрометирующие связи с Дорихой.
Прежде чем завершить тему о брате поэтессы, нам хотелось бы кратко задержаться на еще одном небольшом вопросе — дабы не осталось вопросов и недоразумений у тех, кто особенно внимательно читал книгу и заметил, что Геродот называет Харакса митиленянином. Это кажется противоречащим тому, что было сказано выше о месте рождения Сапфо.
Напомним, мы с доверием отнеслись к свидетельству словаря «Суда» о том, что ее родиной был городок Эрес. Соответственно, возникла необходимость объяснить, как поэтесса оказалась в Митилене. Мы предположили, что это произошло в результате ее замужества. А если верить Геродоту, получается, что Харакс являлся митиленским гражданином. Значит, в этом полисе он и родился. Но тогда то же самое придется сказать и о Сапфо. Ведь не могли же брат и сестра от рождения иметь разное гражданство! Это последнее наследовалось от родителей.
Вопрос действительно сложный, и при том недостатке позитивных данных, который имеет место, любой ответ будет только гадательным. Перед нами широкое поле для гипотез и допущений. В конце концов, вполне возможна банальная ошибка историка. Геродот, естественно, не занимался специально биографией Сапфо и не изучал материалы, связанные с ее родственниками, но в любом случае он знал, что поэтесса жила в Митилене. Отсюда он мог сделать ложный вывод: коль скоро она там жила, то, значит, там она и родилась. А стало быть, там же родился и ее брат.
Если же Геродот не ошибся, то есть и иные варианты. Например: Харакс родился в Эресе, как и Сапфо, но со временем перебрался в Митилену и сумел получить там права гражданства. Он, как купец, плававший в Египет, должен был быть в этом заинтересован: Митилена имела в Навкратисе свое, так сказать, «представительство», а захолустный Эрес — нет.
Как гражданин одного полиса мог стать гражданином другого? Выше об этом уже говорилось: посредством «благодеяний», то есть элементарного финансового спонсорства казне государства, в которое он хотел перебраться. Харакс был явно человеком небедным, и если он захотел бы войти в число митиленских граждан, он добился бы своего. Тем более что, как опять же отмечалось ранее в этой книге, между полисами Лесбоса существовали более тесные связи, чем те, которые наблюдались по большей части в античном эллинском мире.
* * *
«О жизни Сапфо известно мало, о ее смерти — ничего», — совершенно справедливо отмечается в одном из важнейших современных словарей, посвященных античности
[146]. Даже и пытаться невозможно определить с какой-либо степенью точности время ее кончины. Можно сказать только одно: когда в Египте правил фараон Амасис (а он пришел к власти, как мы знаем, в 570 году до н. э.), поэтесса была еще жива. Это с неизбежностью следует из того разбора эпизода с Хараксом и гетерой, который был сделан чуть выше.
Из некоторых стихотворений самой Сапфо, может быть, следует, что она дожила до старости. Особенно характерен тот фрагмент, который сейчас будет приведен. Он, к сожалению, довольно плохо сохранился, и в цитируемом русском переводе в результате будет немало многоточий, обозначающих места, которые невозможно восстановить:
Всю кожу мою сетью морщин старость уже изрыла,
И стали белы пряди мои, прежде чернее смоли.
…слабы, колени гнутся.
И силы не те, чтобы, как встарь, ланью по лугу мчаться.
…что я могу поделать?
Никто из людей век не стареть, вечно цвести не в силах.
Давно, говорят, пыл повелел розоворукой Эос
В дорогу пойти к краю земли вслед за Тифоном смертным.
…им овладела старость.
…милой предстать супруге.
…видно, навек исчезло.
…если бы даровал он!
А я красоте всею душой предана, и со мною,
Покуда люблю, солнечный свет, радостный, неразлучен.
(Сапфо. фр. 58 Lobel-Page)
Очень типичный мотив — «стара телом, но молода душой». И, как водится, в связи с этим — аллюзия на миф об Эос и Тифоне (Титоне). Богиня зари, согласно этому мифу, полюбила человека. Титон жил в Трое, был братом ее царя Приама. Но Эос перенесла его в Эфиопию. Она упросила Зевса дать Титону бессмертие, но забыла вымолить ему заодно и вечную юность. Сама Эос оставалась такой же молодой, а ее возлюбленный со временем превратился в дряхлого, немощного старца.
Итак, Сапфо сетует на то, что она, постарев, стала уродливой. Впрочем, какой-то особенной красотой она, как отмечалось уже в самом начале книги, и раньше не отличалась. Характерно в этом смысле такое, например, ее суждение:
Кто прекрасен — одно лишь нам радует зрение,
Кто ж хорош — сам собой и прекрасным покажется.
(Сапфо. фр. 50 Lobel-Page)
Здесь противопоставляются друг другу внешняя красота и внутренняя (то есть в конечном счете богатство духовного мира). Последняя, убеждена поэтесса, влияет на общее восприятие человека другими, и тут она, бесспорно, права.
В другом месте Сапфо сетует:
…Те, кому я
Отдаю так много, всего мне больше
Мук причиняют.
(Сапфо. фр. 32 Lobel-Page)
Это, безусловно, намек на неразделенные чувства. Красавицы, как известно, с подобной проблемой просто не сталкиваются. Сапфо остается надеяться на посмертную славу — коль скоро при жизни не хватило внимания.
И не забудут об нас, говорю я, и в будущем.
(Сапфо. фр. 147 Lobel-Page)
Несомненно, не забыли. Кстати, что значит «дожила до старости» применительно к женщине тех времен, о которых мы пишем? Поэтессе могло быть 50 лет или даже меньше, когда она написала процитированные выше строки о седине и морщинах. Представления о том, когда у представительниц слабого пола наступает преклонный возраст, вообще говоря, резко изменились относительно недавно. Еще в русской классической литературе XIX века вполне можно встретить выражения в духе «вошла старушка лет сорока»…
Или вот, допустим, такой пример. Что ныне понимают под «дамой бальзаковского возраста»? Разъяснять, думается, не нужно. Имеют в виду женщину, находящуюся на переходе от зрелого возраста к пожилому. А между тем само это выражение появилось тогда, когда вышел в свет роман О. де Бальзака, называвшийся «Тридцатилетняя женщина». Тридцать лет — вот он, бальзаковский возраст (!!!). Ныне об этом почти никто даже не догадывается. По нашим-то временам в 30 лет, как говорится, жизнь только начинается…
Пережила ли Сапфо своего мужа Керкила? Опять же — никаких точных данных в нашем распоряжении нет, и приходится прибегать к гипотезам. Полагаем, что все-таки пережила, да и в целом брак их был не слишком долгим — либо из-за ранней смерти супруга, либо, не исключено, из-за развода.
Почему мы так полагаем? В стихах Сапфо, как упоминалось, есть сведения только о горячо любимой дочери Клеиде, но не о каких-либо других ее детях. Сильно подозреваем, что больше никаких детей в семье Керкила и нашей героини так и не было. С другой стороны, любой античный грек, вступая в брак, мечтал прежде всего о рождении сыновей (или хотя бы сына). Ведь только потомки мужского пола могли выступать в роли законных наследников, продолжателей рода; девочки, девушки, женщины таких прав не имели. В пятую седмицу жизни (от двадцати восьми до тридцати пяти лет), как пишет афинянин Солон (это его стихотворение целиком уже цитировалось выше —
Солон. фр. 27 West), —
…самое время мужчине помыслить о браке
И сыновей пожелать, чтобы продолжился род.
Почему же у Керкила и Сапфо так и не родился сын-наследник? Как всегда, вопрос допускает разные варианты ответа. Например: а) Керкил вскоре после рождения дочери умер; б) он развелся с женой; в) Сапфо после первых родов стала бесплодной. Невозможно спорить, бывает и такое; но в подобном случае Керкил тоже вполне мог развестись с женой — именно по той причине, что она оказалась неспособна родить ему сына.
У Сапфо есть фрагмент, который, возможно, намекает на отношения с каким-то другим мужчиной — отношения серьезные, но так ничем и не закончившиеся:
Ты мне друг. Но жену
В дом свой введи
Более юную.
Я ведь старше тебя.
Кров твой делить
Я не решусь с тобой.
(Сапфо. фр. 121 Lobel-Page)
Впрочем, стоит ли принимать данные строки, так сказать, за чистую монету? Это весьма сомнительно. Всегда следует памятовать о том, что так называемый лирический герой того или иного поэта (или, соответственно, лирическая героиня поэтессы) не тождествен автору. Известная в истории русского Серебряного века Зинаида Гиппиус практически все свои стихи писала (в отличие, скажем, от Ахматовой или Цветаевой) от имени мужчины. Таково уж было ее обыкновение. Вот буквально первое попавшееся автору на глаза четырехстишие, когда им был открыт томик сочинений Гиппиус:
Великие мне были искушенья.
Я головы пред ними не склонил.
Но есть соблазн… соблазн уединенья…
Его доныне я не победил
[147].
Так что же, следует на основании этих строк делать вывод, что Гиппиус являлась мужчиной? Странно и даже поразительно, но звучали в отечественном литературоведении и подобного рода нотки: дескать, поэтесса была «андрогином», чуть ли не гермафродитом, имела гомосексуальный опыт и т. п.
[148]А всё это — от того же неразличения автора и героя.
Почти любой фрагмент почти любого архаического греческого поэта — это несколько строк, вырванных из контекста. Можно ли на основании этих нескольких строк — в тех случаях, когда они неясны, — делать ответственные выводы? Не думаем. Мало ли от чьего лица может здесь говорить Сапфо… Она ведь писала и свадебные песни (эпиталамии) для своих младших подруг, посещавших ее «клуб»-фиас, и гимны божествам, и сценки из мифов. Да в чьи угодно уста она могла вложить строки о «старой жене».
Говоря о позднем периоде жизни нашей героини, волей-неволей (именно что скорее «неволей») приходится остановиться на теме «Сапфо и Фаон». И вот мы вновь у знаменитой Левкадской скалы. Слушаем рассказ Страбона, который по ходу своего грандиозного труда в какой-то момент доходит и до Левкады:
«На острове находится святилище Аполлона и то место — “Прыжок”, — которое, согласно поверью, подавляет любовные вожделения.
Где Сапфо впервые — сказанье гласит —
(по словам Менандра),
С неистовой страстью Фаона ловя
Надменного, ринулась с белой скалы,
Тебя призывая в молитвах своих —
Владыка и царь.
Итак, хотя, по словам Менандра, Сапфо первой прыгнула со скалы, но писатели, более его сведущие в древности, утверждают, что первым был Кефал…» (
Страбон. География. X. 452).
Упомянутый здесь Кефал — фигура чисто мифологическая, связываемая с созвучно называвшимся островом Кефалленией (неподалеку от Левкады). Напротив того, Менандр, которого здесь цитирует Страбон, — лицо вполне историческое. Это крупный афинский поэт-драматург, автор комедий, живший в конце IV века до н. э.
Следует ли доверять комедиографу, когда он приводит такую, казалось бы, интереснейшую деталь о последнем событии в жизни Сапфо? Она, дескать, уже в немолодом возрасте безнадежно и безответно влюбилась в юного красавца Фаона — ее же земляка, жителя Митилены. И, не встречая взаимности, в конце концов бросилась с Левкадской скалы, стремясь то ли покончить с собой, то ли избавиться от своей страсти.
Согласно поверьям, такой прыжок избавлял тех, кто выжил после него, от любовного томления. Получается, поэтесса совершила довольно-таки длительное путешествие, чтобы попасть на Левкаду? Достаточно беглого взгляда на карту Древней Греции и ее окрестностей, чтобы увидеть: ей пришлось бы для этого проделать примерно такой же путь, как Одиссею, возвращающемуся после Троянской войны на родную Итаку: Троя недалека от Лесбоса, а остров Итака принадлежит к тому же архипелагу (Ионические острова), что и остров Левкада. И, далее, стал ли левкадский прыжок для нее смертельным или нет?
Как бы то ни было, в красивую легенду об этом прыжке поверил Овидий. Или сделал вид, что поверил, — с этим великим римским лириком, «певцом любви», как его часто называют благодаря прославившим его «Любовным элегиям», никогда не угадаешь: когда он говорит всерьез, когда нет… Но, во всяком случае, для поэта, сделавшего главной темой своих стихов всемогущую Любовь, сюжет «Сапфо и Фаон» был явно выигрышным. И он написал, в числе других своих многочисленных произведений, послание — как бы от лица Сапфо и как бы адресованное Фаону:
…Вся я горю, как горят поля плодородные летом,
Если безудержный Эвр гонит огонь по хлебам.
Ты поселился, Фаон, в полях под Тифеевой Этной, —
Пламя сильней, чем огонь Этны, сжигает меня.
Песен, которые я с созвучьями струн сочетала,
Мне не создать: ведь для них праздной должна быть душа.
Юные девушки мне из Мефимны и Пирры немилы.
Все мне немилы теперь жены Лесбосской земли.
И Анактория мне, и Кидно — обе постыли,
И на Аттиду глядеть больше не хочется мне;
Все мне постыли, в любви к кому меня упрекали
Ты присвоил один множества женщин удел…
(Овидий. Героиды. XV. 9–20)
Овидий был ученым, эрудированным поэтом; в своем творчестве он всегда старался блеснуть обширностью познаний, и многие из его стихов трудно понимать без некоторого комментирования. Это касается, в частности, имен собственных, которыми, как видно и невооруженным глазом, переполнен процитированный отрывок.
Эвром греки называли восточный или (чаще) юго-восточный ветер. Ему часто придавали эпитет «огненный», и по понятной причине: он нес горячие, сухие массы воздуха из азиатских и египетских пустынь. Далее в стихотворении упомянута Этна — знаменитый вулкан на Сицилии. Почему Этна — «Тифеева»? Согласно мифам, под этой горой навеки упрятано вступившее в борьбу с Зевсом и побежденное им огнедышащее чудовище Тифей (Тифоей, Тифон; не следует путать его имя с похоже звучащим именем возлюбленного богини Эос). Тифей заточен, но жив; потому-то периодически и происходят извержения.
Кстати, из этих строк следует, что Фаон перебрался на жительство в Сицилию. Почему в рассказе вообще появляется этот крупный средиземноморский остров? Не исключаем, что Овидий откуда-то смутно знал о том, что сама Сапфо бывала на Сицилии. Об этом ведь упоминалось, как мы видели, в «Паросской хронике». Выше было выяснено, что будущая поэтесса побывала там еще в детском или подростковом возрасте, причем не по своей воле, а с семьей в качестве временных беженцев. Но Овидий мог таких деталей и не знать, а в результате — подумать, что Сапфо отправилась на Сицилию гораздо позже, по собственной инициативе и именно ради Фаона. Не случайно далее у него она восклицает:
Новой добычей твоей сицилийские женщины стали.
Что мне Лесбос теперь! Быть сицилийкой хочу!
(Овидий. Героиды. XV. 51–52)
Упоминает римский поэт лесбосские города — Мефимну и Пирру (странно, кстати, что не Митилену и Эрес, о которых более чем естественно было бы услышать в подобном контексте), а также подруг-учениц Сапфо, которым она посвящала свои лирические произведения: Анакторию, Аттиду, Кидно… В целом Овидиева Сапфо — женщина, прекрасно осознающая свою литературную славу и не страдающая ложной скромностью. Она гордо говорит о себе:
Мне Пегасиды меж тем диктуют нежные песни,
Всюду по свету звенит славное имя мое.
Даже Алкей, мой собрат по родной земле и по лире,
Так не прославлен, хоть он и величавей поет.
(Овидий. Героиды. XV. 27–30)
Овидий не был бы Овидием, если бы он сказал «словечко в простоте». Упоминая, скажем, муз, он ни за что не назовет их просто музами, а обязательно употребит какой-нибудь эпитет, причем не расхожий, а редкий и тем самым изысканный. Как в этих строках: Пегасиды. Муз значительно чаще называли Пиеридами или Аонидами.
Римский поэт перечисляет устами Сапфо и некоторые факты ее биографии, якобы имевшие место:
Шел мне шестой только год, когда матери кости, до срока
Собраны в пепле костра, выпили слезы мои.
Брат мой растратил добро, опутанный страстью к блуднице;
Что же досталось ему? Только позор и разор.
Стал, обеднев, бороздить он проворными веслами море,
Что промотал без стыда — хочет бесчестно нажить;
Возненавидел меня за мои увещанья, за верность, —
Вот что мне принесла честных речей прямота!
Но, будто мало бед, без конца меня угнетавших,
Дочка прибавила мне новых тревог и забот.
(Овидий. Героиды. XV. 61–70)
Если верить данному свидетельству, то можно сделать по меньшей мере два новых заключения о судьбе нашей героини. Во-первых, она очень рано, еще в детстве потеряла мать; во-вторых, ее собственная дочь Клеида доставила ей какие-то треволнения (но чем именно — не говорится).
Впрочем, можно ли относиться к сказанному здесь с доверием? Не думаем. Во всяком случае, описывая отношения Сапфо с братом, Овидий явно путает. У него получается, что Харакс вначале разорился из-за своей связи с гетерой, а потом уже занялся морской торговлей. В действительности же, как мы видели из куда более достоверных источников, последовательность событий была противоположной.
К тому же Сапфо в конце концов примирилась с Хараксом. Выше цитировалось ее вполне доброжелательное стихотворение, посвященное брату. А кто уж может быть более достоверным свидетелем по подобному вопросу, чем сама поэтесса? Овидий же ошибочно считает, что неприязненные отношения между ними так и сохранились. Будто бы Харакс даже усугублял скорбь Сапфо, когда та поняла, что от Фаона ей не ожидать взаимности.
Брат мой Харакс, несчастьем сестры упиваясь злорадно,
Часто ко мне на глаза стал появляться сейчас,
Чтобы меня устыдить моей печали причиной,
«Что ей рыдать? — он твердит. — Дочь ведь жива у нее!»
(Овидий. Героиды. XV. 117–120)
Принять всерьез всё это невозможно. К тому же Овидий заканчивает свою небольшую поэму откровенно мифологическим мотивом: одна из нимф-наяд является Сапфо и говорит ей:
…«Если жар безжалостный сердце сжигает,
То в Амбракийскую ты землю скорее ступай.
Там во всю ширь с высоты Аполлон моря озирает,
Берег Левкадским зовет или Актийским народ.
Девкалион, когда к Пирре горел любовью, отсюда
Бросился и, невредим, лег на соленую гладь.
Тотчас ответная страсть спокойного сердца коснулась
Пирры, и Девкалион тотчас утишил свой пыл.
Этот закон Левкада хранит; туда отправляйся
Тотчас же и не страшись прыгнуть с вершины скалы».
(Овидий. Героиды. XV. 163–172)
Ох уж опять эта Овидиева демонстративная ученость, порой становящаяся просто невыносимой! Обязательно нужно опять засыпать читателя второстепенными географическими названиями, для чего-то упомянуть о том, что Левкадский берег по-другому называется еще Актийским, пересказать мало кому известный эпизод из мифа о Девкалионе и Пирре — мужчине и женщине, которые, согласно эллинским поверьям, единственные выжили после Всемирного потопа и, сочетавшись браком, дали начало всему последующему человеческому роду…
Одним словом, Овидий подводит нас к тому же прыжку Сапфо. Но сам этот прыжок, равно как и любовь к Фаону — это, конечно же, всего лишь красивая легенда, подобная той, которая сложилась об отношениях поэтессы с Алкеем.
* * *
А может быть, и действительно существовала «другая Сапфо»? Более или менее ясные упоминания об этом встречаются как минимум в трех источниках. Все они цитировались выше, но уже довольно давно и, соответственно, могли подзабыться. Имеет смысл поэтому их напомнить.
«Я слышал, что на Лесбосе существовала другая Сапфо, не поэтесса, а гетера» (
Элиан. Пестрые рассказы. XII. 19).
Это — свидетельство автора рубежа II–III веков н. э. А вот что пишет другой писатель того же времени: «И из Эреса гетеры… Сапфо, влюбившаяся в прекрасного Фаона, была знаменита, как говорит Нимфид в “Перипле Азии”» (
Афиней. Пир мудрецов. XIII. 69–70). Это после того, как Афиней упомянул поэтессу Сапфо в связи с Хараксом, так что ясно, что теперь речь идет об иной женщине:
наша Сапфо отнюдь не являлась гетерой.
Наконец, в византийском словаре «Суда» после короткой статьи о Сапфо, лирической поэтессе родом из Эреса, идет — опять же напоминаем вещи, которые нам уже известны — такая вот, еще более краткая информация: «Сапфо — лесбиянка из Митилены, арфистка. Она из-за любви к митиленянину Фаону бросилась в море с Левкадской скалы. Некоторые же и ей приписали сочинение лирических стихов».
Итак, получается, наша героиня сама по себе, а ее тезка, арфистка и гетера, причем тоже с Лесбоса, — сама по себе… И в Фаона была влюблена именно эта вторая. А почему бы и нет? Если действительно существовала не одна Сапфо, а две, то становится отчасти понятным разнобой относительно имени ее отца: отцов-то, выходит, тоже было два.
С другой стороны, если какие-то проблемы с помощью нашего предположения снимаются, то взамен появляются новые. Например: которая же Сапфо была уроженкой Митилены, а которая появилась на свет в Эресе? В «Суде» однозначно утверждается, что эресянкой являлась поэтесса, а митиленянкой — гетера. А из Афинея следует, похоже, противоположное.
Одним словом, вопрос нельзя считать решенным. Как и в связи с очень многими другими проблемами, которые порождаются скудными биографическими сведениями о Сапфо, в данном случае тоже приходится признаться: ситуация для нас неясна. И вряд ли когда-нибудь станет ясной. Разве что в дальнейшем отыщутся папирусы с новыми, ранее неизвестными стихами нашей героини, проливающие какой-нибудь свет на эти или иные перипетии ее жизненного пути. А этого в принципе исключать нельзя.
Как раз характеристике ее произведений будут преимущественно посвящены следующие главы этой книги. Ту информацию о ее личности, которую мы не смогли почерпнуть из, так сказать, сторонних источников, придется по крупицам добывать из наследия самой поэтессы. Перед тем как начать это делать, необходимо напоследок оговорить еще вот что.
Самым главным для Сапфо — во всяком случае, на протяжении ее взрослой жизни — была не ее семья, не ее полис, а ее фиас, подруги и ученицы. Это явствует буквально из всего. Не случайно в знакомой нам статье из словаря «Суда» они упомянуты в немалом количестве, чуть ли не в большем, чем родственники нашей героини. А в сборнике стихов Сапфо эти близкие ей женщины и девушки занимают воистину наиболее видное место. Итак, что же представлял собой этот сборник?
СБОРНИК СТИХОВ САПФО
«Она написала девять книг лирических стихотворений». Так сказано о Сапфо в словаре «Суда». Что это означает? То, что общий свод произведений нашей героини умещался на девяти папирусных свитках. Выше уже упоминалось, что именно форму таких свитков имели книги у древних греков — как в те времена, когда жила лесбосская поэтесса, так еще и несколько столетий спустя.
В сущности, можно говорить о появившемся в какой-то момент сборнике стихов Сапфо, разделенном на девять частей или глав — так привычнее говорить сейчас, а в античности в аналогичном смысле употребляли как раз термин «книга». Принадлежит ли это разделение (а стало быть, и окончательное формирование сборника) самому автору? В этом позволительно усомниться. Сама Сапфо писала как дышала и, надо полагать, меньше всего думала о том, в какой последовательности будут читать ее стихотворения (тем более что в ее эпоху стихи вообще не читали, а слушали). Скорее всего, в подобный классифицированный вид привели наследие Сапфо великие александрийские филологи, работавшие в эллинистическую эпоху, занимавшиеся исследованием и, так сказать, «упорядочением» всей предшествующей древнегреческой литературы.
Александрия, лежавшая на южном берегу Средиземного моря и получившая название в честь своего основателя, великого Македонянина, с рубежа IV–III веков до н. э. являлась столицей Египта, но по всему своему облику была отнюдь не египетским, восточным, а вполне эллинским городом. Да и правили в ней в то время греки — цари, принадлежавшие к династии Птолемеев. Строго говоря, Птолемеи происходили из Македонии, как и Александр; но ныне уже можно считать безоговорочно доказанным, что обитатели античной Македонии в этническом плане принадлежали к эллинам и не представляли собой какого-то отдельного народа, как нередко считали раньше
[149].
Уже основатель этой династии Птолемей I, в прошлом один из ближайших сподвижников Александра Македонского, затем ставший египетским правителем, основал в начале III века до н. э. в своей столице Александрии Мусей (позднейшее латинизированное написание — Музей), грандиозный центр всех видов культурной деятельности, особенно литературной и научной.
Слово «музей» вошло с тех пор во все основные европейские языки. Но ныне оно обозначает некое хранилище древностей, место, где пылятся на витринах и стендах экспонаты, то пользующиеся, а то и не пользующиеся вниманием посетителей. Совсем иным был александрийский Мусей (в буквальном переводе — «святилище муз», но в данном случае это нужно понимать как некое средоточие наук и искусств).
Он представлял собой комплекс помещений для жизни и работы ученых и писателей, приглашавшихся в Александрию со всех концов греческого мира. Он включал в себя, помимо спален, столовой, садов и галерей для отдыха и прогулок, также «аудитории» для чтения лекций, «лаборатории» для научных занятий, зоосад, ботанический сад, обсерваторию и, конечно же, библиотеку.
Александрийская библиотека — гордость Птолемеев, постоянно пополнявшаяся ими, — была крупнейшим книгохранилищем античного мира, далеко превосходившим все остальные. К концу эпохи эллинизма в ней насчитывалось около 700 тысяч книг (папирусных свитков). Главой библиотеки назначался обычно крупнейший ученый или писатель; например, эту должность в разное время занимали замечательный поэт Каллимах, выдающийся географ Эратосфен и др.
Греческие цари Египта ревностно заботились о том, чтобы по возможности все книжные «новинки» попадали к ним в руки. Был издан указ, согласно которому с кораблей, прибывавших в александрийскую гавань, изымались все имевшиеся там книги для снятия копий. Затем копии возвращались владельцам, а оригиналы направлялись в библиотеку. Особенное пристрастие эти «монархи-библиофилы» питали к редким, уникальным экземплярам. Так, один из Птолемеев взял в Афинах — якобы на время — ценнейшую, единственную в своем роде книгу, содержавшую официально утвержденный текст лучших произведений классических драматургов (Эсхила, Софокла и Еврипида). Впоследствии царь книгу так и не вернул, предпочтя заплатить афинским властям огромный штраф.
Вполне естественно, что именно там, в Александрии, в тамошней библиотеке, в III–II веках до н. э. сконцентрировалась «краса и гордость» античной филологии. Выдающиеся ученые, привлеченные редкими литературными памятниками, надолго обосновывались в этом «средоточии мудрости». Взяв в качестве предмета исследования того или иного автора из великого, обожаемого прошлого, корпели над имевшимися в их распоряжении рукописями сочинений этого автора. Сравнивая рукописи друг с другом, выявляли самые надежные. На их основании готовили каноническое издание трудов данного автора. В общем, занимались тем, чем занимаются филологи во все времена.
Поработали они, естественно, и с поэзией Сапфо. Как же они могли ее упустить — первую и величайшую из женщин, писавших стихи? Надо полагать, подготавливая издание ее произведений, они (кто именно из них — сейчас уже невозможно сказать) и разбили их на девять книг. Причем число это, думаем, выбрали не случайно. Число книг — по числу муз. Аналогичным образом, примерно тогда же издавая «Историю» Геродота, ее тоже разделили на девять книг, да еще и дали каждой книге в качестве названия имя одной из муз. Первая книга — «Клио» (и это понятно, поскольку Клио — муза истории и тем самым непосредственная покровительница Геродота), а вот с наименованиями дальнейших — полный произвол. Почему вторая книга — «Евтерпа» (муза лирической поэзии), третья — «Талия» (муза комедии), а, скажем, восьмая — «Урания» (муза астрономии)? На этот вопрос теперь уже, наверное, никто не ответит. Ни к какой из перечисленных сфер Геродот — историк в чистом виде — отношения не имел.
Носили ли какие-нибудь названия также и книги, из которых был составлен сборник Сапфо? Данных об этом нет. Но ясно одно: по своему характеру они отличались друг от друга. Разделены стихи великой митиленянки были отчасти в зависимости от тематики, отчасти же в зависимости от размера, которым они были написаны. И нужно сказать, что преобладал все-таки второй, а не первый принцип. То есть формальный, а не содержательный. И это скорее минус, нежели плюс.
В первую книгу сборника (кажется, она была самой большой) вошли стихотворения, написанные сапфической строфой, которая была изобретена нашей героиней и получила название в ее честь. Это плавный и в то же время волнующий стихотворный размер. Три строки одинаковой длины, затем четвертая — гораздо короче. Потом снова и снова — повторение той же модели. Модель эту мы неоднократно встречали и раньше, а теперь, естественно, встретим вновь.
Именно в первую книгу было включено одно из самых знаменитых произведений Сапфо — то, которым и поныне, как правило, открываются издания ее лирики. Это так называемый гимн Афродите
(Сапфо. фр. 1 Lobel-Page) — богине, которую, как известно, лесбосская поэтесса считала своей покровительницей.
Нужно сказать, что слово «гимн», ставшее частью интернациональной лексики и попавшее из древнегреческого языка в большинство современных европейских, за это время изменило свое основное значение. Ныне для нас гимн — это прежде всего, так сказать, главная официальная песня того или иного государства. А вот в понимании эллинов гимны — молитвы в форме песнопений, возносимые богам и богиням.
Жанру античного гимна была присуща определенная, достаточно строгая композиция. Начать, конечно, следовало с обращения к тому божеству, которому адресован гимн, и с восхваления его. Затем, как правило, более или менее подробно рассказывался (или хотя бы упоминался) какой-нибудь эпизод, связанный с этим божеством. Наконец, поскольку гимн по сути своей являлся молитвой, в его заключительной части присутствовало то, ради чего, собственно, любая молитва и произносится, — просьба что-то выполнить.
Гимн Афродите, написанный Сапфо (кусочек из него уже цитировался выше, в начале предыдущей главы), в общем, не отклоняется от этих канонов. Открывается он следующими строками:
Пестрым троном славная Афродита,
Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!
Я молю тебя — не круши мне горем
Сердца, благая!
Но приди ко мне, как и раньше часто
Откликалась ты на мой зов далекий
И, дворец покинув отца, всходила
На колесницу
Золотую. Мчала тебя от неба
Над землей воробушков милых стая;
Трепетали быстрые крылья птичек
В далях эфира…
Далее — будто бы имевшая место в прошлом беседа Сапфо и Афродиты (как раз эта часть стихотворения уже приводилась), а в конце, как водится, просьба:
О, приди ж ко мне и теперь! От горькой
Скорби дух избавь и, чего так страстно
Я хочу, сверши и союзницей верной
Будь мне, богиня!
Примыкает к этому гимну по тематике другой, обращенный к той же самой небожительнице. Он сохранился хуже: утрачено начало, а возможно, и конец, что же касается середины, то в некоторых строках есть не поддающиеся восстановлению пропуски, а некоторые отсутствуют вовсе. Но с ним все-таки нельзя не познакомиться: мы встретим совершенно восхитительные, вполне в манере Сапфо, картины природы.
К нам приблизься… ко храму,
Там в священной роще цветут нарядно
Яблони, дымок с алтарей разносит
Вкруг благовонья.
Там, прохладен, плещется ток под сенью
Яблонь, сад весь в розанах, изукрашен
Сплошь, и, чуть колеблемы ветром, ветви
Сон навевают.
Луг в цветах раскинулся конепасный,
Пестры лепестки, и летят повсюду
Запахи медовые…
Ты приди сюда… Киприда,
И налей, щедра, в золотые чаши
Смешанный с водой безызъянный нектар
Пиру на радость.
(Сапфо. фр. 2 Lobel-Page)
Упоминаемый в конце стихотворения не́ктар — это отнюдь не тот некта́р, что собирают пчелы на лугах. Не́ктар в представлениях эллинов, в их мифах — напиток небожителей. Боги на Олимпе пили этот самый нектар, а вкупе с ним вкушали особую пищу — амвросию; именно благодаря этому они и были бессмертными. Нектар, несомненно, как-то связан с медом. В лучшей из посвященных ему работ
[150] совершенно справедливо указывается, что само это древнегреческое слово — того же корня, что и существительное, обозначавшее труп, мертвеца (
некрос; отсюда, в частности, «некрополь» — кладбище, дословно «город мертвых»).
А «амвросия», наоборот, означает «дарующая бессмертие». Как же это сочетать? Е. Г. Рабинович, на которую мы только что сослались, предлагает исключительно остроумное объяснение, проводя параллель с «живой и мертвой водой» русских сказок. Кто же не помнит этих сюжетов? Изрубленного врагами героя вначале поливают мертвой водой; от этого тело его срастается, восстанавливается, но воскрешение еще не наступает. Последнего удается достичь посредством живой воды.
Итак, нектар — это нечто, сохраняющее в неприкосновенности тело, но не сохраняющее в нем «душу живу». И на роль подобного, так сказать, консерванта Е. Г. Рабинович совершенно справедливо предлагает именно мед. Она напоминает, в частности, о таком широко известном факте: когда в 323 году до н. э. скончался Александр Македонский, его тело поместили в стеклянный гроб, наполненный медом. В таком виде останки великого завоевателя на протяжении еще многих веков покоились в специально построенном для него мавзолее в Александрии, столице Египта. Их еще в конце I века до н. э. лицезрели Юлий Цезарь и — несколько позже — его приемный сын, первый римский император Октавиан Август.
Вернемся к Сапфо. В ту же первую книгу ее сборника, о которой сейчас идет речь, входил и ряд стихотворений, нам уже знакомых. Среди них — и примирительное послание брату Хараксу (
Сапфо. фр. 5 Lobel-Page), и та несравненная вещица, которая начинается словами «Богу равным кажется мне по счастью…» (
Сапфо. фр. 31 Lobel-Page). Еще одно великолепное произведение, написанное сапфической строфой, посвящено Анактории — одной из учениц-подруг нашей поэтессы (
Сапфо. фр. 16 Lobel-Page). Кстати, судя по имени (оно может быть переведено как «Владычная»), эта девушка тоже принадлежала к кругу самой высшей знати. Простолюдинку уж так никоим образом не назвали бы.
Начинает Сапфо классической сентенцией, смысл которой может быть передан латинской поговоркой
suum cuique — «каждому свое». Этот пассаж всего лучше известен в блистательном переводе Я. Голосовкера
[151], который звучит так:
Конница — одним, а другим — пехота.
Стройных кораблей вереницы — третьим…
А по мне — на черной земле всех краше
Только любимый.
И всё бы здесь хорошо, да вот только в оригинале нет «любимого»! Да и не мог бы он появиться в поэзии Сапфо. Тем более что и стихотворение-то посвящено девушке. В действительности мы находим в процитированном месте форму не мужского, а среднего рода. Так что в данном случае более точным оказывается перевод В. Вересаева
[152] (хотя в целом он уступает выразительному переводу Голосовкера, но порой точность бывает важнее литературных достоинств):
На земле на черной всего прекрасней
Те считают конницу, те пехоту,
Те — суда. По-моему ж, то прекрасно,
Что кому любо.
Дальше — опять же миф, как часто у Сапфо. И на сей раз — миф о той самой Елене, к которой прочно прикрепился эпитет «Прекрасная». О Елене, которая, будучи соблазнена и похищена Парисом, стала причиной Троянской войны, но и до того была предметом восхищения и вожделения многих славных героев.
…Уж на что Елена
Нагляделась встарь на красавцев… Кто же
Душу пленил ей?
Муж, губитель злой благолепья Трои.
Позабыла всё, что ей было мило:
И дитя и мать — обуяна страстью,
Властно влекущей.
И затем идет воспоминание об Анактории (оно тоже цитировалось в одной из предыдущих глав), о которой поэтесса говорит, в частности, что та ей «дороже всяких колесниц лидийских и конеборцев». Кстати, обратим внимание на эти воинские образы, красной нитью проходящие через весь фрагмент. Конница, пехота, корабли, колесницы… В полисных условиях даже строки, написанные женщиной, приобретали черты определенно мужского, маскулинного дискурса. Представительницы слабого пола, естественно, в войнах ни в каком качестве не участвовали; но столь же несомненно и то, что о боях, схватках, подвигах и т. п. им постоянно приходилось слышать от своих мужей.
Во вторую книгу сборника Сапфо входили стихи, написанные эолийским дактилическим пентаметром. Это довольно редкий, сложный размер, и в русском переводе передать его нелегко — удается сделать это разве что приблизительно. Вот, например, происходящий из этой книги фрагмент, адресованный Аттиде — еще одной ученице поэтессы, тоже уже отчасти знакомой нам:
Ты была мне когда-то, Аттида, любимицей…
Ты казалась неловкою маленькой девочкой…
(Сапфо. фр. 49 Lobel-Page)
Что-то пронзительное, берущее за душу есть — как почти всегда у Сапфо — в этих, казалось бы, совсем незамысловатых словах. Кстати, имя Аттида в буквальном переводе обозначает «жительница Аттики», а Аттика, напомним, — та область Греции, главным городом которой были Афины. «Аттида» и «афинянка» — по сути, синонимы. Эта Аттида особенно дружила с Аригнотой, которая потом была отдана замуж в Лидию, в Сарды, и там тосковала по былой подруге (выше цитировалось соответствующее стихотворение:
Сапфо. фр. 96 Lobel-Page).
Но, кстати, Аттида — не прозвище ли? Это вполне возможно. Трудно представить, что девочку родители могли назвать Афинянкой. В «пансион» Сапфо, — видимо, настолько слава его гремела по всей Греции — отдавали юных девиц из самых разных городов и регионов. Словарь «Суда» упоминает среди учениц нашей героини «Анагору-милетянку, Гонгилу-колофонянку, Евнику-саламинянку». Первая, получается, была родом из Милета — самого крупного и знаменитого в те времена города в Ионии
[153], то есть тоже на малоазийском побережье Эгейского моря, не так уж и далеко от Лесбоса. Поблизости находился и Колофон, город Гонгилы.
Сложнее с «Евникой-саламинянкой». Саламином назывался, во-первых, остров близ берегов Аттики, около 600 года до н. э. завоеванный гражданами Афин и включенный в состав их государства. Во-вторых, был еще и Саламин Кипрский — город на Кипре, острове тоже в основном греческом по этническому составу населения, но уж очень удаленному от Эллады как таковой. Достаточно беглого взгляда на карту, чтобы увидеть: Кипр располагается в самой восточной части Средиземного моря, близ сирийских берегов.
Так откуда же привезли в Митилену Евнику? Вопрос опять приходится оставить открытым. С эгейского острова Саламина? Но тогда почему она фигурирует в свидетельстве как «саламинянка», а не «афинянка»? В 600 году до н. э., когда этот остров был присоединен к Афинам и перестал быть независимым, Сапфо — если верны приведенные нами выкладки относительно даты ее рождения — была девочкой десяти — двенадцати лет и уж никак не руководительницей фиаса. Получается, речь идет о Саламине Кипрском? Этого исключить нельзя.
Но мы, собственно, говорим о другом. Коль скоро в фиасе Сапфо перемешались отроковицы из самых разнообразных мест, не могли ли они называть друг друга не столько по именам, сколько по прозвищам (это вообще характерно для подростковых коллективов), причем по прозвищам, происходящим от названия родины той или иной девочки? Нам это представляется вполне естественным. Уроженку Афин могли именовать (соученицы, а вслед за ними — и учительница) попросту Аттидой, независимо от того, как ее звали на самом деле.
К той же второй книге относится известная песнь Сапфо на мифологический сюжет — «Свадьба Гектора и Андромахи»
(Сапфо. фр. 44 Lobel-Page). Гектор — величайший троянский герой, Андромаха — его супруга. И тот, и другая играют значительную роль в «Илиаде» Гомера.
От этой песни дошел до нас большой и достаточно рельефный отрывок. Целиком приводить его мы не будем, но хотя бы с несколькими строками нелишним будет познакомиться.
Слава по Азии всей разнеслася бессмертная:
«С Плакии вечнобегущей, из Фивы божественной,
Гектор с толпою друзей через море соленое
На кораблях Андромаху везет быстроглазую,
Нежную. С нею — немало запястий из золота,
Пурпурных платьев и тканей, узорчато вышитых,
Кости слоновой без счета и кубков серебряных».
Милый отец, услыхавши, поднялся стремительно.
Вести дошли до друзей по широкому городу.
Мулов немедля в повозки красивоколесные
Трои сыны запрягли…
Упомянутый здесь «милый отец» — это, как ясно из контекста, Приам, троянский царь и родитель Гектора. В данном фрагменте Сапфо преуспевает в описаниях, перечислениях разных достопримечательных предметов. Это прием поэтики и риторики, который позже получил название «экфраза». Для описания праздников (в качестве одного из которых, естественно, фигурирует здесь свадьба) прием этот подходил очень удачно. Лесбосская поэтесса вообще была большой мастерицей свадебных песнопений, о чем еще будет подробнее говориться чуть ниже.
В третью книгу александрийскими эрудитами были включены стихи Сапфо, написанные так называемым большим асклепиадовым стихом. Поэт Асклепиад, в честь которого этот размер был назван, жил и творил гораздо позже, в эпоху эллинизма. Он не столько изобретал новые метры, сколько пользовался уже существующими; но тем не менее несколько стихотворных размеров получили название в его честь.
Больше известен образованному читателю малый асклепиадов стих. Именно им написано едва ли не самое образцовое произведение античной лирики, «Памятник» римского поэта Горация. Каждый со школьных времен помнит вариацию на тему «Памятника», созданную Пушкиным:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа.
Воздвигся выше он главою непокорной
Александрийского столпа…
Еще раньше Державин, который юного Пушкина, по собственным словам последнего, «заметил и, в гроб сходя, благословил», создал свой «Памятник» — по тем же Горациевым мотивам:
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.
Металла тверже он и выше пирамид.
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.
Гаврила Романович, кстати, куда ближе держится текста оригинала, чем Александр Сергеевич. Но в метрическом плане и Державин, и Пушкин сильно отступают от Горация. Оба пользуются так называемым александрийским стихом. Это шестистопный ямб с обязательно соблюдаемой цезурой (паузой) в середине, то есть после третьей стопы. Античность такого размера не знала, он возник гораздо позже.
А теперь приведем саму оду Горация (ее начало, первые несколько строк) в русском переводе, автор которого (А. П. Семенов-Тян-Шанский) сознательно поставил перед собой задачу — как можно точнее соблюдать метрику оригинала:
Создан памятник мной. Он вековечнее
Меди, и пирамид выше он царственных.
Не разрушит его дождь разъедающий,
Ни жестокий Борей, ни бесконечная
Цепь грядущих годов, в даль убегающих…
(Гораций. Оды. III. 30. 1–5)
Вот это и есть малый асклепиадов стих. Ровно так же — и в латинском подлиннике:
Éxegi monumént(um) aére perénnius
Régalique sitú pyramid(um) áltius,
Quod non imber edáx, nón Aquil(o) impotens
Póssit díruer(e) aút innumerábilis
Armorúm seriés ét fuga témporum…
Здесь несколько «по-школярски» расставлены ударения в тех местах, где их следует делать при воспроизведении античного стихотворения средствами фонетики современных языков, и заключены в скобки буквы, которые при чтении не звучат. Это сделано для того, чтобы даже читателям, не изучавшим латынь, стал ясен стихотворный размер. Этот последний, как можно видеть, не совпадает в полной мере ни с одним из тех, которые традиционно приняты в русской и европейской поэзии Нового времени.
Римлянин Гораций позаимствовал его из Греции, причем именно у эолийских поэтов Лесбоса. Он и сам далее в том же «Памятнике» говорит, что прославился,
…Эолийский напев в песнь италийскую
Перелив.
(Гораций. Оды. III. 30. 13–14)
Имеется в виду, несомненно, в том числе и лирика Сапфо — в качестве одного из образцов, на которые ориентировался Гораций. Что же касается большого асклепиадова стиха, которым, напомним, написаны произведения митиленской поэтессы, вошедшие в третью книгу ее сборника, он схож с малым, но строка в нем длиннее, как можно догадаться уже из названия. Строка, кстати, получается настолько протяженной, что в некоторых переводных изданиях ее делят на три коротких, дабы выглядело привычнее. Именно так нами в предыдущей главе были процитированы несколько фрагментов, где Сапфо использовала большой асклепиадов стих. А если приблизить разбивку на строчки к оригинальной, то выйдет, скажем, так:
Ты умрешь и в земле будешь лежать; воспоминания
Не оставишь в веках, как и в любви; роз пиерийских ты
Не знавала душой…
(Сапфо. фр. 55 Lobel-Page)
В стихах четвертой книги сборника мы встречаем ионийский тетраметр — еще один редкий размер, лишь с трудом и приблизительно передающийся переводу на метрический «язык» современной поэзии. К этой книге принадлежит, например, стихотворение — тоже уже знакомое нам, поэтому повторное воспроизведение полного текста излишне, можно ограничиться парой первых строк, — о печальном уделе пожилой женщины:
Всю кожу мою сетью морщин старость уже изрыла,
И стали белы пряди мои, прежде чернее смоли…
(Сапфо. фр. 58 Lobel-Page)
В пятую книгу Сапфо вошли лирические сочинения смешанного характера, в том числе и в плане метрики. Эта книга производит несколько разнородное впечатление, и нелегко уловить, каким принципом руководствовались те, кто ее составлял. Возможно, в данном случае ими был принят за основу вообще не столько метрический, сколько тематический принцип. А именно — собрали воедино произведения нашей героини, созданные ею по поводу разлук с девушками-подругами. Разлук надолго и, вероятно, даже навсегда: ученицы поэтессы взрослели, покидали ее фиас-«пансион», их выдавали замуж, подчас в другие, далекие города…
Это, конечно, лишь предположение. Но, во всяком случае, именно к пятой книге относятся два крупных, выдающихся по художественным достоинствам фрагмента, тематика которых как раз такова. Один из них — об Аттиде
(Сапфо. фр. 96 Lobel-Page) ранее цитировался полностью. Адресатка второго
(Сапфо. фр. 94 Lobel-Page) не известна по имени. Он начинается так:
Нет, она не вернулася!
Умереть я хотела бы…
А дальше передается последняя, горькая беседа расстающихся женщин, прощальные слова утешения, которые Сапфо, как старшая, говорит своей наперснице:
«Поезжай себе с радостью
И меня не забудь. Уж тебе ль не знать,
Как была дорога ты мне!
А не знаешь, так вспомни ты
Всё прекрасное, что мы пережили:
Как фиалками многими
И душистыми розами,
Сидя возле меня, ты венчалася,
Как густыми гирляндами
Из цветов и из зелени
Обвивала себе шею нежную.
Как прекрасноволосую
Умащала ты голову
Миррой царственно-благоухающей,
И как нежной рукой своей
Близ меня с ложа мягкого
За напитком ты сладким тянулася…»
О нескольких следующих книгах у нас, к сожалению, нет практически никакой информации. Сказать о них что-то ответственно вряд ли возможно, а прибегать к гаданиям не стоит. Из шестой и восьмой книг вообще не сохранилось ни одного отрывка, а из седьмой — только один, да и то очень короткий:
Мать милая! Станок
Стал мне постыл,
И ткать нет силы.
Мне сердце страсть крушит;
Чары томят
Киприды нежной.
(Сапфо. фр. 102 Lobel-Page)
Речь идет, конечно, о ткацком станке. Прядение и ткачество были постоянными занятиями древнегреческих женщин, которые, как нам известно, вели (за редкими исключениями) затворническое существование. Пряли и ткали как зрелые матери семейств, так и молодые девушки, их дочери, которые попутно и обучались от родительниц быть искусными мастерицами в этих ремеслах.
В только что приведенном фрагменте перед нами именно такая ситуация: мать и дочь дома, за станками. И вдруг дочь охватывает любовное томление, и она признается в этом матери. Считается (и, видимо, справедливо), что здесь поэтесса обработала фольклорный сюжет, возможно, взяв его из какой-то знакомой ей народной песни. Как бы то ни было, и в этих нескольких строках присутствует мотив, столь частый у нашей героини: непреодолимая сила Любви, заставляющей забыть о повседневных делах, дарящей целую гамму ранее неизведанных ощущений, можно сказать, переносящей человека в другой мир…
Переходим, наконец, к последней книге сборника Сапфо. О ней как раз известно немало. Она была составлена из свадебных песен (эпиталамиев, или гименеев), написанных по разным поводам и в разных стихотворных размерах. Такие песни исполнялись, понятно, в ходе брачных церемоний. Можно предположить, что Сапфо сочиняла их для своих учениц и по их просьбам. Для каждой из них в какой-то момент должна была наступить пора окончания девической жизни, переход к жизни семейной. Замужество являлось важнейшим этапом для свободнорожденной женщины-гражданки, а именно такие-то и посещали «пансионы», подобные митиленскому.
Характерно, что одной из главных тем в эпиталамиях Сапфо, если судить по дошедшим до нас их отрывкам, выступает восхваление невесты. И тут поэтесса прибегает к ярким, красочным образам, часто пользуясь метафорами и сравнениями. Так, в одном месте невеста уподобляется спелому, сочному яблоку:
Сладкое яблочко ярко алеет на ветке высокой —
Очень высоко на ветке; забыли сорвать его люди.
Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели.
(Сапфо. фр. 105а Lobel-Page)
Обратим внимание на то, что здесь размер — гекзаметр. Да, эпический «гомеровский» гекзаметр, который вообще-то в мелике обычно не использовался. Аналогично — и в следующем фрагменте, в котором невеста сравнивается с редким, красивым цветком гиацинтом:
Как гиацинт, что в горах пастухи попирают ногами,
И — помятый — к земле цветок пурпуровый никнет…
(Сапфо. фр. 105с Lobel-Page)
Что-то скорбное есть в этом образе. Переход девушки к супружеской жизни обретает какие-то неожиданно грязные обертоны: «попирают ногами», да еще «пастухи», и т. д. Но это ведь тоже традиционно. Во всех архаичных обществах свадьба — не только день радости, но и день скорби (не случайно ведь в ходе свадебных обрядов поют не только веселые, но и грустные песни, так было, например, и в русской деревне до относительно недавнего времени). День скорби — особенно для невесты и ее родителей. С последними понятно: дочь, с которой сроднились сердцем, которая взросла и вскормлена была в отеческом доме, теперь его покидает.
Но ведь и для невесты вступление в брак — тоже очень сложный, напряженный этап. Мы уж даже не говорим о моментах, так сказать, чисто физиологических, хотя и они не могли не играть своей роли: в семьях эллинских граждан дочерей чрезвычайно берегли, без присмотра на улицу не отпускали, и они просто обязаны были выходить замуж девственницами, иначе грознейший скандал был просто неминуем. Для невесты, таким образом, свадьба — это не только расставание с родительской семьей, но и расставание с невинностью. Кстати, Сапфо не была бы самою собой, если бы не отразила и этот аспект ситуации:
«Невинность моя, невинность моя,
Куда от меня уходишь?»
«Теперь никогда, теперь никогда
К тебе не вернусь обратно!»
(Сапфо. фр. 114 Lobel-Page)
Эти строки — тоже из девятой книги сборника лесбосской поэтессы. Но утрата девственности, нужно полагать, воспринималась не столь уж и тяжело: все-таки это вещь неизбежная для женщины, которая не обрекла себя с юности на судьбу монахини (да в античной Греции и монахинь-то не было). Гораздо страшнее, думаем, была мысль о полной смене жизненной обстановки. Вместо тех, с кем до сих пор приходилось коротать день за днем, — матери, служанок, подруг по девичьему фиасу (в числе которых, конечно, и сама наставница — ласковая, нежная Сапфо), — вдруг главное место во всей дальнейшей судьбе займет почти незнакомый мужчина, который притом еще и старше раза в два…
Жених — что-то влекущее, но и пугающее, страшное. Он на подсознательном уровне представляется трепещущей новобрачной неким огромным, сверхчеловеческим существом. Вполне закономерно, что именно в своих эпиталамиях Сапфо нередко прибегает к гиперболизации. Причем тогда, когда описывает лиц мужского пола.
Выше нам уже встретился
(Сапфо, фр. 111 Lobel-Page) «жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей»: чтобы он вошел в комнату, приходится приказать плотникам поднять потолок. Вот еще один фрагмент из эпиталамия:
В семь сажен у привратника ноги,
На ступнях пятерные подошвы,
В двадцать рук их башмачники шили.
(Сапфо. фр. 110 Lobel-Page)
Имеется в виду, несомненно, привратник в доме жениха, куда привозят молодую
[154]. Кстати, во фрагментах такого рода даже сам язык Сапфо становится каким-то более просторечным, даже более грубым, чем обычно. Это не ускользнуло от внимания уже античных литературоведов. Вот что пишет один из них:
«Когда Сапфо поет о прекрасном, то и сами стихи ее исполнены красоты и прелести. Так, она поет и о любви, и о весне, и о ласточке, и всякое красивое слово вплетает в ткань своей поэзии, а некоторые из них придумывает сама. По-другому она высмеивает неуклюжего жениха или привратника на свадьбе. Здесь язык настолько обыденный и пригодный более для прозы, чем для поэзии, что эти ее стихи лучше читать, а не петь — их не приспособишь к хору или к лире»
(Деметрий. О стиле. 166–167).
Тут всё верно подмечено. У нас, грешным делом, даже закрадывается подозрение, что поэтесса хочет запугать своих учениц, внушить им, что со вступлением в брак они попадут в какой-то мир чудищ, где жених напоминает ненавистного бога войны Ареса-человекоубийцу, а у привратника его (то есть у слуги, мимо которого каждый день придется проходить) — не более и не менее как семисаженные ноги. Просто циклоп какой-то!
Какова же может быть цель подобных запугиваний? Дескать, выйдешь замуж — вещает отроковице руководительница фиаса — и будет тебе одно несчастье. Уж не ревность ли это, не нежелание ли отдавать своих учениц в «чужие руки»? Вполне можно допустить.
ПЕСНИ ЛЮБВИ
Теперь мы уже говорим не столько о Сапфо-человеке, сколько о Сапфо-авторе. Собственно, это и оправданно: ведь наша героиня вошла в историю мировой культуры именно как автор. Если бы она не писала стихов — кто бы и почему бы теперь помнил о женщине с Лесбоса, возглавлявшей фиас, имевшей подруг и учениц, вышедшей замуж, родившей дочь? Таких было множество… И в общем-то не случайна скудость биографических сведений о ней, которые приходится собирать буквально по клочкам и обрывкам. Поэт, повторим снова и снова, живет в своих творениях, а не в чем-либо ином, и не имеют особого значения те или иные связанные с ним бытовые перипетии, которые могут быть и неинтересными, и даже неприглядными. Прекрасно сказал об этом Пушкин:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он…
Поэтому увлеченно разбирать те или иные детали личной жизни «служителей Аполлона» — как пресловутый «донжуанский список» того же Пушкина, или, допустим, отношения Лермонтова с его будущим убийцей Мартыновым, или алкогольную зависимость Блока, или эпилепсию и «игроманию» Достоевского — это всё равно что копаться в чужом белье, да к тому же еще и грязном. Занятие вроде бы малоприятное — и тем не менее всегда находятся любители ему предаться.
И находились они, сколько можно судить, всегда. Напомним: значительную часть статьи о Сапфо в словаре «Суда» занимает следующая, с позволения сказать, «информация»: «А приятельниц и подруг у нее было три: Аттида, Телесиппа, Мегара, из-за которых ее и упрекали в постыдной дружбе. Ученицы же ее — Анагора-милетянка, Гонгила-колофонянка, Евника-саламинянка». Уж лучше бы поподробнее рассказали о ее стихах! Тем более что ценность подобного сообщения по большому счету близка к нулевой: ведь ясно же, что и подруг, и учениц у митиленской поэтессы на самом деле было гораздо больше.
Может быть, стоит даже и порадоваться, что от Сапфо почти не осталось этого самого «грязного белья» и в результате мы теперь волей-неволей обречены рассуждать о темах ее поэзии, а не о связях с какими-нибудь Телесиппой или Анагорой. Итак, обращаемся к этим темам. Вряд ли кто-нибудь усомнится, что главной, безусловно преобладающей среди них являлась любовь.
Из предыдущего изложения нам известно, что в мире чувств, характерном для античных эллинов, существовали, так сказать, различные виды любви, выделялись отдельные ее оттенки, которые даже по своим названиям не совпадали. Какую же любовь поет Сапфо?
Это, конечно, прежде всего любовь-эрос
[155]: любовь как страстное влечение, чувство очень интенсивное. Никто, наверное, не сказал о нем лучше, чем сама Сапфо:
Эрос вновь меня мучит истомчивый —
Горько-сладостный, необоримый змей.
(Сапфо. фр. 130 Lobel-Page)
В этих строках, представляющих собой подлинный шедевр, поэтесса одной из первых в мировой литературе прибегла к такой характерной стилистической фигуре, как
оксиморон (
оксюморон). Данным термином в филологии обозначают сочетание противоположных по значению слов. Оксимороны в дальнейшем часто использовались самыми различными писателями. Если приводить примеры из русской словесности, то можно вспомнить, скажем, название драмы Льва Толстого «Живой труп» или известное выражение из «Скифов» Блока: «жар холодных числ».
А Сапфо употребила фигуру оксиморона как эпитет для слова «эрос». И ведь как хорошо получилось! Горько-сладостная любовь… Точнее, пожалуй, и невозможно описать ту эмоцию, которая здесь имеется в виду и которая преобладает в творчестве нашей героини.
В оригинале, строго говоря, употреблено прилагательное-неологизм (то есть изобретение автора) «сладкогорький» (
glykypikros) — в одно слово, без дефиса, и с иным порядком элементов по сравнению с тем, который предлагают переводчики. И так, думается, точнее. Поэзия — не математика, и в ней бывают случаи, когда от перемены мест слагаемых сумма меняется. Любовь все-таки вначале, как правило, бывает сладкой, а потом уже может стать горькой.
Или вот еще один образ из Сапфо, связанный с тем же чувством:
Словно ветер, с горы на дубы налетающий,
Эрос душу потряс мне…
(Сапфо. фр. 47 Lobel-Page)
Здесь изображается могучая, необоримая, даже грозная сила, которой противиться человек не властен. Она изменяет его — и, что интересно, не только его самого, но также того (или ту), в кого он влюблен. Во всяком случае, в глазах влюбленного предмет его страсти сказочно преображается, становится гиперболизированно прекрасным.
Стоит лишь взглянуть на тебя — такую
Кто же станет сравнивать с Гермионой!
Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно
Золотокудрой,
Если можно смертных равнять с богиней;
Знай, едва твоюкрасоту увижу,
Как из сердца тотчас бегут заботы…
(Сапфо. фр. 23 Lobel-Page)
Здесь, обращаясь к какой-то из своих подруг, поэтесса не скупится на восхваляющие эпитеты самого высокого свойства. Красивейшей из всех когда-либо живших женщин античные греки традиционно считали Елену (потому и имя ее всегда сопровождали эпитетом: Елена Прекрасная) — героиню всем знакомых легенд, жену спартанского царя Менелая, похищенную Парисом, что, согласно мифологической традиции, и стало поводом к Троянской войне. В Спарте Елена впоследствии даже почиталась как богиня; потому и в процитированном стихотворении она именно так названа.
А Гермиона, которую тут тоже упоминает Сапфо, была дочерью Елены и Менелая. Она тоже слыла отнюдь не уродливой; но, конечно, с матерью ее не равняли: кого же можно уподобить
идеалу красоты?! Так что здесь поэтесса стоит на подчеркнуто максималистских позициях: уж если я кого люблю — то она для меня даже не Гермиона, а сама Елена, не более и не менее.
Нам думается, в аналогичном смысле следует понимать и вот какой фрагмент:
Близ луны прекрасной тускнеют звезды,
Покрывалом лик лучезарный кроют,
Чтоб она одна всей земле светила
Полною славой.
(Сапфо. фр. 34 Lobel-Page)
На первый взгляд перед нами просто очередная пейзажная зарисовка. На деле, однако, это оказывается не вполне так. Приходится учитывать общую семантику образа луны у Сапфо. Нам подобный образ уже встречался, например, в одном из стихотворений, посвященных Аттиде (она там тоже косвенно сравнивалась с луной).
Для Сапфо это светило, особенно когда оно упоминается в связи со звездами (как и здесь), — метафора для обозначения девушки или женщины, не просто первенствующей, а абсолютно первенствующей по красоте среди всех прочих. Ну, действительно, как можно сравнить луну даже с самой яркой из звезд? Ясно, что подобное сопоставление выйдет никак не в пользу последних. Селена (луна) на ночном небе — как Елена в мире «смертных жен». Кстати, надо полагать, само созвучие (Селена — Елена) вряд ли могло ускользнуть от чуткого слуха митиленской поэтессы.
Процитируем теперь стихи Сапфо, посвященные Гонгиле. Эта девушка упоминается даже в словаре «Суда» в качестве, видимо, одной из самых любимых учениц нашей героини. Последняя, судя по всему, и вправду как-то выделяла ее среди других. Хотя, строго говоря, она всегда или почти всегда обращается к каждой из своих подруг как к «самой-самой» возлюбленной.
Я к тебе взываю, Гонгила, — выйди
К нам в молочно-белой своей одежде!
Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает
Вновь над тобою.
Всех, кто в этом платье тебя увидит,
Ты в восторг приводишь. И я так рада!
Ведь самой глядеть на тебя завидно
Кипророжденной…
К ней молюсь я…
(Сапфо. фр. 22 Lobel-Page)
Фрагмент, как часто бывает, обрывается чуть ли не на полуслове. Упоминаемая здесь «Кипророжденная» — это, само собой, божественная «патронесса» нашей героини, Афродита. Но не о таких деталях хотелось бы здесь говорить, а о том искреннем, неподдельном восхищении, которым проникнуты процитированные строки.
А вот еще из опыта общения Сапфо с Гонгилой:
…Мне Гонгила сказала:
«Быть не может!
Иль виденье тебе
Предстало свыше?»
«Да, — ответила я, — Гермес —
Бог спустился ко мне во сне.
К нему я:
“О владыка, — взмолилась, —
Погибаю.
Но, клянусь, не желала я
Никогда преизбытка
Благ и счастья,
Смерти страстным томленьем
Я объята.
Жаждой — берег росистый, весь
В бледных лотосах, видеть
Ахеронта,
В мир подземный сойти,
В дома Аида”».
(Сапфо. фр. 95 Lobel-Page)
Трудно не заметить резкого изменения тональности. Где восхищение, где восторг? Совсем иные, унылые и пессимистические чувства преобладают здесь. Любовь как бы поворачивается к любящему своей обратной стороной.
Или, выразимся иначе, любовь-страсть, любовь-эрос перерождается в любовь-тоску, любовь-потос. Про этот самый потос выше уже тоже упоминалось. Это, пожалуй, самое интенсивное, самое напряженное из всех любовных чувств, доступных эллинам. Это чувство, в сущности, горькое. Вспомним недавно встретившийся нам оксиморон: любовь «сладко-горькая». Так вот, потос — то самое горькое послевкусие сладкой любви.
Наступить оно может по разным причинам. Например, в результате смерти возлюбленного.
Киферея, как быть?
Умер — увы! —
Нежный Адонис!
«Бейте, девушки, в грудь,
Платья свои
Рвите на части!»
(Сапфо. фр. 140а Lobel-Page)
Этот фрагмент Сапфо в своем роде парадигматичен. Страданиям божеств как не послужить образцом для страданий людей? Адонис, согласно мифам, был прекрасным юношей, которого полюбила Афродита
[156] (тут поэтесса называет ее не «Кипридой», а «Кифереей», потому что покровительницу любовных утех почитали специально учрежденным культом не только в городах Кипра, но также и на Кифере — острове у юго-восточного побережья Греции). Он погиб на охоте, и богиня глубоко скорбела.
Собственно, «глубоко скорбела» в данном случае будет не самым подходящим выражением, каким-то уж очень шаблонным, «затасканным» и не передающим весь трагизм ситуации. Богиня любви, до того (подчеркнем, мы говорим о мифологии) запросто отдававшаяся многочисленным лицам мужского пола — как богам (например, богу войны Аресу), так и смертным (как троянцу Анхису, которого она в память о совокуплении пожизненно парализовала, но зато родила ему сына Энея, родоначальника римлян — даже и великий Юлий Цезарь приказывал чтить себя именно как потомка Венеры-Афродиты), впервые в жизни по-настоящему полюбила. И тут вдруг предмет ее страсти самым нелепым образом погибает, пронзенный, кажется, кабаньим клыком. И Афродита неустанно его оплакивает.
Но смерть — не единственная ситуация, которая может превратить «сладкую» любовь в «горькую». Возможна, например, и измена, в результате которой рождается ревность. Неоднократно уже нами упоминалась Аттида — еще одна из учениц и ближайших подруг нашей героини. Как минимум один фрагмент Сапфо, адресованный ей, несет в себе упрек:
Ты ж, Аттида, и вспомнить не думаешь
Обо мне. К Андромеде стремишься ты.
(Сапфо. фр. 131 Lobel-Page)
В данном случае Андромеда — явно не мифологическая героиня, спасенная Тесеем. Это, конечно же, имя другой девушки из круга митиленской поэтессы. Скорее всего, именно она имеется в виду и в следующих двух отрывках, связанных друг с другом (потому издатели обычно и объединяют их в один фрагмент — как происходящие из одного и того же стихотворения). Правда, они очень кратки — всего лишь по строчке каждый — и довольно невнятны:
Достойный дар Андромеде был наградой…
Зачем, Сапфо, благодатную Киприду…
(Сапфо. фр. 133а — b Lobel-Page)
Можно, думается, примерно домыслить, о чем в произведении шла речь дальше. Говорилось что-нибудь в духе «…ты прогневила» или «…ты упрекаешь». Иными словами, Сапфо хочет бороться со своей ревностью, понимает, что чувство это — безблагодатное, что не угодно оно Афродите. Но ничего не может с собой поделать:
…Обо мне забыла
Или полюбила кого на свете
Больше, чем меня…
(Сапфо. фр. 129 Lobel-Page)
Эти сетования, похоже, из того же цикла, хотя к кому именно они обращены — опять к Аттиде или к какой-нибудь другой женщине, — определить невозможно.
Как бы то ни было, прекрасно видно, кто в каждом случае выступает для Сапфо в роли предмета ее «сладко-горькой» любви — ее эроса и ее потоса. Это те, кого она учит, о ком говорит, обращаясь в одном из гимнов к богине Гере:
…Так и я тебя умоляю: дай мне
Вновь, как бывало,
Чистое мое и святое дело
С девственницами Митилен продолжить,
Песням их учить и красивым пляскам
В дни твоих празднеств.
(Сапфо. фр. 17 Lobel-Page)
Но так или иначе, рано или поздно (чаще рано, чем поздно), эти девственницы вступали в мир замужней, семейной жизни, покровительницей которого как раз считалась Гера. И провожала их в этот мир опять же их наставница и старшая подруга — наша героиня. Провожала с печалью, но, конечно, понимая, что для самих девушек это один из радостных и главных дней жизни.
БРАК И СЕМЬЯ
И потому-то она сочиняла для своих любимиц свадебные песни в основном в очень мажорном духе. Из них позже александрийские филологи составили последнюю, девятую книгу сборника произведений Сапфо, и кое-какие стихи, входившие в эту книгу, выше уже цитировались. Но не обойтись без знакомства и с некоторыми другими. Вот, например, чрезвычайно показательный отрывок:
…А в ту пору девочкою была ты.
Заведем же песню теперь, подруги,
Общей чередой, чтобы в ней звучали
Радость и милость.
Путь наш — в брачный дом: не тебе ли ведать
Это лучше всех? Отпусти, простившись,
Девушек-подруг, и да будут боги
К нам благосклонны.
Ибо нет путей к олимпийским высям
Для земных людей…
(Сапфо. фр. 27 Lobel-Page)
Вот опять (и уже далеко не в первый раз) мы сталкиваемся со стихотворением, вдруг обрывающимся на полуфразе и едва ли не на полуслове. Но и опять же можно приблизительно догадываться, о чем дальше говорила поэтесса: людям не дана вечная жизнь, как богам, однако у них есть свой способ приблизиться к бессмертию — через продолжение рода, а оно возможно только посредством вступления в законный брак.
Только что приведенный фрагмент интересен прежде всего тем, что в нем предельно рельефно обрисован
переход, смена статуса. Собственно, и сам этот отрывок имеет какой-то переходный характер между песнями, обращенными к подругам-ученицам, и эпиталамиями.
Обряды перехода
[157], называемые иначе инициациями, занимали исключительно важное место в жизни архаичных, традиционных социумов. Собственно, даже и в наших современных обществах сохранились пережитки этих древних ритуалов. Или по крайней мере сохранялись до совсем недавнего времени. Те из нас, кто еще застал советскую эпоху, прекрасно помнят: вся жизнь школьника (то есть ребенка, постепенно превращающегося в подростка и затем в юношу/девушку) членилась на несколько этапов. Вначале принимали в октябрята, потом — в пионеры, потом — в комсомольцы… И каждый такой переход был обязательно сопряжен со строго обязательными действиями (скажем, для пионера — с торжественным завязыванием галстука на школьной линейке), то есть, по сути дела, с теми же обрядами, ритуалами.
Правда, у древних греков ввиду подчеркнуто маскулинного характера их полисного общества переходная, инициационная обрядность в основном касалась лиц мужского пола. Так, в 18 лет юноша становился совершеннолетним; в Афинах в этом возрасте он зачислялся в группу так называемых
эфебов. Эфебы
[158] на протяжении двух лет (то есть до двадцати) проходили военную подготовку под руководством специально назначенных наставников и попутно охраняли границы государства.
Еще одним очень важным рубежом считался семилетний. Не случайно поэт-мудрец Солон, современник Сапфо, написал однажды стихотворение (оно полностью было приведено выше), в котором разделил всю жизнь человека (точнее, как мы уже тогда подчеркивали, жизнь мужчины) на семилетние отрезки, «седмицы».
Вне всякого сомнения, семилетний возраст обладал особой значимостью для мальчика, в числе прочего, еще и потому, что он означал — пора идти в школу! В этот момент родители приставляли к ребенку специального раба —
педагога, который отводил его на уроки, там присматривал за ним, а потом приводил обратно домой. Кстати, вот ведь как меняются значения слов! Для нас ныне слова «педагог» и «учитель» — синонимы. Отнюдь не так было у эллинов. В их понимании учитель — это действительно
учитель, то есть тот, кто учит, дает знания. А педагог (в дословном переводе — «тот, кто ведет мальчика») — это всего лишь слуга. «Дядька», как говорили у нас во времена крепостного права. Все ведь читали «Капитанскую дочку»? Так, стало быть, все и помнят, что у Петеньки Гринева — главного героя этой повести Пушкина — были и учитель-гувернер (естественно, француз), и верный дядька Савельич, оставшийся при своем подопечном даже и тогда, когда тот уже вполне вышел из «нежного» возраста.
Государственной системы образования в древнегреческих полисах не было. Школы были частными, обучение в них — платным. Но из-за сильной конкуренции, имевшей место ввиду большого количества школ, плата была довольно низкой, и практически каждый гражданин мог позволить себе дать детям образование.
Классы в эллинских школах были небольшими (именно потому, что самих школ было много). Подчас в классе сидело всего лишь несколько учащихся разных возрастов, и с ними занимался один преподаватель — он же и «директор» (точнее, хозяин) школы. В заведениях покрупнее с учениками работали три учителя. Грамматик обучал чтению, письму и арифметике. Дети писали палочками на покрытых воском дощечках, считали на счетах из камешков, а также заучивали отрывки из произведений Гомера и других великих поэтов. Кифаред обучал музыке, игре на лире и флейте, танцам, да и в целом «хорошим манерам». Наконец, педотриб был наставником в области физической культуры. Образование имело ярко выраженную гуманитарную направленность. Его главной целью было воспитание из ребенка достойного гражданина своего отечества, всесторонне развитой личности, культурного, образованного человека.
Но всё, что говорилось до сих пор, говорилось, подчеркнем, именно о мальчиках. В начале этой книги мы потратили немало страниц на то, чтобы показать: к девочкам, как и ко всем лицам женского пола, отношение было принципиально иным. Их в школы не отдавали, да даже и грамоте-то особенно не учили. Отроковица вплоть до вступления в брак коротала свой век в гинекее, с матерью и служанками, которые, надо полагать, посильно посвящали ее в то, что знали сами — но не более того.
Но как же? — спросит теперь любой читатель. А что же делать с тем самым «пансионом» Сапфо, о котором не раз уже упоминалось, в котором закладывались основы неких отношений девушек, будущих жен и матерей, со своей наставницей?
Да, тут перед нами действительно проблема. Безусловно, уже с ходу можно высказать несколько соображений, эту проблему отчасти нейтрализующих. Во-первых, пик греческой маскулинности (и, соответственно, максимально пренебрежительное отношение к представительницам слабого пола) пришелся на более позднее время и на иное место по сравнению с тем, когда и где жила Сапфо. Одно дело — Афины V–IV веков до н. э., и совсем другое дело — Лесбос VII–VI веков до н. э.
Во-вторых, то, что мы называли «пансионом Сапфо», может быть определено в качестве такового лишь очень условно. Это был фиас — организация культового, религиозного характера. Из очень многих, почти из всех сфер общественной жизни были устранены древнегреческие женщины — но не из религии! Нет, вот в этой области их роль как раз ничем не уступала роли мужчин. Эту ситуацию запечатлела, между прочим, структура пантеона олимпийских божеств, почитавшихся эллинами. В нем — шесть богов и шесть богинь, итого двенадцать. Полное равенство!
О божествах и о том, какое отражение они получили в поэзии нашей героини, мы, впрочем, будем еще отдельно говорить в следующей главе. А пока вернемся к той организации, которую возглавляла Сапфо. Не приходится сомневаться в том, что ее главной целью была подготовка знатных девушек из семей митиленских граждан к браку, к семейной жизни. Потому-то и руководительницей была женщина уже замужняя и рожавшая, то есть имеющая соответствующий опыт.
Выше говорилось об обрядах перехода, об инициациях. В некоторых первобытных обществах, изученных этнографами, такие обряды распространяли и на женскую часть населения. И получались в итоге вещи довольно жестокие.
Инициация — вещь жестокая в принципе. Все, конечно, слышали об обряде обрезания. Ныне он удержался в некоторых религиях (исламе, иудаизме), но совершается теперь над детьми, находящимися в младенческом возрасте: считается, что им не так больно (хотя на самом деле это в некоем роде уловка — грудным младенцам точно так же больно, но просто они, не умея еще говорить, обозначают свою боль плачем, а к плачу младенца родители уж привыкли).
На древнейших же этапах обрезание (там, где оно практиковалось) проводилось, судя по всему, именно на стадии инициации — чаще всего тогда, когда мальчика «переводили» в юноши. Ну а к девочкам на этом же этапе применяли искусственную дефлорацию (лишение девственности). Банально и брутально, каким-нибудь острым камнем.
Слава богу, уже в архаической Греции к подобным варварским процедурам не прибегали. Тем не менее, конечно же, осталось в «памяти поколений», что главный (и, по сути дела, единственный) переходный момент в жизни девушки — это ее превращение в женщину (теперь уже, естественно, в результате нормального полового акта в первую брачную ночь).
Потому-то свадьбе эллины и придавали особое значение. Причем в первую очередь — именно применительно к невесте. Для жениха она, конечно, тоже важна — теперь у него начнут появляться законные дети. Но для невесты свадьба — это просто уникальное, единственное в жизни событие!
Свадьбы древние греки предпочитали справлять зимой
[159]. Вполне закономерно, например, в Афинах месяц, примерно соответствующий нашему февралю, носил название
гамелион («свадебный»). А наиболее подходящим временем для заключения брака в рамках месяца считались дни полнолуния.
Естественно, к моменту начала ритуалов между женихом и родителями невесты всё уже было решено, обговорено: и приданое, и прочие условия… Оставалось, так сказать, сделать официальным это принятое решение. Правда, что значит «сделать официальным»? Никаких загсов, мэрий и тому подобных органов, в которых ныне происходит регистрация брачных отношений с выдачей соответствующих документов, в античном мире, конечно, не существовало, да и о личных документах не имелось никакого понятия.
Нет, речь шла о том, чтобы сделать заключение брака широко известным для сограждан, для всей общины посредством издавна устоявшихся и обязательно проводившихся публичных ритуалов. Говорим именно о ритуалах в строгом смысле слова, то есть о действиях культового характера: брак у эллинов считался божественным установлением.
Так, накануне свадьбы как в доме жениха, так и в доме невесты проводились предварительные религиозные обряды — молитвы и жертвоприношения тем божествам, которые, как считалось, имели отношение к браку и семейной жизни: они поэтому и назывались «брачными» богами.
Кто это был? В первую очередь, конечно же, Гера — верховная богиня, супруга Зевса, по своей основной функции являвшаяся покровительницей семьи. Далее, сам Зевс; впрочем, он включался в эту группу скорее по метонимическому принципу, то есть как бог, наиболее близкий Гере ввиду супружества с ней, ибо вообще-то его трудно назвать «идеальным мужем» — многочисленные мифы повествовали, порой смакуя подробности, о его любовных похождениях на стороне.
Вполне естественно найти среди «брачных» божеств Афродиту, которая воплощала силу любви, и ее сына Эрота. Менее ожидаемой фигурой выглядит в том же кругу Артемида — эта холодная, неприступная богиня-девственница. Афродита и Артемида часто изображались антиподами и даже соперницами. Так, в трагедии Еврипида «Ипполит» ссора между ними приводит к гибели заглавного героя.
Итак, почему же Артемида оказалась среди «брачных» божеств? Думается, дело в том, что она, как девственница, покровительствовала юным незамужним девушкам — то есть как раз тем, которые на свадьбах выступали в роли невест. А это, что ни говори, одна из главных ролей во всей брачной обрядности. И Артемида должна была незримо присутствовать при этих ритуалах, как бы прощаясь со своими подопечными, передавая их в «ведомство» Геры и Афродиты.
Кстати, укажем вот на какой интересный факт. Второстепенными богинями, составлявшими окружение или, так сказать, «свиту» Артемиды (по своей основной функции — покровительницы дикой природы), являлись, как известно, нимфы — прекрасные девы, обитавшие в рощах, горах, лугах, источниках, реках и т. п. Есть версия, согласно которой почитание Артемиды как таковое вообще выросло из культа нимф, что она, собственно, первоначально была одной из нимф (верховной)
[160].
Так вот, в высшей степени характерно, что само слово «нимфа» в переводе с древнегреческого означает «невеста». Поэтому нимфы, само собой, тоже входили в группу «брачных» божеств. А вместе с ними — и их предводительница Артемида.
Богини судьбы — Мойры — в этом круге тоже присутствовали. А также Пейфо (Пейто) — богиня убеждения. Последнее, наверное, тоже не случайно: этим подчеркивалось, что в семейных делах всё должно решаться посредством убеждения, а не насилия, не скандалов и ссор.
Естественно, в различных регионах и городах Греции состав «брачных» божеств мог иметь свои особенности. Так, в Афинах в их число включалась еще и Афина. Оно и понятно: она являлась богиней-покровительницей афинского полиса, ей были посвящены главные храмы на акрополе Афин
[161]. В один из этих храмов накануне свадьбы ходили невесты. Там они, помимо молитв и жертвоприношений, совершали еще и ритуал посвящения богине некоторых вещей, которые использовались ими в добрачной жизни, а теперь становились ненужными. Имеются в виду прежде всего детские игрушки, куклы и т. п. Нужно помнить, что древнегреческой невесте на момент замужества, как правило, лет пятнадцать, а то и меньше. Иными словами, она — еще сущая девочка, вплоть до свадебной поры живущая в мире игр.
Теперь же эти игрушки оставлялись в храме в качестве приношения, с ними — и девичий пояс. А также пряди волос — «последние девичьи волосы»: перед вступлением в брак невеста, по обычаю, стриглась.
И вот — сам день свадьбы. Утром жених и невеста (пока еще, конечно, по отдельности, каждый у себя) совершали омовение. Жилища обеих семей, которым предстояло породниться, украшались, двери их убирались цветами. Одна из пожилых родственниц невесты — ее можно условно назвать свахой — одевала девушку в брачный наряд, в который входил, в частности, венок на голове.
Совершались новые торжественные жертвоприношения, а потом начиналась первая часть свадебного пира, проводившаяся в доме невесты и организуемая ее родителями. Соответственно, туда приходил и жених со своими родственниками и иными лицами, приглашенными с его стороны. Когда он переступал порог дома своей будущей жены, раздавались уже знакомые нам гименеи-эпиталамии. Помните? «Эй, потолок поднимайте… Входит жених, подобный Арею!»
На этом этапе празднования близость новобрачных еще не подчеркивалась — в частности, они и размещались не вместе, а в разных частях комнаты: жених с мужчинами, невеста с женщинами. Надо сказать, что во многих регионах Греции (Лесбос, кажется, к ним все-таки не относился) женщины вообще в принципе не допускались на пиры, на которых присутствовали мужчины, — ни при каких обстоятельствах, даже и по поводу заключения брака. Им (в том числе и невесте) оставалось «параллельно» угощаться в отдельном помещении. Но, кстати, даже и там, где невеста сидела в том же зале, ее лицо было закрыто фатой (или скорее чем-то вроде чадры).
Обед в доме невесты состоял в основном из сладких блюд. Может быть, этим символизировалась сладостность грядущей брачной жизни. А вечером, по его окончании, невесту торжественно перевозили в дом жениха. Она ехала на колеснице, запряженной быками или мулами, — но ни в коем качестве не конями, которые считались исключительно «мужскими» животными, ассоциировавшимися с войной и спортом, то есть с занятиями, к которым женщина никоим образом не могла быть причастна. Коней, кстати, никогда не использовали в качестве рабочего скота. Если для нас, с нашей российской традицией, привычно, что крестьянин пашет на лошадке, то эллины пахали на быках, вьючные грузы перевозили на ослах или тех же мулах («полуослах», как они назывались в Греции), а лошадь была для различных работ существом слишком благородным! Полагаем, в том, что новобрачная доставлялась на новое место жительства именно рабочими животными, тоже была своеобразная символика. Ведь греки ценили жен работящих, «жен-пчелок» (вспомним элегию Семонида Кеосского).
На колеснице с одной стороны от невесты сидел жених, а с другой шафер — кто-нибудь из его ближайших родственников или лучших друзей. Свадебную повозку сопровождала толпа участников пира; опять же раздавались гименеи, отчасти возвышенного содержания, но отчасти и веселого, шутливого (к одной из последних наверняка относится знакомый нам фрагмент Сапфо о привратнике с семисаженными ногами). Мать невесты шла за колесницей с факелом, а мать жениха, также с факелом, встречала процессию у дверей своего дома.
Там, у порога, сходящих на землю молодых осыпали плодами и сластями, — конечно же, тоже выражая таким образом пожелания всего наилучшего в супружестве. Почему-то невесте давали съесть плод айвы (греки называли ее «кидонским яблоком» — от города Кидонии на острове Крите). Похоже, считалось, что это дарует ей плодовитость.
Затем сваха, вновь под пение гименеев-эпиталамиев, отводила новобрачных в отведенный им покой. Один из друзей жениха (впрочем, теперь уже мужа) запирал комнату и становился у ее двери, играя роль как бы этакого стражника. Назавтра муж с женой обменивались подарками и подарки же получали от родственников и друзей. В тот же день из дома тестя торжественно переносилось условленное приданое в дом зятя и последний устраивал — на сей раз у себя — вторую часть свадебного пира.
Здесь, естественно, описана в известном роде «идеальная» брачная церемония, причем на афинских данных, поскольку они лучше всего известны. Сплошь и рядом встречались отклонения от этого идеала. Так, люди победнее не могли позволить себе такую роскошь, как колесница; в подобных случаях из дома невесты в дом жениха они шли пешком. Но, впрочем, разве и в наши дни мы встретим в этой сфере полное единообразие? Кто-то закатывает пышное пиршество в ресторане с сотней и более приглашенных, а кто-то обходится скромным празднованием в узком домашнем кругу. Кто-то ограничивается регистрацией в загсе, а кто-то еще и венчается в церкви…
Кстати, коль скоро мы упомянули о венчании, не будет неуместным коснуться еще и вот какого аспекта проблемы. В современных обществах бракосочетание часто происходит при участии духовенства. А в Древней Греции хотя свадебные обряды имели и свою религиозную составляющую, но тем не менее, что интересно, какая-то специальная роль жрецов в них не отмечена. «Жрецы ни при обручении, ни в день свадьбы не совершали никаких обрядов вроде соединения рук жениха и невесты, произнесения брачной формулы, благословения или приличной случаю речи»
[162]. Получается, что брак считался делом сугубо частным, к государству (у эллинов «церковные» структуры не были отделены от государственных) не имевшим никакого отношения? Не вполне так; но, во всяком случае, государство не имело в виду контролировать жизнь своих граждан до такой степени, чтобы следить за тем, кто на ком женится и т. п.
* * *
Затрагивая «свадебную» тему, хочется (да и нужно) снова и снова цитировать дошедшие до нас отрывки из эпиталамиев Сапфо (хотя нам и раньше неоднократно приходилось это делать). В них нередки нотки светлой грусти:
Всё, что рассеет заря, собираешь ты, Геспер, обратно:
Коз собираешь, овец, — а у матери дочь отнимаешь.
(Сапфо. фр. 104 Lobel-Page)
Очень тонко сказано! Геспер — вечерняя звезда (так греки называли, судя по всему, закатную Венеру). Он знаменует собой конец дня, когда домой возвращается скот, утром ушедший на пастбища. А невесту из родительского дома в дом будущего мужа перевозят опять же вечером! Об этом как раз говорилось чуть выше.
А следующий фрагмент, вне сомнений, говорит о первой брачной ночи, но увиденной, так сказать, извне:
Пели мы всю ночь про твою, счастливец,
Про ее любовь и девичьим хором
Благовоннолонной невесты с милым
Славили ночи.
Но не всё ж тебе почивать в чертоге!
Выйди: светит день, и с приветом ранним
Друга ждут друзья. Мы ж идем дремотой
Сладкой забыться.
(Сапфо. фр. 30 Lobel-Page)
Здесь нарисована яркая картина: жених с невестой уже уединились в свадебном покое, а подруги только что покинутой ими девушки гуляют и поют — вплоть до утра, до той поры, когда молодоженам пора уже вставать и принимать поздравления от друзей мужа, проведших же бессонную ночь приятельниц его супруги уже тянет ко сну…
Или вот еще характерные строки, обращенные непосредственно к жениху и невесте:
Славен будь, муж: до свадьбы, столь для тебя желанной,
Дожил, владеешь девой, столь для тебя желанной.
Дивен твой облик дева; сладостней меда взгляды,
Полностью завладела страсть несравненным ликом.
(Сапфо. фр. 112 Lobel-Page)
Как уже упоминалось, в эпиталамиях Сапфо жених часто предстает таким, каким он видится глазами юной, растерянной, испуганной девушки-невесты: фигурой грандиозной, даже пугающей. Невесту в такой ситуации нужно не столько еще сильнее запугивать, сколько, напротив, успокаивать, внушать ей, что жених — всё-таки тоже человек, существо того же порядка, что и она сама. Хороший прием — сблизить, столкнуть (в хорошем смысле) супругов в рамках одной-двух строчек — как в только что процитированном фрагменте или, например, в этом:
Радуйся, о невеста!
Радуйся много, жених почтенный!
(Сапфо. фр. 117 Lobel-Page)
Здесь жених, конечно, «почтенный», он удостоен этого эпитета. Но «почтенный» — это все-таки не «подобный Аресу, выше самых высоких мужей», а такой же, как и все другие приличные люди. Или вот во многом аналогичный случай:
С чем сравнить тебя, о жених счастливый?
С чем сравнить мне тебя, как не с веткой стройной!
(Сапфо. фр. 115 Lobel-Page)
Обратим внимание: перед нами куда более мягкая образность. «Ветка стройная» — отнюдь не то, что способно кого-либо испугать. А свадебные песни Сапфо, напомним, адресованы в первую очередь невестам, пусть даже в них и есть обращения к женихам.
И не случайно как раз в одном из таких обращений поэтесса акцентированно говорит:
В мире девы подобной, жених, не бывало!
(Сапфо. фр. 113 Lobel-Page)
А вот этакая общая здравица обоим главным действующим лицам свадебной церемонии:
Слава деве, слава, и зятю слава…
(Сапфо. фр. 116 Lobel-Page)
Кстати, легко заметить: перед нами проходят очень короткие отрывки, по большей части одна-две строчки в каждом, редко больше. Они, кроме того, часто обрываются на полу-фразе и лишены контекста, так что трудно в точности понять, о чем идет речь. В частности, далее мы приведем фрагмент, содержание которого тоже явно связано со свадьбой; но в то же время он имеет какое-то отношение к мифологии:
С амвросией там
воду в кратере смешали,
Взял чашу Гермес
черпать вино для бессмертных.
И, кубки приняв,
все возлиянья творили,
И благ жениху
самых высоких желали.
(Сапфо. фр. 141 Lobel-Page)
Упоминающийся здесь
кратер — тип сосуда, входивший в непременную атрибутику древнегреческих пиров. Крупный, с широким горлом, он служил для смешивания вина с водой. Ведь, как всем прекрасно известно (и как упоминалось в одной из предыдущих глав), эллины обычно не пили вино в чистом виде, а разбавляли его водой.
Но здесь, как видим, с водой в кратере почему-то смешивают не вино (хотя оно во фрагменте тоже встречается), а амвросию, пищу богов. И это даже несколько удивляет, поскольку, вообще говоря, амвросия — именно пища; в мифах небожители ее вкушают, а не пьют, напитком же им служит нектар.
Как бы то ни было, ясно, что в отрывке описывается некая свадьба, в которой принимают участие божества. Это, однако, еще не повод относить его к мифологическим стихотворениям поэтессы, а не к ее эпиталамиям. В последних вполне могли появляться примеры-«модели» из мифов.
Уместно задуматься: а какой миф имеется в виду в данных строках, о каком бракосочетании идет речь? Кто-то из богов женится на богине? В принципе такого нельзя исключать. Но нам представляется более вероятным иное.
Ни из чего не следует, что божества тут пируют у себя на Олимпе или на небесах. Вполне допустимо, что они явились в качестве гостей на свадьбу, проходящую на земле. Кажется, в пользу этого говорит то, что в роли виночерпия выведен Гермес — по одной из своих главных функций посредник между миром людей и миром богов. Его появление в подобном качестве наиболее уместно в том случае, если на пиру присутствуют как те, так и другие.
Греческая мифология знала несколько знаменитых свадеб с участием людей или богов. Как правило, это такие свадьбы, где жених — смертный человек, а невеста принадлежит к божествам. Например, финикиец Кадм, основатель Фив, получил в жены Гармонию, дочь Афродиты и Ареса.
Но самая знаменитая из этих мифологических свадеб игралась, конечно, когда герой Пелей брал в жены морскую богиню Фетиду. И родился-то потом от этого брака один из самых популярных персонажей эллинских мифов — Ахилл, «быстроногий», как его постоянно называет Гомер, и почти неуязвимый (не считая известной «ахиллесовой пяты»); и, главное, яблоко с надписью «Прекраснейшей», именно на этом пиру брошенное в окно неприглашенной и разобидевшейся богиней раздора Эридой, стало потом поводом для суда Париса, а в конечном счете — и для самой Троянской войны.
Уж не свадьбу ли Пелея описывает Сапфо? Хотя, повторим, вполне возможен вариант и со свадьбой Кадма.
БОЖЕСТВА, ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ…
Как бы то ни было, чрезвычайно характерно, что в поэзии Сапфо постоянно встречаются подобного рода мифологические парадигмы. В этом она — истая гречанка. Эллины еще со времен Гомера (как минимум) мыслили бытие как бы в двух параллельных планах — как сосуществование мира человеческого и мира божественного. В той же «Илиаде» постоянно чередуются сцены из жизни людей и из жизни богов.
При этом мир богов безусловно первичен (они появились раньше смертных обитателей Земли) и тем самым как бы «идеален», а мир людей — вторичен (они созданы Прометеем «по образу и подобию» небожителей) и, соответственно, подражателен. Кстати, не приходится сомневаться в том, что именно эти представления породили в конечном счете грандиозную философскую концепцию Платона — идеализм в чистом виде, где существует мир идей, характеризующийся полнотой всех качеств, и мир материальных вещей — его бледное, в чем-то неудачное отражение.
Древнегреческая религия была политеистической, «многобожной», как и подавляющее большинство других религий Древнего мира. Но на фоне всех этих религий верования эллинов выделялись
[163] чрезвычайно ярко выраженным, доведенным до предела
антропоморфизмом, «очеловечением» божеств (антропоморфизмом называют уподобление человеку, наделение человеческими свойствами явлений природы или мифологических существ). Боги греков — в сущности, те же люди, но люди идеальные: бессмертные, наделенные совершенной красотой, обладающие огромным могуществом, блаженные, то есть не ведающие горестей и забот.
Эти боги прекрасны с эстетической точки зрения, греки любовались ими. Но вот с точки зрения этической они отнюдь не могут служить примером для подражания. Олимпийским божествам «ничто человеческое не чуждо»: они настолько человекоподобны, что разделяют и все недостатки людей. Даже в отношениях между собой они ведут себя «не по-божески»: препираются, хвастают, лгут, прелюбодействуют, воруют и даже дерутся…
Приведем несколько примеров. Зевс и его жена Гера изображены Гомером как крайне недружная супружеская пара. Они постоянно ссорятся, бранятся. Вот образчик одного из их разговоров на Олимпе.
Гера:
«Кто из бессмертных с тобою, коварный, строил советы?
Знаю, приятно тебе от меня завсегда сокровенно
Тайные думы держать; никогда ты собственной волей
Мне не решился поведать ни слова из помыслов тайных!»
Зевс:
«Гера, не все ты надейся мои решения ведать;
Тягостны будут тебе, хотя ты мне и супруга!
Что невозбранно познать, никогда никто не познает
Прежде тебя, ни от сонма земных, ни от сонма небесных.
Если ж один, без богов, восхощу я советы замыслить,
Ты ни меня вопрошай, ни сама не изведывай оных…
Дивная! всё примечаешь ты, вечно меня соглядаешь!
Но произвесть ничего не успеешь; более только
Сердце мое отвратишь, и тебе то ужаснее будет!..
Ты же безмолвно сиди и глаголам моим повинуйся!
Или тебе не помогут ни все божества на Олимпе,
Если, восстав, наложу на тебя необорные руки».
(Гомер. Илиада. I. 540 слл.)
Одним словом — «молчи, женщина». Древнегреческая сугубо патриархальная мифология ярко отразила выраженно маскулинное отношение к жизни, свойственное гражданам городов Эллады. Под конец Зевс, как видим, угрожает попросту поколотить жену (вот уж воистину «джентльменское поведение»!). И всё это происходит на пиру, на глазах других олимпийцев. Ситуацию разряжает хромоногий бог-кузнец Гефест: он быстренько берет на себя роль виночерпия и начинает разливать всем «сладостный нектар» из чаши. Видя, как калека неуклюже суетится между столами,
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба.
Инцидент на сей раз исчерпан, но он повторится снова и снова. Не говорим уж о том, что Зевс ни в малейшей степени не соблюдает супружеской верности; потому-то у него так много побочных детей — и от других богинь, и от смертных женщин. И владыка Олимпа в этом отнюдь не одинок. Чего стоит хотя бы смачно рассказанный в «Одиссее» того же Гомера пикантный эпизод: богиня любви, прекрасная Афродита, решила изменить своему мужу — уродливому Гефесту — с богом войны Аресом. А Гефест, застав любовников, что называется, «на месте преступления», подстроил им ловушку — приковал их невидимыми цепями к постели и в таком виде выставил на посмешище, созвав других небожителей.
А вот — битва богов! Получилось так, что во время Троянской войны все олимпийцы разделились на два лагеря: одни «болеют» за греков, другие — за троянцев. И каждый стремится в меру сил помочь своим «любимчикам», даже если те поступают несправедливо. В конце концов боги и богини, не выдержав, и сами выстраиваются для схватки. Их сражение описано Гомером в совершенно комическом виде, как самая банальная драка. Вот сталкиваются Гера и Артемида. Супруга Зевса оказывается сильнее: она
…руки богини своею рукою
Левой хватает, а правою, лук за плечами сорвавши,
Луком, с усмешкою горькою, бьет вкруг ушей Артемиду:
Быстро она отвращаясь, рассыпала звонкие стрелы
И, наконец, убежала в слезах…
Так Артемида в слезах убежала и лук свой забыла.
(Гомер. Илиада. XXI. 489 слл.)
Куда же бежит плачущая Артемида? На Олимп, жаловаться папе-Зевсу на то, как ее обидела мачеха.
Села, слезы лия, на колени родителя дева;
Риза на ней благовонная вся трепетала. Кронион
К сердцу дочерь прижал и вещал к ней с приятной усмешкой:
«Дочь моя милая! кто из бессмертных тебя дерзновенно
Так оскорбил, как бы явное ты сотворила злодейство?»
Зевсу прекрасновенчанная ловли царица вещала:
«Гера, твоя супруга, родитель, меня оскорбила,
Гера, от коей и распря и брань меж богами пылает».
(Гомер. Илиада. XXI. 506 слл.)
А вот рассказ о детстве бога Гермеса, содержащийся в одном из так называемых «Гомеровских гимнов». Младенец, только что родившись, в тот же день вылез из люльки (на то он и бог!) и пошел… красть коров, принадлежащих Аполлону. Угнав стадо и спрятав его в потаенном месте, Гермес забрался в обратно в колыбель и устроился там как ни в чем не бывало. Аполлон хватился пропажи, стал повсюду разыскивать свой скот и в конце концов набрел на дом, где лежал новорожденный. Сразу заподозрив, что это-то и есть воришка, он подверг Гермеса суровому допросу, а тот всячески отнекивался, не стесняясь самой наглой лжи:
«Я ли похож на коров похитителя, мощного мужа?
Нет мне до этого дела, совсем я другим озабочен:
Сон у меня на уме, молоко материнское — вот что.
Мысли мои — о пеленках на плечи, о теплом купанье».
(Гомер. Гимны. III. 265 слл.)
Хитроумные доводы, однако, не помогли Гермесу: Аполлон взял его под мышку и понес к Зевсу. Владыка богов, конечно, быстро разобрался в споре между двумя своими сыновьями и приказал коров вернуть… Не случайно Гермеса считали своим покровителем не только путешественники и торговцы, но и воры.
Таковы гомеровские олимпийцы… Постоянно создается впечатление, что великий поэт, а с ним и слушатели его произведений весело подсмеиваются над собственными божествами.
Боги на Олимпе, согласно Гомеру, решают дела мира, собираясь на общий совет. Правда, на этом совете голос одного из участников звучит гораздо громче, чем голоса остальных. И этот участник, естественно, Зевс, «владыка бессмертных и смертных». Но на чем основана его власть? Прежде всего — на превосходстве в чисто физической силе. Вот как общается Зевс с остальными небожителями в «Илиаде»:
«Слушайте слово мое, и боги небес и богини:
Я вам поведаю, что мне в персях сердце внушает;
И никто от богинь, и никто от богов да не мыслит
Слово мое ниспровергнуть; покорные все совокупно
Мне поспешайте, да я беспрепятственно дело исполню!
Кто ж из бессмертных мятежно захочет, и я то узнаю,
С неба сойти, пособлять илионянам или данаям,
Тот пораженный позорно страдать на Олимп возвратится!
Или восхичу его и низвергну я в сумрачный Тартар,
В пропасть далекую, где под землей глубочайшая бездна:
Где и медный помост, и ворота железные, Тартар,
Столько далекий от ада, как светлое небо от дола!
Там он почувствует, сколько могучее всех я бессмертных!
Или дерзайте, изведайте, боги, да все убедитесь:
Цепь золотую теперь же спустив от высокого неба,
Все до последнего бога и все до последней богини
Свесьтесь по ней; но совлечь не возможете с неба на землю
Зевса, строителя вышнего, сколько бы вы ни трудились!..
Если же я, рассудивши за благо, совлечь возжелаю, —
С самой землею и с самым морем ее повлеку я
И моею десницею окрест вершины Олимпа
Цепь обовью; и вселенная вся на высоких повиснет —
Столько превыше богов и столько превыше я смертных!»
(Гомер. Илиада. VIII. 5 слл.)
Читаешь это несколько наивное хвастовство, и не проходит впечатление: разница между Зевсом и другими богами — только количественная, а не качественная. Да, он сильнее их, даже намного сильнее, — а что еще? Лучше ли он их в моральном плане, благороднее, честнее, добрее, может ли служить для остальных божеств примером? Да ничуть! Он всё привык решать именно грубой силой. Неудивительно, что ему не всегда охотно подчиняются. Еще одна цитата из «Илиады»: вестница богов Ирида приносит Посейдону, брату Зевса, приказ верховного владыки, но повелитель морей раздраженно отвечает:
«Так, могуществен он; но слишком надменно вещает,
Ежели равного честью меня укротить он грозится!
Три нас родилося брата от древнего Крона и Реи:
Он — громовержец, и я, и Аид, преисподних владыка;
Натрое всё делено, и досталося каждому царство:
Жребий бросившим нам, в обладание вечное пало
Мне волношумное море, Аиду подземные мраки,
Зевсу досталось меж туч и эфира пространное небо;
Общею всем остается земля и Олимп многохолмный.
Нет, не хожу по уставам я Зевсовым; как он ни мощен,
С миром пусть остается на собственном третьем уделе;
Силою рук он меня, как ничтожного, пусть не стращает!
Дщерей своих и сынов для Зевса приличнее будет
Грозным глаголом обуздывать, коих на свет произвел он,
Кои уставам его покоряться должны поневоле!»
(Гомер. Илиада. XV. 185 слл.)
В конце концов, правда, морской бог, поворчав, смиряется и заявляет:
«Ныне, хотя негодующий, воле его уступаю».
(Гомер. Илиада. XV. 211)
События, однако, могли развертываться и не столь мирно. Мифы рассказывают о том, как однажды несколько божеств — тот же Посейдон, Гера и Афина — даже восстали против Зевса, пытаясь его свергнуть и заковать в цепи. Перед нами просто-таки живая картинка атак аристократов на басилея в раннем полисе, отразившаяся в религиозной сфере. Властелин Олимпа лишь с большим трудом отстоял свое верховенство, да и то не без посторонней помощи. Его спасла Фетида, одна из второстепенных морских богинь. Она
…на Олимп многохолмный призвала сторукого в помощь,
Коему имя в богах Бриарей, Эгеон — в человеках:
Страшный титан, и отца своего превышающий силой,
Он близ Кронида воссел, и огромный, и славою гордый.
Боги его ужаснулись и все отступили от Зевса.
(Гомер. Илиада. I. 402 слл.)
Сторукие великаны Бриарей, Котт и Гиес, дети первобогов Урана (Неба) и Геи (Земли), принадлежали к одному из самых старших «божественных поколений». Они издавна были заточены в земных недрах, но однажды Зевс уже вызывал их оттуда — когда боролся за власть со своим отцом Кроном и другими титанами. Вмешательство сторуких решило исход войны. Гесиод пишет:
В первых рядах сокрушающе-яростный бой возбудили
Котт, Бриарей и душой ненасытный в сражениях Гиес.
Триста камней из могучих их рук полетело в титанов
Быстро один за другим, и в полете своем затенили
Яркое солнце они. И титанов отправили братья
В недра широкодорожной земли и на них наложили
Тяжкие узы, могучестью рук победивши надменных.
(Гесиод. Теогония. 713 слл.)
А сами сторукие опять ушли в подземное царство — сторожить плененных ими узников. И вот теперь в очередной раз потребовались услуги одного из них. Похоже, как бы Зевс ни хвастался, как бы ни выставлял себя всемогущим, но и его силе был предел, когда приходилось прибегать к чужой подмоге.
Да, боги, как их рисует Гомер, а вслед за ним и вся древнегреческая литература (Сапфо отнюдь не является исключением), — самые настоящие аристократы. Весь образ их жизни как бы списан с реальной жизни знати архаической эпохи, которую в ту пору можно было наблюдать воочию: пиры и войны, войны и пиры…
Необходимо отметить, что, в отличие от современных монотеистических религий, в древнегреческих религиозных представлениях боги — только правители мира, но не его творцы. Напротив, они сами — порождения мира, космоса, действующие строго в его рамках. В противоположность, скажем, христианскому Богу, они не вне мира, а внутри его; они, выражаясь философским языком, не трансцендентны, а имманентны. И, более того, не духовны, а материальны. Боги-олимпийцы, как мы уже знаем, вынуждены питаться, — хотя бы и своей особой пищей (амвросией и нектаром), чтобы поддерживать собственное бессмертие. В жилах их течет некое подобие крови, но это особое вещество (Гомер называет его «ихор»). Даже смертные люди могут ранить бога или богиню, причинить им боль. А уж причинить обиду, вызвать зависть какого-нибудь божества — это и вовсе проще простого.
Греческие боги — отнюдь не блюстители нравственного начала в мире. Справедливость их вообще не интересует. Напротив того, они крайне пристрастны. Достаточно почитать ту же «Илиаду», чтобы увидеть: каждый бог и каждая богиня имеет своего «фаворита» среди людей и всячески стоит за него, даже если тот творит злодейства. А разве Сапфо не считала себя «фавориткой» Афродиты?
Неудивительно, что именно в древнегреческой среде родился знаменитый тезис «Человек есть мера всех вещей» (высказан философом Протагором в V веке до н. э.:
Протагор. фр. В1 DK). Ведь уже с первых этапов развития этой цивилизации человек фактически стал мерой для самих богов!
Великий поэт-лирик Пиндар писал: есть род людей, есть род богов, но оба — от одной матери (
Пиндар. Немейские оды. VI. 1–2). Под матерью имеется в виду, конечно, Гея-Земля. Вот это-то родство и эта близость между людьми и богами — характернейшие черты древнегреческих религиозных представлений — во многом способствовали тому, что возникло такое, уже знакомое нам качество, как стремление уподобиться богам, подражать им.
Ведь эллинским божествам в принципе можно подражать! Уподобиться абсолютному Богу монотеистических религий даже и пытаться никто не будет: это дело заведомо невозможное, настолько велико и непроходимо в этих системах верований расстояние между Богом и человеком. А если иногда и говорят о «подражании» Богу, то имеют в виду совсем иное: подражание не всемогуществу его, а добру, которое он воплощает. Так, в христианстве на протяжении веков одной из самых популярных проповеднических книг был труд позднесредневекового монаха-мистика Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Ясно, что Фома под таким подражанием понимал совершение праведных дел, смирение и т. п.
А Зевс праведных дел не совершает, и смирение ему отнюдь не свойственно. Как мы видели, главное его качество — сила. Поэтому если хочешь быть подобным верховному божеству — будь сильным, совершай великие подвиги. Не случайно после деяний Александра Македонского, которые своей грандиозностью казались намного превосходящими то, что доступно смертному человеку, этот царь вполне естественно стал восприниматься как «живой бог». И для этого даже не нужно было восточных влияний, которые обычно подчеркивают; идея выросла из глубин собственно греческого мировоззрения.
Боги Олимпа могущественны, но не всемогущи. Дело, конечно, и в том, что их много — в политеистических религиях сталкивающиеся воли различных божеств неизбежно ограничивают друг друга, — но и не только в этом. Выше богов — слепая сила Судьбы, Рока, которой противостоять даже они не властны. В мифах судьба часто воплощалась в образах трех богинь Мойр. Эти три сестры, дочери Ночи, сидят где-то в глубокой пещере и определяют жизненный удел каждого человека. Одна сестра, Лахесида («Дающая жребий»), назначает жребий каждому еще до его рождения. Другая, Клото («Пряха»), прядет нить его жизни. Третья, Атропа («Неотвратимая»), обрубает эту нить, когда приходит срок.
Но иногда судьбу представляли не в антропоморфных формах, а просто как принцип бытия. Тогда в связи с ней появлялась метафора весов. Вот столкнулись в бою не на жизнь, а на смерть два славнейших героя Троянской войны — ахеец Ахилл и троянец Гектор, старший сын царя Приама. Зевс хочет узнать исход их поединка. Вновь передадим слово Гомеру:
Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий один Ахиллеса, другой — Приамова сына.
Взял посредине и поднял: поникнул Гекторов жребий,
Тяжкий к Аиду упал; Аполлон от него удалился.
(Гомер. Илиада. XXII. 209 слл.)
Весы показали: Гектору суждено погибнуть. И тут уж ничего не могли поделать ни сам Зевс, ни сочувствующий троянцам Аполлон. Греческие боги, при всех своих недостатках, безусловно человечны. А о судьбе этого сказать никак нельзя. Богов, как считалось, можно склонить на свою сторону жертвоприношениями и молитвами (ведь им «ничто человеческое не чуждо»), а судьбу не подкупишь. Это — темная, неведомая бездна, так страшившая греков на всем протяжении всей их истории.
Две стороны было в античном эллинском мироощущении: светлая, солнечная, и вот эта темная, «ночная». Из этих двух сторон первая больше бросается в глаза, известна гораздо лучше. Ведь именно с ней связаны самые известные достижения древнегреческой культуры, литературы, искусства, как бы лучащиеся ярким сиянием, породившие классическую формулировку великого немецкого искусствоведа И.-И. Винкельмана
[164]: «благородная простота и спокойное величие» как главные черты цивилизации греков.
Темную же сторону своей души (честь ее открытия принадлежит, видимо, Фридриху Ницше в нашумевшем труде «Рождение трагедии»
[165]) эллин, судя по всему, старался подавить, вытеснить в подсознание. Но она то там, то здесь прорывалась, давала о себе знать.
Стоит только вспомнить некоторые мифологические сюжеты, нашедшие воплощение в трагедиях классической эпохи. Один герой (Орест) убивает свою мать; другой (Эдип), напротив, женится на собственной матери, перед этим убив отца; еще одна героиня (Медея) убивает своих малюток-детей, чтобы отомстить бросившему ее мужу… А ведь это лишь несколько примеров, взятых из трех самых знаменитых произведений величайших афинских драматургов («Орестея» Эсхила, «Эдип-царь» Софокла и «Медея» Еврипида). Примеры подобного же рода можно было бы еще долго продолжать. Как будто греков невольно тянули к себе столь чудовищные сцены.
В мироощущении эллинской цивилизации вообще немало парадоксов и загадок, с трудом поддающихся разрешению. Так, архаический период — время жизни Сапфо, — казалось бы, был временем игры молодых сил, бурного развития, движения вперед. А в настроениях греков этого времени обнаруживаем самый черный пессимизм. Нам уже встречались соответствующие высказывания из поэтов — Гесиода, Феогнида…
* * *
Итак, в ту эпоху, когда творила наша героиня, четкой грани и тем более далекой дистанции между миром людей и миром богов не ощущалось. Проявлялось это во многом. Например, в вере в существование особого класса существ — героев. Они — как бы посередине между людьми и богами, поэтому употребление по отношению к ним термина «полубоги» будет вполне корректным. Чаще всего у героя один из родителей является божеством, а второй принадлежит к смертным. Так, Геракл — сын Зевса и царевны Алкмены; Минос — сын того же Зевса и царевны Европы; Тесей, наиболее почитаемый из афинских героев, считался сыном Посейдона и царевны Эфры. Возможны и примеры с, так сказать, противоположными полюсами. Ахилл — сын царя Пелея, смертного человека, и морской богини Фетиды; Эней (которого впоследствии римляне чтили как своего «прародителя») — сын Афродиты и троянского аристократа Анхиса.
Культ героев был особенно распространен среди древнегреческой аристократии: все знатные роды возводили себя к тому или иному герою, а через них — к богам. Так, спартанские цари были твердо уверены, что они — прямые потомки Геракла, через него — самого Зевса; а стало быть, они — аристократы «номер один» во всей Элладе! Александр Македонский позже числил свою родословную по отцу от того же Геракла, по матери от Ахилла; но в ходе его завоеваний на востоке великому царю-полководцу в какой-то момент пришла в голову идея — вдруг взять и объявить себя непосредственно богом (при жизни!) и тем самым сразу как бы перепрыгнуть через полагающиеся иерархические «ступеньки».
Впрочем, не только о героях речь. Политеистическая греческая религия отличалась обилием разного уровня сакрализованных существ. Перед нами — как бы некая пирамида. На самом верху — двенадцать гордо восседающих олимпийцев. Но были же божества и пониже их рангом. Илифия — дочь Зевса и Геры, помощница женщинам при родах. Асклепий — сын Аполлона и нимфы Корониды, бог-целитель, достигший, согласно мифам, такой изощренности в медицинском искусстве, что мог уже воскрешать умерших людей, а разгневанный Зевс за это поразил его молнией (римское имя Асклепия — Эскулап — стало ныне неким ироническим синонимом слова «врач», а символ Асклепия — чаша с обвившейся вокруг нее змеей — всем и поныне известен как общая эмблема медицины). Фемида, дочь Урана и Геи, покровительница правосудия (уж эту-то персону, с завязанными глазами, с весами и мечом в руках, каждый себе представляет). Эос, «розоперстая» богиня Утренней зари… Такие второстепенные фигуры эллинского пантеона можно было бы при желании еще перечислять и перечислять.
А за второстепенными идут третьестепенные. Девять муз, дочерей Зевса и Мнемосины, были упомянуты в самом начале книги. Рядом с «девятью музами» обычно вспоминаются «три грации». Строго говоря, «грации» — это латинское слово, а по-гречески они назывались харитами — эти три дочери Зевса и богини Евриномы (опять же малоизвестной), воплощавшие «доброе, радостное и вечно юное начало жизни»
[166]. А вот еще оры — дочери Зевса и Фемиды, богини времен года. Что интересно, их три (греки древнейшего периода не выделяли осень как отдельный сезон): Евномия («Благозаконная»), Дика («Справедливая»), Ирина («Мирная»).
А уж в самом низу этой пирамиды — неоднократно нами упоминавшиеся нимфы. Их уж не знаем как обозначить: тут даже понятия «третьестепенные» и т. п. вряд ли применимы. Уж если в каждом ручье живет нимфа (наяда), в каждом дереве живет нимфа (дриада) — то это, ясно, означает обожествление всей, в принципе всей природы. Было ли в мире эллинов хоть что-то не божественное, что-то не сакрализованное? Большой вопрос.
Какие из божеств присутствуют в поэзии Сапфо? Думается, нет нужды повторять, что «абсолютная рекордсменка» — Афродита. И причины этого вполне ясны, и цитировать вновь уже знакомые нам строки нет никакого смысла.
Встречался нам уже во фрагментах Сапфо и Гермес, выступающий в роли виночерпия; встречалась и Эос со своим несчастным мужем Тифоном (Титоном), бессмертным стариком. А вот гимн, посвященный Гере
(Сапфо. фр. 17 Lobel-Page). Ее образ в стихах нашей героини тоже отнюдь не случаен: Гера, как мы знаем, занимала одно из самых главных мест в кругу «брачных» божеств.
Предо мной во сне ты предстала, Гера,
Вижу образ твой, благодати полный,
Взор, который встарь наяву Атридам
Дивно открылся.
Подвиг завершив роковой Арея
И причалив к нам от стремнин Скамандра,
Им отплыть домой удалось не прежде
В Аргос родимый,
Чем тебя мольбой, и владыку Зевса,
И Фионы сына склонить сумели.
Так и я тебя умоляю: дай мне
Вновь, как бывало,
Чистое мое и святое дело
С девственницами Митилен продолжить,
Песням их учить и красивым пляскам
В дни твоих празднеств.
Если помогли вы царям Атридам
Корабли поднять, — заступись, богиня,
Дай отплыть и мне. О, услышь моленье
Жаркое Сапфо!
Небольшой кусочек из этого довольно обширного (по меркам лирики) сочинения уже приводился выше. А теперь оно перед нами целиком, и можно увидеть, что композиционно стихотворение построено по всем правилам гимнического жанра. Пожалуй, оно следует этим правилам даже более строго, нежели гимн Афродите.
И действительно, в самом начале — традиционное обращение к божеству и восхваление его. Затем — связанный с Герой мифологический эпизод. Легенда, которую рассказывает здесь поэтесса, относится к числу малоизвестных даже специалистам, и потому в очередной раз не обойтись без пояснений-комментариев.
Атриды — это, напомним, сыновья микенского царя Атрида: Агамемнон, унаследовавший от отца власть над Микенами, и его младший брат Менелай, правивший в Спарте. Оба — инициаторы Троянской войны, вошедшие в число ее главных героев и, соответственно, играющие очень важную роль в «Илиаде» Гомера. Именно аллюзия на окончившуюся победой эллинов осаду Трои — города на берегу реки Скамандры — налицо в рассматриваемом гимне.
А потом победители с богатой добычей возвращались домой… Корабли Агамемнона и Менелая на пути от малоазийских берегов к греческим завернули на Лесбос. И долго не могли отплыть от него дальше — мешало отсутствие попутных ветров. В таких случаях, конечно, начинали молиться богам, дабы те даровали успешное продолжение путешествия.
Иногда молитвами не ограничивались, приходилось прибегнуть и к жертвоприношениям. Самый известный случай связан с теми же Атридами. Когда они десятью годами ранее еще только отправлялись воевать с Троей, их флот был задержан теми же противными ветрами в гавани Авлиде (в Беотии). Прорицатель Калхант с помощью своих гаданий выяснил, что это гневается Артемида. И требует — ни много ни мало — человеческой жертвы! Дочь Агамемнона, юная Ифигения, должна быть заколота на ее алтаре. Царь Микен пошел и на это… Правда, богиня в последний момент незримо подменила на жертвеннике Ифигению ланью, а саму девушку перенесла в далекую Тавриду (Крым).
Так гласил миф, вдохновлявший многих древнегреческих писателей на гениальные произведения. Например, дошли до нас трагедии Еврипида «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде» — как раз на этот сюжет. Но в том случае, о котором здесь повествует Сапфо, обошлось без крови, оказалось достаточно одних молений. Молились же Атриды, как указано, трем божествам: Гере, Зевсу и Дионису.
Последний назван не по имени, а «сыном Фионы». Дело в том, что матерью его считалась фиванская царевна Семела, дочь Кадма, зачавшая от Зевса божественного младенца, а потом погибшая от молний Громовержца, не успев родить дитя, и Зевс донашивал его, зашив в собственное бедро. А Семела была перенесена на небо, стала богиней и получила новое имя — Фиона.
Рассказав миф, Сапфо, как и положено, переходит к заключительной части гимна: обращается к Гере с некой просьбой. Кстати, о чем же она просит? Отчасти ясно, а отчасти и не вполне. Ситуация усугубляется тем, что самый конец стихотворения сохранился плохо, с трудными для реконструкции лакунами.
Вроде бы речь идет о том, что поэтесса должна куда-то отплыть. Но куда? И не возникает ли противоречия с тем, что она хочет продолжать учить песням и пляскам митиленских дев? Не в первый уже раз перед нами случай, когда приходится прибегать к разного рода шатким предположениям.
Может быть, речь идет о плавании на Сицилию? Но нет, мы уже имели случай убедиться, что на этом далеком острове Сапфо побывала в детском возрасте, когда она, естественно, еще никого ничему не учила. Или имеется в виду замужество поэтессы, когда ей пришлось перебраться из родного Эреса в Митилену? В принципе этого исключать нельзя: Эрес и Митилена находились, так сказать, на разных концах Лесбоса. Конечно, от одного города до другого можно было добраться и по суше; но, как правило, эллины, когда можно было плыть (а не идти), предпочитали именно плыть. Пусть чуть дольше — зато покойнее.
Но и мало ли куда могла отплывать наша героиня! В конце концов, в те же лидийские Сарды, которые она так любила, которые считала чуть ли не «центром мира»… Вопрос приходится оставить открытым, тем более что подавляющее количество произведений Сапфо не поддаются сколько-нибудь точной датировке.
А вот и представители «нижних этажей» древнегреческого пантеона, отраженные в ее стихах. Выше упоминалось о харитах (ближе знакомых нам как «грации»). Лесбосская поэтесса в одном из — опять же лишь частично сохранившихся — фрагментов восклицает:
Розоволокотные,
чистые — вы,
Дочери Зевсовы,
О Хариты, ко мне…
(Сапфо. фр. 53 Lobel-Page)
Опять перед нами призыв. Но разве не призыв — и вот это?
Нежных Харит я призову, Муз пышнокудрых с ними…
(Сапфо. фр. 128 Lobel-Page)
В этой строке наряду с харитами мы встречаем и муз — богинь, которые, по идее, должны были особенно благоволить к Сапфо как к поэтессе и — тем самым — в каком-то смысле «коллеге» (не случайно ведь, напомним, ее и называли потом «десятой музой»).
Муз призывает Сапфо и в других стихах:
Музы, ниспуститесь, золотой оставив
Дом отца…
(Сапфо. фр. 127 Lobel-Page)
Отец муз, напомним, Зевс. Этих богинь поэтесса подчеркнуто уважает и пишет, например:
В этом доме, дитя, полном служенья Музам,
Скорби быть не должно: нам неприлично плакать.
(Сапфо. фр. 150 Lobel-Page)
Думаем, не будет ошибкой предположить, что под домом, полным служения музам, Сапфо подразумевает именно возглавлявшийся ею «клуб девушек», или фиас, или «пансион» — уж как кому покажется более уместным назвать… Можно ли предположить, что коль скоро руководительница заведения сама усердствовала в лирической поэзии, то она и ученицам своим поручала заниматься стихотворчеством (хотя бы в «пробном» порядке)? Все-таки непохоже. Иначе до нас дошло бы гораздо больше имен митиленских поэтесс. А этого вроде бы не наблюдается.
Порой обращается Сапфо и к отдельным музам:
(Сапфо. фр. 124 Lobel-Page)
Почему именно Каллиопа? Это ведь муза эпической поэзии, а в области эпоса наша героиня не работала. Но тем не менее…
Почитали богов и богинь различными обрядами, среди которых главное место занимали молитва и жертвоприношение. Молили греки своих богов о вещах простых, вполне земных: удаче, богатстве, продолжении рода. Молились обычно стоя, воздев руки кверху; становиться на колени или падать ниц гордые эллины гнушались даже перед божествами.
Чтобы задобрить могущественных олимпийцев, склонить их на свою сторону, им приносились жертвы. Для жертвоприношений чаще всего использовался домашний скот: быки, свиньи, козы. Жертвенное животное закалывали на
алтаре. Алтарь уже упоминался выше в разных контекстах, и тут, наверное, имеет смысл пояснить, что этот античный алтарь не имел ровно ничего общего с алтарем в привычном нам христианском понимании. В православных или католических храмах алтарь — самая, так сказать, священная, самая потаенная часть храма. А в античности алтарь — это жертвенник, возвышение, на которое жертву возводили на заклание. И находился алтарь вообще не в храме, а поблизости, на открытом воздухе.
Там же, на алтаре, убитое животное тотчас сжигали: считалось, что жирный дым, восходя к небесам, питает богов. Значительную часть мяса жертвователи оставляли себе и съедали на общем пиру, разделяя таким образом трапезу с небожителями. Богам приносились также первые плоды нового урожая, жертвовались предметы роскоши и произведения искусства, совершались возлияния вином, медом или молоком (смысл слова «возлияние» разъяснялся выше).
У Сапфо обряды, связанные с жертвоприношениями, безусловно, упоминаются. Процитируем такой вот совсем крохотный отрывочек:
Белую козу для тебя я в жертву…
(Сапфо. фр. 40 Lobel-Page)
Как очень часто бывает, о контексте сказать что-то вразумительное крайне сложно, но общий смысл строки вполне ясен. Несколько понятнее следующее двустишие:
Вот встала луна огромным кругом,
Вот вкруг алтаря обстали жрицы…
(Сапфо. фр. 154 Lobel-Page)
Кстати, коль скоро тут упоминаются жрицы, следует заключить, что речь идет о почитании какого-то женского божества. Согласно древнегреческим обычаям, служителями культов богов были мужчины, а служительницами культов богинь — женщины. Во фрагменте описывается некий ночной обряд у алтаря (то есть, очевидно, сопровождающийся жертвоприношением). Почему ночной? Значит, богиня, которой в данном случае поклоняются, каким-то образом связана с ночью. Или, вероятнее, конкретно с луной, появление которой поэтесса специально отмечает? У эллинов была особая богиня луны — Селена, но она относилась к фигурам сугубо второстепенным, объектом развитого культа не была. А из олимпийских божеств в наибольшей степени ассоциировалась с ночным светилом Артемида, так что, не исключено, в данном отрывке фигурируют именно ее жрицы.
Вот еще один фрагмент, где мы встречаем алтарь:
Критянки, под гимн,
Окрест огней алтарных
Взвивали, кружась,
Нежные ноги стройно,
На мягком лугу
Цвет полевой топтали.
(Сапфо. фр. 16* Lobel-Page)
Раз речь идет об «огнях алтарных», то, значит, на жертвеннике уже сжигается заколотое животное. А вокруг жительницы Крита (тоже, скорее всего, жрицы) предаются веселой пляске. Ритуалы в честь богов у античных греков, надо сказать, отличались именно атмосферой веселья и радости. Имелись, конечно, и скорбные, но таких все-таки было меньшинство. Считалось, что небожителям приятно приподнятое, восторженное настроение тех, кто их чествует. Поэтому, в частности, во время обрядов, жертвоприношений было принято надевать на голову венки — этот символ праздничности. Вот как обращается Сапфо к еще одной из своих подруг, по имени Дика:
Венком охвати,
Дика моя,
волны кудрей прекрасных…
Нарви для венка
нежной рукой
свежих укропа веток.
Где много цветов,
тешится там
сердце богов блаженных.
От тех же они,
кто без венка,
прочь отвращают взоры…
(Сапфо. фр. 24b Lobel-Page)
Тут прямо объясняется, почему божествам любезны венки: потому, что они блаженны.
Фиас, который возглавляла Сапфо, был, как любой фиас, учреждением прежде всего религиозным. Жизнь женщин, входивших в подобный кружок, представляла собой, по сути, почти постоянное богослужение. Но ни в коей мере не стоит сравнивать античный языческий фиас, скажем, с христианским монастырем. Хотя на первый взгляд общее есть: в обоих случаях перед нами — люди, посвятившие себя божеству.
Это если подходить чисто формально. Но насколько велика разница по существу между «Христовыми невестами» — инокинями, сознательно оградившими себя от всех радостей мира, — и участницами кружка Сапфо, предающимися полной, насыщенной жизни, о которой потом будет что вспомнить. Так и пишет наша героиня, обращаясь к своим подругам:
Им сказала: женщины, круг мне милый,
До глубокой старости вспоминать вам
Обо всём, что делали мы совместно
В юности светлой.
Много мы прекрасного и святого
Совершили. Только во дни, когда вы
Город покидаете, изнываю,
Сердцем терзаясь.
(Сапфо. фр. 24а Lobel-Page)
Вновь перед нами знакомый уже мотив разлуки — точнее, разлук, связанных с замужествами девушек из фиаса. Но ведь и сами эти свадебные разлуки обращались для подруг некоего рода празднествами. Помните — ночные гулянья, пение до зари, пожелания счастья новобрачным? Из всех праздников именно свадебные, нет сомнения, самыми яркими искрами запечатлевались в сознании фиасоток. И каждая из них, конечно, думала: «Скоро это ждет и меня… И страшно, и желанно!»
САПФО В ВЕКАХ
Любой представитель архаической греческой мелики был обязательно не только поэтом, но и музыкантом. Более того, часто он был и композитором, если пользоваться современной терминологией, то есть сочинял также и мелодии к своим стихам.
Последнее, правда, можно сказать не обо всех лириках (некоторые пользовались и мелодиями уже существовавшими), но о Сапфо — уж точно. Неоднократно упоминалось, что ее изобретением был сапфический стих. Что это такое — мы уже знаем, и потому не будем повторяться. Оговорим только, что это форма не только метрическая (если рассматривать ее в контексте античного стихосложения), но и ритмико-мелодическая (если рассматривать ее в контексте музыки).
Сапфо вносила новшества и в область музыкальных ладов. Приведем следующее высказывание: «И миксолидийский лад — страстный, подходящий для трагедии. Аристоксен же говорит, что Сапфо первой изобрела миксолидийский лад, а авторы трагедий научились ему у нее. Конечно, они, взяв его, сопрягли с дорийским, поскольку последний передает пышность и достоинство, а первый — страстность; в результате их смешения и возникла трагедия» (
Аристоксен. фр. 81 Wehrli).
Характеристика миксолидийского лада, сделанная Аристотелем, выше уже тоже давалась: он-де скорбен и сумрачен (в принципе ничего удивительного — именно такое настроение порой овладевало нашей героиней). Но для нас здесь особенно важно то, кто именно называет Сапфо открывательницей этого лада.
Философ Аристоксен жил во второй половине IV века до н. э. Он был родом из города Тарента, находившегося в Южной Италии (так называемой Великой Греции), — иными словами, в тех местах, где лет на двести раньше прославился Пифагор. Пифагорейское учение, нужно сказать, сохраняло особенно долгое и сильное влияние именно в названном регионе эллинского мира. Не приходится сомневаться, что Аристоксен уже в юности познакомился с этими идеями и, можно даже сказать, возрастал в их атмосфере. Пифагор же, как известно, в своем учении уделял музыке исключительно большое внимание; именно он выдвинул знаменитую теорию гармонии сфер
[167] (он жил позже Сапфо, безусловно, знал ее стихи и, скорее всего, принимал и их в расчет в своих выкладках). Любой пифагореец, в сущности, так или иначе был музыкантом.
Потом, правда, Аристоксен перебрался в Афины и стал учеником Аристотеля, членом созданной там перипатетической школы. Но интерес к пифагореизму сохранял, активно изучал его и его главных представителей, начиная, понятно, с основателя. Плодом его работы стало несколько трактатов (как мы бы сказали сейчас, монографий), в том числе «О Пифагоре и его учениках», «О пифагорейском образе жизни», «Пифагоровы изречения».
Фактически Аристоксен явился в Греции зачинателем жанра биографий философов (также известны его жизнеописания Сократа, Платона и др.). Правда, вот биографий поэтов он не писал, поэтому в его наследии мы не найдем книги, специально посвященной Сапфо. Тем не менее, напомним, именно такую книгу (увы, утраченную) написал Хамелеонт — тоже перипатетик, младший современник Аристоксена, скорее всего, знакомый с ним и лично.
Есть свидетельства также о том, что Сапфо работала в области усовершенствования техники исполнения музыкальных произведений. Ей даже приписывают создание нового музыкального инструмента — пектиды, или магадиды:
«Пектида — то же самое, что и магадида, как говорят Аристоксен и Менехм-сикионянин в сочинении о деятелях искусства. И он заявляет, что Сапфо, которая старше Анакреонта, первая воспользовалась пектидой» (
Аристоксен. фр. 98 Wehrli).
Вообще говоря, этот пассаж дошел до нас через посредство известного позднеантичного эрудита Афинея, автора гастрономического (но и не только!) трактата «Пир мудрецов». И, как мы можем видеть, говоря о пектиде (магадиде) в связи с Сапфо, Афиней вроде бы ссылается не на Аристоксена, а на другого автора (некоего Менехма), хотя полной уверенности в этом нет — так уж построена фраза. Равным образом нет уверенности и в том, что лесбосская поэтесса названа здесь именно изобретательницей пектиды. «Первая воспользовалась» — это еще не значит «сама придумала». Есть, в числе прочих, и версия, что родина пектиды (магадиды) — Малая Азия, соседние с местами обитания греков, ионийцев и эолийцев, восточные царства
[168]. А ближайшим из этих царств была для Сапфо и ее соотечественниц, естественно, Лидия, которую они столь обожали и из которой много что могли охотно заимствовать. Не тот ли тут случай?
Наверное, нужно еще пояснить, что пектида как музыкальный инструмент являла собой разновидность арфы. Иными словами, относилась к струнной группе. Это опять же не удивительно: мы уже знаем, что поэты-мелики тяготели именно к струнным инструментам, поскольку, когда они исполняли свои произведения, им нужно было одновременно и петь, и играть. Духовые инструменты (флейта, свирель и т. п.) такой возможности просто не давали.
Кстати, привлекает к себе внимание еще и фраза из статьи словаря «Суда» о Сапфо: она-де «первая изобрела плектр». Выше объяснялось: плектр — это примерно то, что ныне гитаристы называют медиатором. Иными словами, это — предмет, служащий для того, чтобы не касаться струн непосредственно пальцами (иначе, если играешь регулярно, можно заработать на кончиках пальцев мозоли, а то и получить болезненные ощущения из-за постоянных микротравм).
Е. В. Герцман, специалист по музыке в античном мире, пишет по этому поводу следующее: «…Нужно помнить, что древний плектр не имеет ничего общего (это, пожалуй, уж слишком сильно сказано, лучше было бы выразиться так: «имеет мало общего». —
И. С.) с легкой тонкой пластинкой, знакомой современным гитаристам или домристам. Он делался либо из тяжелого дерева, либо даже из металла и привязывался лентой к нижней части инструмента»
[169].
Далее Герцман упоминает о том, что кое-кто из античных авторов считал плектр изобретением бога Гермеса (ну еще бы, ведь и само создание первой лиры — из случайно пойманной черепахи — тоже ведь приписывалось именно этому божеству), но оговаривает и мнение словаря «Суда» о первенстве Сапфо в этой области, хотя добавляет при этом: «…Плектр был известен и раньше»
[170].
Нам, со своей стороны, легко поверить в то, что открывательницей подобного полезного приспособления была именно женщина. Во все или почти во все времена женские пальцы нежнее, ранимее мужских и больше требуют каких-то защитных приспособлений. Во всяком случае, даже и в наши дни именно так оно и есть. Но могло ли быть иначе в мире аристократов архаической Греции? Уж там-то точно девушек «холили и лелеяли», из дома практически не выпускали, а уж тяжелых физических работ однозначно не поручали — на то были слуги и служанки.
Хотя, хотя… Ведь каждый может припомнить, что основными домашними занятиями эллинской женщины, а равно и девушки, были прядение и ткачество. Иными словами, они постоянно имели дело с нитями! А так ли уж сильно нить отличается от струны? Она вроде бы не столь жестка, — но, когда нить туго натянута, с ней тоже, как говорится, держи ухо востро. Ею и порезаться можно; но, с другой стороны, напряженная нить при ритмичном подергивании обязательно издаст некие звуки. Можно сказать, — конечно, с некой долей шутки, — что чуть ли не в любой гречанке погибал музыкант-струнник.
А в ком-то и не погибал. Вернемся к той же Сапфо и вспомним, какую посмертную славу снискала она. И во введении к этой книге, и в последующих главах уже неоднократно говорилось о том, какую высокую, просто-таки беспрецедентно высокую оценку давали ей авторитетнейшие античные писатели, работавшие в самое разное время и в самых разных жанрах: гениальный философ Платон и второстепенный поэт Посидипп, скрупулезнейший из географов Страбон и тонкий ценитель стилей филолог Деметрий, музыковед Аристоксен и римский «певец любви» Овидий… Последний настолько проникся «сапфическим» духом, что вообразил перед собой лесбосскую поэтессу как живую и развил в своих стихах мотив ее мнимой любви к красавцу Фаону.
Впрочем, был среди римских лириков и тот, которого можно в еще гораздо большей степени назвать «конгениальным» нашей героине. Его имя тут пока еще не звучало; мы специально приберегаем его, так сказать, на десерт.
А пока отметим: даже и сам Аристотель, человек изумительного интеллектуального высокомерия (в котором его впоследствии превзошел разве что Гегель), не гнушается вспомнить о стихах Сапфо
(Аристотель. Риторика. I. 1367а 10 слл.). Да и Геродот, «отец истории», говорит о ней, — правда, исключительно в связи с романом ее брата Харакса и гетеры из египетского Навкратиса.
Но Геродот, конечно, читал и стихи Сапфо. Равно как читал их и его современник Горгий — очень крупный философ и оратор V века до н. э. Подмечено
[171], что и на речь Горгия «Похвала Елене», и на рассказ Геродота о Елене Прекрасной повлияло то стихотворение митиленской поэтессы, в котором упоминается эта прославленная героиня эллинских мифов
(Сапфо. фр. 16 Lobel-Page).
На смену архаической эпохи в Древней Греции пришла классическая, на смену классической — эллинистическая… Слава Сапфо продолжала расти. В Александрийской библиотеке ученые, составлявшие всяческие каталоги и реестры, в какой-то момент выработали и канон девяти величайших лириков. Почему девяти? Да потому, что муз-то было девять. Полагаем, именно такова была логика систематизаторов.
Имеется анонимное стихотворение, характеризующее тех, кто вошел в эту «священную девятку»:
Муз провозвестник священный, Пиндар; Вакхилид, как сирена,
Пеньем пленявший; Сапфо, цвет эолийских Харит;
Анакреонтовы песни; и ты, из Гомерова русла
Для вдохновений своих бравший струи Стесихор;
Прелесть стихов Симонида; и снятая Ивиком жатва
Юности первых цветов, сладостных песен любви;
Меч беспощадный Алкея, что кровью тиранов нередко
Был обагряем, права края родного храня;
Женственно-нежные песни Алкмана, — хвала вам! Собою
Лирику начали вы и положили ей грань.
(Палатинская антология[172]. IX. 184)
Из перечисленных тут поэтов ранее в нашей книге не упоминались только Вакхилид и Ивик. Хотя один раз все-таки прозвучало выражение «Ивиковы журавли». Оно связано с красивой легендой о смерти Ивика, который жил и творил в VI веке до н. э. Согласно этому преданию, когда он однажды отправлялся в Коринф участвовать в музыкальных состязаниях (напомним, в архаической Греции поэт-лирик — это еще и музыкант), его подстерегли на дороге и убили разбойники. Свидетелями гибели «любимца муз» стали пролетавшие над местом преступления журавли; они-то потом, уже в Коринфе, указали на убийц, те
были изобличены и наказаны.
Что же касается Вакхилида, он был одним из самых поздних представителей ранней эллинской мелики и работал уже в V веке до н. э. Вакхилид известен как племянник Симонида, а также как неудачливый конкурент Пиндара. Как и последний, он писал в основном оды в честь победителей в крупных спортивных играх — эпиникии. Но Вакхилиду недоставало пиндаровских самобытности и мощи таланта, его произведения бледнее.
Можно заметить, что в процитированной эпиграмме имена поэтов приведены не в хронологическом порядке: первыми идут Пиндар и Вакхилид, а последним — Алкман, входящий в число наиболее ранних лириков. Порядок этот, далее, не имеет никакого отношения и к сравнительному достоинству авторов, иначе тот же Вакхилид никак не попал бы на второе место. Чем же обусловлена последовательность перечисления? Совершенно непонятно; возможно, что чисто стихотворческими, метрическими причинами, а возможно, что и вовсе ничем: в конце концов, литература — ремесло свободное, и каждый писатель волен строить свое изложение ровно так, как он того пожелает.
Как бы то ни было, Сапфо фигурирует в перечне третьей. Опять же, может быть, это ничего не значит, а может быть — и значит. Во всяком случае, она во всей «девятке» — единственная женщина. И это — несмотря на то, что вообще-то в Греции, в том числе и архаической, были и другие представительницы слабого пола, занимавшиеся поэзией и снискавшие известность на этом поприще. Правда, все они были несколько помоложе Сапфо, но тем не менее тоже относились к достаточно раннему этапу развития античной лирики.
Так, Телесилла из Аргоса жила в конце VI века до н. э. Ее помнили не только (может быть, даже не столько) за ее поэтическое творчество, но и за то, что в трудную годину она проявила истинно мужскую доблесть — спасла город от вражеского нашествия. На Аргос шла войной мощная, лучшая в Греции спартанская армия под командованием царя Клеомена I. Аргосцы вступили с ней в битву, но потерпели сокрушительное поражение и были поголовно истреблены
[173].
Клеомен пытался теперь взять сам Аргос, оставшийся без защитников, и, скорее всего, сделал бы это, если бы не произошло удивительное событие, о котором Плутарх — в сугубо восторженных тонах — рассказывает так:
«Среди всех доблестных деяний, совершенных сообща женщинами, нет более знаменитого, чем борьба, которую вели в защиту своей родины против спартанского царя Клеомена аргосские женщины, вдохновляемые поэтессой Телесиллой. Она, как передают, происходила из знатного дома; болезненное телосложение побудило ее обратиться за помощью к оракулу, и ей было дано указание почитать муз. Повинуясь божеству, она посвятила свое усердие песням и гармонии и скоро не только избавилась от недомогания, но и прославилась среди женщин как поэтесса. А когда Клеомен, нанеся аргосцам большие потери (нет надобности верить сказке, будто число убитых составило семь тысяч семьсот семьдесят семь), подступил к городу, все женщины в цвете возраста, воодушевленные неким божественным порывом, поднялись на защиту родины. Предводительствуемые Телесиллой, они вооружаются, занимают укрепления, окружают своими отрядами стены, изумляя этим врагов. Они отразили Клеомена с большими для него потерями, вытеснили и второго царя Демарата
[174], уже проникшего в город… Так был спасен город. Женщин, павших в этой битве, с почетом похоронили на Аргосской дороге, а оставшимся в живых было предоставлено воздвигнуть памятную статую Эниалию (то есть Аресу. —
И. С.)» (
Плутарх. Моралии. 245 с-е).
Да, вот с точки зрения чисто человеческой биографии — Сапфо ничего подобного и не снилось… Зато от последней дошло до нас немало стихотворений — какие-то фрагментарно, а какие-то и полностью, — а от Телесиллы — лишь несколько невыразительных, даже невнятных отрывков, например:
О девы! Артемида,
Что мчится от Алфея…
(Телесилла. фр. 1 Page)
Алфей, упомянутый здесь, — река, на берегу которой стояла Олимпия, место расположения главного в Греции храма Зевса и родина самых знаменитых в истории спортивных игр.
Также в VI веке до н. э. жила Клеобулина, «девушка-загадка». Так мы с полным основанием можем назвать эту дочь Клеобула, тирана городка Линда на острове Родосе (кстати, тоже причислявшегося к Семи мудрецам), потому что она сочиняла загадки в стихах. Такие, в частности:
Медного мужа узрела я, к мужу прильнувшего жадно;
Нужно ему было стать единокровным тому.
(Клеобулина. фр. 1 West)
Отгадкой является сосуд для кровопускания. Ровно такая же отгадка — и для следующего двустишия:
Мужа обманщика злого и вора я вдруг увидала;
Но то, что он совершил, было деяньем благим.
(Клеобулина. фр. 2 West)
Уж не знаем, почему Клеобулине была так интересна эта тема. Может быть, ей часто приходилось созерцать, как ее отцу пускали кровь? Во многих, если не во всех, традиционных обществах подобная процедура была весьма распространенной.
Совсем уж может запутать третья сохранившаяся стихотворная загадка Клеобулины:
В ухо пинка мне дохлый осёл дал рогатой ногою.
(Клеобулина. фр. 3 West)
Отгадка почему-то гласит «фригийская флейта»
[175]. Вот уж воистину озадачишься…
Поэтесса Коринна, писавшая в ту же эпоху, была родом из Беотии (из города Танагры в этой области). Иными словами, она являлась землячкой «лебедя» Пиндара (уроженца беотийских же Фив). Более того, античная традиция утверждает, что Коринна — учительница Пиндара и даже неоднократная его победительница: он-де проиграл ей пять поэтических состязаний. Вот кое-что из ее наследия:
Терпсихора мне велит
Звучной песнью петь героев
Для нарядных жен танагрских —
Да возрадуется город
Звонких звуков сладким ладом!..
Я, слова напевов отчих
В новый заключив порядок,
Хоровод девичий правлю:
Славлю я родимый Кефис
[176],
Славный песнями моими,
Громко славлю Ориона,
Породившего от нимф
Пятьдесят сынов могучих…
(Коринна. фр. 2 Page)
«Хоровод девичий правлю» — это полная аналогия с тем, что мы видели у Сапфо. От Коринны дошли и другие стихотворения, подчас довольно большие («Состязание Геликона с Кифероном», «Пророчество о дочерях Асопа»), но мы не будем цитировать их здесь, поскольку пишем все-таки не о Коринне, а о Сапфо.
Несколько позже, в V веке до н. э., в древнегреческом городе Сикионе жила поэтесса Праксилла. Хотелось бы процитировать ее в несколько большем количестве фрагментов. Мы почему-то вынесли из них такое впечатление, что Праксилла лучше, чем кто-либо, сумела воспроизвести в своих стихах пресловутый «сапфический» дух.
Скорпион под любым
камнем тебе
может попасться, друг:
Бойся жала его.
Скрытность всегда
хитрости яд таит.
(Праксилла. фр. 4 Page)
Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:
Первое — солнечный свет, второе — блестящие звезды
С месяцем, третье же — яблоки, спелые дыни и груши.
(Праксилла. фр. 1 Page)
Это мироощущение ближе всего к тому, что высказывает в своей лирике Сапфо. Признаться, несколько озадачивает мужской род глагола «оставил». Но это, как говорится, вольность переводчика. Автор этих строк специально проверил, что написано в оригинале. Так вот, оказалось, что там стоит форма настоящего времени: «оставляю». А по ней, понятно, форму рода определить нельзя.
Вспомни то, что сказал
как-то Адмет:
«Добрых люби душой,
Но от низких держись
дальше: они —
неблагодарные».
(Праксилла. фр. 3 Page)
Упомянутый здесь Адмет — мифологический персонаж, царь Фессалии, славившийся благородством и прочими добродетелями. У него в слугах как-то был сам Аполлон (такое наказание за некий проступок этому богу назначил сам Зевс). Хозяин обращался с ним очень хорошо, и Аполлон, когда срок его службы истек, щедро наградил Адмета, освободив его от смерти. Точнее, дар был таким: когда царю придет время умирать, он может остаться в живых, если кто-нибудь согласится уйти в царство мертвых вместо него.
Далее в мифе еще много интересного. Когда роковой час настал, отец и мать Адмета отказались брать на себя его судьбу, согласилась же сделать это его молодая прекрасная супруга Алкестида (Алкеста), но и ее в конце концов спас от кончины величайший из героев Геракл (случайно пришедший тогда в гости к Адмету, своему другу): вступил в битву с богом смерти Танатосом, явившимся за ее душой, и одержал победу… Но мы говорим сейчас о другом — не о греческой мифологии, а о греческой женской лирике.
И тут нужно отметить: вновь налицо совпадение взглядов двух поэтесс. Один фрагмент Сапфо схожего содержания
(Сапфо. фр. 50 Lobel-Page) нами уже приводился, а вот и еще один:
Богатство одно — спутник плохой без добродетели рядом.
(Сапфо. фр. 148 Lobel-Page)
В IV веке до н. э. на острове Телос в Эгейском море жила еще одна женщина, писавшая стихи, — Эринна. Ее сочинения (во всяком случае, те, которые дошли до нас) в основном проникнуты грустным, скорбным настроением. Бавкида, подруга Эринны, умерла совсем молодой; воспоминания о ней-то и стали главной темой для этой поэтессы. Бавкиде она посвятила большую поэму «Прялка», из которой, к сожалению, сохранились лишь отдельные строки, например:
Оттуда, из жизни,
Эхо пустое одно лишь доходит до царства Аида.
Тьма покрывает глаза мертвецам, и молчанье меж ними.
(Эринна. фр. la Diehl)
А вот эпитафия той же подруге:
Это могила Бавкиды, невесты. К слезами омытой
Стеле ее подойдя, путник, Аиду скажи:
«Знать, ты завистлив, Аид!» Эти камни надгробные сами,
Странник, расскажут тебе злую Бавкиды судьбу:
Факелом свадебным, тем, что светить должен был Гименею,
Свекру зажечь привелось ей погребальный костер,
И суждено, Гименей, перейти было звукам веселым
Свадебных песен твоих в грустный напев похорон.
(Эринна. фр. 4 Diehl)
Типично «сапфическая» свадебная тема перетекает здесь в мрачную, траурную.
* * *
В эллинистическую эпоху традиции женской лирики конечно, продолжались. Крупнейшими ее представительницами были Анита и Носсида. Биографических сведений об обеих практически никаких нет; известно только, что жили они в III веке до н. э. — первая в городе Тегея (находившемся в Аркадии, области на юге Греции), вторая в Локрах Эпизефирских (это эллинская колония в Южной Италии).
Как Анита, так и Носсида сочиняли в основном эпиграммы — короткие, выразительные стихотворения, написанные элегическим дистихом. Эпиграммы вообще были одним из распространеннейших жанров античной поэзии. Их сохранились сотни, если не тысячи; одни из них — глубокомысленные, другие — нежно-лиричные, третьи — пронзительно-страстные, четвертые — шутливые, иронические…
Познакомимся кое с чем из наследия двух названных поэтесс.
Надпись у родника
Странник, под этой скалою дай отдых усталому телу;
Сладко в зеленых ветвях легкий шумит ветерок.
Выпей холодной воды из источника. Право ведь, дорог
Путникам отдых такой в пору палящей жары.
(Анита. Палатинская антология. XVI. 228)
Эпитафия кузнечику и цикаде
Этой акриде, певунье полей, и древесной цикаде
Здесь погребенье одно соорудила Миро;
Девочка слезы над ним пролила; ведь обе забавы
Отнял разом у ней неумолимый Аид.
(Анита. Палатинская антология. VII. 190)
Статуя Афродиты у моря
Это — владенье Киприды. Отсюда приятно богине
Видеть всегда пред собой моря зеркальную гладь;
Ибо она благосклонна к пловцам, и окрестное море
Волны смиряет свои, статую видя ее.
(Анита. Палатинская антология. IX. 144)
О любви
Слаще любви ничего. Остальные все радости жизни
Второстепенны; и мед губы отвергли мои.
Так говорит вам Носсида: кто не был любим Афродитой,
Тот не видал никогда цвета божественных роз.
(Носсида. Палатинская антология. V. 170)
Автоэпитафия
Если ты к песнями славной плывешь Митилене, о путник,
Чая зажечься огнем сладостной музы Сапфо,
Молви, что музам приятна была и рожденная в Локрах,
Имя которой, узнай, было Носсида. Иди!
(Носсида. Палатинская антология. VII. 718)
Мы постарались сделать эту маленькую подборку (а большой она и не могла быть — ведь ни Анита, ни Носсида отнюдь не являются героинями нашей книги) репрезентативной, то есть относительно адекватно отражающей тематику творчества обеих поэтесс, излюбленные ими мотивы. И, наверное, каждому бросятся в глаза некоторые различия.
Так, легко заметить, что у Аниты любовная тема не занимает большого места. Собственно говоря, в ее сохранившихся стихотворениях
[177] эта тема вообще не упоминается. И даже Афродита, фигурирующая в одной из эпиграмм, воспринимается не как богиня любовной страсти, а как покровительница моряков, усмирительница морских бурь.
Интересно, что подобный образ мы встречали и у Сапфо — в том (уже знакомом нам) произведении, в котором она молит о благополучном возвращении из Египта ее брата Харакса. Кратко разбирая этот памятник, мы тогда предположили, что великая митиленянка обращалась к Афродите, поскольку, будучи певицей любви, ощущала себя находящейся как бы под ее, именно ее опекой. Но вот Аниту певицей любви никак нельзя назвать, а тем не менее перед нами похожий мотив. Можно ли предположить здесь влияние более ранней поэтессы на более позднюю? Думается, что да.
Но в целом Аниту все-таки трудно назвать идущей по стопам Сапфо. Обратим внимание на эпиграмму «Эпитафия кузнечику и цикаде». Это ведь в общем-то юмористическое стихотворение, пародия на столь популярные у эллинов эпитафии — надгробные надписи.
Эпитафия была одним из главных подвидов жанра эпиграммы. Может быть, даже просто главным. Ставя памятники на могилах близких, эллины предпочитали высекать на них не просто некую сухую информацию (скажем, «такая-то, дочь такого-то, жена такого-то. Прощай!»), но и снабжать ее стихотворением, чаще небольшим (две или четыре строчки), реже — более пространным. И по сей день археологи по всему Средиземноморью и Причерноморью, ведя раскопки античных поселений и соседствовавших с ним кладбищ, регулярно находят надгробия со стихотворными эпитафиями, так что корпус имеющейся в нашем распоряжении древнегреческой поэзии постоянно пополняется.
Разумеется, на ниве сочинения эпитафий подвизалось и множество посредственных авторов, а то и просто дилетантов, чьи вирши не представляют художественной ценности. Тем не менее писали стихи такого рода и талантливые представители эллинской литературы. Случалось, что поэт даже писал при жизни собственную «автоэпитафию» — чтобы потом, после кончины, ее выбили на его надгробном памятнике. Видимо, поступали так потому, что не хотели доверить столь ответственное дело другим: а то вдруг еще «напортачат», сотворят бездарную надпись, а под ней лежать и лежать… Человеку с тонким литературным вкусом (а писатель по определению является таковым) такая перспектива должна была представляться болезненной.
Буквально только что нам встретилась «автоэпитафия», принадлежащая Носсиде. Но даже и такой гигант, как Эсхил, афинский драматург V века до н. э., поступил не иначе.
Евфорионова сына Эсхила Афинского кости
Кроет собою земля Гелы, богатой зерном;
Мужество помнят его Марафонская роща и племя
Длинноволосых мидян, в битве узнавших его.
(Эсхил. Палатинская антология. II. 17)
Это он сам написал о себе. И, кстати, обратим внимание на удивительную вещь, которая приводила и приводит в замешательство специалистов: в эпитафии себе самому Эсхил в качестве главного дела жизни указал не свои великие трагедии, заложившие основу европейского театра, а свое участие в Марафонской битве с персами («мидянами», как они тут названы).
А теперь всмотримся (или вчитаемся, так сказать) в соответствующее стихотворение Аниты и вообразим себе ситуацию, которую оно подразумевает. Эпитафия будто бы написана на «памятнике», который девочка Миро поставила над «могилой» внезапно умерших кузнечика (акриды) и цикады, своих «домашних животных». Видите, даже выражение «домашние животные» приходится здесь поставить в кавычках. Еще можно представить себе погребение, скажем, любимой кошки (и автору знакомы такие случаи), но надгробная надпись насекомым?! Поневоле улыбнешься. Несомненно, именно на такой эффект и рассчитывала поэтесса.
Итак, перед нами, повторим, своеобразный юмор. А теперь вспомним: мы долго и подробно, на протяжении ряда глав знакомились с наследием Сапфо, постоянно приводили из нее цитаты, порой пространные, и в общем-то все основные черты ее творчества, думается, отразили. И можно было заметить, что среди таких черт склонности к юмору отнюдь нет. Она всегда предельно серьезна и этим не похожа, скажем, на Анакреонта, у которого как раз вполне можно (и неоднократно) встретить шутливые высказывания.
Продолжая разговор об Аните, заметим еще, что одна из ее вышеприведенных эпиграмм («Надпись у родника») являет собой блестящую пейзажную зарисовку. Таких у нее есть несколько. Может быть, здесь можно констатировать влияние Сапфо? Последняя, как мы тоже уже знаем, отличалась даром тонко, прочувствованно описывать природу.
Да, отличалась. Но не она одна: то же самое можно сказать и о ряде других архаических греческих лириков — об Алкее, Алкмане… Так что подражание Аниты стихам именно Сапфо в данном случае можно разве что осторожно предположить, для уверенных утверждений на сей счет достаточных оснований нет.
Вроде бы ближе к лесбосской поэтессе стоит Носсида. В частности, ее главная, самая известная эпиграмма «О любви» написана, казалось бы, на вполне сапфическую тему. Но это опять же только первое впечатление, да и то оно сложится только в том случае, если пробежать по строкам поверхностным взглядом.
То есть тема-то, конечно, действительно одна и та же — любовь. Но вот трактовки этого чувства у Сапфо и Носсиды совсем непохожи. Для второй любовь — это только счастье, только радость и сладость. А разве так у Сапфо? Нет, мы знаем, что для митиленянки любовь — вещь куда более сложная и неоднозначная, «горько-сладостный Эрос», несущий не только утехи, но и страдания, муки.
Тем не менее характерно, что Носсида в «автоэпитафии» прямо упоминает имя Сапфо, сравнивает себя с ней, пытается уподобиться ей славой. И в этом она отнюдь не одинока. Справедливо отмечалось
[178], что «женская» традиция в греческой поэзии эллинистической эпохи все-таки развивалась под очень сильным воздействием творчества нашей героини — даже если та или иная представительница этой поэзии так или иначе отклонялась от «сапфического» духа.
Мы бы сказали, что практически все эллинские поэтессы, начиная как минимум с Эринны, а может быть, уже и с Праксиллы, ориентировались именно на великую митиленянку (другой вопрос, что не всем удавалось приблизиться к ней в равной степени), поскольку боготворили ее. Да и только ли поэтессы (то есть женщины)?
В том же III веке до н. э., в той же Александрии Египетской жил и работал поэт-эпиграмматист Диоскорид. Его тоже относят к «певцам любви», и относят оправданно. Достаточно перечислить названия нескольких его важных стихотворений: «Возлюбленной», «Пожар любви», «Раб любви»… Не приходится удивляться тому, что и он однажды решил сочинить своего рода «гимн Сапфо»:
Любящим юным в любви опора сладчайшая, вместе
С музами славит тебя вся Пиерия, Сапфо.
Иль Геликон, весь поросший плющом, вдохновением с ними
Равную, музой тебя чтит эолийский Эрес;
Иль, где «Гимен» Гименей восклицает, сверкающий факел
Рядом с тобою стоит там, где невесты покой;
Или Киприде, скорбящей об отпрыске новом Кинира,
Ты, сострадая, богов рощи священные зришь;
Богоподобная, всюду ликуй, госпожа, — твои песни
Ценим не менее мы песен бессмертных сестер.
(Диоскорид. Палатинская антология. VII. 407)
Как любой эллинистический писатель, Диоскорид, конечно, нагромождает в небольшом количестве строк массу аллюзий на реалии, которые даже и в его времена были понятны лишь образованной публике, а уж в наши-то дни однозначно являются уделом знания узких специалистов. К таковым, увы, принадлежит и автор этих строк. Так что опять приходится приступить к разъяснениям.
Пиерия — местность близ знаменитого Олимпа; Геликон — гора в Беотии. И с Пиерией, и с Геликоном греки связывали муз, так что не удивительно встретить упоминания этих топонимов в стихотворении, в котором Сапфо, по обыкновению, уподобляется музам («бессмертные сестры» в последней строке эпиграммы — это, естественно, они же). Далее, «отпрыск Кинира» — Адонис, знаменитый возлюбленный Афродиты, о котором речь уже шла. Есть в эпиграмме Диоскорида и известный уже нам «эолийский Эрес» (под «эолийским» имеется в виду, конечно, «лесбосский»), — кстати, лишнее доказательство того, что именно Эрес был местом рождения нашей героини, а не Митилена.
Однако же Митилена, «столица» Лесбоса, чем дальше, тем больше начинала претендовать на преимущественную связь с великой уроженкой острова. Всем, конечно, знакома такая вещь, как мемориальные монеты. Даже те, кто не слышал самого этого термина, наверняка держали в руках, скажем, юбилейный рубль (если им довелось пожить в советскую эпоху) или уж в крайнем случае какие-нибудь современные десятирублевки, у которых на аверсе вместо двуглавого орла какое-нибудь иное изображение (отражающее, например, пятидесятилетие полета Гагарина в космос, или вид города Кемь, или что-то другое).
В какой-то момент мода на подобные монеты-сувениры появилась и у греков. Правда, довольно поздно: в те времена, когда эллинские полисы не являлись уже независимыми государствами, а входили в состав Римской империи. Читаем на монетах Митилены: «Сапфо», «Псапфо» (последнее, видимо, ради вящей «архаичности»; варианты написания имени поэтессы разбирались в одной из предыдущих глав). И рядом с надписью — изображение некой женщины, которая по замыслу тех, кто придумал всё это дело, очевидно, должна была являть собой поэтессу. А кто ж мог знать, как она на самом деле выглядела? Фотографического искусства заведомо не было, портретов Сапфо при жизни не писали, так что можно было воспроизводить ее облик
ad libitum, то есть по собственному усмотрению.
Эрес, впрочем, тоже не отставал. На монетах этого городка, отчеканенных примерно в то же время, читаем: «Сапфо», «Саффо»
[179] — и опять же некие изображения. Можно, пожалуй, даже говорить о некой борьбе между Митиленой и Эресом за имя Сапфо — борьбе, ведшейся нумизматическими средствами. А почему бы и нет? Как раз в это время Самос начал выпускать аналогичные мемориальные монеты в честь Пифагора — самого знаменитого из уроженцев этого острова. И ведь, полагаем, начал он это делать в пику другому греческому городу — Кротону. В Кротон Пифагор перебрался с Самоса, там прожил много лет, именно там и прославился… Кротон, пожалуй, имел больше прав на Пифагора, если так можно выразиться. А Самосу, однако, захотелось-таки напомнить, что именно он — родина прославленного мудреца. Вот и были отчеканены соответствующие монеты. Кстати, даже и на нынешнем Самосе главный населенный пункт — город Пифагорио.
Наверное, при желании могли бы и лесбосцы как-нибудь так переименовать свою «столицу», чтобы ее название прямо или косвенно напоминало о Сапфо. Слава богу, они этого не сделали. Пусть Митилена останется Митиленой (Митилини — так произносят современные греки, об этом уже говорилось). Митилена навсегда останется связанной с именем Сапфо. Точнее, с именами Сапфо, Алкея и — все-таки! — Питтака (но кто сейчас помнит о Питтаке?).
* * *
А теперь — о римском поэте, который просто не может не быть упомянутым в связи с вопросом о судьбе наследия Сапфо в последующие столетия. Это — Гай Валерий Катулл, живший в первой половине I века до н. э. и имеющий заслуженную репутацию, пожалуй, самого тонкого лирика в истории античного Рима. Не самого крупного — Гораций и Овидий признаются фигурами большего масштаба, — но именно самого тонкого.
Блестяще знавший эллинскую литературу Катулл постоянно использовал находки, принадлежащие ее представителям, для создания собственных шедевров. Использовал — не значит, конечно, «слепо копировал». Нет, творчески перерабатывал. Прочтем такое вот его стихотворение:
Кажется мне тот богоравным или —
Коль сказать не грех — божества счастливей,
Кто сидит с тобой, постоянно может
Видеть и слышать
Сладостный твой смех; у меня, бедняги,
Лесбия, он все отнимает чувства:
Вижу лишь тебя — пропадает сразу
Голос мой звонкий.
Тотчас мой язык цепенеет; пламя
Пробегает вдруг в ослабевших членах,
Звон стоит в ушах, покрывает очи
Мрак непроглядный.
От безделья ты, мой Катулл, страдаешь.
От безделья ты бесишься так сильно.
От безделья царств и царей счастливых
Много погибло.
(Катулл. Стихотворения. 51)
Первое, что бросается в глаза, — сапфический стих, которым написана эта изящная вещица. Но главное — в другом. Сравним-ка ее с одним из знаменитейших произведений Сапфо — с тем, которое начинается словами «Богу равным кажется мне по счастью»
(Сапфо. фр. 31 Lobel-Page). Сходство первых трех строф — настолько близкое, что никак не может быть случайным совпадением. Не покидает впечатление: Катулл фактически перевел с древнегреческого языка на латинский творение митиленской поэтессы.
Но это все-таки не перевод в строгом смысле слова, а скорее парафраза, вариация на ту же любовную тему, но, несомненно, навеянная стихами Сапфо. Не она ли, кстати, подразумевается под «Лесбией», упоминаемой Катуллом во второй строфе?
Нет, не она, а Клодия, возлюбленная римского автора, которой тот адресовал многие свои сочинения. Упомянуть эту женщину из знатного рода под ее собственным именем поэту было невозможно: это противоречило тогдашним нормам этикета. Приходилось в таких случаях (не только Катуллу, но и его сотоварищам по ремеслу) прибегать к своего рода псевдонимам.
И, кстати, очень характерно, что в качестве такого «заменяющего» имени для Клодии Катулл взял «Лесбию», что прямой ассоциацией отсылало именно к Сапфо — уроженке Лесбоса. Подобным выбором лирик, несомненно, подчеркивал влияние этой последней на свое литературное творчество.
Однако любовь, описанная им здесь, — однозначно гетеросексуальная, а не гомосексуальная, как у Сапфо. Отметим и еще одно интересное отличие: после трех первых строф, буквально вторящих митиленянке, вдруг появляется четвертая, в ее стихотворении параллели не имеющая. Более того, звучащая резким диссонансом к тому, что было сказано выше. Этакий отрезвляющий душ: дескать, безделье, и только оно, — причина всех этих любовных страданий. Сапфо такого ни за что бы не написала. И не случайно последние две строчки в процитированном памятнике — реминисценция уже не из нее, а из Алкея
[180], поэта, для которого любовная тема была лишь второстепенной.
Впрочем, подражал Катулл нашей героине и в других случаях. Например, сочинял гименеи (эпиталамии), брачные песни, и совершенно несомненно, что делал это под ее воздействием.
О жилец Геликон-горы,
Сын Урании, нежную
Умыкающий девушку
К мужу, о Гименей-Гимен,
О Гимен-Гименею,
Благовонной душицею
Вкруг висков обвяжись, и к нам,
Взяв огнистый покров, явись
Весел, вдев белоснежные
В обувь желтую ноги,
И, взволнованный радостным
Днем, приветствуй венчание,
Возглашай заклинания,
Топай оземь, сосновою
Потрясая свещою!..
Вы же, девушки чистые,
Для которых такие же
Дни настанут когда-нибудь, —
Вместе: «О Гименей-Гимен,
О Гимен-Гименею!»…
Новобрачная, выйди, коль
Ты не против, и выслушай
Нас. Узри же, как светочи
Треплют золотом локонов, —
Новобрачная, выйди…
Не пора ли входить уже,
Муж? — Супружница в спаленке,
Ясным ликом цветущая
Ярче белого девника
Или желтого мака.
Не дадут небожители
Мне соврать! Ты не менее,
Муж, прекрасен, Венерою
Не забыт. Но исходит день, —
Отправляйся ж, не медли!
Ты не слишком медлителен,
И с Венериной помощью
Уж идешь, так как, видимо,
Жаждешь-жаждешь, благой своей
Не скрывая любови…
Девы, двери захлопните! —
Наигрались мы досыта.
Жить, супруги, вам счастливо,
Службу младости радостной
Исполняя прилежно!
(Катулл. Стихотворения. 61)
Перед нами весьма пространный текст (более двухсот строк), фактически даже не стихотворение, а небольшая поэма. Мы привели из нее лишь несколько отрывков, но даже и на их примере легко заметить — сколько здесь мотивов, характерных для Сапфо и, видимо, именно ею впервые введенных в мировую словесность!
Свадебное празднество, на котором присутствующие поют славу Гименею, божеству брака (он считался сыном Урании, одной из муз, потому-то и упомянута гора Геликон, считавшаяся, как уже отмечалось выше, местом обитания этих богинь)… Девушки, гуляющие ночью со «светочами», выкликающие невесту — свою подругу… Похвала той же невесте, сравнение ее с тем или иным цветком, а заодно уж — и подобающая похвала жениху (то есть теперь уже мужу)… Обязательное упоминание Афродиты (у римлянина Катулла она, естественно, Венера)… Всё это — из Сапфо, а откуда же еще?
Еще ближе к ее поэзии стоит другой катулловский эпиталамий:
Вечер настал — пора вам, юноши! Вечер к Олимпу
Долгожданное вот наконец-то светило возносит.
Время вставать, и столы оставить тучные время, —
Дева уже идет, уже Гименей призываем:
«О Гимен-Гименею, явись, о Гимен-Гименею!»
Юношам что ж уступать, молодки? Встаньте напротив!
Ноченосец огонь вовсю являет Этейский.
Так и есть — как они подскочили проворно-то, зришь ли?
[181]Подскочили не зря — запоют, побеждая на равных,
О Гимен-Гименею, явись, о Гимен-Гименею!..
Геспер, какой огонь зияет жесточе на небе?
Дщерь вырываешь ты из материнских объятий.
Из материнских дщерь объятий хранимую, дабы
[182]Юноше пылкому дать малышку чистую, вырвя.
Что вытворяют враги жестокие, град покоривши?
О Гимен-Гименею, явись, о Гимен-Гименею!
Геспер, какой огонь сияет приятней на небе?
Брак скрепляешь ты обещанный пламенем неким,
Как велели мужи, прапращуры древле велели…
Как сокрытый растет цветок за садовой оградой,
Недоступен скоту домашнему, плугом не срезан,
Холимый ветром, дождем питаемый, солнцем крепимый…
Так и дева — зазря стареет, покуда не взята;
Только в равный брак в урочное время вступает,
Больше мужу мила и противна родителям меньше…
(Катулл. Стихотворения. 62)
Стихотворный размер здесь — гекзаметр, как и в некоторых эпиталамиях Сапфо. Этим, однако, сходство не ограничивается. Геспер (вечерняя звезда) в абсолютно аналогичном контексте упоминается в одном из ее сочинений
(Сапфо. фр. 104 Lobel-Page).
Можно обратить внимание еще на следующую деталь: в стихотворении Катулла упоминаются горы Олимп (в самом начале) и Эта («огонь Эгейский» фигурирует несколькими строками ниже). Первая из них особенно знаменита: ведь именно на ней греки (подчеркнем, греки, а отнюдь не римляне!) первоначально помещали своих богов, которые из-за этого так и стали называться — «олимпийскими» или «олимпийцами»). Гора Эта менее известна, но и в связи с ней есть что сказать. В частности, согласно мифам, именно на ней величайший из героев, Геракл, претерпел мученическую смерть — был сожжен заживо, а затем вознесен в сонм небожителей.
Итак, наличие некоего явно греческого образца, на который ориентировался римский лирик, несомненно. Более того, удается определить, в каком месте Греции был создан этот образец. Олимп и Эта изображены как находящиеся на западе, в стороне заката: ведь именно к ним движется Геспер, знаменуя наступление вечера.
Для кого эти горы могли восприниматься как западные? Однозначно не для Катулла: он жил в Риме, в Италии, по отношению к которой вся Эллада расположена на Востоке. Но и отнюдь не для каждого эллина они могли ассоциироваться с западной стороной света. Достаточно взглянуть на карту: Эта — на юге Фессалии, Олимп — на севере той же области, на ее границе с Македонией. Фессалия же является регионом в северо-восточной части Балканской (материковой) Греции.
На западе же Олимп и Эта были для тех эллинов, которые обитали, соответственно, далее, на востоке. Иными словами, для жителей островов Эгейского моря (и, конечно, еще Ионии). Лесбос как раз принадлежал к этим островам.
Итак, коль скоро известно, что Сапфо создавала эпиталамии и жила в таком месте, по отношению к которому Олимп и Эта находились на западе, уже и совсем не приходится сомневаться в том, что Катулл в вышецитированном памятнике подражает именно ей. Кстати, и очередное уподобление невесты цветку свидетельствует о том же самом.
Но, перелагая песнь митиленянки на латынь, внес ли в нее римлянин что-то от себя? Пожалуй, все-таки да. Гименеи Сапфо написаны так, чтобы исполняться хором девушек. А этот, катулловский, который мы здесь рассматриваем, построен по иному принципу: он представляет собой как бы диалог двух хоров, один из которых состоит из юношей, а второй — из девушек. Причем первым вступает юношеский хор; от лирики Сапфо такого было бы трудно ожидать.
* * *
Ушла в прошлое древнегреческая цивилизация, ушла за ней и римская. Закончилась античность, началось круговращение иных, новых, исторических эпох. Средние века, на протяжении большей части которых культурное наследие Эллады было в Западной Европе временно забыто (память о нем сохранялась лишь в грекоязычной Византии)… Возрождение, или Ренессанс, — период, характеризовавшийся, напротив, резким возрастанием интереса к этому наследию (собственно, и сам-то период получил такое название потому, что гуманисты в Италии и других европейских странах активно
возрождали именно античные традиции)… Классицизм, продолжавший и закреплявший ту же линию «равнения на античность» (в большинстве европейских стран античную, то есть греко-римскую, эпоху принято называть
классической античностью[183], так уж повелось; отсюда и слово «классицизм»)… Просвещение, представители которого — Вольтер, Монтескье, Дидро и др. — брали за образец опять же эллинских философов-просветителей… И вот мы в начале XXI века.
Времена менялись, а Сапфо оставалась. Неодинаковым, очень неодинаковым было отношение к ней в различные исторические эпохи
[184]. В наши дни оно обрело свою, особую специфику, — безусловно, в связи с резкой активизацией дискурса, связанного с гендером, с проблемой полов, с сексуальными меньшинствами и их правами. Вспомнили, конечно, о том, что у великой митиленянки есть любовные стихи, адресованные женщинам же, и, естественно, приписали ее к «лицам нетрадиционной ориентации».
Что можно сказать по этому поводу? Для своего времени она была лицом вполне традиционной ориентации и прожила жизнь, какую и должна была прожить нормальная гениальная гречанка. Парадоксально, но факт: с одной стороны, выражения «лесбиянка», «лесбийская любовь» и т. п. появились в современном словоупотреблении потому, что когда-то на Лесбосе писала свои стихи Сапфо; с другой же стороны, сама она никак не могла ожидать, что такое специфическое развитие получат — века и века спустя — ее творческие усилия. Уж точно решимся сказать, что в кругу «лесбиянок» наших дней она не чувствовала бы себя комфортно. Ее круг — девушки-ученицы, ожидающие (и жаждущие!) замужества, а пока оно не наступило — предающиеся в общем-то невинным радостям своей девичьей дружбы-влюбленности…
Как бы то ни было, Сапфо теперь уже навсегда останется с нами (или мы — с Сапфо?). Завершить наш рассказ о ней хотелось бы парой эпитафий, принадлежащих перу лесбосской поэтессы. Да, она работала и в этом жанре, почтила стихотворными надгробными надписями память нескольких женщин (наверняка не чужих ей, а, видимо, умерших подруг).
Дети! Вы спросите, кто я была. За безгласную имя
Не устают возглашать эти у ног письмена.
Светлой деве Латоны меня посвятила Ариста,
Дочь Гермоклида; мне был прадедом Саинеад.
Жрицей твоей, о владычица жен, величали Аристу;
Ты же, о ней веселясь, род наш, богиня, прославь
[185].
(Сапфо. Палатинская антология. VI. 269)
Тело Тимады — сей прах. До свадебных игр Персефона
Свой распахнула пред ней сумрачный брачный чертог.
Сверстницы, юные кудри отсекши острым железом.
Пышный рассыпали дар милой на девственный гроб.
(Сапфо. Палатинская антология. VII. 489)
А вот Сапфо никто так и не написал эпитафии, какая была бы достойна ее таланта. Все-таки ни одна поэтесса равного с ней масштаба в античности так и не родилась…
ИЛЛЮСТРАЦИИ[186]

Сапфо (?). Фреска из Помпей. Неаполь, Национальный археологический музей

Вид Лесбоса из космоса и расположение городов на карте острова

Природа Лесбоса

Сапфо. Римская копия I–II вв. с оригинала работы Силаниона IV в. до н. э. Рим, Капитолийские музеи

Изображение женской головы на скифосе. Вазописец Армидали. Около 340 г. до н. э. Берлин, Старый музей
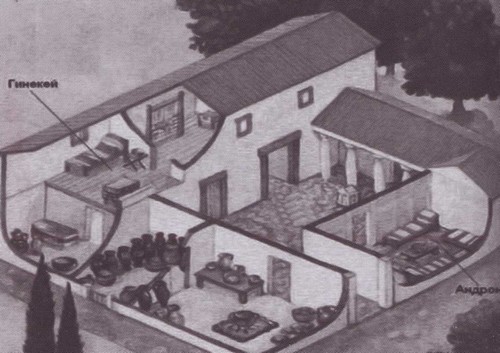
Древнегреческий жилой дом. Реконструкция

Сапфо готовится ко сну. Художник Ш. Глейр. 1867 г. Лозанна, Кантональный музей изящных искусств

Сцена из жизни гинекея. Древнегреческая вазопись

Сицилия. Греческий театр в Тавромении (Таормине) III века до н. э. и вид на вулкан Этна. Современный вид

Лесбос. Главный город острова — Митилини (Митилена). Современный вид

Сапфо. Художник Г. Климт. 1888–1890 гг. Вена, Исторический музей

Сарды. Храм Артемиды. Турция. Современный вид

Парнас — обиталище муз. В центре — бог Аполлон. Слева с кифарой и свитком — Сапфо. Художник Рафаэль. Фреска. 1510–1511 гг. Ватикан, Апостольский дворец

Эрато — муза любовной поэзии. Римская копия II в. с греческого оригинала. Найдена в 1774 г. в Тиволи, вилла Кассия. Ватикан, Музей Пия Климента

Афродита Книдская. Римская копия II–III вв. с оригинала работы Праксителя около 350 г. до н. э. Ватикан, Музей Пия Климента

Арион. Художник Ф. Буше. 1749 г. Нью-Йорк, Метрополитен-музей
![]()
border=0 style='spacing 9px;' src="/i/60/361560/i_017.jpg">
Античные греческие лира и кифара. Реконструкции XIX в. Брюссель, Музей музыкальных инструментов

Кифаред. Краснофигурная вазопись. «Берлинский мастер». V в. до н. э. Нью-Йорк,Метрополитен-музей

Сапфо, играющая на кифаре. Художник Ж. Э. Делоне. 1877 г. Брест (Франция), Музей изящных искусств

Алкей и Сапфо. Краснофигурная вазопись. 470 г. до н. э. Мюнхен, Государственное античное собрание

Сапфо и Алкей (?). Терракотовая пластина. 460 г. до н. э. Лондон, Британский музей

Алкей и Сапфо. Художник Дж. У. Кук. Фрагмент гравюры «Двадцать поэтов». 1825 г.

Сапфо и Алкей. Художник Л. Альма-Тадема. 1881 г. Балтимор (США), Художественный музей Уолтерса

Сапфо и митиленяне. Художник Л. Г. Леру. 1888 г. Верден (Франция), Музей средневековой культуры

Сапфо. Художник Ф. К. Джонс. 1895 г. Частная коллекция

Поэтесса Сапфо. Античный бюст из Смирны (Измир). Стамбул, Археологический музей

Юноша, приносящий жертву вином. Краснофигурная вазопись. Около 480 г. до н. э. Париж, Лувр

Сцена на симпосиуме. Краснофигурная вазопись. 490–480 гг. до н. э. Лондон, Британский музей

Тетрадрахма 500–465 годов до н. э. из Эретрии, остров Эвбея. Изображения коровы и осьминога символизируют плодородие и освоение новых заморских земель

Митиленская монета 400–350 годов до н. э. с изображением Сапфо

Гетера, играющая в коттаб. Краснофигурная вазопись. Около 500 г. до н. э.

Женщина, играющая на авлосе (флейте), и танцующая девушка. Белофигурная вазопись. 490–485 гг. до н. э. Афины, Музей кикладского искусства Н. П. Гуландриса

Руины Трои. Турция. Современный вид

Анакреонт. Античный римский бюст II–III вв. н. э. Париж, Лувр

Питтак. Римская копия I–II вв. н. э. с греческого оригинала IV в. до н. э. Париж, Лувр
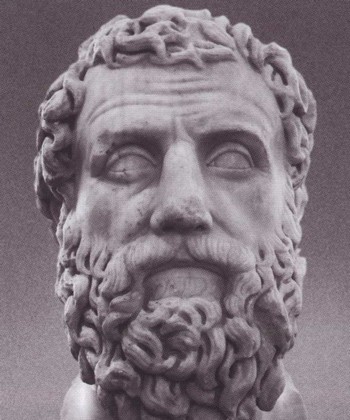
Архилох. Римская копия II в. н. э. с греческого оригинала IV в. до н. э.Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина

Солон. Античный римский бюст II–III вв. н. э. Неаполь, Национальный археологический музей

Пиндар. Римская копия II в. н. э. с греческого оригинала V в. до н. э.Рим, Капитолийские музеи

Поэт (возможно, Симонид Кеосский). Античная статуя. Париж, Лувр

Сапфо. Античный бюст из Геркуланума, вилла Лизани. Неаполь, Национальный археологический музей

Адонис. Скульптор Б. Торвальдсен. До 1832 г. Мюнхен, Новая Пинакотека

Лирическая поэзия. Фреска Г. О. Уокера. 1896 г. Вашингтон, Библиотека Конгресса

Сапфо читает стихи своим ученицам. Краснофигурная вазопись. 440–430 гг. до н. э. Афины, Национальный археологический музей

Порт в Навкратисе — греческой торговой колонии в дельте Нила. Реконструкция

Сафо и Эринна в саду Митилены. Художник С. Соломон. 1864 г. Лондон, Галерея Тейт-Британия

Сафо и Фаон. Художник Ж. Л. Давид. 1794 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж

Левкадская скала. Греция, остров Левкада. Современный вид

Сапфо на Левкадской скале. Художник Т. Шассерио. 1840 г. Париж, Лувр

Храм Амона-Ра в древних Фивах. Египет, Луксор. Современный вид

Египетские пирамиды. Каир, Гиза. Современный вид

Платон. Римская копия I–II вв. с оригинала работы Силаниона 370 г. до н. э. Рим, Капитолийские музеи

Во времена Сапфо. Художник Дж. У. Годвард. 1904 г. Лос-Анджелес, Музей Гетти

Александрийская библиотека. Гравюра XIX в.

Фрагменты греческого папируса со стихотворением Сапфо. III в. до н. э. Берлин, Старый музей

Овидий. Фреска Л. Синьорелли. 1499–1502 гг. Орвието, Кафедральный собор

Катулл. Гравюра на фронтисписе книги «Стихотворения Гая Валерия Катулла». Лондон, 1795 г.

Сапфо. Памятник в Митилини (Митилене). Греция
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САПФО[187]
VIII–VI вв. — архаическая эпоха истории Древней Греции. Формирование полисов, рождение «греческого чуда».
VII–VI вв. — «лирический век Греции». Расцвет Лесбоса.
Вторая половина VII — начало VI в. — жизнь и творчество лесбосского лирика Алкея.
Около 630 — одна из возможных датировок рождения Сапфо.
Около 620— свержение олигархии Пенфилидов в Митилене.
610-е — тирания Меланхра в Митилене.
Между 612/611 и 609/608 — наиболее вероятная датировка рождения Сапфо.
Около 610 — свержение и убийство Меланхра. Начало войны Афин и Митилены из-за Сигея. Впервые отличается Питтак.
600-е — тирания Мирсила в Митилене.
Между 603/602 и 596/595 — Сапфо (видимо, с родителями) находится на Сицилии.
Около 595 — Сапфо выходит замуж за Керкила. Рождение дочери Клеиды.
590–580 — Питтак правит Митиленой в качестве эсимнета.
570–526 — правление фараона Амасиса (Яхмоса II) в Египте.
560-е — брат Сапфо Харакс посещает с торговыми целями Египет. Его роман с гетерой Дорихой (Родопис), стихи Сапфо, написанные по этому поводу.
После 560-х — кончина Сапфо (более точная дата не определяется).
Рубеж IV–III вв. — писатель Хамелеонт создает труд о Сапфо.
III в. — тщательное изучение творчества Сапфо филологами в Александрийской библиотеке. Подражания греческих поэтов и поэтесс ее стихам.
I в. — римские поэты Катулл и Овидий подпадают под влияние Сапфо.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Античная лирика / Сост. и прим. С. Апта и Ю. Шульца. М., 1968.
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995.
Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995.
Греческая эпиграмма / Изд. подг. Н. А. Чистякова. СПб., 1993.
Доватур А. И. Феогнид и его время. Л., 1989.
Женщина в античном мире. М., 1995.
Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 2: Богослужебные и сценические древности. СПб., 1997.
Мякин Т. Г. Сапфо: Аспекты истории семантических трансформаций. Новосибирск, 1999.
Мякин Т. Г. Сапфо: Язык, мировоззрение, жизнь. СПб., 2004.
Мякин Т. Г. Через Кельн к Лесбосу: встреча с подлинной Сапфо. Новосибирск, 2012.
Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. М., 2002.
Снелль Б. Греческая метрика. М., 1999.
Суриков И. Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. М., 2012.
Эллинские поэты VIII–III веков до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика / Изд. подг. М. Л. Гаспаров и др. М., 1999.
Примечания
1
См. по этой проблеме:
Thomas R. Literacy and Orality in Ancient Greece. Cambridge, 1999; Politics of Orality / Ed. by C. Cooper. Leiden; Boston, 2007; Sacred Words: Orality, Literacy and Religion / Ed. by A. P. M. H. Lardinois, J. Blok, M. G. M. van der Poel. Leiden; Boston, 2011.
(обратно)
2
От древнегреческого слова «симпосий» (
symposion), означающего буквально «совместная попойка», произошел современный, ставший частью интернациональной научной лексики термин «симпозиум». Разумеется, нынешние ученые собираются на свои симпозиумы ради обсуждения какой-нибудь спорной проблемы, а не ради совместного пития (хотя и последнее, как правило, присутствует в качестве завершающей, «неофициальной» части мероприятия).
(обратно)
3
Мякин T. Г. Сапфо: Язык, мировоззрение, жизнь. СПб., 2004.
(обратно)
4
Мякин Т. Г. Сапфо: Аспекты истории семантических трансформаций. Новосибирск, 1999;
он же. Через Кельн к Лесбосу: Встреча с подлинной Сапфо. Новосибирск, 2012.
(обратно)
5
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: Рассказы о древнегреческой культуре. М., 1995. С. 96–97.
(обратно)
6
Wilamowitz-Moellendorff U. von. Sappho und Simonides: Untersuchungen über griechische Lyriker. B., 1913.
(обратно)
7
О значимости фигуры Симонида, которая стала намного яснее после открытия на папирусах новых фрагментов этого поэта, см. коллективную монографию: The New Simonides: Contexts of Praise and Desire. Oxf., 2001.
(обратно)
8
Page D. L. Sappho and Alcaeus: An Introduction to the Study of Ancient Lesbian Poetry. Oxf., 1955.
(обратно)
9
Bowie A. M. The Poetic Dialect of Sappho and Alcaeus. N. Y., 1981.
(обратно)
10
Burnett A. P. Three Archaic Poets: Archilochus, Alcaeus, Sappho. Cambridge Mass., 1983.
(обратно)
11
Напр.:
Duban J. M. Ancient and Modem Images of Sappho. Lanham, 1983;
Snyder J. M. Lesbian Desire in the Lyrics of Sappho. N. Y., 1997;
Yatromanolakis D. Sappho in the Making: An Anthropology of Reception. Cambridge Mass., 2006.
(обратно)
12
Yatromanolakis D. Alcaeus and Sappho // The Cambridge Companion to Greek Lyric. Cambridge, 2009. P. 226.
(обратно)
13
См. новейшую работу:
Noussia-Fantuzzi M. Solon the Athenian, the Poetic Fragments. Leiden — Boston, 2010. В ней — и текст стихов Солона с подробнейшим комментарием, и почти исчерпывающий перечень того, что было о них написано.
(обратно)
14
Суриков И. Е. Геродот. М., 2009;
он же. Сократ. М., 2011;
он же. Пифагор. М., 2013.
(обратно)
15
В связи с этим см.:
Суриков И. Е. Война как фактор политогенеза в архаической и классической Греции: к вопросу о направленности воздействия // Восточная Европа в древности и Средневековье. Миграции, расселение, война как факторы политогенеза. М., 2012. С. 240–245.
(обратно)
16
См.
Суриков И. Е. Удаляющиеся амазонки (Гендерная мифология и гендерная география в древнегреческих потестарных представлениях) // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2009. № 17. С. 7–39.
(обратно)
17
Все данные по населению очень приблизительны. В греческих полисах чрезвычайно редко проводились переписи населения, да и при этих переписях обычно учитывались только граждане; женщины, дети, рабы в круг интересов переписчиков не входили. К тому же до нашего времени не дошли данные почти ни одной переписи населения в Древней Греции.
(обратно)
18
Reger G. Islands with One Polis versus Islands with Several Poleis // The Polis as an Urban Centre and as a Political Community. Copenhagen, 1997. P. 450–492.
(обратно)
19
Подробнее по этой проблематике см.:
Суриков И. Е. Адам и… Адам (К вопросу о специфике гендерных ролей в условиях античного греческого полиса) // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2006. № 12. С. 23–47.
(обратно)
20
Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. М., 2002. С. 14.
(обратно)
21
См. интересные методологические замечания по этому поводу в работе:
Махлаюк А. В. Идеи и подходы исторической антропологии в изучении римской армии // Древнее Средиземноморье: Религия, общество, культура. М., 2005. С. 83–113.
(обратно)
22
Репина Л. П. Указ. соч. С. 29.
(обратно)
23
Ср.:
Schaps D. The Woman Least Mentioned: Etiquette and Women’s Names // Classical Quarterly. 1977. Vol. 27. No. 2. P. 323–330.
(обратно)
24
Об Аспасии и ее отношениях с Периклом см.:
Кравчук А. Перикл и Аспасия. М., 1990;
Henry М. М. Prisoner of History: Aspasia of Miletus and her Biographical Tradition. Oxf., 1995.
(обратно)
25
Connor W. R. Thucydides. Princeton, 1984. P. 67.
(обратно)
26
Суриков И. Е. Женщины в политической жизни позднеархаических и раннеклассических Афин: истоки феминизма или матримониальная традиция? // Античный мир и его судьбы в последующие века. М., 1995. С. 45–46.
(обратно)
27
О суде над Аспасией (конец 430-х годов до н. э.) в контексте других скандальных судебных процессов этого времени см.:
Prandi L. I processi contro Fidia, Aspasia, Anassagora e l’opposizione a Pericle // Aevum. 1977. Vol. 51. Fasc. 1/2. P. 10–26;
Raaflaub K. Den Olympier herausfordern? Prozesse im Umkreis des Perikles // Große Prozesse im antiken Athen. München, 2000. S. 97–113.
(обратно)
28
Есть мнение, что собственно правовое положение афинских женщин было не столь уж и приниженным, как обычно представляют. См.:
Dimakis P. D. Quelques remarques à propos de la position juridique des athéniennes (Atthides) à l’époque classique // Symposion 1985: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1989. S. 221–231.
(обратно)
29
О жанровых особенностях аристофановской комедии см.:
Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания афинян во второй половине V века до н. э.: Софокл, Еврипид и Аристофан в их отношении к традиционной полисной религии. М., 2002. С. 197–218, 273–282 (с указаниями на предшествующую литературу).
(обратно)
30
Апатурии — один из афинских праздников.
(обратно)
31
Ахарны — дем (поселок) неподалеку от Афин.
(обратно)
32
См.:
Суриков И. Е. Геродот и «похищение Европы»: первый грандиозный этноцивилизационный миф в истории Запада // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 21. Специальный выпуск: Исторические мифы и этнонациональная идентичность. М., 2007. С. 149–160.
(обратно)
33
Напр.:
Гуторов В. А. Античная социальная утопия: Вопросы истории и теории. Л., 1989. С. 136 слл.
(обратно)
34
Блестящее изложение теории карнавальной культуры см. в классическом труде:
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М., 1990. Приложение концептуальных построений Бахтина к наследию Аристофана см.:
Суриков И. Е. Эволюция религиозного сознания… С. 273 слл.
(обратно)
35
Специальное и правомерное подчеркивание того важного момента, что не следует сводить общественную жизнь в полисе к одной политике, что были и другие важные формы коллективной деятельности, см. в работе:
Schmitt-Pantel P. Collective Activities and the Political in the Greek City // The Greek City: From Homer to Alexander. Oxf., 1991. P. 199–213. О той важнейшей роли, которую играла в греческом полисе религия, см.:
Sourvinou-Inwood Chr. What is Polis Religion? // The Greek City: From Homer to Alexander. Oxf., 1991. P. 292–322.
(обратно)
36
См. по этой тематике:
Henderson J. The Maculate Muse: Obscene Language in Attic Comedy. 2 ed. Oxf., 1991.
(обратно)
37
Gerö E.-C., Johnsson H.-R. Where were the Women When the Men Laughed at Lysistrata? An Inquiry into the Question Whether the Audience of the Old Comedy Also Included Female Spectators // Eranos. 2001. Vol. 99. P. 87–99.
(обратно)
38
Напр.:
Репина Л. П. Указ. соч. С. 17.
(обратно)
39
Humphreys S. C. The Family, Women and Death: Comparative Studies. L., 1983. P. 22–32;
Jameson M. Private Space and the Greek City // The Greek City: From Homer to Alexander. Oxf., 1991. P. 171–195;
Hunter V. J. Policing Athens: Social Control in the Attic Lawsuits, 420–320 В. C. Princeton, 1994. P. 120–153.
(обратно)
40
См., например:
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. Репр. изд. М., 1994. Гл. 4. С. 8–9.
(обратно)
41
См., например:
Cahill N. Household and City Organization at Olynthus. New Haven, 2002.
(обратно)
42
Jameson M. Op. cit. P. 172, 184.
(обратно)
43
Феномен греческого симпосия стал в последнее время предметом активного исследовательского внимания. В частности, его основные аспекты разбираются в коллективном труде: Sympotica: A Symposium on the Symposion / Ed. by О. Murray. Oxf, 1990.
(обратно)
44
См. о древнегреческих бракоразводных процедурах:
Jones J. W. The Law and Legal Theory of the Greeks: An Introduction. Oxf., 1956. P. 181 ff;
Cohn-Haft L. Divorce in Classical Athens // JHS. 1995. Vol. 115. P. 1–14.
(обратно)
45
Архонт — одно из высших должностных лиц в античных Афинах. Именно архонт ведал делами о разводе.
(обратно)
46
По поводу наложниц у греков см.:
Mossé С. La place de la pallakê dans la famille athénienne // Symposion 1990: Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1991. S. 273–279.
(обратно)
47
Lape S. Solon and the Institution of the «Democratie» Family Form // Classical Journal. 2002/2003. Vol. 98. No. 2. P. 117–139.
(обратно)
48
См.:
Maffi A. Matrimonio, concubinato e filiazione illegitima nell’Atene degli oratori // Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Köln, 1989. S. 177–214.
(обратно)
49
Укажем классическое исследование К. Довера, в котором подведены итоги многолетних работ целого ряда ученых (ссылаемся на немецкое издание книги, как на более позднее во времени по сравнению с первоначальным английским и, соответственно, более полное:
Dover К. J. Homosexualität in der griechischen Antike. München, 1983). См. также:
Robinson D. M., Pluck E. J. A Study of the Greek Love-names Including a Discussion of Paederasty and a Prosopographia. Baltimore, 1937.
(обратно)
50
Указание «Lobel-Page», здесь и далее помещаемое (такова принятая практика) после номера фрагмента, означает, что стихи Сапфо цитируются по изданию:
Lobel E., Page D. L. Poetarum Lesbiorum fragmenta. Oxf., 1968.
(обратно)
51
Pomeroy S. B. Goddesses, Whores, Wives and Slaves: Women in Classical Antiquity. L., 1994.
(обратно)
52
Этот момент, на взгляд автора, наиболее удачно оттенен в монографии:
Just R. Women in Athenian Law and Life. L., 1989. P. 217 ff.
(обратно)
53
Schaps D. The Woman…
(обратно)
54
Ходза Е. Н. Гротеск в эллинистической коропластике // Вестник древней истории. 2006. № 3. С. 157.
(обратно)
55
См. о них:
Суриков И. Е. Проблемы раннего афинского законодательства. М., 2004. С. 102 слл.
(обратно)
56
См. в связи с этим:
Bruit-Zaidman L. Temps rituel et temps féminin dans la cité athénienne au miroir du théâtre // Constructions du temps dans le monde grec ancien. R, 2000. P. 155–168.
(обратно)
57
Эллинские поэты VIII–III веков до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров и др. М., 1999. С. 237–240.
(обратно)
58
Подробнее см.:
Суриков И. Е. Сократ. М., 2011. С. 53 слл.
(обратно)
59
Захарова Е. А. Чародейки в греческой мифологии // Историческое знание: теоретические основания и коммуникативные практики. М., 2006. С. 324–327.
(обратно)
60
Репина Л. П. Указ. соч. С. 26.
(обратно)
61
Там же. С. 24.
(обратно)
62
Дальнейшее было подробнее развито нами в статье:
Суриков И. Е. Динамика гендерной ситуации в аристократических и демократических Афинах // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2007. № 14. С. 87–112.
(обратно)
63
См. к проблеме:
Андреев Ю. В. Спартанская гинекократия // Женщина в античном мире. М., 1995. С. 44–62.
(обратно)
64
Суриков И. Е. Женщины в политической жизни…
(обратно)
65
Loraux N. The Invention of Athens: The Funeral Oration in the Classical City. Cambridge Mass., 1986. P. 24.
(обратно)
66
См. об этой эволюции:
Verntant J.-P. Myth and Society in Ancient Greece. Brighton, 1980. P. 45–68.
(обратно)
67
В целом о Писистрате см.:
Суриков И. Е. Античная Греция: Политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 151–210.
(обратно)
68
Об этих и других «политических» браках греческих тиранов см.:
Gernet L. Anthropologie de la Grèce antique. P., 1968. P. 344–359.
(обратно)
69
Имя девушки источники опять же прямо не называют. Его удается установить путем комбинации косвенных соображений, но, впрочем, достаточно надежно. См.:
Shear T. L. Koisyra: Three Women of Athens // Phoenix. 1963. Vol. 17. No. 2. P. 99–112.
(обратно)
70
Это, однако, была не последняя страница в сложной истории матримониальных контактов Писистратидов и Алкмеонидов. В 520-х годах до н. э., уже после смерти Лисистрата, новый тиран — его сын Гиппий — выдал свою дочь замуж за Гиппократа, сына Мегакла
(Bicknell P. J. Athenian Politics and Genealogy: Some Pendants // Historia. 1974. Bd. 23. Ht. 2. S. 152 ff.). Кстати, по причине всех этих непростых брачных комбинаций великий Перикл, самый яркий деятель афинской демократии, был по материнской линии праправнуком тирана Лисистрата.
(обратно)
71
Подробнее вопрос разбирается в работе:
Суриков И. Е. Геродот о древнегреческих законах//Древнее право. 2008. № 1 (21). С. 20–26.
(обратно)
72
Фемистокл был не лидером демократической группировки, как у нас долго было принято считать, и тем более не выходцем из демоса, а политиком вполне аристократического типа. См.:
Frost F. J. Themistocles’ Place in Athenian Politics // California Studies in Classical Antiquity. 1968. Vol. 1. P. 105–124.
(обратно)
73
О ней см.:
Ridgway D. Greek Letters at Osteria dell’Osa // Opuscula Romana. Vol. 20. Stockholm, 1996. P. 87–97.
(обратно)
74
Хотя, судя по всему, знали о существовании таковой. См. к вопросу:
Gavrilov А. К. Techniques of Reading in Classical Antiquity // Classical Quarterly. 1997. Vol. 47. No. 1. P. 56–73.
(обратно)
75
Маяковский В. В. Сочинения: В 2 т. T. 1. М., 1987. С. 358–359.
(обратно)
76
Об античных метрах и метрике (то есть системе метров) см. великолепную работу, переведенную на русский язык:
Снелль Б. Греческая метрика. М., 1999.
(обратно)
77
Эта особенность их исполнения хорошо отражена в известной книге:
Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994.
(обратно)
78
В связи с нынешним состоянием так называемого гомеровского вопроса сошлемся на новейшую фундаментальную монографию:
Nagy G. Homer the Preclassic. Berkeley, 2010.
(обратно)
79
Burn A. R. The Lyric Age of Greece. L., 1978.
(обратно)
80
Burgess J. S. The Tradition of the Trojan War in Homer and in the Epic Cycle. Baltimore, 2001. P. 251;
Lamberton R. Ancient Reception //A Companion to Ancient Epic. Oxf., 2005. P. 170.
(обратно)
81
Рекомендуем русскоязычному читателю книгу, относительно недавно изданную в переводе с французского:
Лиссарраг Ф. Вино в потоке образов: Эстетика древнегреческого пира. М., 2008.
(обратно)
82
По ее истории см.:
Суриков И. Е. Солнце Эллады: История афинской демократии. СПб., 2008.
(обратно)
83
В связи с этим см., например:
Wahlgren S. Byzantine Literature and the Classical Past //A Companion to the Ancient Greek Language. Oxf., 2010. P. 527–538;
Kaldellis A. The Byzantine Role in the Making of the Corpus of Classical Greek Historiography: A Preliminary Investigation // Journal of Hellenic Studies. 2012. Vol. 132. P. 71–85.
(обратно)
84
О литературном и общекультурном значении деятельности Фотия см.:
Wilson N. G. Scholars of Byzantium. L., 1996. P. 89–119;
Мейендорф И. Введение в святоотеческое богословие. 2-е изд. Вильнюс; М., 1992. С. 318 слл.;
Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996. С. 279 слл.
(обратно)
85
Гаспаров М. Л. Указ. соч. С. 98–100.
(обратно)
86
Суриков И. Е. Гиперборей и грек: Стихотворения. М., 2003. С. 14.
(обратно)
87
О нем см.:
Доватур А. И. Феогнид и его время. Л., 1989.
(обратно)
88
Ср.:
Боннар А. Греческая цивилизация. T. 1. Ростов н/Д., 1994. С. 95 слл. (с яркими суждениями о личности и творчестве Архилоха).
(обратно)
89
Важнейшие работы, из которых можно получить понятие о современном состоянии разработки проблемы появления денег в Древней Греции:
Kraay С. М. Archaic and Classical Greek Coins. Berkeley, 1976;
Servet J.-M. Nomismata: État et origines de la monnaie. Lyon, 1984;
Seaford R. Money and the Early Greek Mind: Homer, Philosophy, Tragedy. Cambridge, 2004;
Schaps D. M. The Invention of Coinage and the Monetization of Ancient Greece. Ann Arbor, 2004;
Суриков И. Е. Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и источниковедения. М., 2007. С. 186 слл.
(обратно)
90
Kroll J. H. The Monetary Use of Weighed Bullion in Archaic Greece // The Monetary Systems of the Greeks and Romans. Oxf., 2008. P. 12–37.
(обратно)
91
Речь идет о том, что перед начатом войн спартанцы заручались благосклонностью мифологических героев, почитавшихся в их городе: Диоскуров Кастора и Полидевка, а также Менелая (Атрида).
(обратно)
92
Далее — лакуна размером в половину следующей строки.
(обратно)
93
В связи с понятием «сакрального ландшафта» применительно к античной Греции см., напр.:
Cole S. G. Landscapes of Dionysos and Elysian Fields // Greek Mysteries: The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults. L.; N. Y., 2003. P. 193–217;
idem. Landscapes, Gender, and Ritual Space: The Ancient Greek Experience. Berkeley, 2004;
Foxhall L. Environments and Landscapes of Greek Culture // A Companion to the Classical Greek World. Oxf., 2006. P. 245–280;
Cohen A. Mythic Landscapes of Greece // The Cambridge Companion to Greek Mythology. Cambridge, 2007. P. 305–330;
Mehl A. Veränderte und gestaltete Landschaft im antiken Götter- und Totenkult // Die Landschaft und die Religion. Stuttgart, 2009. S. 155–174;
Суриков И. Е. Категория сакрального в пространственной модели античного греческого полиса // Восточная Европа в древности и средневековье: Восприятие, моделирование и описание пространства в античной и средневековой литературе. М., 2006. С. 181–186. Кроме того, основополагающей остается известная работа более общего характера:
Polignac F. de. Cults, Territory, and the Origins of the Greek City-State. Chicago, 1995.
(обратно)
94
Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995. С. 271–272.
(обратно)
95
Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты / Изд. подг. М. Л. Гаспаров. М., 1980.
(обратно)
96
Андреев Ю. В. Цена свободы и гармонии: Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. СПб., 1998. С. 283 слл.
(обратно)
97
Подробнее об этом ментальном процессе см.:
Суриков И. Е. Очерки об историописании в классической Греции. М., 2011. С. 260 слл. (со ссылками на предшествующую литературу вопроса).
(обратно)
98
Об островах Эгейского моря см. монографию:
Constantakopoulou С. The Dance of the Islands: Insularity, Networks, the Athenian Empire and the Aegean World. Oxf., 2007.
(обратно)
99
См. к вопросу (в основном на афинском материале, но и с выводами более общего характера):
Coşkun A. Weitere Überlegungen zu den Voraussetzungen und Folgen des Perikleischen Bürgerrechtsgesetzes: Naturalisierung und Epigamie im Klassischen Athen // Klio. 2013. Bd. 95. Ht. 2. S. 391–404.
(обратно)
100
Об этом законе написано очень много. Но лучшей из посвященных ему работ является статья:
Blok J. H. Perikles’ Citizenship Law: A New Perspective // Historia. 2009. Bd. 58. Ht. 2. S. 141–170.
(обратно)
101
Суриков И. Е. Черноморское эхо катастрофы в Сардах (Персидское завоевание державы Мермнадов и колонизационная политика Гераклеи Понтийской) //Античная цивилизация и варвары. М., 2006. С. 57–58.
(обратно)
102
Hogarth D. G. Lydia and Ionia // Cambridge Ancient History. Vol. 3. Cam-bridge, 1929. P. 514;
Delcourt M. Périclès. R., 1939. P. 18;
Forrest W. G. The First Sacred War // Bulletin de correspondance hellénique. 1956. Vol. 80. No. 1. P. 33 ff.;
Ellis W. M. Alcibiades. L.; N. Y., 1989. P. 1–5;
Суриков И. Е. Гостеприимство Креза и афиняне // Закон и обычай гостеприимства в античном мире. М., 1999. С. 72–79.
(обратно)
103
Crielaard J. Р. 2009: Cities // A Companion to Archaic Greece. Oxf., 2009. P. 358.
(обратно)
104
Из издания: Античная лирика / Сост. и прим. С. Апта и Ю. Шульца. М., 1968. С. 70.
(обратно)
105
Так в переводе, включенном в издание: Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика / Изд. подг. М. Л. Гаспаров и др. М., 1999. С. 335.
(обратно)
106
О его значении в античности см. наиболее подробно:
Суриков И. Е. «Геллеспонт бурнотечный» (Пролив между Эгеидой и Пропонтидой и его роль в античной истории) // Проблемы истории, филологии, культуры. 2013. № 4(42). С. 3–44.
(обратно)
107
Coldstream J. N. Geometric Greece: 900–700 ВС. 2 ed. L; N. Y., 2003. P. 381.
(обратно)
108
См. интересные мнения:
Myres J. L. The Colonial Expansion of Greece // Cambridge Ancient History. Vol. 3. Cambridge, 1929. P. 657 ff.;
Graham A. J. The Colonial Expansion of Greece // Cambridge Ancient History. 2 ed. Vol. 3. Pt. 3. Cambridge, 1982. P. 118 ff.
(обратно)
109
Самая ранняя, о которой нам известно, — оговаривает В. Эренберг (
Ehrenberg V. Polis und Imperium: Beiträge zur alten Geschichte. Zürich; Stuttgart, 1965. S. 222). Но по соображениям общего контекста вряд ли можно предполагать какие-то более ранние афинские колонизационные экспедиции, не отразившиеся в источниках.
(обратно)
110
То есть Фринон одержал победу в панкратии. Панкратий — древнегреческий вид спорта, сочетавший в себе черты борьбы и кулачного боя.
(обратно)
111
Graham A. J. Colony and Mother City in Ancient Greece. Manchester, 1964. P. 32; cp.
Bérard J. L’expansion et la colonisation grecques jusq’aux guerres médiques. P., 1960. P. 100 (около 533 года до н. э.).
(обратно)
112
Graham A. J. Colony and Mother City… P. 32–33.
(обратно)
113
Cook J. M. The Greeks in Ionia and the East. L., 1962. P. 50.
(обратно)
114
В другом месте (
Суриков И. Е. Историко-географические проблемы понтийской экспедиции Перикла// Вестник древней истории. 1999. № 2. С. 102 слл.) мы пытаемся показать, что понтийский рынок зерна стал играть для Афин значительную роль лишь в V веке до н. э.
(обратно)
115
См., например:
Cook E. F. The Odyssey in Athens: Myths of Cultural Origins. Ithaca, 1995;
Sauge A. «L’Iliade», poème athénien de l’époque de Solon. Bern, 2000.
(обратно)
116
Лосев A. Ф. Гомер. M., 1996. С. 84–90.
(обратно)
117
В связи с проблемой такого типа олигархии, как «династия», см. работу:
Суриков И. Е. Некоторые проблемы боспорского политогенеза V–IV вв. до н. э. («взгляд из Эллады») //Древнейшие государства Восточной Европы. 2012 год. Проблемы эллинизма и образования Боспорского царства. М., 2014. С. 76–122. Там рассматриваются и конкретные примеры (Коринф, та же Митилена, Пантикапей в Северном Причерноморье).
(обратно)
118
При изложении истории Митилены в годы жизни Сапфо мы в значительной степени опираемся на данные, приведенные в классической книге:
Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd. 1: Darstellung. München, 1967. S. 91 ff.
(обратно)
119
Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd. 2: Anmerkungen. München, 1967. S. 572.
(обратно)
120
См. к вопросу:
Суриков И. Е. Сократ. М., 2011. С. 51 слл.
(обратно)
121
Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen…. Bd. 1. S. 92.
(обратно)
122
Ibid. S. 93.
(обратно)
123
Пейфо (Пейто) — богиня убеждения, одна из второстепенных фигур древнегреческого пантеона.
(обратно)
124
Pape W. Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 3 Aufl., neu bearbeitet von G. E. Benseler. Ht. 2. Braunschweig, 1911. S. 1341.
(обратно)
125
То есть уроженка острова Лесбоса.
(обратно)
126
Крупный представитель архаической греческой лирики. Жил на Сицилии.
(обратно)
127
Андрос — остров в Эгейском море.
(обратно)
128
См. о них:
Young D. C. A Brief History of the Olympic Games. Oxf., 2004.
(обратно)
129
Об Олимпии см.:
Соколов Г. И. Олимпия. М.,1980.
Herrmann H.-V. Olympia: Heiligtum und Wettkampfstätte. München, 1972.
(обратно)
130
О значении датировок Олимпийских игр для древнегреческой истории см.:
Christesen Р. Olympic Victor Lists and Ancient Greek History. Cambridge, 2008.
(обратно)
131
Kraus W. Sappho // Der Kleine Pauly: Lexikon der Antike auf der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1964. Sp. 1546.
(обратно)
132
В связи с этим вопросом см. прежде всего книгу:
Nagy G. Homer the Preclassic. Berkeley, 2010.
(обратно)
133
Суриков И. Е., Ленская В. С., Соломатина Е. И., Таруашвили Л. И. История и культура Древней Греции: Энциклопедический словарь. М., 2009. С. 494.
(обратно)
134
О нем см.:
Bradeen D. The Fifth-Century Archon List // Hesperia. 1964. Vol. 32. No. 2. P. 187–208.
(обратно)
135
Develin R. Athenian Officials 684–321 BC. Cambridge, 1989. P. 33.
(обратно)
136
О почитании Афродиты на этом острове см.:
Karageorghis J. Kypris: The Aphrodite of Cyprus. Ancient Sources and Archaeological Evidence. Nicosia, 2005.
(обратно)
137
Deene M. Let’s Work Together! Economic Cooperation, Social Capital, and Changes of Social Mobility in Classical Athens // Greece & Rome. 2014. Vol. 61. No. 2. P. 152.
(обратно)
138
До сих пор не утратил своего значения и с интересом читается очерк о Пасионе в старой книге:
Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. М., 1994. С. 67–75 (репринт издания 1913–1914 годов).
(обратно)
139
Впрочем, Л. М. Глускина замечает, что богачи, подобные Пасиону, среди метэков были все-таки исключением:
Глускина Л. М. Эйсфора в Афинах в IV веке до н. э. // Вестник древней истории. 1961. № 2. С. 37.
(обратно)
140
Кратин — афинский комедиограф V века до н. э.
(обратно)
141
На тему о греках в Египте, о восприятии ими этой страны написано очень много. Наиболее информативна серия работ А. Ллойда:
Lloyd А. В. Herodotus Book II. Introduction. Leiden, 1975;
idem. Herodotus Book II. Commentary 1–98. Leiden, 1976:
idem. Herodotus Book II. Commentary 99–182. Leiden, 1988.
(обратно)
142
О Навкратисе см.:
Möller A. Naukratis: Trade in Archaic Greece. Oxf., 2000.
(обратно)
143
См. о ней в целом:
Reed С. M. Maritime Traders in the Ancient Greek World. Cambridge, 2003.
(обратно)
144
О портовых проститутках в античной Греции (правда, на примере другого порта — Делоса) см.:
McClain T. D., Rauh N. К. The Brothels at Delos: The Evidence for Prostitution in the Maritime World // Greek Prostitutes in the Ancient Mediterranean, 800 BCE — 200.CЕ. Madison, 2011. P. 147–171.
(обратно)
145
Солон принял участие в перенесении кипрского города Солы на новое, более удобное место, что в определенной мере приравнивалось к новому основанию города.
(обратно)
146
Bowra С. M. Sappho // The Oxford Classical Dictionary. 2 ed. Oxf., 1976. P. 950.
(обратно)
147
Гиппиус З. Н. Опыт свободы. M., 1996. С. 33.
(обратно)
148
См. к истории проблемы:
Осипович T. Е. «…Но совсем женщиной она не была»: Зинаида Гиппиус и проблема «женского» в русской культуре рубежа XIX–XX веков // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. 2006. № 12. С. 219–241.
(обратно)
149
См. к проблеме:
Sourvinou-Inwood С. Greek Perceptions of Ethnicity and the Ethnicity of the Macedonians // Identità e prassi storica nel Mediterraneo Greco. Milano, 2002. P. 173–203;
Hatzopouios M. B. Perception of the Self and the Other: The Case of Macedonia//Ancient Macedonia VII: Macedonia from the Iron Age to the Death of Philip II. Thessaloniki, 2007. P. 64 f.;
idem. The Speech of the Ancient Macedonians in the Light of Recent Epigraphic Discoveries // Monumentum Gregorianum: Сборник научных статей памяти ак. Г. М. Бонгард-Левина. М., 2013. С. 204–221;
Anson E. М. Greek Ethnicity and the Greek Language // Glotta. 2009. Bd. 85. S. 5–30;
Кузьмин Ю. Н. «В тени Олимпа»: послесловие //
Борза Ю. Н. История античной Македонии (до Александра Великого). СПб., 2013. С. 559 слл.
(обратно)
150
Рабинович Е. Г. Мифологема нектара — опыт реконструкции // Палеобалканистика и античность: Сборник научных трудов. М., 1989. С. 111–118.
(обратно)
151
Античная лирика / Сост. и прим. С. Апта и Ю. Шульца. М., 1968. С. 59.
(обратно)
152
Эллинские поэты VIII–III веков до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика / Изд. подг. М. Л. Гаспаров и др. М., 1999. С. 332.
(обратно)
153
О Милете см.:
Кобылина M. М. Милет. М., 1965;
Greaves A. M. Miletos: A History. L.; N. Y., 2002.
(обратно)
154
Краткое, но информативное и полезное изложение основных данных о древнегреческих брачных обрядах, включавших торжественный перевоз невесты в дом жениха, см.:
Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 2: Богослужебные и сценические древности. СПб., 1997. С. 225 слл.
(обратно)
155
Об этом типе любви см.:
Breitenberger В. Aphrodite and Eros: The Development of Erotic Mythology in Early Greek Poetry and Cult. N. Y.; L., 2007;
Davidson J. Eros: Love and Sexuality // A Companion to Ancient History. Oxf., 2009. P. 352–367;
Ludwig P. W. Anger, Eros, and Other Political Passions in Ancient Greek Thought // A Companion to Greek and Roman Political Thought. Oxf., 2009. P. 294–307. Особенно важным представляется все-таки исследование:
Ludwig P. W. Eros and Polis: Desire and Community in Greek Political Theory. Cambridge, 2002.
(обратно)
156
См. обобщающую монографию об этой древнегреческой богине:
Pirenne-Delforge V. L’Aphrodite grecque: Contribution à l’étude de ses cultes et de sa personnalité dans le panthéon archaïque et classique. Athènes; Liège, 1994.
(обратно)
157
См. фундаментальное исследование о них:
Геннеп А. ван. Обряды перехода. Систематическое изучение обрядов. М., 1999.
(обратно)
158
О них существует богатая литература. Напр., см.:
Dow S. The Athenian
Ephêboi; Other Staffs, and the Staff of the
Diogeneion // Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1960. Vol. 91. P. 381–409;
Reinmuth O. W. The Ephebic Inscriptions of the Fourth Century В. C. Leiden, 1971;
Beck H. Ephebie —
Ritual — Geschichte. Polisfest und historische Erinnerung im klassischen Griechenland // Feiern und Erinnern: Geschichtsbildern im Spiegel antiker Feste. B., 2009. S. 55–82;
Steinbock В. A Lesson in Patriotism: Lycurgus’
Against Leocrates, the Ideology of the Ephebeia, and Athenian Social Memory // Classical Antiquity. 2011. Vol. 30. No. 2. P. 279–317;
Pleket H. W. Ephebes and Horses // Mnemosyne. 2012. Vol. 65. P. 324–328.
(обратно)
159
В следующем далее описании ритуалов, связанных с заключением брака, автор во многом опирается на классический компендиум:
Латышев В. В. Очерк греческих древностей. Ч. 2: Богослужебные и сценические древности. СПб., 1997. С. 225 слл. Из недавней зарубежной литературы о браке у древних греков см.:
Cantarella E. Friendship, Love, and Marriage // The Oxford Handbook of Hellenic Studies. Oxf., 2009. P. 294–304;
Oakley J. H. Birth, Marriage, and Death // A Companion to Greek Art. Vol. 2. Oxf., 2012. P. 480–497;
Wagner-Hasel B. Marriage Gifts in Ancient Greece // The Gift in Antiquity. Oxf., 2013. P. 158–172;
Glazebrook A., Olson K. Greek and Roman Marriage // A Companion to Greek and Roman Sexualities. Oxf., 2014. P. 69–82.
(обратно)
160
Нильссон M. Греческая народная религия. СПб., 1998. С. 23–24.
(обратно)
161
См. в связи с этой проблематикой:
Robertson N. The Praxiergidae Decree (IG I 7) and the Dressing of Athena’s Statue with the
Peplos // Greek, Roman and Byzantine Studies. 2004. Vol. 44. P. 111–161;
Harrison E. B. Athena at Pallene and in the Agora of Athens // Periklean Athens and its Legacy: Problems and Perspectives. Austin, 2005. P. 119–131;
Giovannini A. The Parthenon, the Treasury of Athena and the Tribute of the Allies // The Athenian Empire. Edinburgh, 2008. P. 164–184;
Deacy S. Athena. L.; N. Y., 2008 (работа, упомянутая последней, является новейшей обобщающей монографией об Афине и ее культе).
(обратно)
162
Латышев В. В. Указ. соч. С. 227.
(обратно)
163
Дальнейшее излагается с сильной опорой на предшествующую разработку автора:
Суриков И. Е. Полис, логос, космос: мир глазами эллина. Категории древнегреческой культуры. М., 2012. С. 119 слл.
(обратно)
164
Винкельман И.-И. Избранные произведения и письма. М., 1996. С. 107.
(обратно)
165
См. одно из последних изданий:
Ницше Ф. Сочинения в двух томах. T. 1. М., 1990. С. 47–157. Полное название этой книги Ницше существует в двух вариантах: более раннем, «Рождение трагедии из духа музыки», и более позднем, «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм».
(обратно)
166
Тахо-Годи А. А. Хариты // Мифологический словарь. М., 1990. С. 570.
(обратно)
167
Об этой теории см.:
Суриков И. Е. Пифагор. М., 2013. С. 215 слл.
(обратно)
168
Суриков И. Е., Ленская В. С., Соломатина Е. И., Таруашвили Л. И. История и культура Древней Греции: Энциклопедический словарь. М., 2009. С. 395.
(обратно)
169
Герцман Е. В. Музыка Древней Греции и Рима. СПб., 1995. С. 36.
(обратно)
170
Там же.
(обратно)
171
Pelliccia H. Sappho 16, Gorgias’
Helen, and the Preface to Herodotus’
Histories // Beginnings in Classical Literature. Cambridge, 1992. P. 63–84.
(обратно)
172
Палатинская антология — огромный сборник греческих эпиграмм, составлявшийся на протяжении поздней античности и в последующую, Византийскую, эпоху. Свой окончательный вид он приобрел в X веке н. э., а название свое получил из-за того, что его древнейшая рукопись была найдена около 1600 года в библиотеке немецкого университетского города Гейдельберга, носившей название «Палатинская библиотека».
(обратно)
173
Подробнее см.:
Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи. Архаика и ранняя классика. М., 2005. С. 242 слл.
(обратно)
174
В Спарте издревле по традиции правили одновременно два царя.
(обратно)
175
Древнегреческая элегия / Сост., коммент., словари Н. А. Чистяковой. СПб., 1996. С. 89.
(обратно)
176
Название реки.
(обратно)
177
Их наиболее полную подборку в русском переводе см. в издании: Греческая эпиграмма / Изд. подг. Н. А. Чистякова. СПб., 1993. С. 51–56.
(обратно)
178
Vos М. de. From Lesbos she Took her Honeycomb: Sappho and the ‘Female Tradition’ in Hellenistic Poetry // Valuing the Past in the Greco-Roman World. Leiden; Boston, 2014. P. 410–434.
(обратно)
179
Данные по «сапфическим» надписям на монетах городов Лесбоса даем по изданию: Lexikon der Aufschriften auf griechischen Münzen. Bd. 1. Geographische Begriffe, Götter und Heroen, mythische Gestalten, Persönlichkeiten, Titel und Beinahmen, Agonistik, staatsrechtliche und prägerechtliche Formeln, bemerkensweise Wörter. Wien, 2002. S. 265, 315.
(обратно)
180
Амелин M. А. Комментарии //
Катулл. Лирика. M., 2005. С. 180.
(обратно)
181
Так уж получилось, что Катулла мы цитируем в новейшем переводе М. А. Амелина (именно это русское издание поэта оказалось под рукой). Походя отметим, что перевод этот не во всем удовлетворителен стилистически. Возьмем хотя бы эту строку: она демонстрирует некоторый недостаток чувства стиля. Бок о бок стоят высокопарное «зришь» и просторечное «подскочили» (латинский оригинал, подчеркнем, никак такую разностилицу не диктует). Ломоносов поморщился бы…
(обратно)
182
Очередные претензии к переводу Амелина. Почему появляется старославянское слово «дщерь»? Для употребления подобного архаизма в подлиннике опять же никаких оснований нет. Далее, постановка в слове «дабы» ударения на первом слоге — распространенная ошибка (видимо, пошедшая от ложной аналогии с синонимом «чтобы»); но распространенность ошибки — не повод возводить оную в правило.
(обратно)
183
По-английски —
the Classical antiquity; по-французски —
L’antiquité classique; по-немецки —
das classische Altertum.
(обратно)
184
См. о восприятии образа Сапфо в разные времена:
Duban J. М. Ancient and Modem Images of Sappho. Lanham, 1983;
Yatromanolakis D. Sappho in the Making: An Anthropology of Reception. Cambridge Mass., 2006;
Williamson P. Sappho and Pindar in the Nineteenth and Twentieth Centuries // The Cambridge Companion to Greek Lyric. Cambridge, 2009. P. 352–370.
(обратно)
185
Светлая дева Латоны — Артемида: ее (и Аполлона) матерью была второстепенная богиня Латона.
Саинеад — в оригинале не прадед, а дед Аристы, которая фигурирует в этом стихотворении. Почему в русском переводе он стал прадедом — не знаем, а ведь переводчик-то — не кто иной, как Вячеслав Иванов, выдающийся русский поэт Серебряного века, тончайший знаток античности и классических языков. Подозреваем, что «деда» он просто не смог уложить в подобающий стихотворный размер (элегический дистих).
(обратно)
186
Часть черно-белых иллюстраций заменена на аналогичные цветные. Прим. верстальщика.
(обратно)
187
Все даты относятся к периоду до н. э.
(обратно)
Оглавление
«ДЕСЯТАЯ МУЗА»
ДОЧЬ ЭЛЛАДЫ
ЭПОХА ЛИРИКИ И ЛИРИКОВ
МАЛАЯ РОДИНА: ОСТРОВ ЛЕСБОС
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
СБОРНИК СТИХОВ САПФО
ПЕСНИ ЛЮБВИ
БРАК И СЕМЬЯ
БОЖЕСТВА, ОБРЯДЫ, ПРАЗДНИКИ…
САПФО В ВЕКАХ
ИЛЛЮСТРАЦИИ[186]
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИЗНЬЮ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САПФО[187]
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
*** Примечания ***