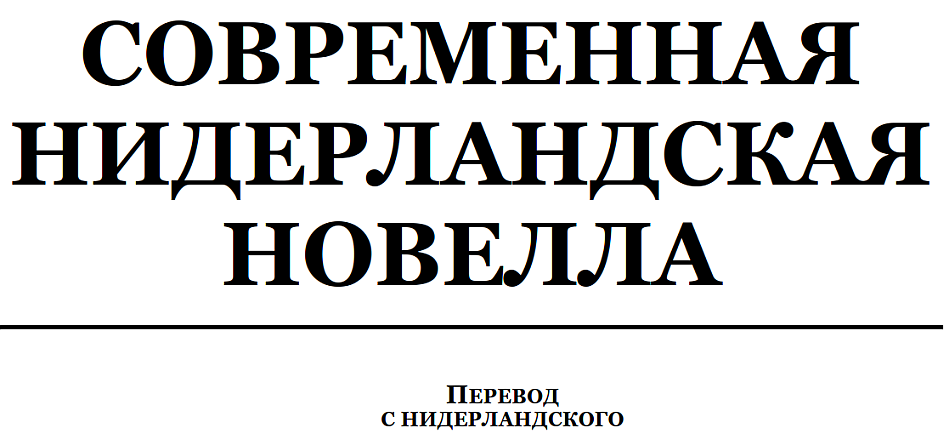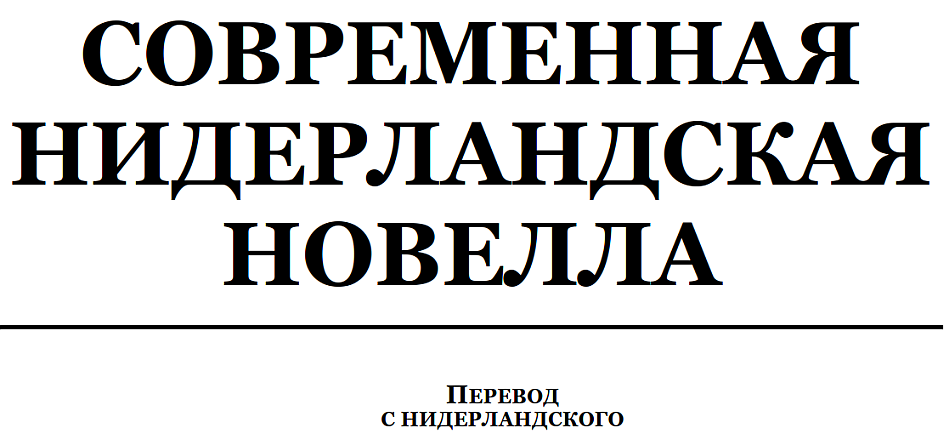
От составителя
В послевоенной нидерландской литературе рассказ снова, как и в начале века, стал одним из самых популярных жанров, изрядно потеснив роман. В Нидерландах есть немало новеллистов, которые не написали ни одного романа (Белькампо, Симон Кармиггелт, Ремко Камперт и др.), но нет ни одного сколько-нибудь значительного романиста, который не обращался бы к жанру рассказа. И на это есть свои причины. В течение последних тридцати лет западноевропейский, а вместе с ним и нидерландский роман пережил столько метаний между чистым экспериментом и документальной прозой, что постепенно утратил былую классически ясную форму и присущий ему в XIX веке и в 20–30-х годах XX столетия широкий демократизм и не раз ставил писателей Западной Европы перед вопросом: а не умер ли современный роман, не исчерпал ли он все свои возможности? Пророчества о гибели романа оказались преждевременными. Но несомненно, в 50–60-е годы он испытывал серьезный кризис, и поэтому неудивительно, что многие писатели-романисты обратились к рассказу как наиболее лаконичному и вместе с тем чрезвычайно емкому способу художественного отображения и постижения действительности. Малая форма не освобождает от большого содержания. Прибегая к старому сравнению, можно сказать, что рассказ, как капля воды, способен отразить вселенную — все многообразие авторского взгляда на жизнь и на искусство. В наш век пристального интереса к судьбам отдельных людей рассказ, сосредоточивающий основное внимание на одном характере или на одной ситуации, как нельзя лучше отвечает потребностям времени.
В предлагаемом советскому читателю сборнике представлено творчество нидерландских писателей разных поколений и разных художественных школ. Некоторые из них дебютировали еще до войны (Белькампо, С. Кармиггелт), другие опубликовали свои первые книги в 70-е годы (Д. Валда, М. ван Кёлен). О жанровом многообразии и больших возможностях современного нидерландского рассказа свидетельствуют используемый авторами широкий диапазон форм и обращение к традициям мировой литературы — от гротеска и фантастики (Белькампо, Г. Мюлиш) до критического реализма (В. Ф. Херманс, Р. Геел), от классически построенной новеллы (В. Ф. Херманс) до притчи и миниатюры (Я. М. А. Бисхёвел, С. Кармиггелт).
Нидерландское искусство издавна складывалось в развитии и взаимодействии двух направлений — реалистического отображения действительности с вниманием к мельчайшим деталям быта и углубленным психологизмом в изображении человека (живопись «малых голландцев», творчество Рембрандта) и гротескно-дидактической интерпретации действительности (вспомним хотя бы полотна И. Босха и Питера Брейгеля Старшего). Эта традиция жива в нидерландском искусстве по сей день и нашла своеобразное выражение в творчестве Белькампо, Гарри Мюлиша и Боба ден Ойла. Сочетание реализма и гротеска особенно наглядно проявляется в рассказе Белькампо «Великое событие», повествующем о том, как в маленьком провинциальном городке Рейссене, который описан со всей реалистической тщательностью, происходит Великое событие — начинается Страшный суд. Для усиления достоверности и создания эффекта присутствия автор вводит в действие рассказа самого себя. Картины Страшного суда напоминают своей детальностью и суггестивностью сцены ада из триптихов И. Босха или «Низвержение ангелов» Питера Брейгеля Старшего. Такое сочетание фантастики и реальности позволяет писателю, не впадая в карикатурность описания дел земных, предать суду небесному и человеческому ханжество, стяжательство, провинциальную косность и бессмысленность мещанского существования. Г. Мюлиш в «Границе» и Боб ден Ойл в своих рассказах достигают сатирического эффекта другим путем: они не вносят в повествование прямых элементов фантастики, а доводят до абсурда вполне реальные ситуации или отдельные черты характера своих героев. Смех, ирония, звучащие в их произведениях, а также в творчестве С. Кармиггелта, Р. Камперта, Р. Геела, — это оружие в борьбе с абсурдностью окружающего мира. Как говаривал Анатоль Франс, «веселость мыслящих людей — это смелость духа», и свидетельствует она, по выражению советского литературоведа В. Шкловского, «об ощущении превосходства художника над действительностью».
Сила воздействия рассказов-миниатюр С. Кармиггелта, проникновенного лирика и тонкого ценителя юмора, заключается в отличие от уже упомянутых писателей не в создании исключительных ситуаций, а в открытии нового в повседневном, незнакомого в знакомом. Автор бросает новый свет на привычные предметы и явления, заставляя нас задуматься и по-иному взглянуть на окружающий мир. Таков рассказ «Свобода», развенчивающий миф о свободе в буржуазном обществе, таковы согретые особым, присущим только С. Кармиггелту печальным юмором миниатюры «Счастливое детство» и «Юфрау Фредерикс».
Тема одиночества человека в буржуазном обществе, его тотального отчуждения, нашедшая лирическое или сатирическое воплощение в некоторых рассказах С. Кармиггелта («Звезды», «Наш современник»), получает трагическое развитие в творчестве таких крупных нидерландских прозаиков, как В. Ф. Херманс («Электротерапия»), Я. Волкерс («Снежный человек»), Хейре Хейресма («Смерть незаметного старика»). Здесь люди и окружающая жизнь не только враждебны героям, но и губительны, смертельно опасны для них, приводя нередко к трагическому исходу или навсегда калеча их жизнь. И самое трагичное то, что в безумный танец насилия и обезличивания человека могут вовлекаться дети. Сознавая это, нидерландские писатели всей страстью и силой своего таланта протестуют против «жертвоприношения» детей на алтаре отживших традиций и чистогана. И следует подчеркнуть, что тема детства в буржуазном обществе наших дней получила в современной нидерландской литературе широкое распространение. Г. Флобер отмечал в одном из своих писем, что «грусть не что иное, как безотчетное воспоминание». Грустью воспоминаний о военном и послевоенном детстве, печальным сожалением о безвозвратно утерянных и неиспользованных возможностях окрашены многие рассказы писателей, пришедших в литературу в послевоенные десятилетия. Таковы рассказы Я. Волкерса, Д. Валды, «Поездка в Зволле» Р. Камперта, изумительный по своей тонкости и лиризму рассказ Ж. Хамелинка «Сквозь пелену и сна, и слез».
Особую разновидность малого жанра составляет притча, которая также имеет давнюю традицию в нидерландской литературе. В XIX веке притчей широко пользовался великий нидерландский писатель-гуманист Мультатули; за много лет до Ф. Кафки Мультатули облек притчу в современную форму и наполнил ее актуальным содержанием. Притча в нынешнем ее виде отличается лаконизмом, исключительной заостренностью и нередко парадоксальностью авторской мысли и отсутствием готовой морали. Мораль должен сформулировать сам читатель, ибо в основе притчи лежит в конечном счете важная для автора этико-философская идея. В форме притчи написаны отточенные рассказы Я. М. А. Бисхёвела, изящные миниатюры Г. Крола, к притче тяготеет и аллегорический рассказ Хейре Хейресма «Торговец не вернется назад».
Каждый из представленных в сборнике писателей сумел взглянуть на мир по-своему. Но вместе с тем, несмотря на такую непохожесть, всех этих писателей объединяет одна общая черта — гуманизм, глубокая тревога за настоящее и будущее человека.
Ю. Сидорин
Белькампо
ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ
Перевод А. Орлова
Наша Земля круглая, и повсюду на ней свирепствует история. Поднимаются восстания, шатаются троны, падают короны, взрываются бомбы, несутся к небу крики, течет кровь.
Но я знаю один городишко, который остался таким же, каким он был в день своего основания, — Рейссен. Что я сказал? Рейссен остался? Нет, Рейссен оставался таким, ибо Рейссена больше нет, и ничего больше нет, даже тебя, читатель, больше нет. Прочти этот рассказ и пойми, что тебя больше нет.
Итак, Рейссен. Широкая полоса лугов и болот ограждала его от всех мировых потрясений — здесь ни разу не взорвалась бомба, ни разу чужой штык не проникал в городские пределы, ни разу недолговечные, а стало быть, бесполезные призывы не тревожили рейссенцев. Правда, некогда здесь были земляные укрепления, но их срыли еще до начала Нидерландской революции. «Эта революция показалась нам ужасно длинной, — сказал якобы один из городских советников, — из-за засохшего дерьма повсюду, в нем-то, друзья, и было все дело. Порядок в городе куда-то пропал».
О порядке в городе не забывали, но скот по-прежнему содержался в домах, возле дверей лежали кучи навоза, коровы и свиньи бродили по улицам, на свой лад улучшая проезжую часть, хотя в конце концов для целей благоустройства был построен большой завод. Городишко с таким образом жизни не мог, разумеется, играть какую-либо роль в нашем мире, равно как и человек, не пожелавший отказаться от провинциальных манер.
Однако же Рейссен располагал всем, что могло обеспечить ему полнейшую самостоятельность и независимость.
В городе было и дерево, и глина для построек, там пряли и ткали, вокруг хватало полей и лугов, хватало торфа. Лишь раз в тридцать лет приходилось ездить в соседний город за жерновами.
Горожане образовывали замкнутый мирок. На тех, чьи предки приехали из других мест, веками показывали пальцем. И о рейссенцах, перебравшихся в другие места, тоже сплетничало не одно поколение.
Река Регге издревле была судоходной, но никто из рейссенцев этим никогда не пользовался, судоходство находилось в руках жителей Энтера. В англо-голландских войнах, которые велись на море, рейссенцы тем более не участвовали.
За исключением Адама Лангенберга, хоть сколько-нибудь известные люди в Рейссене не проживали, да это и к лучшему, ибо они всегда вызывают беспорядки, опасные для размеренного образа жизни.
Духовная жизнь, основанная на вечной и непоколебимой вере, и экономика, зиждущаяся на еще более вечных и непоколебимых законах природы, помогли Рейссену сохраниться в неизменности на протяжении многих столетий. Наиболее полно взгляд жителей Рейссена на мир выражен фразой, которой они с незапамятных времен отвечают на вопрос, как идут дела: «Да как вам сказать? То туда, то сюда». Это означает, что дела потихоньку идут.
Но всегда ли так будет и впредь? Не случится ли однажды, что они пойдут не туда, а только сюда или не сюда, а только туда?
В человеке есть что-то от бумеранга. Отважно бросает он себя в жизнь на головокружительную высоту, но, достигнув этой высоты, неизменно оглядывается назад, и однажды желание вернуться превозмогает желание подняться еще выше.
Вот и я после многолетнего кружения в заоблачных далях воротился в Рейссен моей юности.
Тот же шелест вереска, тот же шум сосен, та же мирная возня с растениями и животными, та же спокойная решительность бытия — то, что в детстве я безотчетно воспринимал как счастье, вновь окружало меня со всех сторон. Я вновь находился среди людей, готовый каждый час вести неторопливые и мудрые беседы, наука вновь ограничивалась местным врачом и местным учителем, а что касается искусства, то я точно знал, где стояло единственное в радиусе пятнадцати миль пианино. У пекаря на Большой улице, чей род знавал и лучшие времена, висели две картины Сполера, а в Остерхофе, здешнем замке, сохранился прижизненный портрет принца Морица. Стихи сочинялись только про николин день
[1]или для рекламы в еженедельной газете.
Мне дали местечко в городском магистрате, тепленькое местечко. Оно обеспечивало мне не только уважение сограждан, но и небольшой доход. Однако это не помешало мне поселиться на Большой улице, в старом доме с большим подвалом и большим чердаком, с большим садом и большими липами. Бумеранг вернулся в исходную точку. Да, я даже ночевал снова на чердаке, где спал еще мальчишкой, а потом юношей, во время долгих студенческих каникул, в комнатке, расположенной выше всех домов Большой улицы, напротив церкви. Когда я умывался или натягивал брюки, я смотрел поверх домов на церковь, на вершины деревьев и на большой кусок неба.
Юношей я при этом думал: вон там, далеко и высоко, лежат охотничьи угодья моей жизни, облака и звезды заменяют булыжники на мощеных дорогах; теперь, вернувшись, я глядел туда, в основном чтобы порадовать свои глаза. Большую часть дня я проводил в беседах у ограды или у калитки. Ведь всегда найдется повод поболтать о чем-то либо о ком-то. В независимом городе не только есть все что угодно, но и происходит все что угодно. А обсуждение недостатков ближнего также является признаком мудрости, главное — точно определить, какие поступки совершил тот или иной человек и почему он их совершил, ибо это и есть наиприятнейшая сфера мудрости. Ну и, конечно, выставить в выгодном свете себя.
И в Рейссене свои приверженцы были у каждого греха: у сребролюбия, у зависти, у плотских утех.
Мне было забавно замечать, как пороки растут вместе с людьми, как маленький изъян у бывшего школьного друга становится огромным, словно дерево, и затеняет все прочие черты характера. Я видел пороки, тщательно скрываемые родителями, но снова обнаженные в детях. И наоборот, у порочных родителей появлялись добродетельные отпрыски, так что я однажды подумал: «Не отражается ли в детях то, чего не хватает их родителям, что в родителях не воплотилось?» Это, разумеется, неверно, но все же странно, что у кого-то возникают вроде бы неверные мысли.
Меня уважали все, кроме тех, кого я ненавидел, меня даже почитали как обитателя большого дома. Я сосуществовал с семью тысячами людей и вполне отдавал себе в этом отчет, мне хотелось, чтобы так и было до самого конца: предо мною разливалось море уюта.
Рядом, в доме со ступенчатым фронтоном, построенном в 1664 году — некогда он был свидетелем четырехдневной морской битвы и потому вызывал у меня в детстве романтическое благоговение, — жил учитель, эдакий местный Сваммердам
[2], который словно бы все еще пребывал в атмосфере семнадцатого века. Он изучал всевозможные творения природы и размышлял над ними; у него было даже что-то вроде музея: несколько комнат в доме он заполнил всякими диковинными редкостями, и о каждой своей новой находке письменно сообщал самому Тейссе
[3].
Была у него и толстая книга обо всех растениях, полезных и вредных. По поводу вредных растений жители Рейссена лишь головами качали. Зачем умному человеку, рассуждали они, иметь дело с вредными растениями? Вырвал бы их — и дело с концом!
Наши садовые участки граничили друг с другом, и часто, работая в саду, он показывал мне только что найденное необычное насекомое или отложенные этим насекомым яйца. Я любил слушать его рассказы о животных и растениях, а иногда он весьма к месту вставлял в эти рассказы и замечания о людях.
Как-то вечером мое уютное чтение прервали пронзительные крики, доносившиеся из соседнего дома. Наши дома не примыкали друг к другу, между ними был узкий проход, называвшийся в Рейссене дорожкой. Лишь очень сильные звуки долетали из одного дома в другой. Я помчался к соседу и увидел, что он старается привести в чувство свою бледную как полотно супругу, то ли упавшую, то ли усаженную в старинное кресло. Заметив меня, он пожал плечами: дескать, загадка. Лоб и виски супруги уже были смочены водой, сосед тер ее ладони. Я быстро снял с нее туфли, а потом разулся сам, подумав, что единственное надежное средство — это мои собственные холостяцкие носки. Ведь надо было возможно скорее узнать причину ее обморока. Средство подействовало тотчас. Она открыла испуганные глаза и, прерывисто вздыхая, выдавила шепотом:
— Та-кое стран-ное жи-вот-ное в спаль-не!
Одного взгляда хватило, чтобы мы, мужчины, достигли полного взаимопонимания. С одной стороны, женщина, супруга одного из нас, которую нужно поддержать, уберечь от второго обморока, а с другой стороны, животное, которое нужно поймать, сохранить для музея. Выбор был нелегким и мучительным. В любом случае необходимо хоть что-то предпринять, и вот, едва лишь возвращенное сознание кое-как укрепилось в женщине и к ней снова вернулось некоторое душевное спокойствие, мы поспешили в спальню. Возле самой двери мы оба затихли. Вошли внутрь. Чуть не вскрикнув, мой сосед показал пальцем на изголовье кровати. Да, на одной из подушек сидело животное, напоминавшее темную кучу земли возле кротовой норы. Было слишком темно, чтобы разглядеть животное как следует. Крылья у него вроде бы отсутствовали, по крайней мере не годились для полета, а может, это были хвосты? И сколько же у него лап? Да уж не меньше четырех. Тело плоское или длинное? Этого мы определить не могли, животное не шевелилось. И как оно передвигается, тоже непонятно.
Сначала поймать, а затем уж рассматривать! Сосед бесшумно отступил назад и так же бесшумно прокрался вперед с большим сачком. Осторожное движение, удар, поворот — и животное внутри. Торжественно, не заботясь о смятых подушках, мы понесли свою смирную добычу вниз по лестнице.
— Вот оно, вот оно! — крикнул Хендрикс (такова была фамилия учителя), вероятно стремясь успокоить супругу, но госпожа Хендрикс издала новый вопль и убежала в сад.
— Ну и ладно, — сказал Хендрикс, — свежий воздух пойдет ей на пользу, если, конечно, ей на голову не свалится груша.
Был сентябрь, за домом Хендрикса росло высокое раскидистое грушевое дерево, а семейная жизнь Хендрикса была не слишком счастливой. Он не мог простить супруге, что она считала его углубленное изучение природы вещей и вещей природы заблуждением разума. Ее обморок при виде странного животного Хендрикс расценивал как вполне заслуженное наказание.
Из своего музея он принес пустой аквариум, куда мы посадили пойманное животное, направив на него свет лампы, и велико же было наше удивление. Такого животного мы никогда не видели, как не могли припомнить и какого-либо похожего изображения или описания. Оно напоминало средневековый голландский военный корабль. Вместо киля у него были три лапы, расположенные посередине тела, а бойницами служили отверстия — штук по двадцать с каждого боку, — из которых могло мгновенно высунуться также некое подобие лап.
— Псевдоподии! Ложноножки! — воскликнул Хендрикс. — Обычно они встречаются лишь у примитивных одноклеточных организмов.
Животное действительно во всех отношениях смахивало на корабль.
— Вместо спинного хребта грудной хребет! — снова воскликнул Хендрикс.
Ребра, укрепленные внизу, загибались кверху и выступали за пределы влажной, кожистой на вид шкуры, причем в том месте, где у обычных животных проходит спинной хребет, на концах ребер висело что-то вроде оранжевых фонариков, время от времени качавшихся. Брюхо было ярко-красным, все остальное — исчерна-зеленым. Передняя часть тела усеяна большими бородавками. Задняя часть животного — хвоста у него не было — выглядела весьма безобразно, напоминая раковину умывальника. Впереди, вместо фигурки, украшавшей старинные корабли, находилась голова, похожая на набалдашник, голова-набалдашник. Пасть была широкая, верхняя губа свисала вниз, как убежавшее из кастрюли молоко.
Внезапно животное широко зевнуло и высунуло язык. Язык представлял собою трубку, подвижную, круглую и полую внутри, наподобие сросшегося цветочного венчика, и был предназначен для быстрого захвата и всасывания пищи.
Самым же необычным были глаза, прямо человеческие, но не по форме или цвету, а по манере смотреть. Это был типично человеческий взгляд, взгляд существа, способного делать выводы из увиденного. От него становилось не по себе. Не с мыслящим ли существом мы столкнулись?
На Хендрикса этот взгляд, судя по всему, подействовал меньше, чем на меня, сосед был слишком взволнован удивительной добычей.
— Это не позвоночное… псевдоподии, необычный язык… животное не относится ни к одному из известных отрядов, это совершенно новый вид, — воскликнул он. — Я немедленно напишу об этом Тейссе!
Но еще прежде, чем он сел за письмо, мы стали очевидцами потрясающего зрелища: из одного отверстия высунулась ложноножка, держащая шарик. Отступя несколько отверстий от первой, из тела высунулась вторая ложноножка, захватила шарик и снова втянулась внутрь. Хендрикс пробормотал что-то вроде «tractus diestivus»
[4] и взмахнул рукой, но, кажется, и сам себя не убедил.
Я следил, не случится ли еще чего-нибудь, а Хендрикс строчил письмо Тейссе. Животное вело себя спокойно, даже покашляло, как человек. Если не считать того, что животное несколько раз ощупало верхней губой дно аквариума, на первых порах оно оставалось неподвижным, пока со всей ясностью не осознало, что происходит. Тогда оно высунуло язык, широко растянуло его и нахлобучило на свои глаза. Видимо, уснуло, так как поза его оставалась неизменной.
Письмо у Хендрикса вышло длинное и, следовательно, в конверте оказалось толстым.
— Ты не проводишь меня до почтового ящика? — спросил Хендрикс, разрумянившийся от огня, пылавшего в нем, когда он писал письмо.
Было уже поздно. Мы вместе шагали по ночному Рейссену. В тишине и глубоком покое шаги звучали гулко и значительно, и каждый, кто еще не смог заснуть, вероятно, внимательно прислушивался к ним, лежа в постели.
Ночное настроение нас не коснулось, мы все еще были полны впечатлений от увиденного странного животного.
— Я знаю, что Тейссе завтра же вечером будет у меня, — сказал Хендрикс, когда мы стояли у здания почты и он пытался сунуть в темную щель важное письмо.
Как вдруг он схватил меня за руку…
Мы оба внезапно пошатнулись, и дыхание у нас перехватило.
Из щели в облаке слабого света, при котором его было прекрасно видно и ночью, медленно выползло… такое же животное… или то же самое животное…
Оно сидело спокойно, словно никуда не спешило, закрывая доступ в почтовый ящик. Необходимости в этом не было: рука с письмом повисла, как парализованная. И не только рука, мы сами были полностью парализованы этой неожиданной встречей — и наши тела, и наши мысли. Главным вопросом было: из-за нас оно село здесь или нет?
— Я бы не опускал этого письма в почтовый ящик. — Низкий голос вывел нас из оцепенения, причем я так и не понял, кому этот голос принадлежал: мне или животному?
Я потащил Хендрикса за собой, в сторону дома.
— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил он метров через сто, пытаясь вернуть себе хладнокровие ученого. — Неужели этих животных много?
Я покачал головой, словно желая сказать: «Не над тем голову ломаешь, ведь тут явно что-то назревает».
У площади Схилд настал мой черед схватить Хендрикса за руку.
Над нами находилось невиданное до сих пор небесное тело.
Если во сне или в воображении вы порою видите беспорядочно кружащиеся световые массы, тогда как на деле обычная звезда или планета движется по своей постоянной орбите и отклоняется от нее разве что на самую малость, вы представите себе и это.
Небесное тело пылало и имело определенную форму. Оно увеличивалось и приближалось к нам. И наконец, описав дугу, повисло над площадью. Отблеск его плясал на наших лицах, Рейссен стал желто-зеленым. Это был огненный меч. Мы посмотрели друг на друга с недоверием, и у каждого на миг мелькнула мысль: уж не пытался ли ты весь вечер слегка припудрить мне мозги?
Меч оставался на небе недолго, минут десять.
— Что-то такое происходит, — сказал теперь уже Хендрикс.
Я вместе с ним вошел в его дом. Аквариум был пуст.
Придя к себе, я первым делом поставил под мышку градусник. Тридцать семь и три — стало быть, я не бредил.
Тщательно осмотрев все закоулки своей комнаты, я выглянул в окно, чтобы убедиться, все ли на небе в порядке, а затем лег в кровать и предался размышлениям, в результате которых в конце концов спокойно заснул.
А результат размышлений был таков: спокойствие, обретаемое нами благодаря вере в незыблемость законов природы, мы воспринимаем как непременное условие жизни, и то, что якобы противоречит этим законам, пугает нас. Но все наше спокойствие, вся наша вера основаны исключительно на опыте последней тысячи лет.
Представим себе, что существуют силы, более могущественные, чем законы природы, и способные подчинить себе эти законы, такие, например, как трансфизические силы. Что значит тысяча лет в жизни столь могучих сил? Одно мгновение. Когда, прервав свою деятельность, они переводят дух, проходит как раз тысяча лет. И разве нельзя предположить, что мы жили до сих пор в момент покоя, что наша наука возникла, так сказать, в период молчания? И что теперь этот период подошел к концу? Сколько легенд и сказаний сложено о таких вот силах и разве не хранится в глубине наших душ воспоминание о них? Да, наша вера в постоянство текущих процессов покоится на ненадежной основе.
С твердым намерением ничему более не удивляться, даже если завтра произойдут самые невероятные события, я повернулся на другой бок и заснул.
Утром все случившееся накануне показалось мне неясным сном. Но продолжалось это недолго. «Неужели мальчишки так рано начали запускать воздушных змеев?» — подумал я, лениво потягиваясь и глядя на ограниченный оконной рамой кусок неба. Такова была последняя мысль, уходящая своими корнями в прошлое. Во сне ко мне снова вернулась наивная вера в законы природы. Это были не воздушные змеи, не летучие мыши, не птицы, не летучие рыбы, даже не доисторические птеродактили или археоптериксы. Существа, которые парили, порхали и пикировали в небе, никогда прежде не встречались на нашей планете, они словно явились из иных миров.
Я подбежал к окну и стал на колени. Теперь я мог увидеть все. Каждое из существ отличалось от всех остальных; классов и видов у них, похоже, не было. Они летали на пестрых светящихся пленках, покрывалах, коврах, даже на хлопьях пены, которую сами же создавали. Некоторые прилетали издалека и тотчас вновь исчезали, будто стремились к какой-то неведомой цели, другие, резвясь, носились туда и сюда, а временами замирали в неподвижности. Наибольшее впечатление произвел на меня внушительный по размеру летающий глаз; словно бросив якорь, он вдруг остановился над церковью и довольно долго смотрел вниз, на Рейссен. А затем поднял парус и удалился.
Некоторые существа, похожие на снежные хлопья, вертикально падали сверху и, так же вертикально поднимаясь, вновь исчезали, как бы получив представление о том, что происходит на земле. Одно из них опустилось недалеко от меня на край крыши, превратилось в жидкость, стекло по водосточной трубе, опять обрело первоначальный вид и осталось сидеть на улице, высунув язык, напоминавший школьную доску с таблицей умножения.
Все это творилось при ярком солнце ранним утром, в половине восьмого.
Улица подо мной тоже кишела существами: одни ползали, другие потихоньку текли вперед, а третьи неподвижно сидели на ступеньках, подоконниках или просто у стен, непоколебимо, устрашающе уверенные в себе, как хозяева.
Нет, мир уже не принадлежал нам. Рейссен не принадлежал больше своим жителям.
А сами жители? Я впервые обратил внимание на них. Они вели себя как ни в чем не бывало. Зеленщик де Ланге со своей тележкой уже звонил у моих дверей; напротив, у Эфтинка, Натье протирала окна; еще через несколько домов служанка господина Вингердхофа скребла тротуар, и я увидел, как осторожно она обошла зеленое, похожее на кошку, животное. Значит, другие люди тоже все замечали.
Где же тогда они черпали силы для спокойного продолжения будничных дел, словно ничего вокруг не изменилось? В собственном страхе. Страх держал их в узде. Один вопль — и начнется суматоха, они это чувствовали и потому не хотели ничего замечать, я был убежден, что никто слова не сказал соседям по поводу увиденного, будничная жизнь поддерживалась грубой силой. Все это, как мне казалось, можно было прочитать сверху на их напряженных лицах.
Я быстро оделся и поспешил к Хендриксу. Мы с ним были не такими.
Войдя в комнаты, я ничего особенного не приметил — видимо, диковинные существа еще не проникали внутрь домов.
Хендрикс уже побывал в городе.
— На улице Бомкамп образовалась трещина метров пять шириной и такая глубокая, что дна не видно. Чтобы попасть на вокзал, приходится идти по улице Хаар, а затем огибать газовый завод. Виллем Вестринк, директор местной фабрички, которому по делам нужно было первым поездом выехать в Амстердам, на полной скорости рухнул в трещину вместе с машиной и уже никогда оттуда не выберется. Теперь там поставили ограждение.
Хендрикс был бледен, его трясло. Я поделился с ним результатами своих вчерашних размышлений, но мой рассказ не произвел на него никакого впечатления.
— Я чувствую себя потерянным, — сказал он, — как лист, оторвавшийся от дерева.
Чтобы отвлечь Хендрикса, я показал ему существо, чей язык был похож на школьную доску с таблицей умножения; оно сидело под окном и что-то вычисляло при помощи своего языка, с которого на крупный плоский булыжник сбегали итоги сложений и вычитаний. Кабинет редкостей полностью утратил теперь свою ценность — где уж ему тягаться с такими фокусами. Осознав это, Хендрикс опечалился.
Я вышел на улицу посмотреть, что там делается. Повсюду одинаковые человеческие лица. Челюсти плотно сжаты, взгляд неподвижный, как бы говорящий: ради бога, ни слова. И повсюду странные существа. Под некоторыми уже образовались солидные кучи дерьма — эти явно все время сидели на одном месте. Я ни разу не видел, чтобы существа мешали людям, лишь их количество непрерывно росло. Я наведался и к трещине на улице Бомкамп, почва там действительно была разорвана на большом протяжении. Едва я осторожно нагнулся, чтобы заглянуть вглубь, оттуда выползла гигантская саламандра. На голове у нее, между двумя преданными голубыми глазами, красовалась шишка, но, присмотревшись, я понял, что это маленькая модель «шевроле», точь-в-точь как та машина, которая принадлежала Вестринку. А может, это был он сам, в своем истинном обличье? Брюхо его сплошь покрывали нанизанные на проволочки монеты, при каждом движении они касались земли и, задевая друг о друга, бренчали и звякали.
Не в пример другим рейссенцам я и не думал приниматься за обычную работу, мое вчерашнее решение оставалось неизменным; среди знакомых мне людей я меньше всего был подвержен влиянию привычной рутины, и мой страх в той или иной степени уравновешивался какой-то дьявольской радостью от того, что наконец-то все идет не так, как хотел бы добропорядочный бюргер. Конечно, мной овладело чрезвычайное любопытство, и я решил выбраться за город, чтобы посмотреть, не покрыты ли поля и луга теми же странными пришельцами — если нет, тогда, значит, все началось с мест скопления людей.
Я хотел выйти со стороны Лихтенбергердик, но на улице Хаар, самой широкой въездной магистрали Рейссена, где дома — почти сплошь маленькие — отстоят от проезжей части так далеко, что перед ними образуются как бы площади, я столкнулся с первым проявлением силы. Раздался свист, небо потемнело от поднятой где-то далеко пыли, воздух всколыхнулся — и внезапно я очутился в вихре звуков. Затем что-то, вначале похожее на мчащийся ком, обогнуло угол булочной. Я отскочил в сторону, и в тот же миг это что-то стремительно пронеслось мимо меня, оставляя за собой стоны задетых копытами или лезвием меча. Ибо при вспышке молнии я успел разглядеть, что это был не ком, а смешение красок и форм, всадники, слитые воедино бешеной скачкой, — высокие, могучие всадники. Не сверхъестественно высокие, а вполне похожие на людей. Один всадник наносил во всех направлениях удары мечом, а второй вращал над головой какой-то большой желтый предмет, оказавшийся чашей весов.
Копыта не стучали по мостовой, они ее не касались. Один из коней был кроваво-красным.
Потрясенный, я застыл на месте, потрясенный, подковылял к дереву, потрясенный, прислонился к стволу.
Я все понял. Это были апокалиптические всадники! Наступало утро Судного дня.
Свершилось!
Значит, они все-таки были правы, мужчины в островерхих шляпах и крахмальных воротничках, с иссохшими лицами, уже много веков возвещавшие об этом дне с церковных кафедр. Это уж чересчур. Такого я никак не ожидал. Но сомнений не было — все небесное устройство пришло в движение.
Настал мой черед дрожать от страха, к чему я абсолютно не был готов. С высшими силами природы, которые я всегда считал реальными, я старался не портить отношений, но на то, что проповедовалось в церквах, не обращал ни малейшего внимания. Большинство рейссенцев вдруг оказалось в гораздо лучшем положении, чем я, не говоря уже о тех, кто мог встретить этот день со спокойной душой и с высоко поднятой головой, как, например, Ганзнбур, Квинтндикс, Еннеке ван Янсгезе, всю свою жизнь посвятившие подготовке к нему.
Нас вот-вот одного за другим арестуют и призовут к ответу, а что делать мне, когда придет моя очередь? Чем я оправдаюсь, на что сошлюсь? На то, что больше других наслаждался хорошей погодой? Меня наверняка отправят в обитель слез и скрежета зубовного. О, как мне сейчас было стыдно за свое высокомерие, за надежду, что мой здравый смысл или здоровое мироощущение сумеют в одиночку противостоять столь всеобъемлющей силе, каковой является вера в евангелие. Я решил вернуться домой и там ожидать своей судьбы.
Слухи о происходящем начали распространяться среди населения, другие тоже узнали свирепых всадников и рассказали об этом. Распространялись слухи до тех пор, пока привычный образ жизни не был разрушен окончательно. Всем стало не до этого.
Диковинные существа, первое время совершенно пассивные и даже позволявшие собакам обнюхивать себя, мало-помалу зашевелились, хотя особой агрессивности еще не проявляли. Некоторые стали довольно быстро вращаться вокруг собственной оси наподобие волчка, периодически выпуская вверх струи жидкости, которая, попав на кого-нибудь, издавала резкий запах; другие приближались к домам и заглядывали в окна. То ли хотели напугать жителей, сидящих дома, то ли хотели посмотреть, как ведут себя в этот час разные люди.
Что ж, посмотреть на это стоило. Если люди когда-либо демонстрировали свой подлинный характер, то именно теперь. Достойно держались как раз те, от кого никто этого не ожидал. Вот, например, Стутндерк, керосинщик, кричавший, что ему нечего опасаться: в то время как солидные, всеми уважаемые граждане метались взад и вперед, ища спасения в чистке своей одежды или в пожирании лакомств, он подхватил раненого апокалиптическим мечом и отнес его в лавку. Да и сам я, куда девалась моя выдержка? Стутндерк глядел на меня, и в его взгляде отражались презрение и жалость. А старый Ян Фос, садовник, чей крючковатый нос еще больше выделялся благодаря висевшей под ним капле и почему-то всегда казался продолжением согнутой спины, подошел ко мне, подняв кверху такой же крючковатый палец:
— Ну, вот и свершилось, менеер, а ведь нас долго предупреждали. И вас — тоже! — И злорадство вспыхнуло в его язвительных глазках.
В доме Пейе я увидел в окно целую семью, они спокойно сидели за столом и слушали твердый, мужественный голос честного каретника, что-то читавшего вслух. Я остановился.
— «…и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь, и звезды небесные пали на землю…»
Он читал из Откровения.
Дальше по улице стоял невообразимый языческий гвалт. Доносился он из дома Зандконинга, чей прадед был бродячим цыганом, и теперь цыганская кровь занималась уничтожением домашнего скарба. С песнями и воплями вся семья плясала средь летающей посуды и падающей мебели. Старый Зандконинг бил топором по ножкам огромного шкафа и вопил:
— Я срублю свой шкаф, я срублю свой шкаф!
Вскоре все имущество превратилось в огромную кучу черепков и обломков. Песчаный король и песчаная королева, песчаные принцы и песчаные принцессы
[5] взялись за руки и принялись в однообразном, но возбуждающем ритме прыгать и скакать на этой куче, то и дело выкрикивая:
— Все барахло на куски! Все барахло на куски!
Время от времени кто-то не выдерживал, спускался вниз и садился отдыхать; по запыленному желтому лицу текли слезы. Мне было трудно определить, от смеха они текли или от счастья.
Происходившее здесь никого не интересовало, я был единственным зрителем, и это щекотало мои чувства.
У нотариальной конторы стояли три старика в высоких черных картузах и разочарованно беседовали между собой. Они хотели срочно составить завещание, а нотариус куда-то исчез. Иногда один из них нажимал на кнопку звонка.
Мясник Меккелхорст стоял у дверей мясной лавки и подавал мне таинственные знаки. Не хочу ли я получить в подарок половину говяжьей туши, он мог бы это устроить. Он всегда относился с уважением и ко мне, и к моему отцу тоже, а я еще ничего от него не получал. Туша висела на перекладине лестницы и выглядела неплохо. Я сказал, что не знаю, для чего мне одному полтуши. Тогда он упаковал кусок копченого мяса и длинную колбасу и насильно всучил мне сверток.
— Вот, возьмите, менеер, чтобы у вас было чем набить себе желудок. Берите в подарок от Меккелхорста. — Он безуспешно пытался придать своей жирной красной физиономии любезное выражение. Доброта ей не шла и делала ее отталкивающей.
Возле площади Схилд я встретил Бёссела, одного из городских дурачков, уже больше десяти лет каждый день бродившего по улицам в поисках старого хлама. За домом у него образовалась целая свалка. Сейчас он преследовал большую жабу с одним ухом, из которого торчала известковая трубка. Он не боялся сверхъестественных животных, принимая их за порождения собственной фантазии.
У трактира на площади Схилд возникла толчея вокруг ведра с можжевеловой водкой. В узком переулке между улицами Хохе-Ступ и Кронеян стояла молодая пара. В эти последние минуты они объяснялись друг другу в любви — двое, полные радостных, страстных чувств, увиденные мною мимоходом.
В доме моего соседа Эфтинка, хозяина самого популярного рейссенского магазина, пели под орган псалмы. Голова престарелой бабушки, заметная из-за белого чепчика, качалась в такт мелодии. Но сам хозяин в пении не, участвовал, он сидел за своей конторкой, обложенный бумагами, и что-то быстро писал. Я знал, что именно. Он подсчитывал промежуточный баланс, чтобы определить, чего успел добиться в этом мире. Умножайте свои таланты! — вот что составляло для него основу веры.
Так каждый занимался своим делом и был столь захвачен этим, что не обращал внимания на других. Средь великой неуверенности, которая внезапно охватила всех, каждый с удвоенным упорством держался за главную линию своей жизни.
Пока я стоял посреди улицы, размышляя над этим, небо затянулось, но не тучами, а дымкой. Куда ни глянь — повсюду надо мной была черная дымка. Словно внезапный осадок.
Сразу же перестали щебетать воробьи и скворцы, ища укрытия в густой листве, пряча головки и лапки под крылья. Я быстро вбежал в свой дом.
В комнатах на первый взгляд ничего не изменилось, все казалось в сумерках прежним, однако ничто уже не было нужным. Как в салоне тонущего океанского парохода, все утратило свою цену.
Я поспешил наверх, в комнату под крышей, чтобы посмотреть, да-да, я хотел посмотреть, что творится, возможно, это и было продолжением линии моей жизни — посмотреть на все сущее на Земле. Из окна я мог видеть половину Рейссена и большой кусок неба. Я забыл о своих тревогах, о своем страхе — так интересно было наблюдать.
Дымка окутывала весь город, тянулась дальше, висела над Эсом, над Фризенбергом, казалась всеобъемлющей.
Солнце ясно просвечивало через эту завесу и не походило на власяницу, как сказано в Писании; солнечный свет, просачиваясь сквозь дымку, щекотал поверхность вещей.
Внизу фантастические животные начали оживленно скакать. Стало видно, что у некоторых из них светится нижняя часть, при каждом прыжке вместо тени за ними перемещалось светлое пятно.
Дымка над ними становилась все плотнее, и внезапно на чистейшем нидерландском языке, так громко, словно солнце превратилось в рупор, прозвучали слова:
— Трепещите, грешники! Приготовьтесь, жившие в чистоте!
Это был сигнал к началу больших маневров, ибо, как только эти слова отзвучали, по-моему, справа, над мельницей Росмана, в дымке открылся широкий квадратный люк, и в нем, как в топке горящей печи, я увидел интенсивное чередование красного, желтого и голубого. Из люка, отрываясь от огня, полетели к земле языки пламени, хотя нет, не языки пламени, а розы, отдельные розы, и гирлянды роз, и лепестки рассыпающихся роз, они опускались все ниже и ниже, образуя в совокупности висячую колонну живого света. На более близком расстоянии они стали скорее похожи на лепестки яблоневых и грушевых цветков, и было их в воздухе так же много, как бывает над цветущим садом в ветреный день.
Но и не лепестки это были, а ангелы, сонмы ангелов в развевающихся одеждах, с нежными заостренными крыльями и темно-рыжими волосами, опускавшиеся на Рейссен, лишь изредка взмахивая крыльями.
Наблюдая за одним из них, парившим в воздухе, я вдруг обнаружил ближе к востоку второй люк, из которого тоже что-то струилось, но не яркий свет, не лепестки роз, а нечто вроде кофейной гущи, вытекающей из носика, — поток густой массы, при снижении он распадался на блестящие темные частицы, которые в конце концов оказывались саранчой и чертями, скорпионами, гигантскими жуками и бронированными чудовищами; они сжимали в руках и в лапах или же имели в виде особых наростов канаты, мечи, лестницы, песты, копья, крючья, громадные ножи, алебарды, пилы.
По мере увеличения их количества участки неба, остававшиеся ясными после ангелов, мутнели и одновременно озарялись металлическим блеском.
Вот они совсем снизились, пролетели возле моего окна, я отступил назад, в темноту комнаты. Ангелы приземлялись прямо на улицах и входили в дома через двери, черти опускались на деревья и на крыши и проникали в дома в тех местах, где очутились: сбрасывали вниз водостоки, разбирали крышу и исчезали в образовавшейся дыре.
У меня сжалось сердце. Они пришли за нами, людьми, и ангелы и черти, я уже слышу земные стоны и неземной хохот. Каждую минуту я могу ожидать разрушения крыши над своей головой, все мое тело превратилось в бледный, дрожащий сгусток плоти, я корчусь, я съеживаюсь от страха.
И в этот миг… меня осенила гениальная мысль, единственная за всю мою жизнь гениальная мысль. Непросто
решиться назвать собственную мысль гениальной, однако же я решаюсь на это. Ведь гениальной можно, наверное, назвать мысль, которая непохожа на все прежние мысли и с которой связаны весьма важные, не поддающиеся предварительному учету последствия. Именно такой была осенившая меня мысль.
Разве не может в обыкновенной земной коре при исключительно сильном сжатии возникнуть алмаз, а в обыкновенном смертном при исключительно сильном сжатии — гениальная мысль? В возможности этого я убедился на собственном опыте.
В чем же заключалась гениальная мысль?
Я вдруг вспомнил, что где-то на чердаке должен стоять ящик со старыми маскарадными костюмами моих студенческих лет, в том числе с костюмом черта.
И все?
Да, все, такая удивительная простота и такая бесконечность последствий.
Я вскочил и пулей вылетел из спальни, кинулся к ящикам и чемоданам, передвигая, переворачивая и опрокидывая их, пока не нашел тот самый ящик, а затем начал копаться в нем, пока не обнаружил нужный костюм. Да, он был цел.
Я схватил его, побежал в самый темный угол чердака и, скинув людскую одежду, облачился в него, а на голову натянул капюшон с двумя рогами.
Я успел как раз вовремя, слуховое окно отворилось. Хотя я не смел поднять глаз, я не стал прятаться, а сделал вид, что занят поисками людей, укрывшихся на чердаке. Черт — а это был он — проник внутрь и стал спускаться вниз по лестнице, не обращая на меня ни малейшего внимания. Оглянувшись, я еще увидел в проеме лестницы его макушку с торчащими волосами или рогами.
Он должен был меня заметить — я как раз что-то пробормотал, — но, видимо, подумал: здесь уж есть один, а мне лучше спуститься на следующий этаж.
Мне этого было достаточно. Теперь я понял: черти не обладали абсолютным знанием, присущим их повелителю, они всего лишь исполнители, обыкновенные духи, и их можно одурачить.
Самым лучшим было бы отсидеться в потемках, пока все не кончится, по крайней мере если мой дом не пострадает от трещин или сотрясений земной коры, от тяжелых ударов кувалды или от огня. Скопившуюся здесь за долгие годы рухлядь я быстро собрал в кучу, соорудив что-то вроде горного пейзажа, где мог заниматься поисками сколько угодно. В корзине со старыми игрушками я нашел несколько жженых пробок и, покрасив лицо в черный цвет, воспринял это как указание свыше; ко мне вернулось относительное спокойствие, теперь я мог надеяться последним остаться в живых. Внутренняя дрожь утихла.
В ожидании дальнейших событий я присел на ящик, готовый при малейшей опасности снова скрыться за кучей рухляди. По предсказаниям пророков, это должно продолжаться не более одного дня.
Когда во время ярмарок ты приближался, бывало, к месту празднества, к гудящему столбу возгласов, гула, трезвона, лязга и звуков шарманки, тобой овладевал могучий, вдохновляющий ритм, тебя охватывало глубочайшее волнение, и желание самому ринуться в возбужденную толпу становилось неудержимым.
Так было и теперь. Чем громче и пронзительнее делались звуки, чем отчетливее я чувствовал, как этот гам все плотнее обступает мой дом, тем труднее мне было усидеть на ящике в уголке, в стороне от великого события.
Может быть, рискнуть и вернуться на свой наблюдательный пункт в спальне?
Правда, внешность моя изменилась не до конца: на ногах у меня осталась человечья обувь, — но кто в этом адском котле сумеет обнаружить подобную деталь. И я вновь подошел к окну.
Воздух со всех сторон, весь купол небес, казался наполненным ровным, но сильным пламенем, которое высвечивало каждую вещь целиком, проникало в самые укромные уголки и закоулки, — повсюду на земле пропала тень, будто солнце растаяло. И в углах моей комнаты, и на всем чердаке, раньше таком темном, был неземной свет, я различал переплетение балок, которых за прошедшие годы не видел ни разу.
На Большой улице, и в соседних переулках, и на площади Схилд суетливо метались людские фигуры, а среди них тут и там возникал ангел, как сверкающий остров святости, остров спасения. Многие грешники кидались к нему в своем крайнем отчаянии, хватались за его одежды и крылья, но, когда давка становилась чересчур большой, ангел терял терпение и отстранял их от себя быстрыми взмахами крыльев, а если это не удавалось, поднимался в воздух и опускался снова чуть подальше.
В невероятной сутолоке бегства и погони, ловли и сопротивления я внезапно обнаружил мясника Меккелхорста. Он передвигался на четвереньках, точно боров, был гол, как свиная туша, а в его жирной спине торчали шесть ножей, вонзенных почти до рукоятки, по три с каждой стороны. Его преследовал отряд чертей, пытавшихся набросить на рукоятки ножей кольца, превратив мясника в передвижной аттракцион. Кровь из него, как ни странно, не текла.
Из тел других бегущих тоже торчали копья или пилы, у некоторых почти полностью была содрана кожа (многих я узнал, но не буду называть их фамилий), однако крови я не видел нигде.
Не видел я также мертвых и потерявших сознание, хотя кое-кто от страха выбрасывался из окон, а иные во всеобщей давке попадали под ноги бегущих, — всюду сохранялась жизнь и толчея.
Перочинным ножом, который мне совсем недавно наточил Хендрикс, я сделал надрез на ладони. Боль была обычной, но кровь не появилась, словно я резал кусок резины. Несмотря на переодевание, я, следовательно, не избежал общей участи. Мы стали бессмертными, нам дарована вечная жизнь.
Впрочем, для многих это была уже не жизнь, а нескончаемые муки. Что там ползет на сточной канаве? Громадная черная змея, но вместо проглоченного чужого тела внутри нее чужое тело окружало змею снаружи. Эге, да это же Хендрик Ян Вегеринк из Ректума, по прозвищу Гвоздь, первый скряга во всей округе. Змея вползла в него сзади и до половины вылезла наружу через рот, теперь Хендрик Ян Вегеринк должен вместе с ней ползти по мостовой, а при приближении ангела вместе с ней скручиваться в кольцо и тереться об ее шероховатую кожу, ибо змея при виде ангела начинала извиваться, как червь, на которого наступили.
Он не вызвал у меня жалости, я знал, сколько причинил он людям зла своим сребролюбием. Я был солидарен со змеей.
Нет, я не остался в стороне от великого события. Неистовство земных и небесных сил, могучее смешение красок и форм, безумная радость спасенного и отчаяние наказуемого заражали меня своим буйством, и, чем больше я видел тех, кого карали, и тех, кому разрешалось свободно проходить в сопровождении ангелов, тем быстрее моя необузданность сменялась энтузиазмом, ибо терпевшие муки были никчемными людишками, мерзавцами, лентяями, к которым я испытывал отвращение, а люди, которых я уважал, ни на волос не пострадали. Да, оно было добрым, справедливым долом, это представление, кто бы его ни предрекал.
Даже здесь мне стало невмочь; словно подхваченный вихрем, я сбежал вниз по лестнице, выскочил на улицу и оглянуться не успел, как очутился в гуще событий.
Никто не приближался ко мне, никто не трогал меня, разве что задевали иногда в давке, никто не следил за мной. Лишь старый черт с безобразной козлиной бородкой и множеством украшений посмотрел на меня недоверчиво. Чтобы полностью рассеять его сомнения, я быстро дал пинка первому попавшемуся грешнику. Им оказался господин Хомбринк, клеветник и старый брюзга, которого теперь вели на цепочке, прикрепленной к его языку. Обо мне он тоже говорил гадости, когда был еще без цепочки на языке.
Я счел это удачной находкой и иногда давал пинок или затрещину несчастному, случившемуся рядом, или оплевывал его, как, по моим наблюдениям, часто делали черти.
Возле табачной фабрики Спаньера я увидел затоптанный ногами блестящий предмет — кинжал. Я протолкался туда, сделал вид, что сам его уронил, и поднял его. Рукоятка была перламутровой, а лезвие с обеих сторон украшено изящным орнаментом — словом, не кинжал, а произведение искусства. Теперь я мимоходом мог колоть или царапать людей, совсем как неземное существо.
Вместе с основным потоком я попал на площадь Схилд, в центральную часть Рейссена, образованную церковью и ратушей, гостиницей «Корона», гостиницей «Ширмочка» и кафе Кундеринка, — с давних пор это место было средоточием всех городских событий, вот и теперь последнее событие завершалось тут кульминацией и развязкой.
Как мутная жидкость после долгого кипения в колбе распадается на чистый продукт перегонки и осадок (чистый продукт поднимается вверх, муть темной инертной массой оседает на дно), так разделялись и рейссенцы. В середине площади начинались два пути, уводящие с Земли. Один шел к югу и был широкой дорогой из прочного полотна, он поднимался вверх сначала над улицей Элсенер, затем все выше и выше, оставаясь видимым до уровня облаков, и исчезал в синеве за огромными воротами. Другой путь был туннелем, ведущим на север, под улицу Бомкамп, до углового дома на улице Кронеян, из которого кверху поднимался спертый подземный воздух; в конце туннеля за плотной тьмой можно было заметить колеблющееся пламя.
На ступеньках ратуши я не спеша огляделся. Дорога на небо раскачивалась под ногами праведников. Она была перегружена, помилование получили процентов шестьдесят. Из детей не погиб никто, большими группами они семенили наверх, громко болтая, под охраной ангелов, следивших, чтобы дети не подходили близко к краю, и образовавших в некоторых местах надежную изгородь из крыльев.
Можно было бы ожидать, что на этой границе между людьми, навеки покидающими друг друга, разыграются душераздирающие сцены, что некоторые начнут судорожно обниматься, а чертям, с одной стороны, и ангелам, с другой, придется их растаскивать. Ничего подобного. И праведники, и грешники были, вероятно, в душе рады навсегда расстаться. Исключением стали лишь двое подвыпивших: они долго жали друг другу руки и клялись в вечной дружбе, прежде чем каждый отправился своей дорогой, один в сопровождении двух ангелов, другой, обняв за шею шагавшую вертикально исполинскую гусеницу.
Большинство людей были мне знакомы, иногда я с трудом сдерживался, чтобы не пожелать им вслух удачи. Многие никак не могли поверить, что сподобились вечного блаженства, они никогда не думали, что все будет так хорошо. Группа возбужденных юношей и девушек попыталась было плясать на пути к небу, и ангелам пришлось унять их пыл. Старушки впали в тихое блаженство, некоторые на ходу вязали чулок. Ни одной религии предпочтения как будто бы не оказывалось, здесь были представлены все вероисповедания, в том числе и евреи, я приметил даже одного из китайцев, торговавших в Рейссене арахисом: бодро шагая вверх со своим лотком, он без устали расхваливал арахис (находились и покупатели); по причине китайского воспитания смысла событий он не понимал.
За осужденных я не слишком переживал, я не испытывал к ним симпатии и не считал их наказание несправедливым. Среди них были и такие, которых раскусил лишь я один, а все прочие относились к ним с уважением, как к порядочным людям. Увидев, как их уводят, я порадовался своей проницательности.
Ван Тарсенберге также оказался осужденным. Еще два дня тому назад он с большим удовлетворением сообщил мне, что наконец-то обнаружил своих предков в двенадцатом колене. Его родословное древо теперь было полным вплоть до 1560 года. Он шагал со здоровенным кольцом в носу, будто негр из отдаленных областей Африки.
Многих привели сюда из соседних населенных пунктов, здесь был центр для всего округа. Крестьянин из Зуна шел в туннель с горящей кепкой на голове и служил ориентиром для целой толпы крестьян из Ноттера.
И я подумал, что увиденное мною происходило не только в Рейссене, но и в Девентере, в Париже, в Китае и в Австралии. Какая организация! Какие кадры! Небесные и адские владения были не помещениями, не залами, как мне всегда казалось раньше, а огромными пространствами, под которыми могли уместиться целые континенты.
Люди, уходившие наверх, часто держались за руки или обнимали друг друга, обменивались взглядами, полными любви и взаимопонимания, уходившие вниз шли поодиночке, никто из них не искал у другого поддержки в своих страданиях — и в этом было существенное различие.
Они принадлежали двум автономным системам, не имевшим между собой ничего общего и представленным ангелами и чертями. Не было, разумеется, и речи о взаимодействии, о совместном разграничении человеческой массы — обе системы действовали по-своему и друг для друга не существовали. Ни разу эти системы не обменялись ни словом, ни жестом, и мне казалось удивительным, что обе они исполняют волю одного повелителя.
Но постойте, что там такое! Спрятавшись в большой толпе детей, кто-то пытался хитростью добраться до зыбкой дороги в небо. Я сразу узнал его. Это был член рейссенского муниципалитета, человек, который из-за непомерного тщеславия годами подрывал своими интригами сотрудничество и взаимное доверие, мало того, подобно древнегреческой гарпии, он пачкал все, к чему прикасался, и при этом во всех церквах Рейссена по очереди искал спасения души. Я его ненавидел.
С дьявольским хохотом я соскочил с лестницы, растолкал детей и, размахивая кинжалом перед его очкастой крысиной мордой, вытащил его из толпы. Он задрожал как осиновый лист и без сопротивления позволил увести себя в подземный туннель. Чтобы он больше не пытался избежать своей участи, я сопровождал его некоторое время и в туннеле, а затем передал его двум монстрам, объяснив им жестами, что они должны плотно обхватить его своими щупальцами. Они так и сделали.
Я очутился довольно близко от адского огня, воздух стал раскаленным, и, к своему ужасу, я понял, что дышать в аду невозможно. Здесь не было ни глотка свежего воздуха.
Я поспешил к выходу и с сознанием исполненного долга снова опустился на ступени городской ратуши, чтобы передохнуть. И задумался.
Можно ли обнаружить между людьми четкую границу, в соответствии с которой одни попадают на небеса, а другие — в ад? Разве не бывает сомнительных случаев? Ведь я воспринимаю человечество как однородную массу, конечно, с двумя крайними областями, но все же не как два противостоящих полюса. Должны быть и сомнительные случаи, когда достаточно крохотной капли, чтобы одна из чаш перевесила. И разве не могу я — коль скоро, переодевшись, я сумел так решительно и плодотворно вмешаться в происходящее — добавить куда-нибудь эту каплю? Безусловно, могу!
Дрожа от возбуждения, я сделал последний вывод из своей гениальной мысли: принять непосредственное участие в великом событии. По собственному усмотрению в одном случае помиловать, в другом — наказать, самому занять место в верховном судилище, хотя бы на кончике крайнего стула.
По спине у меня тут же пробежал озноб. Боже милостивый, какая смелость! Это же будет превышением всех данных человеку полномочий, если меня разоблачат, я наверняка понесу самое тяжкое наказание. Неужели мне не довольно того, что я своим костюмом черта вношу обман в день Страшного суда!
Но с другой стороны: риск, дерзость подобной затеи. В каждом человеке возникают однажды мысли, которые он не может отогнать от себя, которые овладевают им, потому что рождаются в самой глубине его существа. Такова была и эта мысль.
Минуя шумную суматоху, мой взгляд упал на квадратную деревянную колокольню, могучие каштановые деревья, фасад старинной гостиницы, вещи, так же хорошо мне знакомые, как я сам себе; казалось, они думали: пока ты помнишь о нас, мы тоже помним о тебе. Я ощутил поток симпатии, которую изливали на меня эти крупные вещи, и в душе моей ожили восторги юности: вещи поддерживали меня. Бог был моим старшим братом, моим товарищем, ничто не могло мне угрожать.
Да, я должен участвовать, я буду участвовать.
Но где начать? С кого начать? Есть ли у меня на примете такой вариант? О, конечно! Она! Как я мог не вспомнить о ней в такой день!
Я был холост, но не всегда за годы пребывания в Рейссене сердце мое работало вхолостую.
Ее муж служил на железной дороге и слишком охотно видел в ней после свадьбы лишь отличную домашнюю хозяйку. Мы встречались с ней раз в неделю, нам обоим нужны были эти встречи, и никто до сих пор о них не проведал. Только покидая свою будничную жизнь, она переживала моменты подлинной красоты.
Люди не стареют, каждый новый отрезок жизни накладывается на предыдущий, но предыдущий не исчезает до конца, и, если обстоятельства потребуют, человек способен стать таким, каким он был прежде. Со мной она была гораздо моложе, чем со своим мужем.
Однако она жила во грехе, и я был тому причиной, а раз так, я обязан ее спасти.
Прокладывая себе путь через густые толпы, я с ужасом обнаружил, что к моему ботинку, выпадавшему из общей маскировки, прилипла медуза. В эту минуту я как раз проходил мимо ворот сарая, таких огромных, что в них свободно въезжала лошадь с телегой; внезапно рассвирепев, я швырнул медузу в ворота, и она тотчас превратилась в большую светящуюся афишу. А я поспешил дальше, при виде этой афиши меня обуял страх.
На ближайшей улице я заметил Скоапньянвилма. Его сопровождало существо, сплошь покрытое чешуей и бородами — из-под каждой чешуйки торчала борода. Глаза, расположенные поверх чешуи, глядели очень странно. Некоторое время я шел следом за ними и слышал, как Скоапньянвилм читал чудовищу проповедь.
Однажды, когда он копал торф в Маркелозском торфянике, прямо возле него в столб ударила молния, вот с того-то дня он и начал свои непрерывные проповеди и наставления. Повсюду ему мерещились грехи и неуважение к Богу. Жизнь своих домашних он превратил в ад.
— Имеется только единственная любовь, — услышал я его фразу, смесь рейссенского диалекта с канцеляритом. Палец Скоапньянвилма был направлен в сторону чудовища, которое вело его на веревке. — Это любовь Бога, нас охраняющего во веки веков. Завоевать эту любовь — вот наша задача!
Чудовище отреагировало на его слова странным движением, как будто жуя все свои бороды разом.
Мне было трудно расстаться с этой бесподобной парой, но следовало поскорее добраться до заветного домика.
Вот и радующая глаз светло-розовая черепица, окна, боязливо прикрытые чистенькими занавесками. Здесь еще ничего не случилось, кровля не тронута, дверь закрыта. С надеждой и страхом отворил я калитку, шмыгнул за дом и вошел с черного хода в кухню. Никого. Я осмотрел все комнаты. Никого. Вконец расстроенный, я рухнул на стул. Это был удар, первый удар за весь день.
А как же порыв, могучий порыв, возникший, пока я сидел на ступеньках ратуши? Неужели он был пустячком, так, для развлечения? Раньше интуиция меня не обманывала, она была почти осязаемым приказом.
Правда, был еще платяной шкаф, в задней стенке которого имелась дворца, ведущая в чулан под лестницей. В этом чулане я сам однажды скрывался целую ночь, когда ее супруг внезапно возвратился. И она вполне могла там спрятаться.
Так оно и было. Открыв дверцу, я увидел в самом углу чулана маленький, бесформенный комочек страха, в нем жили только глаза, напряженно следившие за мной. Из-за греховной связи со мной-человеком она в ужасе глядела на меня-черта.
Я наслаждался этим взглядом, этим ожиданием моего малейшего движения — вызывая в другом ужас, чувствуешь полноту своей власти над ним. Впервые в жизни я упивался властью.
Но жалость к ней вскоре настолько усилилась, что я придал своему лицу самое успокоительное выражение и сбросил маску — увы, эффект был совсем не тот, какого я ожидал.
— Так ты — черт, — сказала она, словно стряхивая с себя глубокий сон, — я должна была догадаться об этом по твоим речам, не похожим на речи людей. Значит, я жила с чертом. Значит, я — ведьма! — И ужас передо мной сменился в ней ужасом перед самою собой.
Мне стоило большого труда ее успокоить, я подробно рассказал ей, как развивались события, как все начиналось и что происходит в Рейссене сейчас. Слушая мой рассказ, она постепенно пришла в себя, а узнав о моей военной хитрости, даже рассмеялась и поцеловала меня, когда же я изложил свой план ее спасения, к ней вернулись и бодрость духа, и храбрость.
Но при мысли о том, что это наша последняя встреча, мы снова загрустили, потом выбросили из шкафа на пол всю одежду и подарили друг другу то самое большое утешение, какое только способны подарить друг другу мужчина и женщина.
Долго утешаться мы не могли, надо было действовать. Лучше всего не мудрить; я не видел возможности незаметно поднять ее на шаткую стезю добродетели, а пристроить ее в колонну помилованных было бы слишком рискованно, нет, я проведу ее по улицам как караемую рукой Всевышнего до того места, где начинается подъем, там я быстро повернусь к ней спиной, а она, словно выполняя самое привычное дело на свете, пойдет вверх, притворившись, что из носу у нее течет кровь.
Так мы и поступили. Она распустила волосы, я захватил их в кулак, сделал вид, будто тащу ее за собой, и, разыгрывая эту немую сценку (она — горестно поникнув головою, я — самодовольный, торжествующий), мы вышли из дому.
Стало гораздо тише, не только потому, что многие рейссенцы уже покинули город, но и потому, что количество других существ значительно уменьшилось. Диковинных животных, которые утром были столь многочисленны, почти совсем не осталось. Вполне возможно, что Страшный суд был назначен на этот день не по всей Земле и что мы встретились здесь со странствующим воинством.
До цели мы дошли быстро, почти незамеченными. Иногда я ласкал ее, обнаружив, что чудовища мучили женщин интимными прикосновениями своих отвратительных тел.
Один раз мы здорово напугались. Было это на Смиттенэнде, где дорога шла вверх. Два черта, решив, что она слишком сильно сопротивляется, захотели мне немножко помочь. Жестом, означавшим «Оставьте, я и без вас управлюсь», я охладил их пыл. При этом на лбу у меня выступил холодный пот.
На площади Схилд было по-прежнему оживленно, словно перед закрытием ярмарки, когда народ толпится лишь у самых интересных аттракционов.
Я довел ее до того места, где дорога на небо прикасалась к мостовой, незаметно разжал кулак, в нужный момент моя рука скользнула вниз по волосам, я отвернулся и скрылся в толпе.
Когда я снова поднял голову, чтобы взглянуть на нее, она уже успела подняться довольно высоко. Без помех она шла, летела ввысь, только раз она оглянулась в мою сторону, и в эти полсекунды лицо ее выразило всю полноту любви и благодарности. Я смотрел ей вслед до тех пор, пока мог различить ее среди других.
Операция удалась. С чувством глубокого удовлетворения я снова уселся на ступеньки городской ратуши, усталый душой и телом. У меня не было никакого желания совершать что-нибудь еще, я был доволен тем, что сделал, доволен самим собой и некоторое время наслаждался самоуважением и одобрительным шелестом высоких каштанов.
Однако я тотчас забыл об этом, когда понял, что день Страшного суда близится к концу. Поток рейссенцев редел, все больше ангелов и чертей покидало Землю. Пора было вновь подумать о собственной безопасности, неразумно сидеть на виду в одиночку. Конечно, какой-то черт должен оставаться последним, только это особое положение я предпочел бы не афишировать. Я еще немного подождал, но, когда заметил, что адские врата вот-вот закроются, а несколько ангелов на лету сворачивают полотняную дорогу в небо, я подумал, что пора смываться. Незаметно скользнул я в узкий проход между городской школой и старым домом Де Плессе, вышел на площадку для игр и скрылся в одной из кабин уборной, предназначенной для школьников. Здесь меня не найдут. Я запер дверь на крючок.
Все тише и тише становилось на Земле — одинокий возглас, шум крыльев в воздухе.
Поскольку опасность вроде бы миновала, я впервые начал сознавать, в каком положении очутился. И чего я в конце концов добился своими хитростями!
Выходит, я останусь один на необитаемой Земле, как взбунтовавшийся моряк, выброшенный на необитаемый остров с небольшим запасом провианта. Я стал бессмертным, я могу считать Землю собственной квартирой, ковчегом, на котором я веками буду бороздить вселенную. Но уцелеет ли Земля? Не погибнет ли она скоро, быть может, сию же минуту, не утонет ли, не развалится ли, не сгорит ли, не растворится ли, не испарится ли? И что будет тогда со мной? Буду летать в безвоздушном пространстве автономным небесным телом, человеком-метеоритом? Парить невесомым, словно в ванне? Но вечно одиноким — ни животных, ни предметов рядом. Разве не лучше было попасть в ад, где хотя бы существует общество, коллективное страдание?
Дышать в уборной становилось с каждой минутой труднее, и я вышел наружу, на свежий воздух.
Рейссен обезлюдел, нигде никого не осталось.
Воробьи прыгали по улице, животный мир ничуть не пострадал. Никаких сверхъестественных явлений, обычное вечернее небо. Ни малейших признаков других перемен на Земле.
Значит, опять все готово для нового зарождения жизни, для нового человеческого рода, в крайнем случае для нового отряда приматов, чтобы развитие повторилось? Меня часто удивляло, почему именно мы, люди, являемся носителями культуры, почему не насекомые, которые из-за своих небольших размеров должны гораздо сильнее нас отзываться на впечатления этого мира.
А мне суждено скитаться среди этой новой жизни пережитком неведомого прошлого? Вечным жидом? Или агностиком, каким я был до сих пор? Нет, агностиком я больше не был. Скажем, христианином. Вечным христианином?
С такими мыслями я брел по Большой улице. Такой знакомой, но теперь такой чужой. Вот и мой дом. Мой дом? Все дома теперь мои. Я могу войти в любой дом и облазить его снизу доверху, могу даже поехать на велосипеде в любую европейскую столицу и прочесть в правительственных канцеляриях самые секретные дела и документы. Но для кого? Зачем? Разоблачения теперь бессмысленны, каждому уже вынесен приговор.
Все на свете стало моим — Государственный музей, Лувр, Нормандия, алмазные копи Южной Африки, египетские пирамиды. Я стал королем, императором, властелином мира. Никогда еще обладание земными вещами не казалось мне столь иллюзорным, как теперь, когда я обладал всем.
Что мне, собственно говоря, теперь делать? Есть и спать мне уже не нужно. Чего-то добиваться? Все и так к моим услугам. Наслаждаться природой, книгами? Все время копить наслаждения, никогда не имея возможности поделиться ими с другими, — разве можно назвать это наслаждением?
Овладевшее мной уныние немного развеялось при мысли, сулившей хоть какое-то занятие. В Народном парке был вольер с красивыми птицами, золотыми фазанами, цесарками. Их надо было накормить и выпустить на волю. В ближайшие дни намечалось широкое поле деятельности: выпустить из клеток зябликов и канареек, сначала в Рейссене, потом в Энтере, Бирдене, Холтене.
Но сделать этого я не успел.
По дороге к Народному парку, в конце улицы Хангерад, я вдруг с изумлением услыхал жалобный стон. Осторожно подошел поближе и увидел ангелов. Трое, видимо в полном изнеможении, сидели на крестьянской повозке, двое других выходили из дома, где они, должно быть, что-то искали.
— И здесь не нашли? — спросил один из сидевших.
Печальный жест был ему ответом. Я подумал, что они систематически обследуют все дома, и решил спокойно продолжать свой путь, от ангелов я не ждал никаких неприятностей.
Заметив меня, они начали оживленно совещаться. Отдельные громкие возгласы мне удалось разобрать:
— Не делай этого!
— Ты не смеешь!
— А я все-таки попробую!
Самый старший из ангелов внезапно отделился от группы, подошел ко мне и учтиво сказал:
— Разрешите спросить, не встретился ли вам тут случайно кто-либо из людей?
— Нет, по-моему, людей тут не осталось, я не встретил ни единого человека.
Мои слова, по-видимому, привели ангелов в отчаяние, двое подняли к небу умоляющие лица, остальные сидели молчаливые, поникшие, плечи их вздрагивали, что было заметно по трепетанию больших белых крыльев.
Отчаяние этих прелестных существ глубоко меня тронуло. Они, наверное, испытывали серьезные затруднения, если один из них унизился до обращения ко мне, чего я ни разу не видел за весь Судный день.
Я направился к ангелам и осведомился самым любезным тоном:
— Возможно, я сумею вам помочь, вы кого-то ищете?
Самый старший воскликнул, сдерживая слезы:
— У нас особое задание, мы ищем Белькампо!
О таком исходе я не смел и мечтать. С радостным «Да вот же он!» я сбросил маску и в тот же миг очутился в окружении пяти ликующих ангелов.
Под светлую мелодию пятиголосного хорала меня подхватили нежные, чистые руки, и мерные взмахи крыльев повлекли меня в небеса.
Симон Кармиггелт
Перевод С. Белокриницкой
Из сборника «Гоняя голубей»
СВОБОДА
Поздним вечером на окраине я стоял в очереди на автобус, а впереди меня стоял пожилой человек в чем-то вроде шкиперской фуражки. Долгое время мы молча смотрели в пространство. На другой стороне улицы на стене болтался обрывок старого предвыборного плаката. «Свобода» было написано на нем. Вместе с рваной бумагой ветер трепал это слово.
Оба мы смотрели на него. Вдруг человек показал пальцем и произнес:
— Нету ее и никогда не будет.
— Вы так считаете? — откликнулся я.
— Свобода — это вздор, — объявил он. — Уж мне ли не знать, ведь я искал ее всю жизнь. Что до моих взглядов, то я всегда опирался на идеи трех великих умов — Домелы, Мультатули и Барта де Лигта
[6]. Все, что появилось потом, — сладенькая водичка. Но эти трое дали ответ на мои вопросы. В детстве мне приходилось нелегко. Не то чтобы я был строптивцем, но я жаждал свободы. Еще в то время. Когда какой-нибудь учитель вызывал меня: «Вот ты, иди-ка сюда», я белел от злости. Но ведь вся жизнь на том и построена, что один командует другому: «Эй, ты, иди сюда, иди туда». Итак, сначала школа. Потом мастер, маленький лживый интриган. И наконец, военная служба. «Эй, ты, марш сюда, марш туда!» Опять то же самое. Я больше сидел на губе, чем служил. В то время я и начал читать книги. Никогда не забуду, как, оттрубив на военной службе, приехал в Амстердам. Я вышел на привокзальную площадь и смотрел на людей, которые спешили куда-то и были такие… как бы вам это объяснить… запуганные, что ли. И я сказал себе: Ну, Пит, теперь ты заживешь как свободный человек. У меня в руках была хорошая профессия, но я не устраивался на постоянную работу. Поработаю немножко здесь, немножко там, а грубого обращения нипочем не стерплю, а если захочется, пару дней хожу и вовсе без дела. Сижу себе на берегу реки, смотрю, размышляю. Тогда я был свободен. По крайней мере мне так казалось. Но вот я познакомился с девушкой, женился, пошли дети, и я увидел, что моя свобода под угрозой, однако же пытался сохранить ее. Сначала мне это удавалось, но мало-помалу моя свобода рассыпалась в прах. Из-за мелочей. Например, вызывают меня в школу поговорить о моем ребенке, и вот сидит передо мной какой-то там учитель и мелет такую чушь, что уши вянут, но ради своего ребенка я стискиваю зубы и молчу и поддакиваю. Потом жена моя серьезно заболела. Ее положили в больницу. Мне разрешили навещать ее два раза в неделю. А я хотел каждый день. Пожалуйста, можно получить дополнительный пропуск, но для этого надо низко поклониться некоему субъекту, к которому стояла очередь и который отлично знал, как мы все в нем нуждаемся. Я и это сделал. Я не был свободен. Я был такой же запуганный, как те люди на привокзальной площади.
Он горько усмехнулся.
— Жена моя давно уже умерла, — продолжал он. — Мальчики женаты. Мы больше не видимся. Со мной осталась только дочка, ей тридцать четыре года, славная девушка, да вот лицом не вышла. Недавно она в кои-то веки познакомилась с парнем. Этот парень католик. Я-то сам в бога не верю. Один философ сказал: «Если наш мир создан богом, не хотел бы я быть этим богом», — и он прав. Но моя девочка была счастлива, так что я молчал. И она приняла веру этого парня, а я молчал. На прошлой неделе они поженились, церковным браком. Перед этим дочка сказала мне: «Папа, я знаю твои взгляды, но я буду очень огорчена, если ты не придешь». И я пошел. Пошел в церковь. Приезжает она со своим парнем. Вся в белом. Целует меня в щеку и говорит: «Папа, сейчас мы все опустимся на колени, и сделай мне одолжение, не стой столбом». И вот начинается венчание, и наступает момент, когда все они падают наземь, а я думаю: нет, черт побери. Но тут она искоса посмотрела на меня, такая запуганная, как бы вам это объяснить, и тогда я сказал себе: «Давай, Пит, раз надо, так надо». А когда все кончилось, я поцеловал ее, и выбрался из церкви, и прямым ходом отправился в винный погребок, и быстренько нализался, и всякий раз, как я видел свое отражение в зеркале буфета, я кричал: «Эй, ты, иди сюда, иди туда!» Раз двадцать, наверное…
Он покачал головой.
— Я как-то вычитал в одной книге, будто в Индии или в Индокитае, черт их разберет, есть такие святые, они сидят на вершине холма, обрастают волосами и зарастают грязью, кормят их местные жители, а святые знай себе посиживают, уставясь в пространство, и размышляют… Может, это и есть свобода? Но даже если предположить, что я отыщу здесь холм и усядусь на его вершине, я уверен, все равно толку не будет.
ЭТО УЖ ЧЕРЕСЧУР!
Вчера вечером в одном баре я увидел Лизу: она сидела за каким-то хитрым коктейлем, раскрашенная и разряженная — явно в поисках мужчины и явно не от хорошей жизни.
— Как дела? — спросил я.
— Все образуется.
Ее шляпа показалась мне делом рук наглеца, который выкрасил в лиловый цвет свою мусорную корзинку, а потом прицепил к ней ценник «200 гульденов», чтобы посмотреть, проглотят ли люди и такое бесстыдство.
— А как поживает Ян? — продолжал спрашивать я.
— Ян?! Разве ты не знаешь, что мы уже три месяца как разошлись?
Новость меня удивила. Вокруг себя я видел много браков, трещина в которых обнаруживалась еще при регистрации, но союз Лизы и Яна производил впечатление весьма прочного. Она была старше его и к тому времени, как лет десять тому назад она умыкнула его из отчего дома, могла похвастаться определенным опытом в обхождении с противоположным полом.
Ян был хрупкий, порхающий робким мотыльком романтик; казалось, это про него написал Фицджеральд: «Он выглядел как актер, загримированный для роли, которую не способен играть». Он жил тонко и сложно организованной внутренней жизнью, и, поскольку он был богат, времени ему на это хватало, хотя он еще немножко баловался торговлей произведениями искусства, чтобы иметь какой-то официальный статус.
— Ну ты же знаешь, какой он был. — Лиза говорила о нем в прошедшем времени, как о покойнике. — Хронически влюблен… то в одну, то в другую. До меня у него никого не было, а иметь мужа, любопытство которого еще не удовлетворено, всегда обременительно. Первые годы у меня в связи с этим были трудности, но все уладилось. Скоро я поняла, что все это, по существу, не имеет значения. Он ведь всегда возвращался ко мне, и я думала: ладно, пускай погуляет. До тех пор как…
Теперь глаза ее метали молнии.
— Видишь ли, я на очень многое смотрела сквозь пальцы, но всему есть предел, даже моему терпению, — резко сказала она.
— Еще бы! — сочувственно подхватил я. Очень уж мне хотелось услышать, какая же разновидность дурного поведения толкнула ее, после десяти лет благоразумия и выдержки, на решительный шаг.
— В последнее время, — продолжала она свой рассказ, — раз в неделю, по пятницам, он стал ездить в Гелдерланд и возвращался в субботу вечером. Он говорил, что это деловые поездки. Ха, знаем мы его дела… Я поняла, что он там завел какую-то интрижку, но поначалу меня это не беспокоило, потому что я знала по опыту: через два-три месяца ему надоест, и тогда, рассиропившись от сознания своей вины, он приползет ко мне каяться в том, о чем я давно уже сама догадалась. Итак, я спокойно ждала, но интрижка на сей раз противоестественно затягивалась. Полгода. Восемь месяцев. Каждую пятницу на вокзал, каждую субботу домой. И возвращался он таким довольным, обновленным! Честно говоря, я встревожилась.
Она отхлебнула из своего бокала.
— Ты знаешь, какой он был растеряха. Мне ничего не стоило узнать, в какой гостинице он останавливается в Гелдерланде: я нашла счета у него в портфеле. В одну из пятниц, днем, я отправилась туда. Мне хотелось посмотреть на эту неотразимую гелдерландскую красотку. Но…
В глазах ее снова вспыхнула ярость.
— Но то, что я там увидела, означало для меня конец всему. Прямо оттуда я поехала к адвокату.
— Что же он там делал? — Я затаил дыхание.
— Что делал?! Ничего! Не было у него никакой женщины. Знаешь, зачем он ездил туда каждую неделю?
— Нет. — честно признался я.
Возмущенно она выпалила:
— Чтобы побыть одному!
Из сборника «Завтра увидимся»
ТЕРПЕНИЕ
Терпение мефрау Ван Дам наконец-то вознаграждено.
В пятницу на прошлой неделе ее муж отдал богу душу.
Они были женаты тридцать два года. Трое взрослых детей. Накануне серебряной свадьбы, в зале, снятом для празднования, к мефрау Ван Дам подошел очень молодой человек и сказал:
— Ваш муженек уже четыре года состоит в связи с одной шлюхой, я бросил ее из-за него. Вы знаете об этом?
Она не знала.
Но теперь она поняла, почему каждую пятницу ей приходилось паковать чемоданчик мужа, уезжающего на уикенд из города.
Празднование серебряной свадьбы состоялось. Супруги Ван Дам сидели на разукрашенных стульях, и гости несколько раз на плечах обнесли их вокруг зала. Неоднократно в их честь звучала заздравная песня.
Назавтра мефрау Ван Дам объявила мужу, что все знает, но разводиться не намерена. Такое решение, сказала она, принято ею не из любви, не из ревности и не по злобе. Просто она не хочет терять пенсию и страховку.
Хотя зарабатывал он хорошо, на хозяйство он давал ей гроши. Все доставалось той шлюхе. Когда мефрау Ван Дам однажды понадобилось новое платье, пришлось просить денег у детей. Но смерть мужа сделает ее наконец состоятельной женщиной. И она терпеливо ждала его смерти.
Ждала долгие годы.
Они жили в разных комнатах и не разговаривали друг с другом. Мефрау Ван Дам кормила мужа и приводила в порядок его одежду. И каждую пятницу паковала ему чемоданчик. Он уходил не прощаясь. Он знал, чего она ждет.
И в пятницу на прошлой неделе терпение мефрау Ван Дам было наконец вознаграждено. Утром она увидела, что шторы у него на окнах остались задернутыми.
Она вошла к нему, преисполненная надежды.
Но муж был жив.
Он лежал в постели и велел ей привести врача.
Мефрау Ван Дам сделала и это. Пусть все будет как положено.
Врач пришел, осмотрел его, выписал рецепт и в коридоре сказал ей:
— Ваш муж очень серьезно болен. Сердце. Вы позвали меня слишком поздно. Очевидно, он уже несколько месяцев плохо себя чувствовал. Ваш муж давал своему сердцу непосильную для его возраста нагрузку.
— Что да, то да, — ответила она.
Врач заметил, что она вроде бы улыбается. Но он был старый домашний врач и давно уже ничему не удивлялся.
Мефрау Ван Дам сходила в аптеку за порошками. Однако они не помогли. Муж скончался в тот же вечер. В эту пятницу он остался дома, с ней. Когда он умирал, она сидела у его постели. Он был в полном сознании. Он не разговаривал с ней. Не сказал последнего «прости». Не выказал ни малейшей слабинки. Не смотрел на нее. Она сидела у его постели, но он мужественно умирал в одиночку — пятидесяти восьми лет от роду.
— Я была права, — говорит мефрау Ван Дам. — Он отправился на тот свет молодым. Теперь я заполучила денежки, и мне едва сравнялось шестьдесят, есть еще время пожить в свое удовольствие, А шлюха осталась с носом.
БИЛЕТ
Я ходил взад-вперед по платформе провинциального вокзальчика в ожидании поезда обратно в Амстердам. Вытащил из кармана пачку сигарет, закурил, и в это самое мгновение появилась девушка, которую мать-природа щедро наделила своими дарами. Я сел на скамью и стал смотреть, как она идет, — так люди стоят и смотрят на праздничное шествие. Она была очень красива, и кто-то проболтался ей об этом. И потому шла она так, как ходит женщина, прекрасно знающая, что средь бела дня, при всем честном народе, она заставляет мужчин вспомнить про свой мужской пол.
Поравнявшись со мной, она кинула на меня железобетонный взгляд и в то же время вынула из сумочки пачку кисленьких леденцов, что меня несколько разочаровало, сам не знаю почему. Сунув лакомство в рот, она прошла мимо. И оборотная ее сторона тоже была прелестна. Я поглядел ей вслед и вдруг заметил, что в двух шагах от меня на перроне валяется железнодорожный билет. Наверняка он выпал из ее сумочки, когда она вынимала конфеты.
Я услужливо крикнул: «Девушка!»
Последующее лишний раз доказало, что красота имеет и свои теневые стороны. Некрасивая женщина тут же бы оглянулась, хотя бы для того, чтобы узнать, зачем я ее зову. Эта же, повторяю, была глубоко уверена, что ее прелести вызывают в каждом мужчине порочные мысли, и потому не оглянулась, а только еще горделивее вскинула голову и пошла дальше.
Ну что ж, нет так нет, подумал я.
Я обиделся.
Ибо мои намерения были самые чистые. Я хотел лишь обратить ее внимание на то, что ее билет валяется на перроне, а она плюнула мне в душу, обойдясь со мной как со старым развратником.
В самом конце перрона она села на скамью, красивая и неприступная.
Если ты воображаешь, будто я побегу за тобой и поднесу тебе твой билет, ты жестоко ошибаешься, подумал я.
Глядя на билет, я стал сочинять сценарий небольшого телеспектакля, который очень скоро разыграется в поезде.
Появляется кондуктор.
Она и его меряет своим взглядом недотроги.
Самоуверенно открывает сумочку.
Нервно роется в ней под взглядом кондуктора и остальных пассажиров.
Словом — полное поражение.
Что ж, так ей и надо.
Я мог бы избавить ее от всего этого, но она не захотела.
Свежий ветерок продувал платформу, он подхватил билет, стал играть с ним. Подталкивал его все ближе к краю. В то самое мгновение, когда под сводами вокзала появился поезд, ветер, к моему злорадному удовольствию, сдул билет на рельсы.
Я прошел вперед и сел в тот же вагон, что и девушка.
Заметив меня, красавица недовольно отвернулась.
Ну, погоди, подумал я. Дай срок, придет кондуктор.
Минут десять ничего не происходило, только нагнеталось напряжение. Но вот — наконец-то!
Перед нею стоял кондуктор с улыбкой заграничного образца.
Она открыла сумочку.
И подала ему билет.
Зато потом, когда подошла моя очередь, у меня билета не оказалось. Он выпал на перрон, когда я доставал сигареты. Под
нетерпеливым взглядом кондуктора я обшарил все свои карманы. Она тоже смотрела — и веселилась.
Из сборника «Пожилые люди»
ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ЛЕТ!
По делам службы мне пришлось отлучиться из города.
Лишь где-то около полуночи я отпер своим ключом подъезд и меланхолично взобрался по лестнице, всем своим видом изображая отца семейства, который опять день-деньской ишачил, добывая хлеб насущный для своих близких, и теперь вправе претендовать на чашку чая и сочувствие.
Жена сидела в комнате и с увлечением читала.
— Привет, — сказал я.
Она оторвалась от книги и ответила:
— Привет.
Вздохнула и захлопнула книгу. Я сел напротив нее.
— Как жизнь? — спросил я.
— Чудесно. Целый день была одна. Делала что хотела и как хотела. А вдобавок и вечером одна. Это ли не блаженство? Немножко поела. Не слишком утруждаясь. За едой почитала газету. Тихо-спокойно вымыла посуду. Заварила чай. А потом уютно уселась с книжечкой… — Она бросила на книгу грустный взгляд.
Как непохоже это было на прием, которого я ожидал! Я принужденным тоном сказал:
— Ну и читай себе.
— Что ты, как можно.
— Почему же?
Она пожала плечами.
— Ты же дома, — просто ответила она.
— Извини меня, — я повысил голос, — но я живу вместе с тобой. Уже двадцать четыре года. Ты этого не замечала? Ведь наверняка встречала меня в коридоре.
Она с улыбкой взглянула на меня.
— Ну вот, ты сердишься.
— Сержусь? Я? Ничего подобного. Но что за глупости, неужели ты не можешь читать, когда я дома?
Она принесла чашку и налила мне чаю.
— Дело не в этом, — сказала она. — Я имела в виду, что, когда ты дома, спокойной жизни конец. Только и всего.
— А что же я такого делаю?
— Ничего. Просто ты дома. Этого достаточно. И спокойной жизни конец.
Я закурил.
С оскорбленным видом.
Не берусь точно описать, как это делается, но поверьте мне на слово, можно закурить так, чтобы сразу стало ясно: ты оскорблен.
Я с горечью сказал:
— Стало быть, мне лучше бы вообще не приходить. Тебе было бы спокойнее.
Она задумалась, как бы взвешивая такую возможность.
— Нет, это, конечно, не так.
— Но…
— Нет, — продолжала она ласково, — если бы я знала, что ты вообще никогда не придешь, я, наоборот, навсегда потеряла бы покой. И ты это прекрасно знаешь. Но…
Она запнулась.
— Продолжай: что «но»? — допытывался я.
— Но раз уж я точно знаю, что ты вообще-то придешь, так приятно, когда какой-нибудь вечерок тебя нет, я так спокойно живу…
Я смотрел в свою чашку с видом страдальца.
— Один вечерок, — продолжала она. — Или, может быть, два. Чудесно. Но вот чтобы тебя не было целую неделю, я не хочу. Мне бы тебя недоставало.
В ее взгляде была снисходительность взрослого к ребенку.
— Ну хватит дуться, — сказала она. — Ты сам прекрасно знаешь, что иначе и быть не может. После стольких-то лет!
Я кивнул. Мы еще посидели молча друг против друга.
— Трудный был сегодня день? — спросила она.
— Ужасно.
— Устал?
— Устал.
— Хочешь сразу лечь или сначала поешь?
— Да… дай чего-нибудь перекусить.
Она встала и пошла на кухню. На пороге она обернулась и сказала:
— Вот видишь, спокойной жизни конец. Не думай, я не жалуюсь, страшного тут ничего нет. Но факт остается фактом.
Я снова кивнул и взялся за газету. Мне хотелось есть.
ЗВЕЗДЫ
Каждый день, возвращаясь со службы в пансион, где он жил уже двадцать восемь лет, господин Гийом проходил мимо этого дома. То был дом греха. У окна сидела размалеванная девица, она так долго занималась своим ремеслом, что в ее облике появилось нечто материнское. Поскольку господин Гийом проходил мимо ежедневно в одно и то же время, она кивала ему — не зазывно, а как здороваются с соседями. Он в ответ приподнимал шляпу. В это мгновение он испытывал смешанные чувства. С одной стороны, он чувствовал себя «тертым парнем», который накоротке с женщинами легкого поведения, с другой же — он черпал высокое нравственное удовлетворение в той учтивости, с какой он снимал шляпу перед проституткой, словно перед дамой из общества. Он ощущал себя человеком свободомыслящим, сумевшим стать выше предрассудков.
Сознание собственного превосходства над ничтожными сослуживцами охватывало его и вечерами, за чтением книг по любимой астрономии. Ведь взять даже главного бухгалтера, что́ знает он о непостижимых тайнах, которые скрыты во вселенной? Да ровным счетом ничего!
Когда это было, в среду или в четверг? Он не помнил. Но только в тот день, когда по дороге в пансион он проходил мимо дома греха и уже поднес руку к шляпе, он увидел в окне другую женщину. Собственно, не женщину, а молодую девушку. У нее были большие черные глаза, и взглянула она на него немного грустно. От этого взгляда сердце господина Гийома преисполнилось жарким блаженством, какого он не испытывал с тех пор, как был школьником и однажды в лесу Мицци вдруг взяла его за руку. В смятении чувств он помешкал под окном. Потом приподнял шляпу и пошел дальше. Он успел заметить, что она улыбнулась в ответ удивленно и чуть-чуть печально.
В этот вечер даже основательное исследование профессора Ван Кестерена о туманностях не смогло захватить его так глубоко, как обычно. А когда в девять часов к нему вошла квартирная хозяйка с подносом, он забыл поощрить ее фразой, которую произносил каждый вечер в течение двадцати восьми лет: «Ну вот и чаек!» Черноглазая девушка не выходила у него из ума, и назавтра на службе он продолжал думать о ней. Еще в полдень он поймал себя на том, что украдкой поглядывает на часы: сколько осталось до долгожданных пяти? Когда наконец он смог уйти и приблизился к заветному дому, его стала бить дрожь. Все прошло в точности как накануне. Он приподнял шляпу. Она печально улыбнулась. И глубокое блаженство жаркой волной захлестнуло все его существо.
Все последующие недели господин Гийом жил только ради этого мгновения. Его жизнь наполнилась новым содержанием. Вечерами он по-прежнему читал свои книги, но при этом еще и мечтал. Мечта его мало-помалу обретала конкретные очертания. В один прекрасный день он позвонит в ее дверь. Она откроет ему, а он широким старомодным жестом снимет шляпу и скажет: «Мадемуазель, я хочу… нет, нет, не пугайтесь, я хочу всего лишь пригласить вас на чашку чая».
Приятно удивленная тем, что приличный господин обращается к ней, как к порядочной женщине, она пойдет с ним в приличное кафе. С тонкой улыбкой будет он наблюдать, как она лакомится пирожными: «Не стесняйтесь, возьмите еще!» Они будут беседовать, как добрые друзья. Потом, когда наступит вечер, они пойдут к нему домой. Он расскажет ей о звездах. «И откуда вы все это знаете?» — воскликнет она в изумлении. Она окажется славной, простодушной девушкой из народа, которую нужда толкнула на путь греха, и будет счастлива наконец-то встретить человека, не требующего от нее всех этих ужасных, непристойных вещей. А однажды, теплым летним вечером, гуляя с ней под звездами, он возьмет ее за руку, и ее маленькая ручка, словно пичужка, затрепещет в его ладони.
Как-то в субботу он решился. У него был выходной. Чтобы унять волнение, он зашел в кафе и выпил две рюмки портвейна. Вино придало ему уверенности в себе, и он отправился к заветному дому. Она еще не сидела у окна — было слишком рано. Без колебаний позвонил он в дверь и сразу же взялся рукой за шляпу. Дверь отворилась, на пороге стояла пышная блондинка.
— Привет, котик, — сказала она.
Господин Гийом остолбенел.
— Здесь же была другая дама… — выдавил он из себя наконец.
— Да уж чего-чего, а дам здесь хватает! — И женщина хрипло расхохоталась.
— Я имею в виду такую черненькую.
— А, эта смотала удочки. На ее вкус, слишком уж у нас тихо, размах не тот. — Женщина смотрела на него. — Ну, — сказала она с раздражением, — ты зачем сюда пришел — пялиться? Я тебе не кинотеатр.
Господин Гийом повернулся и быстро зашагал прочь. Она еще что-то крикнула ему вслед, что именно — он, к счастью, не разобрал. На следующий день у него сохранилось лишь самое смутное воспоминание о том, что было дальше. Помнилось только, что вечером он бродил по какому-то парку, беспрестанно повторяя про себя: «Я найду ее… Я найду ее… Я найду ее…»
Вечер был ясный, и высоко над его головой сверкали звезды.
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Когда мы проезжали мимо Главного почтамта, вспыхнул красный свет, и такси остановилось. Седой шофер окинул взглядом фасад высокого здания и сказал:
— В детстве я частенько сюда захаживал.
Он ждал, что я отвечу «вот как?», и я именно так и ответил.
— За дедом, — продолжал он. — Старик жил у нас. Целыми днями, бывало, шкандыбает по городу, ищет, на что бы поглазеть задарма. К примеру, как дом строят. Или как чей-нибудь драндулет кувырнулся в канал. Все в таком роде. Часов в шесть, как обедать садиться, мать всегда говорила нам с братишкой: «Сбегайте-ка за ним!» Он-то времени уже не замечал. И всегда мы заставали его на почтамте. У него там было постоянное местечко, возле окошка, где почтовые переводы выдают. Стоит и глазеет. Глазеет на сейф с деньгами. К нему уж там все привыкли. Я как-то спрашиваю у него: «Дедушка, а зачем ты ходишь туда каждый день?» А он отвечает: «Любоваться на всю эту красоту». Бывало, за столом скажет: «Сегодня я видел тысячную бумажку». Стало быть, счастливый день выдался у старика!
В зеркальце заднего обзора я видел, что таксист улыбается.
— У него-то самого сроду ломаного гроша не было за душой, — продолжал он. — Он из рабочей семьи. В деревне, где он рос, всем заправляли протестантские святоши. Он и в школу-то почти не ходил. Все работа да работа. Был еще от горшка два вершка, когда отец в шесть утра отнес его спящего в первый раз на фабрику. Такая тогда была житуха. Но люди были счастливы. Дед, бывало, говорил: «Что нужно нашему крестьянину? Три вещи: полная кружка, строгий пастор да добрая деваха». Он часто так приговаривал. Такое уж у него было присловье.
Мы поехали дальше.
— Мои-то отец с матерью, те не поддались на удочку церковников, — продолжал таксист. — Помню — кстати, мы и жили-то тогда в Иордане, — как-то раздается звонок в дверь и на пороге стоят два субъекта. Один говорит: «Мы принесли вам Евангелие». А мать ему на это: «Погодите, я схожу за корзинкой». Вот какая она была, моя мамаша. Бой-баба. И такая жизнерадостная! Отец тоже. Он был прирожденный бунтарь. Вечно, бывало, бастует. Для нас-то с братишкой это были счастливые деньки, ведь, когда он не был в пикете, он ходил с нами на рыбалку. Или мастерил нам воздушного змея. Очень хорошо получался у него змей. А мать все равно ухитрялась кормить нас досыта — сам не понимаю, как это ей только удавалось…
Глаза его в зеркальце выражали теперь глубокое раздумье.
— И еще отец ходил с нами гулять, — снова заговорил он. — А по дороге рассказывал нам о новой, лучшей жизни, которая когда-нибудь настанет. Иногда мы ходили в большой парк, там стояли роскошные особняки. Отец показывал нам с братишкой на них и говорил: «Смотрите, ребята, там живут одни воры да убийцы». Ха-ха. Прирожденный бунтарь… Но рассказывал он хорошо.
Мысленно я увидел всю сцену: страстного обличителя и двух мальчуганов, в некоторой растерянности поглядывающих на солидную недвижимость, откуда вот-вот выскочит, изрыгая проклятия, этакое страшилище, каким представляются детской фантазии воры и убийцы.
— Когда нам приходилось совсем туго, — продолжал шофер, — отец всегда насвистывал, идя по улице. Гордый был. Но однажды сапожник, который жил напротив нас, говорит ему: «Ян, хочешь, я дам тебе гульден». Отец спросил, с чего это он вдруг, а сапожник ему: «Да ведь ты все ходишь и свистишь…» С тех пор отец больше не насвистывал.
Машина остановилась у моего дома, и я расплатился.
Шофер с удовлетворением заключил:
— У меня было счастливое детство. Этого у меня никто не отнимет.
НАШ СОВРЕМЕННИК
В городе он купил программу и в автобусе по дороге домой внимательно изучил, что́ сегодня вечером по телевизору. На конечной остановке он вылез и зашагал по темным прямым улицам нового района; они привели его к высокому многоквартирному дому, на шестом этаже которого он жил («Симпатичное гнездышко для парочки симпатичных голубков»). Он отпер дверь и вошел. Квартира состояла из трех комнатушек, кухни и кабинки с душем. («Наши квартирки невелики, но в них хватит места для вашего маленького счастья».) Мебели почти не было, только стол, стул, кровать и верстак. Он сел на стул и произнес:
— Дамы и господа, полюбуйтесь на жалкие обломки безумной страсти!
Из окна открывался вид на точно такой же дом через улицу. Сплошь симпатичные комнатки для симпатичных парочек, с симпатичными книжными полками, и симпатичными стегаными чехольчиками на чайник, и симпатичными телевизорами. Скоро на всех этажах замерцает голубой экран — всевидящее око телецентра в Бюссуме. («Дедушка зайдет посмотреть, счастливы ли вы, детки».) Лиза тоже обожала все это, до того как удрала, прихватив свое драгоценное барахло. Счастье… Она беспрестанно талдычила про счастье. Его неописуемо раздражали эти разговоры. Он теперь сам диву дается, как умудрился вытерпеть целый год в роли симпатичного голубка. В свое время он женился на Лизе, считая, что так положено. Ему было уже за сорок, и значит — теперь или никогда. Ведь все кругом женаты. Let’s do it
[7]. И первое время он ценил в Лизе несколько удивлявшую его способность любить его взволнованной, тревожной любовью. Но скоро и это стало вызывать в нем тупое раздражение. Он задыхался, сидя с ней в комнате, и спрашивал себя: «Зачем?» Этот дурак — ее прежний хахаль — оказался настойчивым и принес избавление. Когда она убежала с ним (а какое идиотское, патетическое послание оставила она на столе!), муж почувствовал прежде всего облегчение. Правда, некоторые неудобства причиняло то, что она вывезла все барахло. У него осталось лишь самое необходимое. Но он не пытался ничего изменить. Намеренно ограничивал себя. Это было гордое существование, свободное от власти вещей.
В дверь позвонили. Открыв, он увидел господина средних лет с листом бумаги в руке.
— Моя фамилия Мейерс, — сказал этот господин.— Я живу тут, в доме. Я обхожу всех жильцов и собираю подписи против типографии на первом этаже. Наборщик все время работает по вечерам, а мы не можем смотреть телевизор, такие из-за этого ужасные помехи. Правда, он утверждает, что помехи не из-за этого, но у нас свое мнение. — Он вынул авторучку: — Вы тоже подпишете?
— Гм, у меня больше нет телевизора, — ответил брошенный муж. — Так что не знаю, вправе ли я принять участие в таком деле.
Пожилой господин подумал и сказал:
— Да, верно. Простите, что побеспокоил.
— Ну что вы, ерунда.
Брошенный муж любезно поклонился, закрыл дверь и ухмыльнулся. Вот здорово, просто замечательно! Они думают, что их вечернее счастье разрушает трудолюбивый наборщик. Вообще-то надо было подписать. Для полноты злодеяния. И им необязательно знать, что Лиза забрала симпатичный телевизор в свое новое гнездышко. Он посмотрел на часы. Половина восьмого. Начинаются новости. Он выключил свет в комнате и подошел к окну. Ну да, вот зажглись голубые экраны. Три на первом этаже, четыре на втором и два на третьем. Прелестно — сегодня вечером телеобслуживанием охвачена масса народу. Сейчас в качестве прелюдии он угостит их электробритвой и кофемолкой. Он сунул вилку в розетку и прикрыл электроприборы подушкой, чтобы заглушить жужжание. Подтащил стул к окну, сел и стал смотреть в свое удовольствие. Во всех комнатах одинаково засуетились. Симпатичный Вим вскочил с симпатичного кресла и завертелся у симпатичного аппарата. Вместо изображения по экрану пошли дрожащие полосы, а звук заглушался ревом горного потока.
Когда начнется пьеса, он включит электродрель. А моторчик оставит напоследок, чтобы забросать снежными хлопьями религиозную передачу.
Раньше всех выключили телевизор на третьем этаже. Потом сдался первый. Но один тип на четвертом этаже стоял насмерть. Он был из тех, кто не отступит ни перед чем.
Так продолжалось до десяти вечера. К этому времени дрель подавила все телевизоры. Брошенный муж выключил дрель, надел пальто и пошел в маленькое кафе на углу выпить пива.
— Ну как, было что-нибудь интересное сегодня по телевизору? — спросил он буфетчицу.
— Опять целый вечер как будто снежные хлопья валили.
— Какое безобразие!
Он пил пиво с наслаждением.
ПИСЬМО
Когда Клокхоф вышел из столовой — сегодня было овощное рагу, жиру хватало, все честь честью, — санитар сказал ему:
— Йооп просил тебя зайти.
Удивительное дело, всех других персонал называл по фамилии, и только Йооп с первого дня стал для всех Йоопом.
— Я сейчас прямо и пойду.
— Поднимись на лифте, — сказал санитар.
Но Клокхоф покачал головой и пошел по лестнице, статный и прямой. Делал он это из тщеславия. Однажды он слышал, как директор сказал кому-то из персонала: «Поглядите на старикана Клокхофа, он у нас еще орел». С тех пор он перестал пользоваться лифтом.
В палате для лежачих кровать Йоопа стояла второй слева. Бледное лицо на подушке избороздили глубокие морщины. «Я ношу на своей харе план города, чтобы не заблудиться», — говаривал он прежде, когда еще был здоров. Но вот уже скоро год, как он лежит в этой палате.
— Как дела? — спросил Клокхоф.
— Не спрашивай. Конец мой пришел.
— Мы тут все на очереди, — заметил Клокхоф. — Ну а тебе семьдесят девять, так что пора и честь знать.
Он закурил сигару.
— Дай и мне, — попросил Йооп.
— У меня в кармане непочатая коробка. Могу уступить. Два гульдена тридцать.
— Беру.
— Я на этом ничего не выгадываю. Сам столько платил.
Клокхоф вынул из внутреннего кармана коробку. Йооп полез под подушку за кошельком.
— Хочешь, чтоб я написал письмо?
Больной кивнул.
— Тогда прибавь сразу двенадцать центов за марку. И восемь за бумагу и конверт.
— Я дам тебе три гульдена.
— Не надо. Я не хочу на этом наживаться. — И Клокхоф положил сдачу на тумбочку. — Ну, кому письмо?
— Сыну.
— Опять? Наверное, уж десятый раз. Говорю тебе, прекрати. Все равно он этого не сделает.
— Сыну, — повторил Йооп.
Клокхоф пожал плечами. Человек с белоснежной бородой, лежавший в правом углу палаты, закричал насмешливо:
— Наши милые детки! Бери пример с меня: я их всех пережил.
— Заткнись, — сказал Клокхоф.
— Сыну, — стоял на своем Йооп.
— Ладно, тогда я и сам знаю, что писать. Пусть пришлет расписку на те деньги, что ты дал ему в долг, верно? Всегда одно и то же. А он всегда ноль внимания.
Больной покачал головой на подушке.
— Нет. Напиши ему только одно: дескать, я все забыл и все простил. И больше ничего.
— Ладно, — сказал Клокхоф, вставая.
Он был уже в дверях, когда до него долетел голос Йоопа, на этот раз немного жидковатый:
— А если он придет…
Белобородый пронзительно захихикал.
Клокхоф спустился по лестнице, сдерживая тяжелое дыхание.
Это было в четверг. Ровно через неделю, снова у выхода из столовой — сегодня на ужин была картошка со спаржей и по кусочку свинины, — санитар сказал Клокхофу:
— Поднимись к Йоопу. Днем к нему приходил сын.
Клокхоф сел у кровати Йоопа и спросил:
— Ну что, добился наконец своего?
Йооп кивнул. Наступило молчание. Потом больной старик достал кошелек, вынул из него ключ и, запнувшись, попросил:
— Будь добр, пойди загляни в мой шкафчик.
— И что принести?
— Просто загляни.
Клокхоф пошел. Вернулся и сказал:
— Там пусто.
Больной ничего не ответил.
— У тебя ведь было два пальто? И два костюма?
— Этот болван сегодня давал ключ сыну. Тот тоже хотел просто заглянуть, — крикнул старик с бородой.
— Заткнись, — сказал Клокхоф.
Он испытующе посмотрел на Йоопа. Больной отвернулся.
— Ладно, хватит об этом, — пробормотал он.
ЮФРАУ ФРЕДЕРИКС
Примерно год назад нашей бледненькой юфрау Фредерикс вдруг стало нехорошо за окошком, где она работала. Ее отправили домой на такси, и мамочка тут же уложила ее в постель. Пришел врач, стал ее выстукивать и выслушивать и наконец объявил, что дело может затянуться.
И оно затянулось. В первое время дамы из нашего отдела несколько раз навещали ее, покупали ей картонные коробки со спелым виноградом в белой древесной стружке. «Пока все без изменений», — всякий раз говорила юфрау Фредерикс. Очень уж это было однообразно. Скоро ее стали навещать реже, и под конец не заглядывал уже почти никто. Тогда мамочка передвинула ее кровать к окну, чтобы она могла смотреть на улицу.
— Так хоть можно что-нибудь увидеть, — объяснила юфрау Фредерикс.
Мы кивнули, мы все прекрасно понимали. Наша коробка с виноградом стояла на столике рядом с флаконом одеколона и стопкой библиотечных книг в серых обертках. Мы не собирались сидеть долго, и это носилось в воздухе, пропахшем одеколоном.
— А что теперь говорит врач? — спросила моя жена.
За окном башенные часы пробили один раз.
— Господи, уже четверть шестого? — встрепенулась юфрау Фредерикс и поспешно повернулась к окну. Вскоре на улице появился молодой человек на велосипеде. Это был самый обыкновенный парень, с белобрысой челкой, в плаще. Я думаю, он возвращался со службы, потому что ехал он в нетерпеливом темпе, как человек, который жаждет наконец-то оказаться дома. Поравнявшись с окном, он улыбнулся, взглянул вверх и помахал рукой.
— Привет! — закричала юфрау Фредерикс.
Она тоже махала рукой, да так, что чуть не вывалилась из кровати.
И он проехал мимо.
— Господи, это еще кто такой?
— Не знаю, — ответила она, — но каждый день в четверть шестого он проезжает мимо.
Лицо ее вдруг сделалось вполне счастливым и юным.
— Как мило с его стороны, — заметила моя жена.
— Он всегда машет мне, — кокетливо произнесла юфрау Фредерикс. — Ну а я что, я просто отвечаю. И даже не знаю, кто это такой.
Она много размышляла над этим, как сказала нам потом ее мамочка. Каждый вечер перед сном она говорила о таинственном велосипедисте. Она считала, что ему подходит имя Джек, и долгое время думала, что он служит в страховой конторе, но однажды мамочка подошла в пять часов к подъезду конторы и убедилась, что оттуда он не выходил. Ну ладно, значит, он служит где-нибудь еще. Главное, что он каждый день проезжает мимо и машет рукой, верный, как ангел.
— Состояние удовлетворительное, — сказал однажды врач.
Это была добрая весть. Значит, придет все-таки конец пропахшему одеколоном наблюдательному пункту у окна, винограду в картонных коробках и библиотечным книгам, где можно лишь прочесть про чужую жизнь. Скоро она, юфрау Фредерикс, снова станет сама участвовать в жизни по ту сторону окна.
— Не торопись, — советовала мамочка. — Для начала походи часок, по утрам.
К пяти она снова укладывалась в постель, чтобы помахать Джеку. Раз уж она его так окрестила.
Но когда ей разрешили в первый раз выйти на улицу, она выбрала конец рабочего дня. Оделась очень тщательно и чуть ли не целый час причесывалась, потому что от долгого лежания на подушке волосы стали непослушными. В пять минут шестого она спустилась по лестнице и встала у подъезда — ноги у нее все еще были немного ватные.
Все было рассчитано по минутам. Мамочка уже заварила чай, и сигареты в доме тоже были.
«Джек?» — скажет она, улыбаясь, когда он, изумленный, соскочит с велосипеда. — «Да, а откуда вы знаете?»
Она счастливо смеялась в душе, предвкушая, какое у него при этом будет лицо.
Дрожь пробрала ее, несмотря на теплое зимнее пальто, когда она завидела его в конце улицы — самого обыкновенного молодого человека, с белобрысой челкой, в плаще, спешащего домой. Он приближался. Находясь с ним на одном уровне, она сочла его столь же привлекательным, как и при взгляде сверху вниз. Поравнявшись, он скользнул по ней безразличным взглядом. Глаза его устремились вверх, к окну, где белела кровать, ласковая улыбка осветила его лицо, он помахал рукой.
И проехал мимо.
Виллем Фредерик Херманс
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Перевод А. Орлова
Чтобы читатель сам оценил необычный метод лечения, выбранный семнадцатилетним гимназистом Роналдом, мы ограничимся изложением основных фактов. Вот сведения о наследственности.
О его прадеде известно очень мало. Восемнадцати лет он отправился в Россию в рядах армии Наполеона. В Березине он, разумеется, не утонул. И вернулся домой с большим количеством вшей — так говорят обо всех побывавших в России. Потом женился, став отцом двенадцати детей.
Дед Роналда держал трактирчик в провинциальном городке. Можно предположить, что всю жизнь он изо дня в день, облокотясь о стойку, болтал с крестьянами и матросами. А также учил посетителей утолять жажду. Однако считать его пьяницей было бы преувеличением. Он был невероятно жаден.
У деда была жена, которой удалось произвести на свет одиннадцать детей. Точнее, восемь, так как трое сразу умерли. Их даже не успели зарегистрировать. В живых остались шесть дочерей и два сына.
Из шести дочерей две покинули этот мир в раннем возрасте. Когда заболела третья, мать дала ей пятикратную дозу лекарства, что привело болезнь к печальному, но зато решительному концу. Так плохо лечили болезни в прошлом веке! Еще одна дочь помешалась, а следующая во время веселой возни со своим женихом выпала из окна. В провинциальных городах любят низкие подоконники, едва достающие до колен, как будто специально для того, чтобы люди выпадали из окон. Она ударилась спиной. У нее стал расти горб, и, когда он принял окончательную форму, она тоже помешалась.
Остались, если я не сбился со счета, еще одна дочь и два сына.
Дочь отличалась приятной наружностью, но у нее было что-то не в порядке с глазами. Один смотрел в настоящее, а другой, не будь он таким близоруким, мог бы показаться устремленным в будущее. Тем не менее она вышла замуж за кандидата в нотариусы, который впоследствии стал нотариусом, и притом очень богатым. Его деньги сыграли значительную роль в жизни Роналда.
Старший сын должен был продолжать дело отца. С малых лет он учился утолять жажду и так преуспел в этом деле, что никто о нем больше не говорил.
Когда младшему сыну исполнилось восемнадцать, отец дружелюбно выгнал его из дому. Ситуация хрестоматийная, и, следовательно, нет необходимости долго на ней останавливаться. Мать — в той же хрестоматийной манере — сунула в его дорожную сумку колбасу и новые подштанники.
Он устроился на почту и сперва стал разносчиком простых телеграмм, затем срочных. Для поздравительных телеграмм он выглядел слишком мрачно и потому перескочил через эту ступеньку: он начал разносить письма, а в конце концов даже занял место у окошечка в почтовом отделении. Потом он выиграл сто тысяч по единственному лотерейному билету и обзавелся сыном, которого по настоянию жены назвал Роналдом. Обзавелся не целой кучей детей, как его отец, а единственным сыном. Ему было сорок пять, а его жене тридцать девять, когда родился Роналд.
Теперь об окружающей среде.
Хотя отец Роналда разбогател, жить он остался в бедном квартале. Роналд посещал народное училище и был бледным, неуклюжим, но благовоспитанным мальчиком. Драться он боялся, чтобы не упасть и не испачкать костюм. За испачканный костюм его пороли. Но другие ребята вечно приставали к нему, ибо выглядел он очень странно. У кого еще была матроска с короткими рукавами и с якорем? У кого были длинные волосы, похожие на лошадиную гриву?
Приходя домой, он умолял мать купить ему бумажные брюки и разрешить коротко подстричься. Но мать говорила, что бумажные брюки носят только бедные дети, а если он коротко подстрижется, все будут думать, что в голове у него гниды. Просьбы ни к чему не приводили. «Но почему, — спрашивал он, — я хожу в школу для бедных?» — «Потому что твоему отцу тоже нелегко жилось в юности, — отвечал отец. — Посещать иную школу ему было не по карману». Другим отец говорил: «В школе для бедных он научится считать так же, как и в школе для богатых, у которых дома сплошные праздники. Денег у меня бы хватило».
Когда Роналд возвращался домой с синяками, отец советовал ему научиться быстро бегать, а мать вообще ничего не говорила — она вечно лежала на диване с головной болью. Играть на улице ему не разрешалось. Мать, в то время уже седая, боялась уличного движения: ведь после первой мировой войны появилось много автомобилей. Она никогда не звонила по телефону, боялась сесть на велосипед, не ездила одна в поезде. Посылая Роналда на угол с каким-либо поручением, она следила за ним из окна. Ему приходилось всегда быть у нее на глазах. И всегда носить кепку, потому что иначе напечет голову, а от этого можно сойти с ума.
Он верил тому, что говорила мать, и по ночам видел сны, полные ужасов, которые произойдут с ним, если он нарушит запреты. Он был хилым, робким и неуклюжим, за что его прозвали Исусиком, и очень огорчался из-за своей клички, так как верил всему написанному в детской Библии. Кличка сохранилась за ним до шестого класса. Затем, после летних каникул, продолжавшихся дольше обычного, он поступил в гимназию. Все школьные годы его непрерывно мучили и травили. Никто ни разу не заступился за него, над ним вечно смеялись и издевались. А родители его жалоб не слушали.
Он думал о том, станет ли поступление в гимназию переломным моментом в его жизни, окончанием всех его невзгод, или после каникул все начнется сызнова. Почувствуют ли гимназисты дружеское расположение или на худой конец хоть жалость к нему? Иметь друга! Никому никогда не было до него дела. В народном училище однажды появился новенький, которого посадили рядом с Роналдом (это место всегда оставалось свободным). Роналд спросил:
— Хочешь со мной дружить?
Новенький ответил:
— Да.
Он сам предложил Роналду пойти после уроков вместе домой, и Роналд согласился, подавив страх перед отцом, который грозил избить сына, если тот вздумает возвращаться из школы не самым коротким путем. Новенький взял Роналда за руку. Они свернули за угол. Там стоял весь класс, держа наготове камни и пустые консервные банки. Новенький засмеялся и отошел от Роналда. Когда Роналд вернулся домой с синяками и шишками, мать сказала:
— Теперь ты видишь, что́ бывает, когда ты нас не слушаешься и не возвращаешься кратчайшим путем. Перестань скулить. Достаточно того, что ты порвал чулки. Откуда, по-твоему, такие люди, как мы, могут взять деньги на новые чулки?
Все долгие каникулы перед поступлением в гимназию он предавался подобным воспоминаниям. Ему больше не хотелось играть на улице. Он был рад, что его туда не пускают. Сидел дома и читал книги Жюля Верна и Майна Рида, которые брал у деда по материнской линии — владельца платной библиотеки. Деду было восемьдесят лет, на лысой голове он носил вышитую тюбетейку. Даже в его вставной челюсти не хватало нескольких зубов. Роналд был единственным читателем библиотеки, освещенной солнечными лучами, пробивавшимися сквозь всегда опущенные легкие шторы. Старая оберточная бумага, бумажные рулоны у стен, коробки с кнопками наполняли воздух каким-то странным ароматом. В углу библиотеки стояла маленькая конторка. Там, среди книг о династии принцев Оранских, сидел дед. Над ним висела гравюра, изображавшая принца Морица Оранского на коне.
— Принц Мориц, — рассказал дед, — никогда не был женат, но стал отцом двадцати восьми детей… Вот так-то… — Дед смотрел на Роналда и продолжал: — Ты похож на Великого Молчальника. Сходство передается через три поколения. Благородная кровь никогда не исчезает.
При последних словах он поднимал голову, закрывал глаза и начинал барабанить пальцами правой руки по конторке. Роналду казалось, что дед хочет спать, поэтому он платил пять центов за взятую книгу (хотя тариф был вдвое выше, для членов семьи делалась скидка) и уходил. В день своего рождения Роналд каждый год получал от деда риксдалдер и из этих денег платил за взятые книги. Отец Роналда не считал нужным давать сыну деньги на карманные расходы.
Как и каждый год, этим летом Роналд вместе с родителями провел две недели в Ахтерхуке, где у дяди-нотариуса был собственный дом с большим садом. Поездки к дяде отец и мать почему-то называли поездками за город.
Роналду приходилось по утрам гулять с родителями, ибо прогулки полезны для здоровья. Иногда дядя катал их на машине. Роналд, которого здесь звали Ронни, сидел на полу на маленькой подушечке, так как оба сиденья целиком занимали четверо взрослых. Машину трясло, и у него болели ягодицы, в окно он видел лишь облака да изредка кроны высоких деревьев, и то, если привставал и вытягивал шею. «Не правда ли, красиво?» — «О да, папа!» Вот как много делают для него дядя и тетя! Ведь другим дядям и в голову не пришло бы взять в машину своих племянников. За это он должен благодарить дядю и тетю всю жизнь!
После обеда он был обязан играть с четырехлетним двоюродным братом, единственным своим двоюродным братом Фрицем. У Фрица была электрическая железная дорога.
— Хочешь, я пущу тебе электропоезд?
Но Фриц закапризничал. Он предпочел швырнуть поезд с лестницы вниз. И Ронни, строго наказанный тетей, решил с ним больше не связываться. Он всю свою жизнь ненавидел маленьких детей. На сей раз он попытался быть ласковым и, как старший, поиграть с малышом. А что из этого получилось? Он презирал самого себя. Ну куда он годится? Не может справиться даже с четырехлетним братишкой. Все его бьют и шпыняют, а ведь он почти гимназист. Ну ничего, он подождет. Он замкнулся в себе и больше всего хотел бы вообще не сталкиваться с людьми до тех пор, пока не вырастет и не займет высокого положения.
Роналд бесцельно бродил по дому, чувствуя, что вот-вот разрыдается. Он поднимался по лестницам мимо высоких окон. Нельзя подходить к ним слишком близко, говорили ему, не то свалишься. И в самом деле, когда нажимаешь на рамы рукой, они поддаются. Кое-где в коридорах висели электрические звонки необычной старинной конструкции. Судя по слою пыли, ими давно уже не пользовались. Так зачем они тогда нужны, Всюду были какие-то тайны. В шкафах, в тех комнатах, где никто никогда не жил… Но интереснее всего оказалось на цыпочках красться по чердаку. Вот древко от знамени и само знамя в футляре. На стеллажах хранятся яблоки. Стоят отслужившие свое стулья и страшное дядино охотничье ружье, из которого ни разу не стреляли. (Роналд этого не знал.) Сложенные стопками пожелтевшие дела из нотариальной конторы. Копировальный пресс, давно замененный пишущей машинкой; старые телефонные аппараты, краны от умывальника, газовые лампы. Сердце его громко стучало, в душе зародилось чувство освобождения, хотя все это ему не принадлежало. Вид этих вещей, ветхих и всеми позабытых, возбуждал его и в то же время вызывал тоску.
Одна из половиц чердака скрипела под ногами. Он этого не знал и наступил на нее. Тотчас появилась тетя, которая все это время разыскивала его, отвесила ему подзатыльник и отодрала за уши, чем сильно его оскорбила. Ведь она была чужая и не имела права его трогать. Но он промолчал. Ему не привыкать. Ребята в школе били его на протяжении всех шести лет, да и отец не скупился на колотушки. В таких случаях Роналд думал о том, что кличка Исусик, быть может, весьма почетна.
— Не смей ничего трогать! — пронзительно крикнула тетя. — Мало того, что ты сломал игрушку своего братика, теперь ты еще и сюда полез. Марш отсюда! — Она потащила его вниз по лестнице, по всей длинной лестнице с цветными стеклами в окнах, наполнявших площадки кровавым туманом.
Внизу, положив ногу на ногу, сидел отец. Брюки у него неряшливо вздернулись. Из-под них выглядывали шерстяные кальсоны лимонного цвета и спустившиеся дешевые носки. Из усов торчала толстая черная сигара; ее дым разъедал наполненные слезами глаза Роналда. Жирной волосатой рукой отец ударил его по лицу и сказал:
— Ты неблагодарная свинья. Радоваться надо, что тетя пригласила тебя погостить, а ты ведешь себя как скотина. Ведь тетя так много для тебя делает. Думаешь, другие мальчики выезжают летом за город? А теперь убирайся!
Роналд повернулся, чтобы уйти.
— Поди сюда, негодяй, — крикнул отец. — Я еще не кончил. Прощаю тебя в последний раз. Если ты еще что-нибудь натворишь, мы сразу же уедем в Амстердам, Понял?
Роналд подумал про себя: вот хорошо бы, папа. Но когда отец, остыв, спросил его, не вернуться ли им завтра домой, он в растерянности ответил:
— Пожалуйста, не надо, папа.
А тете он должен был сказать:
— Простите, пожалуйста, тетя, что я так плохо себя вел.
И тетя ответила:
— Хорошо, мы подумаем.
Последним его убежищем была кухня, где он беседовал с болтливой кухаркой-немкой. В первый же вечер после приезда родители послали его на кухню. Там Роналд играл с кухаркой в уголки, размышляя об универсальности игры. Розалинда говорила на незнакомом языке, но за доской они отлично понимали друг друга.
В кухне он садился за огромный деревянный стол. Иногда ему разрешалось молоть кофе. А в пять часов звонок вызывал кухарку, и она возвращалась с портвейном в простой рюмке, непохожей на нарядные, подававшиеся к столу. Тогда, чувствуя, как сердце в груди колотится от страха, что в кухню войдет тетя, Роналд делал глоток из рюмки, которую протягивала ему кухарка. Кухарка между тем начинала болтать. Ее голос, произносивший массу незнакомых звуков, был как роща, полная воробьев и скворцов. Начинал болтать и Роналд, произнося отдельные звуки на немецкий манер.
Хороший ли у них в Амстердаме сад?
— О нет, у нас вообще нет сада. Мы живем в большом доме. В Амстердаме ни у кого нет таких садов, как здесь. Мы живем на четвертом этаже. Это значит, надо подняться по трем лестницам, понятно?
— По трем лестницам?
— Да, по трем. — И он поднял вверх три пальца.
— Ух ты… — произнесла кухарка. — А немецкая прислуга у вас есть?
Нет у них никакой прислуги. Только два раза в неделю приходит уборщица.
— В Амстердаме ни у кого нет прислуги. Разве что у докторов.
И снова кухарка удивилась. Роналд, полагая, что ей непонятно слово «доктор», пояснил:
— У врачей.
— Ах вот как, у врачей, — повторила она рассеянно. Затем посмотрела на него, словно решившись наконец задать ему вопрос. Она схватила его за полы пиджака и сообщила, что ей очень нравится его костюм.
— Он совсем новый, — сказал Роналд с восторгом. — Почти новый, перешит из старого дядиного костюма. Из костюма вашего хозяина, — добавил он.
Кухарка кивнула, показывая, что все поняла, с таким выражением на лице, как будто она в этом и не сомневалась.
— Тетя всегда посылает нам дядины костюмы. Ведь было бы грешно их выбрасывать, правда? — И пошутил: — Вы, наверное, сразу его узнали, да?
Он был слишком простодушен. Он совсем ничего не понимал в чинах и сословиях, наш Роналд.
Однако, попав в гимназию, он поумнел. Прежде всего он узнал, что говорит на амстердамском жаргоне. А узнав это, был очень удивлен и обрадован тем, что никто не издевается над его речью. Два месяца он старательно отвыкал от жаргонных словечек. Эти каникулы действительно стали поворотным пунктом в его жизни. Его перестали дразнить. Его перестали бить. А когда кто-то однажды попробовал, Роналд дал сдачи, причем на этот раз не все наблюдавшие за стычкой были на стороне его противника. В гимназии встречались не менее странные люди, чем он. Например, один еврей, страдавший недержанием мочи. Но даже и того никто не дразнил, хотя фамилия еврея была Ватерман
[8]. Никто не смеялся над неуклюжестью Роналда на уроках физкультуры. А снисходительный преподаватель однажды, когда Роналд сбил планку во время прыжков в высоту, все равно поставил ему удовлетворительную оценку.
Этой снисходительностью Роналд воспользовался. С каждым годом он все чаще игнорировал уроки физкультуры. Он делал вид, что не интересуется этим предметом, что физкультура не стоит его внимания. Зачем ему, отличнику по всем другим предметам, этот грубый культ физической силы? Став постарше, он узнал слово «интеллектуальность» и начал употреблять его при всяком удобном случае. Оно внушало окружающим уважение. Это слово очень подходило к бледному, худому Роналду, лучшему ученику по всем «интеллектуальным» предметам. Однако он, как прежде, был одинок, ибо интеллектуальность не предполагает участия в клубах.
С похвальным листом он перешел сначала во второй, а затем в третий класс гимназии. Каникулы он проводил за чтением книг и опытами с электроприборами и химикалиями. Часами он бродил по площади Ватерлоо, покупая по дешевке старые трансформаторы, выключатели, индукторы, телефонные аппараты. Он твердо решил стать инженером.
А летом, разумеется, снова Ахтерхук. Теперь ему было там не так скучно. Фриц обычно играл в саду и не мешал Роналду. Это был глупый, избалованный ребенок. Он все еще плохо говорил, и изо рта у него постоянно капала слюна. Роналд обнаружил книжный шкаф, набитый неразрезанными новыми романами и красивыми альбомами. Дядя когда-то купил их у одного клиента, поддерживая принцип взаимной заинтересованности.
Тетя же, вдруг узнав, что настоящая дама просто обязана играть на фортепиано, поставила в гостиной большой рояль. На нем Роналд мог играть. Несколько лет назад по настоянию матери (один из немногих случаев, когда ей удалось в чем-то убедить мужа) он начал учиться музыке и достиг удивительных успехов. С тех пор игра на фортепиано стала одним из любимейших его занятий. В этом доме он мог играть лишь по утрам, когда все комнаты были закрыты и шум никому не мешал. Днем и вечером ему разрешали играть только в присутствии гостей.
Иногда кухарка заходила в господские комнаты, чтобы сделать замечание новой горничной, стиравшей пыль в гостиной, и затем оставалась послушать игру Роналда. Однажды она спросила:
— А у вас дома такой же хороший рояль?
— Еще лучше, — ответил Роналд. — Это всего-навсего «бехштейн», а у нас «плейель». Самая лучшая фирма. Французская, понимаешь? — добавил он многозначительно.
Теперь он как следует отомстил кухарке за тот разговор о костюме, который не выходил у него из головы с тех пор, как он понял, что признался в чем-то постыдном. Отомстил ей, повесившей у себя над кроватью портрет нового германского рейхсканцлера. Жаль только, что насчет французского рояля все было неправдой.
В хорошую погоду он уходил читать в сад. Однажды он
увидел по ту сторону изгороди худенькую светловолосую девочку. Девочка сказала:
— Добрый день.
Роналд тоже сказал:
— Добрый день.
Девочка была, вероятно, его ровесницей.
— Какие у вас отличные качели, — сказала она.
— Это качели моего брата. Я живу не здесь. Я живу в Амстердаме. Сюда я только приезжаю в гости на несколько недель.
Девочка перелезла через изгородь и попробовала покачаться.
— Хорошие качели, — похвалила она. — Становись тоже, вдвоем мы сильнее раскачаемся.
Роналд не захотел.
— На качелях меня тошнит. Я лучше буду читать.
Резко отвергнув предложение, он из вежливости не добавил, что его, кстати сказать, совсем не интересуют девчонки. Но все же с тех пор они каждый день обменивались несколькими фразами.
Девочку звали Агнес. Ее отец был бароном. Он как-то заходил вместе с ней к дяде и тете. Тетя произносила имя Агнес на французский манер — Аньес, считая это очень шикарным, а барон заменял звук «г» голландским «х».
О бароне в доме говорили часто.
— Он аристократ, но совсем не высокомерен. Он такой простой, такой обыкновенный, — рассуждала тетя.
— Он, как сказал бы твой отец, бедней церковной мыши, — дополнял портрет барона дядя.
— Карманы большие, а в них ни гроша, — хихикал отец Роналда.
Барон был дядиным должником. Отсюда его простота в обращении и благожелательность по отношению к представителям низших сословий. Об этом, разумеется, говорилось лишь в отсутствие Роналда. Ибо детей это не касается.
Друзей, как их представлял себе Роналд, друзей, способных постоянно находиться рядом, помогать ему во всех делах, у него по-прежнему не было. Но и ненависти к нему никто не испытывал. Насколько это зависело от его отличных отметок и от той помощи, какую он оказывал другим, Роналд начал понимать лишь позже.
В гимназии он не чувствовал себя одиноким. На переменах вместе с группой одноклассников ходил к киоску, расположенному недалеко от школы. Там на витринах красовались французские журналы «Сурир» и «Ля ви паризьен» с фотографиями девушек, прикрытых лишь виньетками.
Большинство ребят жило в южной части Амстердама, а Роналд — в восточной. Он никогда не возвращался домой вместе с другими. Возле Государственного музея они сворачивали направо, а он шел прямо.
Членом спортклуба он, разумеется, не был. Он внушал себе, что презирает грубую силу, но в глубине души сознавал, что выигрыш партии в теннис принес бы ему больше популярности, чем исполнение фуг Баха на школьном вечере. Это был самый печальный успех в его жизни. Ибо после аплодисментов, которыми наградили его слушатели, ему пришлось отправиться домой и снова забиться в свой угол, а другие остались танцевать. Трамваи уже не ходили. Он, талантливый пианист, лучший ученик гимназии, был никому не нужен; другие веселились, а он с трудом сдерживал слезы.
А дома после таких вечеров всегда происходили скандалы.
— Ну, вот видишь, мать, — говорил отец, — вечно одна и та же история. Господину доставили удовольствие, а он в благодарность так безобразно себя ведет.
Роналд же спрашивал, почему всем мальчикам можно посещать уроки танцев, а ему нельзя. Почему другие мальчики ездят летом в Швейцарию, а он — никогда. В лучшем случае он может погостить у тети Энгелтье. Неужели они не понимают, что он там подыхает от скуки? Всю жизнь его окружают одни старики. Может, с его стороны жестоко так говорить, но ему уже на все наплевать. Пусть катятся ко всем чертям со своей машиной. И со своим старым барахлом. Каждый видит, что он носит перешитые костюмы. А хоть бы никто и не видел — зачем ему это старье? Что он, нищий? Ничего ему не разрешают, совсем ничего. Его не пускают в походы (попробуйте только сказать, что не из-за денег), ему не дают никакой мелочи, он даже в кино не может пойти. Деньги на книги, которые он покупает на площади Ватерлоо, по пяти центов за штуку, он зарабатывает продажей почтовых марок. У родителей не выпросишь ни монетки. Раньше он думал, что у них и вправду нет денег. Но теперь он твердо знает, что это ложь. Разве отец не получил в этом году два главных выигрыша государственной лотереи? Смешной способ зарабатывать, но деньги есть деньги. Хватит им его поучать! Пока он был маленьким, он считал, что его родители всегда говорят правду. Ведь другие родители всегда говорят правду своим детям. Они умеют добиваться своей цели без такого жалкого вранья.
Он лучший ученик гимназии, а с ним обращаются хуже, чем с другими гимназистами.
Отец на это отвечал: недоставало только, чтобы Роналд учился не в полную силу. Учеба — его священный долг перед отцом, который день и ночь надрывается, чтобы заработать необходимые для этого деньги. А то, что он так говорит о своих родственниках, просто позор. Ему даже не пришло в голову написать письмо и поблагодарить за подарок, полученный ко дню рождения.
— Но ведь они всегда дарят мне ненужные вещи вроде дешевой папки для писем, купленной на благотворительном базаре. Я сам могу сделать гораздо лучшую. Кстати, я никогда не получаю писем.
— Заткнись, я еще не кончил. Попробуй найти другую тетю, которая делала бы для тебя столько, сколько тетя Энгелтье. Не так уж много людей, разбогатев, как твоя тетя, продолжают заботиться о своих бедных родственниках. Но ты на все благодеяния отвечаешь черной неблагодарностью. Почему у других детей есть друзья, а у тебя нет? Лишь потому, что у тебя скверный характер, потому, что ты законченный эгоист, вот почему.
Роналда выпороли так, что отбили всякую охоту говорить, и в семье воцарилось молчание, продолжавшееся целую неделю. Отец дремал в большом кресле, из-под его верхней губы, поросшей рыжими вьющимися волосками, торчала сигара, дым которой был едким, как пары серной кислоты. Только когда отец начинал ходить, раздавался глухой и зловещий звук его тяжелых шагов.
Мать тоже не разговаривала с Роналдом. Она редко соглашалась с мужем, но никогда ему не перечила. Как она относилась к мужу на самом деле, Роналд не знал. Она боится отца, думал Роналд. Пироги у нее всегда подгорали, потому что, смазывая стенки формы, она слишком экономила масло. После этого она часто плакала. Она начала учить меня музыке, думал Роналд. Может быть, со временем он найдет в ней поддержку или хотя бы сочувствие. Как-нибудь возьмет да и расскажет ей все по-хорошему. Что ему неприятно постоянно ссориться с отцом, ведь другим мальчикам не приходится ненавидеть своих отцов. Что не такой уж он никчемный. Что он, вероятно, когда-нибудь сделает карьеру, станет крупным ученым, знаменитым изобретателем. Что тогда его родители смогут им гордиться и что он, собственно, ничего другого не желает, кроме как сделать им приятное. Возьмет да и расскажет. Ведь другие мальчики все рассказывают своим родителям. Но он не решался. Мать наябедничает отцу. Она всегда так делает! А отец скажет: «Ах, молодой человек еще и фантазирует! Взгляни лучше на своего отца, знаменитый изобретатель! Благодари судьбу, если тебе удастся достичь хотя бы половины того, чего достиг твой отец, если тебе не придется сидеть на шее у других».
После каждой стычки Роналд все больше уходил в себя. У него стало возникать ощущение, что на самом деле он не тот, кем кажется. Может быть, он приемный сын или подкидыш? Ведь невероятно, что именно у него такой отец, с которым нельзя поговорить, который не способен ответить ни на один вопрос, заданный сыном, которому все равно, чем занимается Роналд, что читает. И Роналд продолжал фантазировать, забивая себе голову мыслями детскими и наивными, он сам это понимал, но верить в них было приятно. Например, он воображал себя сыном богатого и знатного человека, графа или барона. Барон отдал его этим людям на воспитание и платил им большие деньги. Они были обязаны послать его в гимназию. Остатки же денег они присваивали.
Разве не потому его так ненавидели дети в народном училище? Инстинктивная ненависть плебеев! Поэтому он не мог дружить и с соседскими детьми, бродить с ними, например, вечерами по Калверстраат и смотреть на проходящих девушек. Ему нужен был друг из его сословия, из его настоящего сословия. Бедных он презирал. Тоже инстинктивно. Полюбить он мог только девушку благородного происхождения. И не понимал тех дворян, которые проявляли терпимость при заключении брака.
Учась в четвертом классе, он сконструировал ультракоротковолновый радиопередатчик; деньги для этого он заработал продажей почтовых марок, а недостающую сумму изъял из материнского кошелька, правда, не без угрызений совести. Впрочем, какое это имело значение? Все равно его считали негодяем. Он раздавал своим одноклассникам отпечатанные на гектографе программы, где указывалось время передач и длина волны.
Сначала он вел передачи, пользуясь азбукой Морзе. Но однажды вечером, когда родителей не было дома, он повесил микрофон возле пианино, и на следующий день выяснилось, что ученики его класса, жившие недалеко от Виллем-парка, ясно слышали то, что он играл. Он спросил ребят, не хотят ли они тоже построить радиопередатчик. Тогда можно было бы беседовать по радио, каждый мог бы задавать Роналду вопросы. Или, сделав часть домашнего задания, передавать его по радио остальным. Неплохая идея? Кое-кто заинтересовался, но в конечном счете из затеи Роналда ничего не вышло. Такие сложные технические развлечения были слишком трудны для остальных. Роналду нечего было принимать, он только передавал.
Однажды отец заметил сложное сооружение, стоящее на чердаке. Он пришел в неописуемую ярость и растоптал передатчик ногами. Отломив кусок дерева, он ударил им сына. Роналду, которого отец уже давно не бил, стоило больших усилий не дать сдачи. Он убежал, закрывая голову руками, а отец, к его тайной радости, зацепился за старую подстилку и свалился на пол, меча громы и молнии и пуская пузыри. Когда отец поднялся и немного остыл, он мотивировал свою реакцию следующим образом. О чем только думает Роналд со своими идиотскими затеями? Требует карманных денег, а сам делает все, чтобы оставить отца без куска хлеба. Что, по мнению Роналда, будет с почтовым служащим, если в Министерстве связи узнают про тайный радиопередатчик, построенный его сыном? Разве Роналду неизвестно, что это запрещено, что за это грозит строгое наказание? Конечно же, известно, потому-то он и сделал свою штуку. Придумывать всякие глупости, чтобы насолить отцу и матери, — это он умеет. Тут он прямо-таки мастер.
После истории с радиопередатчиком за Роналдом стали следить. Отец то и дело устраивал обыски на чердаке. Он выкинул на улицу всю Роналдову лабораторию. Забрал и книги, которые счел подозрительными.
— По этим книгам ты учишься устраивать пакости своему отцу, — заявил он.
К счастью, самые ценные книги отец не тронул. Слава богу, в книгах он не разбирался. Но Роналд стал осторожнее. Обычно он читал теперь ночью в постели. Он придумал такое устройство, что, когда кто-нибудь проходил по коридору, лампа автоматически выключалась. Лежа в темноте, он улыбался, радуясь маленькой победе техники.
Теперь Роналд уже не считал нужным оправдываться перед отцом. Отец превратился всего лишь в досадную помеху, с которой постоянно приходилось бороться. Мой отец — жалкий мещанин, рассуждал он. Если бы я и попытался объяснить ему что-нибудь, попытка все равно бы не удалась. О чем я жалею, так только о том, что раньше верил всем его россказням, полагал, будто сей мещанин все знает и все может. А стыжусь я того, что боялся и выполнял все его приказания. Да, я страшный трус. Давно надо было сбежать из дому. Отец, конечно, тоже трус. Поэтому он знает, что такое трусость, и умеет использовать мою. Из-за его упрямства я попал в школу для бедных. Меня ненавидели, и я думал, что виноват в этом сам. Я еще не знал, что плебеев нужно презирать, и они меня опередили.
А тетка, к которой отец всегда требовал почтения, просто-напросто глупая дочь трактирщика, выскочка, не умеющая грамотно писать. Она присылала такие письма: «Здравствуйте, дорогие! Барон Ван Ревендал застрелил лося и дал и нам от него большой кусок. Госпожа Кипердинг вы наверно знаете из конторы Карела ее отец за которым она присматривала попал под машину, какой кашмарный случай для нее и заботы Карелу из-за ее отсутствия. Мир полон ужасов, а лосиное мясо было вкусным. Ну досвидание тороплюсь ваша Э.»
Косоглазая тетка, она играла на рояле этюды Черни и изучала французский язык, не зная, что сейчас в моде английский! И он, Роналд, должен испытывать почтение к таким плебеям! Вообще-то не стоит и отвечать на ругань отца. Не опускаться же до его уровня, а другого языка он не поймет.
Однако, когда дело доходило до спора, он не мог молчать. Пусть отец не воображает, что Роналд молчит или уходит из комнаты, потому что боится его! Так как отец все время обвинял Роналда в одном и том же и пользовался, как правило, одними и теми же стандартными выражениями, Роналд мог заранее обдумать свои ответы, которым старался придать тонкую язвительность. С почти женской аккуратностью он процеживал словесный яд, доводя его до идеальной чистоты.
На реплику типа: «Ты обращаешься со своими родителями так, словно нашел их в канаве» — он отвечал медленно и спокойно: «Что касается тебя, то это похоже на истину». Такой ответ вызывал у отца бессильное: «Прыщ несчастный», и тогда на губах у Роналда появлялась усталая улыбка. Отец был твердо уверен, что Роналд улыбается от злости, и ни минуты не сомневался в правильности и меткости своих суждений. А Роналд со своей стороны не мог понять, почему его колкости не убивают отца наповал. Он сам был бы уничтожен, если бы когда-нибудь оказался в таком жалком виде перед собственным сыном.
Теперь ссоры с отцом доставляли Роналду даже некоторое удовольствие. Когда ему бывало скучно, он развлекался, дразня отца. Как-то, пока отец храпел после обеда, он отстриг ему половину ненавистных усов. Он испытывал наслаждение не только от того, что причинял боль отцу, но и от той боли, которую чувствовал сам. Ибо упорным, непреодолимым недостатком его воспитания (по его собственному определению) было то, что он страдал от беспомощности своего отца в таких стычках; ему было неприятно наблюдать, как отец тщетно пытается найти крючок, спрятанный в словах Роналда, и для защиты прибегает к малоэффективной грубой брани, заставляющей Роналда краснеть, но лишь потому, что его родной отец употребляет столь вульгарные выражения. Он-то, конечно, воображает, что попал в самую точку, думал Роналд, и что краснею я именно поэтому. Идиот!
Роналду было семнадцать, и он учился в пятом классе.
Этой зимой случилось кое-что необычное. Тетя, которой летом не удалось пригласить своих бедных родственников в гости, исправила упущение, пригласив их на рождество.
Уже целую неделю стоял мороз. Но небо почти все время было ясным, ярко светило солнце, к тому же перед наступлением морозных дней выпало очень много снегу. Они приехали девятнадцатого декабря. После обеда Роналд вышел в сад и застыл в восхищении, сам удивляясь тому, как взволновала его природа, — это бывало с ним редко. Может, дело было в том, что в природе не ощущалось жизни. Стволы и ветви деревьев казались отлитыми из льда, а зеленую траву покрывала хрупкая корка замерзшей воды.
Из соседнего дома вышла Агнес с коньками в руках. Она была уже не такая худенькая, как прежде. Когда он окликнул ее и она подошла, он едва сумел унять дрожь.
— Пойдем покатаемся на коньках, — предложила она.
— Нет, к сожалению, сегодня я должен куда-то идти с дядей и тетей, — соврал он. — Пойдем завтра?
Она согласилась и убежала; он долго смотрел ей вслед, словно ее появление поразило его, словно она не была той худенькой светловолосой девочкой, с которой он не раз беседовал в прошедшие годы. Казалось, он видит ее впервые. Он повернулся и пошел домой.
У дяди он попросил коньки.
— Конечно, бери, — сказал дядя. — Я рад, что ты наконец решил стать настоящим голландским парнем.
Вдали от дома, на льду замерзшей канавы Роналд тренировался весь день и весь вечер, так как в небе ярко светила луна. Он учился равномерно отталкиваться обеими ногами с таким же яростным усердием, с каким обычно решал математические задачи или разучивал музыкальные пьесы. Он хочет, он должен кататься завтра с Агнес. Он забыл, что «вообще-то не сторонник грубой физической силы». Он должен научиться!
Как получилось, что до сих пор он не замечал Агнес? Кто из них так неожиданно изменился — она или он сам? Если он и дальше станет жить на этом свете, то лишь для того, чтобы быть рядом с ней, и возможность быть рядом с ней — единственная вещь, ради которой еще стоит жить. Иначе для чего он трудился? Для чего стал лучшим учеником гимназии? Никто этого не ценит, даже его родители. Никто не испытывает к нему уважения. Нет, он трудился только ради Агнес, ради того, чтобы стать достойным ее. Она — дочь барона; семья у нее бог знает как знатна и богата (Роналд не знал в самом деле как). Он — сын простого мещанина, внук трактирщика и может бросить на чашу весов лишь достигнутое упорным трудом. Какой толк в том, что его мать из рода Морица Оранского!
И, с яростью постигая конькобежное искусство, он чувствовал себя рыцарем, преодолевающим тысячи препятствий, чтобы завоевать даму сердца. Катаясь (если только можно считать это катанием), он воображал, будто делает важное дело. Он ничего не слышал, кроме скрипа собственных коньков. Вокруг ни огонька, все застыло в неподвижности. Ветви ив причудливой сетью рисовались на фоне неба. Справа висела луна, заливавшая своим светом вселенную. Этот свет, точно легкая дымка, обволакивал звезды.
Десятки раз неуклюже скользил он туда и обратно по канаве, подгоняемый ощущением движения вперед по бесконечно длинному пути, ведущему к Агнес. Он падал, но не чувствовал боли, а судороги в лодыжках даже радовали его: он думал, что так ноги будут реже подвертываться. Впрочем, он не раз убеждался в тщетности подобной надежды.
Ветер сдувал с ветвей ледяные крошки прямо ему в лицо. Лунный свет тусклым отблеском растекался по льду. Роналд чувствовал себя первооткрывателем, в одиночестве пробирающимся к полюсу.
Даже дом, даже комнаты и коридоры стали иными, наполнились новым волнующим светом. Впервые мрамор в коридорах показался ему красивым, в тех самых коридорах, по которым он столько раз слонялся, выгнанный из-за стола. Лестница с красными стеклами в окнах и персидские дорожки впервые не казались ему ни мрачными, ни банальными, ни вызывающими; он вдруг почувствовал себя дома, словно это был его дом, его окружение, для которого он и был создан.
Тетя нашла, что он повзрослел и превращается в мужчину, умеющего себя вести. Она сказала:
— Ронни, сегодня, когда Дора убирала у тебя в комнате, она заметила, что розетка испорчена. Ты не мог бы ее починить? Ты же так хорошо разбираешься во всяких электроприборах. Тогда бы не пришлось вызывать монтера. Знаешь, с ним ужасно трудно договориться.
Роналд нашел отвертку и починил розетку. За работу он получил десять центов, и его самолюбие при этом не было задето. В другой раз, когда дядя подарил ему свою старую авторучку, Роналд почувствовал даже что-то вроде благодарности — ведь он давно уже мечтал об авторучке.
Сегодня он пойдет с Агнес кататься на коньках! Он сделал несколько приседаний, чтобы вернуть онемевшим лодыжкам способность двигаться.
По дороге на каток они с Агнес говорили мало. Роналд все время подыскивал тему для разговора и каждый раз отвергал ее. Поговорить о температуре воздуха, которая все эти дни остается низкой, что необычно для рождественских каникул, но очень кстати, так как позволяет покататься на коньках? Или спросить о ее школьных делах, или рассказать о своих? Но начать разговор он так и не решился. Правда, он пытался убедить себя, что смешно стесняться девушки, с которой так давно знаком. И еще одно: она же сама позвала его кататься на коньках. Разве это не признак того, что он ей нравится? Или она бы позвала и любого другого? Последнее показалось ему маловероятным, потому что он на ее месте так бы не поступил.
Они стали кататься. Агнес скоро заметила, что кататься он вообще-то не умеет, но это ее почти обрадовало. Разве не мог бы он иначе кататься с другой девушкой? Когда она вчера подошла к нему, ей показалось, что он взглянул на нее как-то по-новому. Она решила, что он наконец понял, какими глазами она смотрит на него с того дня, когда пять лет назад впервые окликнула его из-за ограды. Она знала заранее, что этот бледный, тщедушный юноша не умеет кататься на коньках. Юноша, который так хорошо играет на фортепиано… Сколько раз она жадно слушала его игру, ловила звуки, долетавшие сквозь кусты, за которыми скрывались двери веранды. Поговорить с ним о его игре? Сказать ему, как она восхищена ею? На это она не решилась и заговорила о другом (и тут же пожалела о своих словах). Она спросила:
— Каток в Амстердаме, наверное, гораздо лучше здешнего, правда? Ты часто туда ходишь?
Но Роналд не почувствовал в ее словах иронии. Он был в восторге — да, именно в восторге — от того, что очутился среди этих свободных, беззаботных людей, скользящих по гладкому квадрату льда. И ответил:
— Нет, до сих пор я редко катался на коньках. Ты, вероятно, уже заметила?
Она сказала с выражением крайнего удивления на лице, что ничего подобного не заметила и, если это действительно так, почему он хорошо катается. Роналд, ни минуты не сомневавшийся в правдивости ее слов, безумно обрадовался. Это укрепило в нем чувство, свойственное всем, добившимся первых успехов в новой области: уверенность в том, что достигнутые успехи очень велики.
Она спросила, часто ли он куда-либо ходит в Амстердаме.
— Что ты имеешь в виду? — ответил он. — В театры и кино я не хожу никогда.
— Совсем никогда? Если бы я жила в большом городе, я бы каждый вечер ходила в театр.
— Нет, — объяснил он ей, — я не люблю спектакли. Я всегда представляю себе, что я актер. Подумать только, каждый вечер, сотни раз, играть одну и ту же роль! Каждый вечер произносить слова, в которые не веришь! Например, каждый вечер умирать лишь для того, чтобы на пару часов развлечь кучку пресыщенных мещан! Для этого не стоит жить на свете!
— А музыка? Ты и на концерты никогда не ходишь?
— На концерты я хожу, только чтобы чему-нибудь научиться. (Тут он соврал, он и на концерты не ходил, у него не было денег на билеты.) Я и сам никогда не играю в присутствии других, не играю, когда меня могут услышать. Я играю только для себя. Ведь при решении математических задач публика не присутствует. Так же и в музыке. Музыка, собственно говоря, та же наука. Нотная линейка — это если не формула, то по крайней мере график.
Он с большим апломбом излагал ей свои еще такие детские взгляды.
— Значит, ты не думаешь, что своей игрой можешь доставить людям удовольствие? — спросила она.
— Какое я могу доставить людям удовольствие? И зачем?
— Странно, — сказала она задумчиво, — но ведь, когда ты играешь, ты же не знаешь, не слушает ли твою музыку кто-нибудь незаметно для тебя, кто-нибудь, кого ты не видишь, но кто все-таки благодарен тебе за твою игру…
Он ответил, быстро взглянув на нее:
— Конечно, все зависит от того, кто этот кто-нибудь… — И, испуганный собственной смелостью, поспешно добавил: — Не думаю, что я этому кому-нибудь, как ты говоришь, могу доставить удовольствие.
Агнес, смущенная такой решительностью, побоялась продолжать, и Роналд тоже: у него не было еще твердой уверенности.
Когда они наконец добрались до первого флага, мимо промчался какой-то юноша, окликнул Агнес по имени и увлек за собой. Роналд сделал еще два шага и упал. Агнес и тот юноша были уже у следующего флага. Роналд продолжал сидеть на льду, не в силах подняться от боли. Оглушительно ревели громкоговорители. «Ты красива, когда ты со мной», — пели они. Он отвязал коньки и побрел к краю катка. Он не мог заплакать, потому что шептал про себя:
— Я по-прежнему не умею кататься. И мне это по-прежнему совсем не нужно.
Он еще раз оглядел каток. Толпа конькобежцев терлась о гладкий квадрат, словно громадная овца. Агнес нигде не видно. Он ее никогда не найдет, он не может ее искать — ведь там, где она находится, он упадет после первого же шага.
Он вернулся домой и сел за книгу. Впервые в жизни лег в кровать раньше, чем ему было велено. Он спрятал лицо в подушку, но так и не смог заплакать. Прошло немало времени, прежде чем он уснул. Что мне еще остается в жизни, думал он, и ему показалось, что этот вопрос перенос его в тихую голубовато-зеленую пустоту вселенной.
Когда наутро он вышел в сад, Агнес появилась возле изгороди раньше, чем он смог убежать обратно в дом, и окликнула его прежде, чем он смог отойти от изгороди на такое расстояние, чтобы сделать вид, будто не слышал.
— Куда ты вчера исчез? — спросила она. — Я тебя повсюду искала. Я не виновата, что меня вдруг утащили от тебя.
Ему пришел в голову не самый удачный ответ:
— Я упал.
— Очень было больно?
— Да нет, не очень.
— Ты, конечно, сильно ударился и не смог больше кататься. Может, у тебя даже синяки? Сходи к врачу.
— Да, — сказал он, — непременно.
— Тебе трудно ходить? — спросила она. — Или мы можем сегодня погулять?
Он подумал: она, разумеется, не верит, что я серьезно ушибся. Она просто больше не хочет ходить со мной на каток. Хорошо бы в этом окончательно убедиться. Поэтому он спросил:
— А зачем?
Она ответила:
— Мне приятно говорить с тобой.
Девушку, сказавшую такие слова, нужно поцеловать, подумал он. Он стоял у самой изгороди. Ему хотелось протянуть к ней руки, но ничто в ее поведении не указывало на то, что его поцелуй доставит ей удовольствие.
Прошло еще несколько дней, а они по-прежнему осторожно ходили по краю пропасти, ни на что не решаясь. По утрам он спешил в сад, чтобы перекинуться с ней несколькими фразами. Она вскоре исчезала, ссылаясь на обязанности по хозяйству. Он считал, что это отговорка. Но что ему было делать? Ведь у него не было никаких прав на нее: просто чудо, что она не прогоняла его, когда он заходил за ней и звал погулять. Что она в нем нашла? Неужели он ей понравился? Вряд ли. Тогда почему она не скажет ему об этом? Ну хорошо, он понимает, что сначала сам должен ей признаться. Но он просто не в состоянии. Как спросить, нравится ли он ей, если отрицательный ответ означал бы для него полный крах? Ведь это первые счастливые дни в его жизни. Легче перенести исполненную надежд неизвестность, чем роковую определенность. И опять-таки, если он ей нравится, то почему она не говорит об этом? Разве она не понимает причин его нерешительности? Не понимает, что поражения ему не пережить? То, что подобные причины удерживали и ее от более определенных проявлений чувства, казалось ему совершенно невероятным.
Даже когда ее не было рядом, он видел ее широко посаженные глаза, большой тонко очерченный рот, светлые локоны. Мысленно он подолгу беседовал с ней, рассказывал о детстве, о том, сколько ему пришлось вынести, так что порой казалось — сил больше нет терпеть. Да, ему было что сказать, когда, уронив на пол книгу, он начинал беседы с самим собой, поглядывая на дверь, чтобы его не застали врасплох за этим странным занятием. Он со страхом следил за всеми интонациями голоса, принадлежащего тому лицу, которое всплывало в его воображении. Выслушивал возражения и давал на них исчерпывающие ответы.
Он говорил ей, например: «Агнес, ты уже поняла, что я тебя люблю. Я долго медлил с признанием, потому что вряд ли имею право на твою любовь». Как торжественны, продуманны и спокойны были его фразы! Он слушал себя со стороны. «Не сердись, но я должен признаться, что мой отец зарабатывает на хлеб продажей марок в почтовом отделении. Я не думаю, что ты будешь презирать меня за это. Я слишком уважаю тебя, чтобы предположить такое. Но у меня самого, Агнес, нет того, что социалисты называют классовым самосознанием. Я вовсе не горжусь тем, что мой дед был трактирщиком, а более ранняя родословная моей семьи покрыта густым мраком. Я не хочу гордиться мелкими пороками, жалкой возней из-за грошей, которая свойственна представителям низших сословий, гордиться предками, всю жизнь признававшими лишь одно слово: деньги. Будь я как все, я бы тоже гордился этим и презирал людей, которые настолько богаты, что им незачем говорить и думать о деньгах. Но я с самого раннего детства наблюдал за бедняками вблизи и испытываю к ним отвращение. По-моему, жизнь имеет смысл лишь тогда, когда человек не должен работать ради куска хлеба, когда он может бескорыстно заниматься тем, что ему нравится, а не тем, что требуется для поддержания бренного тела. Так, Агнес, хочу жить и я. Я стал первым учеником не ради карьеры, хотя я должен был бы о ней подумать, ведь денег у меня нет. Я приобретаю знания, чтобы позднее свободно ими пользоваться, так сказать, на аристократический манер, для собственного удовольствия. Только ради собственного удовольствия стоит жить. Ты видишь, Агнес, что я полностью соответствую тебе, а не той среде, к которой принадлежу. Агнес, примешь ли ты меня таким?»
Конечно, у нее находились сотни возражений: что она никогда не задумывалась над различием между сословиями, что ей это безразлично. Может быть, она даже считала, что работать ради куска хлеба — это чудесно. На это он отвечал ей, что подобные мысли свойственны всем богатым людям: классический король мечтал поменяться местами с самым ничтожным из своих подданных. Но все это всего-навсего причуды богатых людей. О нет, только большие деньги и принадлежность к сословию с многовековой привычкой к власти дают шанс сносно прожить свою жизнь. И Агнес в конце концов, разумеется, соглашалась с ним. А потом они обнимались.
На самом же деле они беседовали о школе, и, если Роналд слишком долго держал Агнес за руку, она отнимала ее.
Рождественский ужин для Роналда и его родителей предполагалось устроить лишь на второй день рождества. В первый день дядя и тетя отмечали праздник у своих знакомых. Агнес тоже была, по-видимому, занята в первый день. Она назначила Роналду свидание вечером. На ней была круглая шапочка из черного меха, короткая юбка и плотно облегающая куртка с галунами. Еще никогда она не казалась Роналду такой красивой. Ему хотелось прикоснуться рукой к пушистому меху, как гладят зверька, а затем скользнуть ладонью по ее лбу и глазам. Он уже не мог думать ни о чем другом и, внезапно остановившись, попытался поцеловать ее.
Она оттолкнула его и спросила:
— Ты что?
Он пробормотал:
— Ведь сегодня рождество, — и готов был умереть от стыда.
Она снова взяла его за руку, и они пошли дальше, но он всю дорогу молчал и поспешил проводить ее домой.
Они холодно простились, а потом Роналд долго лежал в постели с открытыми глазами. Как он раньше не понимал, насколько безнадежно его положение! Ну и дурак же он! Ведь Агнес знала дядю и тетю. Захотела ли бы она иметь с ним дело, даже если бы он был их родным сыном? Сыном неотесанных снобов! (Слово «сноб», однажды произнесенное преподавателем голландского языка, Роналд стал употреблять вместо слова «выскочка».) Снобы, богатые снобы! Нет, он не вправе обижаться на Агнес, если она смотрит на его родню сверху вниз: она абсолютно права.
Чем же он может ее привлечь? Собственной личностью? От детских фантазий о своем благородном происхождении он уже излечился. Он где-то прочел, что подростки часто воображают себя не родными детьми, а отпрысками более знатных родителей. Свою «врожденную» ненависть к плебеям он приобрел в начальной школе. И где тогда было его «спокойное, естественное превосходство», которое также является признаком благородного происхождения? Все это такая же чушь, как и теория об «арийской расе». Черт возьми, неужели в нем есть что-то от нациста? Цинизм и ненависть, безумные идеи и вместе с тем умение добиться определенных успехов… Да, из него получился бы нацист… или коммунист. Он должен был бы ненавидеть их, своих богатых одноклассников, этих ослов, ездивших летом в Швейцарию, хотя лучше всех учился и вообще блистал в гимназии он, Роналд. Он должен был бы желать их уничтожения. Но он не мог их ненавидеть, он не чувствовал солидарности с бедняками, он страстно жаждал войти в круг тех, богатых.
Он повернулся на другой бок и попробовал заснуть. Уж лучше спать или мечтать о чем-нибудь приятном. Только не думать больше. Он предался соблазнительным фантазиям. Она стояла перед ним обнаженная, откинув назад голову с развевающимися волосами, в блестящей меховой шапке. Вдруг он вспомнил объявление из «Ля ви паризьен»:
Электротерапия! Неврозы на сексуальной почве… Радикальное лечение с помощью электричества… Все инструкции вы получите в запечатанном конверте…
Ах, чушь, это ничего не даст. Стыдно так злоупотреблять ее образом в мечтах, где она не может защитить свою честь, подумал он. Но лучше уж видеть ее такой в мечтах, чем вести себя с ней нескромно в действительности. С этим скудным утешением он заснул.
На второй день рождества наступила оттепель. Казалось, снег вдруг лишился блеска. Дом снова стал мрачным. Уже с утра Роналд почувствовал, что между ним и взрослыми назревает конфликт, и предчувствие его не обмануло.
В час они сидели за столом и пили кофе; не прошло и пятнадцати минут, как тетя вдруг спросила:
— Роналд, о чем ты все думаешь? Ты такой молчаливый.
За него ответил дядя:
— Он обдумывает стратегические планы. Валяй, валяй, паренек, попробуй поймать на крючок барышню.
Роналд вспыхнул. Дядя с удовлетворением продолжал:
— Видите, так оно и есть. Ишь, как покраснел!
Роналд взглянул на дядю и сказал прерывающимся от сдерживаемых слез голосом:
— Прежде всего вам нечего гордиться тем, что мне приходится за вас краснеть.
— Вон из-за стола! — закричала тетя. — Сию же минуту! Что ты себе позволяешь?
Роналд поднялся. Для чего ему оставаться? Разве приятно сидеть с такими людьми за одним столом? Он пробежал по коридору и затем вверх по лестнице на цыпочках, стыдясь прислуги. Наверху он вычистил зубы и причесался.
— Почему ты такой нарядный? — спросила Агнес, сама открывшая ему дверь. На ней было строгое платье из черного бархата, украшенное лишь воротничком с белой вышитой каемкой. — Я вот не такая нарядная, — сказала она. — Это платье уже старое. Оно только перешито.
Она заметила, что я всегда ношу старое барахло, пронеслось у Роналда в голове. Она говорит так из жалости.
Но то, что он услышал потом, смутило его еще больше.
— Ты знаешь, что мы с папой ужинаем сегодня у вас?
Он ощутил дрожь во всем теле, но постарался, насколько возможно, скрыть свой страх. Значит, она увидит его отца и мать. Тогда она сразу поймет, кто он на самом деле. А в любовь, преодолевающую все преграды, он не верил. Он думал об этом на протяжении всей прогулки. Мрачные мысли не оставляли его, хотя Агнес говорила с ним доверительно. Она рассказывала ему о своей семье весьма откровенно, например сказала, что ей очень трудно без матери. Значит, она умерла? — подумал Роналд. Подробнее на этой теме Агнес не останавливалась.
— Лучше бы мне, наверное, родиться мальчиком, — сказала Агнес. — Мальчики ведь более самостоятельны и, вероятно, не так чувствуют потребность в поддержке.
— Нет, — сказал Роналд, — радуйся, что ты девушка, ты не можешь себе представить, как мне самому хотелось бы быть девушкой. Конечно, красивой. Юноша всегда должен проявлять инициативу. А знаешь, как это трудно? Девушке же достаточно пойти навстречу тому, кому она понравится. Дать ему возможность оказывать ей поддержку.
— А если защитника не находится?
— Красивая девушка всегда найдет защитника.
Он заставил себя посмотреть ей в глаза и со страхом почувствовал, что краснеет от смущения и счастья, так как решающее слово было почти произнесено. Сочтя, что на первый раз хватит, он не стал продолжать. Он хотел было рассказать ей о своих родителях, о себе, обо всем, что до сих пор скрывал. Но понадеялся, что за столом она не слишком быстро обнаружит постыдное различие между ним и его родителями. Ведь он может все испортить своим рассказом, в котором, вероятно, не возникнет необходимости, и даже неизвестно, нравится ли он ей, а если нравится, то настолько ли, чтобы она не придала значения тому, о чем он расскажет. Если бы он хоть был солидарен со своими родителями! Но как он может быть с ними солидарен после всех неприятностей, которые они ему доставили?
В пять часов Агнес и Роналд вошли в дом.
— Садитесь вон там, — сказала тетя, поцеловав Агнес.
Роналд с удивлением обнаружил, что тетя указала на диван, стоявший в сторонке. Он познакомился с отцом Агнес, седовласым и седоусым краснолицым господином.
— Не поиграешь ли ты нам на рояле, Роналд? — спросила его мать.
На этот раз Роналд ломался лишь для вида. При исполнении первого вальса Брамса было тихо. При исполнении второго тетя что-то сказала отцу Агнес. При исполнении третьего Роналд услышал, как тетя шептала:
— Аньес, это машинная вышивка? Ты сама вышивала?
Но какое все это имело значение? Ведь он играл только для Агнес. Когда он кончил играть и вернулся на диван, тетя сказала:
— Угости его пирожным, Агнес.
Обойдя всех с корзиночкой, Агнес снова села рядом с ним. Он держался руками за край дивана. Она села так, что ее нога коснулась его руки. Роналд боялся показать, что заметил это. Он взглянул на нее лишь в тот момент, когда они одновременно пригубили свои рюмки с вермутом. Свободной рукой Роналд достал из кармана сигареты и предложил одну из них Агнес; она закурила, делая короткие, «дамские», затяжки.
Впервые за эти дни Роналд подумал о матери. Мать сидела выпрямившись на самом краешке слишком глубокого кресла. Лицо у нее побагровело от напряжения. Она беседует с отцом Агнес. Радостно смеется его остротам, рассказывает что-то из своей жизни. Милая мама, думает Роналд, в сущности, ты заслуживаешь с моей стороны гораздо большей любви. Ты, должно быть, всегда меня понимала. Но не смела этого обнаружить из страха перед отцом. Мама, ты не виновата в том, что я чувствовал себя несчастным. Правда, ты никуда меня не пускала, опекала на каждом шагу и следила за мной так строго, что я вырос непохожим на других. Я не смел играть на улице, да и мало ли чего еще я не смел, потому что ты всегда чего-то боялась. Но это была лишь твоя преувеличенная забота, твоя слишком сильная любовь. Ты, вероятно, никогда не любила отца, я был, наверное, единственным, кого ты могла любить.
Своими пальцами он ощущал тепло, исходившее от Агнес, гладкую поверхность ее чулка. Он наклонился вперед и коснулся плечом ее плеча.
Мама, продолжал он думать, когда мы вернемся в Амстердам, я не забуду о том, что сейчас пришло мне в голову. Вспоминая Агнес, я постараюсь относиться к тебе лучше, чем сейчас. Хорошо относиться к другим можно лишь тогда, когда счастлив сам, а я сейчас счастлив.
Сегодня он всех любил и всем прощал. Это была жизнь, чудесная жизнь: теплая комната, мягкие ковры и рядом светловолосая девушка в платье из черного бархата.
Когда открылись двери, он, счастливый, словно окрыленный, направился к столу. Тетя усадила Агнес рядом с ним.
Еще не успели убрать закуску, как его охватил страх. Ему показалось, что он видит кошмарный сон.
Прежде всего стол. На нем стоят шесть свечей — три длинные и три наполовину сгоревшие, оставшиеся от предыдущего праздника.
И зачем тетя пригласила барона? Конечно, чтобы показать ему, как любезно она обходится со своими нищими родственниками. Вот, пожалуйста, он сидит и ласково смотрит на них.
Фриц, с детским слюнявчиком на шее, навалился грудью на стол. Еда падает у него изо рта обратно в тарелку. Тетя все еще водит его за ручку. Он уже третий год учится в первом классе.
В эту минуту мать подавилась. Тетя бьет ее по спине. Мать старается указательным пальцем вытащить кость из горла.
Дядина толстая левая рука лежит на столе. На ней перстень с большим голубым камнем. За неимением фамильного герба на камне выгравированы листья клевера, Похоже, что они срисованы с игральной карты трефовой масти. А отец! Его левая рука прикрывает сбоку тарелку. Атавизм! Жест всех бедняков! Из поколения в поколение у них крали со стола еду. На рюмке отца жирное пятно, потому что он не вытирает салфеткой губы, прежде чем отпить. Он лезет своей вилкой то в креветки, то в сардины, то в спаржу. И все время повторяет: «Да, господин барон». А тетя, обращаясь к отцу Агнес, подчеркнуто называет его «господин ван Ревендал».
Неужели Агнес ничего еще не поняла? Не смеется ли она про себя над всем этим? О, все потеряно, все потеряно!
Он был так расстроен, что не расслышал вопроса, заданного ему господином Ревендалом, и переспросил:
— А-а?
— Ты что, не умеешь прилично отвечать на вопросы? — поинтересовался отец.
— Он, видно, раскис от вина, — засмеялся дядя, но все-таки подошел к нему с бутылкой, чтобы вновь наполнить ему рюмку. Однако тетя сказала:
— Нет, Карел, серьезно, он уже достаточно выпил для своего возраста.
Роналд чувствовал, что, если начнет возражать, произойдет скандал. Наученный событиями дня, он не хотел, чтобы его еще раз выгнали из-за стола. Он медленно встал и положил на стул свою салфетку, подыскивая подходящий предлог, чтобы удалиться.
— Я думаю, мне лучше уйти, — начал он. — Я…
— Сиди, пожалуйста! — приказала тетя. — Что это ты надумал?
Тут он вдруг услышал голос своего отца, насмешливо сказавшего с набитым ртом:
— Если молодому человеку срочно нужно в туалет, тогда другое дело, хоть это и не совсем прилично.
Свечи замелькали перед глазами Рональда, их стало внезапно очень много. Пар от стоящей на столе еды нестерпимым жаром опалил ему лицо. Он впился руками в край стола. Он смотрел на тетю, но видел лишь расплывчатое пятно, похожее на фотоснимок духа, явившегося во время спиритического сеанса. Стол начал опрокидываться на тетю. Окончательно упасть ему помешали тетины колени. Скатерть поползла вниз; свечи, к счастью, сразу погасли. Раздался звон разбивающегося фарфора, громко стукнуло упавшее ведерко со льдом.
Роналд был уже у двери. В мрачном коридоре горел только фонарик под потолком. Он взбежал вверх по лестнице. Попробовал открыть окно из цветных стекол. Рама подалась, но не до конца. При этом она издала звук, похожий на крик младенца.
В своей комнате он не смог нащупать выключатель от верхнего света и зажег лампочку над умывальником. Взглянул в зеркало на свои покрасневшие глаза, на пылающее лицо, которое освещалось светом, отраженным от белой раковины.
Веревку, веревку, подумал Роналд. Где бы найти веревку. На шторах не было шнуров, их задергивали руками. Но металлический карниз, на котором висели шторы, вероятно, смог бы его выдержать.
Потолок в комнате был слишком высокий, Роналд не дотянулся до карниза. Он подвинул к окну стол и стул и соорудил из них эшафот. Затем закурил. Взгляд его упал на ночник у постели. Шнур тонковат, подумал он, но внутри у него металлическая проволока. Выдержит. Сев на кровать, он стал разбирать лампу. Обе руки у него были заняты. Дым сигареты ел глаза. Он швырнул сигарету в раковину. Полез в карман за ножом. Ах да, нож остался в другом костюме. Зато в кармане он нашел авторучку. Отломив от нее нижнюю часть (все равно авторучка ему больше не понадобится), он использовал остальное как отвертку.
Но, когда он увидал латунные пластинки на конце шнура, ему пришла в голову новая мысль. Он до половины расплел шнур и вставил латунные пластинки в уши, как врач вставляет в них стетоскоп. С вилкой в руке он подошел к розетке, той самой, которую починил несколько дней назад. Десять центов, подумал он, они дали ему за это десять центов. Без колебаний, твердой рукой он вставил вилку в розетку, как ученый, проводящий свой решающий эксперимент.
Ток убил его мгновенно и безболезненно, чего при столь примитивном способе и при довольно низком напряжении в сети могло и не произойти.
ДОКТОР КЛОНДАЙК
Перевод К. Федоровой
Посвящается Кола Дебро
Студент Калманс сидел против Хемелрика, единственного друга, оставшегося у него со времен учебы на медицинском факультете. Хемелрик был врач. Сам же Калманс так и не закончил курс обучения.
Он вовсе не лечился у своего друга, однако же сейчас сидел у него в кабинете, как обычно сидят пациенты на приеме у врача: возле стола, на котором лежало опрокинутое пресс-папье, а врач сидел против него за своим рабочим столом. Хемелрик любил так разговаривать с пациентами, чтобы можно было смотреть человеку прямо в лицо и в случае необходимости сразу же прослушать. Оба сидели на металлических стульях с голубыми деревянными сиденьями. Стулья остались здесь после вечернего приема, который окончился примерно полчаса назад, так что Калманс был вроде как сверхурочный больной. Их колени под столом почти соприкасались.
— Да нет, я, собственно, ничем не связан, ничем и ни с чем, пойми ты, — по обыкновению угрюмо говорил недоучившийся фармацевт и в который уже раз глубоко засовывал руки в карманы, будто развалясь в удобном кресле.
Врач, нервный подвижной человечек, сидел, пригнувшись вперед. Ему стул служил не для сидения, а лишь как опора в каком-то временном положении. При разговоре он большей частью стоял или бегал взад-вперед по комнате, сопровождая свои слова энергичной жестикуляцией.
Он ничего не ответил на замечание друга. С ним бывало, что он вдруг ненадолго погружался в молчание, будто в нем захлопывалась какая-то дверца, но тут же его сознание снова включалось, и он продолжал говорить. Невольно напрашивалось сравнение с кратковременным затуханием звука в радиоприемнике.
Зазвонил телефон. Доктор снял трубку. «Зачем я сказал ему, что ничем и ни с чем не связан?» — думал студент. Этот вопрос маячил перед ним, как зеленое пятно, возникающее перед глазами, если долго смотреть на горящую лампу. «Я пьян, — думал он. — Зачем я вывернулся перед ним наизнанку? Выслушивать чужие излияния всегда неприятно. Тем более такие, как мои. И сам-то боишься заглянуть внутрь себя». Холодный вечерний воздух не успел его отрезвить, пока он шел по улице к дому друга. Доктор все разговаривал по телефону, и студент от нечего делать стал читать таблицу для выявления дефектов зрения на стене напротив. А Е Ф… «Левым все могу прочесть, а правым только три верхних ряда», — думал он. При чтении он обычно надевал очки, иначе разбаливалась голова.
Доктор наконец обещал кому-то прийти, положил трубку и встал.
— Мне надо к больной, — сказал он студенту. — Пристали, чтобы я заглянул, хотя сегодня Новый год. Обычно люди откладывают свои болезни на после праздника. Но эта больна давно. Безнадежный случай, ничем нельзя помочь. Это здесь, неподалеку. Хочешь, сходим вместе?
На улице, кроме них, почти никого не было.
Середину проезжей части занимала огороженная высокой проволочной сеткой колея электрички, соединяющая город с пляжами на побережье. Эта улица пролегала на окраине расположенного в низинке жилого района. По одну ее сторону тянулся бесконечно длинный многоквартирный дом, по другую высились дома-башни, а между ними тут и там, ниже уровня улицы, ютились крытые соломой крестьянские домишки, все в зарослях бурьяна. Но сейчас, вечером, этого не было видно. Единственное, что мог разглядеть прохожий, — это редкие отблески луны в почти пересохших канавах.
Примечательно, что сам-то город находился за деревней на восточной стороне улицы. На западной же стороне позади похожего на казарму дома раскинулись луга. Город как бы наложил на эту часть равнины свою каменную лапу.
— Особенность нашей профессии заключается в том, что учиться нужно долго, а в конечном счете оказывается, что знать ничего не нужно. Если человек заболевает, значит, у него от природы слабая сопротивляемость, и ты все равно никогда его не вылечишь. Но допустим, ты ему все же помог. Тогда он подхватит какую-нибудь другую болезнь. Окружающим от него один вред. Так что ты вполне мог бы стать моим ассистентом. Имел бы кое-какой заработок, да и меня бы разгрузил. Если случай серьезный и ничем нельзя помочь, вызывай специалиста. Не для того, чтобы он чем-нибудь помог. Единственное, что он может предложить, — это свое незапятнанное имя, чтобы ты мог умыть руки.
Им надо было туда, где электричка делает поворот направо и, нырнув под арку дома-казармы, вырывается на простор, в луга. Дверь, в которую врач позвонил, находилась прямо под аркой. Здесь горело огромное количество сильных фонарей, так как на повороте нередки несчастные случаи. Свет был настолько резкий, что Калманс почувствовал, как у него сузились зрачки.
— А если случай несерьезный, тогда больной поправится и без врача, — продолжал эскулап.
Им долго не открывали. Может, не слышали звонка, потому что как раз в этот момент вместе с волной морского ветра под арку порвался поезд, громко визжа тормозами на повороте. Студент смотрел, как его друг снова нажал кнопку звонка и не отпускал так долго, будто хотел продырявить дверь и кого-то там внутри ткнуть в плечо. Он бросил сигарету и взглянул вверх. Свод арки тут и там угрожающе пошел трещинами — наверняка от сотрясения, из-за проезжающих поездов.
Наконец дверь отворилась.
— Врача вызывали? — крикнул Хемелрик кому-то наверху. Калмансу он сказал: — Я бы ни твоем месте не стал ждать на холоде. Пойдем со мной, я скажу, что ты мой коллега. Они здесь все ненормальные.
Дружно и громко топая, точно два пожарника, поднялись они по темной деревянной лестнице, песок хрустел у них под ногами. Студент поискал в кармане очки, чтобы придать себе солидности, но их там не оказалось. «Ну да, я ведь больше не читаю», — подумал он. Наверху их никто не встречал. Врач был здесь частым гостем.
— Тут что-то вроде пансиона, — сказал Хемелрик. — Полно жалких чудаков, старых, больных, убогих. Живой анатомический музей.
В гостиной, возле стола, на котором стояло два больших блюда с пончиками, присыпанными, точно снегом, сахарной пудрой, они увидели чудовищно толстую старуху. Явственно ощущался запах нечистого, плохо проветриваемого помещения.
— Здравствуйте, мамаша Венте, — сказал врач. — Это мой коллега доктор Клондайк, он хотел бы взглянуть на больную.
Студент Калманс кивнул старухе. Та кивнула в ответ.
— Ох уж эти мне больные, доктор… господа врачи, — поправилась она. — Я говорю: не смею я в такую поздноту людей беспокоить. А тут еще Новый год, праздники как раз..
Врач, не слушая ее, прошел в боковую комнату, отделенную от гостиной стеклянной дверью. Калманс проводил его взглядом, спрашивая себя, идти ли ему за ним или продолжать разговор с толстухой.
— Докторам, конечно, мало радости ходить в праздники по вызовам, — сказал он, уже полный сочувствия к своим новым коллегам. — Впрочем, большинство пациентов откладывают свои болезни на после праздников.
— Ну да, — согласилась толстуха. — Но эта лежит уже целый год. Да, точно. Она слегла прошлой зимой, аккурат под Новый год.
Студент кивнул.
— Пойду-ка я взгляну, — сказал он и прошел в боковую комнату, где ему послышался девичий голос.
Он прикрыл за собой стеклянную дверь. Девушка лежала головой к двери, видно было только покрывавшее ее одеяло. Здесь ему тоже нечего было делать. Доктор сидел на стуле возле кровати, лицом к нему. Пройдя всего несколько шагов, Калманс оказался у изножья кровати и посмотрел на девушку. Развеявшееся было опьянение вновь нахлынуло на него, словно обдав горячим душем…
— Это доктор Клондайк, — безразличным тоном сообщил Хемелрик. — Мой коллега. Он решил составить мне компанию. — И обращаясь к студенту, у которого голова шла кругом: — Паралич обеих ног. Но дело идет на лад, мы понемножку поправляемся, верно, Лили?
«Сколько же ты так лежишь, — подумал он. — Год, уже год…»
— Вот, взгляни сам, — предложил ему друг и небрежно откинул одеяло.
Почему Лили не смеялась? Почему не сказала: «Доктор, парень, которого вы привели с собой, никакой не врач. И незачем ему смотреть на мои ноги». Встретившись с ней взглядом, он от страха едва сумел отрицательно качнуть головой. Но она, видимо, поняла это всего лишь как знак, что ей не следует его узнавать. А может, ей доставило удовольствие в последний раз продемонстрировать ему свои ноги, теперь, когда они уже мертвые.
«Не надейся, что я из-за этого распла́чусь», — чуть не сказал он вслух.
На девушке была только короткая рубашка, какие обычно надевают на больных.
— Видишь, парализованы до бедер, — сказал врач, приподняв одну ногу девушки и показывая другую.
— Да, вижу, — отвечал студент, изо всех сил стараясь не выйти из роли. Он осторожно опустил безжизненную ногу девушки на постель.
— Но она может пошевелить мизинцем левой ноги, правда ведь? — обратился врач к девушке.
Она покорно продемонстрировала этот трюк. Рефлекторно шевельнулись и другие пальцы. Студент укрыл ее грязноватым одеялом, а его друг, вытащив из бумажника бланк рецепта, выписал снотворное, объяснил, как принимать, и распрощался, потрепав девушку по плечу.
— Доктор, — обратилась к нему больная, — могу я поговорить наедине с доктором Клондайком?
— Конечно, — согласился врач и вышел в соседнюю комнату.
Студент занял его место на стуле, лихорадочно пытаясь придумать какое-то оправдание.
— Почему ты мне не сказал, что учишься на врача? — начала девушка. — И почему ты не назвал своей фамилии? Тебя в самом деле зовут Флорис или у тебя другое имя?
— Да нет же, все правильно, — с облегчением заверил он ее. — Меня на самом деле зовут Флорис. Флорис Клондайк.
— А ты уже кончил учиться? Ты уже врач?
— Да, я врач. Я тогда просто в шутку сказал тебе, что учусь лепить пилюли.
— Милая шутка. Надо же так соврать!
— Да ничего я не врал, честное слово. Ты просто не давала мне высказаться до конца.
— По-моему, ты высказался вполне достаточно. Успел даже сообщить, что любишь меня.
Ничего другого сейчас, возле ее постели, он, собственно, и не мог припомнить. Это было в последний вечер. Она жила тогда в другом месте. Она не впустила его дальше подъезда, и он был так обескуражен, что не мог выдавить из себя ни слова. Подъезд освещался лишь падающим сквозь застекленную дверь светом уличного фонаря. Она даже не потрудилась ради него повернуть выключатель. Он чувствовал себя словно вор, забравшийся в чужие владения. И когда наконец обрел дар речи, его слова прозвучали воплем отчаяния: «Ну что ж, все это потому, что я тебя люблю».
— Послушай, Флорис, — сказала девушка. — Этот твой друг лечит меня целый год, с самого начала, но никакого улучшения не происходит. Как я лежала, так и лежу. Раз в недолю он меня навещает. Раньше он еще что-то прописывал, а теперь почти ничего. По-моему, он и вообще больше не появлялся бы, если б его не вызывала мамаша Венте. Ведь когда человек болен, полагается, чтобы его навещал врач. Целый год я так вот лежу и спрашиваю себя, смогу ли я когда-нибудь ходить. Вернее, больше я уже не задаю себе этот вопрос. А он выписывает мне какие-то порошки, которые нисколько не помогают. Не взялся бы ты меня лечить? Ты ведь уже врач. Как знать, наука развивается так быстро… Как знать, может, ты изучил более современные методы, чем твой друг. Не хочешь попробовать, а, Флорис?
Он обещал и простился. Его друга в гостиной не оказалось. Неужели он так долго разговаривал с Лили? Нет, он не должен обижаться, что Хемелрик не стал его ждать в обществе толстухи Венте, которая, сидя с голой ногой у печки, штопала чулок. От тяжкого духа в комнате теснило грудь и хотелось поскорее вырваться отсюда.
— Не угодно ли пончиков, доктор? — предложила толстуха. — Возьмите хоть один. — Она кивнула на блюдо.
Клондайк не посмел отказаться. Это же такая честь для хозяйки, если доктор согласится отведать ее пончиков. Пончики были черствые, и на зубах скрипел песок.
— А где доктор Хемелрик? — спросил он, осторожно нащупывая жирными пальцами носовой платок.
Толстуха поджала губы.
— Не знаю. Ищите сами.
Студент в одиночестве вышел из гостиной и с облегчением вздохнул, добравшись наконец до лестницы и входной двери.
Он медленно брел обратно к дому друга. «Если бы я ее проклял, — думал он, — худшего зла я не мог бы ей причинить. Может быть, я ее и проклял, только не посмел сегодня сказать ей это в глаза. А надо было это сделать. Так было бы честнее. Надо было сказать: „Ага, ты презирала меня. Ты выкинула меня за дверь, как мусор из ведра или изношенный половик. Так вот, я тебя проклинаю. Ты сама во всем виновата, вот и кайся теперь. Ты презирала меня, а теперь все будут презирать тебя“». Сначала студент засмеялся, представив, как он все это ей говорит, но потом, уже перед дверью друга, тихо заплакал, потому что такого он ей вовсе не желал. Ей, столь прекрасной и столь еще юной… Она лежит там вот уже целый год, и ее восхитительные ноги тоже лежат вялые и бессильные. Никогда больше она не сможет соблазнительно постукать ножкой о ножку. Ее ноги волочатся точно плети, следуя движениям ее тела. Удивительно еще, что в них струится кровь, что они не почернели и не отмерли: в них ведь больше нет надобности…
Его друг снова сидел у себя в кабинете, склонившись над книгой.
— Я знал эту девушку, — сказал студент. — Она так скверно со мной обошлись, так откровенно подло, что теперь, наверное, считает, что я ее проклял и из-за этого с ней случилось несчастье. Тебе она не доверяет. Она хочет, чтобы ее врачом был я. Наверное, она думает: «Флорис меня проклял и вот пришел посмотреть, что из этого получилось. Он единственный, кто может мне помочь, он должен снять с меня проклятие». Я предлагаю тебе передать мне эту пациентку. А почему бы нет? Случай ведь все равно безнадежный.
— Пожалуйста, — сказал друг. — Может быть, и к лучшему, если ее будет пользовать человек, которому она верит, чем действительно опытный врач.
Он предложил студенту на выбор один из трех своих запасных стетоскопов и дал ему адрес типографии, где можно заказать бланки рецептов.
Очки для чтения, которые обнаружились дома, Калманс не снимал теперь целыми днями. Стетоскоп свернул и сунул в задний карман брюк. Поскольку он навещал больную чаще всего вечером, он стал гораздо меньше пить. По крайней мере раз в неделю, перед уходом от больной, он, пристроив на колене бумажник, с утомленным, но сосредоточенным видом накарябывал рецепт и неизменно предлагал самолично отнести его в аптеку. На улице он рвал его в клочки и пускал по ветру (какой же аптекарь знает доктора Клондайка!), а настоящий рецепт предоставлял выписывать Хемелрику.
Мамаша Венте его полюбила. Ему стоило немалого труда отбиться, когда она попыталась навязать ему в качестве пациентов и других обитателей своего пансиона. А Лили утверждала, что с каждым месяцем чувствует себя чуточку лучше. Вот он увидит, когда придет лето! Все мысли Калманса были заняты одним. Он едва мог дождаться вечера, когда обычно совершал свой ежедневный визит. А уходя, не забывал заметить: «Я ужасно задержался, мне надо идти, меня ждут больные». Лили явно была счастлива, что жертвует чем-то ради других его пациентов. Так что расставание причиняло горе только ему.
Дни становились длиннее. Когда Калманс приходил в пансион, шторы еще не были задернуты; он невольно поглядывал в окно, у которого лежала Лили, и она требовала, чтобы он рассказывал ей, что там происходит. Каждые пятнадцать минут дом наполнялся гулом оттого, что под аркой, над которой как раз и находилась ее комнатушка, проезжал поезд. Перекосившиеся оконные рамы толком не закрывались. Щели по его приказанию были заткнуты, но все равно, если дул ветер, все в комнате покрывалось песком. Под ножки кровати, чтобы не качалась, были подсунуты деревянные чурочки, которые время от времени приходилось менять.
Он рассказывал:
— Я вижу дочурку аптекаря. Она собирает выстиранное белье, которое ее мать утром разложила на чужой лужайке. Девочка машет платком проходящему поезду. А пассажиров в поезде почти нет. Кто поедет вечером к морю, когда еще так холодно… Ты слышишь стук? Его производит человек, который мастерит что-то в курятнике. Он в одной рубашке. Еще бы, ему-то небось жарко — вон ведь как старается… Ребятишки строят из песка дамбу и крепость в канаве у железной дороги. Но им давно пора спать. Все равно никто уж больше не смотрит на их сооружение.
А она спрашивала:
— А птицы? А цветы?
Вот тут-то, чтобы рассказать ей что-нибудь интересное, большую часть ему приходилось выдумывать.
Однажды теплым апрельским вечером, когда окно было распахнуто настежь, произошло чудо.
— Осмотри меня, — приказала она с гордым видом.
— Зачем? — спросил он, дрожащими пальцами впервые в жизни вытаскивая из кармана стетоскоп. — Ты плохо себя чувствуешь? У тебя кашель?
Он «осмотрел» ее. Прослушал с головы до ног, без особого труда сохраняя на лице вдумчивое выражение. «Я же могу честно сказать то, что говорят столько докторов, — прикидывал он. — Что я ничего не нахожу. Я ведь и не сумею ничего найти».
А она сказала:
— Посмотри на мою левую ногу.
Он посмотрел и увидел, что Лили в состоянии без посторонней помощи чуточку приподнять ее, согнув в колене. Он оказался на высоте и сумел преодолеть природную молчаливость.
— Это огромный сдвиг, — сказал он, думая про себя: «Только моей заслуги тут нет. Нет? В самом деле нет? А кто, черт возьми, знает, какие нужны лекарства? Одни заболевают, другие выздоравливают… Может быть, и лекарства и доктора — просто-напросто сопутствующие обстоятельства. Все зависит единственно от того, что́ ты делаешь. А я кое-что сделал, и это главное».
— Я думаю, через недельку ты сможешь двигать и другой ногой, — храбро заключил он.
— Правда? — обрадовалась Лили. — Ты так думаешь? А ходить? Когда я смогу ходить?
Она возбужденно взмахнула руками. Ее лицо среди застиранных подушек сияло сплошной улыбкой.
— Месяца через три… не раньше, — сказал он.
— О, ходить! — вздохнула Лили. — Уйти прочь из этого дома… Если бы это было возможно! Не спать больше под этот гул, не просыпаться от чьих-то стонов, не ощущать больше прикосновений этой мерзкой мамаши Венте.
«Ходить», — думал он. Такая возможность ему даже не снилась. Ходить! Какие возможности это раскрывает перед человеком. Он сидел сгорбившись, не отрывая взгляда от блестящей чашечки стетоскопа, болтавшейся у него между колен. Ходить! Да, она будет ходить.
— Иначе как на своих ногах нет смысла отсюда убираться, — сказала Лили. — Если мне все-таки придется лежать, то какая разница где?
Он не стал возражать, чтобы не погасить в ней надежду на то, что она встанет и будет ходить. И не сказал, что лежать в доме менее сумасшедшем, чем этот, было бы само по себе куда благоприятнее. Ведь это единственное, чем в его власти было реально улучшить ее положение. Но до этого он не додумался.
Ходить… Если она совсем выздоровеет, может, тогда они будут ходить вместе…
— О чем ты задумался? — спрашивала она. — Какая странная от тебя тень на стене. Стена красная, а тень почти зеленая. Как это получается?
— Это от заходящего солнца, — сказал он, выглянув в окно.
— А на что похоже заходящее солнце?
— Круглое, как луна, но больше и краснее. Оно стоит на высоком малиновом небосводе. Сквозь дыры в облаках протянулись к земле длинные лесенки, по которым солнце спускается к горизонту.
— Ах, — прошептала она, — как бы я хотела все это снова увидеть! Но я вынуждена лежать неподвижно, точно мертвая. Единственное, что я вижу, — это отсвет жизни на обоях.
Клондайк встал со стула и заглянул в гостиную. Мамаши Венте там не было.
Тогда он наклонился к Лили, велел ей закинуть руку ему на шею и, поддерживая за бок, посадил ее. Сам же встал коленями на кровать позади нее так, чтобы она могла спиной опереться о его грудь. Теперь они вместе смотрели в распахнутое окно. Ее взгляд нетерпеливо перебегал с одного на другое. Весна поднималась к ним клубами запахов вара, сухого дерева и пыли.
Совсем близко пролетела пара птиц. Залаяла собака и метнулась во двор. Какая-то женщина захлопнула дверь сарайчика.
Вдали загрохотал поезд. Провода электролинии, под самым окном выходившие из-под арки и сливавшиеся на горизонте, напряженно загудели.
— Мне пришла в голову странная мысль, — сказала она. — Провода идут от моего дома к морю. Прислушайся, сюда доносится шум волн. Он идет по проводам.
Он крепче прижался головой к ее голове и впервые почти за два года погладил ее волосы. Его правое ухо прижималось к ее левому. А когда он потом снова осторожно опустил ее на постель, он впился в нее долгим поцелуем и не отрывался, пока она, пробормотав что-то невнятное, не отвернула лицо и не притянула его к себе. Одеяло сползло на пол. Ее руки расстегивали на нем одежду, как бывало раньше. Оба готовы были заплакать. Их губы слились, глаза с минуту не открывались.
— Почему ты меня поцеловал, Флорис? — спросила наконец она. — Неужели только потому, что теперь поверил, что я поправлюсь? А если бы я никогда не поправилась, ты бы не стал меня целовать? Остался бы просто моим доктором? Потому что мой случай представляет интерес для науки?
Клондайк не нашелся, что ответить на так прямо поставленный вопрос. Потому что означал он только одно: «Я знаю, на самом деле ты меня не любишь. Если бы у меня не было никаких шансов выздороветь, ты бы меня не поцеловал — ведь это к чему-то обязывает. Если бы мне грозило до конца дней остаться инвалидом, ты бы радовался, что я в свое время так плохо с тобой обошлась, так что ты и пальцем не мог меня коснуться, не испытав унижения, не говоря уже о том, чтобы посвятить мне всю свою жизнь».
Так он думал, вновь сидя возле ее кровати, голова его лежала у нее на груди. Наконец он холодно посмотрел на нее и сказал:
— Ну что ж, раз ты видишь в моем поступке лишь доказательство того, что тебе стало лучше, тогда мой поцелуй скажет тебе не больше, чем мои заверения как врача: через три месяца ты будешь ходить.
Он встал и захлопнул окно: вечерний воздух становился слишком прохладным. Стук колес поезда нарастал, поглощая все другие звуки, потом замедлился, растворился в пронзительном вое ветра. В соседней комнате мамаша Венте разбила что-то из посуды и тотчас явилась сообщить об этом.
Адрес сестры Ферро он узнал, прочитав объявление: «Лечебный и спортивный массаж».
Калманс решил, что теперь, когда, казалось, блеснул лучик надежды, он не станет больше ждать у моря погоды. Хватит ей неделями глотать аспирин и агарол — хоть и всякий раз в новой упаковке, — с этим было покончено. До вечера просиживал он в библиотеке, перечитал все, что мог, насчет болезни Лили, советовался со знакомыми, изучавшими медицину. Хемелрика, естественно, ни о чем не спрашивал: тот за целый год не сумел достичь того, чего сам он достиг за четыре месяца.
Кто-то сказал ему, что человеку, долгие месяцы пролежавшему в постели, необходим массаж; иначе он, даже если выздоровеет, не сможет подняться с постели просто от слабости мышц. Поэтому он решил пригласить массажистку.
Она жила поблизости, на восточной стороне улицы, в одном из низеньких домишек. Ее домик стоял совсем низко и в то же время почти вплотную к проезжей части улицы, так что к нему невозможно было подступиться. Поэтому прежняя входная дверь была наглухо забита, а вместо нее на втором этаже прорезана новая, к которой с улицы вел деревянный мостик.
Однажды в хмурый и дождливый полдень Клондайк вошел в этот дом. Дверь была не заперта и отворялась прямо в комнату, где сидела сестра Ферро. На керосиновой печке кипела вода.
Сестра Ферро была женщина лет тридцати пяти в белом накрахмаленном переднике. Когда Клондайк вошел, она подрубала носовой платок и не сразу подняла на него глаза.
— Я доктор Клондайк, — представился он. — У одной моей пациентки парализованы обе ноги. Чрезвычайно трудный случай. Паралич длится уже около полутора лет. И все же за последнее время наблюдается обнадеживающее улучшение, так что… (он манерно поджимал губы и, втягивая ртом воздух, откидывал голову назад — такая привычка была у одного профессора)…так что было бы желательно попытаться с помощью массажа вернуть мышцам гибкость.
Сестра Ферро окинула его взглядом больших черных глаз и разразилась негромким, но достаточно выразительным смехом.
— Ах, вот оно что! Ты — доктор? Брось, не морочь мне голову! Не верю я, что ты доктор. Но это ничего не значит. Ты все равно очень симпатичный парень. — Она встала, сложила рукоделие и повторила: — Очень симпатичный парень.
Она потерлась накрахмаленной грудью о его плечо и взяла его за руку. Студент почувствовал, что его унизили, но и приласкали.
— Послушай, — сказала массажистка. — Я всего лишь одинокая женщина, и мне ужасно приятно, когда кто-нибудь заходит меня навестить.
— А я, — сказал он, — как ты правильно поняла, одинокий парень. Но что я не доктор, это неправда. Неправда, учти.
Возмущенный, он шагнул было назад, но медсестра не выпускала его руки.
— Ну-ну, не кипятись, — сказала она. — Доктор ты или не доктор, это вовсе не значит, что я не хочу тебе помочь. — Она опять прижалась грудью к его плечу и добавила, понизив голос: — И я умею молчать. Садись же.
Они сели на стоящее в углу канапе. На окнах висели легкие в голубую клетку занавески.
Клондайк спросил, что она думает о пользе лечения массажем.
— Я лечила десятки таких больных, — заверила она. — И всегда успешно, хотя, на первый взгляд, мой метод кажется парадоксальным. Я учу мышцы расслабляться. Даже от самых сильных мышц нет проку, если человек не умеет их расслабить. Ты согласен?
Клондайк допускал, что так оно и есть.
— Даже самые здоровые мышцы обычно не способны полностью расслабиться, — продолжала массажистка. — Встань-ка.
Он встал.
— Расслабься, — приказала она, подняла его руку вверх и выпустила.
Рука упала, но не как груз на веревке, а нерешительно опустилась: студент невольно придержал ее.
— Вот видишь, — сказала сестра Ферро. — Все дело в непроизвольном сокращении мышц и замедленной реакции. При параличе то же самое. Только тот, кто способен расслабить свои мускулы, может их и напрячь.
Он встал и надел пальто. Что именно она станет делать с Лили, его не интересовало, он все равно в этом не разбирался. Массажистка, по-видимому, это заметила.
— А ты все-таки не врач. Нет, не врач, — сказала она на прощание.
Но его это не задело.
Мамаша Венте обратила внимание, что Клондайк очень бледен в последнее время.
— Бледен? — удивился он. Почему это он бледен, если постоянно находится в возбуждении? Он ответил, что она права, он чувствует себя утомленным, практика отнимает у него много времени.
На самом-то деле он утомился оттого, что упорно штудировал всевозможные медицинские трактаты. Разбирался он в них с трудом, так как ему не хватало необходимых знаний. Часто он даже не догадывался, что понимает прочитанное превратно. Он был как ребенок, услыхавший где-то прекрасную музыку, которая с тех пор день и ночь звучит у него в голове, и вот он пытается подобрать ее на рояле, хотя она слишком сложна для него.
Некоторое время он работал в лаборатории при университетской больнице. Но каким-то образом обнаружилось, что он не сдал обязательных экзаменов, и его выставили. Он сомневался во всем: правилен ли диагноз, поставленный в свое время его другом? Правильно ли лечение, которое предписывают учебники? А не мог бы он сам придумать какой-то новый способ лечения? Однажды вечером он посоветовался со своим другом Хемелриком. Но тот сказал: «Ты говоришь, как врач из другой части света или с луны. Может быть, тебя поймут в твоем окружении, но не в моем кабинете».
«В твоем окружении, — думал Клондайк. — Он, конечно, хотел сказать „в сумасшедшем доме“». Но его это не обескуражило. По дороге домой он совершил величайшее открытие. На следующий день он отозвал сестру Ферро в сторонку.
— Результаты, которых пациентка достигла под вашим руководством, не так плохи, но дело могло бы идти гораздо быстрее. Ваша теория — релаксация, расслабление мышц. А я пришел к выводу, что в данном случае расслабление мышц лишено всякого смысла. Почему мышцы после того, как они отдыхали в течение целого года, должны еще расслабляться? Это против всякой логики. Эти мышцы следует не расслаблять, а укреплять. Делать их крепкими и сильными. Не снимать напряжение, а заново учить их напрягаться, напрягаться и напрягаться, как напрягаются любые здоровые мышцы.
Сестра Ферро всячески противилась, чуть ли не со слезами, потому что Клондайк вдруг заговорил с ней на вы. Она твердила, что умение расслабляться укрепляет мышцы, что Лили уже может немножечко сгибать обе ноги. Что напряжение на этом этапе может привести только к судорогам и в результате к ухудшению. Но он не дал ей договорить.
— Да, конечно, я знаю, что вы в конце концов скажете: «Ты же не врач». Я и в самом деле не врач. Но из этого вовсе не следует, что я не могу быть прав. И я прав. Я более прав, чем те, кто носит в кармане официальное удостоверение в том, что они всегда правы. Я прав, потому что сам нахожусь в постоянном напряжении. Открытый мною метод, который я только что вам изложил, стоил мне огромных усилий. Поэтому совершенно исключено, чтобы мое прозрение оказалось ложным.
— До чего ты изменился, — пробормотала она, усмехаясь. — Такой был фаталист, а теперь так уверен в себе.
— Фаталист только тот, кто не видит в пределах досягаемости ни единой цели, которая казалась бы ему стоящей усилий, — сказал Клондайк. — А у меня такая цель есть. Мне нужно только крепко сжать руку, чтобы ее схватить, и, будьте уверены, я крепко сожму руку, не жалея своих мышц и не боясь судорог.
Сестра Ферро в конце концов сдалась и стала лечить Лили так, как ей было указано. Уже через неделю Лили без посторонней помощи садилось, а еще через две недели смогла сделать по комнате несколько шагов, поддерживаемая сестрой Ферро и Клондайком.
Как ни устал Клондайк, он чувствовал себя счастливым. По ночам, не в силах заснуть, он бродил по паркам, где освещенные изнутри виллы казались ульями, наполненными приглушенным жужжанием музыки радиопередач.
Мысль о том, что Лили снова будет ходить, не давала ему ни сидеть, ни лежать.
А потом он сам слег. Была середина августа, и было очень жарко. Его хозяйка, которой пришлось за ним ухаживать, пожаловалась, что не может выйти из дому. Клондайк совсем растерялся. «Думаете, мне это очень приятно! — хотелось ему завопить. — Лежать тут, когда больная, которую я лечу, находится в критическом состоянии и нуждается в моих заботах». Но он сумел взять себя в руки, Ведь он всего лишь незадачливый студент-фармацевт, а никакой не врач. Ночами он декламировал целые куски из прочитанных учебников, забывался наконец коротким сном, а рано утром пронзительное, как сирена «скорой помощи», пение птиц возвращало его к действительности. Он не мог даже послать к Лили кого-нибудь вместо себя, ничего не мог для нее сделать.
Через две недели он почувствовал, что больше не выдержит, и встал. Голова все еще гудела от жара. Был воскресный полдень. Клондайк оделся, нахлобучил шляпу, сел на трамвай и поехал к ней. Но на одном перекрестке трамвай столкнулся с машиной, так что дальше пришлось идти пешком. Наконец он добрался до места. Перед дверью он помедлил, стараясь справиться с головокружением. Мамаша Венте сама открыла ему и поджидала его на лестнице.
— Ох, доктор, наконец-то вы здесь! С ней, по-моему, что-то неладно. Вы сами увидите, но, по-моему, она умирает. Я-то уж нагляделась на такие вещи.
Лили спала, лежа на спине, голова неестественно свернута набок.
— Ну как, умирает? — спросила мамаша Венте, вошедшая в комнату вместе с ним.
— Не знаю я. Откуда мне знать! — закричал он. — И катитесь вы отсюда. Вы мне не нужны. Не нужны, понимаете?! И нечего вам лезть в дела, которые вас не касаются. Абсолютно не касаются.
Мамаша Венте шагнула к нему поближе.
— Послушайте, вы, доктор. Я уйду, если вы так этого хотите. Только нечего вам кричать, что меня это не касается. Потому что тогда я смогу наконец поменять белье на кровати.
Их перебранка разбудила Лили.
— Флорис, — сказала она со вздохом, который шел, казалось, из самой глубины легких. — Флорис, почему тебя так долго не было?
Она не протянула ему руки, и он спросил, почему она с ним не здоровается.
— Со мной что-то неладно, Флорис, — отвечала она. — Я не могу протянуть тебе руки. Я вообще не могу больше сделать ни одного движения. Только голову еще могу повернуть. И у меня так все болит. Наверное, я скоро умру.
Голос был еле слышен. Клондайк присел у изголовья. Он не мог выдавить из себя ни слова. В горле у него точно застряла рыбья кость.
Ты сделал все, что мог, Флорис. Мне так жаль тебя. Почему ты со мной не разговариваешь? Расскажи, что ты видишь за окном.
— Я вижу поезд, который остановился, войдя под арку. Похоже, там что-то случилось, проводники шушукаются, а пассажиры выходят из вагонов поглядеть, в чем дело.
— О, Флорис, — сказала Лили. — Там наверняка произошел несчастный случай. Поезда ведь никогда под аркой не останавливаются. Должно быть, кто-то попал под поезд. Старик или ребенок. Да, конечно, ребенок. Пойди туда, Флорис, и помоги. Сидеть возле меня больше нет никакого смысла. Здесь твое искусство уже бессильно.
— Никуда я не пойду! Я останусь с тобой! — выкрикнул он. И тихо добавил: — Зачем мне идти? Единственное, что я могу, — это перевязать кому-нибудь рану носовым платком, а это может сделать кто угодно.
Вдруг она несколько раз дернула головой. Все ее тело в последний раз пришло в движение, по нему пробежала долгая дрожь, и больше она уже не шевелилась. Он схватил ее за руку, закричал: «Лили, Лили!» — но ничего не произошло. Тогда он оставил свои попытки, вяло подумал про стетоскоп, но не стал доставать его, откинулся на спинку стула и посмотрел в окно. Ребятишки, которые в этот воскресный полдень собрались на взморье, таращились из всех окошек поезда и размахивали ведерками и флажками. Несколько мальчишек постарше уселись на обочине канавы и пели под гитару.
За его спиной возникла мамаша Венте и тронула его за плечо.
— Ну как, доктор, умерла? — спросила она.
— Умерла, доктор, совсем умерла? — спрашивали другие обитатели пансиона, следом за ней проникшие в комнату. Старуха в ночном капоте, с лысой головой. Мужчина, у которого вместо руки был толстый неряшливый сверток, бинты частью размотались и свисали вниз. Тощий юнец, не умеющий говорить, умеющий только кричать «ду-уу». В гостиной тоже толпились люди.
Клондайк встал.
— Убирайтесь все отсюда вон! — выкрикнул он. — Человек умер. Чем я могу помочь? Я сделал все, что мог. Чего вы еще от меня хотите? Человек уже мертв. Теперь нужно только добыть бланк, чтобы составить заключение о смерти, и все будет кончено.
— Все навсегда будет кончено, — повторил он уже для себя самого и повернулся к двери.
Но старик с перевязанной рукой задержал его.
— Это правда, доктор, — сказал он. — Вы сделали все, что могли, потому она и умерла. Пока вы не делали всего, что вы можете, она потихоньку поправлялась, глядишь, сейчас уже и ходила бы. А теперь она умерла. Никогда не делайте все, что вы можете. Никогда. Самое большее, что вы можете сделать, — это какую-нибудь несправедливость.
— Богопротивную несправедливость! — подхватила лысая старуха.
— Сделал все, что мог, — значит всего лишь, что один метод он предпочел другому. Делать все, что можешь…
— …это вызов богу! — снова перебила старуха.
— Кто делает все, что может, — продолжал старик, — подобен тому, кто мошенничает при игре в кости. За мошенничество наказывают, и это более чем справедливо.
Клондайк вырвался от него и вышел вон, хотя знал: старик прав. Безусловно прав.
Внизу, под аркой, было целое столпотворение, поезд по-прежнему стоял на повороте. Шумно галдели зеваки. Огромная, странного вида автомашина ревела, точно корова на бойне. Клондайк с трудом пробился сквозь толпу. Пишется ли заключение о смерти на специальном бланке или просто на рецепте, он понятия не имел, так что придется ему зайти к своему другу Хемелрику и спросить у него.
У дома Хемелрика он остановился в растерянности, обнаружив, что на дверной табличке криво налеплена бумажка с другим именем. Но все-таки позвонил. Ему немедленно открыли, так как коридор был забит пациентами и никому не понадобилось специально идти открывать. Он впервые заметил, что входная дверь не распахивается до конца, так узок там коридор. Он с трудом протиснулся внутрь.
— Позвольте мне пройти, — пришлось ему попросить присутствующих. Он даже выдохнул из себя весь воздух, чтобы стать как можно тоньше. Но народ в коридоре всполошился.
— Эй, вы позже всех пришли, здесь очередь, займите свое место.
— Я сам врач, — кричал он, локтями пробивая себе дорогу. — Дайте мне пройти.
Ему удалось добраться до кабинета, и он вошел, спиной придерживая дверь от напирающей из коридора толпы. Голая женщина, ожидавшая результатов осмотра, при виде Флориса ахнула, подхватила рубашку и закрылась ею. Желтые хлопчатобумажные занавески на окнах, за которыми вовсю сияло солнце, были опущены — от любопытных глаз. Комната поэтому была залита желтым светом зари, казалось, весь дом еще спит…
Другой, незнакомый врач обернулся от своего стола к Клондайку. Это был крупный мужчина со свирепым красным лицом и толстым животом. На нем был грязноватый белый халат, на животе почти совсем черный.
— Вам что нужно? — спросил он. — У меня в данный момент нет приема. Разве вы не знаете, что сегодня воскресенье?
— Мое имя доктор Клондайк, — сказал Флорис. — Я пришел насчет заключения о смерти. Не могли бы вы мне помочь?
— Нет, — отрезал врач. — Это невозможно.
Он угрожающе поднялся со стула, самописка в руке точно оружие.
— Доктор. — Клондайк положил руки ему на плечи, стараясь задержать его и направить его мысли по другому руслу. — Прежде здесь жил один мой друг, он всегда мне помогал. Помогите же теперь вы. Это крайне необходимо.
— Нет, доктор, — отвечал тот. — И не подумаю. Будьте добры освободить помещение.
Он положил руки на плечи Флориса, стараясь вытолкнуть его за дверь. Вот таким образом они и стали медленно двигаться по коридору к выходу, потому что незнакомый врач был сильнее.
— Ах, доктор, — с мольбой сказал Клондайк. — Я вовсе не врач, но я сделал все, что было в моих силах. Я не мог ей помочь. Ничем не мог помочь. Но я так ее любил!
— Ясно, — сказал тот, — сначала от великой любви он сделал ей ребенка, который не должен был появиться на свет, а потом изобразил врача. Я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Старая песня. Прощайте, господин хороший, прощайте.
Лишь когда за ним с грохотом захлопнулась входная дверь, смолк насмешливый хохот пациентов, которые всячески подбадривали своего врача.
Только тут Клондайк сообразил, что на первый вопрос незнакомого врача ему следовало ответить: «Конечно, я знаю, что сегодня воскресенье, но ведь у вас в коридоре полно больных. Почему же вы не хотите помочь своему коллеге?» Но вернуться было невозможно. Пациенты дружно налягут на дверь, не давая ему войти. Возвращаться же с пустыми руками в пансион мамаши Венте тоже не имело смысла, но студент напомнил себе, что там осталась его шляпа, и, чтобы хоть что-то спасти, решил сходить за ней. Однако, оказавшись снова под аркой, он переменил решение. Дорожное происшествие было исчерпано, и поезд как раз трогался. «Ведь от того, что я не составил заключения о смерти, все может выйти наружу, — подумал он. — Уберусь-ка я лучше подобру-поздорову».
И он бросился догонять поезд. Вскоре он поравнялся с задней дверью последнего вагона. Вспрыгнуть на подножку он не мог, так как проволочная сетка, огораживающая путь, было слишком высока. Кончалась она только за аркой. А поезд мало-помалу набирал скорость.
«Если я в него не попаду, все пропало, — думал студент. — Я опоздал на одну-две минуты. Иначе я бы как раз успел вскочить в эту дверь».
Его шаги гулко отдавались под аркой, заглушая шум поезда.
«Машинист, — мысленно умолял он. — Задержи поезд на тридцать секунд. Почему мне нельзя уехать с вами? Что плохого я тебе сделал?.. А железнодорожные правила? — возразили ему. В какую сумму уже обошлась задержка из-за несчастного случая? Правила прежде всего!.. О вы, кто установил эти правила, неужели вы накажете машиниста, если он затормозит ради меня? Почему вы превратили поезд в такое явление жизни, движение которого нельзя задержать никакими доводами? Господа, установившие железнодорожные правила, я вас спрашиваю, как человек человека (а возможно, как человек, я выше вас), почему вы со мной не считаетесь?»
Поезд уже миновал арку, где пути были огорожены, и шел все быстрее.
«Машинист, — подумал Калманс в последний раз. — Сейчас я вспрыгну на подножку. Возможно, я промахнусь, упаду прямо под колеса, буду раздавлен всмятку. В нашей стране, машинист, даже самых страшных преступников приговаривают к смертной казни только после многомесячного расследования, и то не к такой мучительной. А я не преступник, и все же по твоей милости, машинист, я могу погибнуть самым ужасным образом, и только потому, что я на минуту опоздал. У тебя в руках электрический и пневматический тормоз. Включи их на один миг, машинист!»
Он
прыгнул — и не промахнулся. Какой-то господин заранее распахнул для него дверь. Другие втащили его наверх.
Дети освободили ему местечко, потому что у него был такой больной вид и он никак не мог отдышаться. За это ему пришлось рассказывать им сказки. Но его сказки были такие грустные и так огорчали детей, что родители уводили их от него и прижимали к себе.
А поезд, покачиваясь на ходу, шел все дальше среди осушенных лугов и выгонов. Быстро надвигалась гроза. Ветер тонким гнусавым голосом сифилитички завывал в полуприкрытых шторками окнах. Вода в канавах стала похожа на серый бархат, который гладят против ворса.
Через полчаса поезд остановился на побережье. Здесь не было дождя, и сквозь облака то и дело пробивалось солнце. По длинной деревянной лестнице студент спустился к морю и не спеша побрел вдоль берега. Мокрая ракушка своим блеском привлекло его внимание. Он поднял ее и с ракушкой в руке простоял целый час, вперив взгляд в пространство. За это время ракушка высохла, и, как он ни тер ее рукавом, она больше не заблестела.
Ян Волкерс
ЧЕРНЫЙ СОЧЕЛЬНИК
Перевод В. Молчанова
Никогда еще у голода не было таких звучных имен: Красный Император, Персиковый Цвет, Роза Копланд, Епископ. Я почувствовал знакомый запах еще прежде, чем увидел их в передней, в серых мешках, на которых большими синими буквами были написаны названия сортов. Я стоял на пороге и вдыхал этот удивительный запах, вызвавший в моей памяти картину давних каникул, тех, что были еще до войны. Я словно опять сидел на солнце между корзинами с луковицами тюльпанов, счищал с них твердую, чуть шершавую кожицу и, прежде чем бросить очередную луковицу в корзину, на мгновение задерживал ее в руке и смотрел на блестящую коричневую поверхность, сквозь которую проглядывала сочная мякоть цвета слоновой кости. Я так загорел, работая на воздухе, что один рабочий сказал: «Если ты умрешь, тебя похоронят на негритянском кладбище».
Как только двери за мной захлопнулись, в другом конце коридора из кухни появился отец.
Настороженное выражение его лица сменилось мягкой отсутствующей улыбкой, и, покачивая головой, он сказал:
— А, блудный сын.
Но он не обнял меня по-отечески, словно на него свинцом давили два тысячелетия христианства, не дававшие шевельнуть пальцем. Он стоял, освещенный теплым светом, лившимся из кухни в коридор и доходившим до меня вместе с запахами вареной капусты и резинового шланга газовой горелки.
Потом он взял один из мешков, развязал его и показал мне несколько луковиц.
— Вот до чего дошли люди, — сказал он. — Должны питаться растениями, которые вовсе не предназначены для еды.
Он пожал плечами, снова спрятал луковицы в мешок и понес его на кухню.
— Это на вечер, — сказал он. — Да, жизнь у нас теперь не райская.
Я заметил, как по его лицу скользнула слабая улыбка, едва не разгладившая сетку морщин, и, когда мы входили в комнату, мне захотелось обнять его. Мать сидела за столом, разложив перед собой продуктовые карточки, вырезала из них пронумерованные квадратики и прикрепляла их скрепкой к книжке бакалейщика. Она взглянула на меня, и я увидел, что лицо ее опухло и покраснело, как будто она долго шла под потоками проливного дождя.
— Пришел, — сказала она, задержав на мне взгляд дольше обычного. Потом склонила голову и снова принялась вырезать.
Я подошел к ней и поцеловал в щеку. Она еще ниже склонилась над своими карточками, подавив желание отложить ножницы и вытереть влажное пятно на щеке. Я погладил ее по спине и сказал:
— Вот так, мамочка.
— Одного сына мы потеряли, зато другой вернулся, — сказал отец.
— Хоть на рождество будешь дома, — добавила мать. Вздохнув, отложила продуктовые карточки и спрятала их в конверт. — По ним теперь, кроме гороха, ничего не получишь.
— Такого черного сочельника в моей жизни еще не бывало, — сказал отец. — Без рождественской елки, без свечей. Только и есть что луковицы тюльпанов, свекла да горох. Так и помереть недолго. Я пробовал достать какую-нибудь птицу, но ничего не вышло. — Он взглянул на меня почти с радостью. — Теперь вся семья опять в сборе.
И тут его пронзило воспоминание о смерти моего брата. Он долго с горечью смотрел в сад, нервно барабаня пальцами по столу. Потом со вздохом взглянул на отвернувшуюся мать.
Ощущая неловкость, я побрел на кухню, бросил пальто на стул и вышел подышать воздухом.
Крыльцо было скользким. Кусты в саду казались увешанными кружевами из сундуков моей бабушки. В редеющем тумане белели покрытые инеем ветви яблонь. На газоне отчетливо проступала каждая травинка. От сада веяло удивительной чистотой и первозданностью. Деревья и кусты словно были нарисованы хрупким мелком на школьной доске.
Я подошел к козлам, на которых лежало толстое бревно. Мне показалось, что это та самая ольха, по которой я в детстве взбирался на крышу сарая. Взглянул на сарай. Ольхи не было. И сарай изменился, у него не было ничего общего с тем старым сараем. Я взялся за пилу, торчавшую в середине бревна, и стал пилить сырое дерево дальше. На землю посыпались оранжевые опилки.
Я распиливаю на куски свои воспоминания, думал я. Уничтожаю прошлое. Пусть лучше ничего не останется, оно никому не нужно.
Я оглянулся на дом. Отец смотрел на меня в окошко веранды. Губы его шевелились. Он разговаривал с матерью. Я подумал, что он говорит обо мне, но быть может, и ошибся. Он как будто улыбался мне, однако и это могло быть иллюзией, вызванной слегка запотевшим оконным стеклом. Я помахал отцу рукой. Он несколько раз кивнул в ответ. Потом отошел от окна.
Отпилив от бревна кусок-другой, я взял большой топор, размахнулся и вогнал его глубоко в дерево. Затем поднял топор над головой и со всей силы хватил по колоде. Чурбан развалился, только щепки брызнули. Одна ударила меня по голени. Резкая боль обожгла все тело, и это ощущение напомнило детство, когда мне становилось жарко оттого, что день рождения или какой-нибудь другой праздник кончался для меня без наказаний. Целуя перед сном родителей, я говорил тогда: «Какой чудесный день!» Выйдя из комнаты, я останавливался, и, если слышал, что кто-то из родных называл меня благодарным ребенком, жар переполнял мою грудь, разливаясь по всему телу, и я стремительно взбегал наверх. А у себя в комнате прыгал и дурачился до изнеможения, пока не падал на постель и не засыпал одетым прямо на одеяле.
Вспомнив удивительные детские годы и себя, такого странного мальчишку, я невольно рассмеялся. Опершись на топорище, я поднял глаза. Туман рассеялся. Сквозь заиндевелые ветви яблонь просвечивало голубое небо — точно смотришь в калейдоскоп: повернешь его слегка, и рисунок изменится, ветви переплетутся.
В тот вечер, после ужина, состоявшего из цветочных луковиц и капусты, отец читал вслух притчу о блудном сыне, не сознавая, что лишь подчеркивает ту холодность, с какой встретил меня днем:
— «И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился: и, побежав, пал ему на шею и целовал его».
Не дочитав до конца, он захлопнул Библию. Посмотрел на меня, потом окинул взглядом моих братьев и сестер и по памяти процитировал последние строки:
— «…что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
Я уже не мог привыкнуть к дому — сказывалось слишком долгое отсутствие. Бесцельно слонялся по комнатам, поднимался в свою холодную мансарду, потом брел вниз. В сарае на керосинке испек цветочную луковицу. Осторожно отрезал маленький, прокопченный до черноты кусочек. Жутко противно. Цветочные луковицы можно есть только вареными. Бросил печеную луковицу в сад — как знать, может быть, весной из нее вырастет черный тюльпан. Изредка я колол дрова или же часами стоял в гостиной за серыми потрепанными тюлевыми гардинами и глядел на улицу. Между камнями пробивалась бурая трава. Редкие прохожие тащили джутовые мешки, в которых, судя по очертаниям, лежала свекла. Я с трудом узнавал соседей — так они были истощены. Словно меня не было десять лет и за это время улица и ее обитатели состарились и поблекли. В отчаянии я смотрел вокруг и не уходил, я знал, что должен остаться здесь. У меня не было никакой надежды вырваться отсюда. Передо мной, на противоположной стороне улицы, виднелись закрытые витрины магазинов. Позади — бледные, исхудавшие лица братьев и сестер. Теперь я был самым старшим и чувствовал, что на мне лежит большая ответственность, что я должен что-то предпринять. Но что? Закрыв глаза, я думал. И представлял себе всевозможные преступления, которые мог бы совершить, чтобы достать еды для нашей семьи. Вдруг вспомнился гундосый крик индюка, я слышал его по дороге домой, проходя мимо большого поместья. Я тайком достал из шкафа отцовский призматический бинокль — одну из немногих вещей, которые еще не обменяли на еду, — и пошел наверх.
Поднимаясь по лестнице, я думал о том, что из всей домашней живности только индюки — существа злобные и мрачные, да к тому же они всегда пребывают в каком-то похоронном настроении. Даже перьев у них нет — разгуливают они, обросшие чем-то вроде клочков жженой бумаги, тряся своим отвратительным жабо, напоминающим о несчастье и болезнях, раке и геморрое одновременно.
Я открыл в комнате окно. От холода перехватило дыхание. Поверх крыш я смотрел в сторону того поместья, но перед глазами сплошной серой завесой стояли заросли ивняка, в которых даже с помощью бинокля невозможно было различить отдельных деревьев. Закрыв окно, я увидел, что линзы бинокля запотели. Протер их изнанкой свитера, но разглядеть поместье больше не пробовал. Потом достал из чулана старую подушку, привязал к одному из ее углов длинную веревку, другой конец которой перекинул через балку под потолком. Подтянул подушку вверх и наступил на веревку ногой. Затем вынул из кармана перочинный нож и раскрыл его. Пригнувшись, словно хищный зверь, я угрожающе занес нож. Отпустил веревку, и не успела подушка упасть, как я бросился на нее и всадил нож по самую рукоятку. Это упражнение я повторил несколько раз, после чего из дыр во все стороны полезли перья.
Услышав в саду звук пилы, я подошел к окну. Только теперь, глядя вниз, я заметил, как поседел отец. Казалось, он покрыт инеем, словно кусты вокруг. Ручной пилой он пытался распилить толстенное бревно. Я сбежал вниз, достал из сарая двуручную пилу и пошел к отцу. Одобрительно взглянув на меня, он взялся за ручку. Мы пилили, по очереди таща пилу на себя, и тут мне вдруг стало не по себе, щеки вспыхнули как от стыда. Я не мог отделаться от ощущения, будто мы заняты чем-то неприличным. Я закрыл глаза, не замечая, что бревно почти распилено, и, когда кругляш отвалился, от неожиданности полетел вперед. Острая боль пронзила поясницу. Упершись руками в бока, я несколько раз согнулся и разогнулся. Отец смотрел на мое искаженное болью лицо со смешанным чувством тревоги и раздражения моей неуклюжестью. Потом, оглядев меня с головы до ног, с изумлением спросил:
— Боже мой, чем это ты занимался?
Мой свитер и брюки сплошь были усеяны белыми пушинками.
— Словно с ангелом сражался, — сказал он.
В тот вечер я рано ушел в свою комнату. Сделав из бумажной бечевки петлю и положив ее рядом с раскрытым ножом на стол, я, не раздеваясь, лег и стал ждать комендантского часа. Это был мой единственный шанс, потому что через день наступит рождество. Я хотел добыть птицу живьем и запереть ее в сарае, чтобы наутро отец мог зарезать ее и ощипать. А я сказал бы ему, что получил индюка ночью от приятеля, ведь, узнай отец, как я его достал, он мог бы заставить меня отнести птицу обратно.
Когда в голову мне приходили мысли о противозаконности моего начинания, я представлял себе бледные лица братьев и сестер и тихонько шептал:
— Нужда ломает законы.
Но сможет ли нужда стереть из моей памяти плакат, который раньше висел у нас в школе около лестничной клетки. На нем были нарисованы цапли и написано:
«Будь добр к животным. Береги птиц». Гордо, с высоко поднятой головой я проходил тогда мимо, поскольку это была одна из немногих заповедей, которых я никогда не нарушал. Одноклассники даже дразнили меня «дроздиным божком», потому что я как одержимый отчаянно защищал от разорения гнезда в окрестностях школы. Ради этого я раньше всех отправлялся в школу и последним входил в класс. Как-то в среду днем, проверяя птичьи гнезда, я нашел в лесу умирающего кота. Я опустился около него на колени и, хотя из-за мучительной боли он пытался укусить меня, подложил ему под голову руку. Из пасти у него текла слизь. Обливаясь слезами, я сидел возле кота, пока он не умер. Потом прикрыл его листьями, вытер руку о мох и решил на следующий день похоронить. Выходя из леса, я увидел на мостике мальчишку из нашего класса, который внимательно смотрел на воду. Взглянув через его плечо, я увидел, что на поверхности воды покачиваются еще не оперившиеся дроздята из гнезда, которое было рядом с мостиком в зарослях остролиста. Не раздумывая, я прыгнул в канаву и вытащил птенцов. Но в руках у меня оказались безжизненные тельца. Я положил их на край мостика и взглянул на парня. Мой прыжок в воду вызвал у него восторг и замешательство и в тоже время усмешку, потому что я был по колено в грязи. И тогда я схватил его за шею и изо всех сил ударил кулаком по голове, мне даже показалось, будто что-то хрустнуло. Потом судорожно впился в его лицо ногтями — на лбу и щеках у него появились белые царапины, наполнившиеся кровью. Когда я отскочил от него, меня внезапно охватило ледяное спокойствие: я приготовился к драке. Этот парень уже несколько раз оставался на второй год и был на голову выше меня. Но, когда я приблизился к нему, он повернулся и бросился наутек. На следующий день он не пришел в школу, не пришел он и через день и вообще исчез. Через несколько недель учитель с печальным видом сообщил нам, что он умер от менингита. Я понял, что это моя вина, что я убил его. Я все время смотрел на его пустую парту и наконец, не выдержав, рассказал все учителю: и об утопленных птенцах, и о том, как ударил его по голове. Учитель рассмеялся, ободряюще похлопал меня по плечу и сказал, что удар по голове не может вызвать менингита, потому что это инфекционная болезнь. Но я никак не мог успокоиться. Я был уверен, что от удара в голове у него что-то треснуло.
Я встал с постели и раз-другой подтянулся на балке. Потом сделал несколько гимнастических упражнений, чтобы как следует подготовить себя к предстоящей операции. Поднялся на чердак, подошел к окну и прислушался. Издалека доносилось дребезжание колес удаляющегося велосипеда, подпрыгивающего на булыжной мостовой, и я удивился, как это велосипедист ухитряется ехать, когда кругом ни зги не видно: за окнами сплошной молочной стеной стоял туман. Я выждал, пока все стихнет. Потом вернулся в свою комнату, переобулся в теннисные тапочки и положил в карман, лезвием вниз, раскрытый перочинный нож. Веревку я оставил. Одна мысль о том, для чего я мог бы ею воспользоваться, вызывала у меня отвращение.
Туман был очень густой, и, чтобы не сойти с тротуара и не налететь на фонарный столб, я передвигался ощупью, держась за садовую ограду. Вдали послышались шаги приближающегося немецкого патруля. Кованые сапоги глухо стучали, словно солдат находился под стеклянным колпаком. Убедившись, что он прошел по другой стороне улицы, я двинулся дальше. В лесу мне пришлось целиком положиться на собственный слух. Когда под ногами трещали сучья и шуршали увядшие листья, я понимал, что сбился с тропинки. Я шел вперед очень медленно, то и дело натыкаясь на низкие ветви и стараясь ступать совершенно бесшумно. Главное — не нарваться на какого-нибудь часового в засаде. Это было бы ужасно. Ведь мы бы заметили друг друга, лишь столкнувшись нос к носу. И тогда один из нас, наверное, умер бы от страха.
Посреди мостика, ведущего на остров, где находился загон для домашней птицы, стоял забор, опутанный колючей проволокой, достававшей до самой воды. Мои попытки найти в заборе щель оказались тщетными. Тогда я взглянул наверх: нельзя ли перелезть. И тотчас у меня захватило дух и я задрожал от возбуждения. Прямо над головой на заборе виднелись силуэты двух индюков. Не знаю, как долго я простоял, прежде чем прыгнуть. Но едва я совершил этот безумный прыжок, пытаясь оборвать птичью жизнь, воздух огласился тяжелым хлопаньем крыльев. Потом раздался глухой, беспомощный всплеск и печальный крик, переходящий в тихое бульканье, — словно ушла под воду захлестнутая легкой волной бутылка. У меня было такое чувство, будто ледяная вода канавы, в которую погружалось тело птицы, проникает сквозь мою одежду и подступает к горлу. Я перегнулся через перила, и мне показалось, что по воде с тихим шипением расходятся большие круги, как отзвучавшая пластинка, которую забыли снять.
И тут я увидел вторую птицу — видимо, парализованная ужасом, она свалилась на мост. Я бросился на нее, крепко схватил за голову и зажал клюв, чтобы она не закричала. Судя по маленькой головке, это должна быть индейка. Мне было и радостно, и грустно. Радостно от того, что моя рука сжимала не омерзительную серо-голубую голову индюка, покрытую бородавками и наростами. И грустно потому, что индейка не настолько безобразна, чтобы принять такую смерть. Я поднял птицу и крепко прижал ее к себе. Пока я шел к дому, птица согревала мне грудь, и я чувствовал себя виноватым в том, что это тепло скоро покинет ее тело.
Осторожно закрыв дверь сарая, я присел на корточки и отпустил индейку. Она перевернулась в воздухе, ударившись головой об угол верстака, упала на бок и не шевелилась. Я снял со стены керосиновую лампу и зажег ее. Передо мной, подобно сине-зеленому проклятию, лежал павлин. Он был мертв, из клюва капала кровь. Я слишком сильно сдавил ему голову. Хвост у него вылинял. Осталось лишь несколько довольно длинных глазастых перьев. Я вырвал их и отложил: в сторону. Перышки на его голове были сломаны. Я попытался расправить их, но они по-прежнему походили на увядший букетик. Глаза павлина были открыты и казались совсем темными в обрамлении молочно-белых пятнышек. Я содрогнулся при мысли о том, что павлин, умирая, не смог закрыть глаза, потому что мои пальцы держали его веки. Взявшись ногтями за веки птицы, я закрыл ей глаза. Теперь павлин стал действительно похож на мертвого. Я подумал, что его надо бы ощипать, иначе никто не захочет дотронуться до такой птицы. Поставив на землю лампу и расстелив джутовый мешок, я стал ощипывать павлина. Когда половина дела была сделана, я увидел на его коже блох, которые ползли туда, где еще оставались перья. Несколько штук попало мне на руки. Я стряхнул их и засучил рукава.
Для них настал Судный день, думал я. Мои перебирающие перья пальцы для этих тварей точно всадники Апокалипсиса.
Ощипав птицу, я положил ее на верстак, отвернулся, отрубил топором голову, и положил ее рядом с хвостом. Потом отрубил лапы и бросил их в кучу перьев, куда они погрузились как в обильно взбитую мыльную пену. Взяв мешок за углы, я вынес его во двор и закопал там. Потом снова вернулся в сарай, забрал павлинью голову и перья от хвоста и тихонько пробрался в дом. На кухне я прислушался, но вокруг царила мертвая тишина. Войдя в комнату, я засунул перья в стоявшую на камине вазу, полную точно таких же павлиньих перьев. Вскарабкался по лестнице на чердак и зажег спичку. Найдя стеклянный колокольчик, я сдул с него пыль и спрятал под него головку павлина. Пламя догоравшей спички осветило множество блох, ползавших по ней. Их было столько, что от их движения шевелились перышки, а веки были сплошь усеяны насекомыми. Поставив колокольчик на место, я спустился в свою комнату. Я чувствовал смертельную усталость. Рухнул на постель и уснул не раздеваясь, прямо на одеяле.
Рождественский стол выглядел празднично. Зажаренная индейка была покрыта золотисто-коричневой корочкой, и ничто не выдавало ее истинного происхождения. Сестра даже приделала к ланкам бумажные кисточки и украсила блюдо веточками остролиста. Мать приготовила салат из тертой свеклы, добавив в него капельку уксуса и яблоко, которое ей дала подруга. Луковицы тюльпанов походили на печеные каштаны, а по подливке нипочем нельзя было сказать, что птицу зажарили на смеси вазелина и прогорклого говяжьего жира. Сложив руки, отец приготовился к молитве. Я же сидел с открытыми глазами и смотрел на жаркое. Потом перевел взгляд на камин. Среди поблекших от времени перьев вызывающе выделялись свежестью и сине-зеленым бархатным блеском темных глазков те, что поставил в вазу я. Отец на секунду запнулся, и я быстро посмотрел на него. Он проследил за моим взглядом, и в его глазах вспыхнул мрачный огонь. Глядя на меня, он продолжал читать молитву:
— …и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Перевод С. Белокриницкой
Осень разгуливала огненно-рыжей птицей, с безрассудной щедростью умирания сбрасывающей на синий асфальт свои оранжевые перья. Герман попытался поймать несколько влажных золотых листьев, зигзагами скользивших вниз так близко, что он мог их достать. Но от внезапного порыва ветра, вызванного его резким движением, — или потому, что им противны его худые бледные руки, подумал Герман, — они плавно опустились на землю вне пределов его досягаемости. Все утро он просидел на краю парка над польдером, созерцая панораму города. Бессмысленная суета поездов, скучное гудение самолетов, которые выводили на фоне туманного осеннего неба буквы рекламы, надоели ему до ломоты в пояснице.
— Ты вступаешь в жизнь, — напутствовал его отец, когда он утром отправился устраиваться на работу. А он в ответ пробормотал, правда уже закрыв за собою дверь:
— На черта мне ваша жизнь, лучше бы вовремя воспользовались противозачаточными средствами!
В Писании сказано: «Плодитесь и размножайтесь», но надо же и свою голову на плечах иметь, думал он с раздражением.
Нет, он палец о палец не ударит, чтобы вложить и свой камень в общую кладку, как принято выражаться у них дома. Я такую глыбищу приволоку, чтоб их всех раздавила, думал он мстительно. Все мои товарищи учатся дальше, только мне нельзя. Я жертва усердия, с которым они выполняют божью заповедь о размножении. Не продлятся дни мои на той земле, которую дал мне господь бог мой, ибо я проклинаю отца моего и матерь мою.
Скамейка, на которой он сидел, вся позеленела от желчи, изрыгаемой им по адресу друзей и родных, а может, просто от плесени. Он не то задремал, не то и вправду увидел в туманном воздухе длинные полотнища — сначала они парили в небе, потом стали виться вокруг его головы. На них было написано затейливыми буковками, не соответствовавшими значительности содержания: «Если левая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше… если левый твой глаз соблазняет тебя, вырви его…»
Текст остался недописанным, потому что легкий октябрьский ветерок осторожно и ласково, как опытная сиделка, обмотал ленты вокруг его головы; он почувствовал себя мухой в паутине. Его голова превратилась в белый обрубок, лишенный обоняния и слуха.
Он направился к аптеке. Аллеи парка, в которых фантастическими золотыми бабочками кружились листья, тоже напоминали длинные марлевые полотнища. Он остановился у витрины, заглянул внутрь — нет ли там кого из знакомых. Аптека была пуста. Он вошел и купил пять пачек широкого бинта.
— Хочу сделать сачок, бабочек ловить, — сказал он, ухмыляясь.
Выйдя на улицу, он осознал всю неправдоподобность своего объяснения. Кто ж поверит, что он будет сшивать полоски. И потом, какие бабочки осенью? Он потрогал рукой глаза, и ему пришел в голову иной, тайный смысл этих слов. Накинуть сачок на свои глаза; его глаза — вот мотыльки и махаоны, для которых он готовит западню.
Он поспешил домой. Потихоньку открыл дверь, но, взглянув на вешалку, убедился, что предосторожности излишни. Пальто матери там не висело. Очевидно, отправилась по магазинам. Братья и сестры были в школе. Он поднялся к себе в каморку на чердаке. Подошел к зеркалу, долго стоял перед ним, изучая свою угрюмую физиономию.
У меня глубоко сидящие глаза, они не стремятся к свету, подумал он. А складка между бровей оттого, что я замышляю злое дело.
Он взял бинт и начал тщательно обматывать себе голову. У глаз и рта он оставил узкие щелочки, как предательские незаметные расселины на ледяной равнине Арктики. Потом осторожно спустился по лестнице и сел в плетеное кресло на балконе. Солнце пригревало его руки, лежавшие на коленях. Устало рокотали рекламные самолеты. Как будто ничего не произошло, как будто все это дурной сон. Он услышал шаги матери, поднимающейся по лестнице.
Если ее хватит удар, когда она увидит меня в таком состоянии, стоит, пожалуй, вылупиться из кокона, подумал он.
Вошла мать. Схватила его за плечо.
— Герман, что случилось? — испуганно спросила она.
— Утром я ходил устраиваться на фабрику, где требуется лаборант, — ответил он. — Меня куда-то повели, и по дороге я нечаянно опрокинул какую-то тяжелую штуку прямо в бак с кислотой. Кислота ка-ак брызнет! Остался без обоих глаз, все лицо в ожогах.
Она молчала, его мать, только судорожно сжимала ему плечо. Толстая повязка на ушах не давала расслышать, плачет ли она.
— Меня привезли на санитарной машине. Я сказал, что хочу посидеть в плетеном кресле на балконе. Тогда меня внесли сюда. Я еще…
Вдруг он умолк, почувствовав слезы матери, капающие ему на затылок, теплые, как летний грозовой дождь.
Вечером к нему зашел отец.
— Так-так, сынок, то, что с тобой случилось, очень прискорбно, да-да, — сказал он.
— Мама рассказала тебе?
— Да, — ответил отец. — Господь помрачил твои глаза. Что может быть хуже этого? Не понимаю только, почему тебя сразу привезли домой, неужели ничего нельзя было сделать?
— Нет, ничего, — со вздохом сказал Герман.
— Помочь тебе спуститься в столовую? — спросил отец.
— Нет, мне хочется посидеть здесь. Когда станет холодно, уйду. Эти несколько шагов я, наверное, и сам смогу пройти. Правда, врач велел как можно меньше двигаться. Можно я пока поживу в этой комнате? Когда сидишь на балконе, ветки яблонь совсем рядом. Мне здесь так хорошо!
— Если бы ты спустился, нам было бы гораздо проще. Не пришлось бы носить тебе еду и убирать за тобой. А что касается веток, ты же их все равно не видишь.
— Я слышу шелест листьев, а весной буду слышать жужжание насекомых.
— Посмотрим, — сказал отец. — Ты ведь и без того доставляешь нам столько хлопот. Я поговорю с матерью.
Выходя, он оглянулся в дверях и спросил:
— А перевязку сестра придет делать? Или еще и эта забота ляжет на плечи матери? Ты же знаешь, у нее слабые нервы, ей только и не хватает возиться с язвами да болячками.
— Врач пока не велел ничего делать, надо подождать.
— Подождать! Чего ж еще ждать? — спросил отец не без раздражения и, не дожидаясь ответа, вышел из комнаты.
Снизу доносились голоса сестер, скрытых от него листвой деревьев. Он видел лишь небольшой кусочек сада, где торчали голые стебли бальзамина. Острая вонь крольчатинка смешивалась с ароматом золотого ранета, обсыпавшего ветви яблонь. Узкие дорожки разбегались к соседским садам.
Как давно я здесь не был, думал Герман, и какое это было счастливое время, когда я ловил здесь всяких букашек и лягушек. Если бы я правда не видел, я мог бы ощупью отыскать каждый камень, как бы глубоко он ни спрятался в зарослях петушьей лапы и курослепа. Я мог бы назвать каждую живую тварь, обитающую под камнями. Вот это — сороконожка, рыжая, как ирландский сеттер, а этот чешуйчатый шарик — мокрица. Когда разотрешь ее между двумя камешками, получится кучка желтоватого желе. Янтарные саламандры каждую весну напрасно ищут канаву, много лет назад засыпанную землей. На ощупь они напоминают кусочки каучука. Если положить их в воду, они станут серебристыми и блестящими, как брошки. У жирных дождевых червей посередине желтая полоска, будто вывихнуто колено. Поднимешь камень, под которым они сидят, — точно приподняли крышу публичного дома, так копошатся, расползаясь, голые розовые тела. И сам он козявка, которая живет под камнями в темной яме и через узкую щелку злобно следит за происходящим снаружи.
Дверь отворилась, хотя он не слыхал ничьих шагов по лестнице. Должно быть, Лия, старшая сестра: только она умеет двигаться по дому бесшумно. Она останавливается на пороге распахнутой двери на балкон.
— Я считаю, что тебе здорово не повезло, — говорит она весело, — хотя ты, в сущности, не заслуживаешь жалости, потому что всю жизнь только и делал, что по мере сил старался мучить других.
Запахло едой, которую она ему принесла. Не поворачивая головы, он протянул руку:
— Давай сюда жратву и избавь меня от твоих комментариев.
Она сунула ему в руку тарелку. Герман поднес ее к носу, потом поставил себе на колени.
— Когда ты заболеешь раком, я вставлю тебе в рот воронку и вылью туда целую бутыль соляной кислоты.
— Ну вот видишь, я так и думала. Мама выражала надежду, что ты теперь станешь хоть немножко покладистее и тогда за твое несчастье еще можно будет благодарить судьбу. А я подумала: покладистее, как же, держи карман, он станет еще невыносимее, чем был. Знаешь, кто ты? — воскликнула Лия в ярости. — Снежная баба! Снежный человек! — Она пронзительно захихикала. — L’abominable homme de neie
[9], так мы будем тебя теперь называть.
— Убирайся к черту, а то я сброшу тебя с балкона, — закричал Герман вне себя, но, не получив ответа, понял, что она ушла.
Он посмотрел на тарелку, стоявшую у него на коленях. Мясо было разрезано на мелкие кусочки и перемешано с гарниром. Он брезгливо поковырял еду, набрал полную ложку и попробовал сунуть ее в рот, не испачкав повязку.
— Справишься? — крикнула мать снизу, из сада. — Или давай я тебя покормлю. Но сначала мы сами поедим, а то все остынет.
Ах, сколько сострадания! — подумал Герман.
— Без вас обойдусь, — ответил он. — Может, немного испачкаюсь, так завтра дадите мне салфетку.
— Что? — спросила мать.
Но вопрос относился не к нему, потому что потом она закричала:
— Лия говорит, она постелила салфетку тебе на колени.
— Пусть не врет! — сердито крикнул Герман.
— Он же не видит, — услыхал он через открытую дверь голос сестры. — Да он все равно обгадится, как свинья.
Мать зашикала на нее, потом снова крикнула ему:
— Завтра я дам тебе салфетку, оставишь ее у себя.
Он услышал, как стеклянная дверь балкона захлопнулась с удивительным звенящим звуком, который, бывало, так будоражил его летними вечерами, когда он лежал в постели в своей каморке на чердаке, прислушиваясь к крику павлинов, резкому и в то же время полному любовного томления. Этот крик был проникнут сладостной грустью, такой же, какую всегда вызывала в нем картинка на крышке коробки с чаем: беседка среди зарослей бамбука, а перед ней женщина с тяжелыми жгутами черных волос. Голоса в саду затихали, мелодично звенела стеклянная дверь. Он оставался один в темноте, лежал и думал о таинственных действиях, совершаемых взрослыми в оранжевом полумраке, действиях, звуки которых смутно доносились до него. А через слуховое окошко в наклонной стене луна проливала на пол свой хрустальный свет. Нас обманули, горестно подумал Герман, с отвращением ставя тарелку около кресла. Они никогда не делали ничего достойного внимания, эти взрослые. Они никогда не совершали ничего такого, о чем ребенку стоило бы мечтать летним вечером, когда вместе с лунным сиянием в комнату льется аромат бузины.
Он встал, внес кресло в комнату и закрыл двери. Посмотрел в окно на серебристо-голубое вечернее небо, мерцающее над полосой темно-синих облаков, похожей на чешую скумбрии. Не раздеваясь, повалился на кровать и заснул прежде, чем у него в голове успела оформиться хотя бы одна мысль. В этот вечер к нему никто больше не заходил.
На следующий день пришла Соня. Она начала плакать еще на лестнице. Герман понял это по тому, как неловко она открывала дверь. Бедная девочка, считая меня слепым, она сама от слез стала как слепая, подумал он.
Она нерешительно направилась к балкону, стала на колени рядом с креслом, осторожно прижалась головой к его голове. Стала целовать бинт в разных местах, как будто отыскивая отверстие. Марля приклеивалась к ее губам, так что Герман все время ощущал легкие толчки, как рыбак, у которого клюет.
— Соня, мне больно, когда ты прикасаешься к моей голове, — сказал он мягко. — Да и вообще подобного рода действия между нами потеряли всякий смысл.
Она громко всхлипнула и положила голову ему на колени.
— Постарайся забыть меня, — произнес он слова, заимствованные из какой-то повести в дамском журнале. — Так будет лучше для тебя. Все равно ты не можешь ничего изменить.
— Ничего-ничего? — спросила она с дрожью в голосе. — А если обратиться к какому-нибудь медицинскому светилу? Деньги я где-нибудь раздобуду, пусть мне хоть всю жизнь потом придется выплачивать долг.
— Очень мило с твоей стороны, Соня, но самое знаменитое медицинское светило не в состоянии вставить новые глаза в пустые глазницы.
На нет и суда нет, мысленно закончил он. Хорошо, что не сказал вслух, она вся трясется, как сортировочная машина. Не надо циничных острот, продолжал он думать, Соня — единственный человек, который меня любит. Он положил руку ей на голову и ласково погладил по волосам.
— Посиди рядом, — сказал он, подвигаясь в кресле. — Будь моими глазами: смотри и говори, что ты видишь. Как яблоки? Не пора ли их собирать?
Соня села рядом с ним. Постепенно она перестала дрожать; несколько раз глотнув, она заговорила таким голосом, как будто рот у нее полон песку:
— Яблоки уже красные, я думаю, их скоро пора собирать. Одно висит у самого балкона, красное-красное, сорвать тебе?
Не дожидаясь ответа, она подошла к краю балкона, легла животом на перила и попыталась достать яблоко.
— Осторожно, Соня, — раздался вдруг голос матери, — да и потом, они же зеленые. Если Герман хочет яблоко, пусть попросит у меня.
— Но я же не вижу, зеленые они или нет! — в ярости крикнул Герман.
Соня испуганно возвратилась. Грустно села.
— Коричные уже почти созрели, а золотой ранет совсем желтый, — сказала она. Теперь язык у нее развязался, как будто, пока она тянулась за яблоком, песок высыпался у нее изо рта.
— Дубы вокруг ратуши стоят в бурых листьях. Над ними кружатся вороны.
Ну какая милая, подумал Герман, взглянув на дубы и не обнаружив ни одной вороны. Знает, что это мое любимое зрелище. Хочет, чтобы я увидел все свое самое любимое.
— Удивительное дело, после того как ты сказал, что башенка похожа на луковицу, я, глядя на нее, чувствую запах лука.
— Ничего удивительного, у соседей вечно жарят лук, — со смехом сказал Герман.
Соня тоже рассмеялась. Он крепко прижал ее к себе.
— Хорошо тебе так? — спросил он.
— Да, — сказала она, — мне очень хорошо.
Она положила руки ему на бедро. Впервые он увидел то место на ее правой руке, где несчастный случай положил конец мазуркам Шопена. Несколько лет назад по дороге в консерваторию она упала на остановке. Трамвай отрезал ей два пальца. Впрочем, разве мало произведений для левой руки, думал Герман. При первом знакомстве Соня рассказала ему об этом, но никогда не допускала, чтобы он увидел култышки. Ловкость, с какой она маскировала свой недостаток, была прямо-таки достойна восхищения. Ей удалось утаить его даже от рысьих глаз Лии. Гадюка, как бы она его дразнила: я купила «дамских пальчиков», дать тебе парочку?
Теперь ее рука лежала слабая и безвольная, забыв всякую осторожность. Похоже было, что Соня загнула два пальца вниз, к ладони, а вместо них вставила две игральных кости без очков, будто показывала фокус. Герман положил руку рядом, едва не касаясь култышек. Ее рука свернулась, как лист росянки.
Она встала и пошла в комнату.
— Холодно становится, — сказал Герман, следуя за ней. — Если старики разрешат мне остаться здесь, поможешь мне переселиться, а, Соня? Сумеешь развесить картины? Имей в виду, темные должны висеть на самых освещенных местах. Наконец-то им будет свободно. Когда я еще видел, я мечтал жить в этой комнате. Наверное, тебе покажется очень грустным, что получил я ее, только когда ослеп. Но я и сейчас ясно представляю себе, как мы все устроим, когда перетащим мое барахло.
Герман взглянул на Соню сквозь щель в повязке. Она сидела на краю дивана и смотрела в окно. Изуродованную руку она держала в левой ладони.
«Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше войти в жизнь вечную без руки, нежели с двумя руками быть ввержену в геенну огненную». До чего ж ловко они умеют отравлять людям молодость! Как винт ввинчивают брехню тебе в башку, а где не помогает отвертка, забивают молотком.
— Интересно, — сказал он, — как быстро приспосабливается человеческий организм. Ведь я всего сутки как ослеп, а у меня уже появилась способность ощущать, что происходит вокруг. Я прямо таки вижу тебя передо мной на диване. Ты лежишь на животе и ждешь, чтобы я подошел и приласкал тебя.
Он направился к дивану, ощупывая перед собой воздух, как слепые на картине Брейгеля. Соня быстро вытянулась на диване и перевернулась на живот. Герман опустился на колени рядом с диваном.
— Ну вот видишь, — сказал он. — Локатор работает отлично.
— Да, — сказала Соня, — меня так тянет к тебе, ты инстинктивно почувствовал это.
Впервые она не закрыла глаза. Я, верно, отвратителен, думал он, но ее именно это и возбуждает, иначе она закрыла бы глаза. Как будто она отдается снежному человеку. Ужасному снежному человеку.
Поздно вечером, когда он уже лежал в постели, зашел отец. Огненный кончик сигареты — как светлячок с красной искоркой. При каждой затяжке из темноты выступало его лицо, призрачно розовое, будто освещенное изнутри огнем, который он в себя втягивал.
— Мы долго говорили с матерью, — сказал он, — и решили, что все же не имеем возможности отдать тебе эту комнату. Твое несчастье потребует от нас больших расходов. Нам придется снова сдавать эту комнату. Чем плоха комнатка на чердаке, тем более в твоем положении. Темновата, конечно, окна там небольшие. Но тебе это теперь безразлично. В хорошую погоду будешь сидеть в саду.
Герман не ответил. Слезы пробивались через его закрытые веки, но их тут же впитывал бинт. Какой смысл плакать, подумал он, если слезы все равно не могут катиться по щекам.
— Мы надеемся, что ты пойдешь нам навстречу, — сказал отец. — У нас и так хватает забот и хлопот.
Отец вышел, не пожелав ему спокойной ночи. Здесь поселятся чужие люди, с горечью подумал Герман. Он стал вспоминать китайцев из Индонезии, снимавших когда-то эту комнату. Ему тогда было десять. У них тоже был сынишка десяти лет и дочь постарше. Ван и Син. Он помнил только, как Ван просунул голову между прутьями лестничных перил и не мог вытащить ее. Лицо у него побагровело, и он дико кричал. Отец с пилой в руках быстро побежал наверх. Герман не решился присутствовать при этом, ибо не видел иного выхода, кроме как отпилить мальчику голову. Не может же красная орущая голова вечно торчать между прутьями! Потом он увидел в перилах отверстие — один прут был вынут; в эту дыру можно было спуститься на перила нижнего этажа. До китайцев в комнате жила симпатичная седая дама. Все семейство ужасно потешалось над ней. Спрашивали друг у друга тонюсеньким сопрано: а где наш сочный помидорчик, где наша крепкая луковичка, где наш спелый персичек? (Это был ее ежедневный заказ в овощной лавке.) Каждое воскресенье к ней приходила подруга. Они сидели на балконе на высоких стульях, точно аршин проглотили. Их голоса слышны были даже в саду. Иногда они выходили в сад и фотографировали все семейство. Подруга долго двигала черный ящик, крепко прижимая его к животу, как бы желая через линзу вобрать их всех в свое увядшее лоно.
— Посмотрите, сейчас птичка вылетит, — говорила она.
Герман всегда получался на карточках с расстегнутой ширинкой. Он был любимцем обеих дам и потому изображал на своем хмуром лице непривычную улыбку, которая его отнюдь не украшала. Рядом старший брат, с поднятыми коленками, такой мрачный, как будто знал, что не доживет до двадцати лет. За ними старшая сестра с физиономией плаксы и дразнилы. Она всегда старалась шевельнуться в самый ответственный момент, специально чтобы испортить снимок. А справа, слева, сзади — младшие братишки и сестренки, словно вокруг выстроенной клином основной боевой группы кто-то щедро опорожнил рог изобилия. Потом он увидел перед собой прислугу-венгерку. Угрюмым, пугливым зверьком притаилась она где-то на заднем плане. В дверях застекленной веранды с фальшивой улыбкой стояла мать — она следила, чтобы Колла сохраняла должное расстояние между собой и детьми и не могла быть принята за члена семьи. Колла, так ее все называли. Настоящего ее имени никто не помнил. Ей было, наверное, лет семнадцать. Герман и его брат любили играть с ней. Самая любимая игра называлась «Моя сестренка умерла». Мальчики ходили вокруг нее и пели. При словах «Предадим прах ее земле» они ныряли к ней под юбку, а она изо всех сил прижимала их к себе. Они вылезали оттуда красные как раки. Герман усматривал какую-то связь между их красными лицами и ее внезапным исчезновением, хотя родители никогда об этом не упоминали.
За несколько лет до войны комнату снял офицер. Он понавешал над камином всякого оружия — сабель и шпаг. В солнечные дни он лежал в шезлонге на балконе в одних узеньких плавках. Кожа у него была почти такого же цвета, как кирпичная стена.
Однажды в воскресенье отец сказал ему из сада, что они, слава богу, не язычники. После этого Герман больше никогда не видел офицера в плавках, он закрывал решетку всеми своими одеялами. По вечерам он часто садился за рояль, но его игра очень мало походила на музыку: скорее можно было подумать, что он экспериментирует над механизмом инструмента. «Он хочет заставить пианино кричать человеческим голосом», — говорил отец. В тридцать девятом, слушая по радио результаты выборов, он отчаянно ругался, когда передавали о потерях Национал-социалистского движения
[10]. Перед самой войной он уехал в Индонезию. С тех пор много воды утекло, думал Герман. Стоит ли вспоминать обо всем этом сейчас, в последний вечер, который я здесь провожу. Закроем с достоинством глаза свои и отрешимся от всего окружающего.
Ему приснилось, что он плывет на плоту по бурному морю. Плот сделан из чего-то мягкого и вязкого. Он пощупал его рукой — это
оказались новорожденные младенцы, связанные друг с другом пуповиной и, по-видимому, мертвые, хотя масса, в которой увязли его пальцы, была тепловатая. Потом он услыхал крики, поднял голову и увидел свою мать, стоявшую, расставив ноги, на высокой, как дом, волне. Из нее, устремляясь к плоту, извергался поток детей. Как ни клокотало и ни бурлило море, волна, на которой находилась мать, оставалась неподвижна. Над головой матери висела лента с надписью «Спокойствие средь ярости валов». Сквозь свист ветра и грохот волн мать пронзительно кричала: «Встань и оглянись, посмотри на гребни волн!»
Герман в ужасе открыл глаза, однако поспешил закрыть их снова, ибо через отверстия в повязке ударил яркий свет. Шум продолжался. «Спокойствие средь ярости валов»… Он вспомнил живую картину, которую устраивали у них в школе в честь сорокалетия царствования августейшей особы. Он стоял на вершине скал, которые были сделаны из ящиков и скамеек, задрапированных старыми тряпками. Ярость валов изображалась при помощи простынь, разложенных у подножия импровизированных скал. По идее они должны были напоминать покрытые пеной водяные горы, но безнадежно оставались свернутыми простынями. Ему пришлось очень долго неподвижно стоять в меняющемся желтом, красном и зеленом свете. Когда раздался взрыв аплодисментов, у него и вправду появилось ощущение, что его окружает бушующее море. Он зашатался и упал, выдав таким образом секрет величественных утесов. Барахтаясь, лежал он среди пустых ящиков из-под мыла и отслуживших свое парт. Не успели опустить занавес, как к нему подскочил разъяренный директор школы и грубо вытащил его из развалин. В зале раздавались сдавленные смешки. Он слышал, как какой-то мальчишка заорал: «Ай да принц Оранский!»
До него не сразу дошло, что шум, не исчезнувший даже когда он проснулся, происходит оттого, что в коридоре кто-то работает пылесосом. В дверь постучали, и голос матери произнес:
— Герман, пора вставать!
— Да-да, встаю, — закричал он и сел на кровати.
Мать открыла дверь и появилась перед ним. Втащила в комнату шланг пылесоса, собираясь заняться уборкой. Страх, испытанный во сне, снова овладел Германом. У него закружилась голова, и он упал на подушку. Мать опустила шланг, подошла к кровати и наклонилась над ним.
— Тебе плохо? — спросила она довольно озабоченно.
Герман снова сел.
— Нет, — сказал он, — просто у меня вдруг закололо щеку. Наверное, повязка приклеилась, а я ее отодрал.
— Помнишь, — спросил он потом, — как я однажды упал на школьном вечере во время представления?
— Представления? Какого представления?
— Во время сорокалетия правления королевы, живая картина, Вильгельм Оранский, «Спокойствие средь ярости валов».
— Спокойствие средь ярости валов, Вильгельм Оранский, — повторила она задумчиво.
Вдруг в памяти у нее вырисовалась пена, омывающая скалы. Ее лицо осветилось радостью узнавания.
— Еще бы не помнить, — сказала она таким тоном, будто все эти годы ее не покидал образ худенького мальчугана, который стоит на ящиках, заваленных линялыми зелеными бархатными тряпками. Она встала, подошла к пылесосу, выключила его и подбоченилась.
— Еще бы не помнить! Ты выглядел великолепно. Кружевной воротник на шее, на голове круглая шапочка. Вылитый Вильгельм Оранский. Свет все время менялся, красный, желтый, потом оранжевый и синий.
— Оранжевого и синего не было, — сказал Герман холодно, как будто поймал ее на преднамеренной лжи. — Был желтый, красный и зеленый, и именно в такой последовательности.
— Ну ладно, красный, желтый и зеленый, — согласилась мать. — Но ты выглядел так величественно, мы с отцом гордились тобой.
— И между прочим, совершенно зря, — сказал Герман ехидно, — потому что ведь я сверзился с этих скал.
— Ну, — сказала мать примирительно, — тогда уже занавес почти опустился. Скорее было похоже, что ты несколько раньше времени соскочил со своего места.
— Ничего подобного, — сказал Герман, — занавес был поднят. Его поспешили опустить, чтоб ящики не посыпались в зал. Между прочим, я сделал это нарочно, вам назло.
— Я так и говорила отцу, — сказала она, возмущенная и в то же время довольная, что в конце концов оказалась права. — Ничего удивительного, что ты такой неудачник. Всегда, когда тебе давали возможность себя проявить, ты сам портил все дело.
— Возможность себя проявить, — улыбнулся Герман, — не смеши меня. Принц Оранский… Подумаешь, счастье — исполнять роль принца Оранского, который, когда его жена состарилась, обрюхатил ее, чтобы она умерла от родов.
— Я запрещаю тебе говорить так о человеке, которого мы уважаем и чей портрет висит у нас в доме.
— Будьте осмотрительнее, выбирая, что вешать на стены в доме, где столько детей. Этот портрет нельзя показывать детям до восемнадцати лет.
Мать молчала, прерывисто дыша. Слишком тяжелая нагрузка при ее гипертонии, подумал Герман. Пора переменить пластинку.
— Неужели так необходимо выгонять меня из этой комнаты? — спросил он кротко.
— Да, — отрезала мать, — и не только из этой комнаты, а лучше бы ты вообще как можно скорее покинул наш дом. Постарайся попасть в интернат для слепых и научиться читать и писать по Брайлю. Вчера юфрау ван Велф сказала, что, если ты научишься, ты сможешь переписывать книги для слепых — разговор у нас шел о том, что ты очень интересуешься литературой. Она сказала, что таким образом ты еще можешь стать благословением для своих товарищей по несчастью.
— Пошла она к черту, — сказал Герман в ярости, — пошла она к черту со своими благословениями, я хочу быть для всех проклятием.
— Не беспокойся, — сказала мать, — ты никогда и не был ничем другим.
— Нечего обсуждать это с соседями. Вам они говорят: не отчаивайтесь, перед ним еще открыт весь мир, он еще может и то, и другое, и третье. А про себя думают: слава богу, что он ослеп, потому что он приставал к Жозе и к Марьян. Он слишком хорошо разбирался в жизни и в наших дочерях, слава богу, что этому пришел конец. Ты знаешь, на что я еще гожусь? Чтобы играть с детьми на улице в прятки, салки, жмурки, Я наверняка не буду подглядывать.
Он говорил горячо, повязка вокруг рта стала влажной. Но в то же время он наблюдал за матерью через щелочки. Она стояла посреди комнаты и левой рукой комкала фартук, а правой ковыряла в носу.
— Знаешь, для кого это благословение? Для вас. Теперь вы можете прямо в глаза показывать мне язык или прямо у меня перед… э-э… глазами чесать голову и ковырять в носу.
Здорово сыграно, подумал он, даже запнулся.
Мать виновато опустила руку. Смущенно и вместе с тем подозрительно посмотрела на щелочки. Через минуту опять спокойненько возьмется за свое, с горечью подумал Герман.
— Иногда мне приходит в голову, что ты вовсе не мое дитя, а дьявол, — сказала мать.
Она подошла к стулу, на котором лежали его вещи, схватила их и швырнула одежду ему на колени.
— Забирай, иди в ванную, а потом наверх. Глаза б мои на тебя не глядели!
Герман зажал одежду под мышкой и вышел из комнаты, не имитируя повадок слепого. Мне нужна холодная вода, думал он. Ледяная. Пусть течет мне на череп до тех пор, пока я не потеряю способность думать и чувствовать.
Весь следующий день он валялся в постели у себя в каморке на чердаке. Смотрел на сучки в рыжих деревянных стенах — кое-где доски были усеяны ими так густо, что напоминали павлиний хвост.
А может, мне это потому кажется, что я всегда смотрел на них, когда наступали сумерки и начинали кричать павлины, думал он. Это глаза самого господа бога — два больших темных сучка, которые снисходительно взирают на землю. А рядом с ними глаза сатаны. Внутри светлые кружочки, как будто дерево побелело от злости. А там — сказочная принцесса; когда темнело, она всегда начинала дрожать. Как получилось, что я стал таким, думал он, и вообще, что это со мной? Попробую разобраться во всем с самого начала. Когда я учился в начальной школе, мимо окна, наверное, раз двадцать в день проходили сумасшедшие. Толстыми веревками они были привязаны к тачкам с землей, и одежда на них была цвета земли. Все, как один, брели, опустив голову, как будто в любую минуту были готовы или заплакать, или взбунтоваться. Что иногда и впрямь происходило. Кто-нибудь останавливался, начинал конвульсивно дергаться, и ужаснейшие проклятия и ругательства, проникая сквозь двойные рамы, переплетались с библейскими изречениями. Юфрау, чернявая девица карликового роста, поспешно хватала скрипку, зажимала ее под подбородком, покрытым волосатыми бородавками, и начинала играть что-нибудь веселенькое. Она была хромая, юфрау. Под одним ботинком у нее была большая черная штука, как будто к нему приклеился огромный кусок смолы. Как полураздавленный жук, пробиралась она между партами. Мы дали ей прозвище Сильва. Однажды прямо под окном сумасшедший пробил лопатой череп санитару. Учительница подбежала к окну и плотно задернула зеленые шторы. Класс стал похож на аквариум. Трудно сказать, что было ужаснее — непристойная брань или заглушавший ее пронзительный вальс. После уроков мы пошли смотреть место, где упал санитар. Кровь была засыпана белым песком. Будто там лежало ржавое железо.
Ну а дальше, что же было дальше? Герман перешел в четвертый класс. Там уже нельзя было все время мечтать. Мечтать, думал он, мечтать с закрытыми глазами, неужели тогда я делал это так заметно, да и о чем я мог мечтать? Какие образы видел я, глядя в таблицу умножения?
Но сон помешал ему извлечь из глубин памяти ответ на этот вопрос. Сначала до него еще смутно доносились из сада голоса соседских ребятишек и одуряющий аромат листьев, которые гнили в цинковом кровельном желобе. Потом он заснул крепким сном.
Проснулся он только к вечеру. Соня сидела на кровати и тихонько трясла его.
— Да проснись же наконец, — сказала она ласково. — Я сижу здесь уже целых десять минут.
Герман испуганно вскочил. А вдруг она разглядела через щелочки его неповрежденные веки?
— Ты спал, положив руку на глаза, как будто тебе мешает свет, — сказала она.
— У меня голова раскалывается, я видел страшный сон, но все забыл, помню только, что в голове у меня был камень.
— Спать днем вредно, — сказала она. — У меня тоже от этого всегда голова болит и целый день першит в горле, сколько ни пей потом чаю. Как будто вся иссыхаешь. Может, это от шума, который мешает спать. Один раз я заснула на пляже. Просыпаюсь — рядом мальчишки играют в мяч и орут как ненормальные. Я уверена, их крики отравили мне сон. А может, звуки влияют на то, что нам снится.
Ну вот, пошла тараторить, настоящая старая дева, подумал Герман.
Он подобрался к ней поближе и повалил ее на кровать.
— Может, мне сначала пальто снять? Я еще и сумку не положила.
— А вдруг тогда мне уже перехочется?
— Если тебе так быстро перехочется, — сказала она обиженно, — стоит ли начинать?
Потом она вспомнила о его плачевном положении и поспешно сказала:
— Ладно, делай, как тебе нравится.
Через горный ландшафт одеял и подушек ее рука медленно потянулась к сумке, открыла ее и вынула фотокарточку. Герман узнал оборотную сторону — в свое время он сделал на ней какую-то надпись.
Как интересно, подумал он, именно сейчас она берет фото, где я зажмурился от солнца. Она держала карточку у самого лица и не сводила с нее глаз даже тогда, когда ее зрачки расширились от возбуждения.
«Мы гнули на тебя спину с раннего утра до позднего вечера», — часто повторял отец. «У тебя никогда ни в чем не было недостатка», — добавляла мать.
Они сидели у его постели.
— Мы не потому не пускаем сюда малышей, что хотим скрыть тебя от глаз людских, — говорил отец. — Просто ждем, пока ты снимешь повязку. Сейчас твой вид может испугать ребенка на всю жизнь. Мы ради тебя из сил выбиваемся, а ты еще недоволен.
— Как будто без повязки я буду красавчиком, — зло сказал Герман. — У меня небось рожа, как у прокаженного.
— А может, не так все страшно, ведь ты и сам себя не видел, — сказал отец скорее раздраженно, чем успокаивающе.
Он подтолкнул мать и дотронулся до голени, а потом поднес руку ко рту. Мать кашлянула и кивнула ему.
— Вчера ты безобразно лягнул Лию по ноге, — укоризненно сказала она. — Она больше не хочет носить тебе еду. Она ради тебя надрывается, а ты так с ней обходишься.
— Черта с два, надрывается, — насмешливо сказал Герман. — Вчера она принесла мне брайлевскую книжку. Только я начал ощупывать пальцами буквы, как она положила сверху лист бумаги. Разве за это не стоит дать ей как следует? Я хотел еще не так врезать!
Со всеми я ухитрился перегрызться, подумал он.
— Гони от себя эти дикие мысли, — сказал отец. — Неужели ты в самом деле считаешь Лию способной на такой поступок? Общеизвестно, что в людях, потерявших зрение, развивается болезненная подозрительность. Возьми себя в руки, не то она овладеет и тобой. Тогда ты превратишься в проклятие для себя и окружающих.
Как мог я испытывать какие-то чувства к этим людям? — думал Герман. Как мог я ребенком плакать в кровати ночи напролет при мысли, что они когда-нибудь умрут? Когда у меня издох голубь, мне не разрешили зарыть его в саду и поставить над ним какой-нибудь знак. Велели выбросить его на помойку. «Бессловесная тварь не может попасть на небо, — сказал отец. — Жизнь вечная предназначена только для человека, который исполняет волю божию, только ему положено, лежа в могиле, дожидаться Страшного суда». А птицу он бросил в кучу гнилой ботвы.
— Вы никогда не сделали ничего примечательного, ничего такого, что заставило бы меня поверить в ваше право на бессмертие. Вы утверждаете, что веруете в бога, но ни из одного вашего поступка не видно, что он основан на вере. Посмотрите на эту кнопку! — Он показал на выключатель. — Она над моей кроватью. Но в детстве я боялся ее выключить из страха перед тем, что вы называли нечистой силой. Я заворачивался в одеяло, вставал, выключал свет и падал. А потом лежал, задыхаясь от страха, и ждал, что когти сатаны достанут меня сквозь одеяло. Вот что такое ваша вера! Ее хватает лишь на то, чтобы вызывать у детей ночные кошмары. Чего стоит один ваш Апокалипсис! «Луна сделалась как кровь, из дыма вышла на землю саранча, и зубы у нее были как у львов!» Бывало, мне ни за что браться не хотелось, потому что я думал: а вдруг завтра конец света, так какой в этом смысл.
Мать не смотрела на него и старалась не слушать. Отец качал головой и нервно барабанил пальцами по колену.
— Ты так наказан богом! — сказал он. — Господь помрачил твои глаза, и все же я, твой отец, спрашиваю себя, почему он не отнял у тебя также и язык.
Он встал со словами:
— Пошли, жена, здесь нам делать нечего.
Они покинули комнату, о чем-то шепчась. Он слышал, как на лестнице отец горячо заговорил, но не мог разобрать слов.
Он сделает все от него зависящее, чтобы меня взяли в интернат, подумал Герман. Этим они угрожают ему всю жизнь, с тех пор как он говорить научился. Небось не поверили бы, если бы он и вправду онемел. Они сами не верят, что их бог способен творить чудеса. Вообще-то ему надо было сказать: «Папа и мама, я чувствую, что благословение всевышнего осенило меня. Помолимся, дабы он отверз мне очи, как сделал он со святым Павлом».
После долгой молитвы он снимет повязку. Свершится чудо. И вот их дом станет местом паломничества. Денежки потекут рекой. Можно будет продавать его фотокарточки до и после. Как в рекламе средства для ращения волос. Продавать кусочки бинта как реликвии.
А сколько мучений претерпел он в юности, чтобы заслужить царствие небесное! Взять хоть эти вечера, когда к ним приходили гости и ему разрешали посидеть подольше. Как же их фамилия? Кажется, ван дер Воуде. Весь вечер обсуждались пророчества Апокалипсиса. Саранча с зубами как у львов — подразумевались военные самолеты, которыми тогда кишел воздух. Не Гитлер ли зверь, выходящий из бездны, антихрист? «И число его — 666». 4711 — вспоминал он всегда в таких случаях марку известной кёльнской парфюмерной фирмы. Они приводили с собой семнадцатилетнюю дочь и сына постарше. Девушка была истерически религиозна. Масштабы ее веры были соразмерны масштабам ее груди. Весь вечер он украдкой поглядывал на нее, и, когда бдение завершалось псалмом: «По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной» — такой конец казался ему очень подходящим. Атмосфера этих вечеров была накаленная, думал Герман, разумеется, благодаря духовной близости. Мы все были пьяны, хоть и не от вина.
Он услышал Сонины шаги на лестнице. Она вошла в комнату в новом ярко-красном пальто. Somethin thrillinly new
[11], подумал он.
«Как ты поздно», — хотел он сказать, но с ужасом почувствовал, что язык у него распух, он издал только странный квакающий звук.
— Герман, перестань, все и так хуже некуда, — укоризненно сказала Соня.
Он хотел сказать, что каждый вечер они приносят ему еду холодной, что Лия закрыла брайлевский шрифт листом бумаги, но получались только нечленораздельные звуки. Язык окоченел, как будто полежал в ледяной воде.
Герман встал, подошел к столу, взял блокнот и карандаш. Снова сел, жестом пригласил Соню сесть рядом. Соня села. Он открыл блокнот, ощупал его края и написал большими печатными буквами:
«Я правда не могу говорить. Я только что сильно дернул себя за язык, наверное, там что-то оборвалось. Погляди».
Он широко открыл рот. Соня отодвинула бинт.
— Ничего не вижу, — сказала она.
Герман написал:
«Не распух? Посмотри как следует под языком — когда я пытаюсь говорить, там тянет».
Он снова открыл рот и загнул язык вверх.
— Все нормально, язык как язык, — сказала она, внимательно глядя ему в рот.
Герман снова склонился над блокнотом.
«Отец пожелал, чтобы бог отнял у меня язык. Может быть, от этого?»
— Ну что ты, — сказала Соня, — надо же придумать такую чушь! Наверное, ты в самом деле слишком сильно его потянул. Не пытайся говорить. Если у тебя что-нибудь надорвано, покой — лучшее средство. А пишешь ты очень хорошо.
Герман кивнул и написал: «Ложись».
— Может, сначала немножко поговорим? — спросила она.
Герман рассмеялся свирепым гортанным смехом, высунул язык и показал на него.
— Sorry
[12],— сказала Соня, — тогда давай я тебе почитаю вслух.
Герман затряс головой и подчеркнул свою просьбу двумя жирными чертами. Она со вздохом встала, сняла пальто. Сумку она положила в пределах досягаемости.
Жить становится все проще. Не надо ни за что благодарить, по той смертельно простой причине, что он лишен этой возможности. Вот бы еще и оглохнуть, тогда не приходилось бы ничего выслушивать. Впрочем, это было бы жалко, подумал он, прислушиваясь к звукам, слетавшим с трепещущих губ Сони. Она поднесла фотокарточку так близко к лицу, что он не видел ее глаз.
Когда игра была закончена, она встала.
— Мне нужно на минуточку выйти, — сказала она.
Она надела пальто. Герман схватил блокнот и написал: «Ты меня покидаешь?»
— Почему ты так думаешь? — спросила она.
«Я слышу, что ты надеваешь пальто», — написал он.
— Неужели это слышно? — удивилась она.
«Я все слышу. Даже как в саду воробей скачет по гравию».
Она подошла к нему и наклонилась над блокнотом.
— Ну и характер у тебя! Нет, просто твой отец недоволен, что мы подолгу остаемся наедине. Если меня увидят в пальто, это будет выглядеть приличнее.
«А ты, оказывается, хитрая», — написал Герман и протянул ей блокнот. Но она вышла, не взглянув. Он положил блокнот и схватил ее сумку. Вынул фотокарточку и прочел на оборотной стороне: «Меня ослепили солнце и блеск твоих глаз. 16 июня, Базарная площадь».
Он перевернул карточку. Поверх его изображения был наклеен снимок, вырезанный из журнала. Загорелый юноша в плавках, с великолепно развитой мускулатурой держал руки на расстоянии от грудной клетки, как будто под мышками у него были зажаты два гусиных яйца. Подпись гласила: «Раймон Сернье, прозванный Аполлоном Лазурного берега».
Герман встал, запер дверь. Потом стянул одеяло и залез в постель. Перевернулся на живот и изо всех сил уткнулся головой в подушку.
Сравнительно теплым октябрьским вечером из сада донеслась танцевальная музыка. Герман подтащил сундук, поставил на него стул и высунулся из окошка.
На ветках яблонь, теперь уже почти голых, висели цветные бумажные фонарики. Он услышал голоса своих домашних вперемешку с чужими голосами.
Чего это они сидят в саду такой поздней осенью? — с удивлением подумал он. Он высунулся подальше, но козырек над крыльцом загораживал вид. Под деревьями ходили люди, однако при тусклом свете бумажных фонариков он их не узнавал. Появилась сестра в белом платье колоколом. Среди других голосов он различил ее пронзительный неестественный голос.
А, помолвка, подумал он. Меня не позвали. Что ж, они правы. Зрелище не из приятных, того и гляди аппетит испортит.
Он осторожно слез со стула и направился вниз по лестнице. Открывая дверь, он услышал, что в уборной спускают воду. Он вернулся и стал ждать на темной площадке. Дверь отворилась, и в прямоугольнике света появилась Марьян, сестра жениха, окруженная облаком голубоватого тюля. Мгновение — и она повернула выключатель.
Уж не заметила ли она меня, подумал Герман, не заметила ли ужасного снежного человека на площадке, почему она не спускается?
Неожиданно для себя самого он сделал прыжок и схватил ее. Она пронзительно завопила. Он зажал ей рукой рот, другую засунул в вырез ее платья и ущипнул девушку. Неистово вертя головой, она ухитрилась высвободить рот из-под его руки и закричала на весь дом. Внизу захлопали двери, послышались взволнованные голоса. Он бросился наверх, к себе в комнату. Запер за собой дверь. Он слышал на лестнице возбужденный говор, смешанный с всхлипываниями Марьян.
— Хам, — услышал он голос отца. — Завтра я его в полицию отправлю.
Дурак я, что не запер и наружную дверь, тогда этот ураган злобы миновал бы меня, подумал Герман.
Он снова взобрался на стул, поставленный на сундук, и выглянул в окошко. Фонарики висели в покинутом саду, как диковинные круглые рыбы в глуби морской. Музыка умолкла. В дверь забарабанили. Ведьма, подумал он. Она кричала и плакала от ярости.
— Ты испортил мне помолвку, подлец! Это из-за тебя они ушли! Попадись мне только, я тебя так отделаю, что своих не узнаешь! Открой, если посмеешь, грязный насильник!
По лестнице поднялся отец.
— Ладно, дочка, — сказал он ласково, — иди вниз.
Потом властно постучал в дверь.
Не дождавшись ответа, он сказал Лии:
— Завтра он у меня получит. Пошли.
Герман смотрел на звезды. Казалось, они были еще дальше и выше, чем всегда. Поднялся ветер. Сухие листья яблонь зашелестели, фонарики качались, как гуси на прогулке. Отец вышел в сад и стал задувать их один за другим. Деревья постепенно погружались во мрак. Он принес из сарайчика стремянку, потому что последний фонарик висел чересчур высоко. Поставил ее под деревом, взобрался на нее и схватил фонарик обеими руками. Наклонив его, стал дуть в отверстие. Его взгляд скользнул вверх, к окошку Германа. Он видит белый обрубок, подумал Герман. Он видит призрак, не находящий успокоения в могиле.
Фонарик, слишком долго бывший в наклонном положении, воспламенился. Лицо отца вдруг озарилось фантастическим светом. Казалось, это череп мертвеца с пустыми глазницами и провалившимися щеками. Отец не выпускал фонарик до тех пор, пока огонь не начал лизать ему пальцы. Но и тогда взгляд его был по-прежнему прикован к окну.
Гарри Мюлиш
Перевод С. Белокриницкой
Сустдейк
Ее Величеству королеве
Ваше Величество!
Лишь после долгих колебаний удалось мне побороть свою робость и решиться написать Вам. Будь у меня хоть какой-нибудь другой выход, я прибег бы к нему. Но, поскольку я уже перепробовал все, мне не осталось ничего иного, как только обратиться лично к Вам, хоть я, разумеется, сознаю, сколь ничтожны мои частные заботы по сравнению с Вашими, касающимися блага всего народа.
Мое имя Йоахим Лихтбеелт, возраст 61 год, проживаю я по адресу Амстелвейн, вилла «Радость», А-14, дом № 234. В субботу четвертого мая сего года я выехал из своего дома примерно в 8 часов 45 минут в собственном автомобиле (марка DAF, номерной знак HS-47-26). Меня сопровождала моя законная супруга, мефрау А. Ф. Лихтбеелт-Да-Полента, 59 лет. Мы направлялись в дом для престарелых «Солнечный» в Остербеке, где уже в течение многих лет пребывает моя теща. Приблизительно в 10 часов 10 минут в районе Элспейка моя машина попала в аварию; причиной, по-видимому, послужила лужа нефти, которую я вследствие утреннего тумана не заметил. Сначала машина ударилась о дорожное ограждение, затем перекувырнулась и шлепнулась в грязь под насыпью.
По всей вероятности, несколько секунд или минут я был без сознания. Когда я пришел в себя, грязная вода подступала к самому ветровому стеклу, да и в машине вода доходила мне до колен. В некоторых точках своего тела я ощущал боль, получил также несколько незначительных ссадин. Но тут я увидел, что моя супруга более не находится рядом со мной. Дверца с ее стороны была распахнута. Я поспешно вылез из машины и нашел свою супругу в нескольких метрах, на лугу; она лежала в странной, я бы даже сказал, противоестественной позе, что сразу же внушило мне величайшую тревогу. На мои вопросы, сколь ни были они настоятельны, она не отвечала. Метрах в ста пятидесяти среди густой зелени виднелась большая ферма, но при создавшемся положении я счел нежелательным оставлять свою супругу одну. К тому же мне показалось, что я различаю там фигуру человека, наблюдающего за нами. Однако мне все же пришлось скрепя сердце перейти вброд канаву и вскарабкаться на насыпь: стоя на обочине дороги, я пытался привлечь внимание проезжающих мимо автомобилистов. Увы, никто из них не имел возможности остановиться, чтобы оказать мне помощь, это ведь и вправду очень опасно, более того, даже запрещено. Впрочем, как выяснилось через четверть часа, один из них был настолько любезен, что взял на себя труд поставить в известность врача в Элспейке. Этот врач, доктор К. Й. М. Мауритс, человек исключительно отзывчивый, установил перелом основания черепа и подозревал серьезные внутренние кровоизлияния.
— Категорически не рекомендую вам перемещать куда-либо вашу супругу, — сказал он. — По прибытии в Элспейк я незамедлительно поставлю в известность коммунальный отдел здравоохранения, так как она должна быть как можно скорее госпитализирована. По какому адресу послать вам счет?
Я дал ему адрес, и он поспешил восвояси.
И в самом деле, минут через двадцать появилась санитарная машина. Но тут выяснилось одно пренеприятное обстоятельство. То место, где лежала моя супруга, находилось за пределами общины Элспейк, а точнее — на территории общины Фрейбург.
— Дело в том, — разъяснили мне санитары, — что границу между двумя общинами образуют провода высоковольтной линии, которая проходит над дорогой.
Я посмотрел вверх и убедился, что мы действительно находимся под проводами высоковольтной линии. Исполинские башни-столбы, широко раскинув руки, шагали по лугам с северо-востока, в одном месте наискось пересекали дорогу и по другую сторону исчезали за горизонтом.
— Или, если выразиться точнее, — говорили санитары, — эти провода идут точно над границей двух общин. Из этого мы исходим при несчастных случаях в данной местности.
— Но моя супруга лежит как раз под проводами, — заметил я.
— Именно так, — сказали они. — Но эта полоса шириной в несколько метров под самыми проводами относится к Фрейбургу.
Должен при этом отметить, что они были исключительно любезны и очень терпеливо разъясняли мне положение вещей; однако это не отменяло того факта, что данный несчастный случай был вне их компетенции. Увы, по этой причине они были вынуждены уехать ни с чем.
— Надеемся, — сказали они, — что вы войдете в наше щекотливое положение. Вы же понимаете, два аналогичных ведомства…
— Само собой разумеется, — подтвердил я. — В сфере своей собственной профессиональной деятельности я тоже сталкиваюсь с проблемами подобного рода. В таких случаях лучше немного отложить решение, иначе потом придется затратить гораздо больше времени на борьбу вокруг ведомственной принадлежности.
— Мы обещаем вам, что по возвращении в Элспейк незамедлительно поставим в известность соответствующее ведомство Фрейбурга.
— Буду вам чрезвычайно признателен.
Хочу подчеркнуть, что в самом деле не прошло и получаса, как санитарная машина из Фрейбурга была на месте. Однако же, к моему изумлению, они сообщили мне, что территория под проводами относится к Элспейку.
— Но сотрудники отдела здравоохранения из Элспейка говорили, что полоса под проводами как раз входит в общину Фрейбург, — сказал я.
Уголки губ у них опустились, выражая сомнение; переглянувшись, они ответили:
— Этот вопрос должен быть незамедлительно изучен в коммунальном совете. Однако же вплоть до окончательного решения мы, видимо, не имеем возможности принять какие-либо меры.
— Я вас вполне понимаю, — успокоил я их. — Разумеется, при решении подобных вопросов желательна абсолютная точность.
На прощанье мы пожали друг другу руки.
Тем временем подоспела Государственная полиция и составила протокол. Пока полицейские занимались своими изысканиями, я размышлял, дозволительно ли мне с их помощью пойти по иному пути. Я полностью отдавал себе отчет, что тем самым перечеркну усилия коммунального совета Фрейбурга: после того как моя попытка возымеет результат, снова приедут санитары из Элспейка или из Фрейбурга и увидят, что моя супруга уже увезена другой инстанцией. Окажется, что зря они приложили столько труда. Имею ли я на это моральное право? Или, выражаясь не так высокопарно, удобно ли это? Но, поскольку тревога за мою супругу была для меня превыше всего — и я верю и надеюсь, Ваше Величество, что это чувство найдет у Вас понимание, — я взял быка за рога и спросил:
— Господа, может быть, существует некое Государственное ведомство здравоохранения, которое сжалилось бы над моей супругой?
— Увы, — ответили они, — тут мы вынуждены вас разочаровать. Но мы сочувствуем вашему затруднительному положению и даем вам совет обратиться в Медицинскую инспекцию провинции.
— Благодарю вас, господа, — обрадовался я, — это предложение кажется мне очень разумным, учитывая, что Медицинская инспекция провинции является вышестоящей организацией по отношению к общинам с их пограничными спорами.
Теперь волей-неволей мне пришлось ненадолго оставить мою супругу одну. Ее состояние оставалось без изменений. Она лежала ничком; крови, к счастью, не было видно, но правая и левая нога словно бы поменялись местами. Я, как мог, привел в порядок ее одежду и направился через луг к ферме. Человек, которого я заметил там с самого начала, оказался самим хозяином, господином Р. Ван Амеронгеном.
— Ну и плюхнулись же вы с вашим драндулетом, — улыбнулся он. — Да заходите же, заходите! Наверняка не откажетесь от чашечки кофе?
— Правда ваша, — подтвердил я.
В доме он представил меня своей супруге, мефрау М. Ван Амеронген. Она рассмеялась:
— А я уж вас поджидаю. Кофе готов.
Когда я посвятил их в мои заботы, они по собственной инициативе предложили мне воспользоваться их телефоном. Я спросил, в какой провинции мы находимся; оказалось — в Утрехте. Но, поскольку была суббота, в Медицинской инспекции не сняли трубку. По некотором размышлении я решил позвонить в коммунальный совет Утрехта. Там был только сторож. Я объяснил ему, сколь неотложно мое дело, и он ответил:
— Менеер, я сразу могу вам сказать, что подобного рода просьбы принимаются только в письменном виде.
Я поделился этой обескураживающей новостью с господином Ван Амеронгеном, и он тотчас, не говоря ни слова, выложил на стол перо и бумагу, равно как и конверт с маркой. Я так же молча взялся за перо но, поскольку стол был покрыт вязаной скатертью, я, к своему ужасу, проткнул пером бумагу. После этого мефрау Ван Амеронген протянула мне номер еженедельника «Земледелец и садовод», а господин Ван Амеронген с улыбкой вручил мне другой лист бумаги, и я составил письмо, в котором подробно изложил все происшедшее и настоятельно просил, так как дело не терпит отлагательства, организовать перевозку моей супруги. Я запечатал конверт, и господин Ван Амеронген по собственному почину предложил, что он опустит его в ящик, чтобы мне не пришлось надолго оставлять мою супругу одну.
Только в такие моменты и можно по-настоящему узнать своего ближнего. Крестьяне! Каково было прежде мое мнение о крестьянах? Как всякий житель Амстердама, я считал, что у них дубовые головы, набитые навозом, и единственное, до чего они в состоянии додуматься, это выманить во время войны у голодающего горожанина обручальное кольцо в обмен на стаканчик молока. Чета Ван Амеронген полностью излечила меня от подобных искаженных представлений.
Поскольку ответ из Утрехта не мог прийти раньше вторника, я понял, что теперь дело затянется на значительно более долгий срок, чем я надеялся и ожидал сначала. Рассчитавшись за телефонный разговор и кофе, я договорился с радушной четой, что в ближайшие дни буду ужинать у них и, кроме того, они будут давать мне с собой немного хлеба и фруктов, а кое-когда и яйцо. Цена, на которой мы сошлись, была ниже цен в большинстве амстердамских ресторанов.
Не буду утруждать Вас, Ваше Величество, излагая мысли, которым я предавался в последующие одинокие часы этой злополучной субботы, сидя у бессильно распростертого тела моей супруги: мысли эти не имеют прямого отношения к моей просьбе. Большую часть времени я провел в своем автомобиле. Капот этой находящейся в самом плачевном состоянии машины был под водой, однако же в салоне мне удалось путем длительного экспериментирования установить одно сиденье мало-мальски горизонтально, чтобы на нем можно было сидеть и лежать. Господин Ван Амеронген предоставил мне по сходной цене немножко дерева, и я смастерил из него мостки, так что те времена, когда я не мог шагу ступить, не промочив ног, к счастью, отошли в прошлое. В машине же я провел и ночь, предварительно запечатлев поцелуй на лбу моей супруги.
На следующее утро я проснулся, весь закоченев; шел дождь. Моя супруга уже вымокла насквозь, и, поскольку я считал, что это не способствует ее хорошему самочувствию, я решил соорудить укрытие, которое хотя бы в какой-то степени защищало ее от капризов погоды. Господин Ван Амеронген любезно указал мне на свой сарай, где я нашел как материал, так и инструменты. По зрелом размышлении я остановился на доме классической архитектуры с остроконечной крышей; возможно, на мое решение повлиял вид фермы Ван Амеронгенов. До самого вечера я пилил и приколачивал. Крышу и боковые стены я сколотил из досок, заднюю стену тоже, а переднюю заменяла джутовая циновка.
Когда я закончил работу, господин Ван Амеронген с улыбкой осмотрел мое произведение, а вечером после ужина спросил с меня незначительную сумму за использованные материалы, а также какие-то несколько гульденов за прокат инструментов, что я счел вполне справедливым. По счастью, у меня есть привычка, уезжая из дому, никогда не оставлять там без присмотра деньги, и, учитывая, что дело было в начале месяца, я располагал довольно крупной суммой, которая давала мне возможность спокойно ждать некоторое время.
На следующий день, в понедельник шестого мая, ровно в 8 часов 30 минут я поспешил позвонить в фирму «Интероп» в Амстердаме, где проработал двадцать три года, сначала в качестве служащего на складе, затем в должности заведующего складом. Оказалось, что мой работодатель, господин X. Й. Груневелд, за границей; к телефону позвали его сына и компаньона господина X. Й. Груневелда-младшего. Я изложил ему мои плачевные обстоятельства и просил, учитывая безвыходность моего положения, предоставить мне несколько свободных дней.
— Так, — сказал он. — Сейчас. Подожди у телефона, Лихтбеелт.
Междугородный разговор стоил весьма дорого, и господин Груневелд был настолько любезен, что заставил меня ждать недолго — всего несколько минут.
— Так, Лихтбеелт, у тебя еще осталось четыре отгула. В виде исключения можешь использовать их подряд.
Я от всего сердца поблагодарил его за то, что он пошел мне навстречу. Честно говоря, он никогда не был мне особенно симпатичен, я подозревал его в бездушии, какое часто бывает присуще второму поколению предпринимателей, и искренне порадовался тому, что, как оказалось, я был неправ.
Вслед за тем я позвонил нашей дочери, мефрау Г. Й. Хофман-Лихтбеелт, проживающей в Мидделбурге. Услыхав о прискорбном несчастном случае, она была потрясена. Хотя после ее замужества мы из-за дальности расстояния видимся редко, те единственные в своем роде узы, которые связывают только родителей с детьми, никогда не порывались между нами. На ее вопрос, в какую больницу положили мать, я был вынужден вновь повторить свою грустную повесть. И на душе у меня просветлело, когда она сказала:
— Я приеду как можно скорее.
Я спросил, когда именно, и, увы, оказалось, что не раньше ближайшего воскресенья. Детишки ходят в школу, необходимо также выполнить кое-какие светские обязанности. Мой зять, господин Й. А. М. Хофман, служит в крупном рекламном агентстве, вся деятельность которого основана на поддержании нужных связей. И если он не будет участвовать в еженедельной игре в бридж, это легко может быть истолковано превратно, что в свою очередь повлечет за собой последствия финансового характера, от которых пострадают и другие служащие.
Подумав, я решил отказаться от возникшей было у меня мысли ввести в курс событий также и мою тещу в Остербеке. Это произведет слишком сильное впечатление на престарелую даму, которая вряд ли оправится от такого душевного потрясения. О нашем предполагаемом субботнем визите мы ее не предупреждали, таким образом, она ни о чем не подозревала. Я счел за благо подождать, пока все не уладится и моя супруга полностью не восстановит свое здоровье. Тогда за чашкой чая с коричным печеньем мы во всех подробностях распишем наше приключение.
На следующее утро меня разбудил возглас мефрау Ван Амеронген:
— Менеер Лихтбеелт! Почта!
В своем белоснежном фартуке она стояла на дворе под каштанами, подняв над головой руку с письмом. Я немедленно вылез из машины и со всей быстротой, на какую способны мои старые ноги, помчался через луг.
И действительно, это было срочное письмо со штампом Медицинской инспекции провинции Утрехт. С надеждой вскрыл я конверт, но какова же оказалась воля случая? Граница между общинами Элспейк и Фрейбург служила одновременно границей между провинциями Утрехт и Гелдерланд. Земля же под проводами, где лежала моя супруга, соответственно их картам, принадлежала к провинции Гелдерланд, так что они, увы, ничем не могли мне помочь. Они давали мне совет письменно обратиться в Медицинскую инспекцию провинции Гелдерланд. Убитый, я уронил руку с письмом.
— Дурные вести? — спросила мефрау Ван Амеронген.
— С одной стороны, я приятно удивлен той быстротой, с какой мне ответили, однако, с другой стороны, мне кажется, что дело мое нисколько не продвинулось. Хотя нет, пожалуй, все-таки немного продвинулось. Пограничный спор между двумя общинами превратился в спор между двумя провинциями. Если так будет продолжаться, я неизбежно дойду до вышестоящей инстанции, которая сможет принять решение. Нет, мефрау, никаких дурных вестей. Добрые вести.
Ваше Величество, к стыду своему, я должен признаться, что весьма далек от вопросов нашего государственного устройства, то есть далек теоретически, в действительности я к ним весьма близок, ведь я, так сказать, живу в этом государстве, но я предполагал, что такой вышестоящей инстанцией является Государственный совет, который, если не ошибаюсь, именуется также «Короной». Однако, Ваше Величество, я полагаю, что, обращаясь к Вашей высокочтимой персоне, лучше мне воздержаться от этой излишней информации.
Я снова уселся за стол, покрытый вязаной скатертью. Мефрау Ван Амеронген дала мне «Земледельца и садовода», и я написал на этот раз в Гелдерланд. Я заранее знал, каков будет результат, но для моих дальнейших шагов мне, видимо, нужно получить письменный отказ, Я вдруг преисполнился надежд.
— Единственное, что все же внушает мне беспокойство, — сказал я мефрау Ван Амеронген, запечатывая конверт, — это страх, как бы из-за всех этих проволочек не ухудшилось состояние здоровья моей супруги. Но, по счастью, у нее всегда был очень крепкий организм, я не припомню, чтобы они когда-нибудь болела, выдержит она и это испытание.
До сих пор я в установленные часы приподнимал джутовую циновку, чтобы взглянуть на нее, но на будущее решил от этого воздержаться. Внезапно упавший на нее луч света легко может вывести ее из равновесия. Я полагал, что лучше всего для нее полный покой.
На следующий день — а тем временем наступила среда, восьмое мая, — наконец-то была теплая весенняя погода. Но вместе с тем меня ожидал неприятный сюрприз. Только я успел умыться из шланга на гумне и съесть свой завтрак, состоящий из яблока и стакана воды, как увидел приближающуюся по автостраде полицейскую аварийку. К моему ужасу, я заметил, что делаются приготовления увезти мою машину, то есть мое жилище. Я бросился туда и сумел остановить этих господ, на которых только фуражки были форменные, полицейские, а так они были одеты в бежевые комбинезоны. Пока я вводил их в курс событий, мне вдруг пришел в голову вопрос, почему мою машину, которая тоже ведь находится на ничейной земле под проводами, можно без долгих слов увезти, а мою супругу нельзя. Не основано ли это на весьма своеобразном, более того, Ваше Величество, я не побоюсь этого слова — прямо-таки бесчеловечном образе мыслей?
— Господа, — спросил я, не теряя хладнокровия, — позвольте спросить, к какой общине вы относитесь?
— К Элспейку, — ответили они тоном, дававшим понять, какую неслыханную честь они мне оказывают, предоставляя эту информацию.
— Вот именно, к Элспейку. Вам, без сомнения, известно, что, по мнению ряда лиц, моя машина находится на территории Фрейбурга?
Заслоняя глаза от солнца, они посмотрели вверх, на высоковольтную линию, и пожали плечами.
— Очень может быть, — кивнули они. — Но что поделаешь, мы уже здесь, и мы намереваемся убрать обломки машины. Сами понимаете, это неподобающее зрелище
— здесь, у самой дороги.
— Да! — вскричал я. Это вы так думаете! Но будьте уверены, я предприму против вас кое-какие шаги и докажу, что вы превысили свои полномочия, в результате чего вас, без сомнения, с позором уволят в отставку.
После этого они переглянулись и, пробормотав что-то вроде «Наше дело маленькое, нам приказали», ушли несолоно хлебавши.
Кажется, в эту минуту я вышел из терпения — в первый и последний раз. Когда через несколько часов появилась аварийная машина фрейбургской полиции, я уже не возмущался, а играл заученную роль.
Теперь, задним числом, я спрашиваю себя, не совершил ли я тактическую ошибку. Возможно, было бы разумнее дать им увезти машину, потому что таким образом был бы создан прецедент. Но возможно, тогда возникло бы впечатление, что я пытаюсь прибегнуть ко всякого рода уловкам, а это в свою очередь вряд ли бы увеличило благосклонность ко мне чиновничьего аппарата. Кроме того, как мне кажется, еще большой вопрос, может ли случай с полицией служить прецедентом для ведомства здравоохранения. Так или иначе, а я был рад, что спас место своего ночлега, ибо, будь я вынужден арендовать у господина Ван Амеронгена кровать, которую он, без сомнения, охотно бы мне предоставил, это нанесло бы серьезный удар по моему карману. Притом что вследствие недавних неурожаев уже и цены на яблоки и груши вдруг подскочили.
В четверг весна недвусмысленно вступила в свои права. Но именно в четверг меня впервые целый день донимал исключительно неприятный запах. Я решил, что где-нибудь поблизости работает предприятие по переработке мусора или уничтожению трупов животных, и с надеждой ждал, когда ветер подует с другой стороны. Однако я и не думал спасаться бегством. Я вытащил автомобильное сиденье на луг и спокойно сидел на солнышке подле домика, где моя супруга вкушала столь необходимый ей покой. Мирно паслись коровы господина Ван Амеронгена, за моей спиной с ревом проносились машины, и воробьи чирикали на проводах высоковольтной линии. Как будто я был в отпуску. Отпуск! Мне его дадут в июле, и к тому времени, надо надеяться, моя супруга уже настолько поправится, что мы сможем снова поехать на Терсхеллинг. А может быть, попробовать на этот раз забраться подальше? В Арденны, например? Или совершить плавание по Рейну? За этими раздумьями я задремал, и разбудил меня голос мефрау Ван Амеронген:
— Менеер Лихтбеелт! Почта!
Это был ответ из Гелдерланда. Быстрота, с какой административные учреждения в нашей стране обрабатывают свою корреспонденцию, выше всяких похвал — думаю, Ваше Величество, не повредит, если Вы услышите об этом из уст простого человека, смиреннейшего из Ваших подданных.
Текст письма был именно таков, как я предполагал: территория-де под проводами, согласно их картам, относится к провинции Утрехт, — но этим дело не ограничивалось. Меня ставили в известность, что, поскольку мой вопрос не терпит отлагательства, они ходатайствовали перед палатами депутатов провинций Утрехт и Гелдерланд о проведении картографическими ведомствами обеих провинций совместного исследования. Целью его явится в кратчайший срок раз и навсегда установить точную границу между Утрехтом и Гелдерландом, а тем самым и между Элспейком и Фрейбургом, причем работы начнутся с той точки на местности, где лежит моя супруга. Упомянутые должностные лица, по-видимому, приступят к работе уже в начале следующей недели, и в письме выражалась надежда, что таким образом все разрешится быстро и ко всеобщему удовольствию.
Охотно сознаюсь, что с этим письмом в руках я пустился в пляс под каштанами. Мефрау Ван Амеронген наблюдала за мной, улыбаясь и качая головой, но я не стеснялся ее. Я ведь уже и надеяться не смел, что все уладится так быстро.
Само собой разумеется, что именно теперь, когда дело вступило в решающую стадию, я не мог все бросить. Но свои отгулы я уже использовал, и потому на следующее утро мне пришлось снова позвонить в фирму «Интероп». Оказалось, что господин Груневелд-старший еще не вернулся. Я изложил господину Груневелду-младшему все обстоятельства в полном соответствии с истиной, но он не счел возможной мою дальнейшую службу в фирме.
— Сам посуди, Лихтбеелт, на этот путь мы не можем становиться.
— Да, конечно, менеер Груневелд, я понимаю.
— Я должен подумать о других наших служащих. Узнай они, что я даю тебе дополнительные свободные дни, вот увидишь, тоже мигом насочиняют невесть чего.
Я выразил ему свое восхищение:
— Менеер Груневелд, я просто поражаюсь, как хорошо вы знаете людей.
— Да, такое знание людей приходит на руководящем посту. И еще вот о чем подумай, Лихтбеелт: в конце концов это привело бы к тому, что в Нидерландах больше никто не захотел бы трудиться.
— Ха-ха, — засмеялся я, — такой оборот дела я никак не мог бы одобрить.
— А так бы оно и было.
— Но с вашего позволения, менеер Груневелд, не сочтите, конечно, за недоверие, но… как теперь будет с моей больничной страховкой и пенсией?
— Гм, легко сказать! Надо сначала выяснить. Я этого не знаю. У тебя там есть телефон?
— Разумеется, менеер Груневелд, номер телефона семейства Ван Амеронген, чьим гостеприимством я пользуюсь, — Элспейк, 346.
— Элспейк, 346. Ну вот, Лихтбеелт, договорились. Теперь я испытываю потребность поблагодарить тебя за… сколько лет ты служил у нас?
— Двадцать три года, менеер Груневелд.
— За двадцать три года верной службы в фирме «Интероп». Двадцать три года — это целая жизнь. Говоря точнее — это моя жизнь. Когда я родился, ты поступил служить к нам на склад, и, как сейчас помню, в детстве я часто слышал от отца, что только с твоим приходом у нас на складе наступил порядок. Неустанным трудом ты добился, что через шестнадцать лет тебя повысили и ты стал руководить отделом, — такое удается немногим. Нельзя представить себе «Интероп» без тебя. Ты — это «Интероп», и «Интероп» — это ты. Нам будет недоставать тебя, Лихтбеелт, — заключил он и повесил трубку.
Слезы навернулись мне на глаза. Найдется ли на земле человек, которого бы оставила равнодушным похвала?
Это было в пятницу. По-прежнему стояла хорошая погода, вонь, увы, тоже, и единственное, что я успел за субботу, — это составить заявление в Отдел социальной помощи в Амстелвеене; в нем я описывал свое положение и просил предоставить мне пособие по безработице.
В противоположность этому черному дню, когда мне впервые в жизни пришлось протянуть руку за подаянием, следующий день стал настоящим праздником. Примерно в полдень сверху, с автострады, которую я столь неожиданно покинул неделю назад, до меня донеслись ликующие возгласы, и тут же мимо промчалась машина моего зятя, из каждого окна махали детские ручонки. Чуть подальше машина съехала на дорогу к Элспейку и через несколько минут остановилась у фермы.
Никогда мне не забыть зрелище, какое являли собой мои близкие, спеша ко мне через луг: малютки, кричащие «Деда! Деда!», дочь с плетеной корзинкой для провизии, прикрытой белой салфеткой, и зять, в отличной форме, как всегда, в узких брюках, с фотоаппаратом через плечо. Поздоровавшись со мной (и досталось же моей бороде! Сколько было шуток и смеха; как ее дергали во все стороны!), мои внучата, вереща от удовольствия, вскарабкались на крышу низенького домика, который я соорудил для их раненой бабушки. Дочь хотела остановить их, но я сказал, пусть на этот раз сорванцы делают что хотят. Я, конечно, знал, что больных раздражает малейший звук, но был уверен, что
этот шум будет моей супруге только приятен. К тому же дети скоро по собственному почину оставили домик в покое. Очевидно, вонь от предприятия по переработке мусора и уничтожению трупов животных, к которой сам я мало-помалу притерпелся, все же не давала им играть в свое удовольствие. Зять сделал несколько снимков на память о происшествии, о котором когда-нибудь потом всем нам, и прежде всего самой моей супруге, без сомнения, приятно будет вспомнить. Затем я отдал честь привезенному обеду. Французские длинные батоны, жареное мясо и даже вино появились на расстеленной салфетке, и стоило мне сделать несколько глотков, как этот весенний день превратился для меня в летний день из сказки. Увы, зятя вдруг стошнило, после чего им сразу же пришлось уехать.
Ваше Величество, Вас небо тоже благословило многочисленным потомством, которое вдобавок умножается год от года, и у Вас тоже есть лужайка, где Вы, быть может, иногда располагаетесь для пикника с Вашими внучатами. И потому мне незачем именно Вам рассказывать, как много это значит для человека в нашем возрасте. Увы, с того дня они больше не приезжали, но это ведь и не имело бы смысла. Помочь мне они все равно не могут — пусть только сами будут счастливы, где бы они ни находились, вот все, что мне от них надо.
В понедельник, тринадцатого мая, действительно появились землемеры и картографы, числом восемь человек. Они начали какие-то сложные манипуляции с палками, выкрашенными в красную и белую полоску, а потом глядели на эти палки в маленькие бинокли, укрепленные на штативах, — во всем этом я мало чего понял, ибо мое образование ограничивается неполной средней школой. Но всегда приятно смотреть на тех, кто работает с истинным профессионализмом, что бы человек ни делал — занимается ли он межеванием, красит ли оконную раму, пилит доску, разливает пиво, считает банкноты или завязывает мешок с сахаром. Одно из бедствий нашего времени, на мой взгляд, состоит в том, что так много развелось людей, не владеющих своим ремеслом. И бедствие не только в плохой работе, но и в том, что люди не получают от нее удовлетворения: ущербная работа порождает ущербных людей. Часто жалуются на роковое влияние, оказываемое на человека обезличенным трудом на фабриках, но и там, где люди работают самостоятельно, дело обстоит не лучше, так что причина, по-видимому, коренится глубже. Но об этих чиновниках нельзя было сказать ничего подобного — примечательно, кстати, что, даже не понимая существа работы, человек может судить о том, насколько квалифицированно она выполняется. Похоже, что в человеке заложено своего рода общее представление об артистизме, изяществе и экономности, и там, где присутствуют эти качества, их может увидеть любой.
Но я отвлекаюсь, а это неразумно, учитывая, что мое послание и так уже грозит затянуться и что я злоупотребляю драгоценным временем Вашего Величества.
Между тем результат работы землемеров не оправдал ожиданий. Инженер, руководивший ими — его фамилия, к моему величайшему сожалению, ускользнула из моей памяти, — был настолько любезен, что по окончании работы изложил мне суть проблемы. Он показал мне подробную карту местности, где мы находились, и провел мизинцем по одной из нанесенных на ней линий:
— Вот граница между двумя провинциями, — сказал он, — и, следовательно, граница между Элспейком и Фрейбургом. Как мы только что проверили, она указана совершенно точно. Все затруднение лишь в том, что на этой карте — а она выполнена в самом большом масштабе, какой только применяется в отечественной картографии, — линия границы, к сожалению, точно покрывает расстояние между крайними проводами высоковольтной линии у нас над головой. Таким образом, территории между крайними проводами, где как раз и лежит ваша благоверная, в известном смысле вообще не существует, во всяком случае, ее не существует с точки зрения картографии. Это граница как таковая, она разделяет территории Утрехта и Гелдерланда, но сама является не территорией, а лишь линией, разделяющей их.
Эти слова вызвали во мне большую тревогу.
— Что же мне теперь делать?
— Н-да, — сказал инженер, складывая карту и засовывая ее в планшет, — лучше всего, разумеется, было бы добиться составления карты в большем масштабе. Желательно в натуральную величину. Масштаб 1:1. Если и тогда граница пройдет через тело вашей благоверной, пусть специалисты докажут, что ее человеческая сущность заключена в голове, или в сердце, или, по мне, хоть в мизинце на ноге, лишь бы это была часть тела, которая целиком и полностью находится либо в Утрехте, либо в Гелдерланде. Но это, я думаю, долгая история.
— Боюсь, что так, — сказал я.
Он поглядел на меня.
— Могу вам кое-что подсказать. Продолжайте обращаться по инстанциям.
— Да, но куда мне обратиться теперь?
— К генеральному инспектору здравоохранения в Гааге. Изложите ему все, и про границу тоже, и он безусловно сделает то, что в его силах. Я не удивлюсь, если это дело окажется по части Медицинской экспертной комиссии или по крайней мере Арбитража по трудовым конфликтам. Только надеюсь, все это останется между нами.
Повторяю, не могу выразить, как мне жаль, что фамилия этого отзывчивого специалиста ускользнула из моей памяти. Но так или иначе, я последовал его совету и в тот же вечер написал заявление на имя генерального инспектора.
На другое утро, часов в десять, господин Ван Амеронген крикнул мне:
— Лихтбеелт! К телефону!
Я поспешил на ферму и услышал в трубке знакомый голос господина X. Й. Груневелда-старшего.
— Послушай, Лихтбеелт, я только что вернулся из-за границы, и что же я узнаю: мой сын тебя уволил?
— Совершенно верно, господин Груневелд.
— Да что он, спятил? Уволить тебя после двадцати трех лет службы только потому, что тебе понадобилось несколько свободных дней из-за твоей жены?
— Боюсь, у него не было другого выхода.
— Не было другого выхода? Ишь, как он заморочил тебе голову! Я сейчас так вложил ему ума, что он заревел и выскочил за дверь.
— Не слишком ли вы строги к нему, менеер Груневелд? Ваш многоуважаемый сын, по моему глубокому убеждению, руководствовался не чем иным…
— Вздор! Сопляк! Я ему покажу! Как будто человек — старая перчатка, которую он может выбросить, если она ему не по вкусу!
— Ну, если взглянуть с такой точки зрения… доля истины в этом есть.
— Только видишь ли, Лихтбеелт, раз уж так получилось, теперь сделанного не воротишь. Я бы рад снова взять тебя на работу, но тогда хоть увольняй моего сына. Он ведь потеряет всякий авторитет у персонала.
— Вот именно, — сказал я. — Это не подлежит сомнению. Ни слова больше! Если бы не меня, а кого-нибудь другого X. Й. Груневелд-младший уволил, а X. Й. Груневелд-старший взял обратно, я бы тоже над этим смеялся.
— Ну да, это же понятно, верно ведь, Лихтбеелт?
Мне показалось, будто господин Груневелд облегченно вздохнул, и я порадовался, ибо знал, что он часто ночами не спит из-за неблагоприятного микроклимата, от которого теперь так страдают работодатели.
— У меня только один вопрос, господин Груневелд: как насчет моей больничной страховки и пенсии?
— А, да-да, хорошо, что ты об этом вспомнил. Мне неприятно говорить, но дело как будто обстоит не лучшим образом.
— Прекрасно, мне остается спокойно ждать и ни на что не рассчитывать, тогда, как бы дело ни повернулось, окажется, что мне повезло. Во всяком случае, вы из-за итого не беспокойтесь, я не сомневаюсь, что закон и справедливость будут соблюдены.
— Ну вот и отлично, Лихтбеелт. Пожелаю твоей жене скорейшего выздоровления.
— Премного благодарен. До свидания, менеер Груневелд.
После этого приятного разговора у меня целый день сохранялось хорошее настроение. Ведь, если разобраться, у него не было никакой необходимости мне звонить. Я лишний раз убедился, что нам, нидерландцам, надо не враждовать, а быть всем заодно.
Среду пятнадцатое мая я намеревался провести в ожидании ответа из Гааги, но еще утром нагрянула моторизованная полиция. Поставив свои мотоциклы цепочкой друг за другом на обочине, полицейские спустились по насыпи.
— Будьте добры предъявить разрешение на застройку, — потребовали они без дальних слов.
— Разрешение на застройку?
Я смотрел на них в недоумении, а они показали мне на временное укрытие, которое я соорудил для своей супруги.
— Разве для
этого нужно разрешение на застройку? — изумился я.
— А разве
это не построено?
— Да, действительно, — ответил я. — Не могу отрицать. Но разрешения у меня, к сожалению, нет. Дело обстоит следующим образом. В субботу четвертого мая сего года примерно в десять часов десять минут…
— Ну да, — перебили они грубо. — Это мы уже усвоили. Но скажите, до чего мы дойдем, если каждый начнет строиться на свой страх и риск? В такой маленькой стране, как наша, где и без того уж все застроено, мы должны беречь каждый клочок живой природы, который у нас еще остался.
— Я первый целиком и полностью за это, — ответил я. — Сам я ребенком часами одиноко бродил по лесам и полям; собирать растения и распознавать птиц было моей страстью, так что меня вы можете не агитировать. Но это вот скромное обиталище моей супруги, — продолжал я и в свою очередь указал на него пальцем, — наверняка не заметил еще ни одни водитель, проезжающий по автостраде.
— Возможно, — согласились они, — но так бывает всегда. Начинается с невзрачной лачужки, а потом, не успеешь оглянуться — и вот уже вместо нее стоит вилла с бассейном.
— Охотно верю вам на слово, — сказал я, — у вас ведь есть опыт. Но, господа, — продолжал я, повысив голос, — раз уж мою супругу не могут увезти в больницу по причине того, что эта территория не подпадает ни под чью юрисдикцию, так с разрешением на застройку здесь и подавно нечего приставать.
Они переглянулись и стали смеяться.
— По-вашему, здесь, между проводами, вы и убийство можете совершить безнаказанно? — спросили они.
— На такое утверждение я бы, пожалуй, не решился.
— Да будет вам известно, что несчастный случай и нарушение — совершенно разные вещи. Даже частное лицо полномочно задержать виновного в нарушении Закона, а тем более в преступлении, независимо от того, в какой общине живет это лицо или в какой провинции совершено нарушение.
Я склонил голову. Понял, что возражать бесполезно.
— Будьте добры, предъявите разрешение на разбивку туристского лагеря, — без долгих слов потребовали они.
Тут уж я совсем растерялся. Составив протокол и засунув свои книжечки в нагрудный карман, они сказали:
— Со вторым нарушением, может быть, все и обойдется, но к тому, что ваша незаконная постройка в ближайшие дни будет снесена, вы должны быть готовы.
От меня не ускользнуло, что дело принимает все более мрачный оборот. Господин Ван Амеронген тоже догадался об этом по моему виду. В этот вечер, когда, поужинав, мы встали из-за стола, он молча положил мне на плечо свою честную крестьянскую руку.
Следующий день ознаменовался двумя письмами. Первое содержало ответ Отдела социальной помощи, куда я обращался за пособием по безработице. Оказалось, что в пособии мне отказано, поскольку я не явился, как положено, в течение суток на биржу труда по месту жительства. Я не могу отрицать, что действительно повинен в этом упущении. Мне рекомендовали обратиться в Управление по особым выплатам в связи с болезнью — совет, которому я не премину последовать.
Второе письмо было от генерального инспектора здравоохранения. В нем говорилось, что этот пограничный инцидент представляет собой совершенно новую проблему («скорее всего, проблему метафизического характера»), решение по которой может быть вынесено исключительно министром лично. Но министр в настоящее время находится в Замбии, после чего намерен посетить также Нигерию и Уганду. В ожидании его возвращения мне рекомендовали обратиться в Комиссию по разбору заявлений Второй палаты Генеральных Штатов.
Ваше Величество! Я понимаю, что, продолжая свой отчет в том же духе, я заставил бы Вас потратить на меня слишком много Вашего драгоценного времени. Важные государственные дела, касающиеся общего блага, без сомнения, ждут своего разрешения, Ваш огромный письменный стол завален штабелями папок, я словно бы воочию вижу их перед собой, здесь, на столе господина Ван Амеронгена. Ничтожные заботы отдельной личности должны, несомненно, отступить перед ними на задний план. Я еще раз хочу обратить Ваше внимание на тот уже неоднократно упоминавшийся факт, что во время всего этого хождения по мукам я почти никогда и ни от кого не слышал неприветливого слова. Все были со мной необычно терпеливы, хотя подчас я давал повод выйти из себя. И не для того, чтобы жаловаться, собрался я с духом и обратился лично к Вам. Нет, Ваше Величество, причина в том, что моя супруга внушает мне беспокойство. Что-то с ней неладно. Когда второго июня сего года ее домик пошел на слом, я увидел, что скелет ее в нескольких местах торчит сквозь кожу. Уже один тот факт, что к этому времени она целый месяц ничего не ела и не пила, возможно, объясняет мою озабоченность, пусть даже она преувеличена. Но полагаю, это простительно после тридцати шести лет брака. Сам я вот уже два месяца работаю по найму у господина Ван Амеронгена, который по доброте душевной пожалел меня, старика. Днем я чищу конюшню и хлев и обеспечиваю свиней помоями, вечерами чищу картошку и мою посуду, а мой благодетель предоставляет мне за это питание и кров. Так что в этом смысле мне пожаловаться не на что. Но между тем уже начало сентября, и под воздействием ветра, который всю неделю так страшно выл в проводах и который, надеюсь, не произвел никаких разрушений в дворцовых угодьях, моя супруга частично распалась на куски. Если помощь не придет немедленно, боюсь, что будет слишком поздно.
Моя последняя надежда — что лично Вы, Ваше Величество, собственной высокой персоной перевезете мою супругу в больницу в Вашем королевском автомобиле, носящем, как меня информировали, номерной знак АА-1. Ведь в конечной инстанции только Вы и никто другой стоите над партиями и над границами.
В надежде, что не слишком злоупотребил Вашим неоценимым вниманием, остаюсь, Ваше Величество, с величайшим почтением
Ваш покорный слуга
Й. Лихтбеелт.
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
База была в скале. Океан надвигался от горизонта и заполнял огромную пещеру, где, поблескивая, поднимались и опускались, движимые приливом, подводные лодки. Из мастерских, находившихся рядом, в скале, слышался шум машин, голоса и громкая музыка.
На плавучей платформе в резком электрическом свете стояла группа матросов в комбинезонах: они следили за чуть видным над гладью воды перископом, который сверкал на тропическом солнце, а потом вошел в сумерки пещеры. Еще немного — и лодка стала всплывать: показалась башня с номерным знаком «У-253» (с нее потоками стекала вода), затем пушка на форштевне, и внезапно, поднимая тучу брызг, с громким всплеском вынырнул весь корпус; такой длинной лодки они в жизни не видали. На баке была укреплена еще одна подводная лодка, лодка-дочка, симпатичная маленькая штуковина с треугольными крылышками, не более четырех метров в длину.
Под ними, в недрах скалы, располагались жилые помещения для офицеров и рядового состава, пакгаузы, штабные канцелярии и радиоузел. А глубже всего, в самом нутре голой скалы, торчащей посреди пустынного океана, находился электронный мозг, который снабжал базу всеми метеорологическими и стратегическими данными.
Там, внутри, Бернард Броуз стоял перед письменным столом адмирала и смотрел на его седые, косо зачесанные на черепе волосы. Адмирал проглядел две-три сколотые страницы машинописного текста. Поднял глаза.
— Это приказ, — сказал он. — Мы не можем позволить себе ни малейшего риска. Нам нужна полная уверенность. Ты ведь понимаешь всю важность задания: на борту — сама Зверюга. Со всей своей кликой.
Броуз стоял по стойке «смирно», и его медленно клонило вперед, так что ему пришлось прижать носки к полу, чтобы удержаться на мосте. На мгновение ему показалось, что сохранять равновесие на двух ногах не легче, чем ходить по канату, и он удивился, как человек справляется с этим всю жизнь.
Адмирал поднял бровь, так что монокль упал в его раскрытую ладонь, лежавшую на столе. Он заговорил уже другим тоном:
— Ты положишь конец войне, Броуз. К настоящему времени война только на нашей стороне унесла сорок миллионов жизней. Три четверти наших городов лежит в развалинах — там, далеко за горизонтом. Твой родной город навечно стерт с лица земли. Твои отец и мать погибли при бомбежке. Твой брат пал на Северном фронте; его труп вмерз в айсберг и дрейфует где-то у полюса. Одна из двух твоих сестер убита, другая умерла от тифа. Твоя жена находилась в поезде, который попал под обстрел по дороге из одной груды развалин в другую.
Адмирал — он время от времени заглядывал в машинописный текст — повертел в пальцах монокль и снова изменил тон.
— Ценой одной твоей жизни ты спасешь по меньшей мере сорок миллионов жизней только на нашей стороне. Ты останешься в памяти людской как один из величайших героев в истории человечества. Нет, не как герой. — Он шевельнул растопыренными пальцами. — Это что-то другое… что-то более захватывающее и грозное… не могу найти слово.
Адмирал ощупал взглядом пространство позади Броуза, потом встал и вышел из-за стола.
— Я завидую тебе, Броуз, — сказал он и направился к двери; поравнявшись с Броузом, он мимоходом положил руку ему на плечо.
Броуз, по-прежнему в стойке «смирно», сделал поворот в его сторону. Адмирал взялся за ручку двери.
— Я не хочу рисковать, — сказал он. — Если бы я спросил добровольцев, ты бы вызвался?
Броуз посмотрел на него и задумался. Но ответ пришел сразу.
— Да, господин адмирал.
— Но я не спрашивал добровольцев.
— Нет, господин адмирал.
— Это приказ.
— Да, господин адмирал.
Адмирал открыл дверь и протянул ему руку.
— Мы еще увидимся, Броуз. Произвожу тебя в чин младшего лейтенанта.
Броуз щелкнул каблуками и пожал руку адмирала. Она была прохладная, сухая и приятная на ощупь. Вдруг он нерешительно произнес:
— Так это приказ, господин адмирал?
— Да, приказ.
Броуз почувствовал, как адмирал удержал его руку в своей.
— Когда это должно произойти, господин адмирал?
— Послезавтра. Завтра ты сможешь изучить и опробовать машину. Она предельно проста в обращении. Она только что прибыла. Сейчас ее выгружают. — Не выпуская руки Броуза, адмирал посмотрел на часы и сказал: — Вот в это самое мгновение Зверюга поднимается на борт.
«У-253», посланная родиной, лежала у платформы, словно огромное животное, на теле которого кишат паразиты. Вдали простирался недвижный океан, сейчас, на закате, он отливал розовым. Под сводами пещеры раздался пронзительный свисток — он означал, что снаружи начинает смеркаться и через десять минут надо погасить все огни, кроме ряда слабых ламп, замаскированных со стороны океана. Броуз как бы в оцепенении, прислонясь к скале, наблюдал за суетой разгрузки. Крылатую машину уже выгрузили на сушу и на дрезине повезли в мастерские. Она походила скорее на самолетик, чем на подводную лодку. Никто не знает, что она предназначена для меня, подумал Броуз. Вся эта суматоха ради меня. Послезавтра в это время я буду мертв.
Но это, пожалуй, была даже не мысль: это была затверженная фраза на незнакомом языке. Когда-то отец каждый предновогодний вечер в ожидании двенадцати часов читал им наизусть большие куски из «Одиссеи», по-гречески; он, и брат, и сестры, то смеясь, то затаив дыхание, вслушивались в эти непонятные белые и желтые звуки, которые колечками дыма вылетали из отцовского рта. Стихи производили очень сильное впечатление, но навевали чувство беспредельного одиночества и печали, и он с огромным трудом выучил на память две первые строки поэмы, которые отец записал ему в фонетической транскрипции:
Andra moi énnêpê, Móesa, polútropon hós mala pólla
I Plánchtê epéi Troïés hiërón ptoliëtron epérsen
[14]…
Послезавтра он будет мертв — но к этой мысли он был еще не готов. Когда-то в детстве он всегда садился за уроки в последнюю минуту. Это станет его мыслью в то мгновение, когда он со своей машиной врежется в Зверюгин корабль. В мгновение взрыва чужой язык откроет перед ним тайны своей грамматики.
Он мог теперь есть за офицерским столом, но сел на свое обычное место, сидел притихший, слушал радио, а попозже вечером проиграл партию в шахматы, потому что у него никогда не было терпения разучить дебюты. Остальные курили и играли в карты или читали. В стенах отдавалась морзянка из радиоузла, снизу доносился стук молотка из мастерских и тарахтение перевозящих торпеды дрезин из пакгаузов. Вся скала была единым сгустком разрушительных сил.
В столовой затянули песню. Больше я никогда не буду спать с женщиной, подумал Броуз, но это была не мысль. Он сосал сигарету и думал о своей жене, изрешеченной пулями у окна вагона в поезде, остановившемся посреди поля. Но думать об этом было глупо. Ее нет и никогда не было. Есть только океан, и дюжина подводных лодок, и караваны Зверюгиных судов.
Он встал и пошел бродить по коридорам, залитым мертвенным неоновым светом. Он не доброволец, но только потому, что адмирал не вызывал добровольцев. Добровольцы должны до последней минуты хранить в тайне, на кого из них пал выбор, — в точности как он. Под черным сводом посреди водоема погружалась подводная лодка, след перископа медленно потянулся в сторону океана. У Броуза возникло чувство, что она не вернется. Лежа в постели, он продолжал думать: почему адмирал не вызвал добровольцев? Сказал, что не хочет рисковать, но разве это риск? На все безнадежные задания всегда вызывалось от десяти до двадцати человек. В том число и он, Броуз, но его никогда не выбирали. Так было уже двенадцать раз, и, хотя ушедшие на задание никогда не возвращались, число добровольцев не уменьшалось.
В спальном помещении еще никого не было. Броуз лежал, уставясь в верхние нары, и пытался разобраться, что же его смущает. Вдруг он подумал: это неправильно. Он был обязан вызвать добровольцев. Нельзя отдавать приказ, когда на все сто процентов уверен, что посылаешь человека на смерть. И внезапно у него появилось чувство, что он скорее наложит на себя руки, чем подчинится приказу. Что за нелепость! Какая разница, доброволец он или выполняет приказ? Но наверное, какая-то разница все же была. Он сел в постели и обхватил руками поднятые колени, стараясь понять, в чем она заключалась.
Стояла мертвая тишина. Со всех сторон его окружал камень, и сюда не проникал ни единый звук из мастерских. На миг он увидел себя будто со стороны, откуда-то из океана, — как он сидит в самой середке скалы, возвышающейся над пустынным морем.
Он не сумел определить, что же его коробит, и снова лег. В одном не было сомнения: умертвить Зверюгу необходимо, и вот представляется возможность ее умертвить — Зверюгу с ее концлагерями. Может, они и не страшнее, чем концлагеря у него на родине, но по крайней мере война кончится. Зверюга никогда не летает самолетом: не любит, но корабль, на котором она передвигается, неуязвим для нападения с воздуха, ибо охрана чрезвычайно эффективна и охватывает очень широкое пространство. Приблизиться к кораблю Зверюги, хотя бы на такое расстояние, чтобы увидеть его на горизонте, невозможно — под силу это лишь его крылатой машине.
Броуз почувствовал, что у него слипаются глаза. Если я смогу удрать, я удеру, подумал он, хотя Зверюга — это Зверюга, и нет ничего плохого, если тебе приказали сделать то, что ты сделал бы и добровольно. Такой приказ — это не приказ, и тот, кто мне его дал, — это моя собственная воля, воплощенная в адмирале… Он заснул удовлетворенный.
И все же ночью ему снилось, что он удрал и бежит по бесконечным, холодным, залитым неоновым светом коридорам, бежит по волнам и на нем адмиральская форма, и еще ему снился дом матери, наполовину разрушенный, а наполовину пока целый, и его мать в комнате без передней стены, и школьный товарищ, который зашел за ним, чтобы вместе поехать на машине за город, но из этого так ничего и не получилось.
Склонившись над огромным столом в штурманском зале, он следил за указательными пальцами коммодора: один прочерчивал маршрут Зверюги, другой — его собственный. Некая точка, за сотни километров отсюда, в открытом океане, была помечена красным крестиком — здесь они встретятся, и это будет означать конец войны. Адмирал стоял рядом и с отсутствующим видом смотрел на какую-то совсем другую точку на карте.
Броуз поднял глаза, увидел по другую сторону стола весь высший командный состав и внезапно понял, как глупо было то, что он напридумывал прошедшей ночью. Суть не в нем, суть в Зверюге. Добровольно ли он отправится в путь, чтобы ее уничтожить, или по приказу, и какие тонкие различия могут отсюда проистекать — вздор по сравнению с главным: с окончанием войны, которая длится уже так долго — никто и не упомнит сколько лет.
Сквозь звезды и золото погон он прошел к стене, где висел чертеж судна, на котором плывет Зверюга. Не крейсер и не линейный корабль, а обычный пароход — беззащитная посудина, какую по нынешним временам ни одна торговая компания не стала бы использовать для морских перевозок. Такими вот причудами Зверюга уравновешивала свою бесчеловечность. Но дело было не в пароходе. Пароходик окружал мощный кордон сторожевых судов, и все зависело от того, удастся ли Броузу прорваться сквозь него.
После обеда ему предстояло осваивать машину. Она снова была укреплена на баке «У-253»; в шлеме, доходившем до воротника, в кожаном костюме с бесчисленными ремнями, в который были вмонтированы измерительные приборы, он втиснулся в кабину, ему сунули кислородный аппарат, и машину загерметизировали. Места было ровно столько, чтобы он мог сидеть выпрямившись, его голова в маленьком колпаке из цельнолитого кварца выступала над корпусом, а у глаз находился небольшой перископ, который он мог поднимать и убирать. Солдаты, помогавшие ему, поглядывали на него вопросительно, но ни о чем не спрашивали.
Все офицеры высыпали на платформу посмотреть, как погружается «У-253» и вместе с ней Броуз — он видел, как поверхность воды быстро поднимается вверх и исчезает из глаз. Он и не вспомнил о том, что это значит для него, о том, что завтра он в последний раз увидит мир, исчезающий из глаз навсегда. Он чувствовал только жаркое волнение эксперимента.
Через минуту вода вдруг стала светло-зеленой. Они вышли в открытый океан. Он внимательно следил за приборами и передавал их показания в микрофон, укрепленный у самых его губ. Через десять минут ему сообщили его координаты, он включил двигатель, почувствовал резкую вибрацию и расхохотался, заметив, что оторвался от носителя. Он погрузился на глубину ста пятидесяти футов, где свет был непостижимо синий, как угасающее пламя, и ровно пятнадцать минут по своему светящемуся хронометру мчался сквозь океан в соответствии с заданным маршрутом. Сердце его колотилось, и он громко смеялся в кислородный аппарат. Потом он запел. Что-то — скорее всего, крупная рыба — шлепнулось о колпак и исчезло. Броуз смеялся, и пел, и качался вверх-вниз. Он ощущал каменную тяжесть бесконечной водной массы, обтекавшей его со всех сторон, но он ведь ее одолел! Никогда еще не чувствовал он себя таким свободным. Он отключил двигатель и, начав всплытие, поднял перископ. Он находился как раз в расчетной точке — у входа в пещеру — и на малой скорости вошел внутрь. «У-253» снова стояла у платформы. Он всплыл на поверхность рядом с ней. Немного спустя он уже был на суше, он смеялся, а офицеры из высшего командного состава с серьезным видом жали ему руку. Адмирал жадными глазами смотрел на океан.
Начало операции было назначено на восемнадцать часов. Крылатую машину в третий раз укрепили на баке «У-253», и вся команда была уже на борту. Броуз сидел на своих нарах в спальном помещении и рассовывал по карманам фотокарточки жены и родных. Потом снова вынул их и порвал. Подняв брови, глядел на рассыпанные по полу клочки бумаги. Глядел и ни о чем не думал. В голове у него была мерцающая пустота. Оторвав глаза от клочков, он увидел матроса, которого, по его словам, послал за Броузом адмирал.
Броуз шел за этим матросом по оштукатуренным коридорам; они казались такими же бесконечными, как в его сне. Просто невероятно, что они все-таки добрались до адмиральского кабинета. Адмирал сидел за письменным столом.
— Садись, Броуз.
Броуз сел и не без удивления подумал: значит, я существую в природе, на земле. Адмирал молчал больше минуты, уставясь Броузу в кадык.
— Через несколько дней, — заговорил он наконец, — война прекратится. Другие люди выяснили, что Зверюга собирается в поездку, установили, по какому маршруту и на каком судне. Десятки разведчиков занимались этим в течение многих месяцев, рискуя жизнью. А их работа немыслима без всего нашего разведывательного аппарата в целом, он же в свою очередь немыслим без нашего правительства. В конечном итоге уничтожение Зверюги — заслуга всего нашего многострадального народа. Но центральное место займешь ты, Броуз.
Нет, подумал Броуз, не я, а приказ, который я получил. Он поправился: но это моя собственная воля — и стал слушать дальше.
— Один из разведчиков погиб, — сказал адмирал, — но в его гибели нет ничего особенного. Он мог бы и спастись. Это была лотерея. Для всех нас это лотерея, кроме тебя. Ты единственный, кто знает заранее, что его гибель
неизбежна.
Да, подумал Броуз, и что же из этого следует?
— И потому ты погибнешь совсем другой смертью — не смертью героя, ведь ты идешь на нее не добровольно, но смертью непреложной, как закон природы. — Адмирал щелчком отбросил монокль и продолжал: — Через месяц все мы вернемся домой. Кроме тебя. У большинства из нас где-нибудь еще остался хоть кто-то из родных или друзей. У меня, например, вся семья цела и невредима; я богат, а богатые эвакуируются из городов, где погибают семьи таких, как ты. Но даже и тот, кто потерял всех, скоро найдет себе жену и наплодит детей. Пойми меня правильно, Броуз. Через несколько лет, если не раньше, все мы, в сущности, забудем эту войну. Наша скала превратится в сказочный курорт для миллионеров. Я сам разработал его проект, и он уже утвержден. Утверждены и другие проекты: во всех частях света уже проектируют следующую войну, и, когда она начнется, лет эдак через двадцать, теперешняя окажется совершенно бессмысленной, и наша победа, и смерть Зверюги тоже. А в промежутке между двумя войнами все мы будем снова спать с женщинами, устраивать празднества, напиваться, наживать деньги, покупать автомобили и ездить на курорты.
Адмирал посмотрел ему в глаза и слегка прищурился.
— Но, вспомнив о тебе, Броуз, — это будет случаться очень редко, — мы словно бы заглянем в иной мир, и мурашки побегут у нас по спине. Железный, ты будешь выситься за пределами всего человеческого во веки веков. Я сделал тебя вечным воплощением войны, ибо ничего другого тебе не дано. И мы остановим свои роскошные автомашины у обочины и целую минуту будем не в силах ехать дальше. Будет блестеть асфальт, и ветер принесет лесную свежесть — но где-то будешь существовать ты, железный, ты будешь во всех ароматах земли, в дуновении ветра, за лесами…
Битком набитая людьми, взрывчаткой, навигационными приборами и военными донесениями, «У-253» шла на глубине пятнадцати футов к тому району, где пролегал курс Зверюги. Хотя никто не знал о его повышении, Броуз поел за офицерским столом. Отвального ужина не устраивали — дали то, что всегда. За исключением одного офицера с базы, кругом были незнакомые люди — посланцы родины с замкнутыми лицами, на которых ничего нельзя было прочесть. Говорили мало. Повсюду стояли лицом к стене матросы: они следили за показаниями приборов, вмонтированных среди труб и проводов — нервов и кровеносных сосудов трепещущего тела подводной лодки.
В девять часов он выпил чашку кофе, уронил голову на стол и заснул. Врач пощупал у него пульс и велел отнести его в кубрик.
Зверюга приближалась, следуя своим курсом, а наперерез ей двигался Броуз, спящий бездонным сном на глубине пяти метров под водой, в коконе из железа.
В четыре часа утра он проснулся. Перед ним стоял офицер с базы.
Броуз, изумленный, сел в постели. Так он существует! На спинке стула висел его кожаный костюм. Пока он одевался, офицер сидел, обхватив голову руками.
Броуз надел брюки, и вера в то, что он существует, покинула его. Нет, должно быть, это игра воображения. Такого рода сомнения приходили ему в голову и раньше, но теперь он знал наверняка.
Другие существуют, а он — нет. Еще тогда, когда отец читал отрывки из «Одиссеи» — а в это время уже лежали наготове семиствольные минометы и глубинные бомбы, — у него было чувство, что он не существует: наверное, где-то есть совсем другой мир, там он родился, и был бы на своем месте, и мог бы существовать реально, но он заблудился, сбился с пути, и не может вернуться домой, и теперь существует только как промежуточная форма, как переход, как игра воображения в пустоте между двумя мирами…
Вместе с офицером он пошел к капитану, чужому человеку, посланному родиной. Ему показали на карте точку в океане, где они сейчас находились, показали предполагаемое местонахождение Зверюги и еще раз — курс, которым должен будет плыть он, когда настанет время. «У-253» будет транспортировать его вместе с его машиной до девяти часов утра, но тогда они уже войдут в радиус действия самой внешней цепи сторожевых судов и потому не смогут всплыть на поверхность. Лишних слов не говорилось, все по делу. Матросы помогли ему облачиться в костюм с измерительными приборами, а лодка тем временем начала всплытие. Броуз смотрел на капитана. Капитан курил и смотрел на один из счетчиков. Он был деталью подводной лодки. В то мгновение, когда железный трап поднялся над водой, Броуз отдал честь и повернулся кругом.
«У-253» бесшумно скользила сквозь мрак на поверхности, овеваемая теплым ветром. Тьма тихо плескала в корпус. Несколько матросов побежали по мокрой палубе на нос и открыли машину. Поспешно помогли Бррузу влезть, надели на него хобот кислородной маски, но, прежде чем они успели опустить колпак, офицер с базы, который тоже вышел на палубу, бросился жать Броузу руки, задыхаясь, бормотал невразумительные слова, фразы и, почти невидимый в ночи, то склонял, то вскидывал голову; он лепетал, задыхался, плакал, а Броуз кивал ему и ответ и тоже плакал, и слезы затекали ему в открытый рот…
Когда туман у него в голове рассеялся, все было пусто, над ним был колпак, а позади него стальное чудище задраивало свой люк. Внезапно он ощутил всю беспредельность окружающей ночи — беспредельность мира, где его нет. Кругом все пошло вверх, вода ритмично зашлепала в колпак, а потом накрыла его, и в этот миг в наступившей тишине Броуз вдруг осознал, что человек — это космический зверь, рождающий богов и борющийся с ними, претворяющий свой разум в машины. С головой в колпаке, уже глубоко под водой, он
застучал зубами, ужасаясь неизмеримости чуда, которое вдруг предстало ему.
Он увидел, как человек явился из космоса на тихую землю, неся с собой беспокойство мыслей и слов. Молнией промелькнула перед ним вся история человека: вот он живет среди лесов, посылая к небу таинственные сигналы, разводя костры, вот мало-помалу из человеческого мозга выступают слова — фантомы, которые медленно заполоняют землю, обернувшись машинами, обернувшись заводами, электростанциями, которым несть числа, и все они таинственным, непостижимым образом продолжают человеческое тело: мысль обратила ноги человека в колеса, а руки в корабли, самолеты и пушки, а кожу — в каски и блиндажи, сердце — в электричество, а уши и глаза — в радары и телескопы. Единое человеческое тело из стали, оно изрыгает дым, вращается, сыплет искрами, оно распростерлось по всей земле, и вторглось внутрь земли и под воду, и кружится в воздухе, и его же слова падают на него дождем бомб и огня…
С раскрытым ртом, скользя глубоко в черной толще воды, Броуз прозревал усовершенствованного человека: широко расставив ноги, обратясь лицом на восток, вставало разлагающееся чудовище с глазами волка и руками Христа, взор его был устремлен в космос, а под черепной коробкой — географическая карта, и самого человека не видно под оружием и орудиями пыток, которыми он утверждает свою веру; усовершенствованный человек — ревущий огненный столп, бог костров инквизиции.
— Сейчас восемь часов сорок девять минут двенадцать секунд. Мы находимся на рубеже первой защитной зоны каравана. Центр каравана приблизительно в девяти милях. Караван движется со скоростью пятнадцать узлов в направлении на северо-северо-восток. В воздухе большое количество самолетов. Ваши координаты…
Оцепенев, Броуз слушал голос в наушниках. Жесткий и сухой голос капитана. Ноги у Броуза были словно из синего прозрачного льда.
— Через сто двадцать секунд начинаем разворот. Отделяйтесь от нас через шестьдесят секунд. Вы меня поняли?
Броуз хрипло сказал:
— Так точно.
— Сейчас восемь часов пятьдесят минут четыре секунды.
Броуз задрожал и уставился на приборы, напряженно прислушиваясь, не скажут ли еще чего-нибудь в наушники. Внизу металл слабо звякнул о металл. Сейчас провод перережут, а рации ему не дали, это было бы слишком опасно. Послышались шаги. Металл продолжал слабо ударяться о металл.
— Отделяйтесь через десять секунд.
Вдруг он услышал беготню и крики, сумятицу звуков, как при драке. Он поставил ногу на стартер и, не сводя глаз с хронометра, напряженно вслушивался.
— А! Пустите… Нет… Броуз!
Шум борьбы, стон — это был офицер с базы, он протестовал, хотел все отменить, исправить мир…
— Ха-ха, о-ля-ля! — закричал Броуз, пнул ногой стартер, вибрация охватила его, а через мгновение в ушах его стояла такая тишина, будто вся солнечная система провалилась в тартарары.
Он погрузился на глубину ста пятидесяти футов и подумал: я могу вернуться и взорвать «У-253». Но капитан, видимо, предусмотрел такую возможность. Подводная лодка уходила зигзагами, извиваясь ужом в безграничном водном пространстве, — капитан спасал не себя, а свое судно, то есть все-таки себя. Броузу ни за что не догнать его.
Но Броуз и не думал его догонять. Не спуская глаз с приборов, он летел вперед сквозь толщу воды. Вода посветлела, стала нежно-голубой, и в ней кишели мелкие рыбешки. На его руках, сжимавших руль, побелели суставы. Проходила минута за минутой, а он мчался к цели. Он не существовал. Он был плодом воображения адмирала, и — в ином обличье — плодом воображения капитана, и уже в третьем обличье жил в воображении офицера с базы. Через четверть часа он на какую-то долю секунды возникнет в воображении Зверюги в виде раскалывающегося железа, огня и смерти. Ничто иное для человека и недоступно. Никто не существует иным образом, кроме как в виде тысячи разных, отрицающих друг друга фантомов в воображении других фантомов — фата-моргана, мираж в пустыне. Броуз тяжело дышал, глаза, следящие за приборами, расширились. Человек выражает себя в словах, хватается за рычаг управления и, подобно божеству, летит по воздуху или по воде, думал Броуз. Глаза у него вылезали из орбит. Эта машина —
его тело. Теперь он сам из железа. Своим телом он протаранит дымящееся тело Зверюги. Фантом человеческой души не вмещался в воображение мешка плоти и крови. Душа стала искать себе более просторные обиталища. В начале было слово, и слово превратилось в машину. Однажды где-нибудь в порядке и чистоте лаборатории электронный мозг вдруг выдаст перфокарту, ниспосланную во спасение человечества, и люди узнают о том, что у них теперь новое тело, и все и вся преклонят колена перед deus ex machina
[15].
В голове у Броуза фосфоресцировало. Все чаще наверху мелькали туманные, темные пятна, нависали над ним, как грозовые тучи. Он по возможности обходил их, чтобы они не засекли его гидролокаторами. Но и тогда они примут его за неведомую шуструю морскую тварь — это его-то, с его железным телом, с взрывной силой, достаточной, чтобы смести с лица земли одну из мировых столиц. Вдруг перед его глазами зарябил серебряный дождь, и рыбки забарабанили в колпак. Когда он выбрался из косяка, темных пятен стало заметно больше и в воде слышался глухой перестук.
Я нахожусь под самым караваном, подумал Броуз. Они ни о чем не догадываются. Караван — огромное водоплавающее животное, части его тела соединены невидимыми радионервами. Самолет, идущий на посадку, поезд, послушно замирающий перед стрелкой, судно с экипажем — все это существа более высокого биологического порядка, чем человек. Учреждение, церковь, где все поют хором, работающий завод, кинотеатр, где всем зрителям смешно, — это организмы с формами сознаний недоступными сознанию одного человека, так же как отдельные клетки человеческого организма ничего не знают о том индивидууме, которого они составляют, вместе взятые. Броуз судорожно думал; он думал, чтобы не думать. Города, государства, континенты…
Он словно бы увидел эти сознания, одно на другом, как перевернутая пирамида — чем выше, тем шире и туманное, и наконец все исчезает во мраке, окончательном мраке. Он подумал: вся земли станет единым телом с единым сознанием, а потом вся Солнечная система, потом Млечный Путь, а через миллиарды лет все галактики вселенной — необозримая картина, рожденная затравленной бесприютной человеческой душой, — а потом, как знать, и другие вселенные… те миры, где он был бы дома, был бы на своем месте…
Можно ли назвать это словом «думал»? Его мозг работал, как, бывало, его электрическая бритва, включенная в сеть с чересчур высоким напряжением. Он огляделся. Грозные колышущиеся тени заполонили весь обзор. Вода оглушительно клокотала. Было девять часов четыре минуты. Он проделал восемь миль. Через полминуты над ним все вдруг снова стало зелено, и пусто, и тихо. Броуз испуганно глянул на свои приборы. Он ли сбился с курса, или вражеская флотилия изменила направление? Мимо промелькнула мертвенно-белая рыба — призрак рыбы. Через пятьсот метров над ним вдруг снова повисло расплывчатое облачко. На предельной скорости он прошмыгнул под ним и снова натолкнулся на конвой. Он переложил руль, круто развернулся и сбавил скорость.
Он находился в центре циклопа. То маленькое облачко несло самое Зверюгу, окруженную покоем и простором. Зверюгу со всей ее кликой. В низу живота у Броуза словно возник электрический разряд — так бывало с ним, когда он думал о женщине, которую желал. Потом он увидел, как в тридцати метрах над ним, но тем не менее на глубине двадцати метров, медленно возникло огромное железное привидение. Его тело среагировало раньше, чем разум, — но успев подумать, он уже вертикальным штопором на предельной скорости уходил в глубину. Вода была в двадцати сантиметрах от его головы. Он чувствовал, как быстро растет давление: воспринимал это особым органом чувств — танцующей стрелкой, которая светилась все ярче по мере того, как вокруг сгущался мрак. Колпак — он же его черепная коробка — мог выдержать давление в тринадцать атмосфер; когда стрелка коснется красной черты, наступит смерть. На глубине трехсот шестидесяти футов он привел машину в горизонтальное положение, прошел — в ушах у него шумело — несколько сот метров в том направлении, куда двигался караван, затаился и стал выжидать — каждый прибор служил ему дополнительным органом чувств. Свет словно бы проникал через церковный витраж в глубокие сумерки: почти невидимые, но пронизывающие ультрафиолетовые лучи. Подводная лодка больше не появлялась. Глубинные бомбы не взрывались. Его не заметили. Если он будет кружить в этом месте, центр каравана примерно через две минуты снова будет над ним. Надо решить, как действовать.
Но вместо этого он думал: убийца — плод воображения жертвы, а жертва — плод воображения убийцы. И кроме того, пуля, попавшая в цель, есть часть тела убийцы, которая входит в тело жертвы. Всякое убийство — непристойность, интимное объятие, всякий убийца — сексуальный маньяк. Он представил себе жену, изрешеченную пулями, и подумал: убийство — совокупление двух плодов воображения, убийцы и жертвы.
Потом Броузу захотелось посмотреть на Зверюгу. На мгновение он всплывет на поверхность, чтобы увидеть ее стальное тело. И тотчас врежется в него. Ведь Зверюга уже все равно погибла. Пусть его даже обнаружат и расстреляют с дистанции в милю, взрыв будет такой сильный, что флотилия взлетит на воздух, а самолеты посыплются в воду дождем расплавленного алюминия. Если он не сумеет добраться до парохода Зверюги, он бросится на подводную лодку или вообще на первый попавшийся корабль. Это уже не играет роли. Осторожно, подозрительно он начал подниматься, точно глубоководная рыба, решившая в конце концов раз в жизни одним глазком взглянуть на солнце. Стрелка медленно вернулась на место, и солнце снова стало видно в воде. Вибрация двигателя больше не ощущалась; слышал он только, как тихо плещет в колпак вода, бесстрастная стихия, движимая луной. Над ним стала вырисовываться маленькая тень, одна-единственная. Это был пароход Зверюги. Броуз всплывал, пропуская пароход мимо себя. С легким щелчком прекратился шум у него в ушах. Подводная лодка исчезла, и следа ее — клокочущей воды — не было видно. Броуза стала бить дрожь, и он вдруг спиралью ушел на глубину пятнадцати футов. Снова кругом была бледно-зеленая прозрачность, стеклянный шар. Он определил по хронометру, когда будет находиться точно посередине между пароходом и конвоем. Возможно, какой-нибудь корабль или самолет немедленно откроет по нему огонь и тем самым уничтожит и Зверюгу, и свой собственный флот. Он медленно поднялся на уровень шести футов, потом трех футов — и вдруг выпрыгнул, выставив колпак над водой.
Он вскрикнул. В океане света от горизонта до горизонта лежал конвой. Море бороздили сотни серебристо-серых броненосцев и линейных кораблей, они глубоко сидели в воде, и антенны радаров придавали им фантастический вид; а между ними бесчисленные легкие крейсеры, флагманы, торпедные катера, эскадренные миноносцы, минные тральщики, корветы, канонерки, фрегаты, все они весело дымили и гудели, — необозримый город на сверкающей воде, а над ним голубое рокочущее небо, кишащее самолетами: они кувыркаются, играют, то садятся на посадочные площадки авианосцев, то поднимаются вновь. Белоснежный гидроплан, вздымая пену, опустился меж кораблей, а низко над ним пролетел истребитель; на большой высоте чертили по небу круги и пентаграммы тяжелые бомбардировщики. Секунды проходили, а Броуз сидел не шелохнувшись и не мог наглядеться. Огромное тело Зверюги! А черный пароход с густым дымным плюмажем посреди пустого пространства — сердце Зверюги — был разукрашен флажками и полон веселой музыки. Да, там играла духовая музыка, она, замирая, разносилась над морем. Броуз, всхлипнув, вцепился в руль и начал погружение. На миг безудержный праздник раздвоился у него перед глазами, над головой забурлила пена, и вода сомкнулась над ним. Он видел солнце в последний раз. И это оказалось не страшнее, чем знать, что никогда больше не увидишь какой-то камешек в чужой стране.
Под водой до Броуза дошло, что он еще жив. Что же случилось? Его не могли не заметить, кварцевый колпак, уж наверное, сверкал на солнце, как бриллиант. Может, охрана до того заработалась, что приняла его машину за свою собственную? Наверное, никому не могло прийти в голову, что враг сумел проникнуть так далеко. А может, здесь, в центре, всем было слишком весело, чтобы быть бдительными.
Он поплыл с такой же скоростью, что и караван, будто он принадлежал к нему смертоносная бацилла в крепком, как железо, теле. Ему нечего было бояться. Он поднял перископ и навел его на пароход Зверюги. Пароход, разукрашенный флажками, шел в трехстах метрах впереди него. Броуз взглянул на свои приборы. Горючего у него оставалось больше чем на три часа, но кислорода не хватит и на два. Слишком он много задыхался, плакал и кричал.
Так двигался он вместе с караваном, в голове у него повторялся флот, гармонически упорядоченный рой загадок, мир, быть может, полный указующих перстов и устремленных на него глаз, а в перископе — блистающая картинка: сердце каравана, увенчанное дымным плюмажем, но музыка не слышна.
И вдруг на него напала икота, как некогда на одного папу римского напала икота от двухтысячелетнего христианства. Это была какая-то особенно зловредная икота, исходившая из самой глубины его нутра, он икал каждые три секунды, и всякий раз, как он икал в свой кислородный аппарат, машина делала скачок — что-то разладилось в двигателе, и пароходик то выпрыгивал из поля зрения, то, дрожа, возвращался на место. Он задерживал дыхание, глотал, менял позу, напрягал мышцы живота, но икота продолжалась с регулярностью хода часов. Он истерично вцепился пальцами в руль, с ужасом чувствуя, как икота исподволь разрушает его личность — кирпичик за кирпичиком, винтик за винтиком, — и этот ужас довершил разрушение. Столбом белого дыма поднялся в нем страх. Он дрожащей рукой убрал перископ и дал полный газ. Океан вокруг забурлил. Вот сейчас, сейчас! Перед ним лежали последние метры его жизни. В воде снова тихо звучал перестук парохода, вдалеке обозначилась его тень, перестук становился громче, и наконец из него материализовался пароход. Вот он над ним, вот его киль с беспомощно роющим воду винтом. Черный и грохочущий, он нависал над Броузом. Броуз икнул до судороги — смерть Зверюге! — увидел порванный шнурок ботинка, угол балкона своего сожженного дома, пробор в волосах отца и, подавляя тошноту, дернул на себя руль. С ревом повернулись ржавые, обросшие раковинами лопасти, пароход скользнул над ним, и наступила тишина.
Икая и плача, Броуз пришел в себя и осознал тишину. Он автоматически повернул машину и растерянно попытался проникнуть в самого себя. В последнюю минуту он ушел на глубину. Почему же, почему? Теперь флот должен был уже взлететь на воздух, и война должна была закончиться. Почему он ушел на глубину? Не потому, что он не может умереть — он может умереть! — но все вдруг стало немыслимо. Если не смерть героя — то смерть немыслима.
Он не мог умереть. Он икал, его чуть не вырвало, он поднял перископ и поискал Зверюгу. Нашел и сразу же кинулся на нее.
Когда он еще раз прошел под пароходом, он уже был развалиной. Смерть Зверюге! Рот его наполнился блевотиной, она хлынула в кислородный аппарат. Все это глупости! Его воля — адмирал с моноклем, и он остался один на белом свете! Он нашел пароход, убрал перископ и ринулся сквозь воду, в отчаянии бормоча:
— Andra moi énnepê, Móesa, polúlropon hós mala pólla
Plánchtê epéi Troïés niërón ptoliëtron epèrsen…
Так Броуз кидался под водой на Зверюгу, раз за разом, то с одной, то с другой стороны, то спереди, то сзади, кидался на неуязвимую Зверюгу, которая под веселую духовую музыку следовала своим путем — к себе на родину.
В конце концов — тогда он давно уже потерял из виду караван и неистово и бессмысленно метался на большой глубине — перед глазами у него почернело, он упал головой вперед и выпустил руль, у него больше не было кислорода, чтобы икать, и долгие часы он медленно скользил в глубину со своей машиной, слегка поворачиваясь вокруг своей оси и кивая колпаком, как задумчивая рыба; колпак был слегка продавлен, а в конце пути он почти незаметно остановился в мягком чернильном мире среди светящихся чудищ, вымерших миллионы лет назад. И там его машина вместе с ним вяло и сонно зарылась в песок.
Но раз в несколько столетий в ночь вторгается тихое парение и жужжание, мираж — это он сам, сознание, что он существует, безграничное удивление: Бернард Броуз… Бернард Броуз…
Ремко Камперт
Перевод А. Орлова
ПОЕЗДКА В ЗВОЛЛЕ
Когда Петеру Гимбергу почти исполнилось тринадцать лет, в самом конце летних каникул его на денек отпустили с отцом в Зволле. Петер Гимберг жил с матерью в Гааге. Отец ушел от матери, когда Петеру было шесть лет, и жил в Антверпене; Петер видел его редко. В Зволле Петеру не очень хотелось, лучше бы отец взял его на несколько дней в Антверпен, но отказаться от поездки было трудно. Не только потому, что у него пока нос не дорос отказываться от предложений взрослых. А еще и потому, что из отцовского письма, адресованного матери (Петер тайком прочел его), было ясно, какие большие надежды возлагал господин Гимберг на эту поездку, считая ее приятным сюрпризом для сына.
Правда, в приглашении было и кое-что заманчивое. Прежде всего заночуют они в гостинице, а это рождало в душе Петера восхитительное сознание, что он вполне взрослый человек, ведь рядом не будет матери с ее вечной опекой, напоминающей ему об истинном его возрасте. Непродолжительность посещения Зволле также подкрепляла ощущение взрослости; у взрослых никогда нет времени для того, чтобы надолго задерживаться в одном месте, их пребывание везде и повсюду обусловлено необходимостью, в противном случае все их дела пойдут прахом. К тому же у его отца, помогающего снабжать голландцев бельгийским пивом и по своим пивным делам бывающего в Зволле, новейшая модель «студебекера», а так как у большинства друзей Петера отцы не поднялись выше «фольксвагена», это тоже стало одной из приятных сторон предстоящей поездки. Пускай его родители разошлись, зато отец живет за границей и ездит на дорогой машине, он не раз бывал в Париже и присылал оттуда Петеру цветные открытки, открытки с Эйфелевой башней, с видами Сены и со всякими другими видами.
Он горячо надеялся, что кто-нибудь непременно заметит его вместе с отцом в «студебекере», и случай — этот фокусник, чья прямо-таки пугающая ловкость заставляет нас порой забыть о главном его назначении: удивлять и развлекать детей, — был к нему благосклонен и извлек из его ноздри золотой, то есть поместил его дружка Вима Энкелаара, отец которого не поднялся выше мопеда, на тротуаре возле перекрестка, не далее двух метров от бледно-розового «студебекера», чуть слышно ворчавшего в ожидании зеленого света.
Петер постучал по стеклу, но Вим, болван, его не услышал. Лишь в самый последний момент, когда транспорт на другой улице остановился, Вим взглянул на «студебекер» (теперь золотой был вынут из уха Петера!), и Петер мог с большим удовольствием проследить все изменения Вимова лица: сначала он его не узнал, затем не поверил своим глазам и, наконец (уже загорелся зеленый свет, и машина тронулась с места), позавидовал.
Когда они выехали из Гааги на автостраду, путешествие стало менее увлекательным. Отвыкнув друг от друга, и отец, и сын испытывали неловкость и никак не могли придумать тему для разговора. Плоский зеленый пейзаж с неизменными коровами, пасущимися на скошенных лугах по обе стороны шоссе, вскоре наскучил Петеру; его раздражало, что их все время обгоняли другие, не столь шикарные автомобили, так как отец ехал медленно и осторожно, но сказать об этом он не решался. Один раз он попытался было, но ничего не вышло. Отец просто-напросто ответил:
— Эта скорость больше той, которая безопасна для нас.
Они съели бутерброды и банан, полученные в дорогу от матери, и не увидели ни одной аварии.
Когда они подъезжали к Апелдорну, стало пасмурно и начался дождь.
— Жаль, — сказал господин Гимберг, — здесь есть неплохой парк с аттракционами, но теперь идти туда нет смысла.
Это замечание Петеру не понравилось, поскольку означало, что отец, так же как мать, продолжает считать его ребенком. Он включил радио: по первой программе мужской голос исполнял (о мучительное совпадение!) песню под названием «Вместе съезжаем с горы».
Между Апелдорном и Зволле, возле деревни Эпе, господин Гимберг вдруг притормозил и свернул в сторону от шоссе.
— Сюрприз, — сказал он.
Он захотел показать Петеру дом, где семья Гимберг — тогда еще молодая и, несмотря на материальные трудности, счастливая и дружная — в последнюю зиму оккупации отметила радостное событие: рождение сына Петера. За деревней асфальт сменился брусчаткой, которая через несколько минут с облегчением уступила место ухабистому проселку. Сосны по обе стороны от дороги иногда отступали назад и создавали живописный, но из-за непрерывного дождя все-таки скорее печальный фон для жилищ, получивших у маклеров прозвище «веселенькие виллы», то есть для угрюмых домов, нижняя часть которых была сложена из камня, а верхняя — из потемневших от времени бревен.
У одного из домов машина остановилась. Отец опустил боковое стекло и поглядел на дом.
— «Летние радости», — сказал он, и действительно это название было написано закругленными белыми буквами на большом сером валуне у ограды. — «Летние радости», — повторил господин Гимберг, и что-то в его голосе заставило Петера почувствовать себя потерянным, словно он вдруг заблудился и некому было показать дорогу.
Немного погодя это чувство сменилось смущением, до того сильным, что Петер почти утратил способность видеть. Он стоял вместе с отцом в комнате «Летних радостей», которую отделяла от улицы лишь наружная дверь, а напротив стояла испуганная девочка — красивей ему не приходилось видеть даже в кино. Она напомнила Петеру принцесс из тех сказок, которые мать читала вслух, когда он был совсем маленьким. Сказки были с картинками, и принцессы на этих картинках всегда казались ему скучными, капризными существами, когда же он увидел одну из принцесс воочию, он понял, что очень ошибался. И даже если б он не ошибался, если б она тоже была скучной и капризной (что казалось ему невероятным), все равно красота ее подчинила бы себе недостатки — так солнце заставляет одинаково ярко блестеть здания тюрем и детские площадки, узкие переулки и пригородные виллы.
— Твоих родителей нет дома? — услышал он вопрос отца, и девочка, бывшая, видимо, постарше Петера (может быть, на год), шагнула назад и произнесла:
— Да, менеер.
«Мы не воры, не разбойники», — хотел сказать ей Петер, но язык его не слушался, отец же тем временем объяснял девочке, что раньше, много лет назад, жил в этом доме и что Петер (который, покраснев и ненавидя себя за это, рассматривал носки ботинок) родился здесь, в комнатке наверху.
Они поднялись по лестнице. Девочка нерешительно последовала за ними, и Петер, шедший позади отца, проклинал правило, по которому женщин не следовало пропускать на лестницах вперед. Ведь он чувствовал, в этом случае как раз следовало пропустить девочку вперед, потому что дом был ее, а они с отцом ворвались в него, хотя и по уважительной причине. Когда же вдобавок оказалось, что комнатка, в которой Петер (при шипении и ярком свете карбидной лампы) родился, была теперь комнаткой девочки, ему стало и вовсе не по себе. Он надеялся, что девочка поймет, что он не мог поступить иначе, что беспокойство ей причинил отец, а он, Петер, совсем не похож на своего живущего в Бельгии отца и видится с ним не чаще трех раз в год, что сам он нипочем бы такого не сделал, что он никогда (но об этом последнем обещании он вспомнил лишь много лет спустя) не войдет в сегодняшнюю жизнь совершенно незнакомых людей, чтобы еще раз ощутить под ногами полы́ им же самим разрушенного прошлого.
— Кран до сих пор плохо закрывается? — спросил господин Гимберг, и девочка, удивленно подняв брови, поглядела на умывальник, словно видя его впервые, а затем, не зная точно, это ли им от нее нужно, подошла к умывальнику, повернула кран, пустила струю воды, снова плотно завернула кран и тихо ответила:
— Нет, менеер.
Но это видел и слышал один только Петер, потому что отец открыл окно, высунулся, несмотря на дождь, наружу и сказал минуту спустя:
— Вот первое, что ты увидел, Петер, а когда я стоял с тобой у окна и показывал тебе сад, по засыпанной снегом тропинке прошли два немецких солдата, но у меня было удостоверение личности и, кроме того, уже несколько часов у меня был ты, а ты ведь знаешь, что такое немцы и дети. Впрочем, нет, ты этого, конечно, не знаешь.
Но Петер не слушал отца. С трудом подавляя смущение, он смотрел на девочку, водившую указательным пальцем по крану. Он проследил ее взгляд и, ощутив сладкий ужас, обнаружил, что отражение ее глаз наблюдает за ним. Отец повернулся, вздохнул, поглядел на часы и сказал:
— Пойдем, нам надо ехать дальше.
Остаток пути до Зволле они проехали быстро, только Петер даже не заметил этого. И номер в респектабельной гостинице (запах пыльных ковров и камфары, высохшая земля под темно-зелеными папоротниками в холле) не вызвал у него того радостного возбуждения, на какое он рассчитывал перед началом путешествия. В номере стояли две кровати, двухспальная, которую занял отец, и диван-кровать, предназначенный Петеру. Помимо этого, там был высокий коричневый шкаф с зеркалом, два простых стула и маленький узкий стол у окна, выходившего в уютный сад, где на белом гравии блестели мокрые от дождя оранжевые скамейки. Вдалеке, за серыми крышами низких домов, между двумя деревьями Петер заметил часы на башне собора. Десять минут третьего.
Господин Гимберг умылся, надел свежую рубашку и договорился с Петером о встрече в номере в половине шестого, чтобы вместе поужинать и, может быть, пойти в кино, пусть Петер пока выяснит, идет ли здесь что-нибудь приличное — например, музыкальный фильм или вроде того.
— Держи, — сказал господин Гимберг, — мельче денег у меня нет, но ты все не трать, слышишь! — и дал сыну бумажку в десять гульденов.
Когда он ушел, Петер подошел к окну и посмотрел наружу. Дождь уже почти перестал. Белые облака, словно сжатые кулаки, плыли в воздухе, но между ними и над ними небо было блекло-голубым, как застиранные шорты. На оранжевую скамейку опустился скворец и начал чистить перышки.
Он шагал по улицам Зволле и думал о девочке. Они снова стояли в комнате и глядели друг на друга в зеркало. «Мне жаль, что мой отец такой бестактный», — сказал он. На заднем плане смутный контур отца почти растаял. Девочка улыбнулась. «Ты одна?» — спросил Петер. Она кивнула. «Я тоже один, — сказал он. — Мой отец сидит в антверпенской тюрьме, а мать похоронена на кладбище в Гааге». Он ехал вместе с девочкой в «студебекере», и они обгоняли все машины, а глаза их непрерывно встречались в зеркальце.
Он прошел мимо кафетерия, но, хотя был голоден, не решился туда войти, потому что возле дверей, лениво опираясь на свои блестящие мопеды, стояли здоровенные подростки, молча провожавшие его презрительными взглядами. А когда через некоторое время он хотел было зайти в бакалейную лавку, чтобы купить плитку шоколада, то вдруг сообразил, что и сюда ему нельзя, ведь у него одна-единственная бумажка в десять гульденов, полученная от отца, а бакалейщик может подумать: откуда у мальчика столько денег? — и вызвать полицию. Он побрел дальше, полюбовался афишами маленького кинотеатра, где шел фильм со Стеном Лоурелом и Оливером Гарди, который он уже смотрел в Гааге. Зато в следующем кинотеатре демонстрировалась музыкальная кинокомедия, и он запомнил название кинотеатра для сегодняшнего вечера.
На стоянке возле большого кафе он увидел роскошную машину с красными цифрами на белом номерном знаке; это была машина отца. Петер перебежал на другую сторону улицы, потому что отец занимался делами и едва ли хотел его видеть. А когда он почти бегом свернул за угол, перед ним оказался городской вокзал, и он чуть не заревел от досады и злости на себя за так бездарно проведенный в Зволле день, хотя он мог бы (теперь, правда, почти в половине пятого, было слишком поздно) сесть на поезд, идущий в Эпе, чтобы еще раз повидать девочку.
Он вернулся в гостиницу и, сев на край своей кровати, стал разглядывать себя в зеркале. Он увидел маленького, тощего мальчишку в слишком широких брюках (это были первые его длинные брюки) и слишком короткой курточке; так, по словам матери, всегда одевались воспитанные английские мальчики. Он закрыл глаза, а девочка проникла под веки, заставив его покраснеть. Небо снова затянулось тучами, дождь вдруг резко забарабанил по стеклу, по всему Зволле вспыхнули уличные фонари — так сразу стало темно, — и отец, пахнущий спиртным, вошел в номер.
Потом, вечером, в конце фильма, когда певец целовал танцовщицу, которую все время преданно любил, из глаз у Петера брызнули слезы. Было уже десять часов, у кинотеатра вокруг нескольких визжащих и хихикающих девиц толпилась большая компания шумных парней, швейцар гостиницы читал взятую в библиотеке книгу, а в номере Петер разделся и получил от отца инструкцию о том, как правильно складывать и вешать на спинку стула свои брюки.
На следующее утро, когда светило солнце и небо было безоблачным, они поехали обратно в Гаагу.
— Поедем через Элбург, — сказал господин Гимберг, натягивая кожаные перчатки. — И остановимся в Хардервейке, чтобы поесть копченого угря.
Пожалуйста, отец, папа, папочка, — как мне лучше тебя назвать — поедем через Эпе, думал Петер, но вслух сказать этого не решился. Поедем через Эпе и посмотрим на комнатку, в которой я вчера родился.
МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
Сегодня у моего сводного брата день рождения. Отец обязательно хочет навестить его, хотя весьма вероятно, что отца там не примут. Мы пойдем пешком, ибо такси отец считает неоправданным расточительством, а трамваев он избегает, с тех пор как вот уже несколько лет двери вагонов открываются и закрываются автоматически.
Едва мы выходим из дому, начинается дождь. Я оставляю отца в крытой галерее и бегу обратно за зонтом. Тетя Бесси уже вынесла его в прихожую. Она пытается всучить мне еще и пару отцовских калош, но я отказываюсь и собираюсь снова выбежать из квартиры, как вдруг звонит телефон.
Это меня: Элли. Сегодня днем она не придет, потому что из Австралии приехал ее дядя и у них намечена целая культурная программа: поездка по каналам, посещение музея, обед в здании порта, — а родители желают взять ее с собой. Пока ты молод, семья относится к числу мелких жизненных неудобств.
Я болтаю с ней и одновременно рассматриваю себя в зеркале, висящем напротив телефона. Мне восемнадцать лет, в прошлом месяце я признан негодным к военной службе. Думаю, я просто показался им нескладным. У меня длинные по моде волосы и жиденькие усики, но они мало подходят к моей прическе, стало быть, я их сбрею. Я хочу быть писателем и надеюсь непременно стать им.
Элли — славная девчонка, на год моложе меня, только она не знает, чего ей надо. Хочет вроде бы сниматься в кино, но у нас тут нет никакого кино, по крайней мере нет того, что я назвал бы кино. Впрочем, она еще ходит в школу. «Когда разделаешься со школой, ступай в театральное училище, — говорю я. — С этого и начни». Она обещала подумать, но говорит, что, на беду, не в силах ничего запомнить наизусть. «Там тебя обучат», — говорю я. Хотя кто знает! «Вот-вот, — говорит она, — придется ведь сдавать вступительный экзамен и шпарить что-нибудь из головы, чтобы показать свои способности». По мне, театральное училище — ерунда. Для мужчины, конечно. Я вижу иногда ребят оттуда — ну точь-в-точь пятнадцатилетние девчонки. Вечно болтают об известных актерах, о том, как бы побольше выпендриться, — даже смешно. Если ты хоть немножко мужчина, лучше стать писателем. Но торопиться я не буду, останусь пока тем же, кем был до сих пор, — никем.
Отца, ясное дело, в помине нет там, где я его оставил, он сидит в кафе на углу. Ему как раз подали вторую кружку пива. Я беру колу, так как он не любит пить один. Когда находится в общество, разумеется. Он всегда начинает день с пива да и кончает его, собственно, нередко тоже пивом. Тогда, по его словам, все течет превосходно. Его старческие щеки уже покраснели. На седых усах — клочья пены. Он пробует шутить с женщиной за стойкой, но она не очень-то на него реагирует.
Когда мы снова выходим на улицу, дождь перестал.
— Дай мне зонт, — говорит отец, — ты не умеешь с ним обращаться. — И начинает помахивать зонтом, как тростью.
Моего сводного брата зовут Паул, сегодня ему исполняется сорок восемь лет. У него не все в порядке с головой. Живет он в отдельной комнате на полном пансионе у госпожи Мурман. Она страдает галлюцинациями или чем-то вроде этого. По ночам она слышит стук в окно и часто разговаривает с маленькой девочкой, которую никто больше не видит. Впрочем, разговором это назвать трудно. Она дает девочке указания: выпей молока, надень ботиночки, убери скорее этот старый хлам и так далее. Она постоянно твердит, что Паул день ото дня становится все ненормальнее, что иной раз прямо страшно войти ночью в его комнату, что для таких, как он, существуют отличные учреждения. Но Паул вовсе не такой уж ненормальный, просто он боится людей. Он никогда или почти никогда не выходит из дому. И не работает, во всяком случае не делает того, что люди считают работой, профессией, службой и тому подобным. Он занимается ерундой: составляет небольшие композиции из марок, отклеенных от конвертов. Настоящие миниатюры, довольно красивые, но если увидишь одну такую композицию, то, по-моему, можно считать, что видел и все остальные. Подарок, который мы с отцом купили ему ко дню рождения, — это большой конверт, а в нем тысяча марок. С гарантией, что одинаковых там нет.
Дверь открывает госпожа Мурман.
— Иди сюда, — говорит она. — На улицу нельзя. — А затем продолжает, обращаясь к нам: — Слишком опасно это для ребенка, из-за такого количества транспорта. Входите же.
— У Паула день рождения, вот мы и пришли, — говорит отец.
— Думаю, он еще спит. Я его пока не слышала. Но сегодня ночью он опять не ложился. Все ходил по комнате. Перестань же наконец, несносный ребенок!
— У девочки начинается трудный возраст, — говорит отец и исчезает в туалете: две кружки пива дают себя знать.
— Как его дела? — спрашивает госпожа Мурман таким тоном, словно он уже при смерти.
— Вполне прилично.
— Хорошо ли о нем сейчас заботятся?
— О да.
С тех пор как умерла мать (моя, а не Паула) — десять лет назад, от рака, — об отце и обо мне заботится тетя Бесси. Пять раз в неделю мы едим рис, потому что она приехала из Индии. «Зовите меня тетей Бесси», — сказала она, едва появившись у нас. Мне-то нетрудно, а вот отцу — еще как. В столь почтенном возрасте уже нет смысла называть кого-то тетей. Обычно, обращаясь к ней, он говорит «госпожа Вассиг» и тут же поправляется: «Барышня». У нее легкий немецкий акцент, но она уверяет, что родом из Австрии, это якобы большая разница. Госпожа Мурман никогда ее не видела, но ни на грош ей не доверяет. Сводный брат живет в ее доме лет двадцать, и мне кажется, она вовсе не прочь иметь возле себя и отца. Насчет отличных учреждений для Паула она говорит, просто желая услышать от нас, что Паул нигде не получит такого прекрасного ухода, к какому привык у нее. А услышав это, кивает головой и отвечает: «Да, лучше, чем здесь, ему нигде не будет». Не дожидаясь отца, мы поднимаемся по лестнице. Госпожа Мурман стучит в дверь. Стучит раз, другой и открывает. В комнате кромешная тьма.
— Он еще спит, — говорит госпожа Мурман. — И это в день рождения, как он только может.
Она входит в комнату и поднимает шторы. Сзади слышно, как отец, потихоньку кряхтя, идет по лестнице.
Кровать в комнате пуста, но видно, что на ней спали.
— Ничего не понимаю, — говорит госпожа Мурман. — Я ведь не слышала, чтобы он ушел.
— Он не мог уйти далеко, — говорю я и указываю на одежду Паула, висящую на стуле возле кровати. И тотчас вижу самого Паула. Во всяком случае, вижу его голые ноги. Они торчат из-под кровати. И чуть заметно двигаются. Он наверняка услыхал, что мы пришли, и залез под кровать. Я молчу.
— А где же Паул? — Отец стоит в проеме двери, прижимая к животу большой конверт с марками.
— Его нет, — отвечаю я.
Я встаю возле кровати так, чтобы они не увидали его ноги. Впрочем, опасность и без того невелика — они оба близоруки, — но мало ли что.
— Ничего не понимаю, — говорит госпожа Мурман, на этот раз отцу. — Я не слышала, чтобы он ушел. — Она подходит к кровати и щупает белье. — Постель еще теплая.
— Странно, — говорю я.
— Он, наверное, в одном месте, — предполагает госпожа Мурман:
— Я только что оттуда, — говорит отец, — я бы его увидел.
— Заходи, отец, и садись, — говорю я. — Он явно вышел на улицу, может быть, за чем-нибудь вкусным.
— Он никогда не выходит на улицу, — говорит госпожа Мурман.
Отец, помедлив, входит в комнату и садится на мягкий стул, не выпуская из рук конверт с марками.
— Да, — говорит он, — лучше подождем здесь.
— Ничего не понимаю, — опять говорит госпожа Мурман.
— Да вы идите, — говорю я, — у вас, наверное, есть другие дела. А мы пока подождем.
— Ничего не трогай, — говорит госпожа Мурман, — упрямый ребенок! — И выходит из комнаты. — Если захотите кофе, позовите, я мигом сварю.
Ей никто не отвечает. Я украдкой оглядываюсь: ноги Паула исчезли. Тогда я сажусь на кровать, напротив отца.
— Ты, надеюсь, не заснешь, отец?
— Нет-нет, что это ты выдумал, сынок?
Паул лежит подо мной, мне кажется, я слышу его дыхание, но скорое всего, это плод моего воображения. Сегодня ему сорок восемь, и наш визит ему совсем не нужен, это я вполне могу понять. Дни рождения ужасны, визиты родственников — тоже не сахар, а сочетание этих двух событий можно пережить лишь с большим трудом.
Вероятно, есть и еще одна причина, но она связана с его больной душой — так это у них называется, — и мне ее не узнать.
— Отец, ты спишь.
— Я не сплю, я думаю, сынок.
— Ты кое-что забыл.
— Забыл?
— Когда вышел из туалета.
— Когда вышел из туалета?
— Я имею в виду расстегнутые брюки, отец.
Надо же! Он выпускает из рук конверт и начинает застегивать брюки. Конверт падает на пол. Я поднимаю его и кладу на стол. Стол стоит возле окна, заваленный марками и обрезками марок. Кроме того, я вижу там ножницы, пинцет, лупу, баночку с клеем и лист бумаги с почти готовой композицией в серых, голубых и желтых тонах.
Я смотрю в окно. Снова идет дождь, на улице ни души, но эта улица и в хорошую погоду очень тихая. Как человек выдерживает здесь год за годом? Я не из тех, кому все время нужно общество людей, иногда я часами сижу один в своей комнате и прекрасно себя чувствую, но жить так, как Паул, — нет, по-моему, это слишком. Правда, он гораздо старше меня; господи, он мог бы стать моим отцом, а мой отец — моим дедом! Наверное, в моем возрасте он был совсем другим. Этого я не в силах представить себе как следует, я знаю его только таким, как сейчас, таким он был для меня всегда. И то время, когда он был молод, не укладывается в моем воображении. Это было, образно говоря, сто лет назад.
Отец качает головой.
— И в прошлом году тоже, — говорит он немного погодя.
— Что «тоже»?
— Его тоже не было здесь в день рождения.
— Он, наверное, был, но не хотел нас видеть, — говорю я, так как люблю иногда расставить точки над «i».
— Какая разница? — Отец смотрит на меня печально. — Он всегда был чудной.
Это странная, невероятная история, которой, как полагает отец, я не знаю. Дело в том, что Паул воображает, будто отец убил его мать. Смешно, конечно, но он вколотил это себе в голову, и все тут. Во время оккупации она после ссоры с отцом угодила в канал и утонула. Паул думает, что ее столкнул туда отец. Однако, по словам госпожи Мурман, которая рассказала мне об этом, когда после стаканчика вина у нее развязался язык, мать Паула упала в канал сама по себе. Кажется, уличные фонари тогда не горели, из-за бомбежек. Англичане бомбили почти непрерывно, но в темноте теряли обзор и улетали обратно — так объясняла госпожа Мурман. (По мнению отца Элли, это — чушь. А происходило все потому, что они не знали своего местонахождения, не могли сориентироваться; и у меня такое впечатление, что он знает лучше госпожи Мурман. Он мне и рулоны черной бумаги показывал, которые они в войну вешали на окна, так чтобы свет не был виден с улицы, а не повесишь — заработаешь неприятности.) Как бы то ни было, отец и мать Паула поссорились, и она убежала из дому, а спустя некоторое время оказалась в канале. Отец, как обычно, лег спать, потому что убегала она не в первый раз. На следующее утро его вызвали в полицейское управление, так как они нашли его жену. Нечто подобное вполне могло случиться, и у Паула, по-видимому, уже тогда было не в порядке с головой, раз он мог подумать такое о своем отце. Не то чтобы отец совсем уж без греха, но убийца — это все-таки чересчур.
Отец достал носовой платок и высморкался. Щеки его слегка увлажнились. Ну и денек! Элли в музее с дядей, которого она до сих пор ни разу не видела, а я с отцом, распускающим нюни, в гостях у сводного братца, который спрятался под кроватью! Правда, если я намерен стать писателем, то это, разумеется, ценный опыт, который впоследствии очень пригодится. Чем у тебя его больше, тем лучше.
— Знаешь, отец, — говорю я, — за углом есть кафе.
Он кивает. Еще бы ему не знать!
— Пойди выпей там кружку пива, а я побуду здесь. Если через полчаса он не появится, я зайду за тобой, а появится — я тебя позову.
— Нет, сынок, я так не могу. — Отец решительно качает головой, хотя я вижу, что он уже дал себя уговорить.
— Иди, отец, — говорю я, — тебе же приятнее сидеть там, чем здесь. Его ведь нет, так какая разница?
Но отец считает своим долгом еще немного поворчать.
— Что он обо мне подумает, когда вернется и увидит тебя, а родной отец будет сидеть в пивной, — говорит он, но я вижу, как он уже хватается за подлокотники стула, чтобы приподняться.
— Да, ты прав, — говорю я. Мне хочется послушать, как он будет выкручиваться.
— Что ты сказал, сынок?
— Ты прав. Я только подумал, что там тебе было бы приятнее.
С минуту отец молчит. Руки его по-прежнему лежат на
подлокотниках. Он явно размышляет.
— С другой стороны, — в конце концов говорит он, — ничего плохого в этом нет.
— Но и приятного для него тоже мало.
Однако он продолжает, словно не слыша меня:
— За кружечку пива он на отца наверняка не обидится. Тем более в такой день. Это ведь, собственно говоря, немножко и мой день рождения.
С чего он это взял, — неизвестно.
— Очень может быть, — говорит отец, уже решительно поднимаясь со стула, — что он сидит в том кафе или пошел туда за бутылочкой.
— Конечно, в пижаме-то, — говорю я.
— Пожалуй, я все-таки загляну туда, — говорит отец. — Я бы не удивился, найдя его там. — Уже в дверях он еще раз оборачивается: — Не забудь предупредить меня, если он появится.
— Постараюсь, — говорю я.
— Только, наверное, он сидит за углом. — С этими словами отец закрывает за собой дверь.
Мы остаемся вдвоем — Паул и я. Напевая вполголоса, я осматриваю комнату. Стены голые, свои композиции он хранит в папке, в шкафу. Книг у него нет, ни газет, ни журналов он не читает, радио не слушает. Непонятно, как можно выдержать такое!
Но однажды я с ним вполне прилично побеседовал, год или более тому назад, когда забежал сюда мимоходом. Я спросил его, почему он никогда не выставляется, ведь он мог бы добиться известности своими композициями. Он сказал, что ему этого не нужно. «Известность не имеет никакого значения, — сказал он. — С известностью или без нее — все равно помирать».
Я возразил, что мне было бы куда приятней умереть известным. Но он твердил свое: это, мол, несущественно, он получает удовольствие от создания своих вещей и в остальном не нуждается.
А по-моему, если это несущественно, если мы все равно умрем, то почему бы и не добиться известности? Честно признаюсь, я нахожу подобную теорию довольно-таки глупой.
Я кашляю, барабаню пальцами по столу — словом, поступаю как человек, который находится в комнате один и ждет другого. Но видимо, я могу ждать до посинения. Должен же он понять, что отца нет, а я остался. Или он уже и меня не хочет видеть? Даже если отец и убил мать Паула, я-то тут при чем? Господи, как трудно порой с людьми! Вечно одна и та же чепуха.
Конечно, может быть, ему стыдно лежать под кроватью, и поэтому он боится вылезать. А может, не хочет пугать меня, ведь он явно не знает, что я знаю, что он там. Вообще-то мне надо бы сказать: «Вылезай, Паул», но разве я ему нянька? Он сам туда залез, пусть сам и вылезает. Мне хватает забот и с отцом, и с его пивом, и с госпожой Вассиг, недоставало только с чокнутым сводным братцем возиться, лучше уж пойти работать санитаром в отделение номер три. Я многое терплю ради будущей писательской карьеры, но сколько же можно?
Ситуация начинает мне надоедать, но полчаса пройдет еще не скоро. Сначала я хотел было пересесть на стул, но тогда я не смогу отвести взгляда от его убежища. Поэтому я ложусь на кровать, предварительно слегка расправив одеяло.
Я прямо-таки ощущаю под собой тепло его тела и уже ясно слышу его дыхание. Возможно, он решил осторожненько намекнуть мне, что лежит под кроватью. Сначала хорошо слышное дыхание, затем время от времени покашливание, а под конец, может быть, и пение. Пусть делает, что хочет. Даже если он проткнет своим голосом матрац, исполняя национальный гимн, я не замечу его присутствия, пока он не вылезет из-под кровати.
Но ничего подобного не происходит, ведь что́ я слышу несколько минут спустя? Храп. Мой сводный брат Паул заснул под собственной кроватью.
Сперва мной овладевает ужасное раздражение — в конце концов, это уже слишком. Но вскоре, осознав весь комизм положения, я с трудом сдерживаю смех.
А затем меня охватывает какое-то ленивое спокойствие. Но мне вдруг рождается удивительная мысль, что все так и должно быть. Я бы назвал это чувством воскресно-полуденным: ты ничего не в силах изменить, можешь только ждать изменений, а раз так — зачем волноваться? Я даже начинаю восхищаться Паулом, ведь, чтобы заснуть в такой ситуации, нужно немало. Нужен сильный характер. Впервые в жизни я начинаю сомневаться в ненормальности Паула. Он производит сейчас подо мной изрядный шум, там, наверное, пыльно. Может быть, попросту разбудить его, ну хотя бы разговором. Например, спросить: есть у тебя брат или нет?
Но пока я все это обдумываю, до меня доносится скрип лестницы и строгий голос госпожи Мурман. Паул сладко похрапывает. Я моментально сажусь и одновременно ударяю по кровати. Храп резко обрывается на испуганном вскрике, затем мгновение тишины и голос Паула:
— Что… что случилось?
Едва я успеваю сказать: «Тише ты! Молчи!» — как появляется госпожа Мурман.
— Ну и дела, — говорит она. — Этого чудака все еще нет?
— Еще нет. Я, пожалуй, пойду, не сидеть же тут целый день.
— И отец ваш, наверно, беспокоится, где вы, — подхватывает госпожа Мурман.
Похоже, она ждет, чтобы я ушел. Видимо, не доверяет мне из-за моих длинных волос, есть ведь такие люди.
— Не передадите ли вы ему наш подарок? — спрашиваю я, указывая на конверт с марками.
— Да, обязательно передам, — обещает госпожа Мурман, закрывая за мной дверь комнаты Паула. — То-то он обрадуется.
Надевая куртку, я не упускаю случая поинтересоваться, где маленькая девочка.
— Наверное, снова куда-нибудь спряталась, — говорит госпожа Мурман, и в ее глазах появляется едва заметный блеск. — Это у нее теперь прямо как мания. — И она почти выталкивает меня на улицу.
Войдя в кафе, я вижу, что отец уже принял дозу. Глазки его слезились, а пальцы раздулись больше обычного.
— Знаешь, в чем наша ошибка, сынок? — говорит он. — Надо было сначала послать ему открытку, что мы придем.
Я лишь говорю: «Да, надо было», ведь больше тут ничего не скажешь.
— Он бы тогда получил еще одну красивую марку, — кивает головой отец. Он ухмыляется и выглядит в этот момент немного фальшиво. Брюки его опять расстегнуты.
Боб ден Ойл
Перевод С. Белокриницкой
КРАБЫ В КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ[16]
Яхек стоит перед зеркалом и вытирает после бритья щеки. Он почти вплотную придвигает свое круглое лицо к стеклу в поисках пропущенных остатков пены и видит при этом свой рот — неправильной формы, беззащитный. И видит, как левый угол рта опускается, благодаря чему лицо приобретает презрительное выражение, становится жестким, властным и энергичным. Странно — на самом-то деле его губы неподвижны: он не чувствует работы мышц, которая необходима для того, чтобы вызвать подобную метаморфозу. Вообще-то он много раз упражнялся перед зеркалом, добиваясь такого выражения лица, но до сих пор это ему не удавалось. Он быстро отворачивается от зеркала. Лучше всего сейчас же забыть об этом маленьком происшествии.
Придя на службу, он сначала борется за самые срочные дела, потом пьет кофе, намереваясь посвятить остальное время текучке. Он служит в главном управлении гигантского концерна по производству и продаже консервов. Должность у него незначительная, честолюбия нет, и он старается привлекать к себе как можно меньше внимания. Но именно поэтому при всяких служебных перестановках, награждениях и повышении жалованья коллеги побаиваются его. Они привыкли к открытой борьбе, в которой все средства хороши, и поведение Яхека им непонятно. Не иначе как у него есть скрытые возможности, о которых они и не догадываются; они не знают, чего от него ожидать, а это порождает злобу. Может, он заведомо настолько уверен в успехе, что не считает нужным участвовать в обычной конкуренции, может быть, он в родстве с кем-нибудь из директоров и в один прекрасный день неожиданно для всех вознесется к недосягаемым вершинам. Вдобавок Яхек хоть и лишен честолюбия, но далеко не лентяй. Правда, дела ему поручаются не слишком ответственные, зато они всегда сделаны вовремя — он просто не может иначе. Другие обычно из кожи лезут, демонстрируя свои деловые качества, а на то, чтобы работать, их уже не хватает. Сколько раз, бывало, господа с самого верха обращались за какими-нибудь срочными данными, и все оказывались не на высоте, только ничтожный Яхек, сам того не желая, мог тут же сообщить требуемые сведения. Это вызывает враждебность, которая неизменно разбивается о терпение Яхека.
За работой Яхеку удалось забыть утреннее происшествие, но за кофе это оказалось уже труднее. И вот он сидит с чашечкой в руке, уставясь в пространство, — пришло время осмыслить этот неприятный факт. «Ладно, — думает он, ставит чашку на стол, принимает рабочую позу и начинает рассуждать: — Что же все-таки произошло? Каждый день я бреюсь без всяких неприятностей… обыденность — величайшее счастье… и вдруг — на тебе. Может, виновато время года? Декабрь — самый темный месяц, тревожная пора всяких праздников. Кроме того, уже которую неделю льет дождь. По утрам в темноте, под дождем на работу, по вечерам в темноте, под дождем домой — это как-то угнетает».
Он чертит квадратик на лежащем перед ним листе бумаги. Потом делает из квадрата куб, пристраивает к нему еще несколько кубов. Надо же — видеть в зеркале, что рот у тебя искривился, хотя на самом деле он неподвижен. Но ведь этого не может быть! Даже непроизвольное рефлекторное движение всегда ощущается. А самое главное, пожалуй, — это выражение лица. Угроза и без того сомнительному будущему.
Яхек идет в уборную в конце коридора. Долго смотрит в зеркало на свой рот, медленно отводит глаза, потом снова бросает быстрый взгляд в зеркало. Рот пухлый, бесформенный, как всегда. Он стоит в полной тишине, никакие звуки сюда не проникают. Тишина нежно звенит у него в ушах. «Я есть, — думает он, — я есть; все совершенно обычно, и да будет так. Со мной ничего не может произойти — я этого не хочу, я этого не заслужил. Так пусть же все остается по-прежнему». Услышав, что кто-то, насвистывая, отворяет дверь, Яхек начинает судорожно вытирать руки.
— A-а, Яхек, — говорит вошедший. — Стоишь, значит, и руки вытираешь?
Яхек кивает, в глотке у него пересохло; что подумает о нем этот человек?
— Так-так, — говорит тот, — руки, значит, вытираешь, ха-ха.
Он открывает дверь одной из кабинок, насмешливо оглядывая Яхека. Яхек отвечает ему самым дружелюбным взглядом, на какой только способен, он не знает, что сказать, да и не уверен, стоит ли тут вообще что-то говорить. Усмешка медленно сползает с лица сослуживца.
— Да что ты, — говорит сослуживец, — я же ничего плохого не имел в виду, просто пошутил.
Он еще раз удивленно оглядывает Яхека и исчезает в кабинке, быстро закрыв за собой дверь. Яхек не понял последней фразы, он продолжает вытирать руки и случайно взглядывает в зеркало. И видит жесткое, волевое лицо, теперь уже и другой угол рта опущен.
Парализованный страхом, он смотрит в зеркало, медленно глотает слюну. Видит, как движется адамово яблоко, но рот, точно застыв, сохраняет форму.
Он смутно сознает, что это явление необходимо исследовать. Медленно открывает рот — рот в зеркале тоже открылся, но линия сохраняется, теперь его рот похож на серп луны в последней четверти, с этой жесткой извилины может слететь только проклятие или приказ. Земля уходит у него из-под ног, он хватается за раковину и закрывает глаза. А когда снова открывает их, рот в зеркале такой, каким был всегда, кошмарное видение исчезло.
Все снова как обычно. Он держит руки под струей холодной воды и ждет, пока утихнет сердцебиение. Слышит, как человек в кабинке спускает воду, и поспешно покидает уборную. Вернувшись в отдел, он старается незамеченным прокрасться к своему столу. Лежащие перед ним бумаги кажутся чужими и странными, цифры и буквы не образуют больше чисел и слов, а как будто превратились в бессмысленные каракули, нацарапанные без всякой связи друг с другом. Он не в состоянии спокойно думать, все попытки рассуждать логически подавляются одной всепобеждающей мыслью: то, что произошло сегодня утром за бритьем, не было случайностью, это явление повторилось и, вполне возможно, будет повторяться снова и снова. И кто-то уже видел его с таким ужасным ртом, как после этого жить? Впрочем, пока еще не все потеряно, но если так пойдет и дальше, он погиб, это несомненно.
Остаток дня он сидит, низко склонившись над бумагами, приложив руку к губам, как будто с головой ушел в работу. Хаос у него в мозгу приобретает все более устрашающие размеры, иногда ему хочется громко застонать, но он сдерживается. В пять часов, закутав подбородок в кашне, он отправляется домой. Идет дождь; не разбирая дороги, Яхек ступает по лужам, ноги у него промокли и застыли. Дома он, пряча лицо, просит квартирную хозяйку на этот раз подать ужин ему в комнату. Она согласна, но предупреждает, что только в виде исключения. Съев мясо, он вываливает остальное в целлофановый мешочек, намереваясь выбросить его завтра и таким образом избежать язвительных расспросов мефрау Крамер, «Может, сходить к врачу, — думает он. — Хотя при чем тут врач?» Он старательно отворачивается от зеркала над умывальником.
Беспокойно меряет он шагами комнату, садится и снова встает. Как жаль, что умер его старший брат, он всегда умел найти выход из положения. Слезы навертываются ему на глаза, он чувствует, что надо взять себя в руки, но не знает, как это делается. «Лягу спать, — думает он, — завтра все пройдет, все снова будет в порядке. Может быть, я застудил мышцы лица, я никогда не слыхал о таких случаях, но, наверное, это бывает». Он раздевается и ложится в постель, не почистив на ночь зубы. Лежит, подняв колени, и ждет, когда придет сон, но сон не приходит, мысли скачут в диком круговороте, от которого его физически тошнит.
Но все-таки надо заснуть! Он вдруг вспоминает, что в шкафу есть снотворное, эти порошки ему выписали полтора года назад, когда он был так потрясен смертью брата. Он встает и лезет в шкаф, где каждая вещь лежит на своем определенном месте. Не зажигая света, подходит к умывальнику, наливает стакан воды и развертывает пакетик. Хочет принять порошок, но пакетик оказывается пуст: возясь в темноте, он все просыпал. Твердо решив не смотреть в зеркало, он дергает за шнурок и при ярком электрическом свете открывает второй пакетик. Хотя руки у него сильно дрожат, на этот раз ему удается высыпать поблескивающий порошок себе в рот. Он берет стакан с водой, чтобы запить, при этом случайно взглядывает в зеркало и видит то, что в общем и ожидал увидеть — этот скотский рот. Может, он уже давно с таким ртом? Похолодев, он смотрит на себя, в желудке у него сосет.
— Господи Иисусе, — говорит он; рот его движется, произнося эти слова, презрительно опущенные углы губ убеждают его, что этот новый рот пришел к нему, чтобы остаться. «Я не могу больше жить», — думает он в панике. Проглатывает порошок, запивает водой, трясущимися руками открывает еще два пакетика и их содержимое тоже высыпает в рот. Потом гасит свет и идет спать, но, передумав, возвращается, чтобы принять четвертый порошок, — полумерами здесь не обойтись.
На следующий день Яхек просыпается около полудня с тяжелой головой. Еще с полчаса он лежит в постели, приходя в себя и собираясь с мыслями. Ну вот, проспал, в отделе небось переполох: за все годы службы он не пропустил еще ни дня, кроме тех двух раз, когда ходил на похороны. Он удивлен, что его это не беспокоит: он не знает, что безразличие — побочное действие снотворных порошков. Умываясь, Яхек снова видит рот. Теперь он уже не так испуган, может, со временем ему удастся привыкнуть?
Если присмотреться, не так уж это и страшно: конечно, приятным лицо не назовешь, но, во всяком случае, в нем чувствуется известная значительность, сила. И то сказать, чем уж так хорош его прежний рот? Халтурная работа — неровная дырка, как будто конверт вскрыли руками.
Он одевается, идет по коридору и стучит в дверь к мефрау Крамер. Просит ее позвонить на службу и сказать, что у него тяжелый грипп — болезнь, мысль о которой сама собой напрашивается в эту холодную погоду. Он слышит свой голос и смутно сознает, что в нем звучит что-то вроде грубого окрика: он и говорить стал жестче, чем раньше. Квартирная хозяйка, привыкшая к робкому, тихому Яхеку, в ужасе смотрит на него. В ее собственном голосе всегда слышится укоризна, будто все ее постоянно обижают. С Яхеком она обычно держится так, словно еле терпит его в доме. Она готова разразиться привычными упреками — неужели он не может сам позвонить, что она ему прислуга, что ли? — но видит его рот, вздрагивает от его тона: этого человека она не знает. Неожиданно для себя она говорит: «Хорошо, менеер Яхек», — и, провожая его взглядом, когда он удаляется в свою комнату, замечает, что даже походка у него стала более уверенной. После долгих поисков в телефонной книге она звонит в управление, начальник отдела со смехом отвечает: «Господи, я и не заметил, что его нет!» Она не знает, надо ли ей тоже засмеяться, она вообще не часто смеется, а к тому же все еще видит перед собой преобразившегося Яхека.
Вернувшись к себе в комнату, он садится на постель: что делать дальше, неизвестно. Он стаскивает ботинки, намереваясь переобуться в комнатные туфли; его снова клонит в сон. Он ложится, ему кажется, что он только на минуту закрыл глаза, но, когда он снова открывает их, в комнате уже почти темно, будильник у кровати показывает половину шестого. Теперь действие снотворного кончилось, безразличие исчезло, и все проблемы как по команде снова выстроились перед ним.
Яхек садится, закрывает лицо руками и пытается думать, но в голове у него хаос. Ни на что не надеясь, он подходит к зеркалу — и, конечно, опять видит свой новый рот. Видит он и щетину. Надо бы побриться. Это можно сделать и на ощупь. Он вынимает из ящика маленькую дорожную бритву, включает ее и водит жужжащим аппаратиком по лицу до тех пор, пока оно не становится совсем гладким. Потом приводит в порядок одежду; есть ему не хочется, но в желудке сосущая пустота, которую надо заполнить. А стало быть, придется снова просить мефрау Крамер, чтобы она подала в комнату: ужинать вместе со всеми, как заведено в этом доме, выше его сил. Он собирается с духом, но тут в дверь стучат. Он открывает и видит мефрау Крамер с горячим ужином на подносе. Он молча отступает на шаг, она так же молча входит, ставит поднос на стол и, отвернувшись, спрашивает, как он себя чувствует, но Яхек слишком ошеломлен, чтобы отвечать. Хозяйка поспешно выходит из комнаты: он замечает, что она не волочит ноги, как обычно, желая показать, до чего тяжело ей с ее больными ногами что-нибудь сделать для постояльца.
Яхек садится и ест. Выждав момент, когда на кухне никого нет, он бежит туда с подносом и ставит его на стол. Вернувшись в комнату, раскрывает взятый в библиотеке детектив. Но смысл прочитанного не доходит до него; он в отчаянии откладывает книгу, и снова начинается круговорот никчемных мыслей. Часок поломав себе голову, он принимает два снотворных порошка, чистит в темноте зубы и ложится спать.
Подобным же образом он проводит и следующий день. В нем зреет убеждение: что-то должно произойти, дальше так продолжаться не может.
Мысль весьма тривиальная, но он считает ее результатом своих глубоких размышлений, и это вселяет в него надежду, что, когда уж совсем припрет, он сумеет найти выход. Хозяйка по-прежнему молчком приносит ему еду.
Вечером Яхек действительно приходит к важному решению. На следующее утро он пойдет в свою контору и уволится. Он не знает, действительно ли это решение самое разумное, но одно он знает твердо: в таком виде ему нельзя показаться на глаза коллегам, не говоря уже о многочисленных начальниках. Ну как им объяснишь то, чего и сам не понимаешь и что, возможно, по существу ужасно непристойно? Что он будет делать, уйдя с работы, ему пока неясно. Может быть, переедет в другой город. Образование у него не бог весть какое, опыт работы тоже, с его теперешними обязанностями справится любой, достаточно недели три подучиться. Во всяком случае, он не намерен пасовать перед трудностями, хотя при мысли о грядущих временах в желудке у него будто что-то обрывается. И все же, приняв решение, он немного успокаивается, он даже в силах время от времени ненадолго подходить к зеркалу и без ужаса смотреть на свой рот. На этот раз перед сном он принимает один порошок, завтра ему лучше не быть таким одурелым.
В половине десятого он робко входит в вестибюль управления, умышленно опоздав на полчаса, чтобы не попасть в поток стремящихся в свои отделы коллег. Быстро проходит мимо швейцара, который его не замечает. Поднимается в лифте на одиннадцатый этаж, где пребывает заведующий отделом найма и увольнения. В этой фирме чем выше положение человека, тем выше располагается его кабинет; дирекция занимает тринадцатый этаж, а на четырнадцатом, самом верхнем, с окнами во всю стену, находится конференц-зал, где принимают важнейшие решения и раз в год сообщают держателям акций о прибылях и убытках. Сам Яхек сидит на третьем — ужасающе низко в глазах тех, кто работает выше и пользуется особым лифтом, который идет без остановок до восьмого этажа.
В приемной Яхек говорит секретарше, что хотел бы попасть на прием к заведующему отделом найма и увольнения.
— По какому вопросу? — спрашивает секретарша.
— Видите ли… — говорит Яхек, — я… видите ли, я здесь работаю.
Больше ничего добавить он не может, ему почему-то неудобно сказать этой женщине, что он хочет уволиться, и он только улыбается ей. Женщина строго смотрит на него через очки, она собирается заявить ему, что попасть к заведующему не так-то просто, но, увидев лицо Яхека, которое улыбка превратила в повелительную маску, вскакивает и исчезает в кабинете. Немного спустя она возвращается и гостеприимно распахивает перед ним дверь. Яхек осторожно входит, он никогда еще здесь не бывал. Когда его сразу после школы принимали на должность младшего клерка, необходимые скромные формальности были выполнены служащим из отдела заработной платы. Конечно, Яхек знает заведующего в лицо, он несколько раз видел его в коридоре.
Он вежливо здоровается и ждет, когда заведующий оторвется от изучаемого им рекламного проспекта. Наконец тот поднимает глаза, Яхек называет свою фамилию и ждет, что будет дальше. «Так, Яхек», — хочет произнести заведующий отделом найма и увольнения тем отеческим тоном, который выработался у него на этом посту, но, взглянув на человека, стоящего перед ним, невольно привстает, указывает Яхеку на стул и говорит:
— Здравствуйте, менеер Яхек, моя фамилия Фоогт, чем могу служить?
Его немного пугают собственные слова: в сущности, он никому, кроме дирекции, служить не может. «Яхек, Яхек, — думает он, — фамилия знакомая, но в каком же отделе он работает, я его никогда не видел. Наверное, в одном из заграничных филиалов, да, не иначе. Судя по виду, с этим молодчиком шутки плохи».
Яхек откашливается. Надо бы сделать какое-то вступление, но ему ничего не приходит в голову.
— Видите ли, — говорит он наконец, — дело, в сущности, вот в чем: я хотел бы уволиться.
Чтобы смягчить эти слова, которые ему самому кажутся ужасно резкими, он смущенно улыбается, но заведующий видит презрительную, высокомерную усмешку. «Уволиться, — думает заведующий, — боже милостивый, если б я хоть знал, кто он такой!»
— Ну зачем вы так, менеер Яхек, — говорит он, — это же серьезный шаг. Подождите, пожалуйста. — Он нажимает клавишу селектора и, наклонившись к светло-зеленому аппарату, просит принести ему личную карточку менеера Яхека. И поспешно добавляет: — И принесите две чашки кофе. Вы же выпьете кофе?
Яхек кивает. В ожидании карточки заведующий собирается начать светскую беседу, но, к счастью, звонит телефон. Он затягивает разговор до тех пор, пока, робко постучавшись, не входит молодая девушка и не кладет ему на стол карточку. Тогда он опускает трубку на рычаг и быстро впитывает в себя данные. Двадцать лет на службе, поступил в фирму сразу после школы. И все еще третий этаж! В графе «личные качества» подчеркнуто красным: «аккуратность», «чувство ответственности» и «старательность». В примечаниях записано: «отсутствие инициативы, к руководящей работе непригоден». Господи, что за кретин это писал? Заведующий третьим отделом совершенно не разбирается в людях, вот лишнее доказательство. Я ему еще скажу об этом. Если мне встречался когда-нибудь человек, созданный для руководящей работы, так это Яхек. Он и рта не успеет раскрыть, как перед ним начнут пресмыкаться.
— Менеер Яхек, — произносит Фоогт, — давайте сейчас не говорить об увольнении; если вы будете настаивать, мы вернемся к этому вопросу позже. Но сначала о другом. Я вижу, вы двадцать лет сидите в третьем отделе, и считаю это неправильным. — Он делает паузу. — Абсолютно неправильным, — повторяет он, чтобы устранить последние сомнения.
Хоть Яхек и решил уволиться, он понимает, что расстаться с начальством надо по-хорошему, тогда ему выдадут лучшую характеристику, и потому он пытается выразить мысль, что вполне доволен своим положением. Но Фоогт отметает его робкий лепет.
— Я знаю, что вы хотите сказать, менеер. Конечно, чьи-то интриги помешали вашему продвижению, так иногда бывает. Вы знаете, что способны на большее, чем та работа, которую выполняете сейчас, вам это в конце концов надоело, и вы хотите уйти. Вы полагаете, и вполне справедливо, что в другом месте перед вами откроются большие возможности.
Он выдерживает паузу, чтобы его слова лучше осели в сознании Яхека. Однако Яхек совсем не рад, повышение ему не нужно, наоборот, оно его скорее пугает. Он-то думал, что увольнение будет пустой формальностью, которую выполнят с совершеннейшим равнодушием. Уж не рассказать ли историю со ртом? Нет, нельзя. В этой обстановке она ему самому представляется настолько невероятной, что он просто не смог бы с ней вылезти, даже если б хотел.
— Вот что я вам посоветую, — продолжает заведующий. — Возвращайтесь-ка в отдел и спокойно ждите развития событий. — Тут он наклоняется к Яхеку. — А события начнут развиваться, будьте уверены, — начнут, и очень скоро. Без ложной скромности скажу, что я немножко разбираюсь в людях, сами понимаете, иначе я не занимал бы этот пост… ошибки бывают всегда и везде, время от времени каждый из нас становится их жертвой… Я прекрасно понимаю вашу… как бы это выразиться… досаду. Конечно, я не могу вот так сразу предложить вам что-нибудь конкретное, тут надо поразмыслить, но будьте уверены, я не стану откладывать это дело в долгий ящик.
Тут дверь отворяется, и в комнату, переваливаясь с боку на бок, входит безобразно толстая женщина с подносом, на котором стоят две чашки кофе.
— А, — улыбается Фоогт, — вот и Анна, моя правая рука.
Анна не смеется шутке, с бесстрастным видом она ставит кофе на стол и молча выходит.
— Тоже фрукт — эта Анна, — говорит Фоогт доверительно, пытаясь создать непринужденную атмосферу, но Яхек ничего не воспринимает. Из всего сказанного он понял одно: его не отпускают, а заставляют вернуться в отдел. А это исключено. Конечно, он может встать и уйти навсегда, но ведь ему нужна характеристика, нельзя пренебрегать своим общественным лицом. Не говоря уже о том, что он от природы не способен на столь решительный поступок. Его охватывает ужас, все оказалось еще хуже, чем он опасался, какое все-таки счастье, когда один день похож на другой и никто тебя не замечает! В полной растерянности он выдавливает из себя, что ни в коем случае не вернется на третий этаж.
Фоогт как раз поднес чашечку к губам; резкие слова Яхека так испугали его, что он делает непроизвольное движение и проливает кофе на рекламный проспект. Он снова внимательно разглядывает Яхека. Крупное лицо с грубыми чертами и волевым ртом чуть-чуть покраснело, в голосе еще явственнее звучит металл. «Господи помилуй, — думает Фоогт, — глубоко же это в нем засело, двадцать лет ведь подавлял в себе агрессивность и жажду действия, в общем-то его можно понять. И все же, не будь нам позарез необходимы парни такого сорта, я бы с наслаждением вышвырнул его из кабинета пинком под зад! Но куда бы его сейчас сунуть?»
Он медленно ставит чашечку на поднос, а тем временем мозг его лихорадочно работает. Этот Яхек — прирожденный надсмотрщик. И вдруг его осеняет. Он ведь слышал вчера от Бастенакена — директора, который курирует заграничные филиалы, — что на новом консервном заводе не то в Анголе, не то в Мозамбике, словом, в какой-то забытой богом негритянской дыре, никак не наладят производство. «Туда, — сказал Бастенакен, — надо послать крепкого парня, который сумел бы по-настоящему взяться за ленивых черных выродков». Но разве сейчас найдешь такого идиота, который бы согласился поехать в Африку, где нет ни телевидения, ни хороших автострад, а если у тебя заболит зуб, придется полдня болтаться в самолете, чтобы попасть к нормальному врачу? Он еще раз оценивающе смотрит на Яхека. «Да, черт побери, если даже я побаиваюсь этого молодчика, так негры и подавно сдрейфят. Но тогда он должен занимать высокий пост, быть как минимум заместителем заведующего производством, а это слишком уж большой скачок, учитывая, что сейчас он работает всего-навсего на третьем этаже. Как бы мне провести это через дирекцию?» Он размышляет, поглядывая на Яхека, который в отчаянии уставился на носки своих ботинок, — со стороны же он производит впечатление незыблемой скалы. «Старикан, — думает Фоогт, — вот он, выход: старикан любит такие неожиданные штучки, они дают бедняге возможность проявить свое так называемое чутье».
— Менеер Яхек, — говорит он, — это случай исключительный, и я должен в него как следует вникнуть. Полагаю, что во избежание всяких осложнений в третьем отделе вам лучше сейчас посидеть дома и подождать. В течение двух-трех дней я свяжусь с вами. Не возражаете? Скажите мне только одно: как вы в принципе относитесь к работе — на весьма значительном посту — в одном из наших заграничных филиалов?
Яхек радостно хватается за возможность пойти домой. Единственное, о чем он сейчас мечтает, — это сидеть дома, спокойно размышлять и, уж во всяком случае, не возвращаться в третий отдел. Он с благодарностью произносит: «Положительно», — и облегченно вздыхает, а на его лице при этом появляется какое-то дикое и необузданное выражение. «Великолепно, — думает Фоогт, — он клюнул, ну, негры, теперь держитесь».
— Значит, решено, — говорит он и протягивает Яхеку руку. Но тот не видит ее, он уже шагает к двери, одержимый одним желанием — запереться у себя в комнате.
Фоогт роняет протянутую руку и смотрит вслед Яхеку. Его охватывает сомнение — парень явно «с приветом». Потом он пожимает плечами: людей, годных для работы в третьем отделе, хоть пруд пруди, а вот надсмотрщики для Африки — большая редкость, и, чем более он чокнутый, тем лучше. Он заглядывает в свой календарь и, убедившись, что ничего серьезного на сегодня не намечено, решает тут же покончить с делом Яхека. Он снова наклоняется над селектором и спрашивает, у себя ли менеер Таке.
— А заодно, — говорит он, — узнайте, где мы недавно начали консервировать крабов, в Анголе или в Мозамбике.
— Это я по чистой случайности знаю, — отвечает секретарша, — в Иньямбане, в Мозамбике. А вот насчет менеера Таке надо выяснить.
Менееру Таке за семьдесят, он единственный ныне здравствующий из зачинателей дела. Склероз у него прогрессирует в бешеном темпе, и, когда надо принять важное решение, его заботливо держат в стороне. Но когда он сам время от времени выдвигает какую-нибудь идею, к нему все прислушиваются: ведь он — держатель весьма значительного пакета акций. Через десять минут звонит секретарша: менеер Таке обнаружен, он стоит у окна на четырнадцатом этаже — это его любимое местечко. Фоогт собирает несколько отчетов: он взял за правило никогда не показываться вне стен своего кабинета без документов в руке, они придают деловой вид.
На четырнадцатом этаже он действительно встречает старикана. После краткого вступления Фоогт излагает ему суть дела, описывает — слегка сгустив краски — качества Яхека и свои планы, касающиеся этого человека.
— Но, — говорит Фоогт, — вы же знаете Бастенакена, он ужасный формалист и не любит выходить за рамки общепринятого. Вот я и подумал, что вы, с вашим светлым умом, с вашей способностью вопреки всем условностям принять единственно правильное решение, могли бы меня поддержать…
Менеер Таке сначала ничего не понимает. Фоогту приходится повторить еще раз, тут до старикана наконец доходит, и он ублаготворенно кивает. Нужный человек на нужном месте — таков всегда был его девиз, с его-то помощью он и придал размах делу. Правда, он впервые слышит о заводе в Иньямбане, а Бастенакена все время путает со своим шофером, фамилия которого Вастенхаудт.
Он рвется к Бастенакену, Фоогту приходится его удерживать, ведь неизвестно, кто там сейчас у Бастенакена. Но секретарша последнего сообщает, что со шеф сейчас в кабинете один и может их принять. Они спускаются в лифте на тринадцатый этаж и входят в более чем скромно обставленный кабинет Бастенакена. Он утверждает, что всякие излишества мешают работать, и никогда не упускает случая ехидно упомянуть об этом, входя в роскошные кабинеты своих коллег-директоров. Таке и Фоогт садятся на жесткие стулья и рассказывают о цели своего визита.
Бастенакен считает Фоогта полным ничтожеством, хоть он и прикидывается расторопным и, принимая какое-нибудь решение, умеет обезопасить себя от последствий возможных ошибок. Зачем, например, он притащил сюда старикана? Известно, что Таке можно настропалить на что угодно. С другой стороны, консервирование крабов в Иньямбане действительно налаживается чертовски медленно, завод не дал еще ни цента прибыли; если этот Яхек обладает хоть половиной тех качеств, которые ему приписывают, он и тогда уже восьмое чудо света. Пусть даже его назначение не принесет пользы, но и вреда не будет, учитывая, что дела на этом заводе не могут идти хуже, чем сейчас. Однако, с другой стороны, так вот сразу взять и согласиться тоже нельзя, того гляди, начнут говорить, что Бастенакеном можно вертеть, как кому захочется, а это недопустимо. Поэтому он высказывает различные возражения: мол, знает ли этот Яхек английский и португальский; а как он насчет женщин — ведь распутство с негритянками не должно переходить известных границ; и как могло получиться, что такая личность двадцать лет оставалась незамеченной, ведь, в общем, это недоработка Фоогта. И потом, как отнесется к этому заведующий производством в Иньямбане? Но Таке снова уперся: как в добрые старые времена, он принимает волевое решение и подчеркивает, что всю ответственность берет на себя. На самом-то деле от этого ничего не меняется, но Бастенакен делает вид, что именно этот довод и убедил его; он согласен, но с одним условием: прежде он сам прощупает этого Яхека. «Пусть придет ко мне в понедельник», — глубокомысленно произносит он, и таким образом вопрос исчерпан.
Вернувшись к себе в кабинет, Фоогт диктует секретарше письмо, в котором сообщает Яхеку, что в понедельник утром ему следует явиться к менееру Бастенакену для беседы. Потом, расслабившись, откидывается в кресле: он очень доволен собой. В случае неудачи можно свалить вину на старикана; ну а если, наоборот, дело в Иньямбане семимильными шагами двинется вперед, он, пожалуй, отбросит излишнюю осторожность в своих пока еще робких попытках переместиться этажом выше.
Эти три дня Яхек просидел у себя в комнате, скрываясь ото всех. Вдова Крамер регулярно приносила ему еду. Однажды она попыталась было взбунтоваться, но Яхек только вопросительно глянул на нее, и с безошибочным инстинктом человека, который сам всю жизнь тиранит других, она поняла, что он ей не по зубам.
Почти все время он был в растерянности и отчаянии. Даже уволиться ему не удалось. С другой стороны, до него дошло, что этот новый рот, новое выражение лица заставляют людей относиться к нему совсем по-другому. В иные минуты это было ему очень приятно, но, вдумавшись поглубже, он понял, что дух его не пришел в соответствие с новой формой. Прежняя глуповатая внешность полностью отвечала его духу, теперь же равновесие нарушилось, и, хотя жесткая форма рта, несомненно, давала ему некоторые преимущества, незримый для других разлад между формой и содержанием сводил их на нет; более того, он грозил чудовищными недоразумениями.
Ну как прикажете быть, например, с письмом, которое он получил в субботу? Разговор с менеером Бастенакеном с тринадцатого этажа ему не по силам, независимо даже от того, что имеет сообщить этот господин. Он не уволен, это ясно, но тогда что же? Он много раз пытался вспомнить свою беседу с Фоогтом, но, как ни напрягал память, точные слова заведующего отделом найма и увольнения ускользали от него. Помнил он только, что Фоогт велел ему идти домой.
Суббота была самым ужасным днем: письмо лежало на столе, а он вертелся вокруг, читал его и перечитывал, безуспешно стараясь извлечь из стереотипных фраз их глубинный смысл. И только все больше и больше нервничал. Он должен говорить с Бастенакеном, с человеком, самое имя которого на третьем этаже произносили шепотом, да и то редко. В поисках выхода он подумал о самоубийстве, но как его осуществить? Тем не менее в этот вечер он принял шесть снотворных порошков сразу — все, что у него осталось. Но снотворное было слабенькое, от такого не умрешь, даже если примешь двадцать порошков. В сущности, Яхек так и предполагал, но на решительные поступки он не способен, он возится с суррогатами, в своем убожестве принимая их за подлинный выход из положения. Кончилось тем, что в воскресенье он проснулся с жуткой головной болью, которая отпустила только через несколько часов, сменившись уже знакомым блаженным безразличием. В этом состоянии он отыскал коробку сигар, которую ему, некурящему, подарили как-то на день рождения. Стоя перед зеркалом, сунул сигару в угол рта, и от этого лицо его приобрело еще более устрашающий вид, он даже рассмеялся. Ему пришла в голову крамольная мысль вообще не ходить к Бастенакену, но он решил, что это уж слишком.
И вот он сидит напротив менеера Бастенакена, опоздав на четверть часа, хотя он, честное слово, не виноват. Скоростной лифт нормально поднялся до тринадцатого этажа, а когда он хотел выйти, оказалось, что дверь заело. Вскоре появился техник и освободил его, но для этого ему сперва пришлось открыть много разных шкафчиков и поковыряться в них отверткой.
Яхек хочет прежде всего объяснить Бастенакену, почему опоздал, но от смущения не может связать двух слов. Впрочем, Бастенакен об этом и не спрашивает: опоздание как раз произвело на него выгодное впечатление. Только значительный человек может позволить себе опоздать на важную деловую встречу.
Ему так же, как и другим, импонирует внешность Яхека, по крайней мере здесь Фоогт оказался прав. Отупелость Яхека, своего рода транс, он принимает за спокойствие и самообладание. Он предлагает ему сигару; Яхек благодарит и сует ее в угол рта. Затягиваться он не умеет, и немного погодя сигара тухнет. Бастенакен смотрит на него одобрительно, ему уже представляется, как этот парень разгуливает по Иньямбане среди негров и мулатов с потухшей сигарой во рту, как, чертыхаясь, учит их работать. Рассказывая о заводе, придется приукрасить факты, на самом-то деле это просто большой железный сарай, а кругом болота, жарища, тучи мошкары. Только что выстроенные бунгало для белых издали кажутся симпатичными, но, по правде говоря, и они никуда не годятся. Во время официальной церемонии открытия даже он, железный Бастенакен, немножко оробел, увидев их.
— Итак, менеер Яхек, — произносит он, — я рад, что наконец-то мы можем потолковать спокойно. Вашу предысторию я знаю от менеера Фоогта. Прискорбно, поистине прискорбно. Стало быть, вот о чем речь…
И он начинает рассказывать об Иньямбане, расположенном в чудесном Мозамбике, о том, как там все прекрасно и как тем не менее удручающе низок уровень производства.
— Для человека, наделенного волей и упорством, там открываются невиданные возможности. И вот из многочисленных кандидатур мы решили выбрать вашу. Теперь слово за вами. Жалованье во много раз превосходит ваше теперешнее, у вас будет отдельное бунгало, приятные коллеги; телевидения там, слава богу, нет, зато многочисленная женская прислуга, которая будет ублаготворять вас чуть ли не даром. Конечно, работа нелегкая, но в конце концов вам ведь надо только приглядывать за другими. Вот вкратце что мы можем вам предложить. Разумеется, придется пройти известную подготовку: обследоваться у врачей, сделать прививки, немножко подучить португальский, ознакомиться с техникой консервирования — это все мелочи. Переподготовку у нас проходят в Дрибергене, там настоящий замок — замок в лесах, да и время года сейчас подходящее. Все вместе займет месяца полтора, не больше. А потом — здравствуй, Иньямбане! Ну, менеер Яхек, что скажете?
Яхек молчит. Иньямбане, Мозамбик, Африка? Консервирование крабов, приглядывать, отдельное бунгало? Он даже не пытается думать обо всем этом, он жует свою сигару, которую предпочел бы просто выбросить. Он покоряется судьбе; под влиянием приветливости Бастенакена, который разговаривает с ним на равных, первоначальное отупение исчезло, мало-помалу слова директора стали складываться в его голове в осмысленные фразы. Эти люди чего-то от него ждут, они ему доверяют! Вот что важнее всего — о такой мелочи, как путешествие в Африку, он почти не думает. Как чудесно знать, что тебе доверяют! Он чувствует себя как никогда спокойно и уютно. Ему, Яхеку, доверяют директора!
Бастенакен ждет ответа. Глядя на замкнутое, жесткое лицо Яхека, он не сомневается, что тот хладнокровно и трезво взвешивает все «за» и «против». Если Яхек согласится поехать в Иньямбане, Бастенакен позаботится о том, чтобы он остался там до конца своих дней. Сидя в главном управлении, такой человек опасен, и в первую очередь для него, директора по заграничным филиалам. Все посты заняты, мест больше нет, и так уж снизу вечно напирают. «Этого парня надо упечь в тропики на всю жизнь», — решает Бастенакен.
Яхек понимает, что уж теперь он должен что-то сказать. «Африка, — думает он, — что я буду делать в Африке?» Перед его мысленным взором возникают негры — они танцуют, размахивают дротиками. Имеет ли он право обидеть этих людей грубым отказом? Во всяком случае, он еще полтора месяца пробудет в Дрибергене — хватит времени, чтобы подумать и решить. Он избавится от третьего отдела, избавится от мефрау Крамер, которая кидает на него удивленные взгляды, ему не придется обивать пороги в поисках нового места. Но может быть, он не расслышал или не понял? Он вынимает сигару изо рта и бросает ее в мусорную корзину рядом с Бастенакеном.
— На полтора месяца в Дриберген, — говорит
он, — а потом в эту… как ее… Африку?
— Вот именно, — говорит Бастенакен. — И за время, проведенное в Дрибергене, вам, само собой разумеется, будет идти новое жалованье.
— Ну что ж, — говорит Яхек, — видно, так тому и быть.
Когда он произносит эти слова, ему вдруг становится нехорошо, слишком много на него сразу обрушилось, и он не уверен, правильно ли поступает.
Бастенакен встает, обходит свой стол и торжественно пожимает Яхеку руку.
— Вы все продумали, — говорит он, — и приняли правильное решение. Я уверен, никто из нас об этом не пожалеет.
Яхек тоже встает и благодарит менеера Бастенакена за доверие. Больше всего ему бы хотелось вернуться в свою комнату, но он понимает, что это невозможно.
И действительно, оказывается, надо выполнить еще кое-какие формальности. По телефону вызывают Фоогта, он является, как всегда, с бумагами в руках, и втроем они обсуждают поездку Яхека в Дриберген. Все решается к общему удовольствию: через неделю Яхек отправится на загородную виллу, где его доведут до кондиции, потребной в Иньямбане. Они пьют кофе, а потом Бастенакен начинает выказывать признаки нетерпения, его ждет работа. Он еще раз жмет Яхеку руку и напоминает: приличия требуют, чтобы Яхек зашел к менееру Таке представиться; в конце концов, именно Таке — вдохновитель всего этого дела, говорит он, заранее умаляя заслуги Фоогта на случай, если назначение Яхека обернется успехом, а кроме того, считая, что не мешает облечь это сомнительное назначение в сколько-нибудь благопристойную форму. Фоогт, ухмыляясь несколько скептически, выражает свое согласие. Секретаршу Бастенакена отправляют на розыски менеера Таке, и она снова находит его на четырнадцатом этаже, у окна.
Фоогт церемонно вводит Яхека в роскошный зал заседаний. Яхек едва осмеливается оглядеться по сторонам, он движется как во сне. Фоогт информирует Таке о ходе дела, и тот тоже жмет Яхеку руку. Да, он помнит, хотя вместо крабов все время говорит о сардинах.
Иньямбане, да, он просил подготовить ему исчерпывающую информацию; если там поставить дело как следует, результаты будут потрясающие. Он испытующе смотрит на Яхека, что-то одобрительно бормочет и опускается в глубокое кресло. Фоогт и Яхек тоже садятся. Пять минут идет вялая беседа, прерываемая паузами и бормотанием старикана, потом раздается телефонный звонок. Фоогт снимает трубку: его срочно вызывают, он извиняется и быстро уходит.
После отбытия Фоогта Таке поднимается.
— Послушай, Яхек, не выпить ли нам ради такого случая по стаканчику хереса? — говорит он тихо. — Но только никому не рассказывай: если они пронюхают — пиши пропало. Дело в том, что у меня есть ключ от бара, но никто этого не знает, все думают, я хожу сюда любоваться видом, Яхек говорит, что с удовольствием пропустит стаканчик. Вообще-то он не пьет, да и время сейчас совсем неподходящее для хереса, одиннадцать часов утра, но отказаться он не смеет. Таке осторожно приотворяет дверь, чтобы убедиться, что вокруг все спокойно. Потом вынимает связку ключей, подходит к бару, манит Яхека к себе, с видом заговорщика открывает бар, наливает два стакана хереса и один протягивает Яхеку.
— Вот, — говорит он, — пей сразу; увы, мы не можем спокойно посидеть и выпить, риск слишком велик.
Сам он выпивает полный стакан в три глотка. Яхек жмется, но потом все-таки следует его примеру, Таке быстро ставит стаканы на место, запирает дверцу бара и, ублаготворенно вздохнув, снова опускается в кресло. Яхек тоже садится, херес жжет его пустой желудок — сегодня утром он так нервничал, что не мог есть. Сейчас ему станет дурно, он сжимает губы, стискивает руки и пристально смотрит на торшер, прислушиваясь к странным ощущениям у себя внутри. Но через несколько минут жжение немного успокаивается, постепенно из желудка по всему телу распространяется приятный трепет. Окружающие предметы приобретают более резкие контуры, напряжение ослабевает, уступая место холодной ясности ума. Он так занят регистрацией перемен в своем организме, что почти не слушает болтовни Таке, ударившегося в воспоминания о прежних временах и пионерском духе, который тогда царил. Яхек тоже обращается к прошлому, ограничиваясь, правда, минувшей неделей, — с того мгновения, когда он во время бритья впервые обнаружил у себя новый рот, и до настоящей минуты, когда он на равных беседует с менеером Таке, о существовании которого неделю тому назад даже не подозревал. Его страхи и сомнения сменились необузданной дерзостью. А почему бы ему и в самом деле не стать тем человеком, который наведет порядок в иньямбанской шарашке? Ведь не дураки же все эти люди — Фоогт, Бастенакен, Таке? Раз они что-то в нем видят, значит, это не случайность, значит, есть в нем такие качества, о которых он и сам не подозревал, но которые не укрылись от их наметанного глаза. Ну что за жизнь была у него до сих пор — забитое прозябание, серая обыденность без всякого интереса и ответственности. Наконец-то он станет настоящим мужчиной, из тех, с кем нельзя не считаться. А что там Бастенакен толковал насчет женской прислуги? И эта сторона его жизни здорово изменится, уж он не оплошает с черными служанками, ему долго приходилось подавлять свои страсти, но теперь-то он даст им волю. Перед ним мелькают образы голых негритянок с блестящей кожей и твердыми острыми грудками, они задыхаются от восторга перед ним, великолепным мужчиной… Может, он будет еще и бить их — кнутом или просто так, это он решит на месте.
Когда Таке предлагает ему совершить второй марш-бросок к бару, он вскакивает и с жадностью вливает в себя полный до краев стакан.
— Я всегда ограничиваюсь двумя стаканами, — говорит Таке, — но ты можешь спокойно выпить третий, мне не жалко. Даже если ты выпьешь всю бутылку, не страшно, я куплю новую и поставлю в бар вместо этой.
— Тогда еще полстаканчика, — говорит Яхек и вдруг икает. Ему страшно неловко, но Таке только смеется. «Ну что за славный малый», — думает Яхек; он растроган до слез. И почему только он раньше боялся этих людей, в них ведь совсем нет той подозрительности и недоброжелательности, которая царит на третьем этаже. Эти люди сидят на самом верху, им некого опасаться, и он, Яхек, теперь один из них.
Третий стакан быстро выпит, бар снова закрыт, и они возвращаются к креслам. Яхек замечает, что движется зигзагами; это кажется ему очень забавным. У него нет никакого опыта в этой области, и он не понимает, что скоро будет пьян в стельку. В воздухе возникает какое-то золотое свечение, все вокруг лучится благожелательностью. Глаза Яхека снова увлажняются, ему хочется плакать от радости. Он даже хлопает менеера Таке по плечу и начинает сбивчивый рассказ о том, что он собирается делать в Иньямбане. Ему жарко, лицо его раскраснелось. Таке, окутанный туманом своего склероза и захмелевший после двух стаканов первоклассного хереса, приходит в восторг и временами хихикает, как ребенок.
Яхек собирается перейти к тому, что он будет делать с женской прислугой, — может быть, Таке даст ему какой-нибудь совет, — но тут ему становится немного душно.
— Откроем окно? — предлагает он.
— Валяй, — говорит Таке, идет впереди Яхека к окну и распахивает его широким жестом. Дождь все еще моросит, но погода уже не кажется такой унылой. Яхек глубоко вдыхает холодный воздух и в безмолвном восхищении смотрит на море мокрых крыш и узор блестящих улиц, чувствуя себя властелином всех этих букашек, что копошатся там, внизу.
— Знаешь, чем я иногда занимаюсь? — спрашивает Таке с таинственным видом.
— Ну? — Яхек заранее смеется.
— Я кидаю вниз сигарные окурки, — говорит Таке, сияя. — Обхохочешься, люди никак не могут понять, откуда эти штуки взялись. Самое интересное, конечно, когда окурок упадет кому-нибудь на голову: человек иной раз подпрыгивает на целый метр. Давай попробуем?
Яхек, едва ворочая языком, соглашается, ему кажется, что это ужасно веселая игра. Тако идет к креслу, возле которого стоит кожаный портфель. Яхек ковыляет за ним и видит, как Таке достает из портфеля целлофановый пакет, набитый окурками.
— Я специально собираю их, — говорит он, — они идеально подходят для этого дела: достаточно тяжелые и вместе с тем не такие твердые, чтоб по-настоящему ранить кого-нибудь. Пошли.
Они возвращаются к окну, и Таке, посмеиваясь, бросает первый окурок, который падает на улицу, никем не замеченный.
— Мимо! — ликует Яхек. — Теперь я.
Он берет окурок из мешочка и выжидает, пока на тротуаре далеко под ними не показывается довольно большая группа людей. Тогда он бросает окурок, и оба высовываются в окно, чтобы проследить за его падением. Они теряют его из виду — слишком они высоко, — но один из прохожих внезапно отскакивает в сторону.
— Попал! — кричит Таке и, мыча от смеха, хлопает Яхека по плечу. Яхек теряет равновесие, подоконник низковат и не может удержать его. Он чувствует, что сейчас вывалится, его обуревает панический страх, он пытается за что-нибудь уцепиться и хватается за руку высунувшегося из окна Таке. Тот тоже теряет равновесие, и вместе они медленно вываливаются из окна, вместе начинают свой последний бросок в глубину, вслед за окурками.
Они пролетают мимо окна Бастенакена, но он их не видит: с лупой в руке он склонился над редкой почтовой маркой, раздумывая, покупать ее или нет. Но Фоогт, двумя этажами ниже, как раз смотрит мимо посетителя в окно. К своему изумлению, он видит, что старший из директоров рука об руку с новоиспеченным заместителем заведующего производством делают сальто-мортале на уровне окна, и тут же начинает размышлять о том, как гибель этих двоих скажется на его собственном положении.
ЧЕЛОВЕК БЕЗ СТАДНОГО ИНСТИНКТА[17]
Я терпеть не могу самолеты. Наверное, это отвращение осталось у меня со времен войны. Всякий раз, как я слышу гул самолета, хотя бы рекламного, я замираю в ожидании залпов зениток, стрекота пулеметов, воя бомб. Пренеприятное чувство. А летать самолетом для меня — мука, которую я терплю только ради того, чтобы быстрее достигнуть цели. И на этот раз жизнь снова подтвердила обоснованность моего недоверия к летательным аппаратам.
Мне надо было как можно скорее вернуться из Токио домой. Первый самолет, на котором я мог улететь, принадлежал компании «Эр Франс». Сначала я хотел было подождать другого, потому что французский самолет наверняка никуда не годится, но на следующие рейсы все билеты были проданы. Меня высмеяли за мое предубеждение — я решился и взял билет.
Огромный самолет, восемьдесят пассажиров. Летит в Париж через Северный полюс — шутка ли? Я весьма предусмотрительно забился в самый хвост (там больше надежды в случае чего остаться в живых), испуганно жевал все замысловатые бутерброды, пил все напитки, которые мне предлагали, и ждал, когда самолет рухнет на землю. Я не решался смотреть в окно, читал какой-то журнал, не воспринимая прочитанного, нервно раскачивал ногой — словом, вел себя так, как всегда веду себя в самолете.
И вдруг, едва стюардесса своим красивым голоском объявила, что мы пролетаем над Гренландией — все при этом посмотрели вниз, — моторы закашляли, затрещали и выяснилось, что один из них загорелся. Приятного тут мало: мы со страхом смотрели, как один мотор отделился от крыла и рухнул вниз, а крыло воспламенилось. Настроение у пассажиров сильно упало, некоторые молились, мое же состояние было самым тяжелым — я весь побелел, вцепился в привязной ремень и в панике закричал: «Выпустите меня!» Бледные стюардессы поспешили ко мне. Я вскочил и побежал по проходу, но в это время самолет резко качнуло, я ударился обо что-то головой и упал без сознания. Должен честно признаться: в критических обстоятельствах от меня мало толку. Но могу сказать, что и в обычных условиях я тоже не лезу людям на глаза.
Снежные просторы Гренландии. На заднем плане — обгоревший остов самолета. Тридцать человек в растерянности сгрудились вокруг дюжего командира корабля. Наша жизнь была в его руках, но я не чувствовал к нему доверия. Когда я говорил, что французские самолеты никуда не годятся, надо мной смеялись. Ну и кто оказался прав? А теперь вы хотите, чтобы я доверял французскому пилоту с внешностью киногероя тридцатых годов? Я не виню его за аварию — конечно, он не поджигал мотора. Но и не считаю, что он способен вывести оставшихся в живых к населенным местам.
— Надо смотреть правде в глаза. — Летчик бросил жгучий взгляд из-под темных бровей на продрогшую толпу. — Мы далеко отклонились от курса. Мы хотели обойти бурю. Как правило, обо всех изменениях курса тут же сообщается на аэродром. Но было ли это сделано в данном случае? Нет, не было.
Он выжидательно и свирепо оглядел своих слушателей. Все молчали, да и что скажешь, когда ответственные лица признаются в своей несостоятельности! Я так разозлился, что головная боль у меня почти прошла. Я громко крикнул: «А почему?» — и хотел присовокупить пару крепких ругательств, но не вспомнил их по-французски. Вместо того чтобы прямо ответить на мой вопрос, летчик скорчил такую рожу, как будто с трудом сдерживается, и попросил дать ему договорить:
— Не перебивайте меня, у нас очень мало времени.
Надо бы, чтоб ООН запретила французам водить самолеты.
— Итак, — продолжал летчик, — на аэродром об изменении курса не сообщено. Радисту было приказано это сделать, но у него в аппаратуре оказалась небольшая поломка, он как раз устранял ее, когда произошла катастрофа. Может, он и успел передать радиограмму, но спросить у него об этом уже нельзя, потому что наш храбрый радист погиб. Мы были слишком далеко от аэродрома, чтобы нас могли нащупать радары, так что и на это надеяться нечего. Итак, мы должны исходить из того, что на аэродроме ничего не знают об аварии и даже когда поймут, что с нами что-то случилось, то не будут знать, где нас искать. Они начнут искать нас в районе обычного курса. И не пойдут. Мы находимся на сотни километров в сторону. Конечно, на аэродроме знают, что по курсу у нас была буря, они сами нам о ней сообщили, и, не найдя нас, догадаются, что мы отклонились. Но в какую сторону? Вправо или влево? Это им неизвестно, так что они будут искать нас и там и там.
Он перевел дух.
— Прекрасно! — крикнул я. — Хватит, я уже все понял. Значит, надо сидеть сложа руки и ждать, пока нас найдут? Ну и организация, просто прелесть!
Летчик побагровел.
— Мне кажется, — сказал он, — среди вас есть люди, которые все еще не могут или не хотят понять серьезность нашего положения. Право же, мсье, нам не до шуток, мы не на теннисном корте.
При чем тут теннисный корт? Может, он употребил иностранный оборот, не зная его смысла? А может, у него патологическое отвращение к теннисным кортам?
Летчик закурил. Мне тоже очень захотелось курить, но все мои запасы чудесных японских сигарет сгорели, у меня не осталось ничего. Рядом со мной, тяжело опираясь на руку дочери, стоял старик, то есть это я подумал, что она его дочь, в подобных случаях никогда не знаешь наверняка; так или иначе, его поддерживала молодая женщина.
— Послушайте, — обратился я к нему, — дайте мне сигарету.
— Я не курю, — ответил старик.
— Это еще не причина, чтобы не иметь при себе сигарет, — возразил я. Разумеется, я был совершенно не прав: я сорвал на старике свою злость на летчика.
— Как вам не стыдно! — сказала молодая женщина.
— А почему? — ответил я. — В курении нет ничего дурного.
Я огляделся, но никто вокруг не курил — видно, в курении все же было что-то дурное.
— Смотрите, — продолжал между тем летчик, — вот обгоревший остов самолета.
Все посмотрели на остов самолета, как будто видели его впервые. Полчаса назад они сами сидели в нем, но стоит кому-то приказать: смотрите, мол, — и все как по команде оглядываются. Или они хотели уличить летчика во лжи? Самое удивительное, что они даже и не смотрят, — можно подумать, что они оглядываются просто из вежливости: летчик сказал, посмотрите, мол, на остов, и получится неудобно, если никто даже не оглянется, но нет, кое-кто продолжает внимательно разглядывать остов и после того, как летчик снова заговорил. Может быть, таким путем они вновь обретают доверие к летчику: он сказал, дескать, смотрите, вот остов, они оглядываются и — надо же! — действительно видят остов. Значит, с этим летчиком не пропадешь.
— Поверхностный наблюдатель, — продолжал летчик, — может подумать, что этот огромный черный остов будет хорошо виден с воздуха. Но это совсем не так. Правда, мы приземлились на более или менее белой поверхности, но те из вас, кто из самолета смотрел вниз, видели, что снежное поле испещрено проталинами, которые сверху кажутся черными. Кроме того, ландшафт холмистый и местами встречаются глубокие расселины. Холмы отбрасывают тень. Таким образом, вполне возможно, что со спасательного самолета нашу разбитую машину примут за проталину, расселину или тень от холма. К тому же они будут осматривать все темные пятна подряд — ведь каждое может оказаться разбитой машиной, — а на это уйдет много времени. На самолете, конечно, согласно инструкции, имелись ракеты, сигнальные пистолеты и прочее, но все это сгорело, так что мы ничем не можем воспользоваться. На самолете сгорело дотла все, что только способно гореть, так что мы не можем подавать и дымовые сигналы. Мы — тридцать человек — могли бы встать так, чтобы сверху видна была какая-нибудь геометрическая фигура, но долго ли мы выдержим — в таком холоде, голодные, да еще не зная, есть ли в этом какой-нибудь смысл? Но даже и не это главная проблема, — сказал летчик и бросил сигарету. Окурок был довольно длинный: у того, кто выбрасывает такие окурки, наверняка есть хороший запас. — Главная проблема вот в чем. Из-за того, что мы отклонились от курса и на аэродроме не знают, где нас искать, район поисков увеличивается во много раз. К тому же видимость плохая, здесь всегда легкий туман. Значит, лучше исходить из того, что найдут нас не скоро. А так как у нас совсем нет еды, то, когда нас найдут, будет слишком поздно — во всяком случае, для многих. Я знаю, это жестокие слова. Но наш самый большой шанс — может быть, единственный — самим позаботиться о своем спасении.
Он умолк, и люди стали покашливать, прочищать горло.
— Плохо то, — продолжал летчик, — что у нас нет ни компаса, ни карты, мы лишь приблизительно знаем, где находимся. Положение очень серьезное, но не стоит поддаваться панике. Я убежден — бог мне свидетель, — что все мы благополучно доберемся домой, если вы будете точно выполнять мои указания. Я, как представитель авиакомпании, сделаю все, что в моих силах, ради спасения каждого из вас, но для этого мне необходимо ваше доверие.
Ну и пустомеля этот летчик! Ему необходимо наше доверие, а вот доверия-то он как раз и не вызывает. За психов он нас считает, что ли? Кому мы могли бы довериться в Гренландии — так это проводнику-эскимосу, да еще располагающему картами, компасами, собачьими упряжками и съестными припасами. Но не этому полоумному французскому летчику, этому опереточному герою, который Гренландию видел только с самолета. Кстати, он обращается к пассажирам по-французски, хотя даже он не может не знать, что по крайней мере половина — не французы. Они, наверное, ничего не поняли. Впрочем, это, пожалуй, и к лучшему, во всяком случае, они не утратили остатков доверия к этому комическому персонажу. Но между тем я ведь и сам в руках летчика! Уж у меня-то доверия к нему никогда не было. Еще в самом начале полета, в Токио, когда он с широкой улыбкой вышел приветствовать пассажиров на борту самолета и показать трусишкам, если таковые найдутся, что их судьба в надежных руках, он вызвал у меня большое недоверие. И я оказался прав. Почему, собственно, он претендует на руководство? Ну то, что он был главной фигурой в самолете, более или менее естественно. Но разве именно летчик должен руководить спасением людей в Гренландии? Потому лишь, что он умеет держать в руках штурвал? Знание навигации здесь, конечно, пригодилось бы, но именно в этом он позорно и провалился. Обстоятельства катастрофы поневоле заставляют призадуматься. Как мог летчик отклониться от курса, не сообщив об этом на аэродром? Уж лучше бы летел сквозь бурю! Конечно, не его вина, что мотор загорелся, но то, что он так и не сумел повлиять на ход событий, не нравилось мне все больше и больше. Очевидно — теперь уже не проверить, — где-то он допустил халатность, и, что бы он там ни болтал про теннисный корт, ответственность в конечном счете лежит на нем. А покорные глаза слушателей меня просто пугают. В своем слепом доверии они пойдут за ним навстречу смерти и потянут за собой меня, ибо Гренландия — не то место, где можно отколоться и плевать на остальных. Меня бросило в пот: когда речь идет о собственной жизни и смерти, воображение у меня работает очень живо, — и тут я понял, что гибель этих тридцати человек нисколько меня не волнует: но, так как я и сам могу погибнуть, надо попытаться ослабить позиции летчика, а если это не удастся, отколоться и поступить по-своему. Я подошел к летчику и стал рядом с ним, лицом к слушателям.
— Мсье пилот, — воскликнул я по-французски (я всегда очень быстро устаю, когда говорю по-французски, но в такую трудную минуту не приходится обращать внимание на собственные неудобства), — мсье пилот, я прошу слова.
Он не мог мне отказать.
Я сказал:
— Вы прекрасно обрисовали положение, но ведь половина людей, видимо, не понимает по-французски. Давайте я, чтобы всем было ясно, переведу вашу речь на английский — или, может, вы сами?
Он покачал головой и сделал мне знак продолжать. Он все еще смотрел на меня сердито, и плохо скрытый упрек в моих словах только усугубил его настороженность. Не исключено, что стюардесса рассказала ему о моей чрезмерной нервозности во время катастрофы и он считал меня слабаком, трусом, склочником и так далее, чего я, впрочем, и не отрицаю. Но, несмотря на все это, в теперешней ситуации от меня будет больше пользы, чем от него. Ну и что, если в критическую минуту, когда уже ничего нельзя было изменить, я лишился чувств? Какой был смысл держать марку (наш пилот, разумеется, твердой рукой поднес огонек к сигарете и лаконично заметил: «Parbleu, on tombe»
[18], а остальные члены экипажа из кожи вон лезли, стремясь казаться еще хладнокровнее, чем начальник) — это ведь делается лишь для того, чтобы потом, когда несчастье окажется позади, хвастаться своим героизмом.
Я коротко пересказал речь летчика по-английски; при этом я — без всякого, впрочем, умысла — сильнее, чем собирался, подчеркнул сомнительность его выводов. Увы, мое выступление не имело успеха. Те, кто понял речь летчика, не слушали и переговаривались между собой; большинство же остальных, видно, и по-английски не понимали и смотрели на меня как баран на новые ворота; но, как бы там ни было, я выполнил свой долг. Чтобы снова привлечь внимание слушателей, я громко крикнул: мол, чем болтать, делали бы что-нибудь, например поддержали бы вон того старого немощного человека — ведь девушка уже совсем выбилась из сил. Несколько мужчин тут же подскочили к старикашке, оттерли девушку и подхватили его под руки. Остальные растроганно смотрели. Наконец можно хоть что-то сделать, пусть и не много. Я оказался в выигрыше: во-первых, самому мне уже не пришлось возиться со стариком, во-вторых, кое в чем я опередил летчика, ибо это предложение, конечно, должно было исходить от него. Кажется, почва для дальнейшего наступления была подготовлена.
Но я выжидал. Моя идея помочь старикашке произвела гораздо больший эффект, чем я предполагал. Взгляд у людей стал целеустремленным: они явно уже видели себя на пути к населенным местам. Мое предостережение, что, дескать, старик сейчас упадет, — это была находка, пришедшая из глубин подсознания. Я решил пока воздержаться от дальнейших речей, чтобы не портить произведенного впечатления, и стал прохаживаться взад-вперед около старикашки, а окружающие бросали на меня благодарные взгляды.
По-видимому, наш предводитель был задет. Все, что он думал, без труда можно было прочесть на его лице. Его подробный и серьезный отчет о нашем бедственном положении почти не дошел до слушателей, мое же вскользь брошенное, зато попавшее в самую точку замечание пробудило отупевших от отчаяния людей к жизни. Теперь столько народу разом поддерживало старика, что ему стало неловко, а потом он даже рассердился. А девушка сиротливо стояла сзади. Раньше она чувствовала, что кому-то нужна, но теперь это чувство перешло от нее к кучке людей, толкавшихся вокруг старика. Я пробрался к ней и сказал, указывая на него:
— Ваш отец?
Но он не был ее отцом. Обрадованная, что с ней заговорили, она рассказала мне все. Сперва ее откровенность удивила меня, я не ожидал симпатии с ее стороны: ведь всего каких-то полчаса назад произошел тот обмен репликами из-за сигареты. Но потом я сообразил, что всеобщее расположение ко мне захватило и ее. Кроме того, как позже выяснилось, ей тоже не нравилось поведение летчика — чисто интуитивно. Итак, вслушиваясь больше в голос, чем в слова, я все же узнал, что она не родственница старикашки — к нему ее привязывают чувство долга и благодарности и хорошо оплачиваемая работа секретарши. Мне приятно было звучание ее голоса и выбор слов, я сочувственно хмыкал и всякий раз, как она собиралась умолкнуть, с заинтересованным видом задавал новый вопрос. Под звуки ее голоса мне вдруг стало хорошо и уютно на мерзлой гренландской земле, и у меня пропала всякая охота искать выход из бедственного положения. Так продолжалось, пока она говорила; потом мы оба стали смотреть на возню вокруг старикашки, которого теперь поддерживали до того ретиво, что ноги его оторвались от земли. С несчастным видом он висел на плечах у своих мучителей — первый из нас, кто покинул гренландскую землю.
Наш командир меж тем оправился от ущерба, нанесенного его престижу, и избрал новую тактику. Вместе со стюардессой он обошел всех, чтобы учесть наличный запас продуктов. Идея здравая, однако бесплодная, ибо мало кто, отправляясь на аэродром, запасается хлебом и консервами. Другие члены экипажа залезли в разбитый самолет, чтобы опознать трупы и извлечь неповрежденные приборы — по крайней мере так думал я.
Я спросил молодую женщину, как она намеревается достигнуть обитаемого мира, но у нее на этот счет не было никаких планов. Несмотря на неприязнь к командиру, она все же доверяла ему. Его ведь специально обучали, и он уже бывал в подобных передрягах и лучше всех знает, где именно мы находимся.
— Вот этого-то я и не думаю, — сказал я и начал излагать свои аргументы против командира; при этом мои смутные ощущения обретали ясную, четкую форму. Мысленно спрашивая себя, зачем я это делаю, я нашел следующий ответ: ни под каким видом я не соглашусь подчиниться командиру. Это инстинкт самосохранения, ибо если я буду действовать на свой страх и риск, то у меня больше надежды выжить, чем в составе группы, слепо выполняя приказы командира; в решения, принимаемые сообща, и в голосование я тоже не верю; против командира никто не пойдет; я должен убедить эту женщину в своей правоте, чтобы и она наплевала на группу и пыталась спастись вдвоем со мной. Тогда все время испытания я буду находиться в ее обществе, что, несомненно, скрасит мне это испытание.
— Послушай, — сказал я, — как ты можешь доверять командиру, ведь он хоть и невольный, но все же виновник катастрофы. И разве мало того, что он француз? Высококультурный народ, конечно, но это не те люди, которые способны вывести из гренландских льдов. К тому же французы за пределами Франции очень плохо ориентируются, можно сказать, превращаются в слепых котят, а вдобавок не доверяют иностранцам, в сущности, всех их презирают. Они прямо-таки с молоком матери впитывают это чувство, и наш командир, конечно, тоже — уже из-за одного этого он не может нами руководить. Он не доверяет тем из нас, кто не француз, и думает, что мы не доверяем ему; он в большей или меньшей степени презирает нас, и это, конечно, подтачивает его чувство ответственности: ведь если мы и погибнем, так, в конце концов, мы же всего-навсего иностранцы. И его неумение ориентироваться за пределами Франции сыграет свою отрицательную роль: он может недооценить опасность, а может и вовсе не заметить ее. Ты скажешь: а вдруг он исключение? Конечно, не все французы одинаковы, но нам нельзя рисковать. Кроме того, у меня есть причины считать, что он как раз типичный представитель, а не исключение. В его речах я чувствую жажду власти и славы. И разве не он несет ответственность за то, что у нас загорелся мотор? Со всяким может случиться, согласен, но ведь очень возможно, что он допустил оплошность.
Тем временем я все сильнее влюблялся в нее: она была американка, стройная, красивая, с рыжеватыми волосами и белой кожей, какая часто бывает у рыжих.
— Я уверен, все его решения будут неправильны, все попытки спасти нас будут неудачны. Если у него что и получится, то лишь по чистой случайности, а ведь на случайность рассчитывать нельзя. И не надо жалеть остальных! Своя рубашка ближе к телу, хотя, конечно, если я, проходя мимо, увижу, что кто-то тонет, я его спасу. Я только хочу сказать: если люди от недостатка сообразительности и избытка стадного чувства с открытыми глазами шагают навстречу гибели — пусть их! Речь идет о том, спасать ли свою голову или позволить, чтобы тебя погнали в могилу. Имей смелость выглядеть несимпатичным и эгоистом, если таким образом ты можешь спасти человеческую жизнь — хотя бы свою собственную. Я скажу тебе, в чем состоит мой план. Исходя из того, что командир наверняка решит неправильно, надо поступить наоборот — я предполагаю, что это приведет к спасению. Допустим, он прикажет идти в какое-то им выбранное место — а как раз это он, наверное, и прикажет, но это будет заведомо неправильно, он ведь не знает точно, где мы находимся, — так вот, тогда мы остаемся здесь и ждем помощи с воздуха. А если он прикажет остаться здесь, надо отправиться в путь и быстрым маршем достичь ближайшего населенного пункта. Очень может быть, что вон за теми холмами лежит эскимосская деревня или американская военная база. Тогда мы вдобавок спасаем и всю группу. Американцы вышлют аэросани, трактора и даже вертолеты и всех спасут. Наши имена в газетах, огромные шапки: ОНИ НЕ ПОТЕРЯЛИ ГОЛОВУ, фанфары, медали…
Я перевел дух и стал ждать ее ответа. Она в задумчивости смотрела в пространство. Я взял ее за локоть и, постаравшись вложить в свой голос как можно больше теплоты, проникновенно сказал:
— Пойдем со мной.
— Не знаю, — произнесла она, — право, не знаю. Мне кажется, безопаснее быть вместе со всеми, что бы они ни делали, потому что все друг другу будут помогать. К тому же большую группу людей легче заметить, чем одного человека. Честное слово, не знаю, что сказать. Думаю, все же в таких случаях люди должны держаться вместе; я слыхала, что тех, кто отделяется, даже идут искать. Командир и не разрешит нам остаться. Он принудит нас идти вместе со всеми. А потом — я должна быть с мистером Лейном… — Последнее явно только что пришло ей в голову, она устыдилась, что не подумала об этом в первую очередь, и потому стала спорить со мной: — По-твоему, командир не сумеет нас вывести? Напрасно ты его недооцениваешь. Он француз — ну и что? Наверное, все, что ты говорил про французов, вздор; по крайней мере я этого никогда еще ни от кого не слыхала. По-моему, это все предрассудки.
— Ладно, ладно, — сказал я. — Послушай. Мы в опасности. Положение серьезнее, чем ты думаешь.
— Я знаю, каково наше положение.
— Конечно, но опасность не в том, о чем ты думаешь. Допустим, национальность командира не играет роли. Я лично недолюбливаю французов — может, у меня заскок, не знаю. Но одно я знаю точно: этот человек нас не выведет. Повторяю: положение серьезнее, чем ты думаешь. Речь идет о жизни, твоей собственной жизни, а не чьей-нибудь еще. Какое тебе дело до того, что другие умрут? Так уж сложились обстоятельства! Спасутся они — прекрасно, я нисколько не против, знаешь пословицу: живи и давай жить другим, и тому подобное. Но одно ты должна понять: я не допущу, чтобы группа потащила меня на верную смерть. В этой смерти не будет ни капли романтики. Ничего нет хуже, чем умереть из-за чьей-то оплошности. Еще будешь и себя при этом корить. Черт побери, как ты себе это представляешь? Мы тихо испускаем дух в объятиях друг друга, а вдалеке нам чудится колокольный звон? А знаешь, как будет на самом деле? Мы все подохнем от голода и холода, двум-трем первым еще закроют глаза, а на смерть остальных всем будет глубоко начхать.
Она заплакала. Я неуклюже попытался ее утешить, обнял. В таких обстоятельствах самое лучшее было бы заняться любовью, это придало бы мне мужества и спокойствия. После этого, несомненно, пришло бы в голову что-нибудь путное и вообще возросла бы вероятность спасения. Но как воспримет это группа приличных людей, только что переживших авиационную катастрофу? Очевидно, им это покажется странным.
— Но почему, — всхлипнула она, — я должна быть с тобой? Почему ты выбрал меня? Бросить группу — это непорядочно. Так может поступить только псих или дурак, но ты ведь ни то ни другое, хоть я и сама не знаю, почему я в этом уверена.
— Об этом я тебе уже рассказывал, радость моя, цыпленочек мой, поцелуй меня.
Я крепко поцеловал ее в губы и погладил по волосам. Конечно, ей пришлось отстраниться, но сделала она это далеко не сразу.
— Послушай, я повторю тебе все еще раз, и тогда ты увидишь, что мы не можем поступить иначе. У меня действительно нет выбора, обстоятельства вынуждают меня, прямо-таки за руку тащат к спасению: мое дело — лишь правильно их истолковать. Как мне это удастся? Не знаю. Но что-то говорит мне — что именно, я и сам не понимаю, — что предложения командира, вернее, его приказы приведут нас к гибели. Может быть, что-то в его глазах, в том, как он держится. Слушаться его — значит идти на верную смерть. Таким образом, его советы, планы — словом, все, к чему он нас побуждает, ошибочно. И потому вполне вероятно, что правильнее поступить как раз наоборот. Я убежден в этом и уверен, что нам надо откалываться. Тогда мы избежим беды.
Она внимательно слушала, слезы ее высохли. Я упрямо продолжал:
— Так что же я должен делать, исходя из этой убежденности? Коль скоро я уверен, что она ведет к спасению, то на первый взгляд может показаться, что мой долг — повести за собой всю группу. Для этого понадобится необычайное красноречие, большая сила убеждения, колоссальная энергия. Возможно, дойдет и до драки, но ради общего блага можно ни перед чем не останавливаться. Однако я, увы, не обладаю упомянутыми качествами. Я сумею убедить кого-нибудь одного, но остальные ополчатся против меня. Я не способен завоевывать популярность, так уж я устроен, и на каждого моего сторонника всегда приходится четверо-пятеро врагов. Я знаю это: ведь самое главное — познать самого себя. И следовательно, мне не удастся убедить группу. Но допустим, я обладал бы необходимыми качествами и пустил бы их в ход. Думаешь, тогда бы мне это удалось? Нет, и тогда бы ничего не вышло. Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю, что только под дулом пистолета эти люди отступились бы от командира. Он для них — и отец, и мать, и еще немножечко господь бог. Наконец, последнее. Принципы, на которых я строю наше спасение, теряют силу, если их станет применять целая группа. Они годятся лишь для одиночки, сделать их достоянием массы — значит поставить их с ног на голову. И потом, остается ведь крошечный шанс, что командир прав. Я-то, конечно, в это не верю, но в действительности такой шанс есть. Это тоже причина, чтобы удрать одному. А почему я хочу взять тебя? Да очень просто: из всей группы мне хочется спасти только тебя одну. Да, потому что ты молода и красива, более того, мой выбор — результат работы определенных желез в моем организме, и я это знаю. Ну и что? Мы хотим сохранить свою жизнь, испытываем голод и жажду, избегаем боли и стремимся к наслаждению — что тут дурного? Вероятно, мне следовало бы сказать, что я вдруг, по неизвестной причине, воспылал к тебе страстной любовью, — это тебе бы польстило. Но я говорю: я увидел тебя, единственную привлекательную женщину среди всех этих людей, железы продолжения рода пришла в действие, и родилась любовь. И это не исключает того, что ты мне правда очень — ну да, очень — нравишься.
Я замолчал; я замерз и чувствовал себя ужасно несчастным. Наверное, все без толку. Хотелось бы мне быть скупым на слова сильным мужчиной, который спокойно идет своей дорогой, плюет на всех и делает то, что ему нравится.
— А у тебя не найдется сигареты?
Молодая женщина кивнула и вытащила пачку сигарет. Она явно обдумывала мои слова. Я закурил, наблюдая за тем, как люди снова окружили командира, чтобы получить очередную порцию мудрых указаний. Отметил, что командира вовсе не беспокоит наше отсутствие. Повернулся к ней.
— Скажи же что-нибудь. О чем ты задумалась? Решаешь, кто тебя вернее спасет — командир или я? А может быть, терзаешься нравственными муками, коришь себя за то, что ты не такая героиня, как Флоренс Найтингейл
[19] или еще кто-нибудь в этом роде? Выскажись наконец, выбери, и тогда можно начать действовать.
Она отошла на несколько шагов и остановилась, глядя в пространство. Прямо за ней был разбитый самолет, и я стал смотреть на него; я замерз и совершенно пал духом. Как хотелось мне сейчас быть дома, развалиться в покойном кресле и смотреть скучную телевизионную программу. Я мог бы встать и сделать что-нибудь приятное: пойти вынуть из почтового ящика газету или выпить стакан пива. На худой конец я согласен был даже сидеть с зубной болью в приемной у стоматолога и просматривать в затрепанном журнале трехлетней давности очерк о Гренландии.
Она медленно вернулась и посмотрела на меня. Я почувствовал волнение, прочитав в ее глазах, что она доверяется мне. По-моему, это самое прекрасное, когда тебе кто-то доверяется. Моя надежда на спасение снова укрепилась, и я понял вдруг, что эта девушка необходима мне: один, без ее поддержки, я бессилен. Все мои рассуждения в основном были просто болтовней. Но разумеется, вдвоем мы одолеем все.
— Я подумала, — начала она, — и, во-первых, должна тебе сказать, что не согласна с твоими взглядами на любовь, будем считать, что я этого не слышала. Сам ты мне нравишься, и я тебе доверяю, но вовсе не из-за каких-то там желез. Да, кстати, меня зовут Джейн. А сейчас я тебе объясню, что́, по-моему, нам надо сделать. Ты сказал, что не можешь повести за собой группу, потому что у тебя нет для этого данных. Мне кажется, ты не прав. Ведь убедил же ты меня, и поэтому я — может быть, ошибочно — полагаю, что и с другими тебе бы это удалось. Они ведь пока сохранили расположение к тебе, они бы к тебе прислушались. Думаю, ты зря говоришь, что не мог бы привлечь группу на свою сторону. Наверное, тебе просто не хочется, может быть, ты стесняешься или что-нибудь в этом роде. Дальше: ты считаешь, что шансы выжить уменьшатся, если на твою точку зрения встанет много людей, но против этого я знаю средство. Если я тебя правильно поняла, ты просто хочешь узнать, что предлагает командир, и поступить наоборот. Честно говоря, это мне кажется самым слабым местом в твоих рассуждениях: противоположное тому, что, с твоей точки зрения, неразумно, тоже не обязательно будет разумно. Это может оказаться еще гораздо неразумнее. Но я согласна, выбирать нам особенно не приходится. Допустим, ты прав, так давай спросим у самого командира, что он собирается делать, и попробуем убедить его поступить наоборот. Если нам это удастся — твоя цель достигнута, группа, конечно, пойдет за командиром, а на самом деле за тобой, но с его одобрения и при его поддержке, и думаю, тогда твои принципы не встанут с ног на голову. Только не высказывай командиру своих опасений так, как мне, а то ничего не получится. Ты просто наври ему что-нибудь, например что хорошо знаешь Гренландию, бывал здесь не раз, или что твой дядя — близкий друг директора «Эр Франс». Конечно, врать нечестно, но это ведь ложь во спасение, она простительна. Давай подойдем к нему, отзовем в сторону. Если он заупрямится — пригрозим, что постараемся вырвать группу из-под его влияния. Это ему наверняка не понравится. Но думаю, он согласится, я с ним пококетничаю — раз он француз, это должно подействовать.
— Вот уж что настоящий предрассудок, — сказал я раздраженно (мне не понравилось, что она строит планы и, в сущности, взяла руководство в свои руки). — Почему француз должен скорее поддаться твоему обаянию, чем, скажем, норвежец? Нездоровое суеверие, особенно распространенное среди женщин в Соединенных Штатах. По-моему, это вздор.
И я мрачно уставился в пространство, избегая ее взгляда.
Но подумав, я решил, что предложение ее правильное и именно тут-то все и встанет на свои места. Командир, без сомнения, будет с нами так груб и высокомерен, что разговора не получится. Это еще дальше оттолкнет нас от группы — и тем лучше. Я дал себя убедить и в первый раз назвал ее по имени:
— Ты права, Джейн.
Довольные, что наконец можем что-то делать, мы подошли к командиру. Я остановился перед ним, всем своим видом выражая желание что-то сказать. Он был занят беседой с механиком, который размахивал плоскогубцами у него перед носом, но моя красноречивая поза вынудила его посмотреть на меня. По его неприветливому взгляду я с радостью понял, что он никогда не согласится на наше предложение, что никакой разговор с ним невозможен.
— Мсье, — начал я сухо, — вы обещали спасти нас и вывести из щекотливого положения. Хоть это и ваша прямая обязанность, все же отрадно видеть, что вы столь энергично взялись за дело нашего спасения. Я рукоплескал бы вам, не будь это преждевременно. Поясню, что я имею в виду. Мы, то ость эта дама и я, полностью доверяем вам и понимаем, что наша жизнь в ваших руках, вернее, наши жизни, ибо речь идет о двух жизнях, то есть множественное число тут более уместно. И вот, стало быть… — Тут я потерял нить, кашлянул и начал снова: — Наше доверие к вам и к компании «Эр Франс» непоколебимо, несмотря на постигшее нас несчастье. И все же мы, а когда я говорю «мы»…
— Вы имеете в виду эту даму и себя, — перебил командир.
— Совершенно верно. Мы хотели бы услышать от вас, каковы ваши планы, то есть каким именно образом вы собираетесь спасать нас и выводить из этого положения. Как уже было сказано, не потому, что мы вам не доверяем, а потому, что… э-э… видите ли…
Мне трудно было ему объяснить — почему, хоть и очень хотелось. Во время моей, признаюсь, не слишком изящно сформулированной речи этот противный тип смотрел на меня презрительно и высокомерно, ввернул уничтожающее замечание и, что было хуже всего,
улыбался Джейн, которая улыбнулась ему в ответ. Мы об этом договорились заранее, и все же мне было неприятно.
— Я буду краток, — заявил командир. — Мне не кажется разумным на данном этапе полностью раскрывать мои планы. Все, что я считал нужным, я уже сообщил группе, и если бы вы не отделялись, то были бы в курсе дела. Повторять я не намерен, тем более вам. Вы вели себя недостойно как во время самой катастрофы, так и здесь. Я не понимаю, мадемуазель, — тут он с любезной улыбкой повернулся к Джейн, — почему вы оказались в обществе этого господина. Насколько мне известно, вы были с мистером Лейном, и, хотя я ничего не хочу сказать, ибо это не входит в мои обязанности, мне все же кажется…
— Благодарю вас, мсье пилот, — холодно сказала Джейн, — можете не продолжать.
Я безумно обрадовался. Вот это характер. Я сам на ее месте бросил бы меня и под влиянием командира, который внешне гораздо меня интереснее, вернулся бы в группу.
— И я теперь буду краток, мсье пилот, или, вернее, командир группы, — сказал я. — Вы бестактны. — Я думаю, ему и раньше об этом говорили, потому что он тотчас надулся. — И мы просим вас не рассчитывать на наше сотрудничество. Прощайте.
Мы медленно пошли к прежнему месту, старательно обходя группу. Энтузиазм, вызванный призывом помочь мистеру Лейну, явно угас, старик с несчастным видом привалился к какому-то мужчине, который небрежно обнимал его за плечи. Джейн быстро подошла к нему и что-то сказала. Я видел, как он на нее окрысился. Вполне понятно, ну что же, ничего не поделаешь. Джейн вернулась ко мне.
— Что он сказал?
— Что он еще ни в ком так не ошибался.
Этого и следовало ожидать, но Джейн огорчилась. Очевидно, мало-помалу в нас разочаровалась вся группа. Все повернулись и смотрели на нас. Удручающее зрелище. Я взял холодную руку Джейн в свои — что еще я мог сделать? А группа неодобрительно качала головой.
Мы шли молча. Все наши дальнейшие планы, все то, что мы собирались делать после разговора с командиром, стало теперь бессмысленно, об этом надо было забыть. Если разобраться, то правы все — и командир, и группа, и мы. В том, что происходит, ничего нельзя изменить. Страх, радость да и другие человеческие чувства совершенно излишни… Кто-то — а может быть, и все — будет спасен, а кто-то погибнет, и тут уж ничего не поделаешь. Можно только выжидать и наблюдать.
Мы находились на полдороге к вытянутому бугру и, не сговариваясь, шли прямо на него. Может, поднявшись на его вершину, мы увидим уже упоминавшуюся американскую военную базу: ведь, в конце-то концов, в Гренландии есть американские базы, а на случай положиться можно. Но, поднявшись, мы увидели только в точности такой же холмистый ландшафт. Естественно, ведь если бы поблизости была база, американцы наверняка заметили бы падающий самолет. Время от времени я произносил: «Да-да» — просто чтобы нарушить тишину. Я нежно пожимал руку Джейн, но она не реагировала. Оглянувшись, мы увидели, что за это время рядом с разбитой машиной насыпали высокий курган, увенчанный деревянным крестом. Очевидно, под ним лежали тела погибших. Возле братской могилы стоял командир, перед ним полукругом — остальные. Он держал кепи в руке и явно произносил речь.
— Мне кажется, там происходит что-то вроде богослужения, — сказал я, и Джейн кивнула.
— Ну вот, — сказал я, вспоминая свои страстные слова, обращенные к Джейн, как мне тогда казалось, с полной искренностью.
Теперь же я был к ней совершенно равнодушен. Все, вместе взятое, было мне противно, я хотел одного — чтоб это поскорее кончилось, безразлично как. Мне нечего было дать Джейн, и я сожалел, что заставил ее порвать с большинством. На меня-то группа, несмотря ни на что, всегда смотрела как на чужака, да и ничего другого я и не желал. Но Джейн была любимым и уважаемым членом коллектива и бросила его ради меня, а этого ей никогда не простят.
— Что касается красивых слов, то мы оба наговорили их предостаточно, — сказала Джейн. Выходит, мы с ней думали об одном и том же. — Просто невероятно, — продолжала она, — до чего можно увлечься какой-нибудь идеей, планом и тому подобным. Входишь в азарт, чего только не сочиняешь, строишь воздушные замки, но, едва перестанешь об этом думать, или что-нибудь произойдет, или у тебя переменится настроение, все сразу рушится. У меня предчувствие — знаешь, знаменитая женская интуиция, — что случится самое ужасное: нас спасут, а остальные погибнут. Если это произойдет, я буду тебе обязана жизнью, но смотреть на тебя не смогу. Это ужасно — оказаться правым вот так. И в сущности, смерть всех этих людей будет на твоей совести. Но ты не обращай внимания на то, что я говорю.
Я и не обращал. Я был охвачен глубокой меланхолией и отвращением ко всему. Будь я один, я бы вернулся в разбитый самолет и просто сидел там, уставясь на какой-нибудь прибор. Нет, такая жизнь не для нервных натур вроде меня. А между тем именно эта нервозность заставляет нас искать или создавать ситуации, которые нам не по плечу и к которым гораздо лучше приспособлены люди, ничего такого в своей жизни не переживавшие и уютно проводящие вечера за картишками.
— У предчувствий есть одно свойство: они никогда не сбываются, — сказал я. Это изречение тоже было порождено моей меланхолией. Когда я не в духе, я изрекаю афоризмы, которые звучат вполне разумно, но ничего не значат. Мне стало страшно, я принялся глубоко дышать и таким образом одолел страх. Я дал себе слово больше никогда в жизни не путешествовать. В глубоком кресле посиживать у камелька, а лед чтоб был только в стаканах.
В группе у разбитого самолета возникло движение — видно, они что-то решили. Люди суетились, до нас доносились голоса, хоть слов мы и не разбирали. Из самолета вылезли двое членов экипажа, один по-прежнему с плоскогубцами. Из алюминиевых полос они смастерили что-то вроде носилок; мы молча наблюдали, как они подошли с носилками к мистеру Лейну, и тот, поломавшись немного, улегся на них. Четверо мужчин подняли носилки и прошлись для пробы. Проба получилась неудачная — старик едва не скатился. Командир, наблюдавший за ними, подал знак опустить носилки. Остальные пассажиры подошли, сняли с себя пояса и привязали ими мистера Лейна. Итак, с этой задачей они справились.
Они медленно построились в колонну — правда, то один, то другой иногда вылезал, но все же появилось какое-то подобие порядка, — командир низко надвинул на лоб кепи и прошелся вдоль шеренги, очевидно произнося при этом что-то ободряющее. Наконец они успокоились, подровнялись — ну в точности школьники, всем классом отправляющиеся на прогулку! Командир указал на нас. Вся колонна оглянулась, даже мистер Лейн попытался повернуть голову, но безуспешно — видно, привязали его на совесть. Командир поманил нас, мы махнули ему в ответ. Я думал, что теперь он погрозит кулаком, но так далеко он все-таки заходить не стал. Он пожал плечами и одновременно развел руками — жест, выражающий бессилие. Мы поняли, что сделал он это для группы, а не для нас, и потому не обиделись. С облегчением мы смотрели, как колонна наконец тронулась — очень медленно, но, когда через некоторое время я снова посмотрел в ту сторону, они продвинулись уже достаточно далеко. Итак, мы расстались; ну что ж, посмотрим, кто из нас выживет. Согласно нашему плану, нам предстояло остаться у самолета, и я очень этому радовался: мне вовсе не улыбалось мерить шагами суровые гренландские холмы.
Взявшись за руки, мы побрели к самолету. Осмотрев его внутри, мы обнаружили в хвосте два кресла, уцелевшие после пожара. Не так-то легко было очистить их от сажи и пепла. Но нам хотелось укрыться от холодного ветра, а потому на вонь мы уже не обращали внимания. К тому же через четверть часа мы к ней принюхались — просто удивительно, как быстро человек свыкается с любыми обстоятельствами.
Много часов провели мы там, подобно потерпевшим крушение на необитаемом острове. Мы сняли пальто и накрылись ими. Изредка что-то говорили, Джейн рассказывала о своей жизни, я — о своей, мы задавали друг другу вопросы вроде: «Ты меня любишь?» и «Мы будем потом встречаться?» — но все это было очень трудно сейчас решить. Если мистер Лейн не умрет и не уволит ее, возможно, они заедут в Голландию во время одного из путешествий. Где они только не побывали — послушать ее, это было преутомительное занятие. Я настойчиво приглашал их в Голландию, но она вспомнила, что мистер Лейн раз уже был там и ему не понравилось, так что надежды на повторный визит мало. Так мы болтали, а больше молчали. Потом у Джейн пробудилось чувство вины перед мистером Лейном — я, впрочем, этого ожидал. Я терпеливо разъяснил ей, что, какая бы судьба его ни постигла, винить он должен только себя. Почему ему не пришло в голову отделиться от группы — он ведь достаточно разумный человек. Оставим в покое тех, кто привык всю жизнь следовать установленному свыше порядку, полагая, что это и есть самое разумное. Кто мы такие, чтобы вмешиваться в чужую жизнь?
Так говорил я, изрекал и другие истины в том же роде, а ворочать языком становилось все труднее. Разговоры перемежались долгими поцелуями; потом я почувствовал, как потянуло холодным сквозняком. Постепенно темнело и холодало, и оба мы погрузились в какой-то полусон, все больше и больше коченея. Чтобы не замерзнуть, мы теснее прижимались друг к другу и наконец словно бы слились воедино. Так прошла ночь. Проснулись мы от шума снижающегося вертолета.
Высунувшись наружу и увидев американский военный вертолет, я удивился, что ничуть не удивлен. Видно, я довольно твердо рассчитывал на то, что нас спасут. Все шло именно так, как я себе представлял. Мы не суетились, не трудились, а за нами прилетели. Вертолет мягко приземлился неподалеку от нас, дверца открылась, и из нее выпрыгнул военный. Он медленно направился к разбитому самолету, а другой военный, сидя в дверях, наблюдал за ним.
— Пошли, — сказал я Джейн, — автобус прибыл на остановку, надо поспеть на него, интервалы очень большие.
Я в первый раз услышал ее громкий смех. Мы с трудом, помогая друг другу, вылезли из кресел, из-под пальто. Мы страшно закоченели, и, когда, пошатываясь, вылезли на волю, вид у нас был вполне подходящий для людей, перенесших катастрофу. Увидев нас, военный испуганно остановился. Он не ожидал встретить людей.
— Расскажите мне все, — сказал он. — Что произошло, остался ли еще кто-нибудь в живых?
Он сунул мне пачку сигарет, после чего бросил меня на произвол судьбы, а сам стал поддерживать Джейн. Я сделал несколько приседаний и взмахов руками — при этом я упал и уже не мог встать без посторонней помощи. Когда меня подняли, на меня напал приступ смеха, но я, хоть и с величайшим трудом, подавил его: мне не хотелось, чтобы наши спасители приняли меня за кретина. Наконец-то застывшая в жилах кровь снова пришла в движение, и я смог открыть пачку и закурить сигарету. Джейн тем временем подробно обо всем рассказала, так что мне, слава богу, не понадобилось ничего говорить. Нам помогли залезть в вертолет, и, должен признать, весьма относительный комфорт этого аппарата вызвал во мне ощущение непередаваемого блаженства. Я уютно устроился на маленьком стульчике и чуть не сказал: «Итак, я сижу» — но вовремя удержался.
В вертолете находилось еще двое, и им тоже хотелось все узнать. Джейн вкратце повторила свой рассказ, особо подчеркнув, что еще человек тридцать отправились пешком и, конечно, не могли уйти особенно далеко. Я спросил, почему они нас нашли; американец, который дал мне сигареты, ответил: «Потому что искали», и всех это очень рассмешило. Дверцу закрыли, и пилот начал дергать разные рукоятки. С оглушительным шумом мы поднялись в воздух и полетели по следу группы. Через полчаса мы увидели внизу неровную колонну. Они все стояли и размахивали руками как сумасшедшие.
Когда мы приземлились, они бросились к нам, командир — впереди всех. Военный снова открыл дверцу и выпрыгнул. Я поспешил высунуться и с приветливой улыбкой посмотрел в лицо командиру. Гримасу, которая на нем появилась, я не скоро забуду: она вошла в сокровищницу моих самых дорогих воспоминаний.
Вид у группы был жалкий, они провели скверную ночь. Вперед вытащили мистера Лейна на носилках — бледного, без сознания. Конечно, уже через полчаса после начала похода они уронили носилки: передний носильщик оступился, попав ногой в скрытую под снегом яму. Мистер Лейн с тех пор так и не приходил в себя. Мы развязали пояса и ремни и уложили его на пол в вертолете. Командиру было велено оставаться на месте: за ним и за остальными в самом скором времени пришлют несколько более вместительных вертолетов. Ему сунули сигареты, небольшой запас еды и питья, и мы снова улетели. Поскольку мы с Джейн уже сидели в вертолете, нас не стали высаживать, поэтому мы первыми из спасенных жертв катастрофы появились на базе и были встречены с подобающими почестями.
Спустя два месяца я получил письмо от Джейн. Мистер Лейн поправился. Он простил ее, но о путешествиях пока не может быть и речи: он еще слишком слаб. Больше я не получал от нее ни строчки.
Атмосфера печали на Йонкхеренстраат так плотна, что ее можно прямо-таки пощупать рукой. Почему — неизвестно. Печаль угнездилась в стенах домов при застройке.
Булыжная мостовая вздымается волнами, вместе с нею, хоть и не так необузданно, вздымаются трамвайные рельсы. Десяток кафе, несколько дешевых закусочных и заведений, где продают жареный картофель, магазины. Если вы любите военную терминологию, можно сказать, что магазины стоят здесь сомкнутым строем. Улица постоянно перекопана: водопроводные трубы и кабели вечно оседают в рыхлой почве. Да и дождь, кажется, моросит на этой улице чаще, чем на других.
В одном из кафе у стойки стоит Серейн. Он только что положил на стойку револьвер, стоит и смотрит на него. Кафе оформлено с претензией на «интим». Тщетная попытка: всем известно, что «интим» зависит только от нас самих. Но чтоб выпить, любая обстановка годится.
Серейну под пятьдесят. К разговорам он не расположен. Но тот, кто кладет на стойку заряженный револьвер, должен все же дать кое-какие пояснения. Он принимает вид человека, который хочет сообщить нечто важное. Все посетители смотрят на револьвер: не часто его увидишь и наших мирных кабачках, где и обычная-то драка — редкое явление. А блестящий вороненый револьвер — это уже нечто из ряда вон выходящее.
— Я много лет прожил в Америке, — безразличным тоном начинает Серейн. — Поехал туда во время кризиса. Эмигрантское судно, мы все заросли щетиной и обовшивели, но так или иначе доехали.
Он умолкает и думает о том, что вовсе не надо было ему вытаскивать револьвер. Но когда он у тебя в кармане, хочется вытащить его и посмотреть. Это получается невольно.
— В Америке, конечно, тоже был кризис, оттуда-то он к нам и пожаловал. Стал я бродяжничать, работы было мало, еды мало. Приключений — да, конечно, хватало, но я их не люблю. Ну так вот, оказалось, что заработать себе на хлеб с маслом можно только одним — преступлением.
Хозяин наполняет стаканы. Он недоволен. Человек с револьвером — это неприятность. Но он приходит к выводу, что все равно ничего не поделаешь, и успокаивается.
— Америка — не то что Голландия, и преступления там не те. Здесь в кои-то веки раз воры заберутся в квартиру или какую-нибудь старуху пристукнут ради пары сотен гульденов. Но все это детские игрушки по сравнению с теми сложными замыслами, которые осуществляются там, за океаном. Ну вот, какое-то время я присматривался; когда ищешь работу, поневоле ведь сталкиваешься с гангстерами — они там везде сидят. Наконец в Нью-Йорке я присоединился к одной группе гангстеров. Ну а в такой группе человеку дают выбирать. Платят в зависимости от риска, которому он подвергается. Работа, где скорее всего можно выдвинуться, хотя и больше всего шансов загреметь, — это работа убийцы. И я стал убийцей. Выполнял заказы объединений или отдельных лиц, которым требовалось кого-то устранить. Интересная, живая работа, много свободного времени.
Все это производит на слушателей большое впечатление. Ведь не каждый день случается выпить с профессиональным убийцей! Хозяин жалеет, что телефон так далеко от его места за стойкой. Ну, авось обойдется — и на нервной почве он угощает всех присутствующих бесплатной кружкой пива. Это создает заговорщицкую атмосферу, каждый чувствует себя немножко гангстером.
— За это время я убрал довольно много людей. Конечно, мне всегда бывало неприятно, но чего не сделаешь за хорошие деньги! Каждый день вечеринки, девочки, а выпивки сколько душе угодно. Но все же настал момент, когда я почувствовал, что сыт по горло, все это стало действовать мне на нервы. Было это в тридцать девятом, я скопил уже кругленькую сумму, и вот в один прекрасный день я звоню в бюро путешествий и прошу заказать мне билет на самолет в Голландию. Никто не должен был знать об этом — к гангстерам нельзя просто прийти и сказать: «Ребята, я завязал». Они этого не допускают, это слишком опасно для них. Я себе работаю, а на следующий день, за час до отлета, беру такси и потихоньку смываюсь, без багажа. Как только я сюда добрался, началась война. В войну я пять лет прослужил ночным сторожем в бюро выдачи продовольственных карточек. Здесь, в этом городе. Для меня война была спокойным временем, я полностью оправился от всей этой пальбы в Америке.
Он делает хозяину знак налить всем — он угощает. Вновь пришедших шепотом вводят в курс дела. Серейн чувствует, что первоначальная враждебность уступает место пониманию. Ему очень приятно. Убийца редко встречает понимание.
— Но вот война кончилась, и я остался не у дел. Работы кругом было полно, только не для снайперов. И тогда я решил вернуться к своей основной специальности — устранять людей за большое вознаграждение. Мне казалось, что после войны должен появиться спрос на такого рода услуги. Но трудность была в том, что здесь ведь все не так, как в Америке. Здесь если ты убиваешь людей, то рано или поздно тебя зацапают, а кому этого хочется? В Америке за твоей спиной стоит организация, располагающая деньгами и адвокатами, тебе обеспечивают алиби, боссы полностью подготавливают убийство. Тебе, можно сказать, остается только спустить курок и положить в карман денежки. И никакой мороки. Полиция, конечно, знает, что ты убийца, но ничего не может сделать. Если ты аккуратно платишь налоги, ты в безопасности. Тебе угрожает лишь одно: тебя самого может пристрелить наемный убийца; но лично я был для этого слишком мелкой сошкой. А вот как поставить дело здесь, в Голландии?
Все задумываются над этим вопросом. Серейн ощущает себя центром всеобщего внимания и смотрит на слушателей, как учитель на учеников.
— Первая проблема заключалась в том, чтобы без особого шума приобрести клиентуру. И вот послушайте, как я разрешил эту проблему. Я звонил по телефону людям, которые испытывали трудности в связи с тем, что налоговое управление норовило докопаться, каким путем они в войну нажили капиталы. Я говорил им по телефону, что за определенную мзду берусь устранить кого надо. Никто не верил, они бросали трубку или смеялись надо мной. И вполне понятно: здесь ведь эта система до сих пор не применялась. Наконец однажды человек, которого здорово прижали, приглашает меня к себе домой. Я прихожу. Он объясняет мне, кто должен исчезнуть, и мы договариваемся об оплате — пять тысяч гульденов. Как и в Америке, требую и получаю половину вперед. Придя домой, я смекнул, что во всем этом есть одна неувязка. А именно: у меня есть возможность присвоить деньги, не выполнив своей части уговора. В Америке по-другому, там тот, кто заключает с тобой договор, обычно нанимает еще кого-то, чтобы следить за тобой. И тогда ты, разумеется, вынужден позаботиться, чтобы жертва получила свою пулю. Потом ты идешь к своему работодателю за второй половиной. Он тут же выкладывает ее, ему и в голову не придет зажать денежки, потому что тогда его самого завтра утром найдут мертвым в сточной канаве. Я только хочу сказать, что там все в полном порядке, никто никого не может обжулить. Но здесь-то по-другому! Я был этим очень озабочен, потому что мне хотелось работать по всем правилам. Но когда я стал размышлять о другой проблеме — о том, как мне избежать лап полиции, — я вдруг понял, что решение уже найдено. Отныне я всегда буду брать половину денег вперед, а выполнять заказ не стану. И денежки в кармане, и никаких хлопот с полицией.
Слушатели восхищенно прищелкивают языком, кто-то произносит: «Вот это да!» — и с перепугу заказывает угощение на всех.
— Но если бы я взял деньги и просто ничего не сделал, я бы себя чувствовал мошенником, и потому я выполнил все, как положено: следил за жертвой и, когда хорошо изучил ее обычные передвижения, наметил время и место убийства. Интересующий меня человек каждый вторник вечером проходил по Эндеганг из конца в конец. Почему и зачем — не знаю, но в нашем деле это и не важно. Эндеганг с одного конца — совсем узенькая, темная улочка, там стоят одни старые склады. Я беру напрокат машину, занимаю выгодную позицию и поджидаю его. Вот он приближается; тогда я опускаю стекло, целюсь в него из револьвера и нажимаю на курок. Но ничего не происходит — револьвер не заряжен. Однако совесть моя спокойна: я свои деньги отработал.
Слушатели сочувственно кивают, им все это очень понятно. Серейн закуривает сигарету.
— После этого я стал ждать, что будет. Заказчик не знал моего адреса: мы встречались у него. Но парень он был дошлый и ухитрился выяснить, где я живу. В один прекрасный день он является ко мне со своими расспросами и угрозами. Я рассказываю ему все в точности как было. Он требует назад деньги. Я отвечаю, что это невозможно: я ведь проделал работу, и мне тоже надо жить. Конечно, я не стану требовать с него вторую половину суммы, на нее я не имею права. Он возмущается и кричит, называет меня аферистом и тому подобное. Тогда я вынимаю револьвер и говорю, что на этот раз он заряжен. Клиент уходит и больше не доставляет мне хлопот.
Серейн с довольным видом отхлебывает из своего стакана.
— Я намеревался спокойно пожить на заработанные деньги и лишь потом снова взяться за дело. Но тут началось самое удивительное. Примерно через месяц ко мне приходит некто, представляется, ссылаясь на моего первого заказчика, и спрашивает, не возьмусь ли я устранить одного человека. Я, естественно, соглашаюсь, а про себя смекаю: мой первый клиент решил, что ему будет легче, если и другой попадется на ту же удочку. Но меня это не касается. Я снова запрашиваю пять тысяч гульденов, он хочет сразу же заплатить половину, но я говорю: нет, я вам позвоню. Он уходит, я выслеживаю его, он действительно идет туда, где, как он мне сказал, он живет. На следующий день я навожу о нем справки, и все как будто в порядке — во всяком случае, он не из полиции. Я звоню ему, назначаю встречу. Он приходит и сует мне в руку двадцать пять сотенных. После этого я месяц вкалываю, чтоб определить время и место убийства. Все идет по намеченному плану, я опускаю стекло, целюсь и нажимаю на курок. И опять ничего не происходит. Вскоре мой второй заказчик приходит ко мне и мечет икру. Я и ему говорю то же самое, и он уходит. Через какой-нибудь месячишко снова является некто и заказывает двойное убийство. Так за годы упорного труда я приобрел обширную клиентуру — это обманутые, которым нельзя выплакать свое горе в полиции; единственное, что они могут, — это сорвать свою злость на других. В высшем обществе теперь мой адрес — тайна, известная всем. Иной раз мне даже приходится отказываться — так я занят. Но я не чувствую себя счастливым: мне кажется все же, что я поступаю немного нечестно. Не по душе мне эти холостые выстрелы: я все спускаю и спускаю курок — и ничего не происходит. В Америке — вот было время, тогда выстрел был выстрелом, ты его чувствовал, ты видел пулю. А сейчас только слышишь щелчок и больше ничего. Но мой долг — продолжать, мне надо жить, надо откладывать на старость, я ведь, так сказать, мелкий свободный предприниматель…
Серейн вздыхает, а слушатели активно сопереживают. Он смотрит на часы.
— Вот и время подошло. Если вам угодно, сейчас вы можете увидеть, как я выполняю заказ. Через пять минут мимо этого кафе пройдет престарелая супружеская пара. Их обоих надо застрелить; очевидно, дело в наследстве, это часто бывает. Вы, наверное, уже отметили, что улица эта не тихая и у меня нет машины. Вот так с годами у меня появилось безразличие к работе: в конце концов, это ведь все равно подделка. И все же я пришел, я не могу совсем отказаться от иллюзии.
Серейн хватает револьвер, подходит к окну и слегка отодвигает тюлевую гардину. Кафе находится на углу, из окна просматривается вся улица: безлюдно, темнеет, вот-вот зажгутся фонари. Все двинулись от стойки вслед за Серейном и стоят полукругом позади него. Каждому хочется разглядеть получше. Они объединены этой напряженной тишиной, напряженным вниманием. Серейн левой рукой вынимает носовой платок и сморкается, в правой у него револьвер.
— Ну и мерзкая же улица, — говорит он, — уж и не знаю, что это в ней такое. Всегда кажется, что вот-вот дождь хлынет.
Никто не отвечает, все подстерегают престарелую чету, каждому хочется первому обнаружить ее. И все же первым замечает ее Серейн — замечает в самом начале улицы, у моста.
— Вот они.
Напряжение растет. Еще бы: сейчас они увидят наемного убийцу за работой! Серейн спокоен, пистолет не дрожит в его руке. Как всегда в такие минуты, он уносится мыслями в Америку, вспоминает время, когда одно имя его наводило страх. Теперь он опустился до голландского кафе, где дюжина нервных завсегдатаев дышит ему в затылок пивом и можжевеловой водкой.
Момент приближается: престарелая чета уже доковыляла до кафе. Серейн поднимает револьвер, целится, прищурив глаз, и спускает курок. Щелчок, он снова взводит курок, и снова щелчок. Тогда он сует оружие в карман и, не оборачиваясь, произносит:
— Конец, господа.
Зрители все стоят у него за спиной. Они ожидали большего. Но время идет, и больше ничего не происходит. Вздыхая, разочарованная публика возвращается к стойке. Хозяин еще раз наливает всем за счет фирмы — под впечатлением и от радости, что все уже позади, что револьвер, слава богу, снова исчез в кармане Серейна и что в самый захватывающий момент не ввалилась полиция — например, чтобы проверить его лицензию на продажу спиртных напитков.
Все выпили. Хозяин смотрит на Серейна, по-прежнему стоящего у окна, и говорит:
— Конечно, это было небезынтересно, однако же, как бы вам сказать, о таких вещах нельзя говорить в подобном тоне. Парень, по-моему, не в своем уме.
Завсегдатаи кивают. У них было превосходное развлечение, они прекрасно провели полчаса, но теперь все кончилось, и Серейна надо как можно скорее отдать в руки палача.
А Серейн, у окна, смотрит на печальную улицу, взгляд его мрачнеет, потная рука в кармане дрожит. Он тоскует по Америке.
Хейре Хейресма
СМЕРТЬ НЕЗАМЕТНОГО СТАРИКА[21]
Перевод В. Белоусова
Посвящается Пийтье Вассенаару, который по причине дурного воспитания впал в крайнюю нищету и лишился последней рубашки. В конце концов его отвезли на тачке в дом призрения, где за ним был бы присмотр.
Однако он отдал богу душу, еще и не переступив порога обители, и той же ночью его похоронили, одинокого бедолагу, где-то на пустыре у стен Аббатства, которого сейчас тоже нет. Вспомяни его.
Такое с ним уже бывало раньше. Ему хотелось тогда выбраться из окна. Или взобраться на крышу. Однако каждый раз он отказывался от своей затеи: то подоконники его не устраивали, то не было водосточного желоба. Ведь у человека еще будет время обрести покой. На кладбище.
Порой, когда он без всякой цели бродил в темноте среди черных громадин домов, ему слышались целые хоры детских голосов. Это походило на сказку. А еще у него было заветное местечко — в парке среди кустарника, где чувствуешь себя как, в настоящем лесу, — там можно слышать колокола всей округи, даже те, которых давным-давно нет. Звон их висел в ушах, им была полна голова. Оглушительный перезвон буквально погребал его под собой. Иной раз даже он, не выдержав, валился лицом в рыхлую землю. По счастью, происходило все это исключительно ночью либо — в крайних случаях — поздними сумерками. А то ведь, чего доброго, вообразят, будто у него падучая или что-нибудь в этом роде. От людских глаз укрыться трудно — что верно, то верно. Каждый норовит сунуть нос в твои дела. Днем вот, когда светло, еще туда сюда, можно сказать, терпимо. Разве что иногда, в миг передышки, когда он стоял где-нибудь у тротуара между двумя автомашинами и, например, ждал, чтобы перейти улицу, вдруг врывался какой-то инструмент. Корнет-а-пистон. И всегда сорок второй псалом. Или что-то высокое и эфемерно-благородное: колоратурное сопрано. Но он не придавал этому особого значения. Улица многоголосой рекой вливалась в него, прохожие кричали, и все чего-то хотели от него. Приветствия. При всяком удобном случае он сломя голову бежал прочь, не разбирая дороги — куда глаза глядят. Бывало, очутившись в каком-нибудь месте, куда месяцами не заглядывал, он замечал, что тем временем подстригли деревья и кое-где снесли дома, тогда он в замешательстве останавливался, как чужак озираясь по сторонам. И ему было совсем не до смеху.
Иногда набредал он на кого-нибудь из старых корешей. Тот пялился так, будто у него открытая чахотка. Что будет дальше, он знал наперед.
— Привет, Маккюс… — начинал приятель. — Это правда?.. Я тут слыхал… — И палец его уже полз по направлению ко лбу.
Трепло. Но он сразу же перебивал, чтобы не услыхать ранящее слово:
— Точно. Не бойся только. Я теперь самый натуральный псих.
Тот, ясным делом, ноги в руки, а он, конечно, веселился. Потому что кто подтвердит, что он прав? Или не прав? Такое ведь тоже не исключено.
Он остановился возле закусочной. Может, зайти? Ветер прилепил волосы к затылку, кругом морозная вата тумана. Пальто было с чужого плеча, но плотного материала. Великовато, правда, зато никакой сквозняк не возьмет. Вот только если по такой погоде выйдешь без шерстяной поддевки — проберет до костей.
Он открыл дверь. Волна теплого воздуха вырвалась наружу, и очки его запотели. Можно было бы заказать хэхактбал
[22]. Крепенький, питательный и вкусный к тому же.
Он любил это местечко. Во всяком случае, когда здесь не было чужих. Закусочная была небольшая, примерно как хорошая гостиная. Светло; желтые керамические квадратики напоминали ему добрые старые времена. Сидишь себе на мягком стуле да посматриваешь, что творится на улице, а тебя самого за голубой занавеской особо и не видно. Однако сейчас здесь все было не как обычно. У небольшой никелированной стойки, которая в то же время служила холодильником, он увидел троих парней с волосами до середины спины. Они запускали музыкальный автомат с ядовито-лиловой картинкой, изображавшей нью-йоркскую гавань, и тот отчаянно гремел. Обычно он любил смотреть на его мигающие огоньки, на гавань Нью-Йорка, которую знал как свои пять пальцев. И вовсе не по маркам или открыткам! Но когда рядом посторонние, все было совсем иначе. Ничего, подождем немного.
Он тихонько присел за столик и бросил взгляд на сутуловатые спины в куртках. На заду у одного из парней красовалась нашлепка с вышитой надписью Make love not war
[23], а двое других были в высоких солдатских кепи старого образца. Кажется, гусарского корпуса, подумал он. Уж как они тогда их ненавидели, эти распроклятые кастрюли с жесткой прокладкой, напрочь сдиравшей кожу со лба.
Ему неприятно было смотреть, как они, пережевывая жареную картошку «фрит», лупили грубыми сапожищами в такт тупой, обезьяньей музыке по блестящим квадратикам в низу стойки.
Парень с вышитой заплаткой на заднице вдруг резко повернулся.
— Чего закажешь, папаша?
Он улыбнулся и чуть приподнял руку.
— Сейчас, ребята. Сейчас.
— Ты это брось. Нашелся здесь — за так сидеть. А мы — плати. Не пойдет, отец.
— Ну вот и ешь свой фрит. Заплатил — получи свое.
На секунду парень растерялся, но быстро пришел в себя.
— В гробу я это видал! — выпалил он вдруг. — Глотнешь чего?
Он отрицательно покачал головой и благодушно улыбнулся.
— Вот посижу немного и закажу себе хэхактбал.
— Ты
сейчас его сожрешь, — решительно отрезал парень. — А, мужики?
Те двое живо откликнулись:
— Дай ему насибал
[24].
— Хэхактбал, — сказал он так тихо, что они не расслышали. Надо было держать ухо востро.
Обслуживал сам хозяин. Они знали друг друга. Когда хозяйки не было у стойки или она возилась где-то на кухне, ему иной раз кое-что перепадало от молодого хозяина.
— Спасибо тебе, Хармен. — Он взял тарелку и хотел было поставить ее на свой столик.
— Держи в лапах, — сказал один из юнцов. — И вежливо поблагодари на «вы».
— Спасибо вам.
Он не стал спорить. Пускай, если им так надо.
Вообще ему не нравились насибалы. Они были какие-то искусственные, однако здесь их готовили по крайней мере из хороших продуктов, и ничего не случится, если он съест одну штуку. Зажав большим и указательным пальцами коричневый, будто обработанный морилкой, предмет, он поднес тарелочку к подбородку. И тотчас ему вспомнились дамы на верхней палубе и как они пили чай, а встречный ветер шлейфом мелких брызг уносил его прочь или в тот самый момент, как они подносили чашечки к губам, из трубы вываливался густой клуб дыма и накрывал собой всю компанию. При воспоминании об этом он непроизвольно улыбнулся и приоткрыл рот, в котором, по счастью, сохранилось еще несколько здоровых зубов.
— Но-но-но, давай прямо с тарелки! — крикнул один из тех, что были в кепи.
Он недоуменно поднял глаза.
— С тарелки, дед, лопай.
— Боюсь, не получится у меня, — попытался он возразить. — Свалится, как пить дать.
— Свалится, так мы заткнем его тебе в глотку.
Он старался упрятать его подальше. Свой страх. Но теперь избавиться от него было уже невозможно.
Хулиганы наводняли улицы, заполняли кафе. Если им взбредет на ум, то будь ты хоть инвалидом в коляске или с забинтованной головой, они не задумываясь выволокут тебя на берег канала или посадят на трамвайные пути, а там прыгай как знаешь. В подобных «шутках» они находили удовольствие.
Он положил насибал на тарелочку и попытался поймать его зубами. Получилось. Он сразу отхватил приличный кусок. И на вкус даже ничего. Сегодня.
— Шевелись, дед. Ночевать сюда пришел, что ли?
— Да-да, я стараюсь, — проговорил он с полным ртом. — Как господам будет угодно.
Его слова пришлись им не по душе.
— Кто-то что-то сказал? — Один из юнцов совсем развернулся в его сторону.
Он замотал головой и начал жевать быстрее. Заканчивай и сматывай удочки. Дело принимало уже скверный оборот, и он не на шутку струхнул. С такими никогда не знаешь, чем все может кончиться. До мотивов их поведения — если таковые у них были — не докопаешься. Любой их поступок выстреливал внезапно, ни с того ни с сего, как длинное щупальце из мрака пещеры.
— Все, — с облегчением вздохнул он и для вящей убедительности перевернул тарелочку вверх дном. — Большое спасибо, ребята.
— Ребята — это зверята в твоей вшивой башке, грязный бродяга.
— Как сказать. Как сказать.
Все же ему не удалось проглотить обидное и незаслуженное оскорбление. Он бросил взгляд в сторону Хармена, возившегося у мясорубки, но тот сделал вид, будто у него вдруг пошла носом кровь. В общем, его тоже можно понять. Ну, побесятся немного и утихомирятся.
— А теперь гони монету, — буркнул один из них.
— Конечно, конечно. — Он сунул руку в боковой карман пальто и сразу понял, что влип. Днем приходили из больничной кассы, и он, заплатив за соседку, оставил кошелек на кухне.
— Я кошелек дома забыл. Но…
— О-хо-хо, — выдохнули разом все трое, и парень в разукрашенных джинсах медленно двинулся на него.
— Ты что, на дармовщину решил?..
Он промолчал.
— Что вы, что вы. Я все улажу, — вмешался из-за стойки Хармен. — Оставьте человека в покое.
— Заткнись и не возникай. — Парень выставил вперед руку. — Ну, что ты еще выкинешь?
Что-то — он не понял что — потянуло его руку вверх, и он крепко пожал руку парня. Те, что стояли рядом, буквально согнулись пополам, а он, подняв глаза на парня, весь похолодел и сжался.
— Дурочку валяешь? Пошутить захотел? Со мной… пошутить.
Мальчишка приблизил свое лицо вплотную к нему. Совсем ведь зеленый. Навряд ли даже бреется.
— И наш фрит. Ты же нас угощал, а? Ты же нас…
Остальные поддержали его. Мол, гони монету и за нас. Ах, он бы сейчас отдал любые деньги, лишь бы сохранить мир!
— Оставьте же его в покое, — повторил Хармен. — Вы уже заплатили. Ну!
Они не обратили ни малейшего внимания на хозяина и теперь взяли его в кольцо. Руки вперед, готовые схватить.
Он пожал плечами.
— Я же вам объясняю…
— Слушай, ну ты даешь, старый, — прошипел один из них сквозь зубы. — Сначала, фраер, шикуешь, угощаешь нас, а потом мы же и плати. Мы будем платить? — Никто из троих этого не хотел.
— Сыми пальтишко, — произнес парень в кепи. — Живо. А то мы сделаем тебе больно. Очень больно.
Какой-то миг он колебался, потом поверил. Они это сделают и глазом не моргнут. Да, но его пальто. Это же невозможно. На что им старое пальто в елочку? Ведь сейчас такие и не носят больше. Нет, просто они хотят покуражиться. Посмотреть, насколько его хватит.
— Ну что, старый хрен, помочь?
— Хармен… — Он не кричал. Просто просил поддержки. Участия. Однако хозяин не откликнулся. Более того — исчез в кухоньке позади стойки. Он не хотел быть свидетелем.
— Оно у меня единственное, ребята.
И в ту же секунду оказался на ногах. Его просто подняли со стула и поставили. Дрожащими пальцами он начал расстегивать пальто. Слава богу, в карманах ничего нет. Он делал так, чтобы не вводить никого в искушение, когда заходил в кофейню и вешал его на привычное место — на дверь телефонной будки. А кошелек, как правило, держал в кармане, крепко зажав в руке. Только сегодня вот забыл… Он обдумывал возможность побега. Чтобы позвать полицию. А сам тем временем стаскивал с себя пальто.
— Нате, ребята, — вымолвил он. — Ну ладно, посмотрели — отдайте.
Парень в разукрашенных джинсах лихо закинул пальто себе на плечи, и компания с громким ржанием вывалилась на улицу.
— Хозяин! Хармен!
Хозяин неспешно появился из кухоньки.
— Слушай, они отняли у меня пальто.
Хозяин ничего не ответил и начал разрезать булочки для сандвичей.
— Ты в полицию не можешь позво…
— Я не дурак.
— Да, но это нельзя так оставить. У тебя в заведении грабят посетителей.
— Так они ж твои приятели.
— Откуда ты это взял? — В нем зарождалось серьезное подозрение. — Я…
— Ты ведь пожал руку одному из них, разве нет?
— Да, но это была… — Он понял в чем дело. — Шутка.
Он почувствовал, что покраснел, а к горлу одновременно подкатил комок.
— Вот-вот. Это была шутка, — подхватил хозяин. — И ничего больше, — добавил он, как бы придавая вес сказанному.
А чего он, собственно, ожидал? Что хозяин согласится, будто не умеет поддержать порядок в своем заведении и трусливо позволяет измываться над стариком?
— Я зайду сегодня, занесу…
— Да ладно, оставь.
Он распахнул дверь и вышел на улицу. И сразу же ветер набросился на него. Жестокий, пронизывающий насквозь. Самое лучшее сейчас было бы сразу пойти домой. Так и застудиться недолго. Он поплотнее закутал шарфом грудь и шею и двинулся в ту же сторону, куда исчезли парни. По дороге он заглядывал в каждую подворотню. И за каждую машину на стоянках. Но в конце концов потерял всякую надежду, что они, натешившись, бросили его пальто где-нибудь.
Давай-ка, приятель, домой, думал он про себя. Эдак и грудь застудить недолго. Или мочевой пузырь. Но тем не менее он продолжал свои поиски.
Вот у него уж и из носу потекло, а платок остался в пальто. Дома их сколько угодно, но сейчас, когда понадобился один-единственный, и того под рукой не оказалось. Воистину, какой прок в этой собственности, если не имеешь возможности располагать ею, когда тебе нужно. Как будто привычным жестом, хотя это отнюдь не входило в его привычки, он потянулся было к носу рукавом своего коричневого хлопчатобумажного свитера, но вовремя спохватился. Наконец, за каким-то гаражом, у бензоколонки, он, попеременно зажимая большим пальцем то одну, то другую ноздрю, высморкался «по-простому». Глупо как-то получается. Многих вещей он делать не умел, хотя окружающие делали все это совершенно спокойно. Воняли. На людях беспечно мочились на стенку, оглушительно рыгали; у него же на такое просто не хватало духу. Все дело в воспитании. В чем в чем, а в этом он недостатка не чувствовал. А был ли от этого толк? Конечно. И большой. Если бы он остался в той среде, где родился, вырос и получил воспитание. Однако там, куда он попал, его считали чудаком не от мира сего. Он никогда не мог найти себе друга. Может, ему бы повезло больше где-нибудь в другом месте? Над этим он не ломал голову, потому что это не имело смысла. Холод пробирал его до самых костей, а чудесное пальто — тю-тю, ищи теперь ветра в поле. По такой погоде лучше носа на улицу не высовывать. Замереть и не шевелиться. И на все наплевать. И ни одна живая душа не взглянет вверх, на его окно.
Он дошел уже до виадука. В нерешительности потоптался на место и даже повернулся разок вокруг своей оси. Забудь. Пальто твое пропало, и след простыл. Стараясь укрыться от ветра, он, весь дрожа, притулился у какого-то закрытого селедочного ларька. Господи, за что же такие муки? От усталости он уже едва волочил ноги — как хорошо было бы заглянуть вон в ту пивнушку. Но без гроша в кармане ты никому не нужен, в особенности там, где тебя мало знают. Впрочем, сюда он забредал редко: это местечко у окружной дороги было малопривлекательным и чужим.
Вперед, не раскисай, держи курс к дому. Он покинул свое временное прибежище и потащился на другую сторону. Незачем тут прохлаждаться. Надо бы зайти купить хлеба и еще чего-нибудь: джем, который он регулярно получал в сюрпризных пакетах из церкви, уже порядком приелся. Он не отказался бы сейчас от чего-нибудь посущественнее. Но у него не было при себе денег, а мясник в долг не отпускает. Не то что булочник. Однако ему совсем не улыбалось топать домой за деньгами, а потом возвращаться ради каких-то двух-трех кусков колбасы, вот так, без пальто.
У него по-прежнему зуб на зуб не
попадал от холода, но, как он ни старался держаться ближе к домам, ему это не удавалось: всюду прямо на тротуаре стояли припаркованные мопеды. Тяжелые стальные мусорные ящики выталкивали его на проезжую часть, а на тротуаре приходилось огибать огромные лужи, оставшиеся от утреннего дождя. Когда тапочки промокли насквозь, ему стало уж совсем худо.
Вот бы сейчас сюда ту музыку! Шагай себе да слушай — все не так тяжело. Но ничего не происходило, и в нем начала закипать злость. Вернее, возмущение. Что с ним сделали эти сопляки! Конечно, в их поступке было много непреднамеренного мальчишества. Выпендривались друг перед другом. Что говорить, и они в армии этим занимались, но из газет он знал, что там сейчас многое изменилось. Понятно, война была, да не одна. Будь здоров, что они тогда откалывали, но ребята, казалось, без этого не могли, как без воздуха. А ведь подчас это стоило им жизни. Нынче они ищут разрядку на футболе, но в последнее время им и этого уже как будто мало. Эрзацы кругом! Он брюзжал про себя. Но не без причины. То, чего он так боялся, все явственнее напоминало о себе. Ему крайне необходимо было сейчас отлить. Но где? Бежать ему не по возрасту. Всему свое время. И особенно это заметно в последние годы.
Он заставлял себя думать о другом. К примеру, куда их в этом году повезет благотворительное общество. Все это время были не поездки, а скучища. Может, неходячим инвалидам и немощным старикам, которых возили в кресле, это и нравилось. Ему же гораздо большее удовольствие доставляли прогулки подальше от людской суеты, от пустой болтовни всех этих слабых на язык дядюшек да словоохотливых тетушек. Бессвязное мычание блаженных.
Все без толку, его нужда давала о себе знать самым решительным образом. Сдержать ее уже не было почти никаких сил, но и мочить штаны вот здесь, прямо посреди улицы, он не мог. Куда ж это годится — в сырых штанах явиться домой? Видно, он уже слишком далеко зашел — дальше некуда. Пора в расход. Раз ты даже с этим не можешь совладать, то спокойно считай себя кандидатом в богадельню. Но надо будет хотя бы торчать в очередях в поликлинику. А там — билет в одну сторону да смена чистого белья в последний путь. У иных и того не бывает. Если родни нет или если ты никому не нужен. Но в таком случае, спрашивается, зачем вся эта суета?
По счастью, до этого еще не дошло. Ну уж нет. По крайней мере с ним! У него есть пока порох в пороховницах, правда, неизвестно, насколько его хватит, и жизнь идет своим чередом.
Он в нерешительности замедлил шаги у ворот дровяного склада. Выбора нет. Зайти разве и спросить разрешения воспользоваться их туалетом. Подъехал грузовик и засигналил, чтобы открыли ворота. Он сделал еще несколько шагов и прикинул на глазок расстояние. Так, осталось два переулка. Вперед! Пошел дождь. Ветрюга. Гнусь кругом. Он снова остановился и сжал колени. Может, в дверь позвонить? Они видели, как он подошел. А до предела напряженный мочевой пузырь, как ни сдерживайся, возьмет вдруг да и не послушает тебя. И ничего, ничего нельзя будет сделать. Что ж они тогда о нем подумают?
Он заглянул внутрь дворика, возле которого топтался. Довольно низкий дворик, несколько каменных ступенек. А ну-ка… Он действовал уже через силу. Бросив быстрый взгляд по сторонам, он тенью метнулся внутрь. Во дворик выходили две двери. Подняться… или? Он взглянул наверх. Там была еще одна дверь, прямо на лестнице, и жильцы могли заметить его через два больших окна.
Неслышный в своих тапках, он подкрался к одной из дверей и приложил ухо к почтовому ящику. Ни звука. Так, теперь — к другой. Он даже козырек над прорезью приподнял и заглянул внутрь. Прихожая. Больше ничего не увидел, но тишина его успокоила. Ну а теперь — скорее. Дрожащими пальцами он торопливо расстегнул ширинку, и вот уже дымящийся поток вырвался из него и зажурчал между тапочками. И лилось, и лилось. Кажется, этому конца не будет. Но, боже ты мой, какое блаженство! Долгожданное облегчение пришло и овладело им. До какой же степени человек зависит от своей природы! Уж если приспичит, то будь ты хоть университетский профессор, хоть простой ремесленник, — завертишься, бедняга, как уж на сковородке.
— Ма-а-ам, там дядька какой-то внизу писи-и-ит… — послышался голос сверху.
На него с любопытством смотрела девчушка лет восьми с бантом в волосах.
— Привет, — пробормотал он. Да и что тут скажешь? Вон и мамаша появилась. Крупная женщина с голосом склочницы.
— Эй, ты чего там?
Ну что спрашивать, и так понятно. Ярость нахлестнула его, когда он так унизительно-беспомощно стоял лицом к стене, между двумя дверьми. Дрова рублю, вот что!
— А ну, ты, грязная свинья, пшел отсюда! — Голос был твердый и гулко раскатился по лестнице. Поворачивая голову, насколько это было возможно, и пытаясь разглядеть ее там, наверху, он отчаянно старался заставить себя сдержать, остановить дымящуюся струю.
— Нет уж, погоди! Давай-ка убирай за собой!
Он услышал, как сперва открыли кран, как вода побежала в оцинкованное ведро, а немного погодя появилась и она сама, стуча каблуками по граниту ступенек. И в то же время он почувствовал — слава богу, слава богу, — что все позади и можно застегиваться.
— На-ка, держи! — Баба ткнуло ему в руки швабру и грохнула под ноги ведро. — И чтоб чисто было!
Конечно, он бы нисколько не возражал и с радостью вытер бы все за собой. Но она орала во всю глотку и поносила его на чем свет стоит, и девчушка наверху, визжа от восторга, тоненьким голоском вторила своей мамаше. А тут еще открылась дверь рядом, и появилось подкрепление — малый в расстегнутой форменной куртке трамвайного служащего.
— Полюбуйтесь-ка на красавца!
— Да уж вижу. У-у-у, старая кляча. Небось оттуда…
— Таких под замком держать надо, а?
— Плати тут за них налоги.
— Можешь не платить, я пока еще сам себя оплачиваю, — буркнул он трамвайщику.
— Ты смотри, он еще огрызается! — возмутилась женщина.
— Мой, — коротко приказал трамвайщик. — И поворачивайся поживей. Пока полицию не вызвали.
— У этих уличных бродяг всегда рыльце в пушку, — продолжала женщина. — Ребенка во двор погулять не выпустишь, такие вот шатуны мигом… У-ух!
Он взял щетку, обмакнул в ведро с водой и начал убирать свою лужу. Те двое стояли рядом, скрестив на груди руки, и давали указания:
— Вон там еще… Вот в том углу подотри…
Наконец он выплеснул на камни все, что оставалось в ведро, и щеткой согнал воду на улицу. Ну надо же сказать такое! О ребенке. От ее слов у него мурашки по телу побежали. Он прямо оцепенел. От этого нет защиты. Любое слово обернется против него. Они все вместе плюнули ему в душу, и им это дозволено, потому что он бродит по улице в тапочках. Ну почему он не инспектор жилищного управления! Или доктор. Тогда бы с ним так не обходились. И выбирали бы выражения. Но он всего-навсего старик, который путается под ногами и занимает крохотную однокомнатную квартирку.
— Возьми вот. — Он протянул женщине щетку.
— И чтоб духу твоего здесь никогда не было! Не посмотрю на твой возраст — измочалю по первое число, — проревел трамвайщик.
— Я же все прибрал.
— Ну и нахал! — Женщина возмущенно всплеснула руками.
Медленно повернувшись, он потащился прочь со двора, на улицу, туда, под этот мерзкий дождь. Он пытался держаться молодцом, но ничего не получалось. Ему вдруг все сразу обрыдло. Все. Вот только что у него еще был здоровый аппетит. Ну и теперь ему абсолютно безразлично, будет он сегодня что-нибудь есть или нет.
Он потоптался в сомнении возле лавки булочника. Внутри было тепло и уютно, а у него зуб на зуб не попадал от холода. Ну и ладно. Он прошаркал дальше. Зеленщик, который выносил из магазина ящики, заметил его и приветливо кивнул. А когда он поравнялся с лавкой, сунул ему что-то в руку. Повернув за угол, он разжал пальцы: на ладони лежало расплющенное с одного боку жесткое зеленое яблоко. Ему в голову не пришло выбросить его тут же в канаву. Это выглядело бы неучтиво. Да. Как было бы приятно, если бы люди не жалели его всякими третьесортными, бросовыми подачками. И уж конечно, не подсовывали ему подпорченные продукты — что до еды, тут он был весьма разборчив. Пусть ему много лет, но это вовсе не означает, что он, как корова или коза какая-нибудь, должен поддерживать свои силы помоями да отбросами.
Дверь парадного, как всегда, была распахнута. Ребятишки расположились на лестнице, разложив на коленях книжки, какой-то малец лет шести вовсю дымил бычком сигары.
Он поздоровался, и они, не отрываясь от своего занятия, молча пропустили его.
Он тащился по ступеням, как стол или шкаф, который сам себя затаскивает наверх. Знакомая, старая вещь — ни больше ни меньше.
Он почти не осознавал, как поднялся к себе, как тяжело опустился в кресло возле окна. Еще долго он переводил дух и, пытаясь согреть оледеневшие руки, то тер их друг о друга, то прятал под мышки. Но тепло не приходило, он только все больше коченел.
Дождь крупными каплями скатывался по стеклу, мужчины возвращались домой с работы. Желтоватый свет струился изо всех окон, а за ними, внутри, виднелись двигающиеся фигуры. До него донесся голос припозднившегося уличного торговца, который катил мимо свою тележку.
Он через силу стащил с себя тапочки и в мокрых носках проковылял к печке. Потухла. Наклонился и поворошил угли на решетке. Ни искорки. И вот так, с кочергой в руке, он вдруг на мгновение замер, но на сей раз причиной тому была не музыка, а звуки, доносившиеся с нижнего этажа. Плакал ребенок. И еще всякое другое, вплоть до боя часов. Тихо было только у него. И холодно.
При свете, который проникал с улицы, он начал раздеваться. Через силу вытащил из-под подушки пижаму, но надел только куртку. Брюки остались лежать на стуле.
Вот уже час он лежал под волглым одеялом и все никак не мог согреться. Лежал на спине, выбивая зубами дробь и вперив взгляд в потолок, в который раз мысленно перебирая все происшедшее, и недавнее и вообще — за всю жизнь, потому что он никогда не был малодушным и даже сейчас, на склоне дней, оставался верен своему принципу обозревать события в их перспективе. Он усмехнулся про себя. Конечно, медленно, но верно он врастает в землю и ходит, согнувшись в три погибели, но это еще не причина, чтобы на пути по жизни видеть лишь кончики своих башмаков и ничего более.
Его удивляло, однако, что тепло так долго не желает вернуться в его тело. Раньше с ним этого никогда не бывало. Неужели его покидают последние силы? Нет. Он как раз ни чуточки не испугался, несмотря на пронизывающий холод. Куда же пропала музыка? Ведь с нею все было бы не так резко. Чувство щемящего одиночества накатилось на него, и он сел в кровати. Неужели это имеет значение? Сейчас? Или через какое-то время? Чтобы не приходилось больше ждать, чтобы не отнимали у тебя пальто, не обращались с тобой, как с ненужным хламом, — все это кое-что да значило. А если тебе известно,
что должно произойти, почему бы не помочь этому? Чему быть, того не миновать, а вот этак бестолково разлеживаться — еще успеется, а кроме того, в этом мало чести.
Цель была ясна, и он, щелкнув выключателем ночника, решительно спустил ноги со скрипучего матраца, который долгие годы все собирался отдать перетянуть. Да так и не отдал.
Со всех сторон через стены до него доносился знакомый монотонно-гулкий голос телевизионного диктора, читавшего выпуск новостей. Теперь и тишина — та, настоящая — больше не принадлежала ему.
Он проковылял в кухоньку к зеркалу. Атлетическим телосложением он никогда похвастаться не мог, зато кожа у него до сих пор смуглая, прокаленная солнцем, как у всех, кто проводит свою жизнь на воздухе. Не какой-то там хиляк, но уж и не из охочих до драки добрых молодцев с красными от практики кулаками. Он ухмыльнулся себе в зеркало и провел рукой по заросшей щеке. Щетина — ну прямо как у папаши. Видик тот еще, и вдруг он в буквальном смысле слова содрогнулся от холода, который — он чувствовал — шел откуда-то изнутри и медленно расползался по всему телу.
По старой привычке он взял с полки голубую чашку, сполоснул ее. Отхлебнул немного воды. Возле шкафчика лежала небольшая пачка газет. Он поднял их и направился к кровати.
Странно. Он, в общем-то, всегда представлял себе, что будет делать, когда пробьет его час, хотя специально не заострял на этом внимания. Итог всех страданий, что ли? Как, как? Он не мог поверить своим ушам. Ну уж коли так, он с полным правом может назвать себя неудачником. Да нет, ерунда это. На краю своей постели он в последний раз разложил газеты, как раскладывают партитуру большого квартета. Эти сообщения он всегда обводил красным. «Одинокая вдова найдена через несколько недель мертвой в своей квартире» — первое. Еще: «Труп старика обнаружен в доме через несколько месяцев». Или вот. Тут даже оба сразу. Сначала она. Муж бросился к ней, оступился, подняться уже не смог, да так и отдал богу душу в страшных муках. Вот как бывает. Лучше побеспокоиться сейчас, пока ты в сознании.
Он снова поднялся и огляделся вокруг. Так что же — на холодном коврике у кровати? Сам он был уже леденее этого волглого половичка. Он осторожно опустился на пол, сел — ноги прямо перед собой. Как будто приготовился делать зарядку. Потянул на себя с кровати газеты с окаймленными красной рамкой сообщениями о смерти. Взял одну из них, развернул и положил себе на ноги так, чтобы и ступни были закрыты. Держа в руках другую газету, он начал, покряхтывая, медленно заваливаться на спину. Жестко. А комнатенка-то как выросла! Словно приемная зала во дворце. Он встряхнул газету, расправил ее и аккуратно накрылся. Забыл выключить ночник. Ну и ладно. Вернется ли к нему музыка? Он больше и надеяться на это не смел. Да и к чему? Музыка — это чудесно, однако и ей когда-то приходит конец.
Ах, успел подумать он и тотчас почувствовал, что ему вдруг стало удивительно свободно и легко… Теперь лежать и не шевелиться…
ТОРГОВЕЦ НЕ ВЕРНЕТСЯ НАЗАД[25]
Перевод Е. Любаровой
Посвящается Клаасу Климу, чертову сыну. Большой был шутник. Хотели его однажды словить, а он не дался, удрал с попутным ветром и больше не возвращался. Кто еще не забыл о нем? Вспомяни его.
Пытаясь грести равномерно, он в недоумении спрашивал себя, что заставило его так поздно осенью взять напрокат лодку. Красота кругом до сих пор дивная, хотя с каждым взмахом к веслам цеплялись водоросли, полиэтиленовые пакеты и прочий мусор, но погода, прямо скажем, радовать не могла, да и вообще время было неподходящее для подобных легкомысленных прогулок.
А, вон и его автобус прошел! В десять минут девятого. На этом автобусе он поспевал вовремя открыть магазин. Хотя зачем? И в десять минут десятого никто еще не заходил к нему, чтобы купить дорогой сервиз на двенадцать персон или роскошное столовое серебро. Паршивый был сезон, да, собственно, последние несколько лет дела шли из рук вон плохо в любое время года. То затишье перед праздниками, то затишье после. И сами праздники…
Он опустил весла и поднял воротник осеннего пальто. Как только он сел в эту железную посудину, захныкал дождь. Дождик плачет. Плачевно. Прямо как в его делах. Настало время взглянуть правде в глаза. И сознаться себе, в чем причина всего этого. Он всегда сидел на мели. Лишь однажды посетила его надежда, когда по тому участку, где стоял его дом, решили провести железную дорогу. Но повсюду забегали инициативные группы с плакатами за сохранение Унелерваудского леса, и проект изменили. А то бы он, конечно, добился компенсации убытков. И что же? В результате у них остался пяток гибнущих деревьев, потому что денег на их сохранение не нашлось и большую часть леса скоро все равно повырубят, да недовольный торговец, который, если так будет продолжаться — а так оно и будет, вот уж в чем он не сомневается, — через год обанкротится: ему ли тягаться с супермаркетом, который соорудили возле новой железной дороги. Лучший фарфор шел там наравне с дешевой бельгийской дребеденью, практически за бесценок. И еще эта пластмассовая дрянь, штампованные тарелки! Это небьющееся барахло угрожало всему производству фарфоровой посуды.
Он снова взялся за весла. Скоро подъемный мост. Под ним можно причалить. Там наверняка посуше. Он посмотрел на небо. Аспидно-серое. И так целый день. А ведь нынче к ужину придет Йосиночка. Ему надо купить мяса. Не забыть бы. Под мостом он подогнал лодку к берегу и закрепил ее. Пахнет здесь как-то странно. Он вытащил табак и свернул сигарету. Затем, обшарив все карманы, вспомнил, что оставил зажигалку в сером костюме. А курить хотелось страшно. Легкие требовали никотина. Потом желание курить вдруг пропало, и он развалился в лодке, как король на троне. Смотри-ка, утка идет. И еще одна. Вид у них довольно жалкий. Помятые какие-то. Не удивительно. Повсюду на воде радужные пятна бензина и масла. Птицам от этого тоже худо приходится… Да-с, но как бы то ни было, он по-прежнему сидит с незажженной самокруткой в руке.
Он поднял голову и прислушался. Прямо над его головой находился мост, и там кто-то ходил! Шаги приближались. Вот они загудели глухо и громко. Как в театральной постановке по радио.
— Эй, там! — закричал он.
Шаги над головой замерли.
— Кто там есть? — приглушенно донеслось до него. — Эй, под мостом!
— У вас случаем не найдется огоньку? — Он привстал на цыпочки в качающейся лодке и приник к узкой щели в настиле моста, достаточно, впрочем, широкой, чтобы просунуть пальцы. — Сюда! Видите мои пальцы?
— Да, да, вижу. Вам огоньку?
— Ага.
— А для чего? Для трубки или для сигареты? — спросил мужской голос. — Я к тому, что у меня есть и то и другое. Спички и зажигалка.
— Давайте тогда зажигалку.
Ему повезло. Не перевелись пока на свете добрые люди, готовые помочь не ради вознаграждения, а просто так.
— Я сейчас опущу зажигалку сюда, — сообщил неизвестный.
Над его головой что-то поставили, потом зашуршали. Человек должен был по меньшей мере нагнуться. И это на самом дожде. Даже трогательно.
— Нащупали зажигалку?
— Нет, — громко ответил он, и звук его голоса эхом прокатился над водной гладью и укрепленными под мостом берегами. — Вы что, отпустили зажигалку в щель? Я ничего не чувствую. — Он ощупал пальцами всю щель в просмоленных досках.
— Странно, — услышал он голос мужчины. — Я же… Ну да, зажигалка застряла!
— Вы ее видите? — спросил он.
— Подождите, я встану на колени. — Глухой стук, и голос послышался вдруг совсем рядом. — Нет, не вижу… Может, она упала в воду? Вы часом не слышали всплеска? А брызг не видали, менеер?
Он внимательно осмотрел покрытую рябью водную поверхность: нет ли каких кругов.
— Нет, по-моему, ничего не падало.
— Чтоб тебя, куда же девалась моя зажигалка? — бормотал мужчина наверху, и в нем слабо шевельнулось чувство вины. Он стоял выпрямившись и обеими руками ощупывал щель.
— А, вот, я что-то нашел! — воскликнул он.
— Это мои пальцы.
— О, простите.
Он осторожно опустился на сиденье.
— Что ж, дать вам спички? — предложил мужчина на мосту.
— Ах… — Честно говоря, ему не очень хотелось принимать это новое предложение. — Если вы…
— Почему бы вам не выплыть из-под моста? — спросил мужчина. — Тогда бы я перегнулся через перила и дал вам коробок. При этом мы будем видеть, что делаем.
— Да, я сейчас.
Он взялся за веревку — тонкий голубой нейлоновый шнур — и белыми от холода пальцами стал развязывать узел. Лодка приплясывала и дергала веревку. Ничего не получалось.
— Узел затянулся, — сообщил он, пытаясь отыскать в карманах какой-нибудь острый предмет.
— Что за узел? — поинтересовался мужчина наверху.
— Да веревка. Узел на веревке. Я тут это… как его… причалил.
— Подождите. Сюда едет машина. Пусть пройдет.
— Пусть.
Он услышал шум подъезжающего грузовика, и чуть позже колеса прогрохотали над его головой.
— Это машина комбикормового завода. Который там, дальше.
— Вот оно что.
Было ясно, что веревку не распутать.
— Что, не получается?
Он уже боялся отвечать. Этот неизвестный бог весть что о нем подумает. Сам бы он наверняка давно ушел. Удивительно любезный человек.
— У меня есть перочинный ножик.
— Это то, что надо. С ним я точно справлюсь. — Он снова встал в лодке и просунул пальцы в щель. — Теперь просто не может не получиться. Давайте сюда.
— Ага, поехали. Но будьте осторожны. Это реликвия.
В мыслях своих он вознамерился обязательно отблагодарить незнакомца.
— Опускайте. — Он вдруг смутился из-за сильного эха, которое разнеслось под мостом. Нож упал ему прямо в руки, а сам он чуть не свалился в воду. — Поймал!
Это был старинный, с медными заклепками нож со штопором и еще чем-то вроде отвертки. Само лезвие было остро наточено и блестело. Он попытался разрезать веревку прямо возле узла, но материал оказался слишком жестким, и когда он резанул сильнее, то обнаружил, что под верхним слоем находилась еще тонкая стальная нить. Он попробовал еще и почувствовал, как железо заскрежетало о железо. Даже искры брызнули. Он резанул изо всех сил — веревка оборвалась, и рукоятка ножа треснула пополам. Лодку поволокло течением, а он лихорадочно пытался закрыть нож. Но как ни старался, нож сохранял У-образную форму. Вещь была загублена. И это он ее сломал. Лицо пылало огнем, он схватился за весла и развернул лодку по течению. Придется заплатить. Он старательно греб и выскользнул из-под моста. Мужчина стоял в ожидании на другой стороне, но, завидев его, перешел на эту. Он оказался почтальоном.
— Доброе утро! — закричал он и помахал рукой.
— Вам того же. Ну, как?
— Видите ли… — Он греб одним веслом, и поэтому лодка кружила на месте. — Дело в том… Понимаете ли, э-э… ваш нож.
— Бросайте его сюда.
Почтальон сдвинул фуражку на затылок и раскинул руки, будто собирался ловить по меньшей мере ящик. И он бросил.
— Зараза! — Почтальон смотрел на то, что он поймал. — Мой нож! Ты сломал его, папаша!
— Я вам все возмещу. В моей веревке оказалась железная нить. — В доказательство он указал на обрывок голубого шнура, который все еще торчал на носу лодки. — Я ведь не знал… честное слово. Но я вам все возмещу!
— Это ж надо. — Почтальон оглянулся по сторонам, будто ища поддержки, но кругом не было ни души, лишь слышалось, как барабанил дождь по бревенчатому настилу моста, шлепал по воде, шелестел в траве и в высоком камыше, который рос вдоль берегов. — Это семейная реликвия. Теперь ее осталось только выбросить. Она вряд ли куда пригодится. — Почтальон тоже пытался закрыть нож, но и ему это не удавалось. — Три поколения работали этим ножом. Резали им. А потом является какой-то тип и за пять минут его ломает, — бормотал почтальон.
Он между тем достал свое портмоне и открыл его.
— Поверьте, я очень сожалею. — Его голос прошелся над водой. — Вот! Здесь десять гульденов.
Он зажал бумажку губами, закрыл кошелек и взялся за весла.
— Десять! Ты совсем рехнулся, дядя! — Почтальон прямо задохнулся от возмущения и снова обернулся в сторону невидимых зрителей.
Он хотел было подгрести к мосту, но что-то остановило его, и течение тихо относило лодку все дальше. Его охватило раздражение. Если этот человек будет продолжать в том же духе, он уедет. Хотя теперь он не сможет вернуться на лодочную станцию, потому что надо будет снова проплыть под мостом, а ведь есть же типы, которые и с моста не побоятся спрыгнуть, даже рискуя перевернуть лодку; между тем он все продолжал кружить на месте, дрожа от холода. Кстати, он все равно уже опоздал вовремя открыть магазин. Он испугался. Такого с ним еще никогда не случалось.
— Сто! — закричал почтальон. — Мне нужно сто и ни центом меньше. Нож — это память. А к тому же антикварная редкость. Хотя здесь уже деньгами не поможешь.
— Вы можете его еще починить.
Он вдруг успокоился. Разговор начинал напоминать торг, и он почувствовал себя гораздо уверенней, потому что в таких делах он собаку съел.
— Починить нельзя, менеер. Это ведь не просто ножик. Это память, которую вы поломали. А ее никогда не починишь.
— Вы преувеличиваете. Берите десять, а то вообще ничего не получите.
Старая песня, сотни раз он слышал ее от покупателей, которые уже дома обнаруживали какой-нибудь брак и потом приходили вымогать компенсацию. Плач по сервизам — так называли это его коллеги. Сам ты при этом делал только одно: пожимал плечами и отдавался насущным заботам дня. Конечно, иной раз и продашь вещицу с изъяном, но почему убытки должен всегда нести продавец?
— Вы заплатите мне сто гульденов, иначе вам от меня так просто не отделаться.
— Значит, не получите ничего.
Он опустил весла в воду и начал грести. С каждым гребком мост уходил все дальше и дальше, а вместе с мостом и разъяренный письмоносец. Надо все-таки поскорее причалить к берегу, так как пальто промокло, но, как ни странно, холода он не чувствовал, он даже почти согрелся — это оттого, что разозлился. И оттого, что все время двигался.
Мост уже почти исчез из виду. И почтальона различить было невозможно. Он не мог даже рассмотреть, стоял ли тот еще на мосту. Он опустил весла, чтобы немного отдохнуть, и оглянулся по сторонам. Сплошные поля, насколько хватало глаз. Ни деревни, ни колокольни, ни даже хутора не виднелось среди безбрежной зеленой равнины в дождевой поволоке, которая на самом горизонте сливались с крутым серым небом. Богом забытый край. Он повернулся: канал прямой линией уходил в бесконечность. Никогда не бывал он так далеко от дома. Он козырьком приложил руку к глазам и посмотрел в направлении подъемного моста. Пропал из виду. Это, конечно, ветер так гонит его лодку. И еще течение. Может, надо было грести против течения? Впрочем, его на это не хватило бы. Только сейчас он почувствовал, как горят ладони. Скоро он натрет мозоли, что совершенно непозволительно для торговца фарфором и тонким стеклом. К своим рукам он должен относиться столь же бережно, как пианист. Неужели тут поблизости нет ни одной дороги? Он снова огляделся в поисках хоть какой-нибудь движущейся точки, но все было недвижно в этом просторе. Ни единой живой твари. Местность просматривалась насквозь. Канал как будто лежал чуть выше уровня земли и был ограничен двумя узкими дамбами, которые возвышались над водой едва ли на ладонь. Он слегка привстал в лодке. Вдоль дамбы тянулась еле заметная дорожка. Для телеги она была слишком узка, разве что для пешехода. Или велосипедиста. Велосипедист приближался к нему с той же стороны, откуда прибыл он сам. Силуэт медленно увеличивался. Честно говоря, у него отлегло от сердца, когда он увидел живое существо в этой промозглой бесконечности. Велосипедист — значит, дорога куда-то ведет. Скорей всего, он доберется до какой-нибудь деревни и сядет там на автобус. А потом уже из своего магазина позвонит на лодочную станцию. Не его вина, что так вышло; со станции наверняка пришлют катер, который отбуксирует лодку назад. Он посмотрел на часы и приложил их к уху. Стоят. Неужели он забыл их завести? Очень на него похоже. Он попытался сделать это сейчас, но завод не работал. Наверное, он ударил часы обо что-то, сам того не заметив. Или в них попала вода. Они вовсе не были такими дорогими, как казались со своей отделкой под золото и солидным браслетом. Он вновь взялся за весла, вознамерившись грести к берегу. Но внезапно выпустил их из рук. Велосипедист. Как он, однако, похож на почтальона! Да нет, не может быть… Почему не может? Ему просто везет на подобных зануд. К тому же они еще и мстительные. Как правило, с трудом мирятся с уже свершившимися фактами. Но неужели почтальон ехал в этакую даль из-за какого-то старого ножа? Только чтобы догнать его? Ему стало не по себе. Слышишь же иногда о совершенно безумных выходках людей, от которых никто и не ожидал, что они… Ну, как бы то ни было, тут, посреди канала, он в безопасности, а если этот тип вздумает что-нибудь предпринять, он наляжет на весла. Он тоже не лыком шит: как-никак отец четырех детей, один из которых уже студент, и толковый делец с весьма приличным магазином о трех витринах.
Впрочем, есть на свете и другие почтальоны, носящие форменные фуражки!
— Эй! Не думайте, что вы от меня смылись, — прозвучало над водой.
Почтальон жал на педали и быстро приближался.
Значит, все-таки тот самый. Он отплыл на середину узкого канала. Только не суетиться. Почтальон поравнялся с ним и слез с велосипеда. Видимо, он совсем выбился из сил, поэтому, опершись на руль, стал прохаживаться взад и вперед.
Он рванул с места быстрее, чем почтальон успел опомниться, и тому вновь пришлось оседлать велосипед.
— Не хотите ли еще покататься? — закричал он.
— Посмотрим, как вы поплывете назад… против течения, — задыхаясь, ответил почтальон.
— Я все еще собираюсь заплатить вам за перочинный ножик.
— Не заплатить. А возместить нанесенный ущерб. — Почтальон трясся за ним на своем велосипеде. Похоже, он до сих пор был очень зол.
— Вы злоупотребляете обстоятельствами. — Фраза вышла необычайно убедительной и эхом прокатилась над каналом.
Некоторое время оба двигались вперед молча. Он размеренно погружал весла в воду, по которой сыпал дождь. Здесь ему нравилось больше. Вода стала чище, вокруг уже не плавала всякая гадость. Тут и там над водой поднимались островки камыша и каких-то растений с большими листьями, похожими на листья капусты. Неужели канал несудоходен?
— Здесь что, суда не плавают? По каналу? — спросил он.
— Нет, насколько я знаю, — ответил почтальон. — Я никогда тут не был.
— Вокруг, наверное, и служб-то никаких нет.
— Не могу знать. Не могу знать. — Почтальон снял с головы фуражку и стряхнул с нее капли дождя. — Сами-то вы в этом ничего не смыслите, менеер.
— Каждому свое.
— Совершенно верно.
Сквозь шум дождя и скрип уключин он слышал, как едет велосипед. Шины шелестели по грязи. Когда он в последний раз слушал, как едет велосипед? Бесконечно давно. У него слегка кружились голова. Слушая шины, он постигал тишину. Казалось, он погружался в беззвучие, но это не угнетало и не пугало его, потому что все: поля вокруг, вода, почтальон, и он сам, и даже неохватное серое небо — парило в этой тишине. А безмолвие потихоньку полнилось звуками. Вода плескала о тупой нос лодки, шепталась с камышом и прибрежными травами. Кругом было покойно. Да, именно так. Покойно.
— Как здесь покойно, почтальон.
— Когда вы мне возместите ущерб, мне, наверное, тоже так покажется.
— Но…
— Нет. Вы хотите мне заплатить только за старый, но еще вполне пригодный нож. Но память… воспоминание… вот за что вы должны заплатить прежде всего. Или я как почтальон…
Воспоминание? Что за чепуха! Воспоминания бесплатны. Они есть у каждого. И у него тоже. И очень много неприятных, от которых просто передергивает, когда они вторгаются в его мысли.
— Я же нечаянно.
— Еще не хватало, чтобы нарочно!
На миг ему даже показалось, что почтальон со злости кувырнется в канал. Канал! Он обернулся. Та же картина: серебристо-серая дорога, вливающаяся в горизонт. И больше ничего, от края до края… Ему стало скучно. До сих пор ни единого признака жизни.
— Мне, пожалуй, пора домой, — сообщил он.
— Мудрая мысль, менеер. Как видите, я от вас не отстану.
— О да. Но я заплачу вам не больше, чем намеревался. Я доберусь до дому пешком по той стороне.
Почтальон засмеялся.
— Да вы запутаетесь в этой высокой траве. А я, естественно, вернусь с вами назад.
— Ну что ж, в путь.
— С превеликим удовольствием.
Он задумался. Со своим обветренным, испещренным морщинами лицом и седыми волосами под форменной фуражкой почтальон походил на кого угодно, только не на почтальона. Он был по меньшей мере на голову выше его самого и раза в два шире в плечах. Такой человек, конечно, закалился от всяких непогод и стал чертовски сильным от постоянного таскания тяжелых сумок и пакетов. Удрать? Но куда? Все равно почтальон на велосипеде передвигается гораздо быстрее. Прежде чем он разыщет полицейского агента для охраны или доберется до ближайшей почты, этот тип его достанет. Заплатить ему, что ли? Ну уж нет. Он не даст себя запугать. К тому же таких денег у него при себе нет.
— Ну как, не выйдет? — спросил почтальон.
— Чего не выйдет?
— Вы же собирались идти пешком.
— Нет, я лучше поеду на лодке.
Он посмотрел на свои руки. Не может быть и речи. На обеих ладонях он натер мозоли величиной с цент. И пальто промокло почти насквозь. Положение становилось прямо-таки безнадежным…
— Вы злопамятный субъект. Это ж надо — столько за мной гнаться. Вы…
— Между прочим, вы тоже не подарок, — отпарировал почтальон. — Эвона сколько я за вами чесал… Скажите, вы не проголодались?
— Проголодался. — Это вырвалось у него совершенно непреднамеренно, просто ему очень хотелось есть.
— Свежий воздух способствует аппетиту. Вы, видать, без привычки?
Он промолчал. Какое этому типу дело? Привык он или не привык. В конце концов, это его забота — привыкать или не привыкать. Краешком глаза он заметил, что почтальон снял свою накидку с капюшоном. Под ней оказалась большая почтовая сумка, в которой тот и начал рыться.
— Смотрите сюда!
Он посмотрел. Почтальон показывал пакет из белой бумаги.
— Уж не собираетесь ли вы здесь разносить ваши письма? — спросил он фальшиво.
— Бутерброды! — прокричал почтальон. — С сыром. И салом. Будешь?
— Сколько вы за них хотите? — Его подозрительность разрослась до необъятных размеров.
— Ничего. Только давай меняться.
— Чем?
— Я поеду в твоей лодке, а ты на моем велосипеде.
— И не подумаю. Мне и здесь хорошо.
— Было бы предложено. — Почтальон рассмеялся своим жутковатым смехом. — Хотел бы я на тебя посмотреть. Особенно на руки. Мозоли, не так ли?
Этот тип не сумасшедший. Все насквозь видит. Где же твоя хваленая осторожность, торговец фарфором?
— Ну так как?
— Не знаю, — сказал он. А сам тем временем лихорадочно соображал. Вне всякого сомнения, на велосипеде он будет ехать гораздо быстрее. И скорее доберется домой. — Хорошо! Но только при одном условии.
— А именно?
— Я причалю и возьму одно весло. Ты оставишь свой велосипед, отойдешь в сторону и будешь ждать, пока я на него не сяду. Потом ты пойдешь в лодку, и я брошу тебе весло.
— Прекрасно. — Почтальон сразу соскочил на землю.
— Ты серьезно?
— Да, конечно. Вон, глянь-ка, там у тебя перед носом дырочка. В корме, я имею в виду. Если ты не бросишь мне весло, я просуну в нее другое и буду грести с кормы. Знаешь ли ты, что таким образом можно развить приличную скорость?
Он этого не знал, но поверил на слово. Вообще-то в Венеции тоже так делают. Жаль, конечно, что почтальон разгадал его план, но ему уже безумно хотелось выбраться на берег. На дне лодки образовалась большая лужа, в которой плавали всякие предметы. Лужа плескалась в унисон с водой за бортом.
Почтальон положил свой велосипед в траву, отошел на некоторое расстояние и, подбоченясь, смотрел, как он неумело причаливает к берегу, вынимает весло из уключины и вылезает на берег, держа весло, как копье. Пристально глядя друг другу в глаза, они сошлись, словно два рыцаря, и обогнули друг друга. Почтальон пятился спиной до тех пор, пока наконец не нащупал ногой лодку и не ступил в нее.
— Весло!
— За половину твоего ленча.
— Моего чего?
— Твоего хлеба!
— Поделим поровну.
Он протянул почтальону лопасть весла, тот схватил ее и зажал под мышкой. Затем разорвал пакет на две части и половину бросил ему. Он поймал сверток обеими руками и выпустил весло.
— Хе-хе, — донеслось из лодки. — Здесь-то оно получше будет. Этим седлом всю задницу отшибешь. Велосипед-то служебный. Он рассчитан на силу. А не на удобство.
Он не ответил и откусил кусок. Идя к велосипеду, лежащему на боку в высокой траве, он наслаждался вкусом свежего домашнего сыра. Повернувшись спиной к каналу, он смаковал каждый кусочек и, уже почти забыв о насквозь мокром пальто, о дожде, размачивающем хлеб в его руке, обозревал эти бескрайние поля, которые сливались с затученным небом. Кто бы мог подумать, что существует еще столь бездонная пустота? Бесконечная спутанность волнующихся зеленых трав.
К своему немалому удивлению, он почувствовал себя вполне довольным жизнью, бросил замасленную бумагу в воду и посмотрел на почтальона. Тот сидел на скамейке, завернувшись в свою широкую накидку и подперев голову рукой. Просто сидел и ждал, что он будет делать! Сейчас узнаешь! Он поднял тяжелый велосипед, взял его за раму и багажник и рывком развернул в направлении к мосту. Он перенес ногу через раму, помахал почтальону, который по-прежнему недвижно сидел в лодке, сносимый течением к противоположному берегу, и нажал на педали. Он проехал пять, десять метров по вязкой глине узкой тропинки и остановился. Да, это не по нем. Казалось, к велосипеду прицепили коляску, груженную мокрой землей. Он склонился к рулю и чуть не заплакал: передняя шина была спущена. Он повернулся. Задняя idem dito
[26].
— Жулик! — заорал он почтальону, который, все еще не двигаясь, наблюдал за ним. Лодка уткнулась носом в камыши на противоположном берегу, и ее покачивало течением.
— Что, не едется? — прозвучало над серой водой. — Теперь ты можешь себе представить, сколько мне пришлось вытерпеть…
— И это из-за какого-то ножика! — прорыдал он.
— Извини, это еще и человеческая память. Реликвия, так сказать.
Он начал искать подпорку.
— Сзади. Под багажником, — подсказал почтальон.
Он вытащил подпорку из-под багажника, и чуть позже фонгеровский служебный велосипед стоял кверху колесами, поблескивая облупленной эмблемой «ПТТ»
[27], прикрепленной под седлом. Он медленно покрутил колесо, но ничего не обнаружил.
— Ты что, проколол шины?
— Ты с ума сошел! Это я в спешке проехал через свалку возле моста. Я слышал, как они лопнули.
— И ты всю дорогу…
— Да, — просто ответил почтальон и взялся за весла.
— У тебя, должно быть, сильные ноги.
— Поработай с мое. — Почтальон снова развернул лодку по течению. — Ну, что будем делать дальше?
— Сколько сейчас времени?
Почтальон распахнул накидку и достал карманные часы на цепочке.
— Тоже антикварные? — спросил он с ненавистью.
— Да нет, почему? Почти половина пятого.
— Сколько?
Какой кошмар! Магазин целый день закрыт. Все в панике. Да еще к ужину придет Йосиночка.
— Мне ж еще мясо…
— Что ты говоришь? — Почтальон приложил ладонь к уху.
— Да так, ничего.
Медленно он начал стаскивать насквозь мокрое пальто. Слава богу, было не холодно.
— Да, не больно она надежная. Эта ваша магазинная одежка.
— Почему?
Почтальон показал на свою накидку.
— Вот это вещь. На любую погоду. Износу ей нет. В такой накидке ночевать можно. Под любым ливнем. Она разве что потяжелеет от сырости, но вода не успевает впитаться в материю, а испаряется.
Не обращая внимания на разглагольствования почтальона, он повесил пальто на руль велосипеда и достал из внутреннего кармана табак и бумагу. Впервые в жизни он не видел выхода. Идти назад пешком? Он пожалел свои бедные ноги, к тому же сегодня утром он, по несчастью, надел остроносые черные ботинки, в которых наверняка собьет ступни в кровь. Нет, возвращаться надо в лодке. И пока он доберется до дому, наступит глубокая ночь. Может, заночевать здесь, в… Он содрогнулся и провел языком по уже совершенно мокрой бумажке.
— Огоньку? — раздалось вдруг где-то совсем рядом за его спиной.
С испугу он резко повернулся. Лодка причалила к берегу, и почтальон, стоя в ней, протягивал ему коробок спичек.
— Вы сперва, конечно, хотите получить деньги за зажигалку, которая…
Он осторожно попятился. Вдруг этот тип выскочит из лодки, чтобы его пристукнуть или еще чего-нибудь.
— За потерянную зажигалку я не вправе ни с кого требовать. Если она, конечно, не лежит до сих пор у тебя в кармане.
— Ах, ты!..
— Впрочем, едва ли. Она была такая дешевенькая. На бензине. И вообще, это раскрашенное барахло не стоит того, чтобы о нем помнили.
— Можешь мне не рассказывать.
— Почему?
Ему ли не знать! Ведь он торговец фарфором и дорогим фаянсом, и его товар испытывает сейчас огромную конкуренцию со стороны пластмассы, которую тоннами выбрасывают на рынок.
— Ба! — Почтальон ударил себя по лбу. — Я же знаю твой магазин! Некоторое время я работал на срочной доставке, тогда для этого еще не было мальчишки-курьера. Помнится, как-то раз я и туда тоже кое-что доставил.
— Верно… Месяцев этак пять назад?
— Да, вроде бы.
— У меня тогда служила одна девушка. В обучении.
Он взял протянутые ему спички и прикурил. С огромным наслаждением затянулся, а затем выдохнул серое облако в серую промозглость дня. Он видел, как частые капли дождя цедились сквозь дым и словно старались пригнуть его к земле. Ни разу в жизни не видал он такого. Вечно времени не хватало поглядеть, как дождевые капли цедятся сквозь табачный дым.
— Блондинка? — Почтальон снова опустился на скамейку в лодке и смотрел на него. — С волосами по сих пор?
— Точно!
Все ж таки странно. Что этот человек доставлял ему почту.
Тем временем почтальон набил маленькую кривую трубку и протянул руку. Он бросил ему назад спички, и почтальон в свою очередь выпустил облако дыма. И у этого дыма тоже не было никакой возможности разлиться вокруг, он падал, пронзаемый мелким дождем, как и дым от его сигареты.
— Как я погляжу, вы трубку курите. Вам так нравится?
— По-моему, она настраивает на философский лад. Сидишь себе спокойненько и размышляешь о том о сем.
— Да, это не для меня. Времени всегда в обрез. Поэтому только и успеваешь подымить разок-другой этой бумажной скорокуркой.
Он засмеялся своим собственным словам, и почтальон улыбнулся ему в ответ.
— Все это хорошо, но дальше так продолжаться не может, — сказал вдруг почтальон. — Ты, старик, скоро совсем размокнешь. Еще заработаешь воспаление легких. Или плеврит. А я не хочу иметь это на своей совести.
Он просунул руку под пиджак и пощупал плечо. Рубашка была совсем сырая.
— Иди сюда. — Почтальон махнул кривым чубуком своей трубки. — На этом служебном велосипеде далеко не уедешь. Так что мы его оставим здесь. И давай забирайся под мою накидку. У меня под ней еще зимняя форма, а она тоже не промокает.
Он немного поколебался, но мягкий, пахнувший сеном ветер вдруг холодом и сыростью толкнул его в спину, и он пошел к лодке.
— Гоп-ля!
Почтальон потянул его за руку, и вот они
уселись рядом на скамейке. Почтальон расстегнул пряжку под подбородком, и чуть позже он ощутил божественное тепло, обнявшее его за плечи. Только сейчас он почувствовал, как замерз.
— Лучше?
Он кивнул.
— Вот, надень еще фуражку. Тогда волосы быстрее высохнут.
Он хотел отказаться, испытывая некоторую неловкость, но почтальон уже нахлобучил ему на голову свою форменную фуражку. Впервые в жизни он обозревал мир и зеленую покинутость из-под лакированного козырька форменной фуражки.
— Все-таки тяжеловато, — заметил он.
— Ясное дело, — ответил почтальон. — Это вообще характерно для форменной одежды. Тут главное — прочность. В любом случае остаешься, так сказать, сухим.
Он согласился и вскоре почувствовал себя вполне сносно.
— Ведь плеврит… Ты знаешь, что он бывает влажный и сухой?
Он не знал.
— Это, по-моему, какая-то старинная болезнь. О ней раньше нередко говорили.
Молча сидели они и смотрели каждым прямо перед собой. Табак, который курил почтальон, припахивал горящим торфом и лимонной цедрой, и он слушал, как потрескивает огонек в почтальонской трубке. Их снова начало относить течением. Они скользили вдоль берегов, в покачивающемся камыше и долгих волнующихся травах.
— Ты музыкальный? — поинтересовался почтальон, доставая из своей большой сумки голубой термос.
— Гм… Вообще-то я люблю музыку. Э-э… классическую.
— Естественно. Это единственная музыка. Которая остается. На века. Хочешь глотнуть?
Он взял эмалированный термос, с которого почтальон уже снял крышку, и сделал глоток. Кофе. И до сих пор теплый.
— Сахару как раз по мне.
Он вернул термос почтальону, который в свою очередь отпил глоток.
— Я вот так думаю.
— У меня есть пластинки с классической музыкой.
— А, понятно. Мне очень нравится «Картинная выставка». Знаешь? Мусоргского.
— «Картинки с выставки», ты имеешь в виду. — Он слегка улыбнулся при воспоминании об этой музыке. — Моя дочь, которая студентка, здорово это играет. На пианино.
— О, дети уже разлетелись из дома?
— Почти. Все к тому и идет.
— Значит, мы свое дело сделали! — Почтальон добродушно рассмеялся. — Мои уже все обженились. Я скоро стану дедом.
— Жена, конечно, гордится.
— Как павлин.
Он подумал о своей жене. Наверное, волнуется. Конечно, хотя это не помешает ей приготовить ужин. Не больно-то она и переживает.
— Моя жена не больно-то переживает.
— А, они всегда найдут себе утешение. Получше нашего. Это мы неприспособленные, — отметил почтальон.
— Мы и живем меньше, ты не должен забывать.
Внезапно небо, воздух, горизонт, вода и равнины окрасились нежным алым цветом. Они одновременно огляделись по сторонам. Серый облачный клин вонзился в кроваво-красное солнце, застывшее на полпути к горизонту, и канал, казалось, лил свои воды в этот сияющий полукруг. Он посмотрел на свои руки и на руки почтальона, которые тот зажал между колен. Они были красными в свете этого позднего, далекого, но все же такого близкого солнца.
— Давай пересядем, — предложил почтальон. — Тогда мы увидим его целиком. Такая возможность бывает раз в жизни.
Поддерживая друг друга, они повернулись на узкой скамейке лицом к широкому тупому носу лодки и невероятному солнцу, которое с нарастающей скоростью тянуло их к себе, манило, сияющим кругом медленно опускаясь за горизонт.
— Дождь перестал, — заметил почтальон.
Да, действительно. Он медленно снял с головы черную форменную фуражку.
— Ну и что же за этим последует?
Он повернулся. Почтальон протягивал ему руку. Молча он пожал ее.
— Ты готов к этому? — спросил почтальон, выбивая трубку о борт лодки, и вдруг, осознав бессмысленность совершаемого действия, резко швырнул трубку за борт.
Он ободрился.
— Да, конечно. Все будет хорошо.
— Ты-то, в конце концов, помоложе.
— А, один раньше, другой чуть позже…
— …Но все мы там будем, — закончил почтальон.
Они немного посмеялись друг над другом.
— Упрись ногами, — посоветовал почтальон, и он уперся каблуками в планку на дне лодки. Он смотрел на летевшие мимо берега. Лодка скользила по середине канала в направлении красного заходящего солнца. Его галстук полоскался по ветру, и он слышал, как хлопал форменный воротник почтальона.
— Боже мой! — еще прокричал он. — Как же быстро она несется. Как же быстро!..
Геррит Крол
ЖИЛОЙ ФУРГОН
Перевод И. Волевич
На южной окраине города, которая застраивалась быстрее других, сохранился жилой фургон. Раньше он стоял в тени двух деревьев. Потом деревья выкорчевали, а ямы и всякие там канавки самосвалы засыпали песком. Разметили кварталы, забили сваи, уложили фундаменты, и вот уже там, где еще весной паслись коровы, выросли шеренги домов. Наступила осень, новоселы затопили в своих просторных холлах камины и, стоя в обнимку, глазели в окно на «старый барак» — так они называли фургон. Надев сапоги, они выходили в садик сеять траву и сажать цветочные луковицы. Через какое-то время мусорщики убрали валявшиеся на улицах строительные отходы; в каждую ямку высадили дерево, а из деревни стал приезжать молочник — район постепенно благоустраивался. По утрам мужчины с портфелями шли на службу и домой возвращались затемно. Женщины — кто с ребенком на руках, кто с ребенком во чреве, кто пока еще без ребенка — стояли у окон, а по выходным рядом с ними стояли и мужья. Это уже был настоящий городской район. Появилось футбольное поле с двумя воротами. А фургон так и не двинулся с места.
Своей складной дверью и подножкой фургон напоминал автобус. Колеса сняли и подложили деревянные чурбаки. В окна вместо стекол вставили куски черного картона, только переднее окно было застеклено, а над ним, словно связывая штабеля ящиков из-под пива, громоздившихся за фургоном и по его сторонам, была вывеска с красной надписью: «Валгалла». К последней букве «а» был привязан кабель, протянутый наискось через двор от ближайшего фонарного столба; куст бузины — вторую опору кабеля — городские строители вырубили. Обитатели фургона редко показывались на глаза; и хотя новоселы квартала частенько с любопытством поглядывали из окон, они только через несколько месяцев смогли рассказать навещавшим их по воскресеньям родителям, что фургон служит домом женщине и двум мужчинам, по-видимому братьям, насколько можно разглядеть при свете уличного фонаря, но женщина точно одна. Где же они пропадают днем? Иногда поздней ночью их видели во дворе: выкрикивая непонятные слова, они выкидывали из фургона всякое барахлишко, женщина подбирала эти вещи и, прижав к животу, уносила обратно в фургон; часто оттуда доносился стук молотка, а в дождь — пение. Играли они на гармонике, причем громко, на весь квартал.
В газете появилась заметка «Мы хотим спать» с подзаголовком: «Жалоба нашего нового квартала». В следующих номерах газеты в разделе «Жилой фургон» были опубликованы письма читателей. Количество этих писем, занумерованных римскими цифрами, стремительно росло, пока редакция не объявила, что больше писем печатать не будет. Ранней весной жители Куличьей и примыкающих к ней улиц учредили специальный комитет и разослали по домашним адресам послание, в котором сдержанно выражалось недовольство поведением обитателей «жилого фургона». Решили переждать лето.
Город вокруг «Валгаллы» разрастался: с трех сторон ее прижали улицы с птичьими названиями. С четвертой протянулись кусты роз, за ними начиналось футбольное поле. Это привело к новым неприятностям: у всех трех жителей фургона взыграли футбольные страсти, они бешено лупили по мячу, а с наступлением погожих дней домашняя хозяйка, прибиравшая у себя в комнатах, все чаще и чаще видела, как один из этих подонков перекидывал ноги через забор прямо в палисадник, чтобы забрать мяч. Вечером она рассказывала об этом мужу.
— Подождем, вот кончится лето, — успокаивал он ее.
Между тем взошли крокусы и нарциссы, хотя кое-где и пришлось начинать сызнова: там проводили канализацию, изрезанные лопатой цветочные луковицы вновь очутились на поверхности, но на деревьях вдоль улицы распускались первые листочки, футбольное поле зазеленело, а в один прекрасный день и обитатели фургона показали, на что они способны. Они отвинтили одну из стенок прицепа, и она свесилась, как откидной трап у парома, потом выкатили на землю то, что смастерили: небольшую тележку, в которой, размахивая флажками, сидела женщина. Братья вынесли из фургона два треугольных деревянных щита, приколотили их горизонтально гвоздиками к тележке — и получился самолетик. Женщина соскочила на землю; ее длинные светлые волосы развевались, точно парашют, она смеялась. Мужчины стояли возле своего детища, заложив руки в карманы; женщина похлопала их по спине и опять скрылась в фургоне. Братья — за ней, подняли опущенную стенку и больше в тот день на улице не показывались.
Впрочем, квартал недолго оставался в неизвестности. Однажды в воскресенье старший из братьев заговорил, правда неуклюже, с игравшими на улице ребятишками. Впервые они видели его так близко: он пригласил их сесть в самолет.
— Садитесь по очереди, друг за другом, — сказал он и начал их фотографировать.
Он установил в сторонке старомодный фотоаппарат, повернулся спиной к солнцу и, распоряжаясь, кому залезть в самолетик, снимал всех по очереди. Родители — ведь было воскресенье — смотрели в окна и говорили: «Вот оно что!» Словно наконец догадались, в чем дело. А вечером кое-кто опять строчил письма в газету. Но когда через несколько дней женщина из фургона ходила по домам и показывала матерям улыбающиеся рожицы детишек, растроганные мамы кинулись на кухню или в комнату за кошельком. Самолетик из «Валгаллы» сделался любимым аттракционом района; по воскресеньям и в полдень по средам вокруг него толпились дети, они снимались в летных шлемах или без шлемов и сообщали свое имя и адрес женщине, сидевшей тут же на траве с блокнотом на коленях. Главным изобретателем, видимо, был младший брат; что ни день он привозил на трехколесном велосипеде с коляской какую-нибудь новую деталь: то пропеллер, то какие-то коробки с металлическим конструктором, а один раз даже ракету, чтобы подвесить ее под крыло самолета; неизвестно только, была ли она настоящей. Тут заинтересовались и взрослые. Мужчины толковали о технических особенностях, о простоте или сложности конструкций; репортер городской газеты хотел взять интервью у старшего брата, но тот сказал: «Черта с два я в этом смыслю», а окружающие разразились громким смехом. Младший брат промолчал, прилаживая с помощью проволоки что-то к хвосту самолета, а женщина развешивала на веревке белье. Зрители смеялись, а вечером все переменилось: смеялись уже в фургоне. Те, кто, на свое счастье, жил напротив, заглядывали в переднее окно и видели, что там пьют, хохочут, тузят друг друга и мало ли что еще. А женщина и двое мужчин не замечали, что за ними наблюдают.
— Нам незачем притворяться, — сказал как-то раз председатель уличного комитета. — Что бы там на происходило, нам незачем притворяться.
И вот пришла осень. Самолет был почти готов. Сидя в нем, можно было, нажав кнопку, запустить пропеллер, или остановить его, или привести в движение хвостовые рули и так далее; но лето кончилось, по воскресным дням часто лил дождь, и детей, желающих сфотографироваться, было так мало, что женщина с мужчинами предпочитали не выходить из фургона. Дождь хлестал по улицам, и однажды ветреной ночью в непогоду произошло несчастье: «Валгалла» развалилась. Уже на следующий день об этом сообщили в газете, появились снимок и заметка жирным шрифтом. Женщина в одной нательной фуфайке собирала раскиданные пожитки, сушила на ветвях деревьев занавески и простыни, а соседи в своих квартирах решили, что все кончилось.
И действительно, это был конец. Как-то утром женщина прихватила все, что ей удалось спасти, да еще две-три бутылки пива, хлеб и поднялась в самолет: братья уже сидели там, и она устроилась между ними. Пропеллер завертелся, самолетик покатил вперед, развернулся, прямо через розовые кусты выехал на футбольное поле и, треща мотором, как бы приплясывая, вприпрыжку пошел на взлет. Вот он оторвался от земли и поднялся над полями, загудел, как жук, набрал высоту и исчез в облаках.
Хозяйки в соседних домах покинули наблюдательные посты у окон. Смотреть было больше не на что. В кухне их ждала немытая посуда, малышей надо было укладывать спать, а вечером — в семь часов, потом в восемь — они включили радио, но о самолетике ничего не передали, как и в одиннадцать часов, и в последующие дни. Ни газеты, ни радио, ни телевидение ни словечком не обмолвились о том, где приземлились обитатели фургона. Они исчезли навсегда — как в воду канули.
Обломки фургона скоро убрали. Участок вскопали и выровняли. Обнесли оградой. А весной приехал грузовик: рабочие с инструментом, всякими деревяшками и железками спрыгнули на землю и устроили на месте «Валгаллы» детскую площадку с качелями, всевозможными лесенками и клетками, по которым можно было лазать, с песочницей и качалками. Была там еще горка и самолетик, который должен был качаться вверх-вниз, как лошадь-качалка, чего он не делал, может быть, из боязни взлететь. Ограду выкрасили серебрянкой, а над входом дугой разместились буквы — «Валгалла». Председатель уличного комитета в своей речи на открытии площадки по мере возможности вспомнил историю жившей здесь примечательной троицы, хотя, собственно, ничего о них не знал. После этого ему подали ножницы, и едва он перерезал ленточку, как на новой площадке зашумела, запрыгала детвора.
KILROY WAS HERE[28]
Перевод И. Волевич
Он вошел в кафе. Обыкновенно. Как посетитель. Как человек, который в самом деле пришел сюда только для того, чтобы выпить чашку кофе, — с ним это было впервые. Конечно, он не первый раз пришел в кафе и не первый раз пил здесь кофе, но, подумалось ему, никогда прежде он не ходил в кафе только для того, чтобы выпить кофе.
Войдя, он слегка кивнул в сторону бара, потом взял стул за спинку, отодвинул его и весьма энергично кивнул посетителям, сидевшим за газетным столом, словно боялся присоединиться к ним, не доказав убедительно всем и каждому свою благовоспитанность.
Никто его не знал. Никто-никто, и поэтому он в известной степени чувствовал себя в безопасности. Он и волновался, и в то же время чувствовал себя в безопасности. Килрой. Надо же, опять эта всепоглощающая мысль, которая никогда ему не надоедала, мысль о том, что он, Килрой, знаменитый,
знаменитый незнакомец.
— Менеер.
Официант поставил перед ним чашку кофе. Официант ни о чем не догадывался. И люди за газетным столом, думал он, читают последние новости, склонившись над газетами, — всё они знают, но о нем, о Килрое, ровным счетом ничего.
Ничего. Едва сдерживая радость, он постучал ложечкой по краю чашки. Дзинь… Прежде чем он допил кофе, официант был рядом.
— Пожалуйста, еще чашечку.
Теперь ему было уже не так страшно. Главное — прикинуться обыкновенным. Держаться спокойно. В таком вот кафе только и можно научиться быть нормальным человеком, как все. Надо лишь соблюдать два-три правила. Здороваться, войдя внутрь, и сохранять
спокойствие, читать газету. Завести разговор…
Завести разговор? Но он ведь прекрасно знал, что никогда этого не делал. Никогда. Вдруг кто-нибудь спросит, не Килрой ли он, как тогда? Ответить-то ему нечего, останется только молчать, бежать — и тем самым выдать себя! Но тогда уж они наверняка, наверняка все узнают. Да, да.
Последние сорок лет своей жизни он ни с кем не разговаривал. Конечно, иной раз обращался к прохожему с просьбой дать прикурить или указать дорогу, хотя, собственно, все дороги ему были знакомы; и молчал он вовсе не потому, что не хватало духу завести разговор, а потому, что уже давно понял, что беседа, настоящая беседа не для него и что, обращаясь к нему, люди всегда спрашивают одно и то же. И ведут себя так, словно он иностранец. Но даже в тех случаях, когда они были серьезны и говорили о жизненно важных материях, они опять-таки — как это типично для них! — подходили к проблеме с одной стороны — с внешней.
В обществе таких людей и усиливалось в нем это чувство, — чувство странной неуверенности, которым он, наверно, заразился, как болезнью, в первый же раз, когда сбился с пути; таким он и остался, неуверенным, что когда-либо вообще возвращался назад.
Внешняя сторона. Он знал, для того чтобы понять жизнь, ему надо остаться с изнанки. А ведь зачастую изнанка — штука запретная, и ничего тут не поделаешь, но дело не в этом, дело в том, что мир, оказывается, подобен яркой открытке: с оборотной стороны он бел, незапятнан и пуст; и это открытие всякий раз волновало его до глубины души. Эк куда его занесло! И до него здесь никто не бывал.
Выставки, зоопарки, видовые площадки, террасы, табачные лавки, рекламные щиты, памятники, адвокатские конторы, залы ожидания, конференц-залы, гардеробные, туалеты, бордели, луна-парки, музеи, стадионы — куда шли люди, туда шел и он, но неизменно пробирался вниз, в задние ряды, потому что его место было там. Строительная инспекция, пожарная команда, контролеры — вот с кем он здесь сталкивался, а они едва его замечали. Потолкавшись на выставке, он спускался в первый попавшийся подвал и там писал на стене свое имя, там он был в одиночестве, точнее сказать, наедине с предметами, которые тоже были одиноки, которые из года в год одиноко несли свою службу: балки, пол, гвоздь, банка засохшей краски, пятно.
Да, эти предметы были его истинными друзьями: ящик с рухлядью, бог весть когда и кем забытая рейка, о которой никто ни разу и не вспомнил. А вот он написал на ней свое имя и погладил рукой. Нижняя часть перил лестницы, бачок унитаза — кому они нужны? Погладь перила, погладь почтовый ящик. Гладь все подряд.
Порой у него мелькала мысль, что всех дел ому не переделать. Хотя думать иначе — верх наивности. Мир ведь слишком огромен для одного человека, нельзя поспеть всюду, и все же…
Когда, путешествуя, он видел мелькавшие за окном поезда леса и поля, то почти заболевал от тоски. От тоски по тому, с чем он расстался: по водоотводным каналам и заборам, по деревьям и бескрайним лесам. По холмам, лугам и прежде всего лесам, деревьям, под которыми еще никто не сиживал. Сменялись времена года, а они все стояли, росли, погибали, и ни разу никто…
А если уж он там был, то — как бы это сказать — действительно
был и бродил там. Подбирал сосновые иглы, целыми пригоршнями, а потом опять ронял их на землю — зато он их видел, видел всё, всё без исключения. Ни одной иголочки не обделил он своим вниманием, и, когда эта мысль оседала в глубине его сознания, мысль, что каждая вещь имеет свое значение и каждая на свой лад узнает его, Килроя, тогда он опять начинал вырезать свое имя на коре бука или ольхи… На красивой гладкой коре появлялось его имя вместе с сообщением, что он здесь был.
Он дарил своим вниманием все. И, сознавая это, страдал. И был счастлив.
Напротив него сел какой-то мужчина, держа перед собой газету. Килрой посмотрел на ее обратную сторону, на улыбающееся лицо девушки, которая наливала лимонад и ласково поглядывала на него. Килрой попросил счет, Килрою захотелось немедленно уйти отсюда.
— Что значит быть остроумным? — спросил кто-то. Килрой не стал прислушиваться, ответ на этот вопрос был ему давным-давно известен. Он расплатился и поспешил уйти из кафе. Человек, который так неожиданно сел за его столик, перевернул газету и застыл в изумлении, прочитав на обратной стороне:
Kilroy was here. Остроумная выходка, которую он вполне мог бы оценить по достоинству, но Килрой уже шагал по тротуару, спешил к вокзалу. Нет его, ушел.
Итак, что такое остроумный человек? Это тот, кто сам себе задает загадки. Тот, кто спрашивает себя, долго ли еще будет кувшин ходить по воду, пока разобьется. Такой человек — самый большой забавник на свете. Относится ли это к нему, Килрою?
Он никому не известен. Никто, никто в целом мире не знает о его существовании. Не знает, что он, Килрой, существует, что он человек, один из многих, и все же…
Но разве не может случиться, думал он, что в один прекрасный день кто-нибудь подойдет к нему, протянет руку и спросит: «Ты Килрой?» Да, разве не может случиться, что стоит он, к примеру, утром в очереди за билетом — ведь он много раз стоял в очереди, конечно не ради билета, а просто так, чтобы поприсутствовать,— стоит он, значит, в очереди, а на спине у него приколота бумажка с надписью «Я — Килрой», но он об этом даже не подозревает? Ну в самом деле, сколько же может так продолжаться?
ВЕДЬМИНО ГНЕЗДО
Перевод С. Баженова
Стремление в любом вопросе примирить все точки зрения, счастливая способность радоваться, ненавязчиво указывая, что доводы сторон относительны, как и все на свете, привычка ссылаться на обстоятельства, позволяющие считать «хорошим» то, что называют «плохим», — эти качества снискали Андре в кругу его ближайших знакомых прозвище «философа»; в этом прозвище равно звучало и дружеское восхищение, и недоверие, и обидная снисходительность: но ничего не поделаешь, таков уж был его образ мыслей. Зато, когда знакомые, пускаясь в рассуждения, запутывались в них и впадали в состояние беспомощного беспокойства, эта «философия» всегда дарила ему ощущение свободы, покоя и даже некоторой беспечности.
Он содержал небольшое кафе. Умозрительные рассуждения не были его профессией, впрочем, их вообще едва ли можно считать профессией, равно как и обслуживание посетителей нельзя считать призванием, — просто все это входило в обязанности владельца кафе. Тот, кто по обязанности угощает других, сам обычно едой не увлекается — так было и с его философией: он размышлял в меру, иногда не задумываясь ни о чем по целым дням, и размышления предпочитал серьезные, то есть логичные и реалистические, а не заумные химеры вроде тех мыслей, которые доставили ему столько переживаний в памятный летний полдень много лет назад.
Он вырос в сельской глуши. Отец его, лесоруб, с восходом солнца уходил на работу в лес. Жизнь и детские игры Андре протекали возле родительского дома. От большой проезжей дороги вела узенькая извилистая тропинка, которая выводила мальчика отсюда в большой мир, как отец называл все, что лежало за пределами леса. Благодаря ей Андре вскоре узнал, что у поворота большой дороги, в конце широкой въездной аллеи, полускрытое зеленью, возвышалось величественное белое здание со множеством окон и входной дверью, которая сверкала, как золотая; но вход охраняли два каменных льва, стоявшие по сторонам его на низеньких стенках, поэтому Андре не смел подойти близко, впрочем, ворота в начале аллеи были заперты, и, чтобы попасть в парк, пришлось бы перелезать через ограду; на его вопрос дома: «Кто там живет?» — отец ответил:
— Никто, это загородная резиденция короля.
— Так, значит, это дворец.
С каждым днем Андре все глубже знакомился с тем, что его окружало, все больше узнавал о мире в целом и особенно о мире самого леса. Когда они стали ходить в лес вдвоем, отец часто рассказывал ему о вражде между деревьями в лесу, об их гибели в этой борьбе, предостерегал от ядовитых змей, скрывавшихся в траве, показывал гнезда мелких птиц, разоренные сороками, и мало-помалу Андре перестал бояться леса, чувствуя полное единение с отцом, который в этом царстве беспощадной вражды был верховным Судией. И пусть отец мало что мог рассказать про Дворец, зато о лесе он знал решительно все.
— Лес — это интереснейшая штука, — часто говаривал отец, — потому что там идет война, которая не прекращается ни днем, ни ночью и не прекратится никогда.
Взять, к примеру, бук, что рос неподалеку, среди высоких сосен. В своем стремлении к свету, который заслоняли от него соседние деревья, он рос только в вышину, одним голым стволом, почти без ветвей, и этим походил на сосну, но он не был сосной, и вот однажды утром они увидали, что он сломался, а его небольшая, но гордая макушка бессильно поникла к земле, усыпанной сосновыми иглами. Так погиб бук, который рос один среди враждебных ему сосен.
Как велик был этот лес и далеко ли уходил он на запад, не знал никто. Когда Андре спросил об этом отца, тот ответил, что края леса не видно даже с вершины самого высокого дерева.
— Лес — это край света, и за ним ничего больше нет.
По-разному представлял себе Андре этот таинственный «край света», но всегда он казался ему отвратительным скопищем всяких бед, несчастий и зол, какие только существовали в детском воображении: львы, тигры, каракатицы и кровожадные пираты с «Летучего Голландца» — все Зло притаилось здесь и металось взад и вперед за крепкими оградами, как мечутся хищные звери в клетках, осужденные на вечное заточение; это можно было бы назвать фантазией, игрой детского воображения, если бы однажды он не столкнулся лицом к лицу с этим миром Зла.
Зайдя в лес глубже, чем всегда, он увидел тропинку; окруженная дремучими елями, она была такой сумрачной и зловещей, что он едва осмелился заглянуть подальше. Сломя голову бросился он домой, но уже на следующий день опять стоял там, в напряженном молчании, заложив руки за спину, как осужденный на смерть, и в страхе, в смертельном ужасе перед тем, что виднелось там, в конце жуткого, мрачного туннеля:
там был огромный глаз, пристально глядевший на него.
Он убежал, но каждый день вновь отыскивал это место, останавливался и смотрел в мрачную дыру туннеля на того, кто там затаился и кто почему-то представлялся ему женщиной. Странная прожорливая тварь, она расположилась там, как паук в паутине, заботливо выращивая и оберегая мелких гаденышей, свое ядовитое ведьмино отродье. Она была опасна, страшно опасна, как может быть опасна только мать, защищающая своих детей. И пока он стоял там и смотрел, из логова доносились пронзительные злобные вопли. Она, ведьма, не шевелилась, только неистово визжала и неотрывно следила за ним своим единственным глазом, требуя, чтобы он убирался отсюда, чтобы не смел смотреть на то, что здесь происходит. Это место в лесу Андре назвал ведьминым гнездом, и теперь всякий раз, когда он слышал от матери, что с кем-то случилось несчастье, он уже догадывался, откуда оно взялось — отсюда, из этого ведьминого гнезда.
Порой, перевернув большой камень, он находил под ним множество омерзительных тварей, которые отчаянно копошились там, смертельно напуганные, что их обнаружили, и у него появлялись такие же мысли: вот оно, Зло, он поймал его на месте преступления, в самом логове; и тогда он безжалостно втаптывал в песок, уничтожал эту гнусную нечисть навсегда. Он понял, что Зло трусливо и слабосильно, что оно живет, размножается и вырастает сильным и опасным, только пока его не видят; потому-то всякое Зло и прячется в темноте.
Как-то в полдень он опять пришел туда. Лес тревожно стонал, ведьма кричала, но он не убежал. Спокойно смотрел он в единственный ведьмин глаз и уже не боялся. То есть, конечно, было боязно, но он не трусил. И вот оказалось, что лес уже не стонет, кругом спокойно, обычный тихий летний день. В лесу было так темно, что, посмотрев наверх, он не смог разглядеть ничего, кроме сумрачных сводов из серых, давно уже мертвых ветвей. Сквозь эти своды не проникал ни свет, ни дождь. Вся жизнь была там, наверху, в зеленых вершинах, в самых макушках вековых деревьев: их омывали дожди, и там оставалась вся влага. Здесь же, внизу, в ведьмином гнезде, было невыносимо сухо, и гаденыши жалобно вопили, изнемогая от жажды.
Наконец он решился и пошел по тропинке. По колено проваливался он в сухую пыльную хвою — видно, столетиями не ступала здесь нога человека. В некотором смысле он мог считаться первым на этой тропинке, ведь и Колумб только в этом смысле был первым на своем пути в Америку.
Осторожно пробирался он между деревьями к таинственному одинокому глазу, который вдруг оказался совсем и не глазом, а небольшим окном, полуприкрытым ставнями, — так, значит, это дом, кто же тут живет? Мальчик двинулся дальше, колеблясь и в то же время охваченный жгучим нетерпением…
Вот он вышел на освещенное место, но дом, который возвышался перед ним, был мрачным, и серым, и таким громадным, каких Андре еще никогда не видел. Со страхом и изумлением смотрел он вверх на бесчисленные окна, забранные коваными решетками… Так вот где прячется Зло — в шкафах, на полках, шеренгами по старшинству притаились здесь духи злодейства и несчастий; кажется, даже шторы на окнах ехидно пожимают плечами, как будто вот-вот злорадно, украдкой захихикают, — но все это мертво, мертво, мертво навеки. От волнения у него перехватило дыхание: это действительно был самый настоящий край света.
Андре тщательно ополоснул стаканы. Нельзя сказать, чтобы он умел объяснить спорщикам в кафе, кто в чем ошибается, нет, но, вступив в беседу, он тотчас направлял ее в нужное русло. И не потому, что — как считали все — правильно понимал обе стороны, просто он умел незаметно подменить одно мнение другим. Он не мешал им вдоволь наговориться — пусть даже наболтают лишнего, — тем легче потом будет исподволь, как по гладким рельсам, перевести разговор на житейские хлопоты, радости и заботы о хлебе насущном. А Колумб? Ну что же в нем особенного? Правда, он открыл новый материк, но ведь и кроме него всегда находились мореплаватели, которые из простого любопытства и жажды открытий выходили в море с запасом провианта на один месяц, с запасом мужества на целую сотню лет. Да, им не занимать отваги, но, в конце концов, все их испытания и переживания, даже если бы после трех недель плавания, шторма и кораблекрушения их выбросило на сушу всего лишь в каких-нибудь десяти метрах от того места, откуда они отплыли, — даже в этом случае все их испытания и переживания были бы ничуть не сильней тех, что выпали на долю маленького Андре, когда он наконец дошел до края света: сам того не подозревая, он оказался у задней стены того же самого Дворца.
Только когда он обошел здание кругом, увидел главную аллею, львов впереди, а за собой сверкавшую золотом парадную дверь, только тогда он понял, куда же он попал. И вся стройная картина мира, созданная детским воображением, мгновенно рухнула; он шел ни много ни мало полдня, добрался туда, где до него не побывал еще никто, а в результате открыл, что оба его мира — мир Добра и мир Зла — всего лишь две стороны единого целого.
Он пошел по аллее, робко оглядываясь на оставленное позади и недоверчиво посматривая на то, что ждало его впереди, — на ограду парка. Он вскарабкался на нее, но, когда был уже на самом верху, на чугунных наконечниках копий, его заметил подошедший сторож. Как только мальчик спустился на землю, сторож сделал ему выговор за недостойное поведение в таком месте. Но Андре почти ничего не слышал: столько событий за один день!
Еще раз оглянулся он на Дворец. Тот по-прежнему возвышался во всем великолепии, загадочный и белый, не просто белый, а неправдоподобно, фантастически белый. Андре даже показалось, что с этого дня весь остальной мир вдруг потемнел, стал более серым и тусклым. Даже отцовский дом, даже родители показались ему не такими, какими они были перед этим путешествием. И до сих пор ему иногда кажется, что он так и не вернулся в прежнюю жизнь.
Жак Хамелинк
Перевод Ю. Сидорина
ВОСКРЕСНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Все это произошло в августе 1951 года. Кажется, числа десятого мы отправились в поход с группой Молодежного союза нашей деревушки в район Звина
[29]. У меня даже сохранилась фотография, которую сделал руководитель нашей группы, когда мы, не замечая, что он нас фотографирует, занимались возле палатки мытьем посуды. Бушмен на этой фотографии сидит на корточках и дает указания, Рябой драит алюминиевую кастрюлю, Дидерик орудует посудным полотенцем, Морда опустил руки в таз, куда я успел тайком высыпать пригоршню песка, а Кобель стоит согнувшись у входа в палатку и, щурясь от солнца, смотрит прямо в объектив.
Он был недоверчивее нас, пугливее — и не без причины: бывало, мы, словно по уговору, дружно набрасывались на него, хватали и раздевали, потом мазали ему промеж ног какой-нибудь липучей дрянью и держали до тех пор, пока его не облепляли насекомые. При всяком удобном случае мы доводили его до истерических рыданий, но каждый раз он опять появлялся среди нас, и мы терпели его, пока все не повторялось сызнова.
Почему мы так к нему относились, я до сих пор не понимаю. Может быть, потому, что мы — остальные — слишком задавались друг перед другом и оттого боялись друг друга подспудным, диким страхом детей, которые еще живут чувствами, рождающимися в глубине их щенячьих животов.
Мы, конечно, могли взять в оборот и Морду, что однажды и случилось. Мне удалось подговорить его прокатиться по луговому бочагу на бортике от старой крестьянской телеги. Я уже опробовал этот бортик: он был слишком узок и неустойчиво колебался в гнилостно-зеленой жиже. Добравшись до середины, Морда вдруг испугался и начал размахивать руками. А после, уже на берегу, лежал, сотрясаясь от рыданий, из ушей у него сочилась вонючая вода, он впился пальцами в песчаную землю и поднес ко рту горсть земли, словно желая ее съесть. Наверное, было во всем этом что то такое, что в дальнейшем удерживало нас от подобных шуток с ним.
Кобель не был похож ни на кого из нас: лгун и обманщик, он водил девчонок в пшеницу и всегда говорил ровно столько, сколько считал нужным, — ни больше ни меньше. Кроме того — опять же не так, как мы, — жил он не с родителями, а у бабки, старой, седой, очень толстой особы, похожей на гриб в ермолке. С трудом волоча за собой чемодан сластей, она ежедневно обходила нашу округу. Бабка-Мороз — так мы ее прозвали. Родом она была из Бельгии, и мы с трудом понимали ее речь, полную странных звуков и сочетаний. «Том» говорила она вместо «дом». А когда увещевала нас оставить в покое ее окна, которые постоянно разбивались в ее отсутствие, грозила свести нас, «глупи мальшики», в «полисию». По слухам, в своей маленькой, набитой всякой всячиной комнате она раскладывала карты и смотрела в магический хрустальный шар (сами мы у них дома никогда не бывали, потому что, когда забегали за Кобелем, он сразу же выходил на улицу и никогда не приглашал зайти: дескать, бабушка не разрешает).
Все ее дети жили в Бельгии, а муж много лет назад сбежал с другой женщиной. Кобель был незаконным сыном дочери по имени Ирена, которая жила в Антверпене. Больше мы о его родне ничего не знали, да и сам Кобель, кажется, знал не больше нашего. Впрочем, он не задавался лишними вопросами. Иногда на него находило, и он в дождь бегал босиком по деревне и пел странные песни собственного сочинения, вроде «Дождик, дождик, ай ду-ду, домой я тоже не пойду».
Он был какой-то чокнутый. Мы пользовались этим и подбивали его на всякие рискованные выходки, которые давали ему некоторое право на нашу дружбу. И он из кожи лез, чтобы стать для нас «своим»: выбивал стекла у лавочницы, воровал для нас орехи, во время уроков бросал каштановую шелуху в окно нашего класса. Сам Кобель учился в соседнем городке, в католической школе. Каждое утро, когда мы только-только выходили из дома, он уже ехал на велосипеде в город, а назад возвращался, когда мы еще корпели в душном классе над географией, математикой и отечественной историей.
Но что бы он ни делал — все без толку. Мы никогда не считали его вполне своим, так он и остался паршивой овцой в нашем стаде. Мы то терпели его, то изгоняли насмешками, то снова принимали в свою компанию. От этого он сделался нервным и подозрительным. Иногда казалось, что он, собственно говоря, презирает нас, холодно, с каким-то удовлетворением замыкаясь в себе. Он мог по нескольку дней играть совершенно один. Однажды мы увидели, как он целится из рогатки в уличный фонарь. После уроков мы тоже достали свое оружие, наскоро проглотили бутерброды и, стреляя из рогаток, препираясь друг с другом и споря, кто поразит цель первым же выстрелом, бурей прошли по деревне.
Но все эти случаи недолгого сближения кончались тем, что мы, разозлившись на бессовестное вранье Кобеля о его меткости и успехах у девчонок в католической школе, сталкивали его в канаву, натравливали на него бродячую собаку или набрасывались на него всем скопом. Он никогда не отбивался, просто удирал куда подальше.
— Дураки, подлые еретики! — кричал он издали в ответ на наше насмешливое улюлюканье.
Сказать по правде, он не мог быть членом Молодежного союза, этого детища реформатской церкви, но все-таки стал им. Руководитель группы, устав смотреть, как он болтается возле школы во время сборов, велел нам привести его.
Он сразу же стал членом нашей группы.
— А твоя бабушка согласится? — спросил руководитель.
— Почему бы нет? — нехотя ответил Кобель и с той поры довольно регулярно появлялся на наших сборах и даже вовремя платил взносы. Похоже, в глубине души он гордился тем, что вступил в наш союз. Может быть, он втайне на это и надеялся, когда во время сборов слонялся вокруг школы, громко выкрикивая наши имена и всеми способами стараясь привлечь к себе внимание. На первом сборе, на котором присутствовал Кобель, руководитель группы учил нас десне, своего рода негритянскому кличу:
Ова-ова-овава!
Чинг-чанг-траливалн! Бумба-ке!
Окна класса были открыты. Песня звучала просто здорово, мы орали что есть силы, выстукивая ногами ритм. И Кобель, всегда насмехавшийся над нашими занятиями, играми, песнями, историями, которые рассказывал наш руководитель, отчаянно вопил вместе со всеми.
Потом, когда руководитель начал рассказывать приключенческую историю про убийство и кражу драгоценностей, мы притихли и замерли.
Рябой слушал с широко раскрытыми глазами. Морда от волнения грыз ногти, а я, когда рассказ кончился, гаркнул «бумба-ке!».
Все дружно подхватили мой клич. Во время молитвы мы толкались локтями, а потом сломя голову помчались из школы по домам, разбегаясь по площади, обсаженной каштанами, сочная зелень которых казалась совсем черной.
В наших отношениях еще сохранялось некоторое равновесие, но оно грозило вскоре рассыпаться в прах. Угроза таилась в теплых летних вечерах, вызывала зуд в наших маленьких неутомимых телах и делала небезопасными наши вероломные игры, которые неустанно требовали и искали жертву.
Мы с Рябым возвращались домой, и он сказал задумчиво:
— Нужно, как в Библии, как в битвах с филистимлянами. Когда нам будет угрожать опасность, мы принесем жертву. Дым поднимется до самого неба, где живет бог. И тогда он сделает нас непобедимыми.
Я пнул жестяную банку, отскочил в сторону и приготовился отразить ответный удар. Рябой с силой наподдал банку и попал мне в ногу пониже колона. Вопя и гоня банку перед собой, мы двинулись дальше.
Жертва? — думал я.
Вот уже несколько дней, как мы, двенадцать мальчишек, расположились лагерем в старых американских палатках, разбитых прямо за дюнами на огороженном участке луга, который принадлежал пришедшей в полный упадок ферме. Кроме наших палаток, было еще несколько, а около проема в насыпи — через него можно было с территории кемпинга попасть на узкую асфальтированную дорогу, проходившую по внутренней стороне цепочки дюн и осененную ветвями пышных зарослей, — стоял светло-зеленый автофургон.
По настоянию руководителя группы мы поставили свои палатки в самом конце кемпинга. Они были больше размером и казались очень уж неприглядными по сравнению с другими палатками: оранжевыми, зеленовато-голубыми и синими, — которые мы втайне считали красивее.
Трава в кемпинге была вытоптана множеством ног и выглядела увядшей. За высокими, поросшими буйной растительностью дюнами день и ночь неумолчно шумело море. Однообразный, навевающий сон звук.
Днем мы заглушали его, с воплями взбегая по дорожке, ведущей мимо фермы через дюны. На море падали отвесные лучи палящего солнца, и, если долго смотреть на волны, глазам становилось больно. Казалось, будто море, волна за волной, отталкивается от песчаного берега, старается убежать от него подальше. А песок лежал недвижно, впитывая в себя солнечный жар.
Ночью над самыми вершинами дюн повисали звезды. Слышался прилив, звук могучего движения воды в гулком пространстве, отраженный от склонов дюн.
В глубоких песчаных лощинах струился тонкий туман. Земля дышала испарениями.
Море казалось огромным сверкающим животным, рыбой с неподвижным хвостом, слабо дышащей, но настороженной, готовой к внезапному рывку.
А потом отлив. Шаги по влажному песку, страх быть унесенным во время позднего купания в гиблые места, где вода черна от глубины.
Поздно вечером, возвращаясь с моря, мы почти нос к носу столкнулись в дюнах с каким-то мужчиной. Он ничего не сказал, даже не посмотрел на нас.
Когда на второй день после приезда мы отправились на прогулку через Звин по направлению к Кнокке
[30](Кобель остался в кемпинге, причем добровольно, чтобы присмотреть за палатками), мы услышали от охранника, стоявшего на импровизированном пограничном посту около высокой решетчатой ограды, разделявшей нидерландскую и бельгийскую территории, что здесь повсюду валяется еще много военного снаряжения. Опасные места, ничейная земля — низкие, широкие дюны с покосившимися бетонными бункерами на них. Руководитель группы и несколько ребят пошли дальше. Бушмен, Рябой и я прикинулись, что устали и что у нас заболели ноги. Мы начали выпытывать у охранника, где что можно найти.
Он повернул к нам высохшее, морщинистое, хитроватое лицо и закусил концы грязно-белых усов. Старый крестьянин, пастух без стада. Сбив фуражку на затылок, он, не отвечая на наши вопросы, уставился на небо.
Мы поплелись обратно к дюнам, мимо которых уже проходили раньше. Ничего интересного по дороге не попадалось. В одном месте стояла табличка: «Вход воспрещен. Снаряды».
— Может, здесь еще остались мины, — предположил Рябой и лягнул ногой сыпкий, почти текучий песок.
Следов здесь уже не было видно. Похоже, никто сюда не ходил. Все в поту, мы взобрались по склону дюны, где стоял осевший серый бункер.
Когда мы влезли на платформу бункера, из которой торчали ржавые железные прутья, Бушмен вскинул руки, повернулся к морю, казавшемуся здесь более голубым, таинственным и тихим, чем в других местах, и закричал:
— У-у-у!
По песчаному пляжу бродили
несколько человек. Время от времени они наклонялись и что-то подбирали. Искатели ракушек? Медленно они уходили все дальше и дальше.
В бункере нас сразу охватил мрак. В нос ударил тяжелый запах цемента и гнилой земли. Промозглый, нелетний запах.
Бушмен чиркнул спичкой. Пламя робко поползло вверх и погасло.
Каменный пол был завален всяким хламом. Рябой что-то подобрал и тихо присвистнул сквозь зубы, как делают взрослые, застигнутые врасплох и не желающие показать этого.
Что-то ползло по моей ноге. Паук! Я стряхнул его, и мы выскочили из бункера. Дневной свет обрушился на нас с ослепляющей силой. Рябой показал нам, что он нашел. Ржавый патрон с пулей.
— Вот это да! — сказал Бушмен и, выхватив патрон из рук Рябого, жадно осмотрел его.
Мы снова спустились в бункер и начали шарить в полутьме по полу. Я нашел пулеметную ленту, битком набитую патронами. Лента насквозь проржавела и совсем потеряла гибкость. Когда мы ее распрямили, она лопнула в двух местах. Мы вынули патроны из гнезд и поделили их между собой.
Едва мы вышли из дюн и медленно зашагали босиком через пустошь Звина, поросшую лилово-бурым вереском, с многочисленными неглубокими озерцами, в которых, как на фотопленке, отражались одновременно небо и дно, нас попытался остановить охранник, кричавший что-то неразборчивое со своего поста у решетки. Он махал нам рукой, подзывая к себе. Но мы даже не ускорили шага.
Возле пешеходной тропки через дюны Бушмен укрепил патрон пулей вниз между двух камней, отступил на шаг и, швырнув другой камень, попал точно по капсюлю.
Щелчок, и не громкий даже, тонкая струйка дыма, что-то отлетело в сторону, потом резкий запах, как от игрушечных пистонов: порох.
С дюны к пляжу спускалась девушка. На ней были зеленые солнечные очки. Она осторожно ставила ноги, вероятно, чтобы не оступиться в рыхлом песке, который толстым слоем покрывал деревянные ступени, а может быть, она шла босиком, как мы, и боялась наколоться на какой-нибудь острый предмет, стекло или ветку.
На нас она не смотрела.
— Эй, Кобель! — пронзительно крикнул Бушмен.
Она остановилась, прикрыла глаза рукой и мельком взглянула на нас.
(Мы знали, что зовут ее Фиа и что она с родителями и братишкой, жирным подонком с обгоревшей, красной кожей, живет в автофургоне. Иногда мы тайком заглядывали в окна, чтобы увидеть ее. Один раз она стояла совсем голая, втирая в кожу масло для загара.
Кобель, ясное дело, не мог удержаться от комментария:
— Черт возьми, вот бы с такой полежать в палатке.
— Много захотел, — взорвался Рябой, ведь с его-то физиономией нечего и рассчитывать на успех у девчонок.
Я не сказал тогда ничего.)
Девушка продолжала спускаться вниз по тропе и, в нерешительности помедлив на полпути и оглянувшись на нас, исчезла в зарослях дрока, которые плотной стеной окружали дорожку. На ней были шорты и белая свободная блузка.
Рябой со значением присвистнул — короткий, отрывистый звук, словно ветер подул в металлическую трубку или горлышко бутылки.
— Может, она просто пошла по малой нужде, — сказал я.
Все пропустили это замечание мимо ушей.
Бушмен играл одним из своих патронов, похожим на изъеденный ржой ком земли, на бесформенный сучок, облепленный какими-то спекшимися сгустками.
— Засунуть бы туда такую штуку, — сказал он, — а потом «трах»!
И он взмахнул рукой, будто ударяя чем-то тяжелым.
Мы вяло засмеялись.
— Пошли за ней, — сдавленным голосом сказал Рябой. — Посмотрим.
Они лежали в кустах, лицом друг к другу. Я слышал дыхание ребят. Стояла влажная духота, как перед дождем. Что-то перехватило мне горло, поднимаясь все выше и выше. Я начал задыхаться, завозился на месте.
— Тихо ты, — почти неслышно сказал Бушмен.
Она была уже без солнечных очков.
Он снял с нее шорты, его руки скользили по ее телу. Она повернулась на спину. Казалось, она при этом отсутствовала, предоставляя ему делать все, что заблагорассудится, или не понимала происходящего и, собственно, в мыслях у нее было совсем другое.
Она смахнула с глаз белокурый локон. И лежала, не шевелясь, раскинув руки, словно пригвожденная к земле.
Он прижался к ней и начал двигаться короткими, резкими толчками. Она обняла его.
Потом он, обессиленный, лежал рядом с ней. Она наклонилась к нему, и вдруг он уронил голову ей на колени и остался так лежать.
Из-за дюн донесся пронзительный женский голос:
— Фиа, Фи-и-а-а!
Мы бесшумно отползли назад и начали тузить друг друга под дых, в живот, в опасное место.
— Убью! — крикнул Бушмен и обеими руками схватил меня за горло. Я вывернулся, и мы, совершенно сбитые с толку, помчались к палаткам.
Около фургона стояла мать девушки, приставив руки ко рту, как судовой рупор:
— Фи-и-а-а-а!
Когда мы отошли подальше, Бушмен обернулся и закричал, тоже приставив руки ко рту:
— Фи-и-а-а-а-а!
Но нам уже было не смешно.
Рябой сказал Морде, Дидерику, Бушмену и мне, что нам нужно поговорить. Кобель остался с другими ребятами. Лицо его хранило невозмутимое спокойствие.
Когда после обеда руководитель группы выпустил нас на минуту из поля зрения, мы мгновенно исчезли, один за другим. Остальные — те, что дошли до Кнокке, — сидели теперь, усталые как собаки, и похвалялись своей выносливостью и тем, что видели. Ничего-то они не видели.
Патроны я спрятал в чемодан. Только один сунул в карман, зажав его в руке.
Неподалеку от кемпинга, между морем и пляжем, начиналась вторая гряда дюн, пониже и более густо поросшая растительностью, чем первая. Ходить туда было запрещено, потому что там гнездились птицы. Там не валялись бумажные пакеты. Туда никто не заходил.
Мы гуськом, один за другим, пробрались в дюны. Вот первая высокая гряда осталась позади и перед нами открылась цепь приземистых дюн, за которыми медленно шевелило желто-черной чешуей море. Расположились мы на дне глубокой, почти голой впадины, испещренной многочисленными кроличьими следами и высохшим пометом.
Мы сели в ряд, поставив локти на колени и подперев головы руками. Солнце стояло уже низко и было кроваво-красным. Во мне росла черная тоска, как слепое пятно в глазах.
— Он ее все-таки уделал, — сказал Рябой.
— Ты бы, конечно, отказался от такой возможности, — сказал Дидерик.
Вспомнив, что говорил Рябой насчет жертвы, я сказал:
— Надо принести его в жертву богу моря.
Воцарилась странная тишина.
Дидерик покопался тонкой веточкой в песке и лег на живот, чтобы лучше рассмотреть крохотные песчинки, будто в них было что-то особенное.
— В Библии за такое убивают, — сказал Рябой, помолчал и посмотрел на Дидерика. Тот по-прежнему лежал на песке, словно наше сборище не имело к нему никакого отношения.
— Дурак ты, — только и сказал он, с издевкой растягивая слова.
— У нас ведь есть патроны, — сказал Бушмен.
Он носил их с собой, рассовав по всем карманам. Это было наше тайное, могущественное оружие. «Еще убьешь кого-нибудь», — сказал он, когда я предложил положить патроны в мой чемодан. Может, он мне не доверял? Дидерик и Морда не получили ни одного патрона из нашей добычи.
— Мы предадим его мукам, — сказал я.
— Тогда вы должны дать мне патронов, — недовольно сказал Дидерик.
— И мне, — сказал Морда. В том, как они это сказали, сквозила неприкрытая жадность.
У нас, собственно, не было никакого определенного плана, но предгрозовая атмосфера назревающего приключения и опасностей, непредсказуемость того, что могло произойти, уже завладела нами.
Бушмен вытащил из карманов четыре патрона, поцарапал по ним ногтем и дал каждому по два. Рябой и я должны были возместить ему из своей доли по одному патрону.
Неужели эти маленькие, ржавые куски металла, наполненные отсыревшим порохом, смутили наше воображение? Кто знает…
Легкий ветер шевелил кусты. Совсем низко пролетела стая чаек. Наполняя воздух криками, они резко повернули в сторону моря и исчезли. Здесь, по-видимому, им нечем было поживиться.
Дюны на глазах превращались в дикий горный ландшафт.
Мы присели на корточки и воткнули свои ножи в песок. Нож Дидерика упал. Он сгреб руками песчаный холмик и снова воткнул нож. Теперь он устоял.
— Это должно быть отомщено, — сказал Рябой. Мы с удивлением и серьезностью вслушивались в его торжественные слова. Море запорошило наши глаза и рты соленым серым налетом.
— Э-ге-ге! — заорал Дидерик и схватился за нож.
Что-то назревало. Мы не знали что, но неотвратимо двигались навстречу этому, упирающиеся, любопытные, желающие все знать зверьки.
Бушмен схватил Морду за горло и сделал вид, будто перерезает ему глотку.
— Сволочь голгофская! — заорал Морда не своим голосом. Неужели у него начался припадок? Похоже на то. Он заскрипел зубами, лицо налилось кровью.
— Смерть и погибель!
Я знал, из какой книжки Бушмен это вычитал. Она была в нашей школьной библиотеке и называлась «Морские гёзы принца Оранского».
Из зарослей дрока вылетела испуганная пестрая птица.
Потом мы торжественно поклялись, что не отступимся от своего и ничего не выдадим, если даже нас будут пытать.
Все должно произойти быстро и с соблюдением предосторожностей. (
Что? — думал я все это время.
Что именно?)
Спрятав ножи под рубашки, мы, крадучись, отправились обратно к палаткам.
Вокруг стало совсем пустынно и дико. Мы заимствовали у моря его защитную окраску. Тени превратились в фантастических животных. Позади нас лежала дюна, точно лев, дракон, вонзивший когти в подернутое серым пеплом тело моря.
Чтобы не обходить далеко, мы как раз напротив дорожки, ведущей через дюны, поднырнули под колючую проволоку, которая окружала территорию кемпинга. К тому же никто из нас, видно, не хотел идти мимо зеленого фургона, стоящего у ворот.
Морда зацепился рубашкой за проволоку и застрял.
— Подожди, — сказал Бушмен и добавил: — Готово.
Морда рванулся вперед и разодрал рубашку от ворота до подола. В прорехе виднелась белая кожа. Он не любил загорать и в кемпинге или на пляже обычно лежал не раздеваясь и дремал. Иногда он играл с нами в футбол, разгоняя всех по полю безумными криками и бестолковой суетой. Короче говоря, он не умел играть в футбол, он не умел ничего. В каждом классе он сидел по нескольку раз. Мы терпели его только из-за припадочности, которая временами была нам очень кстати.
Бушмен ухмыльнулся в нашу сторону. Морда не заподозрил злого умысла, не заметил быстрого движения его пальцев.
— Черт возьми, — сказал он, ощупывая рукой спину.
Возле палатки руководитель группы и один из ребят, по имени Эрте, устроили соревнования. Остальные смотрели и курили.
Между руководителем и Эрте — оба они сидели на земле — находилась ножка от старого стула, скорей всего подобранная на свалке за фермой. Упершись друг в друга подошвами, они крепко держались обеими руками за слегка изогнутую ножку. Потом стали тянуть ее каждый к себе, сначала осторожно, затем все сильней. Эрте — рывками. При этом они смотрели друг другу в глаза, стараясь угадать намерения соперника.
Эрте стиснул зубы. Лицо руководителя группы сохраняло невозмутимость. В конце концов ножка сломалась с сухим треском, похожим на щелчок патрона в дюнах.
Мы подсели к зрителям и приняли самый невинный вид. Но не слишком удачно.
— Что это вы отмочили? — заинтересовался Кобель.
— Мы гуляли, — громко, чтобы все слышали, сказал Бушмен, — и нашли гнездо вот с такими яйцами, совершенно зелеными. — Его руки изобразили нечто величиной с кокосовый орех. Руководитель недоверчиво поморщился.
— Таких не бывает, — сказал Кобель, который сам врал как по писаному, глядя на тебя невинными серо-голубыми глазами.
— Мы тоже видели, — сказал я, — Рябой и я.
По тому, как мы говорили, Кобель почувствовал неладное — на это у него ума хватало, — и, когда через некоторое время мы выбрались на луг за палатками, сшибая по пути головки цветов, он поспешил за нами.
Мы потолковали с ним.
— Динамит, — сказал Рябой. — Такие круглые зеленоватые палочки. Одну мы взорвали сегодня днем. Вот это был взрыв — камни взлетели на несколько метров в высоту.
— Я ничего не слышал, — сказал Кобель.
— Это было далеко отсюда, в Звине, — сказал я.
Желание заполучить таинственную взрывчатку сломило его нерешительность.
— Возьмите меня с собой, а?
— Только молчок, — шепотом сказал Рябой. — Или ты идешь сейчас вместе с нами, или ты ничего не получишь.
Дурак, подумал я. Все испортил. Кобель достаточно хитер, чтобы заподозрить подвох. Он не пойдет.
— О’кей, — ответил он деловито, — только, чур, честно делить.
— О’кей, — сказал я.
— О’кей, — сказал Рябой, исчез в палатке и через некоторое время торопливо вернулся обратно, пряча что-то под рубашкой.
Нас позвал руководитель. Все собирались на вечернюю прогулку вдоль берега, в сторону Груде, где у знакомых руководителя был небольшой домик. Там можно было получить прохладительные напитки. По воскресеньям нам запрещалось покупать пиво, лимонад и вообще что бы то ни было. Руководитель группы придерживался этого правила неукоснительно. Однако Бушмен вытащил из своего вещмешка зеленую бутылку с красной надписью на этикетке и сунул ее под рубашку. Мы все скинулись на нее, чтобы распить вместе в дюнах — если удастся, в компании девчонок. Опасное, запретное зелье, пахнущее сивухой и не имеющее цвета.
Мы медленно брели по песку, впереди — руководитель группы в шортах до колен. Его голые, поросшие черными волосами икры вздрагивали при каждом шаге.
Он был холост, работал маляром и все свое свободное время отдавал молодежному движению в нашей деревушке. По-моему, он не был таким уж набожным христианином, как думали взрослые. Однажды он рассказал нам, что ел человечье мясо в концентрационном лагере.
«Конечно, отведал женского мясца», — заметил отец, когда я рассказал ему об этом. Я уже тогда примерно понимал, что имел в виду отец. Но руководитель нам нравился — хотя бы тем, что иногда ругался. «И все-таки лучше бы он помалкивал насчет войны», — добавил мой отец.
Руководитель группы показал на огненное зарево в небе.
— Поэтому на Востоке наши края называют страной заката.
Страна заката, подумал я.
Бушмен, размахивая руками и спотыкаясь, взбежал на вершину дюны. Мы устремились за ним, далеко опередив руководителя.
После некоторого колебания и замешательства Бушмен, оглашая дюны дикими воплями, прыгнул в чащу дрока. Кобель, Морда и Дидерик, которые мигом смекнули, что к чему, сразу же ринулись за ним. Я оказался последним.
— Ребята! Эй, Антон! — закричал руководитель. — Бушмен, Морда, Дидерик! Идите сюда! — Он словно созывал свору разбежавшихся собак. Потом он замолчал, и некоторое время спустя я увидел, а затем услышал, как он в сопровождении оставшихся ребят двинулся по песчаному берегу дальше, по направлению к Груде, деланно бодрым голосом затянув «Сюзанну».
Мы встретились в темной ложбине между дюнами, где были днем и где нас уже поджидал Рябой. Кругом виднелись наши следы. Песчаный холмик, в который Дидерик воткнул свой нож, походил на миниатюрную могилу. Мы и в самом деле от скуки похоронили там божью коровку, засыпав ее пригоршнями песка.
Бушмен вытащил из-под рубашки, стянутой внизу широким эластичным поясом, бутылку еневера
[31]. Он извлек из горлышка красную лакированную пробку, зажал его ладонью, несколько раз встряхнул бутылку, отхлебнул глоток и закашлялся.
— Чертовски забористая штука, — сказал он с перекошенным лицом.
Мы по очереди приложились к бутылке. Жидкость впилась, как колючка, обожгла огнем мое горло. Запылала и забродила в желудке.
Кобелю водка не понравилась. Он ее выплюнул.
— Главное — выучиться пить, — сказал я, — а там тебя за уши не оттащишь.
Мы выпили еще по глотку, и Бушмен опять спрятал бутылку под рубашку.
А потом мы отправились туда, где хранился динамит.
В дюнах слышались неясные голоса; вдоль расколотого узкой дорожкой моря двигались узкие черные фигурки, замирая, они становились похожи на темные сваи.
С этого момента я вспоминаю лишь разрозненные куски, фрагменты дальнейших событий.
Выражение лица Рябого, усмешка в его жестких, хрустальных глазах, устремленных на меня. Какое-то кружение в животе, которое с каждой минутой усиливалось. Гомон чаек, а может быть, моря, серого на темно-сером фоне.
Мы то поднимались, то спускались по огромным песчаным ступеням. На горизонте каждые несколько секунд вспыхивал призрачно-хрупкий белый луч.
— Черт, — ругнулся Морда, его разорванная рубашка была зашпилена на спине булавкой. Пронзительно галдящие длинноногие птицы ходили вдоль линии прилива, который неприметно сужал полосу пляжа и делал все звуки более отчетливыми и ночными.
Я хочу быть похороненным в дюнах, думал я, чтобы вечно слушать шорох песка и ветра, моря и ночи.
У самого подножия дюны зияла глубокая яма. По краям лежали высокие кучи вынутого детьми песка. Мы заглянули в яму. На дне валялась круглая жестяная банка. Этикетки на ней не было.
— Здесь, — сказал Рябой Кобелю, который вдруг покатился в яму, тщетно пытаясь уцепиться за сыпучие стенки, и рухнул на дно. Точно по уговору, мы начали засыпать яму. Когда из песка торчала только его голова — он плакал, лицо покраснело, рот был раскрыт, и на губах виднелся песок, — мы плотно утрамбовали ногами песок вокруг его шеи. Бушмен, Дидерик и я пошли за обломками дерева, которые заметили еще раньше. Там лежал полый внутри ствол, с виду сухой и изъеденный временем. Мы подтащили валежник к яме, а Рябой приволок из кустов жестянку с керосином, которую припрятал, когда все мы и Кобель наблюдали за соревнованием.
Рябой начал поливать керосином ствол и кучу валежника. Мне показалось, что он возится слишком долго, и я забрал у него банку. Дерево тотчас впитало вонючую жидкость. Я вылил все до капли и под конец опрокинул банку над головой Кобеля. Он беззвучно плакал, лицо его было перемазано песком и слезами.
— Я заткну тебе в глотку носовой платок, если ты не прекратишь это блеянье, — сказал Бушмен.
Настало время второго судилища. Мы уселись на корточках вокруг торчащей из песка головы, мокрой и воняющей керосином, и заговорили приглушенными голосами.
— Он заслуживает смерти, — сказал Рябой.
— Сначала он должен перекреститься, — сказал Морда.
— А если об этом узнают? — спросил Дидерик.
— Брось ты, — сказал я.
Мы откопали Кобеля до пояса. Он попытался вырваться, но Бушмен снова вдавил его в песок. Руки Кобеля, облепленные влажным песком, были теперь свободны. Только он уже превратился в песчаного монстра — безголосое, покрытое слизью песчаное животное.
— Перекрестись, — приказал Морда.
— И поживей, — добавил Рябой.
Но тот не шевельнулся, а когда он вдруг издал резкий, отрывистый, какой-то звериный вопль, Бушмен заткнул ему руками рот.
Морда кричал точно так же, когда вылезал из бочага, — с налитыми кровью глазами и отекшим лицом, как у зашедшегося в крике младенца.
Дидерик держал Кобеля за руки, но от страха это плохо ему удавалось, и я поспешил ему на помощь.
Кобель снова затих.
— Перекрестись, — сказал Морда. — Если перекрестишься, мы тебя отпустим.
Это была неправда, и Кобель должен был это понимать, зная нас. Ничего нельзя было уже изменить.
— А керосин-то улетучивается, — сказал я.
И тогда Кобель сделал быстрое движение правой рукой перед лицом и грудью. Мы этого совсем не ожидали, и всеобщее напряжение еще больше возросло, как будто он подал знак, сделавший его судьбу неотвратимой. Сам навлек на себя беду. Я не могу этого объяснить. Но если бы он не перекрестился, мы бы, скорее всего, вытащили его из ямы, поколотили, а потом насильно и допьяна напоили еневером, чтобы послушать, как он несет вздор, и полюбоваться его вихляющей походочкой, как у кур, которых Морда накормил вымоченными в еневере хлебными корками. Мы бы только посмеялись, а он, воняя сивухой, привирая и мучаясь похмельем, хвастался бы на следующий день в палатке тем, что напился допьяна.
— А теперь молись, вслух, — сказал Рябой.
Бушмен все еще держал Кобеля.
Тот забормотал быстрые и неразборчивые слова молитвы, которой мы никогда не слыхали.
— Ктебеприпадаюмарияблаженнейшаясредиженщиниблажениисусплодутвоегочрева…
— Сволочь голгофская! — завизжал Морда. Он и без того был чокнутый, а в этот момент совершенно рехнулся.
— Бутылку, — коротко сказал мне Бушмен. Я выхватил у него из-под рубашки холодную гладкую бутылку и попытался влить бесцветную жидкость в рот Кобелю.
Он замотал головой, чтобы увернуться от бутылки, а у меня перед глазами стояла картина, которую я видел днем: как он положил ей голову на колени.
Я силой впихнул горлышко бутылки в рот Кобелю, стуча ему по зубам, и наклонил бутылку. Кобель поперхнулся, еневер, как вода, потек по его налившемуся синевой лицу.
Потом мы выпили сами. Бушмен торопливо допил остатки, держа бутылку одной рукой. Потом отшвырнул ее через плечо. Из бутылки пролилась тоненькая струйка и исчезла в песке. От еневера не остается пятен, вспомнил я сказанные кем то (отцом?) слова.
Мы с Рябым крепко держали его. Бушмен задрал ему рубашку и принялся опутывать его веревкой, прямо по голому телу. Она оказалась довольно длинной и была почти новая, белая и волокнистая.
Дидерик смотрел на море, хотя там ничего не было видно.
Морда медленно жевал челюстями. До него что-нибудь дошло? А до всех нас? Это приближалось, пролетело над нами, хлопая крыльями, захватило нас на месте с внезапностью урагана, отдавшись болью в барабанных перепонках. Помимо своей воли мы действовали, повиновались и были одинаково отрешены от происходящего. Один только Дидерик был испуган. Он смотрел на серое море, которое луна подводила за собой все ближе и ближе.
Его руки были связаны за спиной. Снова раздался этот пронзительный звериный крик, которого никто не услышал, никто не понял и который, казалось, исходил не из его груди, а из самой земли. Бушмен заткнул ему рот носовым платком. Платок прикрутили веревкой, завязали, подтянули, снова завязали узлом. Внезапно перед нами появился Дидерик.
— Я больше не могу, — выдавил он заикаясь и пошел, опустошенный, прочь. Мы видели, как его фигура, черная на фоне светлого неба, словно вырастала из кустарника на склоне дюны — кобольд, маленький, бессильный.
Мы вытащили Кобеля из песка и связали ему ноги. Он отбивался, яростно и бестолково. Рябой навалился на него всем телом, а мы накручивали и накручивали на него казавшуюся бесконечной веревку, затягивали ее, вязали узлами.
Морда начал разжигать костер. Сперва ничего не получалось. Он встал на колени и подул. Желтое пламя запрыгало по веткам. Оно росло, повалил дым. Я закашлялся. Дерево затрещало, пламя становилось все выше.
Бушмен начал осторожно раскладывать в разных местах костра какие-то маленькие предметы. Я подумал о своем чемодане, оставшемся в палатке и теперь недостижимом.
Мы достали ножи и вчетвером потащили Кобеля к дуплистому стволу, который мало-помалу превращался в розовое огненное ложе. Мы подняли его и положили лицом кверху в дупло. Странный саркофаг, костер обреченного. Пламя начало лизать его одежду, ярко осветило наши лица. На мокрый, какой-то нереальный песок лег широкий круг света. Растерянные, теснясь друг к другу, мы вдруг очутились в разбойничьем логове, у которого исчезли стены. В огне что-то взорвалось, потом еще и еще. Короткие, сухие щелчки — патроны.
Дидерика не было видно на вершине дюны. Было темно, луна скрылась за длинной грядой облаков, похожих на мешки с мерцающим светом внутри. Воздух наполнился запахом лесного пожара. Огонь то замирал, то вспыхивал с новой силой, вгрызаясь в сухое дерево. Прилив приводил нас во все большее исступление. Ночь. Огонь. Серые голоса, обступившие наш тесный круг. Поросшая кустарником мертвая дюна позади.
И вдруг, словно привидение, появился руководитель группы; он разорвал наш заколдованный круг, наклонился над тающим пламенем и взял на руки негнущееся, сыплющее искрами тело. Голова откинулась назад, словно уже не принадлежала человеку. Не глядя на нас, похолодевших как смерть и чувствующих приближение тошноты, он помчался с Кобелем на руках, косо, точно доску, прижимая его к груди, к прибывающей с грохотом воде. Он окунул его в воду, перевернул несколько раз и положил на песок, который уже лизали узкие языки стеклянных волн.
Мы застыли на месте, боясь взглянуть друг на друга. Вдруг Рябой зарыдал, его плечи сотрясались от плача, и он непрерывно повторял:
— Я ни в чем не виноват! Я ни в чем не виноват!
Бушмен стоял подавленный, опустив руки, и смотрел куда-то вдаль. Морда бездумно, ничего не соображая, переводил взгляд с одного на другого. Я швырнул свой нож в огонь, который сохранился только в стволе, — тающее рыжее зарево, зубы дьявола в черном, мертвом зеве. Моему примеру последовал Рябой, потом Бушмен. Бутылку Рябой бросил в полузасыпанную яму. Мы совершали бессмысленные действия, словно что-то еще можно было исправить, словно мы были ни в чем не виноваты.
Руководитель вернулся и начал затаптывать огонь. Откуда-то появился Дидерик, мы ничего не сказали ему, он ничего не сказал нам.
Фиа, думал я задыхаясь.
Фиа. Почему он это сделал? А я ее даже не знал.
— Я ни в чем не виноват, — повторил Рябой пустым голосом. Вода подступила уже к самым ногам и погасила последние искры в черном, обуглившемся дереве.
Руководитель снова подошел к неподвижному черному телу, которое уже лизал наступающий прилив, — море пришло за своей жертвой, и не знало жалости, и было более жестоким, одиноким и неизмеримо более непостижимым в своей одинокой жестокости, чем мы.
— Помоги мне отнести его в дюны, — сказал мне руководитель.
Его голос не выражал ничего. Никакого чувства: ни отчаяния, ни гнева. Он был даже беспомощнее нас, уже познавших уничтожение.
— Сейчас все еще воскресенье, — проговорил он.
Все молчали.
Рябой снова начал твердить, что он ни в чем…
Я проглотил имя, готовое сорваться с языка, и загнал его глубоко вниз, в желудок, куда, казалось, ушло и мое сердце, которое колотилось так, будто хотело выпрыгнуть из тела.
— Это моя вина, — сказал я.
— Да, — сказал руководитель, —
теперь помоги мне.
Мы отнесли холодное, мокрое тело в дюны и осторожно опустили его на песок, который был здесь рыхлым и сухим, и пах, словно свежие простыни, и был почти таким же белым.
— Это еще не все, — сказал я.
— Да, — сказал руководитель.
— Я хотел, потому что Фиа…
Он даже не спросил, кто она, словно давным-давно все знал, или, может быть, потому, что никакого объяснения сейчас не было достаточно. Или потому, что я уже перешел грань, за которой все слова теряют смысл и становятся пустыми, как соломинки.
— Да, — сказал руководитель, сидя на корточках, он продолжал смотреть на мальчика, который слабо застонал и повернул голову на неровном возвышении из песка. Он подложил ему под голову носовой платок. Из открытого рта сочилась жидкость. Волосы с одного боку были опалены, а лицо было красно и шершаво, как плодовая кожура.
Все сгрудились около ямы и затоптанного костра.
Я стоял на коленях около руководителя, у меня больше не было сил смотреть на окружающее, и я закрыл глаза.
Он на мгновение положил мне на плечо руку.
— Я знаю, — сказал он, —
нас влечет к этому. Мы не можем иначе. Нам придется многое сделать, чтобы ты и другие, но прежде всего ты, могли заслужить прощение.
Мальчик на песке застонал. Руководитель нагнулся над ним. Прилив достиг своей высшей точки.
СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ И СНА, И СЛЕЗ
Вторник. Прошел дождь, дорога была влажной, и, когда неожиданно налетал ветер, с деревьев сыпались капли. Себастьян не испытывал в этот миг ни радости, ни печали, одно только неясное беспокойство тяжело ворочалось в его голове. Он должен был подумать. Его худое и остренькое, как у мыши, личико собралось в морщинки. («О чем ты думаешь? — спрашивала его приемная мать. — Что случилось?» Но с ним никогда ничего не случалось — по крайней мере ничего особенного. Просто он думал о всякой всячине: о новом перочинном ножичке, который показал ему утром мальчик, сидящий рядом с ним в классе, о соседе, у которого на лице была большая бородавка, поросшая жесткой щетиной, о птицах, которых кормил крошками на улице перед домом, о том, как пахнет серебряная бумажка в коробке от сигарет, которую он нашел недалеко от школы, и о многих других вещах.)
В кармане его брюк лежал сложенный листок белой бумаги. На листке были записаны задачки, которые он решал в школе. Красный карандаш учителя испещрил их неразборчивыми каракулями. Мальчик достал листок и развернул. Листок затрепетал на ветру. Маленькие детские руки разорвали его на тысячу клочков, и они разлетелись по кустам в парке. Несколько обрывков упали на дорожку. Ветер попытался поднять их с земли, но не сумел: влажная земля крепко держала своих пленников. Они трепетали — маленькие белые птицы с перебитыми крыльями.
Дорожку устилали красно-бурые листья, которые осень сорвала с деревьев. Мальчик нагнулся, взял светло-желтый лист с темными прожилками и узорчатыми краями и растер его между пальцами. Табак. Он понюхал мелкую крошку: пахнет горечью — и сдул остатки листа с ладони.
Мимо проехал человек на велосипеде с никелированными ободьями.
Здесь нельзя ездить на велосипеде, подумал Себастьян. Почему же он тогда ездит?
Других посетителей в парке не было. Мальчик свернул на боковую дорожку. По обеим ее сторонам стеной стояли высокие буки, их влажную гладкую кору сплошь покрывали узловатые наросты. Черные ветви переплетались в неровную решетку, сквозь которую просвечивало молочно-серое небо. Мальчик так долго смотрел вверх, что даже голова закружилась. Птиц в парке не было. Должно быть, они давным-давно улетели на юг, в теплые страны. Он почувствовал голод, подумал о белых клочках бумаги, которые теперь никому не прочесть (чтобы прочитать написанное, нужно собрать их все до единого, потом один за другим, как в головоломке, наклеить на картон, а этого ни один человек на свете делать не станет), и пошел по направлению к дому.
На скамье возле дорожки он увидел молодую женщину в отливающей черным блеском меховой шубке; ее волосы были уложены в высокую прическу и скреплены гребнями; она сидела, выпрямившись и сложив на коленях затянутые в перчатки руки. На мгновение мальчик задумался о том, что она здесь делает. Наверное, потому, что он еще никогда не видел человека, так одиноко сидящего в парке на зеленой деревянной скамейке с вырезанными на ней сердцами, стрелами, таинственными инициалами и крестиками.
Он подумал о Дорине Лиун из их класса. Она была немного помоложе его. Мальчишки все стены на школьном дворе исписали инициалами «С. Н. + Д. Л.». «С. Н.» — это был он. Тогда он только презрительно пожал плечами, но в глубине души ему было приятно, что их имена стоят рядом. Иногда он вместе с Дориной ходил в школу и несколько раз, когда Дорина не возражала, нес ее портфель. Другие ребята, конечно, заметили это. На стенах сразу появились соответствующие надписи, и Себастьян больше не носил ее портфель. Теперь они шли вместе только до перекрестка перед школой, а потом поодиночке входили в школьный двор. Ни один из них словом не обмолвился о происшедшем. Таков был их молчаливый уговор.
Снова взглянув на женщину, мальчик заметил, что она уже некоторое время наблюдает за ним. Ее лицо как бы говорило: да, я тебя уже видела, и тебе не удастся незаметно ускользнуть. Я знаю, что ты здесь делал.
Мальчик, смущенный и сбитый с толку, приоткрыв губы в слабой улыбке, опустил глаза — опустил глаза не только оттого, что она, казалось, все знала, но и оттого, что она была очень красива. Бледное лицо, небольшой яркий рот и меховая шубка, сверкающая, словно обсыпанная блестящими снежинками, делали ее похожей на королеву.
— Здравствуйте, — запинаясь, сказал он. (Надо было бы сказать «здравствуйте, мефрау», — приемная мать не раз внушала ему, что к взрослым нужно обращаться вежливо. Но можно ли ее назвать «мефрау»? Мальчик подумал и решил, что она все-таки скорее замужем и у нее, должно быть, двое детей, мальчик и девочка, его возраста. Если бы она взяла его к себе домой, он смог бы с ними поиграть. Ему показалась очень заманчивой мысль поиграть с двумя новыми товарищами, у которых и игрушки, наверное, совсем другие — не то что у него. У них большой сад за домом, нет, перед домом, обнесенный старой каменной стеной с осколками стекла наверху, и собака, которая будет все время играть вместе с ними, — большой и добрый желтый лев.)
Она улыбнулась ему ободряюще и сказала:
— Ты не посидишь немножко со мной? Здесь так тихо, правда?
Было и правда тихо. Только ветер шевелил пожухлые листья на земле и почти столь же иссохшие листья на деревьях и кустах.
Он кивнул и посмотрел на ее затянутые в черную кожу перчаток руки, которые она опустила на колени, словно хотела уступить ему место рядом. Но она сидела посередине скамейки, и с обеих сторон, даже с той, где лежала ее маленькая сумочка, было достаточно места для двоих. К горлу мальчика подступил комок, и он поспешно сглотнул, прежде чем сесть на скамейку. Его ноги чуть-чуть не доставали до земли; он легонько качнул ими и задумался.
Она повернула к нему лицо и улыбнулась, словно была с ним давно знакома и знала все его тайны: и тайну о Дорине и ее портфеле, и о сегодняшнем дне тоже — о том, как он разорвал листок с неправильно решенными задачками, испещренный красными линиями и кружками.
От ее лица исходил запах, напомнивший ему вкус меда, сладкий и обволакивающий. Он ощутил легкое головокружение.
Ему захотелось прижаться к пушистому меху ее шубки. Чтобы лучше почувствовать этот запах — запах больших желтых и лиловых цветов. Их чашечки всегда полны нежной пыльцы, а если притронуться к внутренней стороне лепестков, пальцы окрашиваются в желтый цвет.
— Как тебя зовут? — спросила она и посмотрела на него большими теплыми глазами.
Мальчик был более или менее уверен, что она знает его имя, и не ожидал такого вопроса, но потом подумал: конечно, откуда ей, молодой незнакомой женщине, сидящей в полном одиночестве на парковой скамейке, знать его имя. Хотя все остальное было ей известно: например, как на прошлой неделе он прогулял последние уроки и отправился на загородный пляж, где собирал причудливо изогнутые ракушки и птичьи скелеты, которые хранил в большом шкафу у себя в комнате, среди деталей конструктора и фотографий кинозвезд.
— Себастьян, — ответил он робко.
— Себастьян, — повторила она, словно пробуя на вкус его имя своими красивыми яркими губами, которые, как две половинки тропической раковины, точно подходили друг к другу. — Ну что, Себастьян, будем друзьями?
Он кивнул и заболтал ногами.
Она посмотрела на них.
— Сколько тебе лет? — спросила она снова.
— Отгадайте, — сказал он, усмехнувшись. Он почувствовал, что сказал это ни к селу ни к городу, но она на это не рассердится. Ее взгляд скользнул по его маленькому детскому телу, синему свитеру и брючкам цвета хаки. Он перестал болтать ногами.
— Шесть, — сказала она.
— Нет, — ответил он, — семь. — В его голосе не прозвучало торжества, которое он испытал бы, если бы кто-нибудь другой неправильно угадал его возраст.
— Тебе не показалось странным, что я вот так совсем одна сижу здесь на скамейке?
— Нет, — сказал он и снова задумался. На переносице появилась маленькая морщинка. Она всегда появлялась, когда он чего-то не понимал или глубоко задумывался. «Наш профессор опять задумался», — заметил однажды учитель, когда Себастьян после долгих раздумий так и не смог решить пример, записанный на доске. Класс засмеялся, а учитель, свирепо кроша мелом, написал на черной школьной доске ответ — большой ноль — и тотчас двумя штрихами — вертикальным там, где должен быть нос, и горизонтальным на месте рта — преобразил его в человеческое лицо, которое глупо уставилось на Себастьяна.
Сразу после этого прозвенел звонок.
— Ты часто бываешь в парке?
— Иногда, — ответил он.
Она коснулась его маленькой не очень-то чистой руки затянутыми в перчатку пальцами, которые показались ему теплыми и гладкими. Он снова подумал о том, каким теплом и ароматом охватило бы его, если бы он смог прижаться головой к ее шубке.
Она провела указательным пальцем по тыльной стороне его руки. Руки у него были грязные, как всегда после школы. Где только он успевал их вымазать? «Вымой сначала руки», — говорила ему приемная мать, когда он, придя домой, просил у нее бутерброд.
Он опять посмотрел на ее улыбающиеся глаза и рот.
Она ничего не сказала о его грязных руках. Только сжала его пальцы и сразу же их отпустила, он даже не успел вскрикнуть от боли.
— Ты испугался? — спросила она. — Тебя легко испугать?
Он хотел было сказать «мне больно», но промолчал и вместо этого сказал:
— Я хочу есть.
Дама сняла перчатки. На длинных белых пальцах, которые открыли сумочку, не было ни одного кольца. От сумочки и рук исходил тот же самый запах, что и от лица и волос, только был он на этот раз более дурманящим и крепким. В сумочке лежали какие-то блестящие предметы, пудреница, связка ключей, среди которых виднелись совсем маленькие. И плитка шоколада. Она сорвала с нее обертку, развернула серебряную бумагу и подала ему всю плитку.
— Спасибо, — пробормотал он смущенно. О том, что хочет есть, он сказал не потому, что был действительно голоден. Должно быть, это вырвалось у него от внезапного чувства страха, потому что он вспомнил о доме, где его уже несколько часов ждали приемные родители, не знавшие, куда он запропастился.
Она разгладила серебряную бумагу и щелкнула по ней пальцем. Бумага тихо зазвенела. Мальчик спросил, можно ли ему взять бумагу.
— А что ты будешь с ней делать? — полюбопытствовала она. — Мне бы хотелось больше знать о тебе. Ты собираешь серебряную бумагу?
Он рассказал, что хранит серебряную бумагу между страницами книг и, когда она становится совсем гладкой, смотрит на нее, а иногда подносит к уху и слушает, как она звенит. Ему нравится этот звон.
— Да, — сказала она, — мне тоже нравится этот звук. Я тоже иногда его слушаю.
Они шли по освещенной центральной улице. Влажно блестел асфальт. Время от времени, когда тротуар становился слишком узким для них двоих, мальчик сходил на мостовую. Но и тогда она не отпускала его руки.
Иногда она рассматривала себя в неосвещенных витринах. А один раз остановилась поправить волосы. Мальчик ждал. Она подняла воротник шубки, которая в электрическом свете блестела, как вода. Воротник был высокий и наполовину скрывал ее лицо.
Себастьян начал зябнуть.
Наступил вечер, и на улице было мало народу — несколько человек перед витринами магазинов и мальчишки, бешено гоняющие на велосипедах и что-то кричащие друг другу.
Теперь мы должны свернуть на эту улицу, с уверенностью подумал Себастьян.
Они были совсем недалеко от школы.
Но дама не повернула, и они продолжали идти по освещенному желтыми и красными огнями туннелю центральной улицы.
— Мне нужно на эту улицу, — показал мальчик. — Так мы идем неправильно.
— Посмотри-ка на себя, — сказала она и повернула его лицом к большому темному стеклу витрины.
Рядом с ее высокой фигурой мальчик казался особенно маленьким и щуплым. Слегка втянув голову в плечи, он рассматривал себя и ее. Она повела его дальше и заговорила снова.
— Ты же хотел сначала побывать у меня, хотя дома у меня нет ни мальчика, ни девочки. (Он рассказал ей о своей фантазии, что очень ее развеселило. Она жила одна.) Твои приемные родители не рассердятся, я им позвоню, как только мы придем домой.
В ее голосе появилась теперь новая нотка — легкий оттенок строгости. Но мальчик не делал попыток убежать, ему вдруг расхотелось возвращаться домой, на новую голую улицу, где стояли одинаковые дома с одинаковыми дверями, окнами, тротуарами и садиками. Его только несколько беспокоило, что она продолжала крепко держать его за руку.
Сверху вниз на него смотрело загадочное бледное лицо.
Она отпустила его руку. Неужели догадалась?..
За углом виднелась школа, темное здание с мертвыми черными глазницами окон и пустынным двором. Он мельком подумал о стене, на которой до сих пор красовались его инициалы. Все это как бы отодвинулось далеко назад и не имело к нему больше никакого отношения. Дама свернула налево, на улицу, где не было магазинов и одни только зажженные фонари разгоняли густеющие сумерки. Людей здесь было еще меньше, чем на центральной улице. Пожилой господин, видимо знакомый с дамой, приветственно приподнял шляпу и улыбнулся Себастьяну. Дама ответила легким кивком. Мальчик, которому теперь уже не хотелось есть (когда долго хочется есть, подумал он, голод проходит), стал обращать внимание на прохожих. Вот через улицу перешел и помахал им рукой мужчина в бесформенном сером пальто, с сигаретой во рту и портфелем в другой руке. Он подмигнул Себастьяну, который изобразил на своем лице слабую улыбку. Дама снова кивнула, дружелюбно, как кивают старым знакомым. Выходит, и этого мужчину она знает. Себастьян, продолжая шагать вперед и стараясь ставить свои ноги рядом с остроносыми туфельками своей спутницы, обернулся. Мужчина в сером пальто остановился, глядя им вслед, и поднял портфель в знак приветствия.
Себастьян начал гадать, как зовут даму, в каком доме она живет и что она ему подарит. Может, у нее есть какая-нибудь необыкновенная раковина или чучело птицы, кто знает. Должно быть, она богатая.
Когда он ходил с приемной матерью в магазин купить что-нибудь из одежды, они иногда останавливались у витрин с меховыми шубами. Но только смотрели и ни разу не зашли примерить такую шубку.
— Ты не устал? — спросила она.
Он не устал, только голова немного болела, что, впрочем, часто бывало с ним по вечерам.
— Мы скоро придем, — сказала она.
На одной стороне улицы, где они теперь очутились и где он никогда не бывал, ряд домов вдруг прервался. Они подошли к низкой стене из дикого камня, в ней была калитка из прутьев, похожих на железные копья. Дама открыла калитку, и он зашагал следом за ней по садовой дорожке к белому фасаду с большой дверью из темного
дерева, которую она открыла ключом из сумочки.
Он вошел в дом. Дама захлопнула за ним дверь.
Горела лампа, разливая вокруг мягкий свет.
Она сидела за столом с сигаретой во рту, сощурив от дыма один глаз и слегка склонив голову набок, и внимательно смотрела на мальчика, который жевал приготовленные ею бутерброды. Он не был голоден, но все-таки съел два бутерброда и выпил стакан молока, который она поставила перед ним.
Шубку она сняла. Теперь на ней было черное платье с золотистой отделкой вокруг шеи и по рукавам. В нем она казалась еще красивее, чем в парке, — стройнее и моложе, почти девочка.
Он отложил в сторону нож и вилку и начал пальцем выводить фигуры на салфетке, которую она подложила ему под тарелку поверх желто-черной скатерти.
— Вкусно? — спросила она.
— Да, — сказал он и тут же понял, что опять допустил бестактность. Но как ее все-таки называть? Она сказала, что живет одна. Разве она не замужем, как его приемная мать и мать Дорины или другие взрослые женщины с их улицы? Или ее мужа просто нет дома, уехал куда-нибудь?
— А теперь в ванную, — сказала она и встала.
Он посмотрел на нее испуганными глазами. Разве сегодня суббота? И потом, только приемная мать имела право видеть его голым во время купания. Неужели она сама его разденет?
Он покраснел.
Она заметила его смущение.
— Если хочешь, можешь все сделать сам. Пойдем, я покажу тебе ванную. А пока ты будешь мыться, я позвоню твоим приемным родителям и скажу, что ты у меня. Нельзя же ложиться спать таким грязным!
Он пошел за ней по коридору, отметив про себя, что она двигалась так, словно в ней сидела пружинка. Она открыла белую дверь и повернула выключатель. В ванной комнате, которую освещала круглая плоская лампа на потолке, стоял сладкий аромат, напоминавший запах женщины, но здесь он был перемешан с другими запахами — мыла и одеколона. Он подождал, пока она выйдет из ванной, и открыл один из кранов. Послышалось бульканье, и в белую ванну ударила тугая струя воды. Он закрыл кран и повернулся, чтобы запереть дверь. На ней не было задвижки, как у них дома. Мальчик помедлил. На линолеуме рядом с ребристым резиновым ковриком лежало белье, приготовленное для стирки. Он поднял белый скомканный носовой платок и понюхал его.
В углу платочка были вышиты маленькие круглые буквы: А.Е.Е.П.А. А.Е.Е.П.А.? Как же ее зовут? Ангела, Аманда? Больше он не мог припомнить подходящего женского имени, которое бы начиналось на А.
Он положил носовой платок обратно и посмотрел в зеркало над раковиной. Под ним на широкой мраморной доске стояли разноцветные флаконы и баночки. На этикетках было что-то написано маленькими золотыми буквами. Он ни к чему не притронулся.
Вдруг дверь ванной отворилась. Перед ним стояла она, в белом кимоно, расшитом красными бабочками и цветами.
— Я уже позвонила, — сказала она. — Что же ты, Себастьян? Боишься? Это так приятно.
Она открыла кран и повернулась к нему:
— Раздевайся.
Он принялся медленно развязывать шнурки ботинок. Это заняло много времени, потому что один шнурок затянулся узлом.
— Подожди, я тебе помогу, — сказала она. Быстро справившись со шнурком, она начала его раздевать. Когда он стоял перед ней в одних трусиках, ему не удалось удержаться от невольного жеста, что вызвало у нее веселый смех.
Трусики тоже оказались на полу.
Ванна была уже наполовину полна. Вода дымилась. Она добавила холодной воды из-под крана.
— Полезай, — сказала она, и он послушно скользнул в теплую благодать.
Она взяла розовый кусок мыла с мраморной доски, где стояли флаконы и баночки, и начала его намыливать. Пена хлопьями окружила его рот. Себастьян стер пену рукой.
— Ну как? Хорошо? — спросила она.
— Нет, — сказал он, и она, посмотрев на него, снова принялась хохотать.
— Ты меня не понимаешь, — сказала она весело. — Я имею в виду не мыло, а купание, тепло.
Она походила теперь на медицинскую сестру, с той только разницей, что на халате у сестер нет красных бабочек и цветов.
— Ты мой маленький больной, — сказала она. — Я буду за тобой ухаживать, а ты будешь часто приходить ко мне. Правда, Себастьян?
И она провела мыльной рукой по его мокрым всклокоченным волосам.
Потом он вымылся и вышел из ванны. Она начала вытирать его шершавым, без запаха полотенцем, поглядывая на него, и он не знал, куда деваться от смущения. Отвернувшись в сторону, он хотел было сразу одеться.
— Нет, подожди, — сказала она, и в ее голосе снова прозвучала та строгость, которая появилась у нее, когда они шли по городу.
Она повела его в комнату, уложила на софу и принялась растирать и мять пальцами его кожу. Это было совсем не больно, и ему было приятно ощущать, как ее сильные, теплые руки скользят по телу. Он лежал с закрытыми глазами. Вскоре его начал одолевать сон.
Она разминала мускулы его ног, живота, рук. Все выше и выше поднимались ее пальцы.
Она может меня так задушить, подумал он в полудреме, чувствуя тихое и вкрадчивое приближение ее пальцев.
Вот они опустились ему на шею. Он все еще лежал с закрытыми глазами. Ее руки — большой палец на горле мальчика, остальные расставлены в стороны — охватили его затылок. К голове прилила горячая волна. Он открыл глаза. Она стояла, наклонившись над ним. Ее глаза казались особенно большими и темными на бледном лице, подчеркнутом снизу воротником широкого кимоно. Ее рот не улыбался, хотя губы были слегка приоткрыты. Она отпустила его. Мальчик сделал глотательное движение, потом еще и еще раз.
Она сразу же отправила его одеваться, словно не решаясь больше смотреть на его наготу.
Среда. Себастьян сидел на низком стуле у окна. Он раздвинул цветочные горшки и положил локти на подоконник. Его напряженный взгляд скользил по домам на противоположной стороне улицы, где почти на каждой крыше виднелась телевизионная антенна. У них телевизора не было. Жаль, конечно, но ему разрешали смотреть телевизор у лысого соседа с бородавкой, когда начиналась передача о Бонанзе
[32] и всадники в широкополых шляпах, стреляя и хохоча во все горло, вскачь устремлялись к нему с экрана через волнующееся разнотравье прерии и крутобокие холмы.
Был полдень, среда, и ему не нужно было идти в школу. Приемная мать сидела за столом и шила. Себастьяна наказали и запретили выходить на улицу, потому что вчера вечером он вернулся, когда уже совсем стемнело. Женщина из парка проводила его вчера до угла, где обычно перед школой его поджидала Дорина или он ее. Он рассказал женщине обо всем, хотя чувствовал, что рассказ его звучит ребячливо, но ему хотелось доверить ей что-нибудь такое, о чем бы он никогда никому не рассказал, и она не смеялась. Только спросила, как выглядит Дорина и хорошая ли она девочка.
Он засмущался, а она сказала, чтобы он пришел к ней в четверг после школы. Хочется ли ему прийти? Да, если разрешат, но он еще не знает, и тогда она положила руку, затянутую в черную перчатку, на его аккуратно причесанные волосы и сказала, что он все-таки должен прийти к ней и, конечно же, придет, не правда ли?
Она говорила, заговорщически понизив голос, с доверительностью, исключавшей всех остальных — приемных родителей и даже Дорину — из их тайны, о которой никто не должен знать. Он немножко гордился тем, что она, такая красивая, с губами, каких ему никогда не доводилось видеть, вдруг просто так пригласила его посидеть вместе с ней на скамейке в парке и, стала его другом. В кармане брюк у него лежала разноцветная перламутровая раковина для коллекции, о которой он рассказал женщине. Раковина стояла на стеклянном столике среди белых и зеленых камней с прожилками и остатками бурого сухого мха в углублениях.
Она спросила, что он хотел бы иметь, и, когда он с безмолвным вожделением посмотрел на большую раковину, похожую на окаменевший, до блеска начищенный древесный лист, переливающийся зелеными, лиловыми и молочно-белыми искорками, словно длинные лакированные ногти женщины, она взяла ее со стола и сказала:
— Это будет всегда напоминать тебе обо мне, ты должен найти ей достойное место дома, среди других раковин.
Мальчик начал было благодарить, но она прервала его, улыбнувшись радости и удивлению, с какими он принял это сокровище, и спросила:
— Так ты придешь послезавтра?
— Да, — сказал он.
— Где ты был? — грозно спросил приемный отец, впустив его в дверь.
Отчужденно озираясь, мальчик стоял в комнате, которую так хорошо знал и которая всегда пахла иначе, чем другие комнаты.
Он молчал.
— Ну, — допытывался приемный отец, — ты что, разучился говорить? Почему ты заставляешь нас беспокоиться? Мы ведь отвечаем за тебя.
Со мной много чего произошло, думал Себастьян, но как все это объяснить? Они просто не поверят, скажут, что он лгун. И действительно, какая женщина будет в такую погоду, как сегодня, сидеть в парке, а потом возьмет тебя с собой? И то, что случилось потом, — об этом он уж вовсе не посмеет рассказать. Ему вдруг многое стало непонятно, и у него возникло неясное чувство, что своим рассказом он или очень огорчит, или очень рассердит своих приемных родителей.
Почти равнодушно он рассказал им о том, о чем никогда не осмелился бы сказать — даже если бы, вынашивая эту решимость, он после уроков часами бродил по улицам, — не возникни новое обстоятельство, которое сделало все предыдущее мелким и незначительным.
— Я получил неудовлетворительно по арифметике и думал…
И неожиданно он рассказал о том, как рассердился на него учитель, возвращая листок с задачками, исчерканными красным и синим карандашами.
— Но где же ты был все это время? — спросила приемная мать. В голосе ее не слышалось гнева, одна только горечь.
— Везде, — сказал он. — Я ходил везде.
— Сегодня вечером шел дождь, а ты совсем сухой, — недоуменно сказала она.
Мальчик молчал.
— Отвечай же. Где ты был? — сказал приемный отец с угрозой, которая требовала немедленного ответа.
Себастьян не на шутку испугался.
— Я… я… прятался в подъездах, в городе, — сказал он запинаясь.
Приемный отец недоверчиво посмотрел на него, но ничего больше не сказал. Приемная мать вышла на кухню и вернулась с тарелкой бутербродов.
— Я не хочу есть, — сказал мальчик.
— Ты где-нибудь поел? — спросила она.
Мальчик отрицательно покачал головой.
— Я просто не хочу есть и ничего не могу с этим поделать.
Он все-таки выпил чашку чаю, а потом приемный отец отправил его спать, чему он был очень рад.
— Завтра после обеда ты не пойдешь гулять, — успел услышать он за спиной. Но даже не обернулся, поднимаясь по лестнице.
На ночной столик рядом с кроватью он поставил сверкающую раковину, и она сразу же затмила и сделала ненужными все сокровища, лежащие в шкафу. Серебряную бумагу он свернул и положил под раковину.
Доказательства, подумал он, забираясь под одеяло, доказательства.
По тротуару на противоположной стороне улицы шла светловолосая девочка, одетая в клетчатый зелено-черный свитер. Она помахала ему рукой. Это была Дорина. Себастьян с такой сосредоточенностью смотрел на картины, которые всплывали перед ним как на экране телевизора, кружились, исчезали, уступая место другим, что не сразу увидел и услышал Дорину.
— Себастьян! — кричала она тоненьким голоском. — Себастьян! Ты что, не слышишь? Себастьян!
Он очнулся от своих грез наяву. Казалось, его глаза и уши вдруг автоматически настроились на разные волны — на короткие и длинные одновременно, — и он на время отключился от окружающего.
Дорина перешла улицу и остановилась в голом садике перед домом.
— Я иду в магазин! — крикнула она. — Пойдешь со мной?
Он отрицательно покачал головой и оглянулся на приемную мать, которая едва заметно кивнула ему. Когда приемного отца не было дома, ему всегда позволялось больше. Но он сделал вид, что не заметил кивка, и крикнул девочке, стоящей по ту сторону стекла, сразу же запотевшего от его дыхания:
— До завтра!
Он не жалел о своем отказе, сам не зная почему.
Девочка постояла еще немного, и он попытался улыбнуться. Но и это далось ему с трудом.
— Тогда до свидания! — крикнула она.
— Почему ты не пошел? — спросила приемная мать.
Он, не отвечая, направился в свою комнатку, где в недвижном свете дня и раковина, и серебряная бумага продолжали хранить свой непостижимый, таинственный блеск. Он был почти рад, что приемный отец запретил ему выходить на улицу. Он бы все равно остался дома, но запрет придавал мыслям спокойную уверенность и удовлетворение.
Четверг. В длинном коридоре с выкрашенными в голубой цвет стенами, заполненном оглушительно галдящими детьми, Себастьян надел пальто. Утром приемная мать сказала, что на улице сейчас холодно и что он заболеет, подхватит воспаление легких, если пойдет в школу в одной рубашке и тонком свитере. Он всячески сопротивлялся, но без толку.
Пальто кололось и хранило запах шкафа, где провисело все лето, — запах нафталина и лежалой одежды. Из него улетучился собственный запах мальчика. Это было уже не его пальто, оно станет им только через некоторое время.
Он медленно протолкнул пуговицы в петли, которые как будто бы стали меньше размером. Застегивание пальто далось с трудом. Натянув на голову капюшон, он сунул руки в карманы и нащупал бахрому ниток и липкие пятна от конфет.
Он думал о женщине, которая ждала его, о доме с садом и о заостренных копьях калитки.
Ночью он видел ее во сне и начал припоминать свой сон. Он сидел в классе рядом с мальчиком, у которого был новый перочинный ножичек, и они по очереди втихомолку испробовали его на своей парте. Круглая голова очкарика учителя качалась вверх-вниз у доски. Он рассказывал.
«Кто это?» — раздался вдруг звонкий девчоночий голос. Он был похож на голос Дорины.
«Принцесса», — ответил учитель и откинулся назад, коснувшись головой доски, на которой были записаны фразы с многочисленными исправлениями зеленым мелом. Себастьян посмотрел и вдруг тоже увидел ее. Она была в черной шубке, словно составленной из блестящих перламутровых чешуек, нет, это серебристые волны медленно поглощали класс, ребят, и учителя, смотревшего на него, и географические карты, и картины на стенах, и исписанную классную доску.
Его рука обхватила раковину, которую она ему подарила и которую он снова положил в карман.
«Я не смогу больше прийти, — хотел он сказать. — Вы не позвонили. Они ничего не знают. Я соврал, что ходил по городу из боязни вернуться домой».
Он только беззвучно шевелил губами, надеясь, что она и так его поймет. Издалека — изображение в изображении, словно в кино, — он видел пристально глядящие на него глаза учителя, поднимающиеся вверх руки одноклассников.
«Из-за ошибок в задачках, — сказала она задумчиво. Ее иссиня-черные волосы были уложены пышными волнами в высокую прическу. — Но ты обещал прийти ко мне, тебе будет хорошо. Я купила пирожные и кока-колу. Завтра вечером мы с тобой устроим праздник».
«Приемный отец наказал меня, — прошептал он. — Мне нельзя было выходить на улицу. Я думал о вас. Я правда не смогу прийти. Они думают, что я боялся вернуться домой, я им ничего не сказал, скажите им, как было на самом деле, что я был у вас. Мне они не поверят».
«Зачем, Себастьян?» — сказала она и подошла к нему ближе.
Ему всегда хотелось посмотреть ей в глаза, которые походили на глаза Дорины, но были больше и ярче и улыбались ему.
«Зачем? — повторила она. — Это ведь только твоя и моя тайна, до которой нет дела никому. Твои приемные родители, наверное, точно так же не поверят и мне».
Себастьян подумал о начальных буквах ее имени, которые тоже были тайной.
«Мне нет до них никакого дела, Себастьян, мне нужен только ты. Ты мой друг, и ты должен прийти ко мне завтра, ты обещал, а обещания нужно выполнять», — сказала она дружелюбно, но в ее голосе снова прозвучала строгость, как в тот раз, когда она после купания, видя, что он хочет одеться, сказала «нет, подожди».
Неожиданно Себастьян перестал ее отчетливо видеть. Мальчик с перочинным ножичком больно толкнул его в бок.
«Ай», — вырвалось у него, и весь класс повернулся к нему.
Учитель снял отсвечивающие очки, грозно посмотрел на него и сказал:
«Что… (В этот момент волна снова принесла ее, и он утонул в ней с открытым ртом. Вода оказалась пушистой массой блестящего черного меха, это была ее шубка, осыпанная твердыми хрустальными блестками. „Говори, они нас все равно не слышат, — произнесла черная вода тоном, внушающим спокойствие. Она была где-то здесь, но он никак не мог ее разглядеть. Вода, голос в пустом доме, продолжала: — Они никогда больше не услышат тебя, если ты только придешь завтра вечером, если ты придешь, если ты придешь, если ты…“)…с тобой?»
Себастьян проглотил слова, застрявшие глубоко в горле, и беспомощно посмотрел на него. И в этот момент класс начал опрокидываться набок, как корабль, — парты с детьми, неподвижно глядящими на него, взмыли по диагонали вверх, учитель закачался из стороны в сторону, все продолжая говорить, говорить. Себастьян не понял ни слова.
Ему совсем не хотелось идти в ее большой дом, спрятавшийся за решеткой, каменной стеной и садом, на улице, которую он не знал, но без труда мог найти. В нем боролись противоречивые чувства.
Не прийти было бы предательством — он обещал прийти, сразу же после школы. Но что делать, если он не может? Что скажут его приемные родители, если он снова поздно вернется домой? Если снова откажется есть и снова не сумеет объяснить, где находился все это время? Снова придется врать, но приемные родители ему не поверят. Они всегда замечали, когда он говорил неправду. В таких случаях он краснел, начинал заикаться, и тогда приемный отец медленно говорил: «Подумай хорошенько, Себастьян, о чем ты говоришь: ты лжешь».
У школьной двери он замедлил шаги, пересек двор, по которому несколько ребят с криками гонялись друг за другом. Большинство учеников уже разошлись по домам. Дорины тоже не было видно — может быть, она ждала его за углом, около магазина. Он побежал. Прямо перед ним затормозил грузовик. Мальчик стоял посреди улицы. Человек за рулем сердито посмотрел на него.
У входа в магазин была глубокая ниша с широкими колоннами, за которыми находилась стеклянная дверь с бегущими по диагонали красными и белыми буквами. Его лицо уткнулось во что-то живое, мягкое и темное. Он испуганно отступил на шаг.
— Здравствуйте. — Пристыженный своей попыткой к бегству, он смотрел на ее лицо, волосы, плечи. На ее губах играла гордая улыбка, улыбка матери, которая встречает сына, возвращающегося из школы, и считает его красивее, выше и сильнее всех остальных детей, потому что это ее ребенок.
— Здравствуй, Себастьян, — сказала она, — ты не забыл обо мне?
Смущенный, он пошел рядом с ней.
Он снова сидел в ее комнате. На этот раз они шли другой дорогой к дому с садом и решеткой, прутья которой походили на заостренные копья. Дом казался другим, чем несколько дней тому назад, — гораздо длиннее. Фасад был выше, а сад превратился в маленький парк с клумбами еще цветущих осенних астр.
Калитка заскрипела, когда она ее отворила.
Может быть, это и в самом деле другой дом, не тот, что в первый раз, подумал он.
Он съел пирожное и выпил кока-колу, и теперь они сидели на толстом лиловом ковре и слушали пластинку, которая медленно кружилась на маленьком белом проигрывателе, стоящем между ними. Он смотрел на блестящий диск с мелкими, едва видимыми бороздками. Пел женский голос, усталый, немного хрипловатый, пел совсем близко; он не понимал языка, на котором пела женщина, но ему казалось, что она чем-то очень опечалена. Иногда он испытывал такое чувство по вечерам, глядя из окна своей комнатки, выходящей на задний двор, на закатное солнце — кроваво-красный шар, опускающийся в море. Бесконечное скольжение в холодную серую воду.
— О чем ты думаешь? — спросила она.
— О солнце, — сказал он.
— А еще о чем?
Она положила ладонь на его голую смуглую ногу. Она хорошая, он любил ее, хотя в первый раз она его немного испугала. Видимо, просто хотела его проверить.
— Только о солнце, — сказал он, — когда оно вечером становится красным как кровь и опускается за домами мимо нашего сада.
— Это хорошо, — сказала она, — ты понимаешь музыку лучше, чем другие. Не хочешь остаться у меня навсегда?
Он даже не испугался. Может быть, потом, подумал он про себя.
— Сейчас не хочешь? — спросила она. Сняла пластинку, нашла другую, в пестром конверте, на котором была изображена голубая труба за частоколом тонких черных полос.
Они снова стали слушать музыку, но теперь он думал о глубоком зеленом море. Солнце превратилось в белую спящую луну. Печаль прошла. Его объяли медленные ритмы — то прохладные и шаловливые, то вдруг замирающие в испуге и разбегающиеся в стороны, как ящерицы в томлении незримо подкрадывающейся смертельной опасности. Ему захотелось спать, но она выключила проигрыватель и сказала, что пора купаться.
В ванной он безропотно разделся.
Она снова была в кимоно с бабочками и цветами; узкие нежные ладони взбивали розовую пену на его теле, расслабившемся под ее прикосновениями.
— Почему ты не хотел пойти ко мне после школы? — спросила она, когда оба снова вернулись в комнату. Она сидела перед зеркалом и вынимала круглые гребни из волос, которые упали длинной, до пояса волной.
Он расположился на полу, рассматривая футляры от пластинок; у них был новый запах, они пахли магазином и типографской краской.
— Я хотел пойти.
— И почему же не пошел? — спросила она.
Он сказал, что в среду из-за позднего возвращения ему запретили выходить из дому и что сразу же после школы приходится идти домой. Он умолчал о том, что ничего не рассказал о ней своим приемным родителям. Но она об этом знала, потому что сказала, глядя на него в зеркало:
— Это хорошо, что ты ничего не рассказал обо мне. Никто бы тебе не поверил и не понял тебя. Это наша с тобой тайна, до которой никому нет дела.
Как во сне, подумал он, в точности как во сне.
И это даже не удивило его.
Потом она позволила ему расчесать ее волосы. Гребень с легким потрескиванием рассекал черные, пахнущие медом волны.
У него немного закружилась голова. Она обернулась, с улыбкой наклонилась совсем близко — так, что ее аромат объял его со всех сторон, он жил в нем, — и поцеловала его в лоб своими мягкими губами.
Ошеломленный, он прильнул к ней. И она прижала его к себе так крепко, что на мгновение ему показалось, что он задохнется.
«Мне больно», — хотел было он сказать, но знал, что это неправда, она должна прижать его к себе еще крепче, чтобы больше уже никогда и никуда не выпускать.
Наконец она отпустила его, но он не осмелился на нее взглянуть, словно этот взгляд мог сейчас разрушить что-то важное, возникшее между ними. Она тоже не смотрела на него, приводила свои волосы в порядок, закалывала их гребнями, потом взяла шубку, лежащую на стуле.
На этот раз она проводила его почти до дома, где еще горел свет.
— Вон там я живу, — показал он.
Она кивнула, не говоря ни слова. Потом обняла его. Чистый холодный запах ее шубки щекотал ноздри. На этот раз она не поцеловала его. Значит, это позволено, только когда они вдвоем, в ее комнате?
— До завтра, Себастьян.
— Да, до свидания.
Он знал, как ему будет трудно прийти к ней.
Когда он позвонил и оглянулся, она уже дошла частыми звонкими шагами до конца улицы. На углу она обернулась и помахала рукой.
А он даже не мог помахать в ответ: дверь открылась.
Пятница. Он робко выглянул из дверей школы. Во дворе у ворот ожидало несколько матерей. Ее среди них не было.
Он крадучись пошел вдоль боковой стены школьного здания, на ходу застегивая пальто и неся в себе тошнотворное чувство предательства, трусости и отчаяния.
Стена заканчивалась старой, облезлой дверью, которой почти никто не пользовался. Он открыл ее и очутился в узком проходе, с одной стороны ограниченном стеной с двумя дверьми (одна из них вела на угольный склад, вторая — в кладовую, где хранились старые книги и прочий хлам), а с другой стороны — низким забором, утыканным сверху осколками стекла. При известной ловкости через него можно было перелезть.
Он осторожно положил руки между острыми осколками, уперся в забор ногой и подтянулся. Одна нога — на неровных стеклянных зубцах, которые кое-где обломались и потеряли свою опасную остроту (судя по всему, ребята не раз лазили в этом месте через забор), другая нога — еще внизу, он прыгнул. Упав в траву на заброшенном пустыре за школой, он вскочил и побежал.
«Предатель», — отчетливо произнес голос в его голове.
«Нет, нет, совсем нет, тебя ждут родители», — сказал другой голос.
«Но зачем же ты тогда обещал?» — воскликнул первый голос.
«Тебе с самого начала не нужно было идти с ней, ты сам во всем виноват, ты влюбился в нее, — слышал он. — Гуляй лучше с Дориной, она ждет тебя, и она будет…»
«Неправда!» — возразил другой голос, и Себастьян спросил себя, что же означает это «неправда».
Дома он увидел на столе перламутровую раковину.
Какое им до нее дело? Или они думают, что он ее украл? Дома была только приемная мать, и она сразу же спросила, где он взял раковину.
— Нашел, — соврал он.
— Где же?
— В парке.
— В парке?
— Да.
Она видела, что он говорит неправду и хочет скрыть, откуда взялась эта раковина. На переносице у нее появилась сердитая морщинка. Он вспомнил о вчерашнем вечере, когда опять поздно вернулся домой и приемный отец избил его так, что у него белела вся голова. Его отправили спать без ужина, и тогда ему захотелось есть, несмотря на то что
у нее он ел пирожные и пил кока-колу.
— Где ты взял эту раковину? — опять спросила она.
— Мне ее подарили.
— Ты лжешь. Я не верю ни одному твоему слову. Ты лгун.
Она подняла руку, чтобы ударить его.
Но он опередил ее, схватил со стола раковину и помчался наверх в свою комнату. Она не стала его преследовать. Сидя на попоне, покрывающей кровать, под защитой пока еще надежных стен своей комнатки, сжимая в руках бесценное сокровище (ибо кто же подарит маленькому мальчику такую раковину — никто, только она и только ему), он ожидал возвращения приемного отца, когда его позовут обедать и когда он, вероятно, снова получит взбучку — на сей раз из-за раковины, ведь приемный отец тоже, наверное, думает, что он ее украл.
Снизу донеслось хлопанье дверей. Вопросительный голос приемной матери, немного медлительный, и в ответ глухое ворчание мужчины.
Шаги по лестнице. Он.
— Что тут еще случилось? — спросил он угрюмо.
Себастьян думал: «Раковина у меня уже четыре дня. Она видела ее еще утром в среду, когда убирала кровать. Почему же она тогда ничего о ней не сказала? Или, может быть,
ему она сказала?»
Он никогда не мог понять поступков взрослых.
Приемной матери он сначала сказал, что нашел раковину, потом — что ее подарили. Теперь он не говорил ничего. Других объяснений не было. Он не мог ее купить, потому что даже не знал, существуют ли магазины, где продаются раковины; он, во всяком случае, таких магазинов не знал.
Мужчина ждал ответа. Но ответа не было.
— Ну ладно, в таком случае ты останешься здесь без обеда. Когда надумаешь, спустись вниз, тогда мы посмотрим.
Дверь захлопнулась.
Себастьян смотрел на раковину. Когда он поворачивал ее в густеющих сумерках своей комнатки, на ней появлялись новые краски и блики.
Он различал в них павлиньи хвосты и радугу.
Снизу время от времени доносились голоса приемных родителей. Конечно, они говорили о нем.
Он поставил раковину на ночной столик рядом с кроватью, на серебряную бумагу, которую никто не тронул.
Он разделся, забрался под одеяло и стал смотреть на шкаф, где находилась его коллекция, состоявшая из собранных на берегу реки птичьих костей, деталей конструктора и книжек с картинками, где он хранил серебряную бумагу, — впрочем, с появлением раковины она сразу утратила свое значение.
Затем его взгляд скользнул на ночной столик около кровати и на перламутровый предмет величиной с ладонь, который ему теперь хотелось не трогать, а только рассматривать — матовые всплески изменчивых цветов в сером вечернем свете, струящемся в окно.
Было что-то утешающее и радостное в том, что он остался наедине с ее подарком. Потом снова послышались шаги. Темная дверь отворилась. Сквозь пелену и сна, и слез он увидел, как к нему подошла она, заполняя комнату широкими струящимися волнами своей шубки, которая свежо пахла ночью и осенним холодом и была усыпана кристаллами вечерних звезд — даже глазам больно.
Ее губы, точно две половинки редкостной тропической раковины, раскрылись в медлительной, долгой улыбке.
Со стучащим сердцем он сел в кровати.
— Пойдем, — сказала она.
Я. М. А. Бисхёвел
Перевод С. Горбунова
ВЕЛОСИПЕДИСТ В МОРЕ
Исаак часами стоял на юте. Это был приятный, но немного странный юноша: в море он тосковал по работе на суше, а сидя в конторе, мечтал о морских просторах. Он с трудом переносил скучную монотонность сухопутного существования, но денег для морских путешествий у него не было. И если ему все-таки удавалось наняться на какое-нибудь судно, то обычно он, очкарик, выполнял самую черную работу: чистил котлы, был на побегушках у офицеров, — а ведь самой большой его мечтой было стать за штурвал или хотя бы служить матросом. Но на корабле он сталкивался только с хвастливой грубостью матросов, которые, играя в карты, держали под рукой ножи, ругались друг с другом и почем зря бранили Исаака. Для них он был чужой. Здесь в его общество нуждались еще меньше, чем на берегу — в порту, в цехе розлива, на фабрике или в конторе, где ему приходилось работать, — однако именно здесь, на судне, он вновь и вновь надеялся найти подлинную романтику. После вахты он всегда торчал на юте. Вот и сегодня в два часа пополуночи Исаак все еще был там, потому что ночь стояла ясная, лунная, хорошо были видны знакомые звезды южного полушария и белопенный вал за кормой (кто часами стоял на юте судна, идущего в открытом море, тот знает, что в поздний час и днем, в дождь и туман, на полярных широтах и в тропиках, в серой, зеленой и светло-голубой воде корабли всегда оставляют после себя белый, уходящий к горизонту след).
Дул легкий теплый ветерок. Приглядевшись, можно было заметить на горизонте огонек далекого судна; если б Исаак пришел сюда часом раньше, он бы, наверное, увидел, как оно идет прямо на него. Впрочем, органы чувств могут и обмануть. Некоторые философы утверждают, что все вокруг — плод нашего воображения и что обратное этому доказать нельзя! Исаак плавал в компании контрабандистов, избегавших встреч с другими кораблями. Он думал о том, как долго продлится плавание, и о возвращении домой. Смотрел на лебедки, кнехты, тросы, бортовые поручни, на легкий стул, который поставил для себя на юте. И вот Исаак увидел, как огонек вдали резко переменил направление: описал небольшую дугу и двинулся прямо на него. Мало-помалу Исаак убедился, что огонек этот зависит от «воли волн» и вряд ли может принадлежать кораблю, тем более что число сигнальных огней с его приближением не увеличивалось. Плавать только с одним сигнальным огнем? Рискованно. Когда странный свет приблизился на расстояние двухсот саженей, Исаак разглядел велосипед с мотором. Первый раз в жизни с ним случилось такое, первый раз в жизни он видел чудо. То, что было перед ним, иному человеку в самых дерзких мечтах не пригрезится. Исаак было испугался, но не мог же он в конце концов поверить, чтобы таким образом путешествовал по свету какой-нибудь новый пророк или мессия. Хоть христиане и утверждают, что Иисус ходил по водам. Велосипедист приблизился метров на шестнадцать. Исаак закричал, отчаянно размахивая руками, но в возбуждении забыл сбросить за борт веревочный трап, и велосипедист сказал ему об этом. Судя по говору, незнакомец был соотечественником Исаака. Он с большой осторожностью подрулил к трапу, управляя своим велосипедом весьма примечательным образом: точно боксер, прощупывающий противника, он, слегка покачивая верхней частью туловища, подпрыгивал возле гладкого корабельного борта и как бы топтался на месте, парируя или наступая, затем он подскочил — хоп! — и вместе с велосипедом очутился на трапе.
— Осторожно! Осторожно! — воскликнул он.
Незнакомец был в запотевших очках и в кепи с кожаными клапанами для защиты глаз и ушей от морской воды. Велосипед был самый обыкновенный. Без специальных приспособлений. Исаак помог человеку с велосипедом взобраться на палубу. Незнакомец попросил поесть. Исаак отправился за едой. Он заметил, что матросы, штурманы и механики уже разбрелись по койкам. Вернувшись, Исаак спросил у незнакомца:
— Почему вы ездите по воде?
И тот сказал, что хочет установить рекорд.
— Как вам удается ездить по воде? — удивленно воскликнул Исаак.
— Это дело тренировки, — отвечал велосипедист. — Я начинал с булавки: клал ее горизонтально на воду. Если делать это очень осторожно, она держится на воде и плывет. Шло время, я брал все более и более тяжелые предметы. Это для того, чтобы сделать мой велосипед, и вот наконец я совершил свой первый жалкий выезд на городской пруд. А теперь разъезжаю по всему миру. Я нигде не пристаю к берегу, но из-за потребности в пище вынужден подходить к кораблям. И предпочитаю делать это глубокой ночью, когда все спят. Вначале я еще подъезжал к судам средь бела дня, но люди смотрели на меня как зачарованные. Сперва они кричали, что отродясь не видели ничего более замечательного, а потом начинали молоть всякий вздор или сходили с ума. Раньше я собирался проехать около сорока тысяч километров, но думаю, что эту цифру можно увеличить и совершить кругосветное путешествие. Мне хочется сделать нечто такое, чего еще никто никогда не мог сделать. Это цель моей жизни.
— Вы никогда не боялись утонуть? — поинтересовался Исаак.
— Нет, никогда, — отвечал человек. — Конечно, необходимо осторожно прибавлять и убавлять газ. Высокие волны, например, ни в коем случае нельзя брать на слишком большой скорости, иначе можно намочить боковые стороны колес, а если это случится, гибель неизбежна.
— Да, понятно, — сказал Исаак, смотревший на незнакомца с восхищением.
Человек сидел, полностью поглощенный едой. Он выпил много молока и спиртного. Потом попросил пузырек йода. Так прошел час, и вот человек перекинул велосипед через борт и зацепил его за трап. Затем распрощался с Исааком. Исаак попросился к нему в попутчики, чтобы совершить остаток путешествия вместе.
— Я мог бы указывать дорогу, ведь я много плавал, — сказал он.
Незнакомец рассмеялся.
— Ты сначала должен многие годы тренироваться, — сказал он. — Если бы я захотел, я мог бы взять тебя с собой; велосипедом я управляю хорошо, и шины накачаны в меру, но я не вижу в этом смысла. Что я буду с тобой делать? Я путешествую уже который месяц, и вдруг в последнюю неделю ко мне присоединишься ты. С какой стати? Ведь для меня это единственная возможность отличиться. Как я на финише растолкую людям, что ты присоединился ко мне позже? Впрочем, мне пришлось бы очень стараться — не так-то легко вести велосипед с двумя седоками. Я же никогда не пробовал ездить с пассажиром. Откуда я знаю, какие неожиданные движения ты можешь сделать? Надо обладать особой сноровкой, чтобы скользить по воде подобно ветерку, — продолжал велосипедист. — Ты представляешь себе, как ходят по канату? — спросил он.
Исаак, который не совсем понял суть вопроса, ответил отрицательно.
— Так вот, — сказал мужчина, — надо все время балансировать и держать колеса как можно выше, на гребнях волн.
С этими словами он попрощался и снова спустился вместе с велосипедом по трапу. Исаак хотел было немного передвинуть трап, но велосипедист громко крикнул:
— Осторожно! Осторожно!
Уже почти у самой воды он завел мотор, и колеса закрутились в воздухе. Постепенно приближая их к поверхности воды, он улучил минуту, соскочил с трапа на свой неистовый велосипед и помчался прочь.
Светало… Исаак загрустил. За четверть часа велосипедист пропал из виду. Еще через час Исаак отправился спать. На следующий день он рассказал радисту о том, что случилось ночью, но тот только пожал плечами, а так как Исаак упорно стоял на своем, начал смеяться. Час спустя вся команда знала, что ночью Исаак видел едущего по морю велосипедиста. Все смеялись. День прошел, и Исаак заснул крепким сном. Но перед этим он еще раз побывал на юте. Солнце только что зашло. Чувствовалось, что ночь будет дивная, хотя и облачная. Исаак невольно стал вглядываться в морскую даль. Человека на велосипеде, конечно же, не было видно. Слезы навернулись Исааку на глаза; он был чужим на берегу, чужим на корабле, и даже неистовый морской гонщик не пожелал взять его с собой. Он смотрел на пенный вал за кормой, на птиц, тянувшихся за судном. Его охватило чувство одиночества, и мало-помалу он пришел к мысли, что так было и так будет всегда. Закурив сигарету, он стал тихо напевать псалом, но едва мог расслышать собственный голос. Поднялся ветер, и временами гребной винт, бешено крутясь, вырывался из воды, чтобы секунду спустя с низким гулом вновь погрузиться в волны. Исаак следил за полетом птицы и завидовал ее свободе. Ему хотелось вот так же лететь за кораблем или исчезнуть в туманной дали. Сам того не сознавая, он начал подражать движениям крыльев альбатроса. Случайным свидетелем этому стал боцман. Он смеялся, видя, что Исаак прочно стоит на палубе…
ИСПЫТАНИЕ И НАКАЗАНИЕ
По полю идет центурион. В его подчинении сотня человек, сотня солдат, и все они обязаны безоговорочно ему повиноваться. Много месяцев их муштровали, закаляя душу и тело, и теперь центурион почти доволен и собирается подвергнуть своих людей последнему испытанию: он должен знать, с кем имеет дело, насколько они усвоили его уроки. Маршрут предстоящего испытания уже намечен и, хотя он невелик — всего около километра, — простым его никак не назовешь. Ни о дороге, ни о тропинке и речи нет. Тяжелый и опасный для жизни путь проходит по гористой местности — на каждом шагу скрытые под водой провалы, обломки скал, болота, расселины, через клокочущие горные ручьи перекинуты тонкие гладкоотесанные жердины. Значительная часть маршрута проложена по уходящей ввысь скалистой тропе, то слева, то справа обрывающейся в бездонную пропасть. Серна и та воспользуется этой тропинкой лишь в крайнем случае: удирая от охотника, взявшего ее на мушку, или уходя от преследования стаи волков. Другая часть маршрута проходит по склонам крутого, поросшего скользким мхом холма; поскользнешься — либо погибнешь, либо начинай все сначала. Из чувства гуманности центурион кое-где вбил глубоко в мох деревянные колышки. Как ни силен, как ни гибок командир, умеющий падать с высоты в несколько метров, не причинив себе вреда, узкая тропа так трудна, что даже он не взялся бы прокладывать ее дважды, и все же он шел по тропе при свете дня и вгонял в землю стрелы. Двадцать пять стрел воткнул он — по одной через каждые сорок метров, указывая солдатам направление пути. Командир ждал наступления ночи. Луна и звезды были скрыты низкими тучами. Дул порывистый ветер. Центурион разбудил солдат; измученные, они спали тяжелым сном. Целый день они боролись, метали копья, надрывались, перетаскивая каменные глыбы. Двенадцать из них по приказу центуриона были высечены за то, что за глаза поносили его, трое других — за то, что чрезмерно его восхваляли.
— Солдаты, — говорит командир, руководствуясь принципом: на то и учение, чтобы преодолевать трудности, — я знаю, вы устали и спите на ходу, но прошу вас, соберите все силы и мужество, прогоните сон, ибо сегодня ночью я должен подвергнуть вас испытанию. Я хочу знать, чему вы научились.
Он делает знак рукой, и каждому солдату вручают по лампе. Однако центурион запрещает зажигать их до прибытия на место. Только у начала пути, который никто, кроме него самого, не осмелился бы назвать «тропой», он разрешает солдатам зажечь лампы и объясняет, что́ им предстоит делать. Они будут отправляться в путь по одному каждые десять минут. Кто совершит ошибку или поскользнется, того ждет суровое наказание. Во время похода нельзя приближаться к впереди идущему более чем на восемьдесят метров. Никто не должен обращать внимание на стоны раненых, даже на горестные рыдания своего лучшего друга или соседа. Единственная задача всякого солдата — отыскать с помощью ламп стрелы, указывающие направление движения.
— Свет лампы не даст вам сбиться с маршрута, но вы можете использовать ее и для любой другой цели, — так центурион заканчивает свой, как всегда, немногословный инструктаж.
Он хватает за плечи первого попавшегося солдата и говорит:
— Ты пойдешь последним, а пока будешь следить за тем, чтобы каждый отправлялся в дорогу ровно через десять минут после своего предшественника.
Затем начальник окольным путем поспешил к конечному пункту маршрута. Прошло почти два часа, прежде чем он заметил в темноте первого солдата. Еще пять — десять минут — и вот солдат уже совсем рядом. Измученный, он опускается наземь, в руках у него горящая лампа. Центурион смотрит на голову солдата, покрытую ранами, на окровавленные руки, на стертые, обломанные ногти; от ботинок солдата ничего не осталось, а кость правой ноги прорвала мясо на пятке. Командир в ярости, ему хочется дать солдату хорошего пинка, но он себя сдерживает.
— Ты грязный мошенник, — шипит он. — Ты подлый обманщик. Почему лампа все еще при тебе? Почему, черт возьми, ты не подумал о своих товарищах и не оставил лампу в опасном месте, чтобы облегчить путь идущим тебе вослед?
Солдат задыхается, изо рта у него течет кровь, ведь во время перехода он потерял несколько передних зубов и клык, он молит о пощаде, он даже дерзнул обхватить руками, колени центуриона. Но тот грубым жестом отшвыривает его.
— Какого черта, — рычит он, — что ты там бормочешь?!
— Я вас не понимаю, — шепчет солдат, — ради бога, объясните, в чем дело. Я долго пытался проникнуть в глубинный смысл испытания, которому вы нас подвергли, но с каждой минутой думать становилось все труднее. Чем чаще я падал и поднимался, чем больше ран получал, тем крепче сжимал я свою лампу, мою единственную надежду в темноте, только благодаря ей я еще дышу. Милосердия, господин, милосердия!
— Нет тебе милосердия, — отвечает центурион. — Ты трусливый и безвольный себялюбец. Я даю тебе в наказание десять
лет дисциплинарного лагеря. Молчи и исчезни с глаз моих!
Прошло восемь минут. Показался второй солдат, он оставил свою лампу в пути, обозначив ею опасное место, и проделал оставшийся путь на ощупь. Ему было нелегко.
— Ты усвоил мои уроки, — говорит центурион, похлопывая солдата по плечу. — Ты поступил правильно.
Минут через десять появляется третий, этот принес зажженную лампу. Начальник сделал ему строгий выговор, но не наказал. Так продолжалось всю ночь: некоторые оставляли свои лампы в опасных местах, большинство, же приходило с ними, за что получили только порицание. Не наказание, нет! Последний (его имя было Миша) благополучно — nota bene
[33]! — миновал тридцать четыре светильника, он не получил не царапины, ведь на пути не осталось больше ни одного опасного места, которое не смог бы преодолеть крепкий солдат, все они были отчетливо видны уже издалека. Лампа была с ним, и, как все, он получил порицание центуриона.
Через полгода, в воскресный полдень, Миша, освободившись от своих дел, решил посетить исправительный лагерь, где влачил свои дни Иов, тот самый первый солдат, единственный приговоренный к наказанию. Преодолев немало затруднений в переговорах с охранниками, Миша добился разрешения повидаться с Иовом. На это было отведено всего-навсего две минуты.
— Иов, мне все-таки ужасно стыдно! Почему именно ты должен так тяжко расплачиваться? Ты же был лишь первым, кто допустил ошибку. И твоя «ошибка», по сути дела, не была ошибкой, ибо у тебя еще не было перед глазами живого примера. Ах, почему центурион не наказал меня в десять раз суровее, чем тебя? Ведь я пришел к назначенной цели так же, как и ты, с лампой в руке, в то время как тридцать четыре других воина, прошедших по дороге испытаний раньше, уберегли меня от всех опасностей. Это я должен был понести всю тяжесть и горечь наказания, только мое наказание было бы справедливым.
— Я был первым, Миша, — отвечал Иов, — и был первым случайно, ты сам указал на меня. И раз я шел первым, значит, я должен был осветить дорогу тем, кто пойдет после меня, я должен был первым догадаться о другом, высоком предназначении светильника.
— Иов, ради бога, не говори так путано, — попросил Миша. — Я тебя не понимаю. По-твоему, я не виноват. Ведь в простоте душевной я думал, что центурион сам поставил те тридцать четыре лампы вдоль нашего маршрута, чтобы сделать его не таким трудным! Поэтому у меня и мысли не возникло оставить свою. Я был последним, и мое восхождение проходило уже при свете дня. Я даже подумал, что неплохо было бы собрать расставленные на пути лампы и захватить их с собой, но это, конечно, показалось мне слишком трудной задачей. Видит бог, я был уверен в благополучном исходе для всех нас: я ниоткуда не слышал стонов и нигде не видел трупов сорвавшихся товарищей. Легко, весело и даже самонадеянно прошел я свой путь от начала до конца.
— Все так, Миша. Теперь ты видишь, насколько справедлив был приговор центуриона, — сказал Иов. — Второй воин был первым, кто понял свою ответственность за товарищей и осуществил на деле то, чему учил нас командир: он оставил свою единственную опору — лампу — при первой же опасности. Правда, третий солдат не последовал его примеру и, вероятно, подумал так же, как и ты: «Как приятно видеть расположение центуриона, который позаботился о нас, осветив это опасное место». И так, с каждой следующей лампой, оставленной на пути, росло доверие к командиру. Возможно, многие подумали, что лампы оставили их товарищи, хорошо усвоившие смысл слова «взаимопомощь». Если бы каждый из нас подумал о трудностях, страхе и одиночестве другого, наше доверие к центуриону и всему отряду возросло бы во сто крат. Наш учитель, наш командир был добр, справедлив и прав и поэтому ожидал от меня как от первого заботы о тебе и других. Тут, в лагере, у меня родились более основательные аргументы, подтверждающие справедливость приговора.
— Иов, ты, должно быть, сошел с ума! — воскликнул Миша. — Мне кажется, здесь ты потерял рассудок. Может быть, физическое истощение и душевные муки стали причиной того, что ты разучился говорить разумно и думать как обыкновенный человек…
Вошел тюремщик и подал знак.
— Пора расставаться, — произнес он, — ваши две минуты истекли.
О ЧЕЛОВЕКЕ И МЕДВЕДЕ
Одному ученому как-то взбрело в голову удалиться от цивилизованного мира. Местом своего уединения он избрал прекрасную долину среди пустынных гор где-то в Канаде, куда не ступала еще нога человека. Там он построил себе хижину и стал наслаждаться красотой природы: горными ручьями, дикими цветами, необычайными деревьями. Он питался плодами растений и наблюдал жизнь животных. Он жил как в раю и видел, что все хорошо здесь: сильное растение заглушает более слабое, ласки охотятся на крыс и белок. Человек любовался этой гармонией природы. Он захватил с собой только семь книг, самой толстой из которых была Библия. В других книгах речь шла об истории, логике, математике, этике и астрономии. Страницы восьмой книги еще не были заполнены и оставались чистыми до тех пор, пока человек не завершил постройку своего жилища. После полугода совершенного одиночества он почувствовал себя до некоторой степени счастливым; человек был скуп на слова, его дневник занял только восемь страниц. Он разбил пшеничное поле и огород для выращивания овощей и картофеля. Раз в неделю ловил он несколько форелей, диких уток или фазана и жарил их на каменной печи, в ней же пек он свой хлеб. Поначалу ему было тяжело самому содержать себя, но с течением времени он так наловчился в охоте и уходе за огородом, что убедился: он сможет пробыть здесь по меньшой мере лет двадцать — тридцать, не нуждаясь в другом человеке, даже во враче, потому что был хирургом и в тридцатилетнем возрасте, на зависть коллегам, собственноручно удалил себе воспалившийся аппендикс.
Когда человек прожил в своей безлюдной пустыне три года, его рай изменился: однажды к вечеру, во время охоты, он наткнулся на медвежонка, которого, бог весть почему, мать бросила на произвол судьбы. Звереныш посеменил за человеком без боязни (очевидно, охотники никогда не заглядывали в эти края, иначе бы медведица научила его осторожности). Совершенно случайно нашел охотник мать медвежонка. Она была мертва; разрывая нору сумчатой крысы, она подкопала большую каменную глыбу, которая размозжила ей голову. Случилось это часа два назад: ее лоснящаяся шкура продолжала излучать тепло, а орлы и четвероногие хищники еще не учуяли запаха крови и падали. Медвежонок приник к одному из сосков матери, но напрасно. На глазах охотника выступили слезы. С помощью крепкой дубовой ветви он высвободил голову медведицы из-под каменной глыбы. Медведица была из породы бурых медведей, самцы которой — признанные цари канадской чащобы, так велики и сильны становятся они со временем.
Человек выкопал для медведицы могилу и завалил ее мертвое тело красноватым плодородным песком и смешанным с глиной гравием. Как же ему поступить с медвежонком? Что до звереныша, то у него был только один выход, ведь мать мертва: впредь это странное, отнюдь не косматое, хрупкое существо, так мало похожее на медведя, с железной палкой через левое плечо, с незнакомым запахом, с круглыми тяжелыми каплями воды под глазами и со свободно висящей неудобной шкурой должно заменить ему мать. Медвежонок совсем не знал людей. А что знал ученый о его жизни и повадках? Человек получил возможность вплотную изучить жизнь медведя. Он окрестил его Брамом. Так как его подопечный был еще маленьким и далеко не настоящим диким медведем, хотя и добывал себе пищу сам, в одиноких скитаниях по долине, ночь он проводил на охапке соломы в углу жилища человека, которое зимой отапливалось деревянными поленьями.
Так прошло три-четыре года. За это время человек и медведь стали почти неразлучны, у них вошло в привычку отправляться на охоту вместе. Казалось, другие звери были удивлены, видя, как почти взрослый бурый медведь, этот громадный хозяин лесных дебрей, покорно плетется за охотником по узким звериным тропам либо по высохшему руслу горного ручья. Прошло еще два года, медведь целый месяц не появлялся в хижине человека: он искал самку. Человек очень обрадовался, когда Брам наконец вернулся. Но в каком виде! Потрепанный, он, ворча, зализывал раны и через несколько недель был почти здоров. «Наверное, скоро маленькие Брамы начнут бродяжить по долине и разорять пчелиные гнезда», — весело подумал человек, стоя в дверях своей хижины. Он, как это было заведено с давних пор, отправлялся на охоту. Погода была как никогда чудесна, и красота природы словно улыбалась ему. Прищуренными глазами посмотрел человек на солнце, а затем огляделся вокруг. Что за краски! Сколько оттенков зеленого! Человек сорвал большую дикую розу и прикрепил ее к отвороту одежды. Он мог бы, пожалуй, запеть от радости. В избытке хорошего настроения он похлопал медведя по плечу. Он проделывал это и прежде, до отлучки зверя; обычно в ответ на это медведь толкал человека своей мощной головой прямо на землю. Он играл с человеком очень осторожно, видно понимал: человек не может быть для него равным партнером. Но теперь — медведь заревел и… Возможно, Браму вспомнились удары других медведей, когда они сходились в смертельном поединке за право владеть самкой. Человек испугался: в какую-то долю секунды, после того как он тронул медведя, тот разодрал его от плеч до живота. Человек не успел даже крикнуть: «Осторожно, Брам!» — после чего зверь, как правило, прекращал свои игры. Брам с удивлением посмотрел на человека. Он не мог понять, что значит лужа крови, в которой распростерлось тело. Он ведь только слегка ударил. Такие тычки он получал от своей матери. Почему же это существо упало и молчит? Почему? Почему продолжает течь этот красный сок? Как нестерпимо воняет кровь его товарища! Совсем не похоже на запах медвежьей крови. Брам попытался поставить своего друга на ноги, но это ему не удалось. С полчаса медведь гулял по окрестностям. Когда он вернулся, человек по-прежнему лежал на том же месте, где его оставил Брам. Медведь перенес человека на крышу хижины. Быть может, он еще проснется. А пока медведю ничего не оставалось, как в одиночку отправиться на охоту за муравьями, сурками, сумчатыми крысами. Вечером, когда он возвратился, человек все лежал на крыше! Брам не осмелился ночевать в хижине. Он отсутствовал эту ночь и следующую тоже. Потом появился снова. Человек все так же лежал на крыше. Медведь сел на задние лапы, а передние поднял вверх и помотал головой. Он ворчал, ревел, пыхтел и наконец издал писк, похожий на щенячий. Человек не откликался. Брам вырвал из земли несколько деревьев и затащил их в хижину. Человек не просыпался. Тогда медведь опять сел на задние лапы и стал смотреть на человека. Только шкура человека слегка шевелилась на слабом ветру. Так Брам просидел целый час. Затем поворчал, тряхнул головой и побрел по долине, прочь от хижины.
Ровно через год он вернулся. Человечьей шкуры больше не было, и человечьего мяса больше не было. Скелет орла, заклеванного другими птицами, лежал перед ним на земле, рядом с костями человека, которые скатились с крыши. Медведь взял зубами несколько костей. Два дня бежал Брам по долине, пока не достиг своей берлоги. Он забрался внутрь, положил кости человека — бедренную кость и четыре ребра — в темный уголок и завалил их мусором. Затем откопал в другом конце берлоги лакомый кусочек — сладкие корни — и молча стал поедать их. После этого он отрыгнул, пожевал сосновых иголок и уснул. Наступала зима.
Дик Валда
Перевод Е. Макаровой
ДЕВОЧКА КРАСНОНОЖКА[34]
Когда ребята делятся на команды, ее принимают самой последней. А если один окажется лишним, то это всегда она.
Быть принятым в команду последним — страшное унижение. Страшнее не придумать.
Никто не хочет играть с девочкой Красноножкой в одной команде.
А ведь она умеет бегать быстро, даже очень быстро. В драках не пасует, да и во всем другом не уступает мальчишкам.
Словом, имеет право быть принятой в команду среди первых.
Когда ее называют Красноножкой — а так ее зовут все: и на улице, где она живет, и в школе, — от обиды у нее на шее появляются красные пятна, но она никогда не плачет.
Ей было всего три года, когда мать нечаянно опрокинула ей на ноги таз с крутым кипятком. С той поры у нее от ожогов остались на ногах безобразные шрамы. Зрелище неприятное, тем более что Красноножка очень красивая девочка. Свои длинные светлые волосы она часто заплетает в две толстые косы. Милое личико украшают прекрасные, как у лани, глаза. Только на губах застыла горькая улыбка.
Одноклассницы с ней не дружат. Более того, они ее всячески изводят: загонят в угол, окружат, издевательски смеются и кричат: «Косоротая, гадкая грязнуха!»
На брань Красноножка отвечает одно: «Сама такая!»
Других способов защиты у нее нет.
Часто в такие минуты я нахожусь неподалеку, но у меня духу не хватает вступиться за нее. Я боюсь девчонок из ее класса, особенно двух, которые года на три постарше остальных.
Втайне я мечтаю взять когда-нибудь Красноножку с собой в один из наших многочисленных потайных уголков. Как было бы здорово — торжественно ввести ее в хижину на Йодеманеси, где мы обычно играем.
Но я не отваживаюсь. Ведь она изгой нашей улицы, так же как Дурачок Симон, Мамуля Крюлспелд и Пит Уличный Певец.
Нет, подружиться с ней и не стать самому изгоем просто невозможно.
Если во время игры я случайно попадаю в одну команду с Красноножкой, я стараюсь держаться рядом и поговорить с ней.
— Ребята всегда тебя дразнят, да?
— Ну и пусть! Они плохие. Мне и без них не скучно. У меня дома целая куча интересных книг, и я читаю их в своей комнате.
Как-то я спросил о том, что и сам хорошо знал.
— А почему они тебя дразнят? Почему не хотят играть с тобой?
— Вот дурачок. Да из-за моих ног, конечно. — И она доверчиво посмотрела на меня своими глазами, так похожими на глаза лани.
От взгляда Красноножки у меня пересохло во рту. Мне хотелось крикнуть: «Всю жизнь я люблю тебя, Красноножка! Буду вечно с тобой, хотя у тебя на ногах такие страшные шрамы. Мы просто закроем их одеялом!»
Но я не крикнул. Молча шел с ней рядом. Иногда подбирал ветку и очищал ее, мечтая, как сделаю Красноножке красивую резную палку — я видел однажды такую у скаутов. Я старался почаще бывать с Красноножкой.
Но стоило другим ребятам заметить, что я разговариваю с Красноножкой или угощаю ее чем-нибудь, как они тотчас вмешивались: «Эй, ты, козявка, убирайся! Не то и у тебя на ногах появятся рубцы!» Или: «Ты, осторожней! Красноножка — противная грязнуха!»
Конечно, они болтали ерунду, но страх, что меня тоже начнут сторониться, брал верх, и я малодушно присоединялся к Красноножкиным недругам.
Время от времени девчонки целой толпой налетали на Красноножку, пиная ее по изуродованным ногам. Она убегала вся в крови и потом неделями не выходила из дому.
Однажды я встретил ее на окраине, неподалеку от парка. Она выбирала воздушного змея у Лукаса. Мы прозвали его Змеемастером. Он продавал змеев с полным оснащением: с хвостом, с катушкой ниток, и притом очень дешево.
Я подошел к Красноножке и предложил ей помочь выбрать змея. Она показала мне два, которые отложила: пурпурный с зеленой каймой и небесно-голубой, украшенный серебряной полоской, ярко блестевшей на солнце.
— Как считаешь, какой взять? Денег хватит, у меня много осталось от дня рождения.
— Бери голубой, он больше и прочней, — посоветовал Змеемастер, — а цена одна. Плати пять гульденов и получишь в придачу еще двести метров ниток.
Красноножка выбрала голубой. Вместо мы отправились в парк. Я нес хвост змея. Когда мы пришли на большую лужайку в парке, Красноножка сказала:
— Сейчас прикрепим письма, и они полетят к богу. А он их прочтет.
Я смотрел на нее преданно, но недоверчиво.
— А ты не хочешь послать письмецо богу? — спросила она.
Я колебался.
— Ладно, посмотрим. Сперва запустим змея, — решила Красноножка. — Ты ведь останешься со мной?
— Да, время у меня есть, все равно делать нечего.
— Вот и отлично. Бери змея, а я буду стоять здесь. Когда крикну, бросай его вверх. Как можно выше.
Держа змея в правой руке, я со всех ног помчался прочь. Она помахала мне, натянула нитку и крикнула:
— Бросай!
Я размахнулся и изо всех сил подбросил змея вверх, теперь побежала Красноножка.
Змей, виляя хвостом, взмыл в небо. Ура! Удалось!
Я понесся к ней, чтобы в момент триумфа быть рядом. Она все отпускала и отпускала нитку, не обращая на меня никакого внимания. А змей поднимался все выше и выше. И вот уже стал крохотным блестящим пятнышком.
— Если бы нитка была длиннее, — сказала Красноножка, — он взлетел бы еще выше. Хочешь подержать? Только смотри не упусти. А я пока напишу письма богу.
— Ты правда веришь, что они попадут к богу? — спросил я, забирая у нее катушку.
— Кто знает? Надо попробовать…
Я потянул за нитку, на которой весело плясал в небе змей.
Красноножка села на землю. Из своей черной сумочки она вытащила тетрадь, вырвала оттуда листок, разорвала его на четыре части и принялась старательно писать. Написала три письма, сложила их и неуверенно посмотрела на меня.
— Что ты написала?
— Нет, сначала признайся, веришь ты в письма или нет, иначе ничего не скажу.
— А… это… конечно, верю. Ну что ты там написала? — поспешно спросил я.
Она начала читать свои письма:
«Боженька, дай, пожалуйста, нашей семье большой дом, только в другом конце города». «Боженька, сделай так, чтобы у нашей соседки, госпожи Пёйн, больше не было ревматизма». «Боженька, пожалуйста, сделай так, чтобы ребята перестали меня дразнить…» А ты хочешь послать письмо богу? Говори что, я напишу.
Мне, как назло, ничего не приходило в голову. Надо, чтобы письмо было серьезным, вроде как у нее. Я хотел сказать: «Напиши: „Боже сделай так, чтобы у Красноножки исчезли шрамы“» — но передумал.
Шрамы не исчезнут, на то они и шрамы. Значит, надо просить что-то другое, но обязательно для нее. Пусть станет богатой, пусть у нее в конюшнях стоит два десятка лошадей. Или пусть ее всегда выбирают первой в команды.
— Ну, надумал? — нетерпеливо спросила она.
Я заторопился:
— Собаку попроси. Нельзя ли, чтобы у меня была собака?
Она начала писать.
— А какую собаку?
— Не дворняжку, овчарку. Немецкую овчарку, мальчика, и чтобы умел лапу давать, и чтобы был не старше шести месяцев.
— Это слишком много. Места не хватит. Напишу так: немецкую овчарку, маленькую, мальчика.
Я отпустил нитку до конца, снял ее с катушки и намотал на руку, оставив кусок длиною с метр. Рука вскоре посинела. Красноножка сделала в центре писем дырочки, пропустила через них нитку, быстро намотала ее себе на руки, а я освободил свою, и письма заскользили по нитке вверх. Красноножка возбужденно закричала:
— Смотри, вон они, вон они!
В мгновение ока письма исчезли из глаз. Я опять закрепил нитку на катушке и пошел по поляне, стараясь не дать змею завалиться. Но он спокойно парил в небе. Да, змей действительно был великолепный.
Красноножка взяла у меня катушку. В этот миг я услышал позади крики и оглянулся. На лужайке появились какие-то ребята с палками в руках. Они быстро приближались к нам.
— Бежим! — крикнула Красноножка. — Быстрее! Они хотят поймать нас! Это мальчишки из старших классов!
— Беги одна! Я останусь! Я задержу их! — ответил я со странным чувством, наполнившим меня радостью.
Не выпуская из рук змея, Красноножка бросилась к выходу из парка.
Мальчишки были уже недалеко.
— Ах ты дрянь, козявка паршивая, запускает змея с этой грязнухой! — вопил один из мальчишек, размахивая самодельным кнутом.
— Ну давай, давай подходи, если смелости хватит! — крикнул я в ответ.
«Если мне удастся задержать их здесь минут на пять, Красноножка спасена», — думал я.
— Подходите, все подходите! — подзадоривал я мальчишек.
— Да на что ты нам сдался, щенок! — орали парни, обступив меня. — Зачем нам такой шибздик? Нам
она нужна, наконец-то мы ее поймаем! Нечего ей тут делать! Это наше место!
— И наше тоже, — возразил я.
Парень на три головы выше, чем я, стукнул меня кулаком. Я лягнул его, а через минуту на меня навалились уже трое или четверо. Я дрался как одержимый.
— Перестаньте, пошли, ребята! — крикнул тот, что с кнутом. — Бросьте этого сопляка, не то упустим Красноножку!
Они побежали дальше, но парень с кнутом успел огреть меня по голове, да так, что у меня перед глазами все завертелось. Только несколько мгновений спустя я опомнился и смог наблюдать за происходящим.
Вдали я увидел Красноножку. Она так и не выпустила змея из рук. Змей все еще плыл в небе.
— Хватай змея! Отберите у нее змея! — орали мальчишки.
Шатаясь, я пересек лужайку и слева от ребят перепрыгнул через канаву. Если мчаться во весь дух, я успею к Красноножке первым. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они захватили змея. Я бежал что есть мочи, по дороге потерял сапог.
Вот я уже почти рядом с ней, но и мальчишки настигали ее.
— Бросай змея! Бросай! Иначе отнимут! — задыхаясь, вопил я на ходу.
— А как же письма?
— И так попадут к богу, он и змея возьмет, — соврал я. — Да бросай же, иначе отнимут!
Банда настигала нас. И вдруг Красноножка оборвала нитку и выпустила змея. Потом она схватила меня за руку, и мы бросились наутек.
Мальчишки остановились, злобно крича что-то и швыряя в нас все, что под руку попадало, но мы были уже далеко.
Задыхаясь, мы домчались до ограды парка и только тут рискнули оглянуться. Мальчишек не было видно.
С сожалением всматривались мы в небо: высоко-высоко поблескивала светлая точка. Это был наш змей. Совсем как маленькая птичка, он летел по направлению к Эйселмеер. Вот он начал терять высоту. Где-то там далеко он упадет в воду и утонет.
И тут я увидел, что Красноножка плачет.
— Все-таки хорошо, что мы успели отправить письма, — сказала она, — может, что и получится с собакой.
И она вытерла слезы.
НЕ НАВЕСТИТЬ, НЕ ПРИНЕСТИ ЦВЕТОВ[35]
Когда Мейндерт был в Гастерланде последний раз, старый Аге Веринга еще носил ремень с медной пряжкой в виде птичьей головы. Ремень он носил для красоты, черные вельветовые штаны и так бы с него не свалились.
Жил Веринга в маленьком неприметном поселке неподалеку от моря, Мейндерта и его сестру Анну привезли туда во время войны. Веринга приехал за ними на станцию на велосипеде. Анну он посадил на раму, а Мейндерта на багажник. Уставший с дороги мальчик быстро уснул, уткнувшись головой в спину Аге Веринги. Потому-то он и угодил ногой в быстро вертевшиеся спицы. От боли он чуть не свалился с велосипеда. Случилось это на полпути к дому. Аге взял мальчика на руки и стал проверять, все ли у него цело.
— Ничего не сломано, малыш, — сказал он.
Анна держала велосипед и тихонько плакала за компанию с Мейндертом.
— Сейчас поцелую ушибленное местечко, и все пройдет, — сказал Аге Веринга и в темноте ткнулся лицом в правую ножку Мейндерта.
Потом они продолжили путь. Анна и Аге тли пешком, поддерживая велосипед, на котором сидел Мейндерт. От ферм веяло чудесным запахом, цвели сады.
Сейчас Мейндерт вновь почувствовал тот запах и ощутил ту боль.
Когда они добрались в тот день до красного кирпичного домика поденщика, Мейндерт уже не плакал.
На следующее утро мальчик проснулся рано, от колющей боли в стопе. Снизу пахло яичницей с салом. У Мейндерта потекли слюнки. Встав с постели, он увидел еще две некрашеные деревянные кроватки. Прихрамывая, он принялся обследовать чердак, служивший им спальней. Смешная длинная рубашка, в которую он был одет, волочилась по полу. Он увидел, что в одной кроватке лежит Анна, а в другой — незнакомая девочка. Ее длинные черные волосы веером рассыпались по подушке. Незнакомка была похожа на принцессу Адалу из старинной сказки. К сожалению, как ни канючил Мейндерт, ему не разрешили взять эту книгу с собой.
«Ничего не брать, — сказал отец, — тебе все придется тащить самому».
«А если я не смогу там спать, тогда как?» наседал Мейндерт.
«Ты не один, с тобой твоя сестра Анна, она о тебе позаботится».
Позже, за столом, Аге Веринга познакомил детей:
— Это Руфь, ваша подружка. Надеюсь, вы поладите. И давайте договоримся: Руфь не должен видеть ни один человек. Ей ни в коем случае нельзя выходить из дому. Она… эх, да что говорить… Она самая обыкновенная девочка-еврейка, вот и все. Но немцам очень хочется отобрать ее у нас. Хорошенько это запомните. Ее родители уехали далеко-далеко. Они работают где-то в деревне. А она пока живет здесь. Вы не должны ссориться. Поняли?
Потом он осторожно положил каждому на тарелку по одному зажаренному яйцу.
У Руфи были необыкновенные черные глаза, но иногда они казались карими. Пышные темные волосы свободно падали на плечи. На вид она казалась старше Мейндерта, но моложе Анны.
Однажды, когда шел дождь и дети сидели дома, Руфь запела. Странные, мелодичные песни. Пока Руфь пела, Анна расчесывала ей волосы. Иногда она гладила Руфь по плечу и, затаив дыхание, посматривала на Мейндерта.
Несколько раз он видел, как девочки забирались в одну постель. На обеих были длинные белые ночные сорочки. Но обычно Мейндерт засыпал, едва коснувшись головой подушки, и на следующее утро уже ничего не помнил.
У дома Аге Веринги было небольшое крыльцо. По обе его стороны росли высокие голубоватые цветы. Они цвели очень долго, а затем на стебельках появлялись пушинки. Ребята пускали их по ветру.
У Веринги был большой сад и огород. Самым удивительным Мейндерту казались длинные грядки, такие ровные, словно их провели по линейке. Чего только там не росло: разных сортов капуста, фасоль, вьющаяся по умытым дождем тычинам, редиска и морковь, красная и белая смородина, клубника и ревень. Пугало в рост человека нагоняло страх лишь на ребят, а вот птицы его совсем не боялись. Это Анна и Мейндерт видели не раз.
Отец Руфи был ювелир. Руфь носила на шее серебряную цепочку его работы. Когда она двигалась, цепочка шевелилась, как змейка.
«Ласточки мои», — называл Веринга девочек. Странно было слышать такие слова от этого сурового, нелюдимого человека. Веринга хорошо готовил. Каждый день можно было видеть, как он колдует над кастрюлями. Иногда в кухню заходили какие-то люди поговорить с ним. Тогда дети должны были сидеть на чердаке. С Анной и Мейндертом незнакомцы здоровались, а вот Руфь ни один из них не видел.
Ложась спать, дети часто слышали внизу голоса. Мейндерт пристраивался на полу, чтобы подслушать, о чем там говорят. Голоса, правда, звучали громче, но слов все равно было не разобрать. Как-то днем, когда Мейндерт зашел на кухню в неурочное время, дворца коричневого шкафа, что стоял между печью и большим окном, оказалась приоткрытой.
Мейндерт заглянул в шкаф: на верхней полке лежала большая стопка бумаги, а на следующей за планку были заткнуты дулами в одну сторону блестящие от смазки пистолеты. Ему показалось, что это большой зверь уставился на него двадцатью глазами. Мейндерт рывком захлопнул дверцу.
Спросить у Аге он не решился. По воскресеньям Аге Веринга, бывало, выходил со старым ружьем на плече, но с пистолетом его никто и никогда не видел.
В тот день, позже, мальчик попытался еще раз заглянуть в шкаф, но он, как всегда, был заперт. Девочкам Мейндерт ничего не сказал, они бы ему не поверили. И он с восторгом хранил эту важную тайну.
Когда Анна и Мейндерт ходили к морю собирать топливо, они подолгу смотрели в туманную даль.
— Там Амстердам, — говорила Анна, показывая рукой куда-то в море.
А на море виднелись бурые паруса рыбачьих лодок. От досок, выброшенных волнами, приятно пахло. Иногда смолой, а иногда чем-то незнакомым, пряным.
— Слышишь, как говорит море? На много голосов говорит оно с людьми, — сказала как-то Анна.
Чтоб лучше слышать, Мейндерт наклонился к воде, но до него донесся лишь мягкий шелест волн. И тогда он солгал Анне:
— Да, да, голоса, я тоже слышу их.
А Анна стояла, широко расставив ноги, и внимательно слушала.
Однажды во время очередной вылазки к морю Анна сказала Мейндерту:
— Знаешь, Руфь такая милая, я очень люблю ее.
— Я тоже, — ответил Мейндерт, швыряя в воду дощечку.
— Ты еще маленький. Ты не знаешь, что такое любить. Я очень боюсь, что они не нынче-завтра найдут Руфь и отберут ее у нас. Ей придется уйти с ними.
— Скажи, а что это такое, когда любишь кого-нибудь? — спросил Мейндерт.
— У тебя словно внутри все изменяется. Или другой становится частью тебя самого, а ты — частью его. Но ты еще слишком мал. Поймешь позже. Все придет само собой.
На узкой полоске берега стояли чайки. Стояли неподвижно, задумчиво и пристально глядели вдаль. Улетая, они оставляли на песке странные следы — языческие символы жизни.
Воскресные утра были как праздники. В эти дни Веринга угощал детей угрями, которых коптил в уголке сада. Он говорил им:
— Сегодня мы полакомимся. Кто хочет получить у Аге вкусненького?
Девочки делали букетики из цветов и раскладывали их на столе возле тарелок. В такие дни за столом сидели дольше обычного. После обеда Аге, откинувшись на стуле, играл им на губной гармошке старинные песни.
Иногда Руфь плакала. Тогда Анна обнимала ее и прижимала к себе. Лежа за высоким забором, скрывавшим их от внешнего мира, девочки ласково утешали друг друга.
Однажды среди ночи в дом постучали. Послышались возбужденные голоса.
Аге вбежал на чердак и хрипло выкрикнул:
— Быстрей вставайте, одевайтесь! Соберите все в дорогу! Проклятые собаки, они выдали меня!
Мейндерт хотел расплакаться, чтобы оттянуть отъезд, но девочки поспешно бросились собирать свои вещи.
— Что случилось, дядя Аге? — спросила Руфь.
— После, девочка, после расскажу. Бежим скорее.
Чертовы мофы
[36] вот-вот будут здесь. Нельзя мне попадаться им в лапы. А тебе тем более.
Он взглянул на Руфь. Она побледнела, ее била дрожь, несмотря на то что на ней был надет толстый красный свитер Аге.
Подкатил старый мотоцикл с коляской. Какой-то человек в кожаном пальто снял накидку с коляски. Мейндерт замешкался, обернувшись к дому, а незнакомец крикнул:
— Быстро все в коляску, а ты, Аге, на багажник!
Через полчаса мотоцикл затормозил у какой-то большой фермы. Их встретила женщина в длинной шали. Руфи велели сойти. Она останется здесь.
— Я скоро вернусь, опять буду играть с вами, — крикнула Руфь, когда они отъезжали. Анну она поцеловала в губы.
— Мы едем в Леммер, ребята, вперед, не хныкать! — прикрикнул Аге.
Анна плакала до самого Леммера.
— Может быть, мы скоро получим от Руфи открытку, — утешал ее Мейндерт.
Анна покачала головой.
— Нет, мы ее потеряли, мы ее потеряли, — повторила она несколько раз.
Ни открытки, ни какой-либо другой весточки они от Руфи так и не получили. Потом пришло время расстаться и Анне с Мейндертом. Анну увезли в одну семью в Вирингенмеер, а Мейндерт вернулся в Амстердам. Миновали мрачные голодные годы войны. Единственным приключением, о котором Мейндерт мог рассказать соседским ребятам, было то, как он видел пистолеты в коричневом шкафу Аге Веринги. Другие мальчишки рассказывали, как они воровали уголь, что лежал у дамб, а их преследовали немецкие собаки-ищейки. Шрамы на ребячьих ногах подтверждали правдивость этих рассказов.
Анна вернулась домой через год после войны. Но это уже была не его сестренка, а красивая чужая молодая дама.
Мейндерт не решился спросить ее о Руфи.
Время, проведенное в Гастерланде, он вспоминал как сон. А вскоре Анна навсегда исчезла из его мира.
Много лет спустя, уже почти взрослый, Мейндерт побывал у Аге. Вот тут-то он и спросил об оружии, что лежало когда-то в коричневом шкафчике.
Старик был немногословен.
— Ах, мальчик, дело обычное. Мы дрались с мофами. Время от времени добывали что-нибудь и помогали людям. Ничего особенного. Действовали мы небольшими группами. Ну и на всякий случай у нас было оружие. Ведь никогда не знаешь, на что нарвешься.
— Ты, видно, не был женат, Аге, — сказал Мейндерт.
— С чего ты взял? Просто жена ушла от меня задолго до войны. Не выдержала с таким бирюком, как я. И я иногда наведывался в Леуварден… к девицам… ну знаешь… Ладно, хватит об этом… Недавно я был у твоей сестры в больнице, — продолжал он. — Она меня не узнала. Вернулся я оттуда совсем разбитый. Она сидела и смотрела на меня отсутствующим взглядом. Очень мне хотелось взять ее на недельку сюда. Здесь она бы мигом поправилась. Но дирекция больницы не разрешила. Медсестра сказала, что единственное, чем занимается твоя сестра, — это рисует. Так рисовать можно и тут. А готовить я пока не разучился.
Мейндерт посмотрел на запущенный сад. Длинные перекладины на заборе с южной стороны Аге сломал. От чувства безопасности, которое сад дарил детям во время войны, не осталось и следа. Впрочем, за годы войны ничего не осталось и от сада. Плодовые деревья и кусты смородины вырубили. Все было заброшено.
— Ох уж эта собака, — проворчал Аге, с трудом поднимаясь со стула, — бегает то в дом, то из дому.
«Он здорово состарился, — подумал Мейндерт. — На лице появились лиловые прожилки».
Шаркая ногами, Аге подошел к двери.
— Посмотри, — сказал он собаке, — кто к нам пришел.
Но пес и ухом не повел.
— Как ее зовут? — спросил Мейндерт.
— Как зовут? Не знаю. Собака хорошая, зачем ей имя?
— Я скоро опять приеду, — пообещал на прощание Мейндерт.
Старик долго махал ему вслед рукой. Рядом с ним, виляя хвостом, стояла собака.
Лет пять спустя после того визита Мейндерт прочел в газете сообщение, перевернувшее ему душу.
ПЕНСИОНЕР НАЙДЕН ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ — извещал броский заголовок. А ниже более мелким шрифтом: «Рядом с ним лежала погибающая от голода собака». А дальше было напечатано следующее:
«В субботу полиция обнаружила останки 82-летнего А. В. в его доме. Он пролежал там мертвый не менее двух недель. Кроме покойного, в доме была найдена собака. Все эти дни животное без пищи пробыло со своим хозяином.
Когда был найден господин А. В., собака неподвижно лежала рядом с ним. Старик редко общался с соседями. Погибающую собаку отвезли в приют для животных».
Заглянув в железнодорожный справочник, Мейндерт понял, что в этот день до дома Веринги ему не добраться, придется заночевать в соседнем городке, а уже оттуда ехать утром на автобусе.
Всю дорогу в Фрисландию его мучили угрызения совести. Ну и мерзавец же он, посылал раз в год по открытке к Новому году, и все.
В 11.05 он прибыл в X. На станции раздобыл местную газету за тот, роковой день.
Сидя на узкой гостиничной койке, он читал: «Скотовод Лёйнгма, обнаруживший мертвого А. В., рассказывает: „Я заглянул в окно. Стул валялся в стороне, видно, старик упал на кровать. Он был в очках. Рядом с ним я увидел собаку. Я давно не встречал Аге — мы с ним не больно дружили: очень уж он был нелюдимый, — но подумал, что надо пойти взглянуть, не случилось ли с ним чего. Мы с сыном перелезли через забор за домом. Когда я посветил в комнату автомобильным фонарем, я сразу понял, что он умер. Собака на меня залаяла. Потом я позвонил в полицию“».
Автобус в сторону дома Аге шел только на следующее утро в девять сорок. Шофер не торопился.
Все в деревушке было как много лет назад. Сначала Мейндерт зашел к Лёйнгме. Тот поздоровался с ним так, словно они виделись вчера. Потом Лёйнгма рассказал, как все было.
— Когда похороны? — спросил Мейндерт.
— Чьи? — удивился Лёйнгма.
— Как чьи? Вашего соседа, Веринги.
— А его не будут хоронить. Его уже увезли, — ответил Лёйнгма. — Они им попользуются, распотрошат всего. Аге говорил мне как-то насчет этого. Он подписал бумагу, где говорится, что после смерти он разрешает взять свое тело для добрых целей.
Мейндерт неподвижно сидел, слушал Лёйнгму, потом вдруг вскочил.
— Я хочу взять его собаку. Вы знаете, где она?
— Собака-то… Она лежала с ним рядом. Очень он ее любил. Всегда гулял с ней, пока мог. Но в последнее время он был совсем плох. Целыми днями не выходил из дому. А собака все равно была очень веселая. Я-то сам собак не люблю, все они погань. Собаку Аге отвезли в приют для животных. Только вам надо поторопиться, собака-то была очень плоха. Даже ходить не могла.
Приют для животных разместился на тихой улочке, где дома стояли только по одну сторону. На длинном некрашеном заборе вывеска: «Приют для собак и кошек». Там же обрывки старых объявлений. Здание двухэтажное с зарешеченными окнами.
Мейндерт поднялся на крыльцо и решительно позвонил.
Звонок разорвал тишину, и собаки подняли лай. Однако дверь не отпирали. Он позвонил еще раз. Наконец дверь открылась, перед ним появилась женщина и с любопытством уставилась на него. Нестерпимая вонь ударила Мейндерту в нос.
— Ну тише, тише. Я ведь не сижу у двери, — съехидничала женщина. — Что вам угодно? Продаете что-нибудь?
— Я пришел за собакой, — перебил ее Мейндерт.
— Их у нас сорок пять. Какую господин желает? — спросила женщина, все еще недоверчиво глядя на Мейндерта.
— Вам привезли вчера собаку Аге Веринги, того, что недавно умер. Она очень истощена.
— Не знаю, спрошу у мужа. Бауве, Бауве! — крикнула она, отвернувшись назад. — Бауве, к нам привозили собаку, подыхающую от голода?
В дверях появился ее супруг в огромном переднике. Мейндерту он показался похожим на президента Никсона.
— Да-да, привезли вчера. Она издыхала. Ее велели усыпить. Сегодня ее усыпили.
Собаки не умолкая лаяли.
— Может, господин возьмет другую собаку? У нас есть великолепные экземпляры, совершенно здоровые и добрые, — сказал Бауве, жестом приглашая Мейндерта войти в дом.
— Кто, черт подери, вам сказал, что эту собаку надо усыпить? — гневно крикнул Мейндерт.
Мужчина и женщина недоуменно уставились на него.
— Как кто? Доктор, конечно. Без него мы ничего не делаем. Той собаки уже нет, она же подыхала с голоду, а у нас много других. Входите, — дружелюбно приглашал Бауве.
— На кой черт мне сдались ваши паршивые собаки? Что я с ними буду делать? — крикнул Мейндерт.
По улице он шел словно слепой.
ГОЛУБОК В РУКАХ[37]
Когда входишь в ателье Вевера, тотчас бросаются в глаза три больших медных французских колокола, требующих починки. Мальчик чистил их каждую неделю, до блеска надраивая медь.
Совсем неожиданно Вевер получил заказ. Мальчик поднялся наверх и увидел там Вевера со сливочным пряником в руках. Он плясал как сумасшедший и кричал:
— Я получил работу! Давай навались! Ешь сколько влезет.
Он выхватил из большой коробки пару пряников и сунул их в руки мальчику. А сам отхлебнул глоток коньяку из наполовину опорожненной бутылки. Мальчик ел с жадностью, спешил — вдруг Вевер одумается и отберет пряники.
В ателье Вевера мальчик приходил каждый день после школы. Здесь он помогал по мелочи: разогревал клей, смешивал краски, подметал пол, нарезал бумагу. А между делом молча наблюдал за Вевером, который ни минуты не сидел сложа руки.
Ателье все больше и больше заполнялось готовыми работами. Сбывать их Веверу удавалось редко. Мальчик даже предложил как-то пойти торговать с тележки на улице. Хотел бросить школу и заняться продажей картин и поделок Вевера.
Людям они наверняка понравятся, особенно птица из мягкого бархатистого красного материала. Она могла двигаться и щебетать.
У Вевера все звучало и двигалось. Он долго и страшно бранился, если что-то не удавалось, например, если не двигались радары в его механических игрушках. В таких случаях он с силой швырял свое изделие в балку, и оно разлеталось на куски. В последний раз это была шкатулка с птичками. Музыка уже играла, а птички никак не хотели открывать и закрывать клювики. У Вевера даже лицо побагровело. Он разразился бранью и бросил шкатулку в стенку.
Мальчик подобрал обломки, хотел посмотреть, нельзя ли спасти хоть что-нибудь. Но он не умел делать того, что умел Вевер. Ведь он был всего-навсего маленьким уборщиком. Только и умел, что убирать в ателье.
— Давай, давай, ешь… надо съесть все пряники! Хочешь, возьми домой! Сегодня здесь были парни из большого универмага. Представляешь, они хотят, чтобы я сделал для них цветомузыку. Даже деньги вперед выдали!
Вевер схватил кошелек и показал мальчику несколько сотенных бумажек.
По субботам и воскресеньям Вевер никогда не сидел дома, удержать его могла только плохая погода.
В хорошую погоду он уезжал за город. У него был голубой гоночный велосипед. Почти каждую неделю у Вевера появлялась новая подружка, он сажал ее на раму и уезжал из города.
У некоторых подружек были свои велосипеды. Вевер с подружкой пропадал где-то целый день и лишь к ужину возвращался в ателье.
Если на уикенд Вевер оставался дома, то эти дамочки шатались по студии. Им не нравилось, что мальчик тоже торчит здесь, и они гнали его прочь.
У последней подружки Вевера были необычайно длинные ногти, из-за чего ее пальцы напоминали когти хищной птицы. Эта выставила мальчика за дверь в первый же день, как только там появилась.
— Пойди-ка поиграй на улице… нечего тут подглядывать…
Мальчик раздумывал, а не проколоть ли шины у ее велосипеда. Он желал ей попасть в серьезную аварию. Так, чтобы она несколько месяцев пролежала в больнице. Пусть бы не умерла, а осталась хромой. Тогда Вевер не захочет брать ее к себе.
Подружки Вевера вносили единственный диссонанс в жизнь мальчика. В ателье каждый день происходило что-нибудь интересное. Например, мальчику разрешалось выпускать голубей. У Вевера было одиннадцать почтовых голубей.
Вевер сделал и игрушечного голубя, который умел все. Даже летал, но не далеко. Пролетит несколько метров — и падает на землю. Потрепыхается секунду-другую и замрет.
Каждый день мальчик открывал дверцу клетки. Птицы, тесня друг друга, вылетали на волю и кружили над домом.
А мальчик наблюдал за ними, стоя рядом с Вевером. Он даже чувствовал, как от Вевера пахнет табаком и потом. Этот запах очень ему нравился.
Оба любили голубей. Когда голуби возвращались домой на призывный свист, мальчик и Вевер по очереди брали в руки самого молодого голубка.
— Какая же она мягкая… грудка у молодого голубя, — задумчиво говорил Вевер. — Потрогай, потрогай, малыш… Чувствуешь?.. Нет ничего
нежнее грудки молодого голубя.
Вевер пробовал подзывать птиц звуками флейты, но голуби отзывались только на самый простой свист.
Больше всего мальчику нравилось, когда голуби словно замирали в воздухе перед тем, как вернуться к людям на землю.
Вевер однажды сказал, что если человек очень сильно полюбит голубей, то со временем он и сам станет похож на них. А при большом терпении сможет даже научиться летать. Он будет говорить на их языке и понимать, о чем они воркуют.
Мальчик и Вевер мечтали о том, как они поднимутся над крышами Амстердама, полетят далеко за море и попадут прямо в страну Тирелир.
Вевер рассказывал об этой стране много интересного, и мальчик считал, что она действительно существует. Там сбываются все мечты людей. А жители этой страны никогда не умирают.
Мальчик охотно поверил в эту страну. Со временем ему стало казаться, что она не так уж и далеко, не дальше, чем, например, Роттердам. Но в эту страну не попасть ни на машине, ни на корабле, ни на самолете. Только птичьи крылья могут доставить туда.
Порой, когда мальчик слишком уж приставал с расспросами, Вевер прикладывался к стаканчику. Тогда он замолкал и только тяжело вздыхал. В такие минуты он брал из клетки голубя, садился с ним в кресло и задумчиво поглаживал птицу.
Мать спрашивала мальчика, что ему надо у этого человека. Почему он не может приходить домой из школы вовремя. А еще она интересовалась, чем этот человек зарабатывает себе на жизнь.
Мальчик рассказывал ей обо всех чудесных вещах, которые делает Вевер, о его ателье, о трех французских колоколах, которые требуют починки.
— А он не пристает к тебе? — сердито спросила она.
Мальчик не понял, что она имела в виду.
— Он пристает к тебе? Лапает тебя? Делает глупости?
Мальчик недоуменно пожал плечами и решил спросить у Вевера, что такое глупости. Ведь прозвучало это слово как нечто ужасно гадкое.
Вевер очень смеялся, когда мальчик рассказал ему о том, что говорила его мать. Вевер дал ему одну из своих механических игрушек — шкатулку, которая играла две красивые песенки. Вещица матери мальчика очень понравилась, и она поставила ее на камин.
С тех пор она больше ни о чем не спрашивала, лишь требовала, чтобы мальчик не опаздывал к ужину и не слишком пачкался.
Однажды в субботу Вевер разрешил мальчику покататься на своем велосипеде.
Пришла подружка Вевера с длинными ногтями, и мальчику не разрешили зайти в ателье. Вевер сам вынес велосипед на улицу и показал, как отпирать и запирать замок.
— Сейчас повсюду воры, — сказал он.
Мальчик гордо восседал на велосипеде, с трудом дотягиваясь ногами до педалей. Объехав три раза вокруг квартала, он решил отправиться подальше. Ему хотелось, чтобы все смотрели на него. Велосипед блестел, как серебряный — так мальчик его надраил. Он то и дело подолгу звонил. А когда нагибался вперед, то видел свое отражение в начищенной фаре.
«Наверное, так чувствуют себя короли и знатные особы, когда едут в карете», — думал мальчик. Махать рукой он считал излишним и не делал этого.
Накатавшись, он сел на скамейку в скверике, поставив велосипед рядом. Он надеялся, что кто-нибудь подойдет и спросит, не его ли это велосипед, а он важно кивнет. Вевер, конечно, не обидится на эту маленькую ложь. Тот, кто дает свой велосипед покататься, не обратит внимания на такую мелочь.
К скамейке, где сидел мальчик, подошли двое мужчин. Мальчик хотел взяться за руль, но один из подошедших оттолкнул его и сел на велосипед.
Мальчик закричал, но мужчина невозмутимо поехал дальше.
Тогда мальчик крикнул другому мужчине, который стоял рядом с ним:
— Это мой велосипед! Пойдемте в полицию!
Мужчина расхохотался. Мальчик бросился через дорогу наперерез грабителю, но тот успел уже уехать далеко. Он вовсю крутил педали, пригнувшись к рулю, как заправский гонщик.
Мальчик почувствовал, что у него пересохло в горле. Он хотел крикнуть, но не смог издать ни звука.
Мужчина на велосипеде свернул за угол, а мальчик все бежал за ним, но вскоре потерял его из виду.
Он сел на чье-то крылечко и разрыдался.
Был поздний вечер, и время ужина давно прошло, когда мальчик доплелся до ателье Вевера. Изнутри доносились странные воркующие звуки, словно кому-то было очень весело.
Он послушал, потом постучал. Но Вевер не вышел. Тогда он собрался с духом и забарабанил кулаком.
В дверях показался Вевер. Он был почти голый. Стоял и почесывал грудь. Мальчик, запинаясь, пролепетал:
— Велосипед украли.
Когда Вевер оделся, они вместе пошли сначала в скверик, а оттуда в полицию. Там сидел бригадир и сам с собой играл в карты. Он расспросил их и все записал. Мальчику пришлось назвать свое имя и адрес. Он испугался, что попадет в тюрьму.
На обратном пути мальчик не проронил ни слова. Вевер вел его за руку и время от времени ободряюще пожимал ее. Он не сердился, этот Вевер, только потихоньку чертыхался.
— Попадись мне этот ворюга, я ему все ноги переломаю, — бормотал он. — А ты поглядывай на улице. Заметишь его, сразу же кричи: «Держите вора! Держите вора!» Если к следующей неделе велосипед не найдут, придется купить новый… может быть, подержанный…
Все воскресенье мальчик искал велосипед на улицах неподалеку от сквера. Он заглядывал во все ворота, и ему здорово досталось от больших ребят, которым не понравилось, что он суется не в свой двор. После того как его изрядно отколошматили и ему пришлось просить пощады, он ушел из того района.
Попробовал поискать и на других улицах, но велосипед Вевера как сквозь землю провалился.
Безрезультатно проискав все воскресенье, мальчик в понедельник не пошел в школу. Он надеялся, что вор поедет на работу на велосипеде и оставит его где-нибудь на улице. Он обегал все велосипедные стоянки, но отовсюду его прогоняли.
Веверу удалось заполучить подержанный дамский велосипед. К нему Вевер купил огромный амбарный замок. Единственным неудобством художник считал то, что теперь он не мог посадить на раму подружку. Но мальчик был просто счастлив. Ведь, когда он смотрел вслед Веверу, уезжающему со своей подружкой, у него появлялось странное чувство растерянности.
Мальчик надеялся, что когда-нибудь Веверу надоедят все эти подружки, распоряжающиеся в его ателье даже голубями. Птиц при них не выпускали.
— Эту гадость в клетку, — говорила девица с длинными ногтями, — смотреть тошно.
Мальчик придумал кое-что новое. В воскресной школе он слыхал, что в молитвах можно обратиться к богу с просьбой. И он много раз просил бога прогнать от Вевера всех женщин. Или на худой конец сделать так, чтобы они не гнали его из ателье. Но бог, видно, не услышал, так как женщины приходили по-прежнему.
Так продолжалось до того самого воскресенья, когда он застал Вевера одного. С большим трудом, шатаясь, передвигался тот по ателье.
А в понедельник мальчик нашел небритого и пьяного Вевера в постели.
Отныне мальчик один выпускал голубей и мечтал о стране Тирелир. Она казалась ему теперь очень далекой. Когда он говорил об этом с Вевером, все было настоящим и близким. А сейчас Вевер лежал в постели и молчал.
Вевер провалялся целую неделю. А в субботу дамочка с длинными ногтями опять не пришла.
Но теперь это не радовало мальчика, ведь Вевер страдал. Он бродил по ателье, бормоча ругательства.
— Я эмигрирую, — сказал Вевер несколько дней спустя.
Мальчик не понял, что это такое «эмигрировать», но само слово ему не понравилось.
Он попросил Вевера объяснить, что это значит. И тот сообщил, что уезжает в Австралию, рассказал о кенгуру, о деньгах, которые там можно заработать, и добавил, что, возможно, вернется лет через пять богатым человеком. А пока он будет в отъезде, мальчик может ухаживать за голубями.
Мальчик попросил и его взять в Австралию. Он хотел всегда быть рядом с Вевером, но Вевер не ответил.
По дороге домой мальчик горько плакал, на этот раз беззвучно.
Мать с криком набросилась на него, ругала за то, что он пришел так поздно, и в наказание отправила спать без ужина.
В тот вечер он просил у бога: «Ну пожалуйста, сделай так, чтобы Вевер не эмигрировал». Но бог и на этот раз не услышал.
Вевер распродал все свои вещи. Отец не разрешил мальчику держать голубей, поэтому Вевер отнес их на Вестерский рынок. Теперь он часто прикладывался к маленькой плоской бутылочке, которую носил в заднем кармане брюк.
— Что же будет теперь со страной Тирелир? — спросил мальчик.
Вевер не ответил. Только повторил, что ему необходимо эмигрировать. Другого выхода нет. Он показал мальчику свой паспорт и еще какую-то бумагу с множеством печатей.
На прощание он сказал:
— Хорошенько смотри, может, и увидишь где голубой велосипед… Найдешь — он твой…
Потом мальчик пошел домой и с душераздирающим плачем бросился к матери. Но она дергала его за ухо всякий раз, как он всхлипывал.
Через полгода мальчик получил из Сиднея открытку с видом какой-то площади. На обороте Вевер нарисовал улетающего вдаль голубя.
Рудолф Геел
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ[38]
Перевод И. Волевич
Сестра позвонила мне вчера и сказала, что не поедет на открытие памятника нашему покойному брату Паултье.
То, что Генриетта вдруг раздумала нас сопровождать, ничуть меня не удивило. И все же я заехал за ней, рассчитывая, что она опять передумает. Когда я позвонил в дверь и увидел ее, я сразу понял, что отказалась она просто потому, что не хотела выслушивать колкости по поводу своего экстравагантного туалета. Ну а раз она по доброте сердечной смилостивилась над нами, критиковать ее наряд было, конечно, никак нельзя. На ней была огромная фетровая шляпа, украшенная пунцовыми цветами, и весьма вычурный брючный костюм из какой-то блестящей светло-зеленой материи. Под расстегнутым жакетиком виднелась облезлая лиловая майка, которая от стирки села и задиралась кверху, обнажая живот, Такой ансамбль, разумеется, не подходил для торжественного открытия скульптурного бюста нашего братишки — ведь там соберутся сливки общества и, разумеется, будут судачить о нас.
— Надо же мне что-то надеть, — вместо приветствия сказала сестрица.
— И ты не нашла ничего более подходящего?
Она кивнула, а я сказал, что сам-то я не против, но родители ужаснутся, когда нас увидят, и отец наверняка устроит сцену. Генриетта звонко чмокнула меня в щеку и сказала, что, уж во всяком случае, мне и ей эта встреча доставит удовольствие. Она показалась мне какой-то взвинченной, однако в машине успокоилась и всю дорогу молчала.
Я заехал за родителями, и после краткого, но бурного спора по поводу Генриеттиного наряда мы направились в город X., где ровно двадцать три года назад родился наш Паултье. Двадцать три года! Пятью годами раньше, незадолго до его гибели, я тоже ездил в X., где участвовал в телевизионной программе, в которой он выступал. Мой младший брат был тогда в зените славы и преспокойно мог позволить себе сказать, что ему наплевать, даже если нашу страну поглотит морская пучина, — все только рассмеялись. Лена Т., ведущая программы, нежно погладила Паултье по голове, зажужжала камера, и телезрители увидели крупным планом заострившееся от разгульной жизни лицо юной знаменитости. Нидерланды не утонули, а вот остряк отправился на тот свет. Сотни людей собрались на кладбище, но Паултье было уже все равно. Позже сестра сказала мне, что именно эта мысль терзала ее, когда она стояла у края могилы.
До X. было недалеко. Раньше мы там жили. Паултье и Генриетта родились в этом городе. Год назад городской отдел культуры сэкономил немного денег, и муниципальный советник предложил употребить эту сумму не на поддержку молодых дарований, а на то, чтобы увековечить память всемирно известного земляка, который почти мальчиком погиб километрах в сорока от X. Нельзя сказать, чтобы отцы города были в восторге от картин Паултье, но им приходилось учитывать интересы туристов, специально приезжавших в X., где родился и вырос наш братишка.
Я поглядывал в зеркальце на тех, кто сидел сзади. Мама и папа погрузились в воспоминания. Их как-то внезапно и грубо вернули в прошлое, а вечером им предстояло пережить все заново у телевизора, ведь наши старики не пропускали ни одной передачи. А как отнесется к этому моя сестра? У нас сохранились фотографии Паултье — за руку с мамой он прогуливается по лужайке. Статные деревья, ухоженные садики, затененные листвой коттеджи — на все это устремлен пытливый взор мальчика; с ним рядом сестренка, ровно на одиннадцать месяцев моложе его, везет в колясочке свою куклу. Пройдет совсем немного времени, у него откроют талант, и он вмиг станет знаменитостью.
Вот уже пять лет, как Паултье нет в живых. Смерть еще больше сгустила таинственный мрак, окутывавший его личность, — так, во всяком случае, писалось в некрологах. Ну а я всегда считал Паултье прежде всего баловнем судьбы. Ценители искусства, однако, наперебой именовали его гениальным, хотя и непонятным художником. По-моему, он просто попал в струю, а его чертовская талантливость только помогла ему преуспеть. Зачастую сознание собственной исключительности губит талант. В иных случаях эта исключительность вызывает слепое поклонение, и никому не дано знать, попадет ли он в число избранников, как бы он ни старался приблизить этот час. Все, что создавал Паултье, было
сенсацией. Впрочем, он и сам по себе был бы сенсацией, даже если б ничего не создавал. Сегодня утром, когда я одевался и размышлял об этом, я вдруг мысленно увидел его и сестру. Было это в ноябре, в николин день, дул пронизывающий, холодный ветер. Они держались за руки и стояли впереди других ребятишек, ожидавших раздачи гостинцев. Один из Черных Питов
[39], судя по всему, был растроган видом этой парочки. Паултье и Генриетте он дал по пригоршне лакомств, тогда как другие дети так и остались с пустыми руками. Этот Черный Пит был первым среди тех, кто от всего сердца осыпал брата и сестру своими щедротами. И Паултье повторил его порыв: бросил через голову в толпу детей полученные гостинцы. Как четко обозначилось в эту минуту его будущее; позднее журналисты цепенели от изумления, когда стоявшая рядом с Паултье Генриетта направо и налево раздавала лакомства. В ту пору они, неразлучные, носились по всему свету. Продолжалось это очень недолго. Того, кто готов был с радостью встретить Паултье в чужих краях, пленяло его умение быть более чем удивительным гостем. Вот молодой художник в зале ожидания аэропорта. Неужели эта поразительно красивая девушка — его сестра? Очаровательная принцесса и ее шут. Иной раз встречавших смущало его паясничанье. Но чаще всего они были в восторге, что мой братишка среди них.
— Как поживаешь, сынок? — спросил сидевший сзади отец. — Мы теперь редко вас видим.
— И в доме стало так тихо, — добавила мама.
Я ответил, что все в порядке, лучше и быть не может, я вполне удовлетворен и своей университетской карьерой, и домом, который прекрасно обставил на свою долю наследства Паултье.
— За него не беспокойся, папа, — сказала Генриетта. — С сыновьями вам повезло.
Отец одобрительно хмыкнул. Он был рад, что не надо вести утомительных разговоров. В своей жизни он немало потрудился, работая старшим инспектором Государственного податного управления. Теперь, на пенсии, он трудился в своем садике. О картинах Паултье отец всегда был невысокого мнения. Иное дело мама. Стоило ей увидеть в газетах заметку о творчестве Паултье, она тотчас с легкой дрожью в голосе читала ее папе вслух. Отец мой был классическим образцом отца, который желал добра своим чадам. Правда, он смотрел на жизнь со своей колокольни и ценил только ту работу, какой сам хотел служить на благо отечеству.
Я опять посмотрел в зеркальце. Папа провожал взглядом проносившиеся мимо луга. Была весна. Молоденькие телята стояли, резвились или лежали возле своих матерей. Тихая, безмятежная страна. А наш Паултье жил в ней как бесноватый. Но теперь он застыл в куске мрамора, превратился в безжизненный обломок культуры. Городские власти выложили денежки неохотно. Расщедрились всего на две с половиной тысячи гульденов. С такими деньгами не разгуляешься. Поэтому они искали скульптора подешевле. И нашли: Ферри Даниэлс согласился высечь бюст за тысячу восемьсот пятьдесят гульденов — сумма грошовая, зато реклама для автора, о нем заговорят, поместят в газетах фотографию его скульптуры, родители вундеркиндов навострят уши при одном упоминании его имени. Если повести дело с умом, то через несколько лет он умножит 1850 на 1850, так что овчинка стоит выделки.
Словом, парень знал, что делал.
Уже одна мысль о том, что кто-то другой добьется успеха да еще наживет капитал за счет покойника, сразу настроило мою сестру против Даниэлса. Впрочем, она бы отвергла и самого Цадкина
[40], пожелай он изваять бюст ее брата, отвергла бы потому, что не могла согласиться с тем, чтобы кто-нибудь воссоздал образ Паултье и выставил его напоказ. Она возмутилась, прибежала ко мне и потребовала, чтобы я нажал на все кнопки и заставил муниципалитет X. расторгнуть договор с Даниэлсом. Как будто я мог на них влиять! И на каком основании? Скульптуры Ферри Даниэлса недавно выставлялись в курзале «Пласхоф» в городке Л., и местная пресса весьма благосклонно отнеслась к инициативе дирекции этого заведения. Что же касается властей X., то здесь все ясно: любой город негласно стремится привлечь как можно больше туристов, а мраморный бюст знаменитого художника будет служить выгодной приманкой. Кто именно будет автором памятника — дело десятое. Хорошо, конечно, пригласить знаменитость вроде Цадкина. Но у муниципалитета не было денег, чтобы заплатить такому скульптору, и отцы города действовали по принципу: чем дешевле, тем лучше.
У Генриетты между тем один приступ ярости сменялся другим.
Получив заказ, Ферри Даниэлс позвонил мне и попросил разрешения зайти. Говорил он трогательно серьезным тоном и заверил меня, что, дескать, наша беседа окажет решающее влияние на создание скульптурного портрета. Условились мы на следующий же день. Было это пять месяцев назад. Скульптор был польщен, когда я сказал ему, что возлагаю на нашу встречу большие надежды. Он взвалил на себя тяжелый крест, а я, честно говоря, в эти месяцы заработал вшестеро больше его, к тому же ко мне не наведывалась по три раза в неделю, скажем, сестра автора учебника, которым я пользуюсь, и не требовала от имени студентов, чтобы я отмечал для них необходимые страницы.
Сейчас я оставлю машину на площади, и мы войдем в здание муниципалитета. Автор будет стоять возле своего творения, еще закутанного в покрывало, в надежде, что кто-нибудь из репортеров (а лучше все сразу) спросит, почему он изобразил покойного художника так, а не иначе. Репортеры, однако же, предпочтут щелкать аппаратами вокруг Генриетты, вопросы задавать мне, а все находящиеся в зале мужчины будут мысленно прикидывать, как бы завести интрижку с моей сестрой. Такое уж у людей воображение. И потом, газеты, скорей всего, обязательно поместят скучнейшие, глупые речуги бургомистра и председателя местного общества культуры, а журналисты еще и безбожно переврут их слова. Но Даниэлсу важно сделать себе имя, пусть даже читатели, увидев в газете фотографию памятника, просто вскользь подумают: «Неужели Паул Теллегем был таким?..» И тотчас вернутся к будничным заботам.
Некоторое время на заднем сиденье молчали. Обычно папа в машине дремал, но на этот раз он наблюдал за тем, что проносилось мимо: коровы, стога сена, автомобили, которые неизменно нас обгоняли. С тех пор как Паултье разбился, мама боится быстрой езды.
— Как ты думаешь, Робби, бургомистр из хорошей семьи? — вдруг спросила мама из глубины своего обитого искусственной кожей кресла, слишком большого для ее хрупкой фигуры.
Я пожал плечами.
— На снимке у него такое благородное лицо, — продолжала она, доставая из сумочки носовой платок.
Я с напускной веселостью стал вполголоса напевать какую-то бравурную мелодию. Родители смотрели в окно машины, оба в одну сторону. Уже не в первый раз отправляются они вместе с нами на очередное торжество в честь Паултье. И каждый раз едут охотно, хотя все до одной поездки кончались ссорами. Помню, когда Паултье было двенадцать лет, его наградили премией Карандаша
[41]. Мне тогда исполнилось восемнадцать, и я только что получил водительские права. Едва я сел за руль, папа принялся внушать мне, что надо соблюдать правила движения, мама же без умолку поучала юного лауреата, как он должен себя вести. Людям почтенным надо подать руку и сказать несколько слов, но только в ответ на вопрос. При этом она то и дело поправляла ему галстук и приглаживала волосы, хотя его прическа была в полном порядке.
В ту поездку за первой своей значительной наградой Паултье в конце концов не выдержал и раздраженно крикнул маме: «Если ты сейчас же не уймешься, я сниму с себя штаны!» И тотчас получил звонкую затрещину от отца, который в ту пору еще гордился им — хотя в его отношении к Паултье уже начали проскальзывать скептические нотки, — но никогда не забывал проверить, сделал ли Паултье уроки. Для нас наступали трудные времена. Я учился на первом курсе и хотел снять неподалеку от университета меблированную комнату. Но у Паултье вечно околачивался народ, в том числе иностранцы, и поэтому родители настаивали, чтобы я жил дома. Отец любил поучать нас, как себя вести. Ему казалось, что без его нотаций мы не овладеем хорошими манерами. Из-за того, что Паултье водился с иностранцами, нам приходилось неустанно за ним наблюдать. Владеть ножом и вилкой мы, конечно, умели. Беда заключалась в том, что наши визитеры из презрения к правилам хорошего тона демонстративно игнорировали столовые приборы. Паултье здорово умел их подзуживать. Не отставала от него и сестра, папа не зря говорил, что по этой сорвиголове плачут и виселица и колесо. Виселиц теперь, положим, не применяют, а что касается колеса, то Генриетта так завертелась в колесе немыслимых авантюр, что оно в конце концов лопнуло, а она грохнулась на землю.
Мы рано выехали из дому. Слишком рано. Отчасти потому, что я предполагал долго уговаривать Генриетту, Когда же этого не понадобилось, я вздохнул с облегчением и на радостях дал полный газ. Теперь я свернул с основной магистрали на узкую дорогу, которая вела в Л., там можно было погреться на солнышке, посидеть на спускавшейся к самой воде террасе. В «Пласхофе», например, где выставлялся Ферри Даниэлс; по его словам, ему не удалось ничего продать, но он все же установил кой-какие деловые связи.
— Это большой крюк, — заметил папа, — так и опоздать можно.
Я ответил, что прекрасно умею сверяться с часами, не он ли сам научил меня этому?
Папа вдруг оторвался от окна и заговорил, давясь словами. Бранил нас, называл шалопаями, годными только на то, чтобы вколачивать гвозди в его гроб, чего ждать недолго. Мы пропускали его упреки мимо ушей. Давно привыкли к его жалобам. И раньше в беседах Паултье с журналистами нет-нет да и звучало отдаленное эхо родительского возмущения: внезапно вырванный из привычного уклада трудовой жизни, отец совершенно растерялся. А как же сейчас: гордился ли он тем, что у него такой сынишка, или был просто потрясен? Вначале, конечно, гордился и важничал, когда сослуживцы поздравляли его с вундеркиндом. Это получше, чем выиграть сто тысяч в лотерею или по футбольному тотализатору. Вундеркинд. Вроде как крупный, специальный приз для всей семьи. Зато позднее, когда начались вояжи Паултье то в Америку, то в Японию, то куда-нибудь еще, папа стал сомневаться, не лучше ли было бы выиграть цветной телевизор или дачку на берегу моря. Из дальних стран к нам приходили цветные снимки: пятнадцатилетний Паултье на Гавайских островах в обществе трех извивающихся полуобнаженных танцовщиц. Не лег ли он спать слишком поздно, не заболел ли? А вдруг он бегает без рубашонки, ведь совсем еще ребенок, и в таком огромном, далеком мире, где никто из нас никогда не бывал? Я неизменно сопровождал Паултье в его поездках по Европе, но тесной дружбы у нас с ним не было. Рисовал он обычно в купе поезда, в салоне самолета и советовался со мной, сколько денег можно просить за наспех состряпанный рисунок. Я упрекал его, что он не дорожит своим престижем. Но может, он предчувствовал, что скоро всему придет конец? Нередко втайне от меня он находил покупателя в свите своих поклонников. Генриетте он привозил безумно дорогие подарки, а я во время наших совместных поездок был полностью на его содержании. В отелях этот маленький чародей наотрез отказывался жить в одном номере со мной. Я точно знаю, что по вечерам к нему в комнату пробирались стареющие поклонницы живописи под предлогом, что им хочется получше разобраться в его феноменальном таланте. Когда мы возвращались домой, в аэропорту или на вокзале нас встречали родители. Генриетта предпочитала держаться поодаль, броско расфуфыренная, за что ей всякий раз влетало от мамы, которая строго за ней следила и запрещала употреблять косметику.
Генриетте исполнилось семнадцать лет, Паултье прославился на весь мир, с воспитанием стало совсем худо. Пришлось родителям отпустить дочку с сыном на целый год куда им вздумается — лететь из страны в страну самолетом или плыть на пароходе. Они побывали на развалинах государства ацтеков, позировали фотографам в Долине царей, и на каждой новой карточке моя сестра выглядела все пленительнее.
Однажды я спросил Генриетту, как складывались ее отношения с Паултье. По ее словам, он был совсем беспомощным. С этим мне трудно было согласиться; в конце концов, я ведь тоже с ним ездил и всегда поражался его неуемной энергии. Но Генриетта стояла на своем, внушая мне, что в тот последний год именно она таскала Паултье по всему миру любоваться всякими достопримечательностями, пока он, вконец измученный, не попросился домой. В этот же год он научился водить машину. Вернувшись в Нидерланды, он стал подыскивать себе гоночный автомобиль, в течение нескольких недель посещал с сестрой один за другим демонстрационные салоны, и какие-то лощеные молодые люди названивали нам домой, умоляя взять их в пробную поездку. Но раз Паултье любил машины, выходит, он не совсем утратил вкус к жизни? Генриетта отвечала, что насчет этого она не знает, а вот разрабатывать маршруты путешествий, изучать рекламные брошюры, заказывать билеты, укладывать чемоданы приходилось ей. Значит, ему уже больше не нравилось путешествовать? «Сперва нравилось», — говорила сестра, это потом она поняла, что Паултье нет дела ни до королевских усыпальниц, ни до живописных курортов. Он смотрел на окружающий мир, но видел в нем только себя. Он был наблюдательной вышкой, откуда открывается все более широкий обзор. Но подняться наверх он не отваживался. Я сказал сестре, что это очень удачный художественный образ. Правда, я никогда не слыхал, чтобы наблюдательная вышка поднималась по собственной лестнице. Но раз уж она обладает даром художественного изображения, может, ей стоит взяться за перо и описать для грядущих поколений мир Паултье, который внешне был и ее миром. Она пожала плечами и обещала подумать.
«Любил ли тебя Паултье? Я имею в виду не так, как любят сестру?» — спросил я ее недавно, когда мы с ней откровенничали, вспоминая прошлое.
Генриетта покраснела и ответила, что, пожалуй, да, но она его не поощряла: это идет вразрез с ее принципами.
В семнадцать лет Генриетта еще соблюдала приличия. Но после смерти Паултье все изменилось. Газеты о ней больше не писали, зато ее приглашали сниматься для рекламы или выступать в школах с лекциями о творчестве ее брата; она не делала ни того ни другого. Телефон стоял возле ее кровати, и она частенько звонила мне по утрам, этак в половине восьмого. «Хелло! Хочешь знать, что творится в мире?» — весело восклицала она. После чего выкладывала мне наиболее примечательные газетные сообщения. Мне не нужно было отвечать ей, я слушал вполуха, когда наконец иссякнет поток новостей и она расскажет что-нибудь о себе, например: «Я сегодня почти не спала, глаз не сомкнула» или: «А ты имел когда-нибудь дело с негритянкой?» Потом она начинала рыдать, а я заспанным голосом пытался успокоить ее, хотя и не знал, в чем дело. «Он готовит мне завтрак, — ни с того ни с сего сказала она однажды. — Он очень мил. Я такая несчастная. Не знаю, что и сказать, Робби».
«Скучаешь по Паултье?» — спросил я ее как-то в прошлом году.
«А как ты думаешь?»
«Сам не знаю».
«Пожалуй, и я не знаю».
«Пожалуй или точно? Мне кажется, тебе его не хватает. И лучше бы ты убрала его фотографии».
Она обняла меня и сказала: «Все-таки он был мой брат. Семье положено два года соблюдать траур. Вот и я назначила себе два года. Но прошло уже гораздо больше, Робби, а я все еще думаю о нем. Правда, без особой грусти. Но и радости у меня нет. Мне все чудится, что он вернется, хотя я знаю, что это невозможно, и понимаю, что сама усложняю себе жизнь. Но в том дело, что мне его так страшно не хватает, что он был не таким, как все, что я путешествовала на его деньги и сама выбирала, куда ехать, и он делал, как я хотела, хотя охотнее остался бы в гостинице и рисовал. Он постоянно говорил о том, что хотел бы поселиться в домике у моря. „В твои-то восемнадцать лет? — спрашивала я. — Уже мечтаешь о доме?“ А потом мы опять садились в самолет. Что, если бы в нашей семье все было, как в других семьях? Паултье поступил бы на службу или был бы студентом, как ты, и у меня была бы своя профессия. А что было бы с нами, если б он разбился вдребезги еще раньше, на каком-нибудь старом драндулете, как ты думаешь? Мне его так не хватает. У него было такое милое лицо. Помнишь?»
«Черты его лица мне всегда казались, как бы это сказать, немного резкими, — заметил я. — Приятные, конечно, но сразу было видно, что он считает себя выше других».
«Это, пожалуй, верно, — согласилась Генриетта. — Если бы ты только знал его, как я! У него были такие славные глаза. Но последнее время вид у него был усталый. Я должна была все это предвидеть, Робби».
Когда они вернулись из своего последнего путешествия, мама, достав из чемодана подарки, завела разговор об эпидемиях, угрожающих тем, кто скитается по белу свету. Она настаивала, чтобы Паултье и Генриетта показались врачу. Те и слушать не хотели, да еще высмеяли мать. В тот день отец пришел домой взбешенный. В вечерней газете на первой полосе были помещены фотографии Паултье и Генриетты и интервью с ними, в котором брат сказал: «Я пресыщен всем, что видел, и мечтаю только о том, чтобы, как навозный жук, заползти в дом моих родителей». Это и взбесило папу. Он сказал, чтобы Паултье и Генриетта нашли себе другое жилье. Хорошо, конечно, что они вернулись целы и невредимы, но что до навозных жуков и журналистской моли, так с него хватит. Тут такое началось! Паултье твердил, что соскучился по родительскому крову, что ему хочется обедать вовремя, сидеть за красиво сервированным столом и есть домашние котлеты с овощным пюре. Папа решил, что сынок над ним насмехается, и велел ему убираться ко всем чертям. Я пытался их помирить, взглядом умолял сестру умаслить родителей, не быть резкой, как они, и уговаривал всех не волноваться. Мама снова вспомнила об эпидемиях и захныкала, что желает им только добра. На Генриетте было роскошное индийское сари, в этом самом туалете ее показали и по телевизору. На следующее утро отец много чего наслушался от сослуживцев. Скрывая зависть, они подшучивали над ним: «Доченька ваша — девица хоть куда», но подразумевали: «Слушайте, Теллегем, эта ваша гулена, всыпьте ей как следует, пока она не пошла по рукам…»
Так жили они под родительским кровом, эти блистательные дети, рожденные в солнечный воскресный день на морском берегу под сенью раскидистых пальм.
Позднее я сказал Генриетте, какими они мне тогда представлялись, а она улыбнулась и ответила, что Паултье думал иначе, он всегда плевал на всяческие красоты, никогда к прошлому не возвращался и часто хандрил, если оставался один в номере отеля, хотя, может быть, он просто прикидывался.
Через две недели после возвращения Паултье переехал в дом на широкой неуютной улице в районе новостроек.
«Ты, конечно, заметила, что с ним творится что-то неладное, — сказал я сестре. — Тем более что он вроде никуда не собирается ехать. Говоришь, он избегает общества, стал домоседом. И картины у него странные, рисует вещи, каких никто из нас в жизни не видел. Как ты к этому относишься?»
Она ответила, что никак, что картины Паултье ее никогда не трогали. Живопись вообще ей ничего не говорит. Есть люди, которые всю жизнь предаются чувственным мечтам о том, что при самом тщательном наблюдении редко увидишь даже в спальне буржуазного дома, которую держат на запоре, или в борделе, но это нисколько не мешает таким людям быть разносторонними, интересными, любезными в обхождении, без преувеличенного страха перед существованием, нехваткой денег и приближающейся старостью. Что же касается Паултье, то он переносил свои мечты на холст и больше к ним уже не возвращался.
Так говорила тогда Генриетта. А сейчас в машине, направлявшейся к стоянке возле «Пласхофа», она сказала:
— Робби, я хочу написать книгу о Паултье. Рассказать о нем все. Я расскажу о нем всю правду, Робби.
— Только обо мне ни слова, — сказала мама.
— А ты не подавай ей такой мысли, — буркнул отец.
Я выключил мотор.
— Спокойно, никаких ссор, — сказал я. — Сегодня у нас великий день. Первый памятник члену нашей семьи.
— Если кто и заслуживает памятника, так это ваш отец, — сказала мама.
Генриетта обернулась и уперлась подбородком в спинку кресла.
— Это за что же? — полюбопытствовала она.
— За то, что он двадцать четыре года трудился на благо государства, не утаил ни единого цента и никогда не получал от своих деток благодарности, вот за что, — ответила мама.
— Обратимся в таком случае с ходатайством к нашему любезному правительству, — предложила сестра.
Мы вышли из машины. Какими старыми показались мне наши родители! Мама с ее кривыми ногами, в пестром шелковом платье и папа в темном полосатом костюме. Утром он до блеска начистил свои башмаки и выбрил шею. Принарядились, как могли. Генриетта протянула матери руку, мать сперва было отстранилась, но потом поддалась мягкой настойчивости дочери и взяла ее под руку. Я достал портсигар и предложил отцу настоящую бразильскую.
В холле «Пласхофа» все еще висела старая афиша, извещавшая об открытии выставки скульптора Ферри Даниэлса.
— Может, снять шляпу? — спросила Генриетта.
— Ни в коем случае, — по привычке назидательно сказала мама.
Я положил руку на плечо сестры и привлек ее к себе. Мне хотелось успокоить ее теперь, когда она страшилась того, что ее ожидало: взглянуть на лицо брата, высеченное из камня человеком, который никогда его не видел. Но в чем вина Ферри Даниэлса? Если для сестры Паултье был всем на свете, то для скульптора он был только средством заработать немного денег. И все же Генриетта каким-то образом прознала о нашей встрече. Может быть, я сам проговорился, мне было интересно, как она к нему отнесется. Она примчалась ко мне рано утром, повертелась в комнатах и даже набросала план, как привести в порядок сад. За домом, который я купил на деньги, оставленные мне братом, действительно был сад, только заросший сорняком, загаженный собаками и захламленный ржавыми консервными банками.
«Что ж, времени у тебя уйма, вот и приступай к уборке», — пошутил я.
Она искоса взглянула на меня и открыла дверь, ведущую из кухни во двор.
«Когда он придет?» — вдруг спросила она.
«В три часа, — ответил я. — Поработай, и время пройдет незаметно».
Она молча вернулась в комнату. Я обнял ее за плечи и посоветовал держать себя в руках, а еще сказал, что Паултье хохотал бы до упаду, узнай он, что решено сделать его бюст.
«Ну знаешь, ему теперь не до смеху», — заметила она.
Меня так и подмывало сказать ей, что ее дуэт с Паултье кончился навсегда. Она теперь одна. Одна, и пора к этому привыкнуть. Но она не могла себя переломить — примеры такого постоянства дает нам история великих союзов любви. Актер умер, и его антрепренер счел себя ограбленным: ведь его лишили того, чей успех он пожинал. Или, может быть, в их случае все было как раз наоборот?
Поразмыслив, я оставил ее в покое.
Скульптор пришел в середине дня. Когда раздался звонок, Генриетта схватила охапку журналов, легла на кожаную тахту и притворилась спящей. Я попытался ее растолкать, чтобы познакомить с Даниэлсом, но она так и не открыла глаз.
Вопреки своему первоначальному намерению я решил поскорее от него избавиться: дал ему несколько фотографий и сказал, что вряд ли смогу сообщить о брате много. Да он, собственно, и не расспрашивал. Кстати, именно это и припомнила ему впоследствии Генриетта. Она слышала наш разговор от первого до последнего слова, в том числе и мое объяснение, что она переутомилась и крепко спит. Она была возмущена равнодушием художника, который, ничего не зная, даже не пытался что-нибудь узнать. Словно речь шла только о наружности Паултье. А ведь именно она, она могла бы помочь скульптору постичь духовную сущность брата, но она прикинулась спящей, и мне пришлось извиниться за нее перед гостем. Даниэлс, конечно, понимал, что за ним следят из-под ресниц. Мы сидели друг против друга, и я спросил, много ли у него работы. Оказалось, немного, в наше время трудно найти дом с таким просторным холлом, где можно было бы установить металлические конструкции. А у кого такие холлы есть, те вряд ли обратятся к Ферри Даниэлсу. В гостиной над моим креслом висел автопортрет Паултье, который он подарил мне на день рождения. Одна из его последних работ: стилизованная голова изображена на фоне расплывчатых контуров причудливого строения с перекошенными оконными рамами. Некоторое время скульптор смотрел на портрет, потом вынул блокнот и карандаш и стал грубыми штрихами его срисовывать. Я сказал, что брат походил на кого угодно, только не на свой автопортрет, а Даниэлс объяснил, что это нужно ему для работы. Когда он ушел, Генриетта высказалась довольно-таки язвительно насчет такого подхода к искусству. «Паултье был художник, а не бухгалтер, — сказала она. — Картины свои он прорисовывал до мельчайших деталей, но никогда не снимал с них копий, ведь у него была богатая фантазия, его художественные образы обретали форму задолго до того, как он переносил их на холст, и одно это уже доказывает, насколько он был талантлив». Я только пожал плечами. Что ж, еще немного, и мы убедимся, насколько Даниэлс отошел от ее представлений о брате.
Официант ушел выполнять заказ, и сестра сказала, не глядя на меня:
— Я все утро думала, как я ему скажу, что очень рада, что скульптуру поручили именно ему, а он пригласит меня к себе в ателье и покажет эскизы. Вдруг ему и в самом деле удалось сделать то, что надо, как ты думаешь, Робби?
— Конечно, удалось, — бодро ответил я. — Не посмеет же он вместо портрета подсунуть нам халтуру.
— Паултье сам делал из себя халтуру, — вставил папа.
— Бедный мой мальчуган, — привычно заныла мама. Вынув из сумки носовой платок, она приложила его к глазам, но глаза были сухие.
Официант вернулся с подносом.
— Как аппетитно на вид, менеер, — сказала мама, любуясь заказанным мной тортом.
Официант в ответ на такое обращение ухмыльнулся: чего только не наслушаешься за день. Я смотрел из окна на озеро, на плавно скользящую одинокую лодку. А в десяти минутах езды отсюда играл духовой оркестр. Группа журналистов перебрасывалась в картишки. Их было не очень много, так как мир уже породил новых вундеркиндов, играющих на скрипке или сидящих за слишком высоким для них роялем. И при чем же тут мы? Мы были просто-напросто члены семьи и, выступая в этой роли, чувствовали, что нам друг с другом неуютно. Вон сидит моя мать и манерно ест с ложечки торт. Когда Паултье погиб, она истерически рыдала, потом театральным жестом бросала цветы в его могилу и восклицала: «О Паултье, сыночек мой любимый!» — словно тело в гробу могло ее услышать. Испуганные и вместе с тем пристыженные, мы невольно отступили назад, а Генриетта, всхлипывая, спряталась за мою спину. Но мама не притворялась, когда устроила эту сцену, хотя порой неистово проклинала художественный дар Паултье. Ее терзали горе и угрызения совести. Она надеялась, что убережет своего гениального сына от всех зол на свете, но ведь она-то и подарила ему, трехлетнему ребенку, ящик с красками, когда никто еще не мог предвидеть, что из этого получится, и я до сих пор помню, как она хвалила малыша, что-то нацарапавшего на листе бумаги; в дни семейных торжеств рисунки Паултье переходили из рук в руки, и каждый из гостей оставлял на бумаге жирные отпечатки своих пальцев. Мама напевала ребенку песенки, ставила пластинки классической музыки, а он, лежа в кроватке, орал благим матом. Она всегда была хорошей матерью, баловала нас, мы цеплялись за ее юбки, тогда еще очень длинные. И вот она стоит у края открытой могилы, где в гробу ее Паултье, и опять он ее любимчик, хотя, что ни говори, потеряла она его давно, еще тогда, когда он рисовал картину за картиной, на которых изображал ее, свою маму, в фривольных позах: то на шаткой кровати со спинкой, украшенной вычурными гирляндами из листьев, то в образе богини судьбы с висящими на веревочке глазами, с грубо утолщенным лицом и торчащими сосками, как бы хранящими тепло детства. У могилы мама разразилась душераздирающим плачем. Тот, о ком она так преданно заботилась, ее дитя, лежал в гробу, так и не очнувшись от тяжелого похмелья, с разбитым лицом, с которого уже сбежала вся краска, и уже не мог слышать звуков траурной бетховенской музыки. И не только мы, родственники, стыдились маминой несдержанности, чужие, почти незнакомые нам люди, которые несли тело знаменитого художника, недоумевали, кто же нарушил торжественность церемонии — они своим присутствием или наша мама. Отец, багровый от стыда, шел с нею рядом по узкой дорожке тенистого кладбища, и провожавшие гроб до часовни пристально на них глядели, а некоторые, вероятно, думали: значит, эта солидная, убитая горем супружеская пара и есть родители корифея искусства; если бы Паултье все это видел, он бы их нипочем сюда не пригласил. Но что они знали о Паултье? Кто догадается, о чем он думал в ту ночь, когда вдруг решил проверить скорость своей машины? Пустынный ландшафт, освещенный газосветными фонарями, столь хорошо знакомый почитателям его таланта по картинам последнего периода, когда он так много работал, быть может, отвлек его
внимание от реальной обстановки, и он видел перед собой только дорогу, словно прилипшую к земле, и не заметил грузовик с прицепом и с выключенными подфарниками, который мчался впереди, хотя и не с такой скоростью.
Сестра не прикоснулась к торту. Заботилась о фигуре, хотя для беспокойства не было оснований. Мне торт показался удивительно вкусным, и я предложил маме съесть порцию Генриетты. Но мама отказалась, объяснив, что неумеренное употребление сладкого, как пишут в газетах, приводит к инфаркту.
— Ну и что из того, что ты умрешь, мама? — осведомилась Генриетта.
— Заткни свой поганый рот! — крикнул отец.
Я повернулся к нему и спросил, когда он наконец научится относиться к нам, как к взрослым, а он ответил, что это его дело. Выставив подбородок вперед, он откашлялся. Немного помолчал. Опустил подбородок и отвел от меня глаза.
— А вы когда-нибудь научитесь нас уважать? — угрюмо спросил он.
— Когда вы подадите нам пример, — сказала Генриетта. — Уважение из пальца не высосешь. Мы ведь тоже всего-навсего люди.
— Так и ведите себя по-людски, — отозвалась мама.
Я расплатился. Мы ушли из курзала, с сожалением поглядывая на озерко, спокойное и тихое сейчас, когда мы были здесь одни. Сестра что-то напевала, я распахнул перед нею дверь, а родители между тем направились к причалу, расположенному позади «Пласхофа».
— Нам пора? — спросила Генриетта. — А что, если уехать назад, прямо в Амстердам?
Я сказал, что ни в коем случае.
— Мне совсем не хочется присутствовать на открытии, — сказала она.
Когда погиб братишка, ей было семнадцать. На похоронах она держалась мужественно, мне даже не пришлось ее поддерживать, и носовой платок так и остался в моем кармане.
Движение на шоссе становилось все более оживленным, но я без особого труда добрался до X. Город готовился к торжествам. Полиция оцепила площадь перед зданием муниципалитета. Старшекурсники местного педагогического училища стояли за оцеплением и непринужденно рассуждали о сущности искусства. Прибыли первые машины с гостями. Устроители забыли отправить нам список приглашенных, так что наверняка волей-неволей нам придется встретиться с теми, чьи выступления — устные или в печати — не вызывали у нас симпатии. Могу себе представить, кто нас там ждет! Те, кто превозносил Паултье как великого художника, — некоторые из них уже скрючились от старости, другие тем временем захватили директорские кресла в разных музеях.
Мне живо вспомнилось первое появление в нашем доме известного тогда критика Винсента де Неве. В ту пору он вел отдел искусства в нескольких провинциальных газетах, но было заметно, что он метит выше. Он как раз начал налаживать контакты с телевидением. Де Неве приехал сообщить, что Паултье занял первое место на конкурсе рисунков, посвященных николину дню, который проводила одна из телестудий. Чтобы запечатлеть юного художника в домашней обстановке, к нам домой прибыла съемочная группа, а Винсент должен был комментировать передачу. В тот день наш брат впервые выступал перед публикой, имя Паултье еще не было широко известно, и только мы в узком кругу считали его талантливым рисовальщиком.
Когда Винсент де Неве вошел в чердачную комнату Паултье, он увидел не какого-то надутого, как индюк, барчука, а уверенного в себе молодого художника, которому по чистой случайности было только десять лет.
«Здорово, мальчуган, — сказал Винсент. — Меня зовут Винсент де Неве, наверное, ты слышал обо мне, а эти двое — замечательные операторы, которые снимут на пленку тебя и твой рисунок. А очень скоро этот фильм покажут по телевизору. И еще ты получишь премию».
«Это новый велосипед?» — с явным пренебрежением спросил Паултье.
«Да какой! — подхватил де Неве. — С барабанным тормозом и тройным переключением скоростей. Когда я его увидел, то пожалел, что не умею рисовать так хорошо, как ты».
«Не умеете?» — переспросил Паултье.
Винсент подтвердил, что не умеет.
«Хотелось бы мне так рисовать», — добавил он.
За несколько дней до этого Паултье стал свидетелем несчастного случая. Автобус наехал на мопед. От седока кое-что уцелело, но явно маловато, чтобы он остался жить. Паултье почти ничего не рассказывал об этом происшествии. А потом нарисовал мусорную яму, куда свалили обломки мопеда. В яме вокруг окровавленной человеческой головы копошились крысы. Рисунок был залит ярким солнечным светом. На заднем плане Паултье изобразил белые домики и прозрачное, голубое море. Когда Винсент пришел завлекать Паултье велосипедом, картина стояла на мольберте, резко отличаясь от нарисованных мальчиком по просьбе родителей святого Николая и Пита. Правда, сказочные друзья детей и здесь выступали на фоне весьма безрадостного пейзажа, но рисунок был отлично выполнен пастелью; черный слуга привлекал внимание пластичностью позы, а старый епископ щеголял бородой, затейливой, как брюссельские кружева.
«Ты, я вижу, опытный художник», — сказал Винсент, указывая на последнюю работу Паултье.
Паултье подумал и решил промолчать.
«Ну-ка скажи, кто все это так хорошо нарисовал?» — спросил критик.
«Я сам», — ответил Паултье, повернулся, сбежал вниз по лестнице и спрятался в кладовке.
«Боже мой», — сказал Винсент и наклонился, чтобы лучше рассмотреть рисунок.
Паултье извлекли из кладовки и засняли на пленку. Так родился новый вундеркинд. Озаренный ярким светом прожекторов, он вышел на просвещенную публику, и со всех сторон посыпались интервью и газетные статьи. Его приглашали выступить на форумах и конгрессах, темой которых были проблемы искусства. Иногда его спрашивали, как он сам расценивает свое творчество, и он отвечал словами, прозвеневшими на весь мир: «Мне одиннадцать лет. У меня тридцать картин». И он был уже почти миллионером.
Жизнь Паултье, которую сегодня собрались увенчать памятником, пусть даже стоимостью всего-навсего в две тысячи с чем-то гульденов, протекала без особых кризисов вплоть до той роковой ночи, когда он, подобно последней ступени ракеты, устремился из вихря головокружительной карьеры во мрак своей смерти. Все газеты писали о его гибели на первой полосе. Тело его выставили для прощания в том самом музее, где на стенах висело так много его картин. Генриетта — да-да, именно Генриетта, а не мать и не отец — стояла следом за мной в почетном карауле. Я отговаривал ее, но безуспешно. Прежде чем она стала у гроба брата, еще до того, как впустили для прощания посторонних, директор музея произнес ей в утешение целую речь. Он сказал, что слава художника не уходит вместе с ним в небытие, как у актеров. Актеры становятся самое большее достоянием легенды, но легенда не вечна. Художник же, если он обладает талантом, настоящую славу обретает только посмертно. Его жизнь продолжается в красках, на холсте. Могучее воздействие его образов нерасторжимо связано с вечностью, и они, эти образы, переживут своего создателя.
Слушать такие слова было очень приятно, хотя докопаться до сути нерасторжимости изображения с вечностью я так и не смог. Когда я вошел в зал и увидел сестру, мне вдруг почудилось, что на крышке гроба сидит Герман, любимый кот Паултье, сытый, спокойный. Я тряхнул головой — кот исчез. Я подошел к сестре, поцеловал ее в щеку. Она прошептала, что у нее никак не идут из головы слова директора о том, что созданные художником образы сильнее самого художника и переживут его. Она даже спросила, относится ли это к ее брату, а директор замялся: ведь в конечном счете его музей был целиком и полностью основан на этой идее.
Сестра сказала, что останется здесь не на час, как предполагалось, а на весь вечер. Помню, многие смотрели не на усопшего, а на нее: она-то живая и такая трогательно печальная. Живая и печальная, она была обворожительна в своем черном, но не траурном туалете. Она и мне казалась захватывающе красивой в мерцании свечей и похожей на Паултье, но это была сама женственность, к тому же подчеркнутая чисто женскими ухищрениями: улучив минуту, когда в зале не было никого из посторонних, она доставала зеркальце и подкрашивала ресницы, а порой, независимо от того, был ли возле нас кто-нибудь или нет, вынимала из рукава платья белый кружевной платочек и беззвучно в него сморкалась. Юные коллеги Паултье сразу же безнадежно в нее влюбились.
Через несколько недель после похорон, когда всем стало ясно, вернее, до всех нас
дошло, что Паултье ни сегодня, ни завтра не прилетит из турне по Южной Европе, сестра начала ходить на кладбище. Засохшие венки убрали. Она клала на могилу свежие цветы и подолгу стояла, опустив руки, устремив вдаль неподвижный взгляд. Иногда я сопровождал ее, а потом мы вместе заходили в кафе. Мне хотелось позаботиться о ней. Но получалось почему-то наоборот: она помогала мне в разных делах, навалившихся на меня после смерти брата. Я предлагал ей поехать вместе путешествовать, куда бы ей ни захотелось, к примеру читать лекции о творчестве Паултье, но Генриетту такого рода деятельность не прельщала. Правда, она говорила мне, что приводит в порядок имеющиеся у нее материалы о Паултье и собирается кое-что написать. Но в существо этой работы она меня не посвящала. По сравнению с Паултье я в ее глазах был каким-то суррогатом, годным только для будничных дел. Она частенько навещала меня, но лишь ради Германа, который достался мне по наследству от брата. Она что-то нежно ему шептала, что именно, я так и не мог разобрать. Наверно, она говорила с ним на другом языке, состоявшем исключительно из печально-нежных слов, которые мог бы понять один Паултье. Она переехала в его квартиру, и началась ее жизнь вдовы художника, посвятившей себя канонизации того, кто был дли нее дороже всех на свете.
Для посторонних история нашей семьи достигла своей вершины в ту ночь, когда разбился Паултье. После этого мы покатились под гору и только по временам соприкасались с тем, что имело к нему самое прямое отношение. Вот как сейчас. Мы въезжаем в предместье города X. Скоро услышим речь муниципального советника по делам искусства, который откашляется и скажет: «В чем величие нашего гениального земляка? В столь часто превозносимом таланте? Или это нечто большее? Ибо что такое талант, как не верный способ обогнать других на пути к победе? И разве его жизнь, быстротечная, но не суетливая, блестящая, но без лакировки, не двигала вперед человека, чью память мы сегодня чтим, к конечному результату, к финишной ленточке, как говорят наши бельгийские друзья; обозревая его путь, я должен сказать вам: он с самого начала был обречен, от первых дней и до финиша Паул Теллегем был вдохновителем, мог по праву считаться громоподобным Дантоном, которого осудил на казнь Робеспьер, прозванный Смертью (он и правда нес ее в себе). Величие, нет, больше чем величие, жить как королевский тигр — вот что это значит!»
Н-да. Кто из присутствующих станет внимать его словам? Неужели кого-нибудь увлекут звуки его голоса? А может быть, они упорхнут прочь от этой высокопарной дребедени и опустятся у ног своих легкомысленных любовниц? Неужели они не понимают, что подобные похвалы еще глубже зарывают нашего братишку в землю?
Я слегка повернулся к Генриетте, которая напряженно смотрела прямо перед собой.
— Ты не доверяешь моим шоферским навыкам?
— Ну что ты, — сказала она. — Просто я думаю.
— О чем же? — спросила мама.
Генриетта не ответила. Она сидела, сложив руки на коленях. В такой же позе она сидела тогда в морге, когда мы ждали, пока нас к нему пропустят. Пришел пастор. Папа вызвал его по телефону. Пастор прямо-таки обожал искусство, но его физиономия выдавала, что общаться с людьми этого круга он не привык. Он уселся рядом с Генриеттой, которую раньше никогда не видел — папа обратился к церкви уже на склоне лет, — и спросил ее, не супруга ли она усопшего. Как видно, он никогда не читал газет и вообразил, что она невеста нашего братишки, если вообще задумывался об этом.
«Я его сестра, — сказала Генриетта. — Шли бы вы отсюда, а?»
«Здесь распоряжаюсь я», — коротко сказал папа.
Пастор обратился к нам со словами утешения: «Теперь он в хороших руках».
«Надеюсь, что так, — сказала сестра, — и, наверное, в гробу у него будет прекрасный вид».
Пастор весь как-то поблек и вздохнул.
«Я имел в виду, что ему будет хорошо на небесах. Простите, если я неумышленно задел вас. Вы не верите в загробную жизнь? Думаете, для него все кончено?»
«А разве нет?» — спросила сестра.
Пастор встал. Ласково и доверительно положил руку на лоб Генриетты. Рука была потная. Он тут же отнял ее, кивнул нам и вышел из комнаты. Сестра сидела неподвижно. Молчала. Только слезы лились у нее из глаз. Вспоминала ли она об этом сейчас? Вряд ли.
— Ну и скучища там будет, — сказал я. — Начнут чесать языком. Но мы должны сохранять спокойствие.
— По крайней мере один человек будет вести себя прилично, это я вам гарантирую, — вставил папа.
— Отец, прошу тебя, — сказала мама.
Я улыбнулся. Вокруг ратуши сновало множество машин. Но так было всегда. А на этот раз нам даже повезло: все было хорошо организовано, установили заграждения, и поэтому толпа отсутствовала.
Но ведь мы прекрасно знали, что так будет. Поставив машину, я вместе с матерью направился к подъезду, а мыслями унесся к декабрьскому дню много лет назад, когда мы везли в такси одиннадцатилетнего Паултье на детский праздник. Было это накануне николина дня. В ту пору имя Паултье не сходило со страниц газет. Мы и гордились им, и немало за него тревожились. Праздник, хотя и неофициально, был устроен для нашего братишки, в честь признания его таланта живописца. Живой пример никогда не помешает. Мама нарядила Генриетту, даже завязала ей бант в волосах. Но на пути в конференц-зал Музея тропиков, где должно было состояться торжество, юный художник взбунтовался: сестра пусть сейчас же снимет бант, я — свой галстук, папа пусть ни в коем случае не поднимается на сцену, а маме вообще лучше не входить в зал. Когда мы попытались его утихомирить, он заревел. У него уже тогда были заскоки в представлениях о том, что артистично и что вульгарно, и мы никак не могли к нему приспособиться. Папа пригрозил Паултье, что если он не уймется, то получит оплеуху, а папа выйдет на сцену и объявит публике, что его сын с фонарем под глазом сидит в коридоре и ревет. Паултье уже не плакал, теперь он визжал. Из солидарности завизжала и сестра. Таксист, подмигнув родителям, сказал, что высадит всех нас посреди улицы. Немного погодя брат стоял на сцене, а мы сидели в зале, как он и велел. Какой-то господин представил Паултье детям и рекомендовал им брать с него пример. Дети захлопали в ладоши, хотя большинство не знало почему. Брат это почувствовал. Они аплодировали ему, но не знали, кто он такой. Паултье стоял совсем один на большой сцене и махал поднесенным ему букетом цветов, потом исчез за кулисами. Когда мы уходили, Генриетта шла рядом с Паултье, положив руку ему на плечо. Она нашла его за сценой, где он рассматривал подарок — ящик с красками.
«Что ты собираешься делать сегодня вечером?» — спросил я сестру после похорон, когда мы пили кофе в родительском доме и пытались хоть что-нибудь съесть, но кусок не шел в горло.
Она ответила, что пойдет в кино, там показывают фордовский вестерн из кинофондов, который она давно хотела посмотреть. Она действительно туда отправилась, однако перед самым началом этого ковбойского фильма ушла из зрительного зала.
Мы входим в ратушу. Я и сестра впереди, родители под руку — сзади. Словно сдан экзамены, пришли получить дипломы. Но мы твердо знаем, куда и зачем идем. Мы приехали в X., чтобы проститься с Паултье, а заодно с нашим собственным прошлым. Сегодня наш братишка обрел конкретную форму — пусть не лучшую из возможных, — созданную руками другого. Какое-то время нам было лестно выступать наследниками трагически погибшего вундеркинда Паула Теллегема, но постепенно нас все больше затягивали личные интересы, у нас появились новые заботы, и мы все дальше отступали от света рампы за кулисы, туда, где разыгрывается жизнь обыкновенных смертных. Через пять лет скорбь об умершем обычно притупляется. Генриетта и та подчас забывала надеть маску скорби, а броские наряды только подчеркивали это. Что же касается меня, то я испытываю все большее отвращение при одной лишь мысли об организации новых выставок картин Паултье. Только что мы, озаренные лучами солнца, сидели всей семьей на террасе «Пласхофа». Нас почти никто не узнавал. Казалось, что и мы, и те, кто раньше не сводил с нас глаз, наскучили друг другу. К тому же мы все стали на несколько лет старше, время безудержно мчится вперед, и условные пейзажи, назойливо сверкающие яркими красками на картинах нашего братишки, блекнут и отходят в нашей жизни на задний план.
Меншье ван Кёлен
ВЕЛОСИПЕД
Перевод Т. Шлозниковой
В последний вечер старого года раздался звонок. Мари подошла к телефону и, скорчив кислую физиономию, показала на радио. Звук сделали потише, а трубку передали матери. Та, послушав некоторое время, поднесла руку к горлу. Минуту спустя радио было выключено, а ребятишки оставлены на попечение Мари: дедушку увезли в больницу, и его детей срочно вызвали туда. Никто не удивился, ведь еще накануне николина дня он вдруг сплюнул кровь в свою плевательницу с металлической крышкой. И бабушка сказала:
— Перестань, в конце концов, курить.
— Все равно помру, — ответил он, опять закуривая свои любимые «Кабаллеро».
Костер из рождественских елок, автомобильных покрышек и старой рухляди ярко освещал улицу. Никто не спал в эту ночь, люди высыпали из домов, пускали ракеты, устраивали фейерверки. Какой-то трусишка жался в сторонке с бенгальским огнем. Дети, которых не выпустили на улицу, облепили окна. А тем временем в больнице умирал дедушка, и нам пришлось задернуть шторы, чтобы ничем не нарушить атмосферу скорби.
Ранним морозным утром я увидела, как они вчетвером медленно подходят к дому, шагая прямо по остаткам самодельных китайских шутих и мрачно глядя перед собой.
Я поднялась с раскладушки, специально выставленной в ту ночь на веранду, и открыла им дверь.
— Не спишь? — тихо спросила мать.
— Дедушка умер, — сказал отец.
— Он теперь на небесах, — сказала тетя Кристина.
— Когда мы пришли, он был уже одной ногой там, — сказала мать. — Даже не узнал нас.
В первое воскресенье весны я на новеньком велосипеде моей матери поехала на кладбище.
Солнце буднично светило на нарциссы и мертвецкую из красного кирпича. По тропинкам среди могильных плит и газончиков гуляли люди в нарядной одежде, болтая между собой и, как на выставке, рассматривая старинные надгробия. Имя дедушки было высечено на могиле третьим, хотя лежал он сверху. «Дорогой дедушка», — подумала я.
— Да, за ней постоянно присматривает садовник, — услышала я слова вдовы, обращенные к родственникам. Она стояла возле памятника с надписью: «Здесь покоится мой любимый муж».
У надгробия, украшенного медным крестом, супружеская чета тщетно пыталась утихомирить своих ребятишек, одергивая то одного, то другого и упрекая их в отсутствии почтения к умершему. Раздражение от усталости, мурашки по телу и переполненный желудок — короче говоря, мной овладело обычное воскресное состояние.
«Дорогой дедушка», — опять подумала я и смахнула слезинку, весьма подходящую к случаю, но не имеющую ничего общего с дедушкой. При мысли о блестящем новеньком велосипеде, на котором я еще часок смогу покататься, если поеду дальней дорогой, ко мне вернулось хорошее настроение, и я направилась к выходу.
На пахнущей увядшими цветами тележке сидел и насвистывал цветочник. Позади него, за кладбищем, начинался Схевенингский лес, где по ночам на девушек нападают разбойники. Я повернула направо, к велосипеду. Но он куда-то исчез. Перепуганная, я побежала вдоль ограды, потом опять вернулась к торговцу, который бездумно перебирал никелевые монетки в своей коробке. Оказалось, он ничего не знает, ничего не видел.
Я обежала весь лес, не встретив ни единого разбойника, готового перерезать мне горло, но и велосипеда матери тоже не нашла.
В кафе на углу за пивом и спортивными новостями скучающие отцы коротали воскресный день. Дети Хесселингов, все на одно лицо, сидели на крыльце веломастерской и играли в камешки; руки у них посинели от холода, под ногтями скопилась грязь.
Я потянула за веревку, пропущенную в дырочку на входной двери, и боком распахнула дверь. Дорогой дедушка, помоги мне! Я прошла на кухню, где в привычном запахе переваренной фасоли и тушеного мяса суетилась мать. К счастью, в наказание меня оставили без обеда.
РАЗРЫВ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Перевод И. Волевич
Стин расправила сзади пальто и приготовилась сесть. Автобус неожиданно дернул с остановки так резко, что она шлепнулась на сиденье, а ноги подскочили кверху. Обернувшись, Стин увидела, что никто из пассажиров, которые тоже испугались, не обратил на нее внимания, и с раздражением уставилась прямо перед собой. В зеркальце на ветровом стекле отражалось лицо шофера. Противная физиономия, думала она, карим глазам нельзя доверять. Прижав сумку к животу, она левой рукой ухватилась за спинку переднего сиденья. У меня глаза голубые, размышляла она, и парни когда-то говорили, что это очень красиво. «Ну и глаза у тебя, Стин», — говорили они. У Дана глаза тоже были голубые, как небо над Джакартой. Последние дни своей жизни в лагере он так буравил ими вонючих япошек, словно хотел их на месте уничтожить. Впрочем, и голубым глазам не всегда можно доверять, сердито думала она, например Хансу, этому ничтожеству, подлецу, отцу моего внука и мужу моей единственной дочери. «Ой, мама, мама, — сколько раз сквозь слезы жаловалась Нел, — опять он приплелся домой пьяный, опять дал на пятьдесят гульденов меньше, чем полагалось». Мало того, Нел еще приходилось стаскивать с этого паршивца штаны. Кто бы мог подумать, у него такие порядочные родители и вполне приличная, ответственная работа. А как он ухаживал за Нел, приносил ей подарочки, а своей будущей теще — цветы.
В январе прошлого года, в воскресенье, она стояла на кухне и разрезала слоеный пирог, а он вошел с букетом оранжерейных нарциссов и спросил, нельзя ли им поговорить с глазу на глаз. «Конечно, Ханс, — сказала она и в шутку добавила: — Прикрой только дверь в коридор, чтобы Нел не услыхала».
Он сказал, что придерживается старых обычаев, и торжественно попросил у нее руки дочери. А она-то, стыдно вспомнить, сострила: «Бери, Ханс, не только руку, но и все остальное». Двадцать первое марта пало на воскресенье, на субботнее утро список регистрирующихся был уже полон, поэтому им пришлось расписаться в пятницу. Что тут было! При одной мысли об этом Стин опять вскипала от злости. Этот идиот записался на так называемую церемонию для двух пар. Какое унижение! Все родственники негодовали: так испоганить самый прекрасный день в жизни молодой девушки! Муниципальный чиновник в своей речи только один раз обратился к ним лично, сперва он сказал жениху из другой пары: «Вы по профессии каменщик и сможете помочь жене благоустроить дом, а вы, менеер, — обратился он к Хансу, — как страховой агент, безусловно, обеспечите будущее своей супруги и детей».
Стин вздрогнула, увидев в окно знакомое зданьице почты на противоположной стороне. Мужчина в мешковатом твидовом пальто, который только что сидел рядом с ней, уже спускался с подножки автобуса.
— Мне тоже выходить, кондуктор, мне тоже выходить! — закричала Стин. Она уже ступила на подножку, но двери захлопнулись.
— Дайте человеку выйти! — крикнула сидевшая впереди дама. Двери, шипя, открылись, и Стин вышла из автобуса, не поблагодарив кондуктора, так как была уверена, что тот назло ей закрыл двери прямо у нее перед носом.
На Марияхуве моросил дождь. Под стеклянным навесом автобусной остановки Стин нахлобучила на голову пластиковый капюшон, чтобы уберечь прическу от дождевых капель.
Район живописный, но уж больно далеко от центра, думала она, в такую погоду здесь не до прогулок; и она быстро, как только могла, закосолапила в сторону желтого многоквартирного дома, где Нел уже поджидала ее у окна верхнего этажа.
Одолев пять лестниц, Стин, тяжело дыша, опустилась на кушетку.
Нел налила две чашки чая и опять поставила чайник на конфорку.
— Ну как дела, детка? — озабоченно спросила Стин.
Нел повернулась и выключила радио.
— Сегодня придет за своими вещами.
Стин испуганно прикрыла рот рукой.
— Что же ты молчишь? — сказала после тягостной паузы Нел.
Рука Стин медленно сползла к шее.
— Это просто ужасно, — сказала она. — Ведь и года не прошло, как вы поженились, вот если бы через пять лет, я еще поняла бы, но сейчас… нет…
— Не притворяйся, будто не знала, что у нас разлад, все ты прекрасно знала, — сказала Нел и высморкалась в носовой платок.
— Что родные-то скажут, а? — заныла Стин. — Дядя Хенк, дядя Лендерт, тетя Ан… о господи.
— Ах, мама, я бы все ему простила, — всхлипнула Нел, — если бы вдобавок он не был еще и развратником. Каждый вечер иметь дело с этим распутником. Он ведь невесть чего от меня требовал.
— Да что ты! — ужаснулась Стин.
— А в последние дни, когда он спал здесь на кушетке, он оставлял свои носки на столе, курил всю ночь и даже не умывался.
Стин задумчиво поставила чашку на колени.
— Таких мужчин, как твой отец, конечно, раз-два и обчелся, можешь мне поверить. Я день и ночь благодарю судьбу за то, что она мне его послала, хотя мое счастье и длилось недолго. Смерть — страшная штука, — продолжала она шепотом, — но развод еще хуже. У меня по крайней мере остались чудесные воспоминания.
Нел презрительно наморщила лоб.
— Впрочем, девочка, не горюй. Ты еще так молода, встретишь другого мужчину, хорошего человека, который будет охотно забавлять Йохана. Подумай и о нем.
Нел кивнула.
— Я недавно уложила его спать. Он так устал, что и одной ложки каши не проглотил, сидел и колотил ручками по тарелке, тарелка перевернулась, вся каша растеклась по полу, — вздохнула она и добавила, улыбаясь, словно имела в виду совсем другое: — Наверное, не стоит так говорить, но я все-таки надеюсь, что он не станет такой швалью, как его папаша.
Стин помешала в чашке.
— Хорошо еще, квартира тебе останется.
— Так положено, — сказала Нел. — Жаль только, что мы не остались с тобой на бульваре Мердерфорт.
— Ну, когда Йохан научится самостоятельно взбираться по лестнице, тебе станет полегче, — утешила Стин. — Конечно, жаль, я ведь могла бы за ним присматривать. Я уже давно догадалась, почему Ханс так жаждал сюда переселиться. Чтобы от меня избавиться, а вовсе не для того, чтобы укрепить вашу семейную жизнь.
— А помнишь, ты называла улицу Марияхуве «Мария-давай», — прыснула Нел, — потому что здесь полно ребятишек.
— Как же, помню, — ответила Стин. Помолчала и со злостью добавила: — Стоило мне у вас появиться, как он начинал хлопать дверьми, а когда я ему однажды сказала, что ты для меня не только дочь, но и подруга, фыркнул мне прямо в лицо.
Нел еще раз основательно высморкалась, сунула платочек в рукав и снова наполнила чашки.
— У меня еще есть кекс, — сказала Стин, — совсем забыла из-за всех этих передряг. — Она порылась в сумке. — Сколько он будет тебе платить алиментов?
— Шестьсот плюс квартирная плата.
Дождь барабанил в окна. Нел включила радио, скрестила руки на груди и лениво откинулась за спинку стула.
— Начну новую жизнь, — мечтательно сказала она, а мать убежденно кивнула, соглашаясь с ней.
— Надо оставить кусочек малышу, — вставила она, — пусть полакомится, когда проснется.
РАЗРЫВ ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Перевод И. Волевич
Сегодня он последний раз едет домой в это время и этим автобусом. Больше он уже не откроет дверь собственным ключом, не оставит портфель на вешалке и не сядет за накрытый стол. Если поспешить, то можно вернуться обратно тем же автобусом, который на конечной станции сменит табличку Марияхуве на Хаутруст и через десять минут снова остановится у почты.
Он протиснулся вперед, автобус рывком тронулся с места, пассажиры зашатались, как падающие костяшки домино, и он ухватился за молодую женщину, стоявшую рядом с ним.
— Извините, пожалуйста, — сказал он и вцепился в штангу рядом с ее худощавым запястьем. Пальчики у нее красные, обветренные, с мясистыми подушечками и обкусанными ногтями. Рукав плаща задрался до локтя. Ей, наверное, холодно, подумал он, заметив, что светлые волосенки на бледной обнаженной коже ее руки стоят торчком. Взглянул на затылок. Волосы точь-в-точь как у Нел — жидкие, бесцветные, жирные, с перхотью в проборе. Теща уверяла, что волосы у Нел золотистые. В Индонезии все прямо-таки сходили с ума, туземцы, по ее словам, говорили, что у дочки туана волосы как у ангелочка, а когда теща в сотый раз долбила одно и то же, она надменно задирала свой морщинистый нос и восторженно смотрела на Нел, которая, конечно, считала себя писаной красавицей. У Нел, разумеется, не такой отставленный широкий зад, не такие уродливые ноги в стоптанных туфлях и нос картошкой, как у ее мамаши, но, в общем, она такая обыкновенная, такая ничем не примечательная, что он быстро отучился на нее глядеть.
Лицо его матери походило на печеное яблоко, но все же на нее можно смотреть и даже терпеть, как она чавкает за столом. А недовольные складки по сторонам Нелиного рта, стоит ему только пристально на нее взглянуть, напоминают ее пудинги из концентратов — когда их вынимают из формы, они трескаются и разваливаются.
— Почему не проходите вперед?! — крикнул шофер. — Чего толпитесь у входа! Эй, там, на задней площадке, проходите!
Он протиснулся дальше. Девица вытащила из-под его руки свою ручку с обкусанными ногтями и скользнула на свободное место, которое никто из стоявших в проходе мужчин, несмотря на их утомленный вид и неудобную позу, не хотел занять.
В автобусе пахло мокрой одеждой. Окна запотели, кое-где в них протерли глазки́. У них дома окна тоже туманились, если Нел включала увлажнитель, чтобы сухость воздуха не портила цветы и ее кожу. Как-то он сел за стол выписать несколько квитанций, а эта штука вдруг завыла и разбрызгала воду так сильно, что чернила растеклись и пришлось начинать сызнова.
«Сам виноват, — сказала Нел. — Если тебе приспичило работать, отправляйся в спальню».
С тех пор он так и работал, устраивался со своими бумагами и пишущей машинкой за маленьким столиком, с которого всякий раз приходилось снимать швейную машину. У него такая прорва работы — чем больше людей, тем больше страхующихся, и надо не только выписывать полис, но и давать консультации. Два месяца назад ему, например, дали премию в пятьдесят гульденов за то, что он отказался страховать здание на улице Ланге-Потен из-за плохой электропроводки. Через неделю дом сгорел дотла, а ведь страховой компании пришлось бы выложить триста, а то и четыреста тысяч гульденов.
Но Нел его делами не интересовалась и отнеслась равнодушно даже к такой важной операции. Поэтому, думал он, я ей о пятидесяти гульденах ничего не сказал, она и так постоянно хнычет, что я мало даю ей на расходы и что сто гульденов карманных денег для меня слишком много. Он уже давно сыт по горло ее попреками, а ведь рюмочка можжевеловой стоит теперь полтора гульдена и надо еще платить за сигареты и за автобус.
Вчера вечером, когда он постелил себе на кушетке и лег, она ворвалась в комнату, зажгла люстру и потребовала шестьсот гульденов плюс деньги в уплату за квартиру — иначе она развода не даст. Спросонок он пробормотал, что согласен, но теперь решил поторговаться, ему ведь придется платить матери за комнату самое меньшее сто гульденов да за еду, за густо намазанные бутерброды, какие мать ему приготовляла еще до женитьбы.
На улице он поднял воротник пальто и медленно направился к дому, где там, наверху, она день-деньской курит сигареты и бездельничает. Даже в выходные он сам забавляет Йохана, когда тот не спит, а в субботу утром таскает его вместе с покупками в фирменной тележке универсама «Алберт».
Господи Иисусе, о ужасом подумал он, ведь все зло от ее мамаши, этой помешанной на мужчинах ханжи с елейной физиономией. Это она с первых же дней попрекала его тем, что он называл ее не мамой, а мефрау. Это она настояла, чтобы они поженились, она сделала выписку из метрики, она заказала пригласительные билеты и экипажи. Когда они жили на бульваре Мердерфорт, она целыми днями сидела сложа руки и только вечером мыла посуду, варила кофе и заставляла его ходить на цыпочках, чтобы не разбудить ребенка. И всегда у нее в запасе был сальный анекдот, над которым она же первая скалилась. Иногда она приходила в такое возбуждение, что на шее выступали красные пятна. Или захлебывалась слюной и просила постучать ее по спине.
Какова мать, такова и дочь. Первые месяцы Нел щипала его, где бы они ни были, а в постели заставляла проделывать такие штучки, что у него ныла спина и подступала тошнота. Потом она, неудовлетворенная, осыпала его насмешками, а он рыдал как последний идиот.
Он злорадно подумал, что Нел еще долго будет взбираться на пятьдесят пять ступенек, и остановился перед дверью, чтобы отдышаться.
Пригладив чуб, он выпрямился, сделал непроницаемое лицо и позвонил.
Немного погодя он услышал, как открылась дверь комнаты и оттуда донеслись звуки радио. Напевая, она подошла к входной двери. Ишь, прикидывается, будто он пришел к ней в гости. Его передернуло. В комнате его поджидала теща; задыхаясь от ненависти, она бросала на него уничтожающие взгляды, притопывая ножищами в такт музыке.
Коротко об авторах сборника
БЕЛЬКАМПО (Герман Питер Шёнфельд Вихерс, род. в 1902 г.) — автор сатирических, гротескно-фантастических и философских рассказов. Изучал право и — уже в возрасте сорока лет — медицину. В 50-е годы работал врачом. Свой псевдоним заимствовал из романа Э. Т. А. Гофмана «Эликсир дьявола», где фигурирует парикмахер Шёнфельд по прозванию Белькампо. Первые рассказы Белькампо опубликовал еще в студенческие годы [«Рассказы» (1935), «Странствия Белькампо» (1938)], однако расцвет его творчества приходится на 50-е годы, когда вышли в свет сборники «Новые рассказы» (1946), «Прыжки в прибое» (1950), «Великое событие» (1958) и др. Творчество Белькампо характеризуют прихотливая фантазия, гротеск, мастерство в построении сюжета и виртуозность владения языком.
Рассказ «Великое событие» взят из сборника «Замерзший фейерверк» (1962).
СИМОН КАРМИГГЕЛТ (род. в 1913 г.) — мастер короткого рассказа. Прошел хорошую журналистскую школу, работая в 1932–1940 гг. в социалистической газете «Воорёйт» («Вперед»). В 1936 г. начал печатать на страницах этой газеты короткие рассказы и фельетоны, собранные в 1940 г. в книге «50 глупостей». В период оккупации Нидерландов сотрудничал в нелегальной газете «Хет пароол» (1942–1945), где работает и по сей день. Под псевдонимом Кронкел он публикует здесь свои иронические, иногда грустные рассказы, принесшие ему всенародную известность.
В 1977 г. творчество писателя было отмечено высшей литературной наградой Нидерландов — премией имени П. К. Хофта. Миниатюры С. Кармиггелта были включены в сборник «Красный бук», выпущенный в 1971 г. издательством «Прогресс». Рассказы, опубликованные в данном сборнике, взяты из книг «Гоняя голубей» (1960), «Завтра увидимся» (1967) и «Пожилые люди» (1963).
ВИЛЛЕМ ФРЕДЕРИК ХЕРМАНС (род. в 1921 г.) — известный прозаик, драматург, публицист. В 1958–1973 гг. профессор физической географии в Гронингенском университете. В литературе дебютировал во время войны как поэт. В 40-х — начале 50-х годов опубликовал ряд сборников рассказов и романов, которые вызвали широкую полемику [«Слезы акации» (1949), «Я прав всегда» (1951)]. Значительным явлением в нидерландской литературе стал роман Херманса «Темная комната Дамокла» (1958) о годах оккупации, который был экранизирован в 1963 г. К числу последних книг писателя принадлежит большой роман «Среди профессоров» (1975) — злая сатира на порядки, царящие в нидерландских университетах и в стране в целом. Скандал, вызванный появлением романа, заставил писателя покинуть Нидерланды и поселиться во Франции.
Рассказ «Электротерапия» был впервые опубликован на русском языке в сборнике «Красный бук». Рассказ «Доктор Клондайк» взят из книги «Лучшие рассказы издательства „Безиге Бей“», вышедшей в Амстердаме в 1977 г.
ЯН ВОЛКЕРС (род. в 1925 г.) — по профессии художник и скульптор. Учился в Лейденской и Гаагской художественных академиях, работал в Париже в мастерской скульптора О. Цадкина. Как писатель дебютировал довольно поздно, опубликовав в 1961 г. сборник рассказов «Serpentina’s petticoat», который сразу же поставил его в один ряд с ведущими нидерландскими прозаиками. Последующие книги только подтвердили большой талант и высокое мастерство писателя [романы «Короткая стрижка» (1962), «Роза во плоти» (1963), «Возвращение в Угстгеест» (1965), «Турецкие сласти» (1969); рассказы «Собака с синим языком» (1964) и др.]. Творчество Я. Волкерса носит ярко выраженный автобиографический характер и тесно связано с социальными проблемами, волнующими современное нидерландское общество. Книги Я. Волкерса переведены на многие европейские языки.
Рассказ «Снежный человек» был впервые опубликован на русском языке в сборнике «Красный бук». Рассказ «Черный сочельник» взят из книги «Сахарная вата» (1963).
ГАРРИ МЮЛИШ (род. в 1927 г.) — известный прозаик, драматург, эссеист. Дебютировал в начале 50-х годов, сразу же обратив на себя внимание критики и читателей виртуозностью языка и богатством фантазии. Книги тех лет носят символический характер [романы «Арчибалд Строхалм» (1952), «Алмаз» (1954), сборник рассказов «Чудо» (1955)]. В 60-е годы в творчестве писателя происходит резкий поворот в сторону «ангажированного» искусства. Г. Мюлиш обращается к жанру документальной прозы и создает такие злободневные репортажи, как «Дело 40/61» (1962) о процессе Эйхмана, «Слово с делом» (1968) о своей поездке на Кубу и т. д. В 70-е годы писатель вновь обращается к художественной прозе и публикует роман «Две женщины» (1975) и сборник рассказов «Воздух былого» (1977). В 1977 г. творчество Г. Мюлиша было отмечено премией имени К. Хёйгенса. Имя Г. Мюлиша знакомо советскому читателю: в сборнике «Красный бук» был напечатан рассказ «Что случилось с сержантом Массуро?».
Рассказ «Усовершенствованный человек» взят из одноименного сборника, вышедшего в 1957 г.; рассказ «Граница» — из сборника «Воздух былого».
РЕМКО КАМПЕРТ (род. в 1929 г.) — поэт, прозаик. Сын известного нидерландского поэта Яна Камперта, погибшего в фашистском концлагере. Дебютировал в послевоенные годы поэтическим сборником «Ведь птицы летают» (1951). В 50-е годы активно участвовал в движении эксперименталистов — молодых поэтов, а затем и прозаиков, призывавших к обновлению формы и содержания современной нидерландской литературы. Творчество Камперта 50-х и 60-х годов отмечено прежде всего поисками в области языка. Писатель широко использует живой разговорный язык, молодежный жаргон. В своей новеллистике — ироничной и несколько меланхолической по тону — Р. Камперт обращается к повседневной действительности.
Опубликованные в данном сборнике рассказы взяты из книги «Все рассказы Ремко Камперта» (1971). Ранее на русский язык переводились только стихи Р. Камперта (сборник «Ладонь поэта». М., «Прогресс», 1964).
БОБ ДЕН ОЙЛ (род. в 1930 г.) — новеллист, журналист. Дебютировал в 1963 г. сборником рассказов «Птицы смотрят», который был удостоен премии Амстердама за лучшее прозаическое произведение года. Следующий сборник — «Нежный звук флейты» (1968) — также был отмечен крупной литературной наградой — премией имени известной нидерландской писательницы Анны Бламан. В своем творчестве писатель широко использует иронию и гротеск. Его рассказы, социально-критические по направленности, удачно сочетают традицию нидерландского реалистического искусства с современностью формы. Бобу ден Ойлу принадлежат также книга эссе «Кто там едет на велосипеде?» (1970) и сборники рассказов «Одной ногой в могиле» (1971), «Эволюция гнева» (1971), «Пути господни неисповедимы и редко приятны» (1975), «Бродячая жизнь» (1977).
Рассказы «Человек без стадного инстинкта» и «Убийца» взяты из сборника «Нежный звук флейты», рассказ «Крабы в консервной банке» — из сборника «Одной ногой в могиле». Впервые на русском языке они были опубликованы в журнале «Иностранная литература» (№ 11, 1975).
ХЕЙРЕ ХЕЙРЕСМА (род. в 1932 г.) — автор поэтических сборников, многочисленных рассказов, романов, кино- и телесценариев. В юности писатель прошел суровую школу жизни. В четырнадцать лет он начал работать, сменив десятки профессий: был подсобным рабочим, продавцом, кочегаром в котельной жилого дома, моряком, затем шесть лет проработал в рекламном бюро. Накопленные за эти годы впечатления стали неисчерпаемым источником его творчества. Дебютировал X. Хейресма в 1953 г. стихотворным сборником «Детская комната». Однако успех пришел к нему только в 60-е годы, с появлением первых рассказов и повестей: «Смотря по обстоятельствам» (1962), «Денек на пляже» (1962), «Рыба» (1963). Большой интерес критики и читателей вызвали сатирический роман «Хан де Вит занимается помощью слаборазвитым странам» (1972), роман «По горам, по долам…» (1972), а также сборник «Грустные рассказы, поведанные у батареи парового отопления» (1973). Несколько произведений писателя были экранизированы. Книги X. Хейресма пользуются популярностью в Нидерландах, этим они в немалой степени обязаны мастерству композиции и богатству культурного подтекста.
Рассказы, представленные в данном сборнике, взяты из книги «Грустные рассказы, поведанные у батареи парового отопления».
ГЕРРИТ КРОЛ (род. в 1934 г.) — поэт и прозаик. По профессии специалист по вычислительной технике. Закончил математический факультет Гронингенского университета. Несколько лет работал в венесуэльском отделении нефтяной компании «Шелл», затем программистом в Нидерландской нефтяной компании в Ассене. Служба в «Шелл» дала материал для нескольких книг, в том числе для романов «На службе у „Королевской компании“» (1974) и «Дорога на Сакраменто» (1977). Профессия математика и программиста наложила свой отпечаток также и на другие книги писателя. Он считает, что точные науки составляют сейчас «новый источник опыта» и должны найти применение в искусстве. Сам он широко использует отдельные приемы математики и логики в своем
творчестве, вплоть до включения в ткань повествования [например, в романе «Стриженая голова» (1957)] математических формул. Вместе с тем творчество Крола отличают серьезный и вдумчивый подход к действительности, тонкая эмоциональность и гуманизм. Лучшие рассказы, созданные писателем в 60–70-е годы, собраны в книге «Остановка отменяется и другие рассказы» (1976), откуда взяты все публикуемые здесь произведения. В 1980 г. на русском языке была опубликована повесть Г. Крола «Сын города», вошедшая в сборник «Сидр для бедняков. Современная нидерландская повесть» (М., «Прогресс»).
ЖАК ХАМЕЛИНК (род. в 1939 г.) — прозаик, поэт, драматург, переводчик. Дебютировал в 1964 г. сборником рассказов «Самодержавие растений» и книгой стихов «Вечный день». Основная тема этих сборников — противостояние человека праисторической природе, что более конкретно выражается в противостоянии ребенка безжалостному и равнодушному миру взрослых. Эта тема получает развитие и в последующих книгах Ж. Хамелинка: сборниках рассказов «Рудиментарный человек» (1968), «Дерево Голиаф» (1973) и романах «Ранонкел» (1969) и «Путешествие по царству демиурга» (1976). Творчество Ж. Хамелинка отмечено несколькими литературными премиями, его книги переведены на многие европейские языки.
Рассказы, публикуемые в данном сборнике, взяты из книги «Самодержавие растений».
Я. М. А. БИСХЁВЕЛ (род. в 1939 г.) — прозаик. По образованию юрист. Изучал право и русский язык в Лейденском университете. Выпустил четыре сборника коротких рассказов: «На подвесной койке» (1972), «Нехорошие люди» (1973), «О пользе мира» (1975), «Путь к свету» (1977). Творчество Я. М. А. Бисхёвела отличают юмор, тонкая ирония, тяготение к притче как символической и самой сжатой форме художественного освоения действительности. В притче писатель добивается наибольшей отточенности и совершенства формы. Рассказы, публикуемые в настоящем сборнике, взяты из книги «На подвесной койке».
ДИК ВАЛДА (род. в 1940 г.) — прозаик, журналист, драматург, автор теле- и радиопьес. В 1958–1964 гг. работал в газете КПН «Де ваархейд», с 1965 г. является редактором журнала «НЮ» и членом правления общества дружбы «Нидерланды — СССР». В 1969 г. вышла в свет первая книга рассказов Д. Валды — «Краткие фронтовые новости», — за которой последовали «Среди друзей животных» (1970), «Волчатник» (1974) и «Девочка Красноножка» (1975). Перу Д. Валды принадлежат также документальные книги о трагических последствиях второй мировой войны и ряд репортажей о Советском Союзе [«Мой сосед живет в 170 км» (1976), «Свинец в мандаринах» (1980)]. В журнале «Иностранная литература» (№ 9, 1980) были опубликованы главы из книги Д. Валды «Дети войны».
Рассказы «Девочка Красноножка», «Не навестить, не принести цветов» и «Голубок в руках» взяты из сборника «Девочка Красноножка».
РУДОЛФ ГЕЕЛ (род. в 1941 г.) — прозаик, журналист, литературовед. Получил филологическое образование, преподает нидерландскую литературу в Амстердамском университете, является редактором журнала «Де гидс» («Вожатый»). Дебютировал в 1963 г. романом «Тощий студент». Другие его книги: романы «Строптивый писатель» (1965), «Посланец из Ничейной страны» (1968), сборники рассказов «Горько и сладко» (1975), «Наслаждения былого» (1976). Ведущая тема творчества Р. Геела — взаимоотношения искусства и действительности, место искусства и художника в обществе.
Рассказ «Торжественное открытие» взят из сборника «Горько и сладко».
МЕНШЬЕ ВАН КЁЛЕН (род. в 1946 г.) — писательница, журналистка. Детство и юность провела в Гааге. Впечатления гаагской жизни легли в основу ее первых рассказов и повестей — «Лето Блекера» (1972), «Сплошные слезы» (1972). Герои М. ван Кёлен — вернее, антигерои — выходцы из мелкобуржуазных семей, влачащие бесцветную и бесполезную жизнь. У них нет ни будущего, ни дорогих воспоминаний о прошлом. Неприятие многих черт современной буржуазной Голландии, мещанской приземленности и эгоизма ее обывателей составляет пафос творчества молодой писательницы. Другие ее книги: «Пансион» (1974), «Мало-помалу» (1975), «Злоключения» (1977). В сборнике «Сидр для бедняков» была опубликована на русском языке повесть М. ван Кёлен «Лето Блекера».
Рассказы, включенные в настоящий сборник, взяты из книги «Сплошные слезы».
Ю. Ф. Сидорин

Примечания
1
Отмечается в Нидерландах 5 декабря.
Здесь и далее примечания переводников.
(обратно)
2
Сваммердам, Ян (1637–1680) — нидерландский зоолог.
(обратно)
3
Тейссе, Якобюс Питер (1865–1945) — нидерландский биолог, популяризатор естествознания.
(обратно)
4
Пищеварительный тракт
(лат.).
(обратно)
5
Игра слов, основанная на значении фамилии Зандконинг — «песчаный король».
(обратно)
6
Домела Ньювенхейс, Фердинанд (1846–1919) — видный нидерландский политический деятель, публицист. Один из предшественников социал-демократического движения в Нидерландах. Мультатули (настоящее имя Эдвард Дауэс Деккер, 1820–1887) — известный нидерландский писатель-реалист. Лигт, Барт де (1883–1938) — нидерландский политический деятель, публицист, ведущая фигура в антимилитаристском движении во время и после первой мировой войны.
(обратно)
7
Здесь: чем я хуже?
(англ.)
(обратно)
8
Одно из значений голландского слова «water» — «моча».
(обратно)
9
Ужасный снежный человек
(франц.).
(обратно)
10
Национал-социалистское движение — партия голландских фашистов.
(обратно)
11
Нечто потрясающе новое
(англ.).
(обратно)
12
Извини (англ.).
(обратно)
13
© 1977 by Harry Mulisch
(обратно)
14
Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен…
(Перевод В. А. Жуковского)
(обратно)
15
Бог из машины
(лат.).
(обратно)
16
© «Иностранная литература», № 11, 1975
(обратно)
17
© «Иностранная литература», № 11, 1975
(обратно)
18
Черт побери, мы падаем
(франц.).
(обратно)
19
Найтингейл, Флоренс (1820–1910) — английская медсестра. Организатор и руководитель отряда санитарок во время Крымской войны 1853–1856 гг.
(обратно)
20
© «Иностранная литература», № 11, 1975
(обратно)
21
© 1973 by Heere Heeresma, Amsterdam, The Netherlands
(обратно)
22
Блюдо, приготовляемое из говяжьего и свиного фарша, внешне напоминающее нашу котлету или рубленый бифштекс.
(обратно)
23
Занимайтесь любовью, а не войной
(англ.). Лозунг хиппи.
(обратно)
24
Широко распространенное в Нидерландах блюдо азиатской кухни, которое готовят из риса, фарша различных сортов мяса, лука, с большим количеством пряностей, имеет шарообразную форму.
(обратно)
25
© 1973 by Heere Heeresma, Amsterdam, The Netherlands
(обратно)
26
То же самое
(лат.).
(обратно)
27
Почта — Телеграф — Телефон.
(обратно)
28
Здесь был Килрой
(англ.).
(обратно)
29
Заповедник на берегу Северного моря, на границе Нидерландов и Бельгии. Большая часть территории заповедника находится в Бельгии, меньшая (33 га) — на территории Нидерландов.
(обратно)
30
Бельгийский город близ границы Нидерландов.
(обратно)
31
Голландская водка, настоянная на можжевеловых ягодах; по вкусу несколько напоминает джин.
(обратно)
32
Многосерийная телевизионная передача для детей о приключениях переселенцев на Диком Западе.
(обратно)
33
Здесь: запомните!
(лат.)
(обратно)
34
© NV Scriptoria, Antwerpen, 1975
(обратно)
35
© NV Scriptoria, Antwerpen, 1975
(обратно)
36
Так в Нидерландах презрительно называли немецких оккупантов.
(обратно)
37
© NV Scriptoria, Antwerpen, 1975
(обратно)
38
© 1975 by Rudolf Geel
(обратно)
39
Персонаж из свиты святого Николая.
(обратно)
40
Осип Цадкин (1890–1967) — знаменитый французский скульптор.
(обратно)
41
Caran d’Ache — псевдоним известного французского художника Эманюэля Пуаре (1850–1909), который родился в Москве и в память о России избрал псевдонимом русское слово «карандаш».
(обратно)
Оглавление
От составителя
Белькампо
ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ
Симон Кармиггелт
Из сборника «Гоняя голубей»
СВОБОДА
ЭТО УЖ ЧЕРЕСЧУР!
Из сборника «Завтра увидимся»
ТЕРПЕНИЕ
БИЛЕТ
Из сборника «Пожилые люди»
ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ЛЕТ!
ЗВЕЗДЫ
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
НАШ СОВРЕМЕННИК
ПИСЬМО
ЮФРАУ ФРЕДЕРИКС
Виллем Фредерик Херманс
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
ДОКТОР КЛОНДАЙК
Ян Волкерс
ЧЕРНЫЙ СОЧЕЛЬНИК
СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Гарри Мюлиш
ГРАНИЦА[13]
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Ремко Камперт
ПОЕЗДКА В ЗВОЛЛЕ
МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
Боб ден Ойл
КРАБЫ В КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ[16]
ЧЕЛОВЕК БЕЗ СТАДНОГО ИНСТИНКТА[17]
УБИЙЦА[20]
Хейре Хейресма
СМЕРТЬ НЕЗАМЕТНОГО СТАРИКА[21]
ТОРГОВЕЦ НЕ ВЕРНЕТСЯ НАЗАД[25]
Геррит Крол
ЖИЛОЙ ФУРГОН
KILROY WAS HERE[28]
ВЕДЬМИНО ГНЕЗДО
Жак Хамелинк
ВОСКРЕСНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
СКВОЗЬ ПЕЛЕНУ И СНА, И СЛЕЗ
Я. М. А. Бисхёвел
ВЕЛОСИПЕДИСТ В МОРЕ
ИСПЫТАНИЕ И НАКАЗАНИЕ
О ЧЕЛОВЕКЕ И МЕДВЕДЕ
Дик Валда
ДЕВОЧКА КРАСНОНОЖКА[34]
НЕ НАВЕСТИТЬ, НЕ ПРИНЕСТИ ЦВЕТОВ[35]
ГОЛУБОК В РУКАХ[37]
Рудолф Геел
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ[38]
Меншье ван Кёлен
ВЕЛОСИПЕД
РАЗРЫВ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАЗРЫВ ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Коротко об авторах сборника
*** Примечания ***