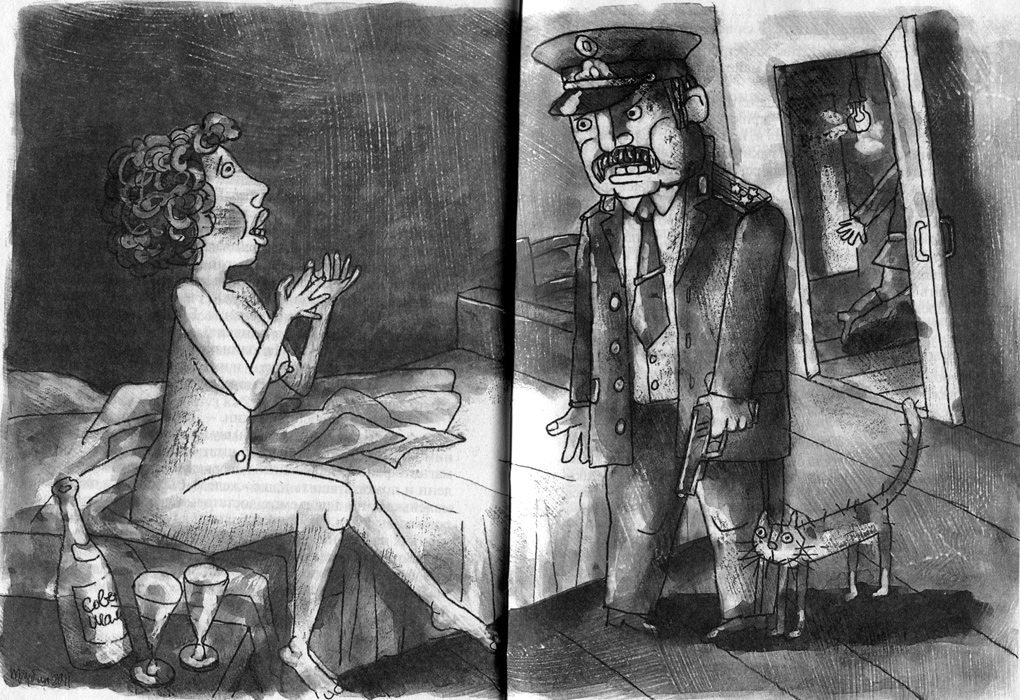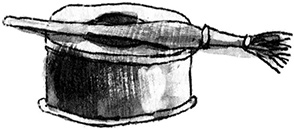Станислав Новицкий
ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ!
Веселые и ироничные рассказы про нашу жизнь


Птахы — наши друзи

Наш школьный учитель биологии, руководивший секцией юннатов, просил иногда учеников старших классов «освещать деятельность кружка» в местной украинской газете. Весной подошла очередь моему другу Толику нести свой опус в редакцию. Он был старше меня на два года, но писать не любил. Попросил меня сочинить о птицах. С материалом я был знаком слабо, в юннатах не состоял, поэтому изложил тему в общих чертах. Примерно так: «Мы любим пернатых друзей, потому что они красивые и весело щебечут. А еще они полезные. Уничтожают вредителей плодовых деревьев. Повышают урожайность фруктовых садов». И так далее. В том же духе. Эдакое бесхитростное признание школьника в любви к родной природе с учетом, как было принято в то время, интересов сельского хозяйства. Статью Толик притащил в редакцию. Вместе со мной. У входа дал еще раз нюхнуть кулак и повторил на всякий случай:
— Никому не говори, что писал ты. А если за эту муть заплатят деньги — поделим честно. Обещаю.
Нас долго гоняли из отдела в отдел, пока один человек не согласился почитать сочинение. Он сидел в отдельном кабинете. На двери висела табличка «Редактор». К кабинету нас подвела какая-то сотрудница. Сказала: «Все равно этому дяде нечего делать». Оглянувшись по сторонам, она приоткрыла дверь и толкнула нас внутрь. Редактор, кажется, спал. Он резко вскинул лохматую голову, поправил очки, удивился и долго не мог понять, что от него требуется. Потом, отругав кого-то по телефону, все же взял из Толиных рук мой листок. Начал читать.
— Не пойдет, — пробежав глазами весь текст, сказал редактор.
— Почему? — спросил Толик и выразительно посмотрел в мою сторону.
— Тебя как зовут?
— Толик.
— А это кто?
— Сережка, мой друг.
— Взял для поддержки?
— Ага. Я это… волнуюсь.
— Так вот, Толик, надо переделать. Необходима редакторская правка.
— Зачем? Я и так согласен.
— Так не годится.
— Почему? — опять спросил Толик.
— Это долгий разговор.
— У меня есть время.
Редактор улыбнулся:
— Ладно, дам тебе урок. Объясню, зачем начинающим корреспондентам нужен редактор. Только вот что. Пока мы здесь работаем, пусть Сережа погуляет.
— Нет, пусть сидит здесь, — заупрямился Толик. — Мало ли чего.
— Думаю, ему будет неинтересно.
— Можно мне остаться, — попросил я. Мне было очень интересно.
— Хорошо, — нехотя уступил редактор. — Только, Сережа, пересядь вон туда в угол. И не мешай. Чтобы ни звука, пока я работаю с автором.
Я кивнул и забился в угол.
Редактор снова нацепил очки и стал читать. Толик разглядывал стены, глупо улыбался и все время мне подмигивал.
В кабинет несколько раз заходили сотрудники, но редактор не отвлекался. Жестом просил всех ожидать за дверью. Наконец отложил мой листок. Сказал, как бы размышляя вслух:
— В общем, казалось бы, придраться не к чему.
Толик разулыбался. И мне было приятно. Похвала обнадежила.
— Но! — редактор поднял вверх палец. — Все любят щебетание птиц. Многим известно, что они полезны. А надо, — редактор искал нужные слова, — хочется, чтобы материал был необычным. Нужно писать как-то особенно. Станешь ты читать газету, в которой печатают одно и то же — «мы любим птиц, потому что они красивые»?
— Нет, — уверенно сказал Толик. — Я вообще газет не читаю.
— Зачем же ты принес это? — редактор поднял листок над столом.
— Учитель попросил.
— Он у вас кто?
— Николай Иванович. Руководитель кружка.
— Может, тебе написать об учителе? Что вы делаете на уроках. Как вы конкретно любите природу. Вы же любите ее не просто так? Наверное, что-то на занятиях делаете? Отправляетесь за город… Слушаете щебетание… Учитесь различать голоса…
— Да, — говорит Толик, — не просто так. На занятиях мы делаем чучела птиц.
Редактору показалось, что он ослышался:
— То есть?
— Ну, конечно, вначале слушаем щебетание. Учимся различать голоса. Учитель нам рассказывает… А потом ставим силки, ловушки с приманкой. Бьем из рогаток.
— Зачем?
— Для чучел.
— А чучела для чего?
— Мы птиц любим. Они красивые. Я же написал…
— Интересный поворот темы, — говорит редактор. — И много вы делаете чучел?
— Все шкафы в классах забиты, — отвечает Толик. — В учительской полно. Если места не хватает, Николай Иванович продает чучела на рынке. Синички, ласточки, жаворонки идут по пять рублей, совы по десять, орлы и соколы по три червонца.
— Стоп! Что-то мы не туда заехали…
— Вот и я думаю — лучше об этом не надо.
— Ладно. Не будем углубляться в детали. Вернемся к твоему варианту.
Редактор начал перекладывать лежащие на столе газеты. Нашел карандаш, ластик и углубился в текст.
— Давай напишем так. Зимой птицы улетают на юг. И нам не хватает, нам не хватает…
— Их песен, — подсказывает Толик.
— Тонкой и неброской красоты, — подхватывает редактор.
— Нас радует их стремительный полет, — читает Толик. — Это оставляем?
— Восхищает гордое парение, — добавляет редактор.
— Веселит душу соловьиная трель… — выхватывает фрагменты из текста Толик. — Пойдет?
Редактор одобрительно кивает. И тут же вписывает от себя, бормоча под нос:
— Тревожит сердце прощальный клекот журавлей…
— Клекочут орлы, — мягко, чтобы не обидеть человека, уточняет Толик, — журавли курлычут.
— Молодец. Материал знаешь.
— Так сколько ж перебито…
— Об этом не надо.
— Понял. Тогда, может, хватит исправлять?
— Пожалуй, да, — соглашается редактор. — И в конце добавим: чтобы пернатые друзья всегда оставались с нами, мы, мы… — запнулся он. — Как вы это делаете?
— Что?
— Ну, эти. Чучела.
— Очень просто. Сначала потрошим. Кишки выбрасываем. Потом аккуратно, чтобы не повредить оперение, снимаем кожу. Выворачиваем наизнанку.
— Все?
— Нет. Шкурим. Протравливаем раствором мышьяковистого натрия или медного купороса. Оголенный череп отрезаем от тушки. Удаляем глаза, язык, мышцы. Через затылочную кость вытаскиваем мозг…
— О боже! Это зачем?
— Чтобы не гнил. Протравливаем весь череп…
— Стоп! Хватит, — поморщился редактор, — обойдемся без этих ужасных подробностей.
— Я понимаю. Поэтому не рассказываю, сколько от них кровищи. А какой запах — настоящая вонь! Кстати, об этом можно «написать как-то особенно…» — Толик с намеком посмотрел в мою сторону.
— Не думаю, что это понравится читателям.
— Но это правда.
— Запомни, не всякая правда годится для печати, — назидательно сказал редактор.
— О том, что тушки мы жарим на углях, тоже не упоминаем?
— Жарите? — удивился редактор. — Но зачем?
— Для еды.
— Вы их едите?
— Естественно.
— О господи!
— Не пропадать же добру. Тем более в магазинах никогда не бывает мяса. Да и хлеб с перебоями. Причем хлеб кукурузный. Вы не знаете, когда, наконец, появится нормальный пшеничный хлеб? Я не говорю белый там или серый. А хотя бы черный обычный хлеб.
— Стоп! — редактор почему-то разозлился. — При чем тут это? Ну при чем тут это?!
— Я понимаю. Мне и родители говорили: «Это нельзя обсуждать вслух».
— Вернемся к птичкам, — недовольно сказал редактор. — К природе!
— Хорошо, — говорит Толик. — Вернемся. Что, если написать честно? На природе, с дымком — птицы очень вкусные.
— Ты вообще нормальный?
— Как все. Не верите? Спросите у любого из наших. Можете сами попробовать.
— Боже упаси!
— Понятно.
Редактор долго не мог сосредоточиться:
— Давай изложим так. Чтобы сохранить воспоминания о наших пернатых друзьях, мы оставляем их на зиму в классах… неживыми.
— Да, — говорит Толик, — можно и так написать. Неживыми чучелами.
— На переменах мы долго любуемся ими…
— Нет, про это не буду.
— Почему?
— Мы же не сумасшедшие. На переменах мы стоим в очереди за чаем. Или играем в футбол. Или гоняем девчонок по школе…
— Логично, — согласился редактор. — Теперь давай поработаем над концовкой.
— Давайте.
— Мы не просто рассказываем о любви к природе. Правильно?
— Так.
— Через газету мы обязаны давать пример. Газета не только информатор, но и пропагандист, организатор.
— Вам видней.
— В конце должен быть какой-то толчок. Призыв к действию.
— Согласен, — отвечает Толик. — Это как у нас в классе. Кто-то говорит: «Ленька Слободянюк ябедничает учительнице». И призывает к действию: «Давайте набьем ему морду!»
— Верно, — согласился редактор, — ты все схватываешь на лету.
— Как птичек из рогатки.
— Подумай, как закончить.
Над концовкой они трудились вместе. Получилось оптимистично. «Ребята, если вы любите природу, записывайтесь в наш кружок. Мы научим вас делать чучела птиц. И вы будете окружены пернатыми друзьями каждый день. Вы всегда будете общаться с прекрасным!»
— Что ж, неплохо, — потер ладони редактор. — Есть изюминка. Есть необычный поворот. Ищем подзаголовок. «Лабораторные опыты учащихся!» Нет? «Забавы перерастают в ремесло!» Уже лучше.
— Может, «С ножом по жизни!», — предложил Толик. — Недавно я видел фильм с похожим названием. Про гитариста.
Редактор поморщился:
— Давай так: «Маленькие шаги в большой мир взрослых».
Толик повернулся ко мне. Подмигнул. Наискось царапнул большим пальцем по шее, уронил голову и вывалил язык.
Редактор вписал подзаголовок и откинулся на спинку кресла, как бы любуясь хорошо выполненной работой:
— Что было — и что стало. Видишь?
— Вижу.
— Есть разница?
— Есть.
— Вот зачем нужен редактор! Ясно?
— Ясно.
— Что именно?
Толику было ясно: если сам газетный начальник приложил руку к тексту, он обязательно будет напечатан. Но об этом он промолчал.
— Так, что тебе ясно?
— Материал стал лучше.
— Во-от.
— И длиннее, — добавил Толик. — Мне учитель сказал: «Пиши много. Больше начислят денег». Вы мне заплатите?
— А ты, я смотрю, — редактор шутливо погрозил, — мальчик не промах. Вот что. Завтра я направлю в школу фотокорреспондента. Он снимет ваш кружок юных натуралистов. Передай Николаю Ивановичу, чтоб готовился.
Толик передал. Учитель пообещал ему пятерку за четверть. В смысле оценки.

Статья в газете вышла с огромной фотографией. На снимке — все юннаты нашей школы. Отъявленные любители природы. Человек двадцать. Каждый держал в руке чучело. Все, кроме птиц, счастливо улыбались. Публикация называлась «ПТАХЫ — НАШИ ДРУЗИ!». Что в переводе с украинского означало «ПТИЦЫ — НАШИ ДРУЗЬЯ!».
Из-за этой фотографии хулиган и трижды второгодник Юрка Вишневый двинул Толику правой по морде. Попал в левый глаз. Понять Юрку можно. Он фотографировался на переднем плане. В одной руке держал чучело совы, в другой — свою знаменитую рогатку. Этим инструментом он очень гордился. На ручке делал зарубки по количеству точных попаданий. В газетном варианте сова и рогатка таинственным образом исчезли — Юрка красовался с журналом «Пионер» в корявых руках.
— Ты куда дел рогатку, писатель? — долго пытал он Толика в темном углу школьного коридора.
Ни я, ни Толик сами не могли понять. С «Пионером» в руках Юрка действительно смотрелся как-то придурковато…
Был в этой истории и приятный момент.
За статью Толику прислали гонорар — шестьдесят две копейки. На них мы купили две бутылки лимонада. И три конфеты «Ласточка» на сдачу.
— Завязываю с этим писательством, — осторожно трогая фингал, сказал Толик. — И тебе не советую. Не доведет это до добра. Да и платят в газете не очень. Скажу тебе как юннат со стажем, — ловкими движениями Толик аккуратно вырвал тело «птицы» из бумажного фантика. — Иди к нам. На одном чучеле ласточки можно заработать в десять раз больше.
 (обратно)
(обратно)
Еврей

Лет через шесть после нашей свадьбы звонит взволнованная жена из Ленинграда и спрашивает: «Сережа, ты и вправду еврей?»
Главное, всего два дня назад уехала в командировку, и такой срочный вопрос по телефону.
Я давно привык к этим странным, исходящим неизвестно откуда волнам нездорового интереса: «Где ты шлялся сегодня ночью?», или «Почему ты не член КПСС?». Тут главное — не торопиться с ответом. Выяснить побудительные мотивы. Угадать ход мыслей.
— Ты и вправду еврей?
После обязательной в таких случаях паузы отвечаю асимметрично:
— Помнишь, у Слуцкого — «все мы немножко лошади…».
— Говори конкретно, — оборвала жена, — надоели твои вечные отговорки.
— Если люди немножко лошади… Почему им не быть чуточку евреями. А что?
— Ничего. Просто зачем было скрывать? Почему об этом я узнаю последней, от чужих людей?
На линии слышен треск. Откуда-то донесся стон упавшей гитары.
— Значит — жид? — после паузы сказал мужской голос.
Аппарат у нас параллельный. Иногда трубку берут соседи.
— Слушайте, дайте поговорить. Вера, что за странные вопросы? Какой я еврей?
— Не говорю, что это плохо. Но мог бы признаться.
— Ерунда какая-то. Легко докажу, что это не так. Вчера, например, меня занесли в чужую квартиру и бросили мимо кровати. Ты знаешь евреев…
— Не отпирайся. Тебя видели на еврейской сходке. Ты был там запевалой.
— Вера…
— Молчи. Мне сегодня звонили Кузнецовы… Почему ты такой?
— Какой?
— Скрытный.
Да, позвонили утром жене в Ленинград знакомые. Не могли дождаться ее возвращения из командировки. Денег не пожалели, что на них не похоже. Прямо настоящие друзья.
— Вера, — сообщают, — есть две новости. Одна хорошая, а вторая странная какая-то.
Жена отвечает:
— Давайте с хорошей. Странных у меня без вас хватает.
Кузнецовы докладывают:
— Хорошая новость. Наконец-то сбылась мечта твоего мужа. Он пел.
— Это все?
— Нет. Утром в новостях его показывали по телевизору. Представляешь — пел! Теперь спроси где.
— А чего спрашивать? — привычно отвечает жена. — Ванная, кухня, туалет — вот пространство, соответствующее масштабу его личности.
— Вера, ты не поверишь. Он пел в большом зале обкома партии! Пел соло! С ума сойти. Мы в восторге.
— А вторая новость какая?
— Твой муж — еврей, — сказала Кузнецова.
— Нет, предводитель евреев, — авторитетно заявил в трубку Кузнецов.
— И песню он исполнял странную, не нашу.
— Против русских, — с казал-отрезал Кузнецов.
Самое интересное — это соответствовало и моим смутным ощущениям. Пришлось напрячься. Что же было вчера — до того, как знакомые занесли меня по ошибке к соседям, а потом отволокли домой?
Вечером позвонил Аркадий — мой приятель из обкома КПСС. Молодой, перспективный инструктор. Мы с ним когда-то работали в одной мехколонне. Потом он заделался секретарем комитета ВЛКСМ управления связи — я поехал в сельский район. Аркадий перешел в райком комсомола — меня разжаловали из прорабов в мастера. Он выдвинулся в инструкторы обкома партии — меня отправили в самое глухое место области достраивать запущенный лесхоз. Карьеры наши развивались стремительно, но в разных направлениях. Его ждало светлое будущее крупного партработника. Меня — судьба типичного неудачника.
Как-то встретились.
— Все мотаешься по области?
— Приходится.
— Не надоело?
— Конечно. Я же не сумасшедший.
— Вот и я о том же, — говорит Аркадий, — подумаю, что можно для тебя сделать. Червонец найдется?
Через неделю звонит:
— Слушай, в Октябрьском райкоме комсомола освободилось место инструктора. В отделе работы со школьной молодежью.
— Это где?
— Центральный район города, тундра. Если хочешь, подай заявление.
— Вот так, с улицы?
— Почему с улицы. Я поговорю с кем надо. Возьмут.
— Спасибо, конечно, но сомневаюсь. Какой из меня инструктор? Я, например, без слов-паразитов давно не разговариваю.
— Без мата, что ли?
— Ну да.
— Они тоже.
— Кто? Школьники?
— Коллеги по комсомолу. Не дрейфь. Соглашайся. Это — не на всю жизнь. Осмотришься, заведешь связи. Потом выдвинем в райком КПСС. Затем — инструктором в промышленный отдел. Мне свои люди не помешают. А ты парень башковитый, продвинешься.
— Этого я и боюсь, — отвечаю. — Встану на скользкую дорожку. Не соскочить.
— Слушай, ты хотя бы комсомолец?
— Конечно, — говорю. — Отчетливо помню. Вступал. Отметили. В тот день впервые попал в милицию…
— Тогда пиши заявление, — не дослушал Аркадий, — а там посмотрим.
Подумал-подумал. Поговорил с женой. Она согласилась сразу.
В общем, написал я заявление.
В назначенный день пришел в горком комсомола. За столом — комиссия. Человек пять моего возраста. Спросили, почему без значка. Говорю: «Он у меня на рабочей телогрейке остался. А так я без значка в лесу ни шагу». Начали спрашивать, мол, почему иду в отдел школьной молодежи.
Вспомнил, что студентом тренировал второклассников из подшефной школы. Играл с ними в футбол. Еще вел кружок авиамоделирования… Соврал конечно. В детстве хотел в него записаться. Это правда.
— Хорошо, — говорят. — Трудности вас не пугают?
— Нет, — отвечаю. — Я пять лет — мастером на стройке. Давно ничего не боюсь.
— Ладно. Завтра приходите со всеми документами. Будем оформлять.
Вечером звонит Аркадий.
— Как собеседование?
— Вроде берут.
— Еще бы, — отвечает. — Звонок из обкома КПСС пока еще кое-что значит.
— С меня бутылка, — говорю.
— Так ты оценил руководящую и направляющую роль партии?
— Налью больше. Не вопрос.
На следующий день прихожу в обком ВЛКСМ. Начинают оформление. В комнате сидят те же люди. Дают взглянуть на проект решения. Все верно. Я, такой-то, рекомендован на должность инструктора Нарьян-Марского окружкома в Ненецком национальном округе…
— Все, как вы хотели, — говорят. — Направляетесь в отдел работы со школьниками.
Я отвечаю:
— Подождите, братцы. Точно в Нарьян-Мар?
— Нуда.
— Это ж в другую сторону от цивилизации.
— Вы сказали — не боитесь трудностей.
— Погодите. Дайте подумать.
Выскакиваю за дверь — и ходу.
Звоню Аркаше:
— Ты куда меня хотел сослать? Нарьян-Мар — это еще полтыщи километров строго на север. Решил сгноить окончательно?
Он завелся:
— Сейчас, — говорит, — разберусь.
Через минуту звонит. Ржет во все горло:
— Это они пошутили. Ищут тебя по всем этажам. Иди оформляйся.
— Нет, — говорю, — не пойду.
— Иди. Они берут тебя в Октябрьский райком. Нормальная, говорят, реакция здорового человека. Вот если б ты моментально согласился на Нарьян-Мар — стали бы думать. Требовать справку из психоневрологической клиники.
— Зачем?
— Проверить, можно ли с таким идиотом связываться.
— Нет, я отказываюсь. Сами-то вы нормальные?
— Как хочешь, — смеется Аркадий. — У нас иногда в обкоме тоже так шутят.
«Господи, — думаю вечером, — как хорошо, что так получилось. Конечно, теперешняя жизнь не сахар. Но податься в комсомол… Погубить душу… Просто затмение какое-то нашло. Нашло, а потом развеялось и прояснилось…»
Жене сказал просто:
— Не взяли. Недостоин.
— Естественно, — отвечает. — Кто б сомневался.
Так вот, вчера Аркадий позвонил снова. Предложил входной билет на «интересное мероприятие»:
— Концерт необычный, — честно предупредил он. — Только для представителей еврейской общины. Я должен быть там по службе. А одному идти как-то неудобно. Пойдешь за компанию?
— Аркаша, я-то при чем?
— Для поддержки. Это мое первое самостоятельное мероприятие. Все под мою ответственность. Знаешь, сколько пришлось готовиться? Прочитал кучу специальной литературы. Хочешь, расскажу?
— Нет.
— Вот слушай. Мчится пассажирский поезд. Вдруг сворачивает с рельсов и летит по полю, через кустарники, лес, речку, опять по кочкам… Наконец остановился на лугу. Пассажиры из вагонов выскакивают, бегут к машинисту. Орут: «Что произошло?» Он отвечает. Еду я, мол, по рельсам, а на них сидит человек. Присматриваюсь — еврей.
— Так надо было давить! — кричат пассажиры.
— Дык я и задавил.
Аркадий долго смеется в трубку.
— Знаю я этот анекдот, — говорю. — Еще в третьем классе проходили.
— А вот еще…
— Слушай, времени — в обрез. Куча дел.
— Пойдем, Серж. Ты же учился в Одессе.
— И что?
— Может, своих увидишь.
— Все мои знакомые одесские евреи давно в Израиле.
— Странные у тебя знакомые, — шутит Аркадий, — сплошные изменники Родины. Надо к тебе приглядеться.
— Вы сами их отсюда выжили.
— Ладно, — говорит Аркадий, — живи. Теперь политика изменилась. Сейчас зовем всех обратно.
— Ну и как? Много вернулось?
— Пока нет. Приходится с ними работать. Видишь, общины создаем. Концерты организуем. Докатились…
«Шалом!» — висел плакат над входом в концертный зал обкома партии. И ниже — «День еврейской культуры».
— Всего день? — говорю Аркадию, поднимаясь по ступеням. — Не густо.
— А что, с ними весь год цацкаться?
Заходим внутрь. Аркадий куда-то исчез. Занялся «организационными вопросами». Я остался в фойе. Осмотрелся. На стенах фото передовиков. Портреты членов обкома. Растущие экономические графики краснеют под стеклом… Гляжу, жизнь внутри здания практически соответствует темпам экономического роста. Хороший ремонт, яркий свет, богатый буфет. Я взял бутылку «жигулевского». Без очереди! Впервые за много лет. Открыл. Приложился к горлышку. «Хорошо!» — есть такая поэма у Маяковского. В городе пиво свободно не продавалось. Сметали за минуты. Здесь — пожалуйста. Без очередей и мордобоя. Из закусок — рыбное филе, заливные оленьи языки, треска под маринадом, икра двух цветов из романа Стендаля. Впервые увидел сушеные бананы. Впрочем, я и свежих, кажется, не пробовал.
Прозвенел звонок. Откуда-то появился Аркадий. Вынул бутылку из моих рук.
— Ты хотя бы стакан взял, что ли. Совсем одичал в лесу.
— Помнишь, Аркадий, как нас самогоном угощали в деревне Людоедово? Тебя оторвать не могли от трехлитровой банки.
— Ну, это когда было, — в голосе Аркадия послышались теплые нотки. — Пошли, деревня.
Народ в зале подобрался особый — культурный, интеллигентный.
Был диктор местной студии телевидения. Его я знал по ежедневным новостям. Несколько здешних ученых, известных мне опять же по телевизионным программам: врач-стоматолог Шнейдер, которого я не сразу узнал. В этот вечер он, как большинство мужчин, надел маленькую черную кипу. Даже нацепил пейсы.
Смотрю и удивляюсь: публика в северном городе, как в одесской филармонии.
С Аркадием мы сели на места, отведенные для представителей власти. Наши кресла заранее были обозначены красными ленточками. Осматриваюсь. Слева и справа в ряду — никого. Похоже, русских, кроме нас с Аркадием, в зале вообще нет. Точно, ни одного.
Собрание началось вовремя. Что удивило: на сцене за журнальным столиком всего один человек — ведущий. «Почему же, — думаю, — на сходках коммунистов в президиум набивается столько народу? То ли партия боится остаться на виду одна, без прикрытия? То ли специально подчеркивает единство с рабочими, колхозниками, трудовой и научной интеллигенцией? На сегодняшнем собрании все проще. Даже выступают не по заранее подготовленному списку».
Желающие говорить подавали записки ведущему. Потом выходили на сцену. Болтали о чем-то своем…
Я не прислушивался. Думал, как через пару дней, после закрытия нарядов, вернусь в лесхоз. Как буду сдавать объект рабочей комиссии: «Сейчас бригада пьет. Это понятно. Приеду, всех приведу в чувство. Здесь нет проблем. А вот площадок для конечных опор не хватает. Чем довезти? Может, снова пассажирским вагоном? Восемь площадок по девятнадцать килограмм. Или килограммов? Это сколько? Восемь на девятнадцать…»
В прошлый раз я вез с собой четырнадцать бухт провода, кабельные ящики, аппарат для сварки. Почтовый вагон был забит. Багажный отсутствовал. Загрузил все в тамбур пассажирского. Наслушался матов… Хорошо, что бригадир поезда согласился взять меня с грузом. Пришлось отдать свое место для перепродажи. Плюс две бутылки водки. Ночью не спал. Охранял государственную собственность. «А как иначе? Без присмотра груз не проедет и двух остановок…»
Послышались аплодисменты. Я снова «вернулся» в зал, представил: «Вот если б со мной ездили такие культурные люди, как эти, то можно бы и не дежурить в тамбуре. С другой стороны, что делать евреям в общем вагоне?»
Кажется, Аркадия пригласили на сцену. Поднимаясь, он нарочно задел меня коленом. Пришлось сосредоточиться. Аркадий вышел к микрофону. Бойко зачитал приветственный адрес. В заключение сказал: «Нас, представителей других национальностей, в зале немного (он показал на меня, одиноко сидящего в третьем ряду). Но все советские люди мысленно с вами и в этом дворце, и в тесной шеренге братских народов Социалистической Родины!»
Под вежливые аплодисменты Аркадий вернулся на место.
— Ну как? — тихо спросил, глядя по сторонам.
— По-моему, выразительно, громко. Зря меня приплел, — сказал я. — С другой стороны, почти никто не слушал. Напрасно распинался.
— Ай, — Аркаша махнул рукой, — не очень-то и надо.
В зале громко зааплодировали. На сцену поднялась Сара Адольфовна Арцимович. Потом вышел Моисей Хаймович Гауптман. Свои выступления они начинали на иврите.
— Аркаша, откуда в городе столько евреев?
— А где их нет? — отмахнулся Аркадий. — Пусть живут, раз не довезли до Сибири.
— Ты как-то… неласково про подшефных…
— Знаешь, сколько крови выпили, пока готовили вечер? То не так. Это не эдак. Привередливые — ужас. Не желают, как у всех, еврейские морды. Хотят, чтоб у них лучше было.
— Может, это хорошо?
— Во всяком случае, не для меня.
Выступления и доклады как-то незаметно перешли в концерт. На сцене появился скромный камерный оркестр — несколько скрипок, контрабас, фортепьяно. Ударник прошелся по тарелкам, задавая ритм и настраивая публику. Солист московского ансамбля — молодой человек с густыми черными волосами, прижатыми сверху кипой, быстро завладел вниманием зрителей. Его светлый костюм бабочкой- капустницей метался по залу. Мотылек то и дело слетал с подмостков. На секунду присаживался на свободное кресло рядом с какой-нибудь симпатичной брюнеткой. Вспорхнув, перелетал в другой ряд. Затем опять мелькал на сцене. Подпевали ему дружно. Всем залом. В основном куплеты из советских песен. Потом зазвучали знакомые одесские мелодии. Знаменитые «Семь сорок», «Тумбалалайка», «Еврейское танго»…
Все как в Одессе. Вспомнились Приморский бульвар, Дерибасовская. Нежный запах акаций. Звуки портовых кранов. Глубокое дыхание прибрежных волн… И везде, в каждом уголке города — эти чудные еврейские мотивы с вежливо-сдержанным тромбоном, глухим барабаном и нежной, пронзительной скрипкой. Точно такой, как сейчас на сцене…
— Кажется, все нормально, без провокаций, — шепнул довольный Аркадий. — Пойду телефонирую начальству и, пожалуй, отчалю. Если завтра позвонит Галина, скажешь, были на мероприятии вместе.
— Долго?
— Думаю, до утра.
Галка — жена Аркадия. Мы с ней были почти незнакомы. Иногда она звонила мне, разыскивая супруга.
— И еще, если что-то пойдет нештатно…
— Например, — говорю, — весь зал напишет коллективное заявление о приеме в КПСС?
— Отстань.
— Добровольно осудит антинародную политику Ицхака Рабина?
— Ну, типа провокаций. Позвони мне. Я буду по этому телефону.
Аркадий сунул мне бумажку с цифрами.
— О чем ты? Какие провокации? В зале приятные люди. Поют, отдыхают…
— Знаю я этот контингент.
— Вот если я сообщу этот номер твоей супруге, — говорю, — тогда точно все пойдет нештатно и с провокациями.
— Думаешь?
— Уверен. Знаю я этот контингент.
Аркадий слегка ткнул меня локтем. Затем поднялся. Сделал несколько полупоклонов. Направился к двери. Вся его фигура изображала сожаление и досаду. Короткий взгляд на часы. Удивление: как быстро летит время! Озабоченность. Внутренняя борьба между удовольствием и долгом. Принятие непростого решения. Очень все интересно, свежо, самобытно… Но, увы, нет времени. Дел невпроворот. Энергичное движение к выходу. И все это за несколько секунд.
Солист, глядя на захлопнувшуюся за Аркашей дверь, оживился. Допел лирическую и энергично взмахнул рукой.
— А сейчас давайте вместе споем нашу!
Оркестр слаженно поменял мотивчик. Запели о чем-то своем, наболевшем. Сначала артист. Потом всем залом. Сперва на родном, затем по-русски. Куплет я не понял. Из припева запомнил одну фразу: «Назло юдофобам и антисемитам давайте будем петь, петь и веселиться».

После финального аккорда зал взорвался овацией. Оркестр заиграл на бис. Солист пошел вдоль рядов, иногда протягивая микрофон. Зрители охотно подпевали. Изредка он поглядывал в мою сторону и как-то нехорошо улыбался. Через несколько куплетов микрофон оказался передо мной. Внимательный еврейский артист сделал так, чтобы мне достался припев. В знак уважения к русскому исполнителю зал притих. Аркадий предупреждал о провокациях, но… не спеть, отказаться было как-то неудобно. Я негромко промямлил: «Назло юдофобам и антисемитам давайте будем петь, петь и веселиться». Кажется, получилось неважно. Оркестр виртуозно сделал проигрыш и вышел еще раз на припев. Солист попросил меня встать и спеть громче.
— Не стесняйтесь. У вас непвохо повучается. Свазу видно — наш чевовек в обкоме.
— Я не из обкома.
— Ховошо, ховошо, — отведя микрофон, согласился артист, — вы не из обкома, я не еввей. Мы все понимаем. Наш двуг споет еще раз от чистово севдца! — закричал он снова в микрофон. Зал отозвался аплодисментами.
Эх, была не была! Когда еще придется спеть под оркестр. Да с такой компанией. Чего, собственно, опасаться? Я встал и широко раскинул руки в знак нерушимой дружбы русского и еврейского народов:
— Назло юдофобам и антисемитам, евреи, будем петь, петь и веселиться! — в унисон с оркестром несколько раз громко пропел я. Успех был потрясающим. Овации — бесконечны. Во всяком случае, так мне казалось. Операторы местных телекомпаний сняли это целиком и крупным планом.
После концерта мне жали руку, давали адреса, звали в гости. Спрашивали: «И чем наши люди занимаются в обкоме?» Вручили кипу и пейсы. Сфотографировали в них же. Затем я выпил с новыми друзьями в буфете, в кафе, еще где- то. Вспомнилось «…евреи, евреи, а оказалось, нормальные пьющие люди». Потом я встретил знакомых — Федю с Михалычем. Ночью они принесли меня к соседям… Потом, исправляя оплошность, сбросили на пол в нашей комнате.
Наутро, после выхода теленовостей, я проснулся знаменитым. Мое сольное выступление показали в заключительном культурном блоке. Знакомые тут же телефонировали жене. Она — мне, из Ленинграда. Звонили друзья. Подначивали и шутили.
Но были и абсолютно неожиданные, странные, дикие звонки. Неприятно удивил Аркадий. Он тоже увидел меня в новостях.
— Не ожидал. Крепко ты меня подставил, урод… Только что завотделом обещал меня выгнать.
— Ты ни при чем, — говорю. — Пел я один.
— Все видели, что мы пришли вместе! — закричал Аркаша. — И сидели рядом!
— Что из того? Сидели и сидели. Подумаешь…
— Как ты не понимаешь! Телевизионщики выдали сюжет из-за тебя. Решили, что и ты человек из обкома. Раз поешь — значит, так надо. А ты оказался скрытым евреем, провокатором. Скотина ты.
— Брось, Аркаша. Уволят — перейдешь к нам. Ты же был когда-то нормальным инженером. Снова вместе с товарищами рванем в Людоедово…
— Запомни, я тебе не товарищ. С этого дня знать тебя не хочу, еврейская морда.
— Тогда вот что, Аркадий, можешь считать меня не скрытым, — говорю, — а открытым евреем.
— Что?
— Назло юдофобам и антисемитам мы будем петь, Аркаша, петь и веселиться!
Я бросил трубку. Тут же раздался звонок. Незнакомый голос пообещал сделать обрезание тупым предметом без наркоза.
Вот как узнал мой номер?
Звонки с угрозами не прекращались.
Какая дикость! Сколько нового я узнал за одно утро после нескольких прозвучавших с экрана абсолютно безобидных слов. Конечно, кое-что я читал в прессе и раньше. И все же не представлял, что тема настолько актуальна. Главное, как внезапно и с какой неожиданной стороны раскрываются люди.
Позвонил секретарь комитета комсомола нашего строительно-монтажного управления. Креатура Аркадия. Тоже оказался еще тем антисемитом.
— С кем ты связался? — начал секретарь. — Кто и что может быть противней?
— Ты про Аркадия? Так я с ним только что порвал. Окончательно.
— Не паясничай. Я все видел. И слышал. Что может быть хуже?
— Как что? — говорю, перед тем как бросить трубку. — Например, обрезание. Его только что обещал мне сделать незнакомый добрый соотечественник.
Кстати, — думаю, — жаль, что он не сообщил о грядущей операции первым. Я бы нашелся что ответить жене: «Ну, какой я еврей? Ты же видела».
 (обратно)
(обратно)
О чем гудят провода

За стеной нашего малосемейного общежития шумная компания встречает Новый год. Вернее, еще провожает старый. Пару часов назад они начали «стрелять» шампанским. Теперь вовсю поют и танцуют. Кто-то отбивает такты на батареях.
Я сижу над белым, нетронутым листом, пишу вторую в жизни статью в газету. Не то чтобы от безделья взялся за перо или жутко хотелось творчества. Жизнь заставила. И Галя Малинина — знакомая корреспондентка областной партийной газеты.
Начало дается с трудом. В голове крутятся дурацкие рифмы:
«Писать стихами нелегко… дает корова молоко…»
Хорошо, что не пошел на журфак, — думаю. — Это же такое мученье — сочинять тексты. Хотя и мне не позавидуешь. Закончил технический вуз. Мечтал о космосе — распределили в тундру. Видел себя в Центре управления полетами, а залетел на Крайний Север. Строить телефонные линии, закапывать опоры и километр за километром натягивать провода. Они уже мне снятся. Десятки, тысячи унылых креозотных столбов с обвисшими проводами. Иногда в их длинной серой веренице мерещится яркая опора с надежной широкой петлей. Она манит и неудержимо тянет к себе, обещая покой, блаженство и цветущие райские кущи. Но это уж когда совсем плохо. Как сейчас.
В Малежме, небольшом северном леспромхозе, я застрял на три года. Командую бригадой из двенадцати человек. Пока устанавливаем столбы и натягиваем провода в одном конце, на другом, за сотню километров от нас, все приходит в негодность. Опоры проваливаются в болото. Провода рвутся. Иногда их сматывают и увозят охотники, рыбаки и туристы. Всем ясно, что телефонные линии должны обслуживаться постоянно. Но для этого их надо сдать в эксплуатацию. Пока не удается. Нет конечного оборудования. Отсутствует аппаратура уплотнения. Леспромхоз вот уже несколько лет не может ее приобрести.
Наша ПМК поддерживает линии как может. На свой страх и риск. Сдать нельзя и бросить жалко. Сколько это будет длиться — не знает никто. Год? Два? Десять? Кому жаловаться? Некому. Сами виноваты. Как выразился главный инженер: «Взялись за объект под „честное слово“, неукомплектованное материалами».
Последние месяцы все осточертело. Хожу сам не свой. Как быть?
— Напиши об этом в прессу, — сказала как-то подруга жены Галка Малинина, корреспондент областной партийной газеты. Пока начинающий…
— А толку?
— Нет, ты напиши.
— Может, сама?
— Не моя тема. — Галка числится в отделе социальной защиты. — Вот если б ты был инвалидом…
Легко сказать: напиши. Как писать? Когда? В лесу? В вездеходе? В лесных избушках, где мы ночуем, не снимая валенок и телогреек? Не до этого. В городе? Здесь я бываю ежемесячно. Приезжаю на три-четыре дня закрывать наряды. И тут не до писанины. Едва успеваешь сбегать в баню, магазин, парикмахерскую. А еще надо поиграть с женой. Поговорить с дочкой. То есть наоборот. Аня ходит в детский сад. Вчера, когда забирал ее из группы, забилась в угол, расплакалась. Не узнала. Испугалась чужого бородатого дядю.
Где найти время для статьи? Решил начать сегодня, тридцать первого декабря. Казалось бы, простое дело. Но проходит час, другой, а на столе по-прежнему нетронутый лист бумаги.
Подхожу к окну. По заснеженной темной улице спешат редкие прохожие. Один тянет за собой елку. Интересный тип. На часах — без пяти двенадцать. Человек с елкой тоже смотрит под рукав и прибавляет ходу. Потом начинает бежать. Елка цепляется за кусты и сугробы. Человек бросает ее в сторону и мчится навстречу Новому году. Все правильно. Пора и нам…
— Вера! — кричу жене на кухню. Они с Анькой весь вечер сидят там, у плиты и телевизора. Не мешают папке. — Неси шампанское! Новый год все-таки!
К концу новогодних праздников отдаю статью Галке.
— Только, — говорю, — я не могу подписаться.
— Почему?
— Неудобно как-то. Ведь я сам работаю в ПМК. И получается, как бы критикую родную организацию за то, что ввязалась в стройку. Не забывай, я прораб на этом объекте.
— Хорошо, — говорит Галка, — используем псевдоним. Какой, например?
— Не знаю.
— Девичья фамилия матери?
— Ефимова.
— Так и подпишем: Сергей Ефимов.
Прошло несколько месяцев. Я снова уезжал в командировки, возвращался. Про статью забыл. Не до этого. Весна полноводная, ранняя. Линия без надзора валится. Надо дополнительно ставить угловые опоры, укреплять пасынками. Кое-где придется менять ригели, докручивать банты. Кабель на вставках начинает «мокнуть». Следует проверить концы на герметичность. В общем, круглые сутки в вездеходе. Приехал в город, а через два дня надо обратно. Утром бреюсь. Лицо черное, кожа задубела. Бритва не берет. Настроение мрачное.
Вчера опять был скандал. Вера стала трепать мою шевелюру и вдруг закричала: «Что у тебя на голове?» Вскочила. На подушке шевелилось маленькое существо.
— Ничего особенного, — говорю. — Обыкновенные вши.
— Какой ужас!
— А чему удивляться? Кругом жизнь. Нас окружают миллиарды бактерий. В животах глисты. В матрасах полно клещей. От этого никто не умирает.
Жена пригляделась:
— У тебя на волосах белые точечки…
— А, это, — выдергиваю пару волос. — Ничего страшного. Это личинки.
Вера отшатнулась:
— Боже, до чего ты докатился…
— А что ты хочешь? Живем в вездеходе. Спим вповалку. Моемся редко. Да и не смывается эта зараза водой. Готовим на кострах, едим руками…
— Прекрати. Ты стал совершенно невозможным…
— Да, за пять лет я одичал. Стал, как некоторым кажется, нечувствительным и грубым. Но кому-то надо там работать. Иди же сюда…
Жена брезгливо отшатнулась. Накрыла простыней детскую кроватку.
— Не подходи к ребенку! Я с тобой спать не буду. — Потащила одеяло на кухню. — Лягу здесь, на полу.
— Это еще почему?
Напрасно спросил. Ответ типовой, как наша пятиэтажка. «Ты мне жизнь испортил! Что я от тебя вижу? Одиночество! Пустоту! Стирку, уборку, глажку! Столько парней за мной ухаживало. И каких! Многие красивые, умные, интеллигентные хотели жениться на мне!»
Прямо шекспировские страсти в малогабаритной хрущевке: «О, нет в жизни справедливости!»
— Где ж ей быть, — соглашаюсь. — Может, и хотели на тебе жениться многие, а не повезло мне одному.
Лучше бы промолчал. Такое началось. Ну, вы знаете…
— Ладно, — говорю, — давай я на полу. Мне привычней.
Утром, побрившись, включил радио на кухне. Вдруг… Не может быть! Диктор в обзоре материалов областной газеты называет мою статью. А дальше, мама дорогая, коротко и емко излагает весь негатив: «сотни тысяч рублей закопаны в землю», «рушатся линии», «падают опоры».
«Что за бесхозяйственность? — это уже от себя задает вопросы обозреватель. — Куда смотрит промышленный отдел горкома партии? Почему до сих пор не уволен начальник ПМК?»
Вот накрутили. Многое, конечно, в статье было. Но так сгустить. Так сформулировать… А в конце диктор говорит: «Только благодаря автору статьи, журналисту Сергею Ефимову, широкой общественности стали известны все эти неприглядные факты».
У, е-мое!
Не успел позавтракать, уже стучат в дверь. Открываю. Стоит водитель начальника ПМК.
— Хорошо, что не спишь, — говорит. — Поехали. В конторе тебя давно ждут.
— Кто? — спрашиваю.
— Да, можно сказать, все. Там такое творится…
Приезжаем. Водитель сопровождает меня до кабинета начальника. Открываю дверь, а там — человек пятнадцать. Начальник, зам, главный инженер, секретарь парткома, руководитель профкома, ПТО, бухгалтер, главный комсомолец… — весь цвет конторы. Сидят, куревом чадят и газету областную перечитывают. Когда зашел, на меня все уставились.
— Читал? — спрашивает начальник, подняв газету.
Молчу.
— Читал? — спрашивает еще раз.
— В первый раз вижу, — говорю.
— Вот, твою мать! — сорвался парторг. — Почему мы с утра тут сидим? Заметь, всем активом! Бегом, как только услышали недобрую весть, партия, профсоюз, комсомол — все бегом на работу. А ты — первый раз видишь. Мы до дыр затерли, а ты — «первый раз». А меж тем — кто прораб на этом объекте? Да ты должен был вперед всех знать! Понял?
— Нет.
— На, читай, — говорит начальник.
Беру протянутую газету. Все исчеркано карандашом. Куча вопросительных знаков. Видно, что несогласно со статьей руководство. Читаю, а сам думаю: «На черта мне это было надо? И что теперь делать?»
— Прочитал?
— Ну.
— Понял?
— Что?
— Что корреспондент под нас копает!
— Да нет, — говорю, — вроде все объективно. Все виноваты.
— Что значит все? — взвился «актив». — Нет, вы слыхали?
— Только херню здесь пороть не надо! — резюмировал секретарь парткома. — Заказчик виноват! Объединение «Сенегалес»! И Малежмский леспромхоз! Понял?
— Короче, — говорит начальник, — бери статью. И по всем вопросам, которые я там отметил, пиши.
— Что писать?
— Как что? Опровержение в газету. Чего остолбенел? Иди.
Выхожу. «Вот влип, — думаю. — Черт меня дернул взяться за перо. Что делать?»
Сажусь писать ответ. Снова творческие муки. Ничего не получается. С другой стороны — приятно. В статье у корреспондента С. Ефимова все правильно сказано. Против фактов не
попрешь. Чувствую, с ответом получается неважно. Кое-что набросал для видимости…
Через час вызывает начальник:
— Ну что, готово?
Протягиваю ему текст. Начальник читает. Комкает листок и бросает в корзину.
— Перепиши.
Чуть позже захожу с новым вариантом. Начальник читает и снова раздраженно выбрасывает. Дает еще один шанс.
Третий вариант текста выводит его из себя окончательно:
— Ну что ты за человек?! Черт дал мне тебя в наказание. Смотри, как пишет корреспондент. Легко, красиво, раскованно, образно, точно. Материал не лишен юмора, я бы даже отметил — сарказма. Никаких оплошностей. Ошибок нет даже в мелочах. А какое знание деталей! Кстати, ты с ним не знаком?
— С кем?
— С корреспондентом.
— Откуда, — говорю.
— Естественно, — встревает секретарь парткома, — он же привык общаться только с алкашами и бывшими уголовниками.
— Я бы не стал так отзываться обо всем нашем коллективе, — отвечаю.
— Тише! — начальник еще раз бегло просматривает мой ответ. — «Уважаемая редакция. На публикацию в вашей газете статьи С. Ефимова можем сообщить нижеследующее». Ля-ля, ля-ля. Фа-фа, фа-фа. Ля-ля-ля.
Начальник отбросил листок.
— Тьфу, читать тошно, — в сердцах он снова бросил ответ в мусорное ведро.
— А знаешь, почему у тебя не получается? — начал размышлять секретарь парткома.
— Ну.
— Потому, что здесь, — парторг ткнул в меня пальцем, — извини за откровенность, тупой зашоренный прораб. А тут, — он уважительно коснулся статьи, — корреспондент областной партийной газеты. У тебя за спиной пьянь и рвань, в голове — диссидентские анекдоты. А у него — партия. И багаж знаний от классиков марксизма-ленинизма.
— Короче, иди и пиши, — скомандовал начальник. — Старайся.
— Безнадежно, — сказал парторг вслед, — ему все равно не приблизиться к высокому уровню товарища С. Ефимова.
Как в воду глядел. После обеда у меня забраковали еще два варианта. В конце дня начальству пришлось сдаться.
— Ладно, напишем сами. Но вопрос остается… — сказал начальник.
— Какой? — насторожился я.
— Вопрос в том, — сорвался с места парторг, — почему ты такой безграмотный, серый, тупой. Никакой божьей искорки. Ни построить, ни сказать, ни написать. От работнички! Пусть сегодня же выезжает на объект.
— Да, — махнул рукой начальник, — иди готовься.
— И чтоб знал, — зловеще сказал парторг, — телефонировали из обкома. Будет серьезное разбирательство.
— Да, — вздохнул начальник. — Ступай в кадры за командировочным… Мы сами напишем ответ в обком и газету.
Когда вернулся в приемную, услышал тревожный голос начальника:
— Но кто-то же дал им эти сведения…
— Это партийная печать, — горячо возражал секретарь. — Ей все известно. Все. Там — мозги! Были бы у нас толковые ребята, как этот корреспондент, мы бы горы свернули. А то присылают всяких недоумков. Ни украсть ни покараулить…
Спустя неделю на мой объект явился инструктор промышленного отдела Сенежского горкома КПСС. Молодой, энергичный, перспективный. Хорошо пахнущий. Чисто выбритый. Некий Анучин. Потребовал взять его с собой на линию.
Несколько дней он провел в «трудовом коллективе». Трясся вместе с бригадой на вездеходе. Мерз на линии. Ночевал со всеми в полуразваленной избе. Перед отбоем что-то долго записывал в блокнот, скрючившись над дрожащей свечой. Сначала Анучин отказывался с нами питаться. Понятное дело — брезговал. В сторонке грыз печенье, доставая его из черного портфеля. На второй день попросил тарелочку каши. На третий, основательно проголодавшись, вместе со всеми уминал макароны по-флотски. Из одной с нами кастрюли. Запивал чаем из брусничных листьев. Вскоре начал сморкаться в ноздрю. Отставил бритье, зарос щетиной. Малую нужду справлял, не отходя от костра, в конце смешно подергивая ногами. В общем, как-то быстро опустился. То есть стал нормальным человеком. Слабым пока.
Однажды оставили инструктора на линии без присмотра. Он тут же по горло провалился в ледяную жижу. Вытащили из болотины. У костра обогрели. Дали сухую одежду, спецовку, плащ с капюшоном. Кое-что поснимали с себя. На шестой день, после ночевки в вездеходе на мотках проволоки, на ящиках с болтами и изоляторами, накрытых матрасами со свалявшейся ватой, инструктор взмолился, чтобы его отправили домой. Сказал, что многое понял и во всем разобрался… Попросил еще раз уточнить, какое оборудование необходимо для сдачи объекта. Я все подробно написал. Хотя верил мало: столько лет обещаний. «Будет ли польза? — думаю. — Настанет ли „светлое завтра“, еще не известно. А сегодня всю ночь придется везти тебя, мил человек, по трясине до ближайшей станции. И это факт…»
— Так вы меня отвезете?
— Угу.
— Может, прямо сейчас?
— Сейчас некогда. Ночью отвезу.
— Хорошо, спасибо.
Поздно вечером собираемся в дорогу. Я выхожу из избушки пораньше. На небе яркий месяц, полно сияющих звезд. Хорошо: значит, нет тумана. Не потеряемся. Завожу вездеход. Отпускаю сцепление и для пробы разворачиваюсь на месте. Ледяная прозрачная корка разлетается на мелкие осколки. Темная вода бурлит под стальными траками. Инструктор спешно прощается со всей бригадой и ныряет под брезент вездехода.
— Готов? — спрашиваю.
— Всегда готов.
— Ну, тогда вперед! И, чтоб не утонуть в болоте, как говорится, газу до отказу.
Через месяц пришла телефонограмма из Сенежского горкома партии. Меня срочно приглашали на заседание бюро. «В связи с публикацией статьи С. Ефимова „О чем гудят провода“» — было подчеркнуто в тексте.
Приезжаю в горком. В сапогах и телогрейке. Не успел заехать домой переодеться. Глядят как на сумасшедшего. Дежурный ищет в списках приглашенных:
— Вы от кого?
Показываю телеграмму.
— От строителей.
— Ясно. От вашего ПМК здесь уже секретарь партийной организации.
— Куда идти?
— Второй этаж. В приемную.
Быстрым шагом взбегаю по ступенькам.
— Спокойней, товарищ! — слышится недовольный окрик. — И надо бы как-то поаккуратней с одеждой в горкоме. Ступайте.
В овальном кабинете первого секретаря горкома КПСС чисто, тепло. Обстановка аскетичная. По всему периметру кабинета расставлены стулья с коричневой дерматиновой обивкой. В центре большой ковер. На стенах классики марксизма-ленинизма. И портрет Леонида Ильича.
Осторожно, чтобы не ступить на ковер, боком двигаюсь к нашему парторгу. Кажется, всех смущает мой затрапезный вид. Телогрейку, конечно, я оставил в приемной. На мне линялый темный костюм кабельщика, мягко говоря, не новый.
— Мог бы приодеться для бюро, — шипит парторг. — Как все.
— Я не член партии, — отвечаю.
— Оно и видно.
В зале человек тридцать. Одно знакомое лицо инструктора Анучина. Он не подошел. Слегка кивнул и отвернулся. «Ладно, — думаю, — черт с тобой».
Внезапно открылась боковая дверь. Вошел первый секретарь горкома. Суровый и властный. С короткой стрижкой и мощным загривком штангиста. Тяжело опустился на стул. Зыркнул на всех стальными глазами. Секретарша дала список присутствующих.
— Кто здесь от строителей? Встаньте! — приказал властно.
Мы с парторгом заширкали стульями.
— Представьтесь.
Назвали имена и должности.
— Значит, товарищи, по милости этих вот головотяпов мы здесь собрались. Садитесь пока, — махнул он нам. — А есть ли уважаемый автор статьи журналист товарищ Ефимов?
Все начали оглядываться. Ефимова не было. Подбежал помощник. Стал что-то тихо объяснять…
— Очень жаль, товарищи. Будем надеяться, что подъедет. Ну а пока поднимайтесь, горе-работнички. Расскажите товарищам, как дурака валяете столько лет, переводите народное добро. Не стыдно?!
— Собственно, нет, — начинаю я первым. — Видите ли…
— На себя посмотрите, товарищ прораб! Как одеваемся, так и строим. Ровней стойте, когда с вами разговаривают! Ишь, сапоги он надел.
— Я с объекта…
— Один, что ли, работаешь? Работник. Сапогами он нас хотел удивить! К рабочему классу примазываешься?
— При чем тут…
— Молчи, молчи, — дергает за рукав парторг.
— Да мы, коммунисты, босыми ногами раствор месили! В мороз! Сапоги он надел…
И так минут десять. Про сапоги. Думаю: «Послать бы вас далеко. Да как-то… Духу не хватает. Хотя ситуация интересная. Один несет всякую чушь, другие, оцепенев, слушают. Может, у них так принято. Вон парторг. В отцы мне годится, а стоит. Молча, как миленький. Только кивает».
Наконец первый устал:
— Доложите. Только коротко.
Объясняем, что для сдачи не хватает станционного оборудования.
Секретарь поднял представителей заказчика. Досталось и им.
В конце совещания первый резюмировал:
— Казалось бы, товарищи, простой вопрос. А вот такие мудаки (широкий жест в нашу сторону) не в состоянии его решить. И только нам, коммунистам, по плечу выполнение сложных политических и экономических задач…
«При чем здесь политика?» — думаю.
— И еще. Партийная журналистика неусыпно стоит на страже социалистической собственности. Такие корреспонденты газеты, как товарищ С. Ефимов, своим зорким оком, острым журналистским пером вскрывают язвы на теле экономики. Словно прожектором освещают участки застоя. Жаль, что товарища Ефимова нет среди нас. Хотелось бы крепко пожать ему руку. Возможно, он в очередной командировке. — Секретарь горкома ткнул пальцем в нашу сторону. — Может быть, именно сейчас разбирается с такими же горе-работниками. С мудаками, выражаясь не для протокола… Горком, товарищи, сделал выводы из партийной критики. Вот проект решения бюро. Он будет направлен в обком КПСС и редакцию газеты. Не буду зачитывать. Скажу коротко и главное. Объект будет сдан в ближайшие сроки.
И действительно. В течение месяца в лесхоз чудесным образом поступило все недостающее оборудование. Две недели ушло на его монтаж и настройку. Невероятно, но уже летом мы сдали обрыдлый долгострой в эксплуатацию. Подписывая акты, я ощущал какую-то искусственность событий. Еще бы! Годами мы с товарищами сражались с ветряными мельницами. Переливали из пустого в порожнее. Месили болота, замерзали в снегах, много раз переделывая одно и то же, одно и то же… Трудились честно, с надрывом и… безрезультатно. Но вот явился мифический, призрачный, умный, талантливый партийный журналист С. Ефимов. И все чудесным образом изменилось. Одним движением пера он повторил деяние Геракла. Разгреб вековые залежи конюшен. Легко закатил сизифов камень прямо на вершину…
«Чего же, — думаю, — я безвылазно сижу в этом дремучем лесу, если в жизни существует такой простой и эффективный способ сделать людей хоть чуточку счастливыми».
Через три дня после сдачи объекта я написал заявление об уходе. Еще через месяц обивал пороги редакций газет, радио, телевидения в поисках новой работы. Надо мной откровенно смеялись. Спрашивали, где учился. Сколько у меня публикаций. С какими изданиями сотрудничал. Может быть, снимал? Редактировал? На руках у меня была вырезка моей лишь единственной и такой всесильной статьи «О чем гудят провода».
Во время бесед в редакционных кабинетах вокруг меня собирались красивые, хорошо одетые, модно причесанные интеллигентные люди. От них пахло дорогими духами и импортными сигаретами.
— Как вы сказали? Для чего решили идти в журналистику?
— В двух словах не объяснить…
— А вы попробуйте.
— Чтобы исправить окружающую действительность, — отвечаю.
— Вы серьезно?
— Разумеется. Это же так просто. Исправить мир. Особенно с вашими возможностями.
— С какими?
— Я хотел сказать — с возможностями журналистики, печати.
— Ага… — Длинная пауза. — Говорите, много лет проработали в тундре? Ну-ну.
Прошло двадцать лет.
Как-то возвращается дочь из университета. В тот день она поступала в аспирантуру.
— Пап, — говорит, — не пойму. То ли это был экзамен… То ли собеседование. Знаешь, какой странный вопрос задали мне в конце?
— Какой?
— Зачем вы хотите заниматься экологией?
— Что же ты ответила?
— Понятное дело. Сказала, что хочу исправить окружающий мир.
— И все?
— Целый мир. Разве этого мало?
— Тебя не взяли?
— Нет.
Вслед за паузой.
— Пап, а как ты догадался?
 (обратно)
(обратно)
Прекратил существование

Кто в начале 90-х не знал в нашем городе Юрия Антоновича Баранкина — кандидата наук, доцента кафедры инженерных конструкций, архитектора, писателя, краеведа, любимца женщин, баловня судьбы?
Отвечаю честно — я не знал.
Скажу больше. В первый день работы на областном телевидении я даже не подозревал о его существовании.
Кто не читал книг и статей Юрия Антоновича по истории деревянного зодчества? Не восхищался его стихами в прозе о лучшем в мире (как он искренне считает) нашем чудном городе?
Кто не знал его трудов с подробным описанием каменных церквей, деревянных изб, особняков? С непременным упоминанием мезонинов, эркеров, фризов, наличников, карнизов, орнаментов, «узоров глухой или пропильной резьбы с особой игрой светотени».
Отвечаю. Я не читал всей этой мути.
Кто должен был в первый день работы на телевидении редактировать программу об исторических памятниках, сохранении архитектурного наследия, о будущем градостроительства?
Я. Кто же еще?
Ведь это я, бывший прораб, недавно явился в город из дремучего лесхоза. Я пять лет не вылезал из глухих северных лесов, монтируя телефонные линии вместе с сезонными рабочими и вчерашними зэками. И общался только с ними. На понятном нам языке.
Кто еще из горожан, плохо ориентируясь в лабиринтах улиц, не разбираясь ни в старых памятниках архитектуры, ни в новых кварталах города, должен был поддержать разговор на градостроительные темы? Кто обязан был давать ценные указания специалистам архитектуры?
Только я. Так получилось. Замкнулась цепь непредвиденных событий. По недосмотру меня, беспартийного строителя, взяли с испытательным сроком на телевидение. Журналистка, готовившая телепередачу, заболела, и я в первый же рабочий день был брошен на прорыв.
А кто должен был вести программу?
Разумеется, сам Юрий Антонович Баранкин. Ведь он никогда до этого не вел даже десяти минутную передачу. Не знал, в какую телекамеру смотреть, как приветствовать зрителей и по какому сигналу с ними прощаться… А здесь — полчаса эфира живьем, без записи. Кому же еще быть ведущим? Только ему.
А кого пригласили выступить в живом эфире?
Разумеется, человека, ни разу до этого не бывавшего в студии — краеведа и патриота города, добрейшего и наивнейшего Зосиму Петровича Казашникова.
«Зосима Петрович в последние годы жизни всю свою силу и энергию отдавал восстановлению старого города. Тщательно и с любовью изготовил макеты великолепных архитектурных шедевров. В картоне воссоздал навсегда утраченные памятники деревянного зодчества. Несколько работ привез в студию…»
Так было написано в сценарии, который мне передали за несколько часов до эфира.
На репетиции архитектор Баранкин и краевед Казашников живо обсуждали достоинства макетов, о чем-то спорили. Меня не донимали. Но перед началом прямого эфира все же подошли разгоряченные и взъерошенные.
— Товарищ редактор, — начал Зосима Петрович, человек лет шестидесяти, спокойный, тихий, похожий на доброго школьного учителя, которого непослушные ученики все- таки вывели из себя, — как вы думаете, почему я взялся за макет старого города?
— ?
— Совесть мучает. Слышали про такое? В молодости мне приходилось взрывать культовые сооружения. Разносить, так сказать, в пух и прах «тяжелое наследие царского режима». Благовещенскую церковь кто сносил? Я. Вместе с такими же дураками — комсомольцами. Троицкий кафедральный собор кто долбил киркой и ломом? Я. Вот этими вот руками. Я разрушал. — Голос Зосимы Петровича дрогнул, щеки начали мелко трястись.
— Зосима Петрович, не переживайте. Время было такое, — мягко останавливал его интеллигентный и обходительный Баранкин. — Что толку убиваться? Дело сделано. Зачем же так грубо — «сносил, долбил, взрывал, разрушал…» Скажите мягче. Мол, в тысяча девятьсот тридцать втором году Троицкий собор прекратил существование.
— Что значит «прекратил существование»? — горячился Казашников. — К чему эти обтекаемые формулировки? Напакостил — должен ответить. А то — «прекратил существование». Как Вы считаете, товарищ редактор?
— ?
— Нам хотелось бы услышать ваше мнение.
— Что вам сказать, — начал я, не имея ни малейшего понятия ни о предмете спора, ни о телевидении. Не говорить же, что сам впервые оказался в съемочном павильоне. Вспомнил слова тележурналиста, героя какого-то фильма. Журналист был талантливым и прогрессивным. Боролся с косностью и заскорузлостью областного руководства. Убеждал людей говорить правду с экрана. Его гнобил партийный аппарат. Картину недавно видел в клубе лесхоза.
— Как вы считаете, товарищ редактор?
Я повторил слова героя фильма. Не полностью, конечно, что отложилось:
— Держитесь в кадре раскованно и непринужденно. Поменьше официоза. Пусть это будет беседа заинтересованных людей, профессионалов, ищущих истину в научном споре…
— То есть, — попытался уточнить неугомонный Зосима Петрович, — как сказать-то? Собор был разрушен?
— Лучше — «прекратил существование», — настаивал Ба- ранкин.
— Не забывайте, — говорю, — за вами наблюдают сотни тысяч телезрителей. Соблюдайте выдержку и корректность.
— Так как же?..
К счастью, прозвучала команда режиссера: «Внимание! Минутная готовность!» Режиссер давал указания по громкой связи откуда-то сверху. Мы с ним почти не поговорили. Он все время куда-то спешил. То отсматривал и монтировал старую кинохронику. То руководил установкой декораций. То слушал музыку к передаче. Короче, в отличие от меня, занимался делом. Сейчас он возвышался за огромным тройным стеклом, упершись руками в пояс. Фалды его клетчатого пиджака слегка оттопыривались. Перед ним был пульт и множество небольших телеэкранов. Рядом сидел молоденький ассистент. Сзади, за вторым пультом, расположился звукорежиссер. Все они глядели то на нас через панорамное стекло, то на мониторы.
Баранкин занял место ведущего программы.
— Как я узнаю, когда начинать? — щурясь от яркого света, поинтересовался он.
— Загорится огонек на этой камере, и я тихонечко щелкну пальцами, — сказал ведущий оператор Сирякин. Он появился в студии за несколько минут до эфира. Держался уверенно, говорил резко. Собранный, немногословный, энергичный. Мне показалось, что режиссер его побаивался. Во всяком случае, когда в телестудию вошел Сирякин, перестали звучать команды с режиссерского пульта. И всем начал распоряжаться ведущий оператор.
— Я сделаю вот так, — еще раз сказал Сирякин и негромко щелкнул большим и средним пальцами.
— А когда заканчивать передачу?
— Мы вам дадим знать.
Помощник режиссера, томная молчаливая Зося, вывела Казашникова из кадра. Напудрила его округлое лицо.
— Это зачем? — спросил я.
— Как зачем, — хмыкнула она, — чтоб не бликовал.
Придерживая волосы, Зося надела черные наушники с короткой антенной.
— А они для чего?
— Кончайте разговоры, — недовольно сказал Сирякин. Кажется, он еще хотел спросить, кто я такой, узнать, почему чужие люди в студии. Не успел.
— Даю обратный отсчет, — скомандовал режиссер.
Я еще раз заглянул в сценарный план. Он был лишен художественных изысков. Прост, лапидарен и ясен. Даже мне.
Баранкин начинает передачу один в кадре.
Объявляет тему.
Комментирует черно-белую кинохронику.
На экране видны старинные здания, церкви, соборы, особняки.
Затем — павильон. Баранкин приглашает в студию Зосиму Петровича Казашникова.
Тот появляется с «сюрпризом» для телезрителей — макетом Троицкого кафедрального собора.
Так все и было. Вначале.
После кинохроники Баранкин, улыбнувшись, поприветствовал телезрителей и объявил тему передачи. Затем продолжил:
— Сегодня у нас в гостях историк, краевед, патриот города, неутомимый труженик Зосима Петрович Казашников. Здравствуйте, Зосима Петрович.
В кадре появился Казашников с огромным макетом Троицкого собора на вытянутых руках. Он с недоумением посмотрел на Баранкина.
— Здоровались уже, Юрий Антонович.
— Когда же? — притворно удивился ведущий.
— Только что. Перед началом.
— Ну, а телезрители, — Баранкин повернулся и дружески мигнул в глазок объектива, — они вас еще не видели…
— Извините, не подумал, — простодушно сознался Зосима Петрович. Он повернулся затылком к камере и сделал поклон Баранкину. — Здравствуйте, уважаемые телезрители! — При этом спина Казашникова перекрыла объектив.
Операторы потащили большие студийные камеры к заднику, чтобы, развернувшись, снять лицо Зосимы Петровича. Кабельмейстеры дружно потянули за ними уложенные в бухты тяжелые кабели. Всех опередил Баранкин. Он выскочил из-за стола. Снова повернул Казашникова… спиной к камерам, и они вместе сделали низкий поклон в пустоту:
— Здравствуйте, дорогие товарищи!
Зося и операторы, стараясь не попасть в кадр, начали жестами их разворачивать:
— Садитесь за стол. За стол.
Баранкин и Зосима Петрович, ослепленные мощными прожекторами, ничего толком не могли разглядеть. Пришлось вмешаться. «Редактор я или кто? Пора как-то проявить себя». Я взял за руки участников передачи и усадил их за стол. Поправил микрофоны и молча вышел из кадра. Как-то даже не сообразил, что делаю все это в прямом эфире на глазах у изумленных телезрителей.
— Смело, — прошептал осветитель. Он показал мне большой палец — такого еще не было. Потом беззвучно заржал, прикрыв щербатый рот двумя руками.
Задергался монтировщик и начал медленно сползать со своего места на втором ярусе.
— Вы что там, с ума сошли? — заорал с пульта по служебному каналу режиссер. Он подскочил к широкому стеклу.
Начал возбужденно исследовать глазами павильон. — Какого черта лезете в кадр? Что там у вас творится?
— Это кто? — приподняв наушники, сдавленным шепотом спросил у Зоей оператор Сирякин. Лицо его было перекошено.
— Наш новый редактор, — прошептала в ухо Сирякину Зося. — Это его первая работа.
— Передайте, если он еще раз сунется в кадр, я его прикончу, — сдержанно пообещал Сирякин. — Это будет его последняя работа. Идиот.
— Вам лучше выйти из студии, — подойдя ближе, тихо посоветовала Зося, — иначе Сирякин вас убьет.
— Спокойно, — шепчу, — пусть каждый занимается своим делом. Я же никого не учу снимать.
Во время нашего короткого разговора Сирякин зло и вызывающе смотрел на меня. Я ответил таким же долгим и пристальным взглядом. Точь-в-точь как герой-журналист из фильма. «Надо сразу же себя поставить. Держаться уверенно и с достоинством, — подумал я. — Этим наглым операторам только дай волю. Сожрут и не подавятся».
Наконец в павильоне все стихло. Баранкин и Казашников продолжали сидеть молча. Сирякин пощелкал в воздухе, мол, говорите…
— А что это у вас в руках, Зосима Петрович? — начал светским тоном Юрий Антонович.
Казашников, не выпускавший из рук макет, удивленно посмотрел на ведущего.
— Я спрашиваю, что вы с собой принесли, уважаемый коллега?
Баранкин выразительно скосил глаза на макет.
— Юрий Антонович, — в голосе Казашникова послышались нотки обиды. — Битый час я рассказывал вам, что это… этот макет… Я, конечно, могу повторить все сначала…
— Да уж, будьте любезны.
Зосима Петрович дернул плечом и осмотрелся. От волнения у него начисто перепутались репетиция с эфиром.

Увидев меня, он глазами спросил, надо ли и вправду повторять еще раз то, что так долго на прогоне рассказывал Баранкину.
Я энергично закивал — конечно. Это безумно интересно. Это стоит изложить еще раз.
— Так вот…
Казашников вновь начал рассказывать историю о восстановлении разрушенных архитектурных памятников:
— …Я сам, вот этими руками ломал, сносил, долбил Троицкий собор…
Баранкин многозначительно покашлял и выразительно посмотрел на Зосиму Петровича:
— И в тысяча девятьсот тридцать втором году… Он что?
— Мы его взорвали.
— ?
— И он прекратил свое существование, — вспомнил Казашников. — Так?
В павильоне возникла небольшая пауза. Казашников понял, что сказал не совсем так, как хотел ведущий. Чтобы сгладить неловкость, он быстренько добавил:
— Многие считают, что на месте великолепного Троицкого собора построен драматический театр. Это не совсем верно. На развалинах культового сооружения по решению большевиков был установлен памятник Ленину, а драм- театр возведен ближе к Главпочтамту… Причем монумент Ленину — так себе. Никакой, разумеется, художественной ценности он…
Зосима Петрович осекся, встретив стальной взгляд Юрия Антоновича. Даже свободомыслящий и прогрессивный Баранкин знал, что можно говорить в открытом эфире, а каких тем лучше не касаться. После такой программы ему светил как минимум выговор по партийной линии. А еще — неприятный разговор с секретарем обкома по идеологии и долгое отлучение от коммунистической прессы (другой же в то время не было).
В том, что это мой первый и заключительный опыт редакторской деятельности, я почти не сомневался.
— Храмы разрушали не только в нашей области. Это происходило на всей территории Советского Союза, — тем временем выгораживал местное руководство Зосима Петрович. — Так, Юрий Антонович?
Баранкин не отвечал. На всякий случай он отодвинулся и сел вполоборота к гостю, прикрыв глаза рукой. Чтобы еще раз оправдать местных коммунистов, Зосима Петрович громко произнес:
— Это по приказу свыше власть отправляла священнослужителей в лагеря, на Колыму, Соловки. И не только их. Вспомним раскулачивание, коллективизацию…
В эфире послышалась громкая дробь. Это Баранкин, задумавшись, стал нервно бить пальцами по столу. При этом он все время глядел куда-то в сторону. Звукорежиссер «вывел» микрофон из эфира.
В студии повисла гнетущая тишина. Разговор не получался. Казалось, ни ведущий, ни гость не собирались продолжать беседу.
«Может быть, ждут, когда истечет время? Но его полно. Надо что-то делать! Что делать? — нервно размышляю я. — Ну, сделай что-нибудь, редактор! Иначе обязательно уволят».
Я схватил какой-то листок и мигом написал: «Юрий Антонович, время еще есть. Осталось двадцать минут. Потяните».
С этой запиской направился к ведущему. Сирякин, заметив передвижения, насторожился.
— Стой, стой на месте, — прошипел он и замахал руками. Я сделал ответный жест, мол, все в порядке.
«Ошибок не повторяем, — лихорадочно соображал я. — Перед камерой не суетимся. А сделаем вот так: на полусогнутых, за выступающими, за выступающими… За ними меня никто не увидит. Передам им незаметненько бумажку. Пусть успокоятся и продолжают диалог».
Согнувшись, подбираюсь сзади к Баранкину. И вдруг… Вижу на контрольном мониторе: рядом с двумя участниками программы возник третий — согбенный человек с красным испуганным лицом и мятой бумажкой в вытянутых руках…
«Кто это? — с ужасом вглядываюсь. — Ба, так это я. Впервые вижу себя по телевизору. Ну и рожа. Господи, надо хотя бы улыбнуться. А то зрители подумают черт знает что».
Какое-то время пытаюсь изобразить улыбку на экране. И надо бы уходить. Да неудобно. Как-то не по-человечески. Пришел — ушел. Ни здрасьте ни до свидания. Может, помахать?
Вдруг (последнее, что вижу на мониторе) чья-то рука появляется сбоку и вышвыривает меня из кадра. Падая, я цепляю штатив с осветительным прибором. Грохот в студии невообразимый.
— Убью! — отрывисто шепчет мне в ухо Сирякин. Он придавил меня за горло к полу. Я поднимаю руки. Точнее, вытягиваю их вдоль шершавого покрытия. «Сдаюсь».
Хватка на шее ослабла.
— Спокойно, — говорю. — Продолжаем работу.
Тяжело дыша, поднимаемся. Сирякин быстро возвращается к камере. Наводит фокус. Щелкает пальцами, мол, Юрий Антонович, продолжайте. Тот — ни в какую. С опаской глядит в мою сторону. После третьего щелчка, наконец, стал что-то говорить, поминутно останавливаясь. Будто о чем-то беспокоясь.
«Наверное, думает, что время кончилось, — мгновенно проносится у меня в голове. — Надо спасать программу. Редактор я или кто? Надо как-то проявить себя. А то скажут, чем занимался во время передачи? Как помогал? Что делал? Я все подробно объясню. Может, оставят?»
В углу, с крышки студийного рояля, беру чистый листок и еще раз пишу текст. На этот раз — крупно, телеграфным шрифтом: «ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ. ПОТЯНИТЕ!» Осторожно подбираюсь к Сирякину с тыла. Слышу, вроде участники передачи оживились. Опять начали разговаривать. Общаются. Что-то обсуждают. «Молодцы, — думаю, — не растерялись. Ничего, лишнее предупреждение не помешает». Я медленно подбираюсь к оператору. Вот его спина, мощная и широкая. Короткая шея, черные с проседью волосы, редеющие на макушке. Уши прикрыты наушниками. Из них доносится недовольный голос режиссера. Я осторожно поднимаю листок с текстом над головой Сирякина.
«ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ. ПОТЯНИТЕ!»
Баранкин не замечает. Оживленно беседует с Казашниковым. Я поднимаю листок чуть выше. Не видят. Наконец- то разговорились. Молодцы. Я вытягиваюсь на носочках. Баранкин на полуслове делает паузу. Долго пытается разглядеть, что написано. Яркий свет прожекторов ослепляет. Он прикрывает глаза ладонью.
— Я вижу… Кажется, наш редактор дает сигнал, что время передачи подошло к концу, — импровизирует Баранкин.
Сирякин поворачивается. Вижу его изумленное лицо. Я опускаю листок и показываю текст. Ничего особенного.
— Мы еще не успели рассказать много интересного, — забеспокоился Казашников.
— На этом мы заканчиваем программу, — настаивает Баранкин. — Всего доброго, уважаемые телезрители.
— До свидания, — разочарованно прощается с ним Зосима Петрович. — А как же остальные макеты?
— Как-нибудь потом, — вставая с места, говорит Баранкин. Он потягивается и нервно зевает. — По-моему, хреноватенько получилось. Зосима Петрович, что вы полезли со своим Лениным, ей-богу!
— Действительно! Дался вам этот чертов вождь! — я решительно вхожу в кадр, делая свое первое редакторское замечание.
Это последнее, что видят и слышат телезрители.
Оказывается, еще не успели выйти из эфира…
Зазевавшийся молоденький ассистент тут же схлопотал подзатыльник от режиссера. Светящиеся табло «эфир» и «микрофон включен» немедленно гаснут.
— Конец, — говорит обалдевший режиссер по «громкой». — Накрылась квартальная премия.
Поворачиваюсь. О боже! Из глубины павильона, бешено вращая глазами, шаг за шагом на меня движется Сирякин.
«Кто же знал?» — самокритично развожу я руками…
Сирякин неторопливо снимает наушники и резко бросается в мою сторону.
Еще мгновение — и он, наконец, узнает, что у молодых, начинающих журналистов есть одно важное преимущество. Они бегают гораздо быстрее старых и о-очень… ну о-очень опытных операторов…
 (обратно)
(обратно)
Ночь спустилась на землю

— Лейтенант Богачев, ваша специальность?
— Дальняя и космическая связь, товарищ полковник.
— А где работаете?
— На телевидении.
— Кем?
— Редактором, товарищ полковник.
— По документам вроде был строитель. Теперь, значит, журналистом заделался?
— Можно и так сказать, товарищ полковник.
— Эк, как вас бросает, — неодобрительно покачал головой командир полка Клячин. — Поставьте его, — скомандовал он нашему комбату, майору Ширяеву, — поставьте его на дрова. Подальше от штаба и техники. Ближе к печкам. Пусть обеспечивает батальон теплом. Журналистов нам еще не хватало.
По правде сказать, журналистом я еще не был. Только недавно устроился на областное телевидение. Редактировал всего две программы — по архитектуре и сельскому хозяйству. Затем дали повестку на военные сборы. Два дня назад главный редактор студии телевидения Виктор Зиновьевич Фрайман пригласил в кабинет и торжественно объявил:
— Несмотря на провал очередной вашей программы, мы решили дать вам еще один шанс как-то себя проявить. Более того, скажу прямо, — в голосе редактора послышались задушевные нотки. — Именно сейчас вы очень, очень нужны студии…
Не скрою, это было приятно. Еще вчера обещали уволить, а сегодня все изменилось. Утром даже прислали машину. Запиской вызвали к руководству. Значит, ценят. Есть, видимо, у меня кое-какие задатки.
— Пришла разнарядка из военкомата, — продолжал Фрайман. — На военные сборы надо отправить человека. Лучше вашей кандидатуры не подобрать. У вас нет своего цикла. Нет анонсированных передач. Да и делать, собственно, вы пока ничего не умеете. В общем, Сергей, поезжайте на службу. Привезете хорошую характеристику, материалы для новых сюжетов — оставим.
— А…
— Если нет — уволим. Окончательно. Не сомневайтесь. Надеюсь, вы помните, что взяли вас с испытательным сроком?
— Не я на этом настаивал…
— В общем, служите, а там посмотрим.
Через сутки я уже был в лесу, в составе батальона связи. Слева, справа и за спиной тянулись шеренги таких же неудачников, отловленных военкоматом на двухмесячные сборы. Командир полка Клячин знакомился с офицерами запаса. Задавал короткие вопросы. Иногда назначал на должности. Затем в сопровождении комбата двигался дальше, вдоль неровной шеренги. Процедура затягивалась. Шел мокрый снег. Полураздетые осины, березы, чахлые ели мелко дрожали, никого не спасая от промозглого ветра. Полковничьи сапоги громко чавкали, оставляя размытые следы на глинистой почве. Они быстро заполнялись мутной водой. Все напоминало сюжет кинохроники — смотр войск батьки Махно в Гуляйполе… «Партизаны» стояли в мятых шинелях, кое-как перетянутых ремнями. На ногах — сапоги, валенки с галошами, полуботинки. Как и у Нестора Ивановича, обмундирования на всех не хватило.
Нам хотя бы обещали довезти.
После короткого разговора с комполка определилась моя новая военная специальность — лесоруб, кочегар, истопник. Командир печек, в общем.
На дрова так на дрова, я молча смирился с назначением. Хотя при других обстоятельствах непременно потребовал бы определить по специальности — дальняя и космическая связь.
Теперь же, с учетом моего шаткого положения на телевидении, служить надо было доблестно и примерно. Без скандалов и происшествий. Не важно, кем и где. Связистом, кашеваром или истопником — все равно.
Ладно. Забыли.
Для заготовки дров в мое подчинение выделили несколько бойцов. Таких же «партизан», как я. Закрепили автомобиль ГАЗ-66 с крытым фургоном и водителем. На складе выдали три пилы двуручных «Дружба-2», колуны и топоры. Задача была несложной: с утра объезжать окрестные леса, пилить и рубить сухостой, грузить чурки в машину. После обеда — колоть дрова и топить буржуйки в дырявых армейских палатках.
Каждое утро в лагере начиналось с построения и развода. Столько-то человек на кухню, на дрова, на траншеи. Десять бойцов — к комполка на дачу… Не отдыхать, естественно. Остальные — в кунги, работать с аппаратурой. В спецмашинах с высокими мачтами-антеннами занимались шифровкой и дешифровкой. Учились печатать на телеграфных аппаратах в темноте и с закрытыми глазами. Многие специалисты тайком от кадровых офицеров перестукивались с радиолюбителями из Европы.
А вот протянуть километр провода от штабной палатки до КПП, установить там телефонные аппараты как-то не получалось. Слишком примитивное занятие для настоящих профессионалов.
— Лейтенант Рассказов, когда? — заканчивал по утрам развод неизменным вопросом командир батальона майор Ширяев. Это был высокий, худой, веснушчатый «паренек» лет сорока. В отличие от многих офицеров майор хорошо сохранился. Замечено, что военные либо стремительно набирают вес, обзаведясь брюхом, одышкой, красным лицом и пухлыми щеками, либо надолго консервируются, сохраняя хорошую форму, осанку и выправку. Таким был Ширяев. Он обладал еще сильным, звонким голосом. На высоких нотах давал громкие и четкие команды. Ему не хватало малого — добиться их выполнения.
— Рассказов, когда, наконец, будет связь с КПП? — раздраженно потребовал ответа Ширяев, задержав лейтенанта у штабной палатки.
— Вы меня знаете, товарищ майор. Без работы я дурак, — привычно оправдывался Рассказов. В отличие от майора он был невысокого роста, не по годам вялым и тучным. — Но тянуть нечем. ПРППМа нет.
— Как нет? — возмутился майор Ширяев. — Куда дели шестнадцать бухт?
— На стратегический объект, товарищ майор.
— Какой такой объект?
— На объект первостепенной важности.
— Не морочь голову. Сперли?
— Не совсем.
— Спрятали, а пропить не успели?
— Обеспечили дачу товарища полковника городским телефоном, — терпеливо объяснял лейтенант Рассказов. — В целях оперативного управления, конечно. Вы же сами приказали…
— Когда?
— Три дня назад. Когда был нетрезв.
— Кто?
— Я, товарищ майор.
Майор слегка покраснел, фыркнул, но не отступил.
— И что, ушли все шестнадцать?
— Так точно, — не краснея подтвердил Рассказов.
— Я ведь могу и проверить.
Лейтенант пожал плечами. Мол, дело хозяйское.
— А где полевка?
— Ну, вспомнили. Давно обменяли.
— На что?
— На тушенку.
— Ее куда?
— Комиссия была из штаба, товарищ майор, — расплывчато объяснял Рассказов. — Вы же помните… Ну, когда закуска кончилась. Вы тогда еще приказали выдать каждому по ящику в дорогу…
— Так. Все, прекращаем разговоры. Еще раз ставлю задачу — немедленно обеспечить связь штаба с контрольно-пропускным пунктом. Любыми средствами.
— Где ж…
— Молчать.
— Есть молчать, товарищ майор.
— Это приказ командира полка.
— Понял, товарищ майор.
— Он лично проверит.
— Слушаюсь. Разрешите выполнять?
Через минуту лейтенант Рассказов отчитывал старшину Гиоргадзе.
— Когда, вашу мать, обеспечите связь с КПП?
— Нет провода, товарищ лейтнант, — оправдывался откуда- то из палатки Гиоргадзе.
Как всякий грузин, Гиоргадзе любил солнце и тепло. Поздней осенью солнце до наших мест практически не докатывалось. Поэтому старшина Гиоргадзе целыми днями грелся где- нибудь за буржуйкой, отказывая в этой человеческой слабости рядовым.
— Нет провода, — товарищ лейтнант, э. И взять негде.
— А меня не колышет. Найдите у танкистов.
— Всю ночь искали, — заспанный Гиоргадзе, наконец, показался на глаза Рассказову. — Нет ничего, э.
— Не ко-лы-шет! Приказ — найти и сделать!
— Понял, товарищ лейтнант. Какой разговор, э?
— Лично проверю.
— Эй, будет сделано, товарищ лейтнант.
Еще через минуту дикий крик старшины Гиоргадзе разогнал ворон, дремавших на голых ветках:
— Аловов! Иванов! Хайрулин! Э, чурки гребаные! Спите, да, басурманы? А ну, э. Руки в ноги и бегом к танкистам за проводом. Ставлю задачу, эй, украсть три бухты кабеля, да. И два телефона. Не справитесь, буду лупить морды, э.
— Вчера бил. Позавчера бил, — огрызается Хайрулин.
— Эй, это не считается, да.
Аловов, Иванов и Хайрулин третью ночь подряд безрезультатно ходят в соседнюю часть к танкистам. У тех планируются крупные учения. Говорят, привезли кучу материалов, нагнали техники. Вдруг удастся что-нибудь скомуниздить, как культурно выразился товарищ лейтенант Рассказов. Но хитрые танкисты сами быстренько заныкали мелкое неприбранное имущество. А вчера пополудни, говорят, околачивались возле наших кунгов. Присматривались, гады, к антеннам из нержавейки…
Утром, на построении, рядовой Хайрулин философски заметил: «Товарищ лейтенант, страна у нас большая, а воровать уже нечего».
— Прекратить упаднические настроения! — скомандовал Рассказов. — Русский солдат всегда найдет, что и где плохо лежит.
— Так то русский, — слабо возражал Хайрулин.
Все эти разговоры нас как-то не особенно касались. У нашего отделения своя четкая и ясная задача: обеспечить палатки теплом.
— Товарищ лейтенант, — перед очередной вылазкой за дровами подошел ко мне один из бойцов, — есть идея.
— Выкладывайте. Чего томить. Свежие идеи в батальоне такая редкость…
— Давайте махнем в город.
— Конечно давайте, — говорю, — там кабаки, пиво, женщины… Как только я сам не догадался?
— Это само собой, но я в другом смысле.
— Неужели?
— В нашем районе сносятся деревянные бараки. Чего добру пропадать? Давайте поедем, наберем сухих бревен, напилим. Все лучше, чем по сырым лесам шастать. Давайте, товарищ лейтенант.
Я колеблюсь. Идея вроде неплохая. В сезон холодных дождей поленья чадят, дымят и не желают разгораться. В палатках часами не выветривается горький, смердящий запах. Сухие дрова не помешали бы. Это факт. С другой стороны, был приказ комполка: «в городе не ошиваться», «не позорить часть своим диким видом!», «не создавать почвы для ЧП!».
— Товарищ лейтенант, — подошли остальные бойцы. — Махнем в город. За пару часов навалим целый кузов. Успеем забежать домой, сходим в баню, повидаемся с женами…
Насчет жен я сразу же пресек. То есть… согласился.
— Черт с вами. Поехали. Только никому ни слова.
В город подоспели как раз к сносу очередного барака. Бульдозер с небольшого разгона вел лобовую атаку на почерневшую от времени двухэтажку. Она трещала, гудела, но не сдавалась. Бревна, сложенные в лапу, успешно держали углы обороны. Трактор упирался ножом в стену и вставал на дыбы. Барак стоял насмерть. Бульдозерист поменял тактику. Он зацепил бревенчатый угол тросом. Разогнав железный табун лошадей, дернул за нижний венец. Потом еще раз… Первыми капитулировали оконные рамы. Они вылетели под звон битого стекла. Дымоход попытался контратаковать Т-100 сверху закопченными треснутыми кирпичами. Но безуспешно. Дом рухнул. Душа жилища вместе с облаками пыли взметнулась к небу. С чердака полетели старые газеты, письма, фотографии. У моих сапог приземлилась бледно- желтая вырезка с актуальными призывами развернуть стахановское движение на лесозаготовках.
Бульдозерист специально для нас вытолкал на обочину сухие бревна. Мы быстро напилили полный кузов. Веснушки опилок, разлетевшись, придали снегу озорной вид.
В тот день отпускать я никого не стал. Наспех перекусив, заготовили впрок еще добрую
гору поленьев, чтобы больше свободного времени осталось на завтра. Вернулись в расположение батальона засветло, натопили печи без дыма и смрада. Красота.
Утром следующего дня, на построении, комбат Ширяев объявил благодарность мне и всему нашему подразделению.
Не обошлось без темы связи с КПП. Матерился комбат. Оправдывался лейтенант Рассказов. Рядовые Аловов, Иванов и Хайрулин, как обещано, были избиты старшиной Гиоргадзе. Короче, в жизни батальона ничего не менялось.
После развода я завалился на койку с журналом «Юность». Читал нежную повесть Юрия Михасенко «Милый Эп». Это хоть как-то отвлекало от идиотизма армейской жизни. Но комбат велел срочно явиться в штабную палатку. Бегу.
— Лейтенант Богачев по вашему приказанию…
Майор остановил небрежным жестом. Еще раз поблагодарил за сухие дрова. Затем вкрадчиво попросил доложить, где мы их раздобыли. На этот счет у меня было несколько правдоподобных версий. Но тут позвонили из штаба.
— Товарищ майор, командир полка вас требуют, — сказал дежурный.
Комбат Ширяев неохотно взял протянутую трубку.
— Как дела, майор? — не здороваясь спросил полковник Клячин.
— Порядок, товарищ полковник.
— Установили связь с КПП?
— Так точно, — твердо, без заминки, доложил майор. — Сделали.
— Молодцы, — похвалил Клячин.
— Работаем, — скромно ответил майор.
— Сейчас проверим, как вы работаете, — в голосе комполка послышалась скрытая угроза. — А ну-ка, соедини меня с дежурным по КПП, — применил военную хитрость полковник.
— Минуточку, соединяю, — невозмутимо сказал комбат. Он протянул мне трубку, отвечая на командирскую хитрость офицерской смекалкой:
— Ты дежурный по КПП, понял? — сказал он шепотом, прикрыв рукой микрофон. — Ответь товарищу полковнику.
Я замахал руками:
— Что отвечать?
— Откуда я знаю. Скажи, мол, порядок.
— Дежурный по КПП лейтенант Богачев слушает, — бодро докладываю в трубку.
— Это полковник Клячин.
— Слушаю, товарищ полковник!
— Не ты ли тот Богачев, который журналист?
— Так точно, я, товарищ полковник.
— Почему на КПП?
— Где же мне быть?
— На дровах…
— Я везде успеваю, товарищ полковник. — Майор одобрительно закивал. — Вот закончу дежурство — и в лес, товарищ полковник.
Майор показал большой палец:
— Молодец, лейтенант.
— А скажи, Богачев, рядом с КПП машины на стоянке есть?
— Есть авто на стоянке? — тихо спрашиваю майора. Тот кивает — есть.
— Так точно, имеются, товарищ полковник.
Отвожу трубку в сторону, чтобы было слышно майору.
— А моя «Волга» стоит?
Майор кивнул.
— Так точно, — товарищ полковник, вижу, стоит.
— А если это так, ответь, лейтенант, какой у «Волги» номер?
— Не могу знать, товарищ полковник.
— А ты сходи и глянь.
— У е-мое, — схватился за голову майор, — вот козел старый, поймал.
— Сейчас посмотрю, товарищ полковник.
— Дуй мигом, лейтенант. Жду.
Кладу трубку на стол и накрываю шапкой.
— Что будем делать, товарищ майор? — спрашиваю шепотом. — До КПП километр, не меньше.
Майор напряженно застыл. На побледневшем лице появилась испарина. Две капельки пота медленно сползали вниз по гладковыбритым вискам.
Неделю назад комполка Клячин по пьянке ударил стоявший на обочине шоссе КамАЗ. Чтоб не разбираться с ГАИ, полковник оставил «Волгу» в лесу рядом с КПП. Все это время в городе искали хороших специалистов-авторемонтников, чтобы вручить повестки из военкомата. Своим, армейским мастерам, Клячин не доверял.
— Может, спросить у доктора, — говорю оцепеневшему майору. — Его возили на этой «Волге» к полковнику домой. Он что-то там проверял у супруги.
— И что? — без выражения, отрешенно шепчет майор. — Я сто раз ходил мимо этой машины. Какие номера — без понятия.
— А у нашего дока, — говорю, — есть странная привычка запоминать все цифры, которые попадаются на глаза.
Майор сорвался с места и выскочил из палатки. Заорал кому-то во все горло:
— Доктора ко мне! Живо!
Хорошо, что я успел дополнительно накрыть трубку шинелью.
Явился запыхавшийся доктор со стетоскопом на шее. Он всегда носил с собой чемоданчик с крестом или какие-то медицинские побрякушки. Чтобы начальство не отвлекало на сторонние работы. Даже когда по вечерам выпивал в офицерской палатке, в одной руке он держал стакан, в другой — градусник, шприц или клизму. Так, на всякий случай. Если что — проводится амбулаторное лечение.
Вопросу док не удивился. Сказал, что номер личного автомобиля товарища полковника 23–35 ОХА. «Могли бы и не отвлекать по мелочам».
— Свободен, — махнул рукой комбат и приказал мне: — Бегом марш!
Я побежал.
— Быстрее! — подгонял майор.
Пришлось ускориться. Выдержав паузу, майор снял шинель с телефона. Сунул трубку мне:
— Доложи.
— 23–35 ОХА, товарищ полковник, — выпалил я, запыхавшись.
— Что так долго?
— Номера забрызганы. Пока оттер…
— Вот теперь верю. Связь с КПП имеется, — удовлетворенно сказал командир полка. — А то вам, борзописцам, соврать что плюнуть.
— Обижаете, товарищ полковник.
На том конце что-то пробурчали и бросили трубку.
Майор медленно опустился на стул. Вытер платком лоб и шею. Тут же сорвался и вылетел из палатки.
— Где этот долбаный Рассказов? Он сделает, наконец, связь или я задушу его вот этими руками! Рассказов, твою мать! На КПП «Волга» товарища полковника! Он не отстанет.
— Гиоргадзе, ты меня забодал, — орал Рассказов через минуту, — из-за тебя, козла, не ремонтируется личная машина командира полка!
— Аловов, Иванов, Хайрулин, вы где, чурки гребаные! — слышен дикий рев Гиоргадзе. — Вах, кто сломал личный автомобиль товарища полковника, э?
«Вот дурдом, — думаю, садясь в машину. — Хорошо, хоть ненадолго можно уехать отсюда».
— За дровами! По машинам! — кричу бойцам своего отделения, хотя в моем распоряжении всего лишь один ГАЗ-66. Тут же вспоминаю, как прошлым летом на даче, сев за руль, шурин крикнул всему семейству: «По машинам!» После команды жена и сын быстро заняли свои места в «жигулях». Только шестилетняя дочь Настя продолжала стоять на крыльце.
— Настя, я сказал по машинам! — начал закипать шурин.
Дочь оставалась на месте. Она глупо улыбалась и невнятно двигала в воздухе поднятыми руками.
— Да ты издеваешься над нами! — закричал шурин, опустив боковое стекло. — Кому сказано, по ма-ши-нам!
— Я и так машу, машу, — разревелась Настя…
В тот день мы без приключений добрались до города. Быстро забросали кузов отличными сухими дровами. За тридцать минут с работой было покончено. Оставалось несколько часов свободного времени. Подошли бойцы. Дружно заныли:
— Товарищ лейтенант, разрешите сбегать домой помыться.
— Взять харчей, теплую одежду.
— Времени навалом.
— Товарищ лейтенант, — смотрели на меня шесть пар честнейших и невиннейших глаз. — Отпустите.
Упрямиться было глупо. Тем паче вчера обещал… С другой стороны, после разговора с комполка возникло у меня нехорошее предчувствие…
— Ладно, — говорю. — Ровно в пятнадцать ноль-ноль встречаемся на развилке перед мостом. Водителю с машиной быть там же в четырнадцать сорок пять. По городу без надобности не шляться. Тем более в вашей партизанской форме. Вино, водку не пить. С собой не брать.
— Товарищ лейтенант, о чем разговор, вы же нас знаете…
— Всё. Разбежались.
До чего хорошо дома! Нет, надо пожить в лесу, под мокрым снегом, холодным дождем, чтобы по-настоящему оценить незаметные прелести городского быта. Даже если быт этот устроен в тесной однокомнатной квартирке. Газовая плита, теплая батарея, электрический свет, горячая ванна, радио, телевизор, пахнущие типографской краской свежие газеты с подробностями о наводнениях в далеком Китае. Что еще надо человеку для счастья? И как не хочется уходить, оставлять тихую, уютную щель в серой железобетонной пещере. Нет, не хочется. А надо. Быстренько прощаюсь с женой, целую дочь, уснувшую в кроватке, и выбегаю из дома.
В половине третьего стою в условленном месте. Время есть.
Поздняя осень. Час назад светило солнце. Из окна кухни падающий снег казался светлым и радостным. Теперь, под порывами ветра, — колючим и жестким. Глубокие лужи промерзли до дна. Кочки грязи окаменели вдоль разбитой дороги. Внизу, под мостом, слышится треск и скрежет. Небольшой ржавый буксир отчаянно пробивается на другой берег Северной Двины, раздвигая стальными боками плотную ледяную шугу. Его то и дело сносит к опорам моста. Буксир упирается, становясь против течения. Кажется, это его последний шанс добраться до зимней гавани, чтобы впасть в спячку на долгие полгода.
Я стою на развилке. Стрелки приблизились к четырем. Ни машины, ни бойцов. Вот уже легковушки в конце рабочего дня потянулись из города. На часах — пять. Шинель набухла от мелкого противного снега. Ноги замерзли, портянки увлажнились и скомкались под ступнями. Еще час томительного ожидания — и, наконец, ГАЗ-66 выезжает из-за поворота. Только едет он как-то странно: рывками, галсами и мимо меня. Бросаюсь наперерез. Машина неохотно останавливается. Подхожу к двери со стороны водителя, резко открываю. В нос ударяет густой запах дешевого портвейна. Шофер, наклонившись, криво улыбается. Руль на всякий случай из рук не выпускает. Чтоб не вывалиться. Наконец, пытаясь сохранить равновесие, он достает из-за сиденья початую бутылку:
— Товарищ лейтенант, ы-ык, это вам.
Понятно. Беру стекло и швыряю в канаву. (Да, некультурно.)
— Обижаешь, ы-ык, лейтенант.
Посмотрим, что в кузове. Мать честная! Поверх дров распластаны неподвижные зеленые шинели. Из них торчат бледные лица с остекленевшими глазами. Всюду бутылки с этикетками «777».
Разговаривать не с кем. Да и не о чем. Сам виноват. Кретин.
Сажусь в кабину:
— Значит так, Гаврилюк, — командую водителю. — Едем со скоростью десять кэмэ в час.
— Куды?
— Туды. В расположение части.
— Поэл, не дурак. Могу дать больше газу…
— Не зли меня, боец. Поехали, как сказал. Об остальном — завтра.
Включили аварийную сигнализацию. Еле ползем вдоль обочины. Хорошо, что почти нет встречных машин. Рабочий день окончен. Весь транспорт, обгоняя нас, выбирается за город. Гаврилюк то и дело клюет носом. Иногда я толкаю его в бок, чтоб не уснул. Левую руку не убираю с панели. Держу рядом с рулем. Мало ли чего. Гаврилюк снова засыпает. Что делать? Остановиться? Переждать? Или как-то добраться до лагеря? Не явимся к ужину — начнут бить тревогу. Станут искать — проблем не оберешься.
— Гаврилюк!
— А? Что? Я в порядке.
По трассе проехали удачно. Осталось повернуть на лесную дорогу в сторону танкодрома. Еще два километра — и будем на месте. Может, все обойдется. Поворачиваем. Мать честная! Сразу за дорожным изгибом — две черные «Волги», несколько УАЗов и куча начальства в высоких папахах.
— О черт! — от неожиданности Гаврилюк стал протирать глаза и махать руками — сгинь, нечистая сила. Потом ударил по тормозам. Машина дернулась, чихнула и заглохла метрах в двадцати от головной «Волги».
Навстречу нам двинулось несколько папах. Впереди генерал-майор, чуть сзади наш комполка Клячин и еще три незнакомых полковника.
Гаврилюк бросил руль, притворившись убитым.
Надо было что-то делать. Как-то спасать положение. Единственное, что пришло в голову, — резво выскочить, подбежать к начальству и бойко доложиться. Потом, если все обойдется, продолжить движение. «Нельзя, — думаю, — никак нельзя их подпускать к машине!» Я рванул дверь, стараясь быстро выбраться из кабины. Как назло, пола шинели зацепилась за высокий рычаг переключения скоростей. Я вывалился из машины и повис вниз головой. Спина уперлась в высокое грязное колесо. Одна нога оставалась в кабине, вторая зацепилась за дверцу. Шапка упала в снег.
Генерал с офицерами подошли ближе и удивленно остановились. Я решил не отступать от намеченного плана. Главное, держаться бодро и энергично. Конечно, докладывать вниз головой и вверх каблуками было не совсем удобно. Но я дотянулся до упавшей шапки левой рукой и прижал ее к макушке. Свободную ладонь поднес к виску и бодро доложил: «Товарищ генерал-майор, отделение выполняет задачу по доставке дров в расположение части. За время выполнения работ происшествий не было. Лейтенант Богачев». На последних словах шапка с меня свалилась, и я заканчивал доклад, без головного убора. Генерал молча глядел на меня сверху вниз. За ним выстроилась удивленная свита. Пауза неприятно затянулась. Чтобы скрасить неловкость, я кивнул полковнику Клячину:
— Здравия желаю, товарищ полковник.
— Ваш? — спросил генерал и выразительно посмотрел на командира полка. Тот неопределенно дернул плечами.
— Ваш кадр? — тверже повторил генерал.
— Так точно.
— Хорош.
Теперь надо было выручать полковника.
— Товарищ генерал-лейтенант, вы не думайте, я трезвый. Могу дыхнуть.
— У-у, — сказал генерал, — а это уже наглость. Пойдемте, товарищи, посмотрим, что в фургоне.
— Там дрова, — успел крикнуть я. — Можно не смотреть.
Генерал обошел машину. Открыл дверцу водителя. Поглядел на «убитого» Гаврилюка. Тяжко вздохнув, направился к кузову. Кто-то из свиты услужливо приподнял брезент.
— Действительно, дрова, — сказал генерал, — шесть штук. — Он повернулся к полковнику. — Хорошо же у вас поставлена служба, товарищ Клячин. Тьфу!
Генерал еще раз плюнул, развернулся и направился к машине.
Полковник Клячин сначала бросился за ним, потом вернулся, чтобы дать распоряжения:
— Водителя поменять, этих, что в кузове, — на гауптвахту. Старшего алкоголика, — указал он на меня, — погрузите в УАЗ и ко мне в штабную палатку.
— Товарищ полковник, я не пьян! — кричу из-под машины.
— Конечно.
— Помогите встать. Вы убедитесь.
— Я и так вижу, — сказал полковник, глядя на меня сверху вниз. — Мы все уверены, что вы абсолютно трезвы, лейтенант. Спасибо за службу. Завтра сообщим о ЧП вашему руководству. Вам это так просто с рук не сойдет.
«Ну, — думаю, — выгонят с работы. Точно».
Четыре бойца подхватывают меня и тащат к машине. Пытаюсь вырваться и идти самостоятельно. Поскользнувшись, опять сваливаюсь в кювет. Полковник, качая головой, следит, чтобы меня загрузили в УАЗ.
Через полчаса разговор продолжился в штабе с участием командира батальона Ширяева и замполита.
— Вы по-прежнему будете утверждать, что трезвы?
— Естественно, товарищ полковник.
— И сегодня не пили?
— И сегодня. И уже три месяца до этого ни грамма.
— Три месяца? — удивился замполит. — Не верю.
— Значит, утром вы мне нагло врали на трезвую голову? — коварно уточнил Клячин.
— Я?
— Где связь с КПП?
Я посмотрел на комбата. Тот глазами советовал не излагать подробности. Тут же поспешил вернуть разговор в прежнее русло.
— Он трезвый, товарищ полковник.
— Я видел, майор.
— Пусть дыхнет.
Клячин вздохнул и нехотя подозвал меня жестом. Брезгливо скривился, когда я подошел почти вплотную.
— Ну.
Я честно дыхнул полковнику в лицо.
— Еще раз. С этой стороны. Хм. Ну-ка постой на левой ноге с закрытыми глазами. Теперь на правой. Присядь на левой ноге. Теперь на правой. Пять раз. Черт вас знает. Вроде не пьян. Идите, я подумаю, что с вами делать. В любом случае, за личный состав придется ответить.
Выскакиваю из палатки. Фу-у, может, обойдется. За бойцов, конечно, накажут, но без усугубляющих обстоятельств. Навстречу — доктор с кислородной подушкой.
— Что случилось? — спрашивает. — Ты чего такой бледный?
Рассказываю всю историю. Доктор говорит: «Пошли ко мне. Надо тебя успокоить. Есть хороший медицинский препарат». По дороге он рассказал, что произошло днем. Отчего понаехало столько начальства. Почему такая буча. Оказывается, Аловов, Иванов и Хайрулин стащили у танкистов кабель. Смотали километр действующего провода. Прямо днем, во время учебного боя, лишили штаб дивизии связи. Получился скандал. Танкисты пожаловались в штаб армии. Оттуда срочно прибыла комиссия. Стали разбираться. Тут как раз подоспел я со своими бойцами. В общем, всё к одному.
— Ты не волнуйся, — сказал доктор. — Обойдется.
— Хорошо тебе говорить, — возражаю. — А меня на работу приняли условно, с испытательным сроком. Если сообщат начальству, выгонят, к чертовой матери.
— Брось. Все образуется, рассосется. Давай, прими лекарство.
Доктор вынул из походного сейфа пузырек с прозрачной жидкостью. Снял с полки два граненых стакана. Налил поровну:
— Сам с утра хочу дернуть. За день столько всего. Столько всего. Весь на нервах.
— Что за лекарство?
— Спирт, естественно. Разбавлен до кондиции, рекомендованной самим Дмитрием Ивановичем. Готовый к употреблению. Извини, из закуси одни витамины.
— Вообще-то я уже месяца три не пью. Завязал. Понимаешь, на новой работе…
— А что тут пить? Ну, глотни за компанию. Давай. За удачу!
Мы чокнулись. Одновременно кто-то откинул брезентовый полог. Вошел знакомый генерал-майор со свитой.
— Здесь наша медчасть, — сказал комполка Клячин и осекся. Мы с доктором застыли с поднятыми стаканами.
— Та-а-ак, — сказал генерал.
Он повернулся к комполка Клячину и вкрадчиво поинтересовался:
— А в вашей части, полковник, вообще есть трезвые офицеры?
Вопрос был вежливым по форме, но зловещим по тону.
«Что делать? — успел подумать я. — Надо спасать командира».
— Товарищ генерал, — я вскочил, отставив стакан. — Так точно, есть трезвые в нашем полку!
— Сомневаюсь.
— Я, например.
— Фамилия?
— Лейтенант Богачев!
Генерал сделал знак рукой. Меня подсветили фонариком.
— Тот самый? — удивился генерал.
— Точно так! Тот самый. И по-прежнему абсолютно трезвый. Хотите, дыхну?
— А это уже сверхнаглость, — сказал генерал и, развернувшись, выскочил из палатки.
— Эх, лейтенант, — простонал комполка Клячин. — А ведь я тебе почти поверил…
— Товарищ полковник, он действительно трезв, — подтвердил доктор, не выпуская из рук наполненный стакан.
— Честное слово, — добавил я. — Три месяца ни капли.
— Во-он!
— Разрешите объяснить…
— Во-он!
Спать я ушел на КПП, чтоб не нашли. Может, к утру все образуется? Как говорит доктор, рассосется… Среди ночи послышались странные звуки. Шум, треск веток, мат, перебранка. Это Аловов, Иванов и Хайрулин под командованием старшины Гиоргадзе и лейтенанта Рассказова тянут по деревьям кабель.
— Лезь на дерево, чурка!
— Товарищ лейтенант, я не обезьяна. Товарищ лейтенант, я не обезьяна.
— Лезь, кому говорят.
— Товарищ лейтенант, скользко.
Снова треск сломанных веток и удар чего-то плотного о землю. Злой голос Гиоргадзе:
— Ты не обезьяна, э?
— Нет.
— Ты хуже обезьяны!
Дверь будки КПП со скрипом отворилась и громко хлопнула.
— Спишь, Богачев?
Будильник, ослепленный фонариком молча доложил: без двадцати четыре. Лейтенант Рассказов сбросил шинель, повесил на гвоздь фуражку. Устало опустился на скамейку. Стаскивая мокрые сапоги, изрек:
— Ночь спустилась на землю, и в стране дураков началась работа…
Через полных два месяца службы я снова был в городе. Все это время — ни грамма спиртного. Бросил курить. К радости командиров, даже не отпрашивался домой на побывку. И все же, как сказал поэт, все же, все же… Первое, что увидел на доске объявлений, вернувшись на студию, — приказ о моем увольнении. «За пьянство и недостойное поведение во время военных сборов…» Вот так. Как обещали. Без лишних слов и церемоний.
И что теперь? Куда идти? Кому жаловаться? С коллективом не знаком. В профсоюзе не состою. Журналистских навыков не имею. Обратно в лес?
Зашел к руководству. Глухо. Ни слова поддержки. Ни грамма внимания. В отделе кадров забрал трудовую… Получил копеечный расчет в бухгалтерии. Где искать работу?
Пошел «под танк» — кафе рядом с телестудией. «Выпить, что ли?» Взял сто пятьдесят и бутерброд с сыром. Не густо конечно. Но денег нет. И, наверное, не скоро будут. Присел за стол. Достал из кармана бумажку с приказом. Еще раз прочитал формулировки. В зале холодно, темно, неуютно. Какой-то человек подсел с недопитым стаканом портвейна. Дверь открылась. В кафе вошел главный редактор Фрайман. Подошел к стойке. Купил пачку сигарет. Заметил меня со стаканом и мятым приказом в руках. Укоризненно покачал головой. Мол, чернила еще не высохни… Эх ты. А ведь еще полчаса назад доказывал, что не пьешь… Фрайман вышел, презрительно хлопнув дверью.
«Товарищ редактор, — беззвучно завел я старую песню. — Вы не поверите, но за истекший квартал я не выпил ни грамма. Ни капли. Хотите, дыхну? Фу, аж самому противно».
— Что? — переспросил сосед.
— Ничего, — говорю. — Раз написали «пьющий», надо соответствовать…
Я разорвал приказ и бросил листки в урну.
— Таким, как я, не место на советском телевидении.
— Ты с телевидения?
— Уже нет.
— Значит, наш?
Чокнулись. Красное с белым. Неужели выпью наконец?
 (обратно)
(обратно)
Генеральный секретарь

Олег Камышин, актер местного театра, был хорошо известен жителям города Шахтинска. Но прославился он не выдающимся исполнением ролей на сцене. Не съемками в кино или выступлениями по радио. Он был известен тем, что неподражаемо (если это уместно в данном контексте) имитировал голос Леонида Ильича Брежнева. Копировал его так похоже, что на слух ни за что не отличить. Олега приглашали на свадьбы, юбилеи, вечеринки. Он голосом Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Генерального секретаря ЦК КПСС от имени Политбюро ЦК и всего советского народа поздравлял виновника торжества, желал здоровья, успехов и счастья в личной жизни.
Был он человеком тихим, спокойным, незаметным. До тех пор, пока не превращался в генсека. А перевоплотившись, становился важным, заносчивым, чванливым. Настоящим крупным политическим деятелем. После шестой выпитой рюмки лез в драку. После восьмой его относили на кровать в хозяйскую спальню. Как руководителю государства, разрешали лежать на покрывале, не снимая ботинок. Под занавес торжества его снова выводили к гостям. «Генеральный секретарь» всех горячо благодарил и прощался неизменной фразой:
— Подробности сегодняшнего вечера слушайте в ночном выпуске радиостанции «Голос Америки» из города Вашингтона.
За выступления Олегу немного платили. Тем и жил. Не хорошо и не плохо. Как все.
Но вот однажды коммуниста Олега Камышина пригласили в горком КПСС. К первому секретарю Толкачеву Григорию Николаевичу. К самому! Лично! Произошло это невероятное событие внезапно. В день репетиции у старого здания театра остановилась черная горкомовская «Волга». Из нее вышел человек с безупречной осанкой и скучным лицом. Он неспешно вошел в зал. Сначала несколько минут без интереса наблюдал за репетицией. Потом движением завсегдатая ресторана подозвал главного режиссера. Пошептался с ним о чем-то. Главреж тут же предложил Камышину, стоявшему в глубине сцены то ли среди рабов, то ли в массе революционного крестьянства, проехать в горком.
— А зачем это? — вызывающе спросил Олег, не выходя из образа сельского бунтаря. Ему не понравилось, что главный режиссер, человек заслуженный и пожилой, словно мальчик, кинулся через зал, чтобы угодить какому-то чиновнику. Было неприятно и обидно.
— Зачем? — переспросил гость. — Вас приглашает секретарь горкома. Поговорить. Обсудить творческие вопросы.
— Не поеду, — заупрямился Олег. — С какой стати? Почему я? Странно.
— А чему вы удивляетесь, товарищ Камышин? — рассудительно сказал человек из горкома. — Партия всегда советуется с народом: рабочими, колхозниками, служащими театра.
— Не упрямься, — сказал режиссер. — Делай, что велят, по-хорошему.
— Езжай, — загудело революционное крестьянство.
Пришлось согласиться.
Действительно, в огромном кабинете, украшенном портретами классиков марксизма-ленинизма, Олега ждал первый секретарь. Это был осанистый мужчина лет пятидесяти с бледным холеным лицом, густой, аккуратно стриженной шевелюрой. Вначале он задал несколько вопросов о театре. Осведомился о текущем репертуаре. Поинтересовался общей атмосферой в коллективе. Затем прямо, в лоб, спросил:
— Скажите, правда ли, что вы актер государственного театра, член КПСС, пародируете нашего генерального секретаря?
Олег, естественно, обиделся. Дал честное партийное слово, что никогда таким позорным для коммуниста делом не занимался: «Как можно? Есть в жизни вещи, с которыми не шутят. Хоть что-то должно оставаться в человеке святым…»
Первый, соглашаясь, кивал. Потом щелкнул тумблером внутренней связи. Тут же в кабинет вошел серьезный, с военной выправкой помощник. По знаку хозяина кабинета он поставил на стол магнитофон. Включил запись. Пластиковые бобины медленно закрутились. Веселый гомон заполнил пространство кабинета. Олег тут же вспомнил недавнюю шахтерскую свадьбу. Эти приятные звуки начала застолья. Эту легкую увертюру перед большим мордобоем. Сквозь звон бокалов, хохот, громкие крики, легкий матерок (предвестник большой праздничной драки) к народу пробивался голос правды. Голос партии. Тостующим был сильно нетрезвый «генеральный секретарь». Он долго шепелявил и причмокивал. В неповторимой брежневской манере поздравлял молодоженов. В конце пообещал, что если у них ночью что-то не заладится, то партия окажет всяческое содействие. Публика ржала и аплодировала.
— Ваша работа? — секретарь остановил пленку.
Олег густо покраснел. Привычка краснеть, улыбаться, гневаться, сопереживать была отработана годами театральных репетиций. При общении в узком партийном кругу она помогала решать нравственные проблемы без лишних затрат душевных сил. Вот и сейчас Олег легко изобразил всю гамму внутренних переживаний. Затем искренне сознался. Глубоко раскаялся. И даже побожился, что впредь ничем подобным заниматься не станет.
— Не будете?
— Клянусь, ей-богу, честное партийное…
На этом можно было бы и закончить. Обычная история. Младший товарищ оступился. С кем не бывает? Старший поправил. На то он и поставлен, то есть выбран, чтобы следить за порядком. Но…
Секретарь легким кивком головы выставил помощника из кабинета. Обождал, пока дверная ручка займет горизонтальное положение, и тихо, но внятно сказал:
— Значит, не будете?
— Никогда.
— Это ваше твердое слово?
— Да, мое партийное слово.
— Слово коммуниста?
— Не буду, — еще раз твердо пообещал Олег.
Слова он произносил громко и разборчиво, опасаясь провокаций, и для качественной записи, если где-то была включена прослушка.
— А надо, товарищ Камышин, — выдержав паузу, заявил секретарь горкома и откинулся на спинку кресла. — Придется.
— То есть как?
— Для партии…
Олег задумался. Коварство большевиков принимало изощренные формы.
— Олег Михайлович, — секретарь подсмотрел шпаргалку с биографией Камышина, — мы хотим поручить вам дело особой… — хозяин кабинета внимательно посмотрел в глаза Олегу и повторил с нажимом: — Особой политической важности.
Олег нерешительно поднялся:
— Сделаю что могу, но… — На всякий случай он решил сочетать осторожность с максимальной лояльностью.
— Садитесь, — предложил секретарь. — Вы, разумеется, знаете, что наш город недавно удостоен ордена Ленина.
С профессиональным мастерством Олег изобразил на лице полную осведомленность.
— Мы хотим широко и торжественно отметить эту высокую правительственную награду…
— Награду нельзя отметить, — смущаясь, возразил Олег.
— ?
Густые брови хозяина кабинета изобразили удивление. Опешили висящие на стенах Маркс и Энгельс. Перебивать секретарей в этом кабинете было не принято.
— Можно отметить праздник, торжество, юбилей, годовщину. Награду — нельзя. Так говорят, но это стилистически неверно…
— Минуточку, товарищ Камышин. — Секретарь добавил металла в слово «товарищ» и раздраженно постучал кончиком карандаша по столу. Потом заговорил коротко, сухо и официально:
— Будет торжественный вечер. Мы соберем актив партии. Пригласим ударников труда. Приедут секретари обкома и, возможно, товарищи из ЦК. Они прикрепят высокую награду на знамя города. Это апофеоз праздника. Я правильно выражаюсь? И в этот торжественный момент должен прозвучать Указ в исполнении Председателя Президиума Верховного Совета, Генерального секретаря ЦК КПСС.
— Он тоже будет?
— В некотором смысле, — секретарь внимательно посмотрел в глаза соратнику по партии. — В некотором смысле — да.
— Понимаю. Незримо. В наших сердцах и душах, — по привычке начал было ерничать Олег.
Была у него такая дурацкая черта — сначала говорить, а потом думать. Не то чтобы он был фрондер, либерал или, не дай бог, противник режима. Просто мог сболтнуть что ни попадя.
Говорил там, где надо бы молчать. Возможно, поступал так из врожденного духа противоречия. А может быть, актерская натура требовала острого продолжения всякой мизансцены. Вот и сейчас мог бы придержать язык. Нет же. Высунулся.
— Не валяйте дурака! — строго прикрикнул секретарь. — Здесь не театр. Ведите себя прилично.
Под тяжелым взглядом хозяина города хотелось подняться и вытянуться.
— Сидите, — привычно махнул рукой секретарь. — Леонид Ильич будет в записи, которую сделаете вы.
Секретарь открыл лежавшую под рукой папку. Достал лист бумаги и протянул его ошарашенному Олегу. — Вот текст Указа.
— Вы серьезно?
— А что вас смущает? — перебил секретарь деловито, как было принято в этом кабинете. — Указ был?
— Был, — неуверенно согласился Олег.
— Возможно, Леонид Ильич его произносил в Кремле.
— Не исключено.
— Весьма вероятно, что эта речь была записана на магнитофон.
Олег кивнул, соглашаясь.
— Вот эту запись мы и поставим. Именно эту, — с нажимом сказал секретарь, — и никакую другую. Пленку будете готовить здесь с нашим специалистом. И без лишних разговоров. Понятно?
— П-понятно… Вы шутите?
— Представьте, нет. Вот уже лет десять. Работа такая. Серьезная.
По лицу секретаря горкома было видно, что он говорит неправду. На самом деле он не шутил гораздо дольше.
— Сколько вам нужно времени на подготовку?
Олег углубился в текст. Кажется, действительно предстояла необычная творческая работа. Быстро пробежал глазами несколько строк. Деликатно отложил листок. Заговорил быстро и уверенно:
— Готов хоть сейчас. Но, извините за прямоту… Текст — слабоват. Говорю вам как профессионал, автор многочисленных публикаций и выступлений.
Олега снова понесло. Опять какой-то бес толкнул на лишние разговоры:
— Я, знаете, какие монологи готовлю. Обхохочешься. Спросите у людей. А тут суховато как-то. Без живинки. Без огонька. Может, добавим красок? Чтоб звучало. Генеральный секретарь все-таки. Не труба, как говорится, от бани.
— Вы соображаете, что несете?! — резко поднялся секретарь. Вскочил и Олег. Вытянул руки по швам. — Вам поручают дело государственной важности. Поэтому бросьте эти ваши смешочки!
— Извините, это я так, не подумав… Просто хотел как лучше…
Секретарь долго смотрел ему в глаза. Потом сел, закурил и задумался. Со стен вдумчиво глядели некурящие классики марксизма-ленинизма. Тема размышлений была проста: можно ли доверять идиотам. «Ответ, кстати, неочевиден, — подумав, решил секретарь. — Иногда и придурки бывают неплохими исполнителями».
— Прочтете, как написано, — сказал он устало, но твердо, — и предупреждаю — никакой отсебятины. Вам позвонят и скажут, когда запись. Можете идти.
Уже у самой двери он задержал Олега.
— Постойте.
Олег повернулся. Лицо секретаря горкома выражало единство и борьбу противоположностей.
— Зачитайте мне два-три предложения.
Олег достал из кармана текст Указа и начал читать.
— Указ Президиума Верховного Совета СССР. О награждении города Шахтинска орденом Ленина. За успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном, культурном строительстве, отмечая заслуги в освоении недр…
Незримая тень генерального секретаря заполнила пространство кабинета. Голос звучал так похоже, что секретарь горкома невольно вытянулся в полный рост. Не в силах перебить докладчика, он выслушал весь Указ. Стоя. До конца. И не без удовольствия.
Прошло два месяца. Текст Указа был давно записан, прослушан и одобрен секретарем горкома. Пленка хранилась в его личном сейфе вместе с особо важными и секретными документами. Были моменты, когда он сомневался в правильности своего выбора. И все-таки количество бессонных ночей, согласно основному постулату марксизма-ленинизма, перешло в качество. Секретарь принял окончательное и бесповоротное решение: народ должен услышать голос вождя партии и руководителя государства в торжественную минуту награждения.
Как-то незаметно, за чередой монотонных будней исторический день настал. В городском театре собрался партхозактив, ударники труда, гости из областного центра и Москвы. Народ и партия были практически едины. Лишь узкая оркестровая яма отделяла зал от президиума. Пышные корзины цветов украсили авансцену. На заднике висел огромных размеров картонный орден Ленина. Владимир Ильич внимательно, не отрываясь, смотрел за кулисы. Первый секретарь выглядел именинником. Он сидел в президиуме и ждал окончания доклада. Текст читал член бюро обкома. Он стоял за несуразно высокой трибуной, поэтому из зала была видна одна голова в очках. Она говорила медленно и заунывно.
— Дорогие друзья! Позвольте от имени трудящихся выразить глубокую признательность и сердечную благодарность родной Коммунистической партии, Советскому правительству за высокую оценку трудовых дел рабочих, служащих и интеллигенции города. Всеобщий политический и трудовой подъем вызвала радостная весть о награждении орденом Ленина…
Голос звучал, как песнь муэдзина в сорокаградусную жару. После вводной части шел экономический блок. Впереди, с исторической неизбежностью, аудиторию ждали социальный, культурный и внешнеполитический разделы. Затем — награждение и праздничный концерт.
Но вот на сцене произошло хоть что-то достойное внимания. Из-за кулис в президиум направили записку «тов. Толкачеву. Лично». Зрители с интересом наблюдали, как члены президиума осторожно передавали из рук в руки бумажный квадратик. Первый секретарь развернул листок и замер. Автор был лапидарен: «Григорий Николаевич, возникли проблемы с воспроизведением записи генерального секретаря!!!» Первый извинился перед товарищами из Москвы, встал и направился за кулисы. Там его ждали взволнованные помощник и директор театра. Из путаных объяснений следовало, что скорость горкомовского «Юпитера», на котором записывалась речь генсека, и скорость театрального магнитофона, на котором она должна была воспроизводиться, не совпадали. И получалось так, что генеральный секретарь говорил слишком быстро и неразборчиво. Директор театра так и сказал:
— У нас Леонид Ильич, извиняюсь, буратинят.
— Что? — переспросил секретарь так тихо, что у помощника вмиг увлажнилась рубашка. — Отчего же не проверили? Я тебя, — он слегка тронул локоть подчиненного, — и тебя, — взял за пуговку жилет директора театра и улыбнулся товарищам из президиума, — живьем закопаю.
— Я хотел протестировать, — директор тщетно пытался высвободиться из цепких пальцев секретаря, — но мне сказали, что пленка секретная.
— Вы сами не разрешили… — напомнил помощник.
Секретарь отвел их подальше от сцены.
— Делайте что хотите, но срывать мероприятие партия вам не позволит. И я не допущу. А вы меня знаете. Тащите магнитофон из горкома, идиоты!
— Уже привезли, — сказал помощник. — Не стыкуется.
— Переходников нет, — объяснил директор театра. — Я, кстати, направлял записку о слабой технической базе…
— Вот я сейчас все брошу, — оборвал его первый, — и буду слушать про твою базу. Свободен!
Директор тут же растворился в кулисах. Секретарь повернулся к помощнику:
— Значит, так. Срочно найдите этого деятеля, актера. Запишите его повторно. — Секретарь взглянул на часы. — Есть минут сорок. Самое большее — час. Доставьте его немедленно живым или мертвым.
— Уже здесь, в радиорубке, — доложил помощник. — Взяли прямо со свадьбы.
Он скромно потупил глаза, ожидая похвал. Чувствовалась старая школа. Умели же работать органы! На много шагов просчитывали варианты. И секретарь оценил:
— Молодец.
— Между прочим, он опять пародировал Леонида Ильича, — доложил помощник.
— Вот гад.
— Я ему то же самое говорю. Ты что, говорю, зараза, позоришь генерального секретаря. А он отвечает, что, мол, репетирует. Выполняет важное партийное поручение.
— Болтун. Скотина… — секретарь нехорошо выругался, — потом с ним разберемся. Сейчас пусть готовится.
Секретарь торопился вернуться за стол президиума.
— А он уже того, готов, — помощник щелкнул пальцем по горлу.
— Пьян, что ли?
— В стельку, — сказал помощник. — Но читать может. Я проверил.
— И как? — секретарь сделал неопределенный жест.
— Я дал ему текст Указа. Прочел без ошибок.
— Похоже? — секретарь поднял глаза кверху.
— Стопроцентное попадание, — заверил помощник.
— Вот, скотина, насобачился.
— Животное. На ногах не держится, а говорит как настоящий Леонид Ильич.
— Так запиши его!
— Не дается, сволочь. Говорит, читать будет живьем. Утверждает, что противник фонограмм. Это, мол, изобретение буржуазного искусства, убивает творчество. А он — убежденный соцреалист и больше записываться не желает.
— То есть как не желает?
— Никак.
— Ладно. Я ему устрою. Он у меня узнает, что такое соцреализм, — пообещал первый. И тут же без перехода озабоченно глянул в глаза помощнику. — Думаешь, справится?
— Не сомневаюсь. Это настоящая русская актерская школа.
— Да брось ты! Какая школа! Дайте дожить до утра, и я вам покажу… Я вас…
— Так выпускать без записи? — уточнил помощник.
Секретарь колебался:
— Пусть читает. Но смотри у меня…
Секретарь, улыбнувшись членам президиума, вернулся на место. Шел внешнеполитический блок.
— Товарищи! — продолжал докладчик, — мы должны постоянно заботиться об укреплении нашей оборонной мощи, сохранять мир во всем мире и, если понадобится, дать такой отпор агрессорам, от которого они успокоились бы навсегда. — Зал зааплодировал. — Агрессивные силы во главе с империалистами США все время накаляют международную обстановку. Результатом сговора империалистов является агрессия Израиля против арабских стран и оккупация части территории ОАР, Сирии и Иордании. Трудящиеся города целиком и полностью поддерживают справедливую внешнюю политику нашего правительства…
В связи с обострением внешнеполитической обстановки секретарь сурово осмотрел зал, краешком глаза пытаясь разглядеть, что творится над балконом, за стеклом радиорубки.
Сначала там все шло довольно гладко. Уснувшего было Олега кое-как привели в чувство. К моменту внесения знамени и ордена ему вылили на голову ковш холодной воды, протерли волосы, открыли бутылку нарзана. В нужный момент, когда высокий гость начал прикреплять орден к знамени города, помощник дал отмашку. Текст Олег прочитал идеально. «Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые… (стандартный перечень достигнутых успехов)… орденом Ленина награждается город Шахтинск».
После этих слов, произнесенных лично Генеральным секретарем ЦК КПСС, весь зал поднялся в едином порыве. «Звучат громкие и продолжительные аплодисменты», — отметили в блокнотах газетные репортеры. Высокий московский гость прикрепил орден к знамени. Пожал руку первому секретарю. Специально обученные «шахтеры» с задних рядов трижды крикнули: «Слава! Слава! Слава!» Грянули фанфары. Аплодисменты перешли в овацию. Это подстегнуло Олега, как встряхивают сонную боевую лошадь сигналы военного горна. Чувствуя грандиозный успех у публики, он уже не мог остановиться.
— Поздравляю всех жителей города Шахтинска с этой высокой наградой родины! — сказал Леонид Ильич.
Овации усилились. Этот текст не был предусмотрен в Указе. Помощник секретаря горкома хотел забрать микрофон из рук оратора, но поддержка зала была столь ощутимой и бурной, что он не решился оборвать речь генерального секретаря в такую торжественную минуту. Олег, опьяненный небывалым успехом, продолжил:
— Поздравляю партийный комитет города Шахтинска и… — таких длинных пауз он еще не держал, — лично первого секретаря горкома партии Толкачева Григория Николаевича!
Опять овации. Дирижер военного оркестра взмахнул палочкой. Фанфары торжествовали. Представитель Москвы как-то настороженно взглянул на первого секретаря горкома, но все же еще раз вышел из-за стола и вторично пожал ему руку. Григорий Николаевич стоял посреди сцены бледный и растерянный. Зал гудел и аплодировал. Еще бы — сам Леонид Ильич лично поздравил Григория Николаевича! Какое счастье! Какая гордость! Какая радость!
Но что-то мешало хозяину города в полную силу наслаждаться триумфом. Он вяло улыбался, с опаской поглядывая вверх, в сторону радиорубки. Там высоко за стеклами Олег купался в аплодисментах.
Он свысока подмигнул виновнику торжества. Даже помахал рукой. Мол, знай наших. Это был первый внезапный, оглушительный успех за все годы службы в театре. О таком триумфе он и не мечтал. Каждое слово, любой призыв тотчас вызывали ответную реакцию. Надо было только найти и высказать правильные, нужные, добрые слова. Горящий взор Олега победоносно гулял по бушующему залу. Вдруг в конце второго ряда он заметил жену первого секретаря, служившую в управлении культуры. Она часто наведывалась в театр. Олег знал ее как хорошую, скромную труженицу, прекрасно выполняющую свои обязанности. Ему остро захотелось сделать ей что-то приятное.
— Поздравляю супругу первого секретаря — Толкачеву Анну Сергеевну! — тепло, задушевно, по-отечески сказал в микрофон Леонид Ильич.
Первый секретарь в одночасье прибавил лет десять. Лицо осунулось, ноги подкосились. И лишь глаза, поднятые кверху, обещали Олегу либо страшную казнь, либо несметные награды, если он наконец-то заткнется. Но оратора уже было не испугать, не соблазнить, не остановить.
— Сестры, матери, жены! Спутницы жизни, поддержим мужей, сыновей, братьев в борьбе за черное золото! — торжественно вещал Леонид Ильич. — Да здравствуют шахтеры — ум, честь и совесть нашей эпохи!
Аплодисменты стихли. Зал замер.
— Да, шахтеры! А не ваша сраная партия! И я, как генеральный секретарь, на этом настаиваю, — начал с кем-то полемизировать Леонид Ильич.
Потом послышались странные звуки. Складывалось впечатление, что кто-то ударил генерального секретаря по лицу. Вдруг и сам он заорал не своим голосом:
— Не трогайте микрофон, сволочи! — В радиорубке метались зловещие тени в милицейской форме. — Куда вы меня тащите?
— Заткнись! — крикнул кто-то руководителю государства. Слышались тяжелые и резкие удары.
Публика замерла в недоумении. Президиум спешно покидал сцену.
— Дорогой Леонид Ильич так просто не сдается!
Эхом по залу раздался треск падающей мебели и звон битого стекла. Олега не так легко было завалить.
— Дорогие товарищи! — сипло прокричал Леонид Ильич. — Подробности сегодняшнего вечера слушайте в ночном выпуске радиостанции «Голос Америки» из Вашингтона!
Это были заключительные слова торжественного заседания. После этого оно самозакрылось. Впервые за много лет обошлись без гимна.
Вскоре первый секретарь был снят с должности и переведен в другой район начальником управления сельского хозяйства. Олег Камышин отсидел пятнадцать суток за хулиганство. Был исключен из партии. Уволен из театра. После этого уехал на Север. И тридцать лет работал на областном телевидении. Осветителем.
 (обратно)
(обратно)
Цензура

Как известно, торжество свободной прессы в Советском Союзе широко отмечалось 5 мая. Это был исторический день выхода первого номера газеты «Правда». Накануне в редакциях газет, радио, телевидения повсеместно шли собрания. На свой праздник свободные журналисты обязательно звали работников цензуры. Вот и к нам в студию телевидения приехал начальник Обллита (главный областной цензор) Игорь Иванович Телов. Редактор студии Фрайман лично встретил его у входа в телецентр. Учтиво провел в зал. Любезно усадил в центр небольшого президиума.
Современная молодежь, наверное, и не слыхала, что такое партийная цензура. А между тем, без подписи мелкого чиновника Управления охраны тайн в печати не могла выйти ни передача, ни газета, ни книга. Если, к примеру, телепрограмма шла в эфир «живьем» (без записи, в прямом эфире), редактор был обязан в микрофонной папке точно изложить, о чем собираются говорить участники. Что они думают. Какова их гражданская позиция. И не дай бог выступающим отойти в прямом эфире от согласованной и утвержденной точки зрения.
С записанными программами было легче. Все «лишнее» выбрасывалось в корзину при монтаже.
От цензора я впервые узнал много нового об окружающей нас действительности. Например, если уровень загрязнения воды, атмосферы или почвы превышает ПДК (предельно допустимые концентрации), то говорить об этом в средствах массовой информации нельзя.
— Что значит нельзя? — возмутился я в кабинете главного областного цензора Игоря Ивановича Телова. К нему я пришел литовать (визировать) один из первых своих сценариев. — У меня передача о том, что ЦБК буквально отравляет город. В этом весь смысл. Надо что-то делать. Только по метилмеркаптану ПДК превышены в семьдесят пять раз!
— Нельзя, — устало повторял цензор.
Он был человеком спокойным и мягким. За время работы в советской цензуре Телов научился деликатно и без нажима ставить авторов на место. Сделать это было несложно. Настоящих буйных в областной прессе в то время было немного. Их и сейчас не хватает.
— Ладно, скажете, что ПДК — чуть выше нормы. Иногда… Дорогой коллега, научитесь обходиться без цифр, — советовал Телов. — Ведь точные данные — это подсказка врагу. Абсолютные показатели — государственная тайна.
— Какой враг? — кипятился я. — Сорок лет как война кончилась. Да по какому праву нельзя?
— Новенький? — добродушно улыбался цензор. — Есть у меня такое право, но об этом говорить нельзя.
— Покажите, — горячился я, — где это записано?
— Не положено. Секретный документ. Для служебного пользования.
— Тогда я выдам в эфир все без правок. Эфир прямой.
— Вы будете уволены, — вяло отвечал цензор, — главный редактор наказан.
— Требую официально. Покажите документ.
— Говорю официально — нельзя.
— А неофициально?
— Ну что ты будешь делать. Все новенькие одинаковы.
Игорь Иванович вышел из-за стола. Запер входную дверь на ключ. Приложил палец к губам и направился к массивному сейфу. Открыл его двумя ключами. Достал оттуда красную книгу. Страниц в ней было не меньше двухсот. Быстро нашел нужное место. Не выпуская книгу из рук, дал прочитать. Действительно, говорить о загрязнениях было нельзя.
— А если разрешите в виде исключения? — шепотом спросил я.
— Снимут.
— Скажете, что не заметили.
— Уволят.
— А мы выйдем на улицу с плакатом: «Верните Телова!»
Цензор замахал руками.
— Вы с ума сошли. На улицу запрещено. Посадят.
— Кого?
— Всех, — убежденно прошептал цензор. — Не сомневайтесь…
К чему все это? Ага, приезжает на студию в День советской печати начальник Обллита Игорь Иванович Телов. Чтобы, значит, от управления цензуры поздравить журналистов с днем свободной прессы. В зале торжественная обстановка. Идет награждение грамотами. Вручаются подарки. «За лучшее раскрытие темы», «За патриотическое воспитание», «За освещение партийной жизни», «За материнство и детство…»
— Мы с товарищами посоветовались, — торжественно объявил цензор, когда пришла его очередь назвать имя очередного счастливчика, — и решили… Звание лучшего кинооператора присвоить Юрию Степановичу Высоцкому!
— Юрий Степанович, выходите на сцену, — радостно крикнул в зал главный редактор Фрайман. — Вас ждет грамота, ценный подарок и денежная премия от Управления по охране государственных тайн. Пусть товарищи на вас посмотрят, а молодежь всегда следует вашему примеру.
Под аплодисменты и туш застенчивый Степаныч, действительно талантливый оператор, взбирается на невысокий подиум. Его стоя приветствует Телов.
— Мастер. Профессионал высочайшего уровня, — прежде чем вручить награду, нахваливает цензор. — Его съемки всегда нас радуют. Хорошие кадры и… женщины (легкий поклон в сторону диктора красавицы Бэллы Михайловны) — кинокадры и женщины всегда должны содержать в себе какую-то тайну. Особенно, если сняты они, — цензор выдержал паузу, — в нашем пограничном районе.
— Кто, женщины? — уточнили из зала.
Послышались смешки.
Фрайман глазами пробежал по рядам. Постучал карандашом по графину. Дождался тишины.
— Возьмите хотя бы недавний сюжет о рыбаках, — продолжал цензор.
— Я прошу, чтобы нам показали эту замечательную работу. Вы распорядились насчет пленки? — обратился он к Фрайману.
— Все готово, — ответил Виктор Зиновьевич, — механик ждет отмашки.
— Может, не стоит? — смущенно попросил Степаныч. — Ничего же особенного.
— Не будем скромничать. Не надо. Пусть все увидят, — настаивал Телов, — этот великолепный сюжет. Начинайте, — кивнул он Фрайману.
— Будьте добры, пленочку, — по громкой связи попросил киномехаников главный редактор.
Техники приглушили свет, включили мотор. За стеной послышался стрекот киноаппарата. Царапины ракорда заплясали на экране. Головы членов президиума высветились ниже, на ярком фоне. Наконец пошел кинофрагмент позавчерашних новостей. Без текста. Автором, кстати, был я. «Но кто здесь ценит, — думаю, — работу начинающего журналиста».
Кино снимал Юрий Степаныч Высоцкий в день своего рождения. Точнее, к вечеру, когда мы (я, Степаныч, звукорежиссер и капитан судна) наконец из гостевой каюты выползли на палубу.
— Шобы нáчать, — не без труда выговорил Степаныч.
— Или начать? — уточнил капитан. В руках он держал початую бутылку «столичной». Полдюжины опустошенных бутылок скрылись до этого в кильватере нашего судна (у капитана была дурацкая манера выбрасывать порожнюю тару в иллюминатор).
Кое-как утвердившись на палубе, начали съемку. Чтоб не свалиться за борт, Степаныч держался за кинокамеру. Его, вместе с увесистым «Пентафлексом», энергично и весело с двух сторон подпирали я и звукорежиссер. Иногда, по матерной команде капитана, творческую группу страховали матросы. Они старались. Но все равно коварная палуба то и дело ускользала из-под наших ног. Сильно качало.
В зале на бледном экране в туманной дымке появилось что-то вроде судна.
— Это мы успели снять с баркаса до второй, — тихо объяснил кому-то сидевший за мной звукорежиссер.
— Прошу внимания, — сказал Фрайман.
Действие перенеслось на борт траулера. Телов комментировал пленку со сцены.
— Что здесь? — голос цензора напомнил звучание дикторского текста в фильмах по гражданской обороне. — В размытом фокусе объектива мы наблюдаем водоем. Возможно, это море. Художник не дает нам однозначного ответа. Чей корабль? Присмотримся. Не видно. Каким водоизмещением? Приглядимся. Не ясно. Сколько и какой рыбы поймано? Не известно. Где происходят события? В прибрежной зоне? В нейтральных водах? В открытом океане? Ни своим, ни врагам, — цензор сделал многозначительную паузу, — не разобраться.
Он взял со стола указку и начал водить по экрану:
— Отмечу особую, тонкую невыразительность материала, интеллигентную сдержанность художественных средств. Картинка мягкая, неустойчивая. Береговая линия в кадре отсутствует. Маяк, естественно, не просматривается. Людей на палубе нет. Всякая идентификация невозможна. Одним словом, как всегда, отличная работа.
Экран погас. Свет в зале озарил смущенное лицо Высоцкого. Всем очевидно — по недосмотру техконтроль пропустил в эфир абсолютный брак. Облик чиновника, напротив, выражал радостное удовлетворение.
— От Управления по охране тайн в печати спасибо, огромное спасибо вам, дорогой Юрий Степанович! — цензор вручает оператору ценный подарок и деньги в конверте. Энергично трясет его вялую руку.
В зале аплодисменты и смех.
— Чего смеетесь? Все бы так снимали. Учитесь у настоящего мастера!
Группа операторов на задних креслах ржет, давится и медленно сползает на пол.
 (обратно)
(обратно)
Траулер

На крупный судостроительный завод приехали участники кинофестиваля — известные режиссеры, актеры, сценаристы. Для звезд отечественного кино экскурсию по цехам решил провести сам генеральный директор.
Им оказался высокий, осанистый, дородный мужчина с круглым лысым черепом. Несмотря на преклонный возраст, он легко спустился по широкой лестнице заводоуправления. Двинулся навстречу гостям, отделившись от небольшой свиты помощников. Во всех его повадках чувствовалось умение руководить, командовать, подчинять. Орденские планки на груди свидетельствовали о немалых заслугах. Две звезды Героя Социалистического Труда внушали особое уважение. Голос директора звучал твердо и убедительно.
— Дорогие гости, — заканчивая приветственную речь, обратился он к разноцветной группе киношников, вносившей явную дисгармонию в темно-серые, унылые краски завода, — давайте договоримся сразу. Предприятие наше относится к военно-промышленному комплексу. Многие виды продукции секретны. Все, что можно, я показываю. Кое о чем рассказываю. После экскурсии, когда вернемся в мой кабинет, вы зададите интересующие вопросы. Очень прошу не перебивать, иначе к вечеру не управимся. Согласны?
Все дружно закивали.
— Вот и прекрасно. Замечательно!
Группа начала медленно передвигаться от одного цеха к другому. Генеральный без умолку рассказывал славную историю завода. Он был горд и счастлив. Долго говорил о том, как раньше со стапелей в моря уходили только «грозные подводные лодки», а теперь предприятие спускает на воду «современные траулеры». Эти траулеры удержали завод на плаву в нелегкие годы перестройки… Сейчас траулеры составляют двадцать процентов…
Киношники нехотя слушали, уткнув лица в поднятые воротники. От пронизывающего холодного ветра слезились глаза. Никто не вникал в детали. Лишь однажды руку подняла молоденькая артистка.
— Разрешите вопрос?
— Девушка, мы же договорились, — с укоризной напомнил директор. — Все вопросы потом.
Он с видимым неудовольствием замолчал. И даже отвернулся в сторону. Будто искал на краю горизонта оборванную нить разговора. Вдали виднелись черные полузатопленные корпуса субмарин. Маячила недостроенная газовая платформа. Ржавый искореженный авианосец стоял у причала, молча подавая сигналы бедствия. Чайки дремали на макушках неподвижных радаров. Порывы ветра раздували их белое оперение.
Как бывалый оратор, генеральный директор выдержал паузу. Дождавшись общего внимания, продолжил:
— Так вот, еще два года назад мы выпускали восемь траулеров. В текущем сделаем не менее шестнадцати. Как видите, рост сто процентов. Траулеры мы в основном изготавливаем на экспорт…
— Извините, но я все-таки хотела бы узнать, — вновь подняла руку артистка…
Директор осекся. Возникла напряженная пауза.
— Видите ли, девушка, — чуть раздраженно сказал он, — как вам уже известно, наш судостроительный завод работает на оборонную промышленность. И так это предприятие устроено, что здесь со дня основания сохраняются воинский порядок и дисциплина. Тут по-другому нельзя. Понимаете?
— Я только хотела…
— И раз мы договорились, что сначала я объясняю, а потом вы спрашиваете, то так и должно быть. А если штурвал вращать одновременно в разные стороны, то даже в штиль и при всем моем к вам уважении корабль обязательно сядет на мель. А в шторм — разобьется о скалы. Понимаете?
— Я всего лишь…
На девушку со всех сторон зашикали коллеги. Начали стучать по часам: «Время!» Сам режиссер Абашитов, зашевелив усами, посмотрел на нее строго и неодобрительно.
— Так вот, — продолжил директор, — траулеры мы поставляем в Финляндию, Швецию. Норвегию… Водоизмещение самого крупного траулера…
Директор рассказывал долго и увлеченно. По всему чувствовалось, что завод — его дом, радость, гордость. Работа — единственный смысл трудной, героической жизни. Похоже, он был убежден, что тысячи людей хотят оказаться на его месте. Мечтают заниматься таким интересным делом. А повезло только ему. Одному. Избранному. Бывает же такое счастье…
Наконец, энтузиазм директора ослаб. Вскоре даже он заметил, что скучающая группа начала медленно таять. Кто-то отпросился в туалет. Кому-то надо было позвонить. Киношники так и норовили улизнуть в разные стороны, жалуясь на холод и ветер. Пришлось сократить время осмотра.
После окончания экскурсии вернулись в заводоуправление. Группу завели в огромный кабинет директора. Сам он, недовольный и мрачный, задержался в приемной. Гости без энтузиазма разглядывали фотографии, висевшие на стенах. Экспозиция называлась «Этапы большого пути». Папанин, Шмидт, челюскинцы, капитан Воронин… Спуск первой атомной. Возвращение субмарин из кругосветки. Испытания в Арктике. Запуски баллистических ракет в Ледовитом океане…
Ниже, под фотографиями, расположились макеты судов, изготовленных заводом. Они тянулись вдоль стен длинным караваном, будто в арктической проводке.
Гости разбрелись по кабинету. Отодвигали макеты. Искали розетки для сотовых телефонов и ноутбуков.
Секретарша принесла закуску, чай и кофе.
Кто-то из делегации раскрыл портфель и вытащил бутылку водки. Поинтересовался:
— На вашем военном заводе имеются какие-нибудь стаканчики без грифа «секретно»?
— Не знаю, можно ли, — ответила секретарша. — Я спрошу.
Через минуту она вернулась с подносом. На нем — конфеты, лимоны, упаковка пластиковых стаканов.
— И это, извиняюсь, все?
Секретарша достала из шкафа «Хеннеси», «Реми Мартин», «Мартель». Из холодильника вынула бутылку «Абсолюта»:
— Этого добра хватает. Директор не пьет. Слабое сердце. А иностранцы презентами завалили…
— Ого! Неплохо!
Все оживились. Быстренько разлили по первой.
После суетливой толкотни с едой и выпивкой расположились за огромным директорским столом. Начались анекдоты, послышался смех. Обычная фестивальная жизнь налаживалась. Вошел хозяин кабинета. Все немного присмирели и затихли. Директор сел на привычное место во главе стола. Осмотрел раритетные фотографии на стенах, указал на макеты судов:
— Вот она, славная история освоения Арктики. История нашего завода.
Киношники дружно закивали. С преувеличенным вниманием стали рассматривать фотографии. Выглядело неубедительно. «Не верю», — сказал бы старик Станиславский. Директор, кажется, ничего не замечал:
— А теперь, как договаривались, — можно задавать интересующие вас вопросы.
— Да, собственно говоря, вопросов не имеется, — сказал руководитель делегации. — Давайте выпьем за ваш славный завод и чтоб, как говорится, два раза не вставать, за присутствующих здесь дам!
Загремели отодвинутые стулья.
Снова налили. Потом еще. Кинематографисты целиком переключились на выпивку. Директор с каменным лицом наблюдал за гостями. Теперь ни до него, ни до завода никому не было дела. Киношники перешли на свои, непонятные ему, темы. Громко смеялись, обсуждая недавнюю вечеринку. Кто, с кем и сколько выпил…
Директору стало обидно. Щемило сердце. Так многое еще хотелось рассказать…
Наконец, не без колебаний, поднялась рука из группы начинающих киношников. Встала молоденькая симпатичная артистка, та самая, что еще на улице проявляла интерес:
— Разрешите задать вопрос от нас, молодых кинематографистов?
— Пожалуйста, девушка, можно, — обрадовался директор. — Тише, товарищи, тише!
— Вы говорили… — артистка заглянула в блокнот, — «траулер, траулер».
— Так. В чем вопрос?
— Скажите, а что такое траулер?
Директор побледнел. Он хотел что-то ответить, но из сдавленного горла вылетали невнятные звуки. Одной рукой он попытался ослабить галстук. Другой не удержал вдруг покачнувшуюся массивную столешницу. Прямо на глазах удивленных киношников он начал медленно сползать вниз.
Тихо звякнули на груди ордена и медали…
 (обратно)
(обратно)
Звуки и буквы

Когда-то давно, после сдачи последнего вступительного экзамена в институт, я зашел на почту и написал телеграмму родителям: «Руский здал на хорошо. Поступил». Всякий нормальный человек, не задумываясь, отправил бы этот текст по адресу и тут же про него забыл. Но девушка, принимавшая телеграмму, сказала, поджав губы:
— У вас две ошибки в одном предложении.
Она взяла ручку, добавила «с» в первом слове и исправила «з» на «с» во втором. Отсчитав сдачу с рубля, уронила голову в ладони и расплакалась. Громко и безутешно. Успокаивать ее сбежались все работники почты. Оказалось, девушка три раза сдавала экзамены в институт и всегда получала двойки за сочинение.
«Хотя русский знает на „отлично“. Не в пример некоторым», — прямо мне в лицо язвительно сказала начальник почты.
Не в пример некоторым «знал» я русский и через десять лет, когда поступал на сценарный факультет ВГИКа. Мастерскую в тот год набирали Евгений Иосифович Габрилович и Валентина Яковлевна Никиткина. Габрилович тогда считался живым классиком. И даже я, человек бесконечно далекий от кино, знал, что он автор сценариев к фильмам «Коммунист», «Машенька», «Объяснение в любви», «Странная женщина». Были у него десятки других картин, о которых я тогда и не слыхивал. Чем-то, наверное, я ему приглянулся. На собеседовании, которое неофициально считалось самым важным экзаменом, мы долго с ним разговаривали на темы, весьма далекие от кино. Говорили о женщинах, карточных играх, о космической и межконтинентальной связи, о работе полевых транзисторов и новых системах аппаратуры уплотнения. В общем, он узнал кое-что из теории связи, я — про женские характеры, войну, театр… Хотелось поговорить еще. Евгений Иосифович высказался в том смысле, что мы обязательно продолжим беседу на занятиях по мастерству, после вступительных экзаменов. Там же обсудим мои рассказы, присланные на творческий конкурс. Я сомневался, поскольку следующий, пятый экзамен был по моему «любимому» русскому языку. Он ведь для меня почти иностранный. Все предметы в школе изучал на украинском.
— Ничего, — сказал мастер, выслушав мои доводы, — главное, не провалите экзамен.
Великий сценарист даже не представлял себе, как невероятно трудно это сделать.
Непререкаемым авторитетом в русском языке для меня всегда оставался классик советской литературы Алексей Толстой. Говорят, иногда он выскакивал из своего рабочего кабинета в гостиную и, поправляя взъерошенные волосы, громко кричал домочадцам: «Ребята, как правильно, вокзал или вакзал?» «Конечно вокзал», — пугаясь, отвечали родственники. Алексей Николаевич бежал обратно в кабинет и лихорадочно продолжал роман: «Вогзал был пуст…»
Учебник по русскому я не брал в руки лет десять.
На вступительные экзамены приехал не готовясь из при- тундровых лесов, чтобы развеяться и поглядеть столицу. Я не то чтобы не знал чего-то. Я не в состоянии был придумать ни одного вопроса, на который мог бы ответить более- менее внятно.
Как оказалось, я себя недооценивал. Был такой вопрос. Был.
На экзамен по русскому языку и литературе пришел пораньше (не сдал — и весь день свободен). Захожу. Называю свою фамилию, продвигаюсь к столу, за которым расположились солидные преподаватели. Подаю экзаменационный листок.
— Прекрасно, прекрасно, — говорит старший экзаменатор, — вы уже сдали четыре экзамена на «отлично». «Отлично» вы получили вчера на собеседовании с Евгением Иосифовичем. Прекрасно.
Под эти похвальные возгласы два экзаменатора поднялись и вышли из аудитории.
— Ну-с, молодой человек, тяните счастливый билетик.
— Сомневаюсь, что есть такой в принципе, — честно говорю я и беру самый близкий ко мне листочек. Он как-то явно отделился от аккуратно разложенных бумажек.
— Так. Хорошо, — подбадривает экзаменатор.
— Билет номер двадцать один, — говорю, — пойду готовиться.
— А мне кажется, что вы можете ответить на этот билет без подготовки.
— Без подготовки не смогу.
— А вы попробуйте.
— И пробовать нечего.
— Если без подготовки ответите на первый вопрос, ставлю «пять». От второго — освобождаетесь. Согласны?
— Согласен.
Сажусь перед преподавателем, читаю вопрос: «Звуки и буквы в русском языке».
— Можно подумать? — спрашиваю. — Надо сосредоточиться.
— У вас нет времени, — отвечает экзаменатор. — Мы же договорились, ну…
— Звуки — это то, — неуверенно начинаю я.
— Что?
— То…
— Вы, наверное, хотите сказать, то, что мы, что? Слы…
— …шим, — заканчиваю я.
— Верно. А буквы это то, что мы пи…
— …шим.
— Правильно, но лучше говорить…шем. Пишем… Как-то вы неуверенно держитесь. Ставлю вам четверку.
Не верю своим ушам. Этого вполне достаточно, чтобы пройти по конкурсу!
Снова, как много лет назад, бегу на почту. Даю телеграмму жене: «Руский апять здал на харашо. Поступил!»
Телеграфистки улыбаются.
Спасибо вам, Евгений Иосифович.
 (обратно)
(обратно)
Аполлон

Маленький вестибюль хирургического отделения. К самой двери операционной свезли несколько металлических каталок. На них — готовые к операции бедолаги, укрытые серыми, застиранными простынями. Лица отрешенные, бледные, без выражений. У всех позади ранний подъем, клизма, длинный путь на шатких тележках по сонным коридорам больницы. Гулкий стук открывающихся дверей грузового лифта. Брань санитаров, запихивающих в узкое пространство четырехколесную каталку. Снова мат на выходе из лифта. Быстрое параллельное скольжение неподвижного тела вдоль потолка. Мелькание светильников и перекрытий… Остановка. Смиренное ожидание своей участи у двери операционной.
Появляется хирург — веселый, довольный, энергичный. За ним шумная свита из нескольких ассистентов и медсестер.
— Так, кто на ампутацию? — бодрым голосом спрашивает он пациентов.
Молчание.
— Кто на ампутацию правой верхней конечности? — громче повторяет хирург.
Становится ясно, что желающих расстаться с руками нет. Я искоса поглядываю на соседей. Все затаились, молчат. Авось, пронесет. Интересно, как они себе это представляют. Отменят операцию? Забудут? Отвезут снова в палату, а там рассосется… Или, может быть, отрежут кому-то другому? Другому — смешно. Стоп. А кто другой-то? Я лежу под простыней голый, в одних бахилах. У меня аппендицит. Понятно, руку не отрежут. Впрочем, гляжу на закрытые марлевыми повязками суровые лица персонала и чувствую — с них станется. Отсекут — и пикнуть не успеешь.
— У меня аппендицит, — тихо говорю я.
Хирург подходит. Слегка задирает простыню. Мельком глядит на мое посиневшее тело. Потом спрашивает:
— Чем докажете?
Бред какой-то.
— Да у него аппендицит, — выручает медсестра. — Я его помню. Он вчера поступил с острым.
На всякий случай я вытягиваю обе руки. Начинаю шевелить пальцами. Мол, с руками все в порядке. То же самое делает сосед на каталке слева.
— Грыжа. У меня грыжа, — радостно сообщает он хирургу.
Доктор повернулся и шагнул к мужчине на каталке справа. Тот лежит с каменным лицом. На глазах слезы.
— Что же вы, — говорит хирург, подмигнув ассистенткам, — чуть не подвели своих товарищей по несчастью. Нехорошо. Как нехорошо.
Только сейчас до меня доходит: врач шутит. Разминается перед операцией. Чудак. Это про таких, как он, слагают больничный фольклор:
— Доктор, — спрашивает пациент хирурга, устраиваясь поудобней на операционном столе, — я жить буду?
Хирург, задумавшись, отвечает философски:
— А смысл?
Теперь он делает знак санитарам — везите двурукого первым. Беднягу закрывают простыней и увозят в операционную.
Через некоторое время надо мной склоняется лицо юной медсестры.

— Мужчина, мужчина. Вы меня слышите? У вас сколько килограмм?
— Что? — кажется, я успел задремать. — Каких килограммов? Чего килограммов? — с трудом стараюсь понять.
— Вес… Какой у вас вес?
— Ах, вес. Девяносто пять, — отвечаю.
— Не может быть. — Голос сестрички звучит ласково и нежно. Она сняла простыню и, осмотрев меня с ног до головы, восхищенно выдохнула:
— Да вы — просто Аполлон. Ничего лишнего. Одни мышцы.
Не верю своим ушам. Я, всегда стеснявшийся неуклюжего, асимметричного обрюзгшего тела. Я, пожизненный владелец узких плеч и толстых бедер. Я… вдруг нашел своего ценителя и знатока. Жаль, что это произошло только здесь, в больнице. Эх, не видела меня девушка лет двадцать назад. Когда чуб кудрявился. На торсе читались крупные фрагменты мышц, а живот, при взгляде сверху, еще не закрывал носки ботинок. «Аполлон» — про меня? А она симпатичная. До выписки обязательно познакомлюсь…
— Так какой у вас вес? — еще раз спросила девушка.
— Может быть, — говорю, — не девяносто… а восемьдесят пять.
Она вновь детально осмотрела мое распластанное на каталке тело. Сказала твердо и даже с некоторыми нотками раздражения:
— Любите вы, мужчины, на себя наговаривать. Ведь ничего же лишнего. Только мышцы.
— Вам, правда, нравится?
— Восемьдесят кило, не больше.
— Согласен, — говорю, — пишите восемьдесят. Господи, — думаю, — как мало надо человеку для счастья. Немного внимания, чуткости, ласкового взгляда. Нескольких слов похвалы и участия. И все!
— Девушка, где мы можем встретиться после операции?
— В морге, — пошутил человек с грыжей.
Сестра ничего не ответила. Записала что-то в свою тетрадку и отошла. Еще через некоторое время я услышал ее голос за перегородкой:
— Зин, этому, с аппендицитом, приготовь наркоз на восемьдесят килограмм. Не больше. У нас за квартал перерасход страшный… Того и гляди останемся без премий.
Я проснулся на операционном столе раньше времени. Только-только начали штопать мои девяносто пять кило. Я слышал свежие анекдоты от доктора. Чувствовал, как игла вонзалась в кожу и нитки проползали сквозь ткани. От острой боли сводило челюсти.
Что ж, терпи, Аполлон хренов.
 (обратно)
(обратно)
Я от Фраймана

Главный редактор студии телевидения Виктор Зиновьевич Фрайман никому не умел отказывать. Это знали все. В эпоху абсолютного дефицита он доставал билеты, лекарства, путевки, водку, книги… Помогал друзьям, коллегам, знакомым и совсем незнакомым людям, если они прорывались на студию или находили его по телефону. Когда же о чем-то просил лично Фрайман, его желания выполнялись немедленно. Это не был блат в привычном смысле. За услуги ему не требовалось платить услугами. Принцип «ты мне — я тебе» был здесь совершенно ни при чем. Просто в те, уже далекие, семидесятые годы XX века телевидение было «абсолютным авторитетом»… Дикторы, журналисты, ведущие программ моментально становились звездами. Их узнавали, обожали, старались помочь. Просто так, из удовольствия. Из чистой любви к искусству. К Фрайману, который сам вел многие популярные телепередачи, это относилось вдвойне. Но не всегда. Бывали и накладки. Проколы, как сейчас говорят.
Однажды мне, начинающему редактору телевидения, пришла повестка из военкомата. Зеленая такая бумажка с приказом явиться по указанному адресу с теплыми вещами, суточным запасом еды, личной ложкой и кружкой. Времени на сборы давалось немного. Сутки. Не более.
Утром бегу в военкомат. С трудом пробиваюсь к какому-то ответственному майору. Объясняю, что никак не могу явиться с кружкой и ложкой. Что в конце недели веду две «живые», то есть без записи, передачи. Они анонсированы в газете. Придут «выступающие», между прочим, уважаемые люди. Материалы отсняты. Без меня никто не сможет смонтировать пленку. И вообще, у нас плановое вещание, каждый редактор должен в месяц подготовить несколько программ. А если я уеду…
— Значит, служить не хотите, — разочарованно подытожил майор.
У него был вид человека, который двадцать лет сидел на этом месте, надеясь, что вот откроется дверь, войдет кто-то здоровый, красивый, умный и скажет: «Возьмите меня и отправьте куда хотите. Надолго. Нет, разрешите служить вечно и бесплатно…» И это чудо произойдет сегодня, сейчас… А пришел я и все испортил…
— Не хотите… — Второй раз слова звучали тупо, но с угрозой.
— Товарищ майор, я не отказываюсь, но, сами видите, нет никакой возможности. И потом, год назад я уже был на сборах на лесной речке. Я, лейтенант-связист, два месяца пилил дрова и топил печки.
— Значит, и служба вам не нравится?
— Товарищ майор, служба мне нравится, но карьера истопника, признаюсь честно, это не мое. Место теплое, но не мое… И, я же сказал, у нас на телевидении план.
— У вас свой план, лейтенант, — строго произнес майор, — а у Советской армии — свой. А уж какой план важнее, вы, наверное, догадываетесь.
— Но, товарищ майор…
— Вы свободны, лейтенант. Завтра в восемь. И не забудьте кружку и ложку.
— Какая кружка! Какая ложка! Какая армия? Какой к черту майор?! Ты что, с ума сошел? — Это через полчаса в своем кабинете орал на меня Фрайман. В жарко натопленном помещении его лысина то и дело покрывалась мелкими капельками пота. В паузе между репликами Виктор Зиновьевич вытер огромный череп аккуратно сложенным носовым платком, сделал глубокий вдох и продолжил:
— У тебя завтра эфир. В графике — шесть передач. Их кто, дядя сделает? Ты с кем говорил? Фамилия майора?
— Не знаю.
— Не знаю, — передразнил Фрайман. — Год назад ты уже прохлаждался на сборах. Тебе что, работа не нравится? Легкой жизни захотел? — Желание легкой жизни почему-то было в понимании главного редактора серьезнейшим обвинением, хотя, признаться, мы, молодые журналисты, не совсем разделяли убеждения руководства. — Не будет тебе легкой жизни! Сейчас же звоню военкому. Ты будешь служить здесь. В студии. И легкой тебе эта служба не покажется!
Битый час Виктор Зиновьевич пытался дозвониться до военкома. Не получилось. Думаю, в дни сборов и учений военный комиссар предусмотрительно исчезал из города. И не без оснований. Именно в эти дни слишком многие старались высказать ему личное почтение и засвидетельствовать искреннее, глубокое уважение. После обеда Фрайман вызвал меня снова. Был суров и немногословен:
— Значит, так. Бегом в военкомат. Найдешь любого военного в звании не ниже майора и скажешь ему всего три слова: «Я от Фраймана».
— И все?
— Поверь, этого более чем достаточно. Не забудь: «Я от Фраймана» — и быстренько на работу. Дел невпроворот.
Прихожу в военкомат. Из начальства никого, кроме знакомого уже майора. Захожу к нему в кабинет. Еще раз здороваюсь и произношу волшебную фразу:
— Товарищ майор, извините, утром я вам не сказал самого главного. Дело в том, что я от Фраймана.
Майор делает вид, что не слышит.
— Я от Фраймана, товарищ майор…
На моих глазах майор багровеет. Из нормального крупного зеленого огурца превращается в красный, я бы даже сказал перезрелый, томат:
— Я вижу, лейтенант, вы еще тот фрукт. Подозреваю, и очень сильно, что здесь вам спокойно жить не дадут. — В этом месте майор сделал многозначительную паузу. — Не скрою — хотел вас оставить писарем при штабе. Теперь планы мои изменились.
— Естественно, — подумал я, — ведь тебе только что звонили.
— Два месяца будете служить в Гремихе! На Кольском полуострове! На подводной лодке. В Ледовитом океане. У черта на куличках! — Последнюю фразу майор выкрикнул прямо мне в лицо.
— Но, товарищ…
— Во-он! — заорал майор. — Задолбали, блатники проклятые! Отправление завтра в девять от Морского вокзала. И не забудьте кружку и ложку!
Возвращаюсь в редакцию. Фраймана нет. Где-то в обкоме на конференции. Вечером звоню ему домой. Объясняю ситуацию.
— Ты сказал, что от Фраймана?
— Естественно.
— Ну и…
— Придется служить в Гремихе, у черта на куличках, на флоте и полных два месяца.
Последнюю информацию Виктор Зиновьевич воспринял на удивление спокойно.
— На флоте?
— Нуда. Майор пообещал. На подводной лодке.
— Тогда ни о чем не волнуйся, — ласково сказал Фрайман. — Считай, что тебе повезло.
— Как так?
— Понимаешь, как бы тебе растолковать попроще. Есть пехота, и есть гвардия. Есть просто кавалерия, а есть гусары. Есть армия, и есть Военно-морской флот. — Последние слова Виктор Зиновьевич произнес с особым придыханием. — Чувствуешь разницу?
— Пока нет.
— В армии приказы отдаются, но не всегда исполняются. Вот, например, твоему майору позвонили, а он, глядите-ка, встал в позу.
— А может, не позвонили?
— Может быть, — согласился Фрайман. — Это же армия. А вот Военно-морской флот — совсем другое дело. Там же думающие, образованные, интеллигентные люди.
— Так что? Идти на флот? Мне все равно…
— Ни в коем случае, — оборвал меня Фрайман. — Я сейчас позвоню куда следует, а ты завтра утром на пристани подойдешь к офицеру в звании не ниже капитана второго ранга, тихо и внятно скажешь ему: «Я от Фраймана» — и тебя сразу же, без разговоров, без вопросов, без суеты отпустят, а, скорее всего, отвезут на студию. Теперь спроси меня почему? Ты спроси, спроси меня.
— Ну, почему?
— Да потому, что ВМФ и армия, как говорят в твоей любимой Одессе, две большие разницы.
— Значит, вещи, ложку, кружку с собой не брать?
— Сергей, я на тебя удивляюсь. У тебя завтра прямой эфир. Ты обязан думать о высоком. Ты должен прийти в хорошем костюме, галстуке и начищенных ботинках, а не как в прошлый раз. Короче, думай о ра-бо-те! В остальном положись на меня.
Утром у причала Морского вокзала творилось что-то невообразимое. Шум, гвалт, крик, песни. Полторы сотни вчерашних инженеров, врачей, грузчиков, рыбаков, связистов в рваной одежде, с котомками, набитыми в основном водкой и закуской, грузились на корабль, готовый вот-вот отправиться в море, к месту временной военной службы. И тут появляюсь я в своем лучшем костюме, белой рубашке и галстуке. Беспечный, спокойный и радостный. Душа парит, как вон та чайка над рекою. Меня все это, слава богу, не касается. Подхожу к двум морским офицерам, стоящим у трапа. Спрашиваю так, между прочим:
— Товарищи капитаны первого и второго рангов, к кому можно обратиться? Тут такое дело. Как бы сказать понятней. Короче говоря, я от Фраймана.
Офицеры переглянулись и внимательно осмотрели меня с ног до головы.
— Мне звонили, — неожиданно сказал один из них. — Покажите повестку.
Облегченно вздохнув, я быстренько избавился от бумажки со штампом. Браво, Фрайман! Браво, Виктор Зиновьевич! Звучат бурные, продолжительные аплодисменты.
— Я могу идти?
— Идите, — спокойно произнес второй.
Я было двинулся в сторону трамвайной остановки гордо, красиво, как вон та…
— Не туда! — сурово крикнул офицер. — Корабль здесь. — Он показал на трап. — Поторопитесь. Через десять минут отчаливаем.
— Товарищи капитаны, вы, наверное, не поняли. Я от Фраймана.
— Вернетесь, передадите привет Виктору Зиновьевичу. Скажете, что нам было очень приятно.
— Приятно?
— Разумеется. Вы единственный, кто прибыл на службу в приличном виде. Не то что эти. — Капитан кивнул в сторону грузившихся «партизан». — Да, лейтенант, где же ваши вещи — белье, кружка, ложка?
— Забыл. Разрешите позвонить. Мне привезут, — быстренько соврал я.
— Валяйте, — насмешливо сказал офицер, — и немедленно на борт.
Я было рванул к телефонной будке, но тут же услышал окрик:
— Лейтенант! Не советую опаздывать. За уклонение — под суд.
— Серьезно?
— Попробуйте. Но как бы не пришлось жалеть. У нас много ярких жизненных примеров… Можете идти.
Опять бегу к автомату. Слава богу, Фрайман на месте. Коротко доложил обстановку.
— Ты сказал, что от Фраймана? — грозно переспросил Виктор Зиновьевич.
— В том-то и дело. Три раза.
— Ну и… — не унимался главный редактор.
— Через пять минут ухожу в море.
— Как фамилия командира?
— Не знаю. Он не сказал.
— Черт (на самом деле прозвучали слова из избранного непечатного), ему звонили?
— Похоже, да. Виктор Зиновьевич, а вы говорили ВМФ, ВМФ…
— Ты ВМФ оставь в покое, — моментально вскипел Фрайман. — Просто в семье, как говорится, не без урода.
— Можно без оскорблений? Или вы о ком?
— Короче. Слушай внимательно. Теперь садишься на корабль. Быстренько идешь Белым морем в Гремиху. Я позвоню. Там на причале тебя будет ждать офицер. Ты скажешь: «Я от Фраймана».
— Опять?
— Не перебивай. Тебя тут же грузят на судно и немедленно обратным курсом везут назад. Три слова: «Я от Фраймана». Не перепутай. И еще. Если тебя не встретят, а встретят тебя обязательно, запиши телефон командующего флотом. Номер особой секретности. Не потеряй.
Пока Фрайман рылся в своих многочисленных записных книжках, трубка молчала, а через минуту продиктовала что-то вроде: 921-46, добавочный — 231, пароль «Зенит», соединить с девятнадцатым.
— Когда соединят, произнесешь: «Я от Фраймана».
— Виктор Зиновьевич…
— Не исключено, что тебя отправят самолетом… Всё.
Через двое суток подплываем к Гремихе. Проходим мимо подлодок, сторожевых кораблей и торпедоносцев. Физически чувствую, как всем телом погружаюсь в атмосферу флотской жизни. Штатских нет. Одни военные. Кругом шинели, бушлаты, бескозырки. Вид у вновь прибывших неважный. Сильный шторм, в который попало наше судно, запечатлен на лицах и одежде. Особенно выделяюсь я, в черном мятом костюме с галстуком и бурыми, не поддающимися чистке, разводами на груди. Качки не переношу с детства.
По команде нас строят. Всем распоряжается мичман. Старшие офицеры стоят поодаль. О чем-то разговаривают и смеются. На меня — ноль внимания. Выхожу из строя. Фланирую мимо офицеров. Может, кто заметит? Безрезультатно. Звучит команда: «Стать в строй. В баню бегом марш!»
Баня оказалась совсем рядом. Тяну время. Стараюсь зайти последним. Думаю, может, опоздал мой офицер. Скоро подойдет. Остаюсь на улице один. Мичман толкает чуть ли не в шею.
— Давай-давай. Сейчас получишь форму, потом мыться, переодеваться и в казарму.
Я упираюсь, требую отвести меня к офицерам. После перебранки мичман неохотно уступает. Подхожу к старшему по званию. Не знаю, как сказать. Не говорить же при всех, мол, отправьте меня немедленно обратно. Намекаю тонко. Мол, я из старинного портового города. Есть там у нас некий Виктор Зиновьевич Фрайман. Не слыхали?
Реакции никакой. Три пары глаз уставились с явным непониманием. Говорю многозначительно, с намеком.
— Я от Фраймана. Может, мне мыться не надо? Зачем мне зря мыться.
Офицеры переглядываются. Старший из них интересуется:
— У вас что, папа Фрайман? У нас были евреи, но все мылись в общей бане, без фокусов.
— Да нет. Я не еврей. Я просто от Фрай-ма-на. Понимаете?
Тут старший как заорет: «А мне до… а мне по…! Хоть от Рабиновича! Немедленно марш в баню!»
Такая она, жизнь. Не соскучишься. Вчера был уважаемым человеком. Вел умные беседы, общался с интересными людьми. Учил их, что говорить, как держаться перед камерой, куда смотреть. Брал интервью, задавал коварные вопросы. Произносил страстные монологи, вещал с экрана, как с амвона. Критиковал и клеймил, одобрял и хвалил. А всего через сутки: «Стоять! Молчать!» И матом по ушам, для убедительности… А что делать?.. Всё как в анекдоте:
На шахте — день получки. Денег, как всегда, всем не хватит. У кассы бурлит огромная толпа хмурых людей. Все стремятся протиснуться к заветному окошку. Два товарища работают локтями в паре. Маленький толкает сзади огромного верзилу. Они с боями пробиваются к кассе.
— Мыкола, Мыкола, давай! Мыкола, лезь. Лезь, Мыкола, а то не хватит!
Мыкола с трудом, преодолевая натиск конкурентов, пробивается к кассе. Вдруг появляется табличка «Денег нет». Окошко кассы захлопывается. Маленький шахтер, еще не зная об этом, продолжает толкать товарища в спину: — Мыкола, Мыкола, давай. Давай, Мыкола!
Мыкола поворачивается и как заедет пудовым кулаком напарнику в ухо.
— Мыкола, ты шо, сдурел?!
— А шо делать? — отвечает раздосадованный
Мыкола. — Скажи, шо делать?
А что делать? Иду в баню. Раздеваюсь донага, сдаю гражданскую одежду, становлюсь под душ, естественно, холодный. В руке — единственное, что связывает с прошлой жизнью, что может спасти — заботливо упакованный в целлофан клочок бумаги с номером: «921-46, добавочный — 231, пароль „Зенит“, соединить с девятнадцатым». Так или что-то в этом роде.
После помывки и переоблачения в военно-морскую форму с удивлением рассматриваем и еле узнаем друг друга. Еще вчера, на судне, чем-то похожие, а в чем-то разные, мы все были равны. А сейчас… Оказалось, что тот серьезный дядя в очках и шляпе — всего лишь рядовой, а болтун и матерщинник — офицер, капитан. Или тот нахальный тип, что верховодил на судне, только сержант, а его знакомый, которым он помыкал всю дорогу, пришпилил себе три звезды на погоны — старлей. Чудеса… И это только начало. Что впереди? Какая служба ждет нас? Впрочем, почему «нас»? Я все еще надеюсь услышать: «Выйти из строя. Сдать обмундирование». Я все еще не забыл, что я от Фраймана. Греет душу и сердце листок с телефоном в нагрудном кармане шинели.
Звучит команда: «Стро-иться!»
Не люблю службу только за то, что строиться надо чуть ли не каждые пять минут. А уж про остальное… Что говорить.
Нас делят на две роты. Одна останется на базе. Другая — уйдет в сопки, научения. Будет жить в тундре, в палатках. Это при минус пяти ночью! Бр-р. Сплошная романтика. Сначала искали добровольцев. Оказалось, приехали сплошь нормальные люди. Тогда бросили старинный армейский жребий — рассчитались на первый-второй. Слава богу, повезло, остаюсь на базе. Значит, буду в казарме, в поселке, в цивилизации. А главное — стоит позвонить по заветному номеру — и меня легко можно доставить с берега на корабль. А там — здравствуй, жена. Привет, родной город. В сопках — не-е, никто не найдет. Даже искать не будут…
Так размышляю я и вдруг слышу:
— Это вы от Розенталя?
Ну, думаю, вот оно. Сработало. Свершилось. Дозвонился Виктор Зиновьевич. Браво, Фрайман! Звучат продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Вот оно — настоящее человеческое счастье. Поворачиваюсь, — передо мной стоит «каптри». Тот, который обозвал меня недавно Рабиновичем. Он мне поначалу не понравился. И вдруг оказывается, он — мой спаситель. Это ж надо так ошибиться.
— Не от Розенталя, от Фраймана, — с радостной надеждой поправляю я.
— Не спорьте со старшим по званию. Сказал, от Розенталя — значит, от Розенталя. Говорите, мыться не любите? — Тон офицера не предвещал ничего хорошего. — Тогда зачем вам оставаться на базе? Евреев мне здесь не хватало.
— Я не еврей.
— Значит, хуже еврея!
— Тогда кто я, по-вашему?
— Молчать!
— Я просто из любопытства…
— Молчать! Выйти из строя! Стать в другую команду. Отправитесь в сопки. Там бань нету.
Далась ему эта баня.
— А телефон?
— Что?
— Я говорю, позвонить оттуда можно?
— Какие в тундре телефоны, чукча еврейская. Стать в строй!
Первая неделя службы прошла сносно. Наш лагерь разбили в десяти километрах от поселка. В голой тундре. Мы сами установили палатки. Построили кухню, соорудили туалеты. Продуктов было мало, но выручали домашние запасы. Привезенная с собой водка согревала. Скрашивала длинные, холодные вечера. Через две недели пятьдесят человек, оторванные от привычного уклада и отправленные в сопки, стали потихоньку сходить с ума. Целыми днями свободные от дежурств на кухне и в штабной палатке «партизаны» дулись в карты. Играли на деньги, форму, выпивку. Бренчали на гитарах, ругались. Иногда доходило до драк. Молотили друг друга без крови и ожесточения. Так, чтобы согреться и размять кости. В поселок ходить запрещалось. Убежать в самоволку не было возможности. Дежурные кадровые офицеры не смыкая глаз следили, чтобы весь личный состав оставался на месте. Похоже, это была главная военно-стратегическая задача наших учений. От безделья мы часами лениво слонялись вокруг лагеря.
Как-то по палаткам прошел слух что рядом, в сопках, полным-полно золотого корня (Rhodiola rosea). И что этот корень— лучшее средство для мужской потенции. Сначала народ оживился. Затем слегка одурел. Потом — тронулся окончательно. Весь лагерь бросился собирать корешки, сушить их и складывать в рюкзаки, сумки, чемоданы. Самые нетерпеливые начали подготовку к встрече с женами и подругами заблаговременно. Сутки напролет они дули чай с Rhodiola rosea, от чего ходили с бешеными глазами и оттопыренными ширинками. В разных головах крутились одни и те же мысли:
а) женщины;
б) женщины;
в) как бы попасть на большую землю, на худой конец — в лазарет. Там должны быть женщины.
Двоим это удалось. Они успешно симулировали дизентерию. Причем сделали это неоднократно, открыто и гласно, в присутствии двух старших офицеров и военврача, на гражданке служившего то л и санитаром, то ли ветеринаром. Как оказалось впоследствии — сельским учителем зоологии.
Теоретически шансов вырваться на свободу у меня было больше, чем у моих товарищей по несчастью. Но только теоретически. Секретный номер командующего, бережно зашитый в китель, не давал никаких преимуществ без возможности позвонить по этому самому номеру. А позвонить было неоткуда. Старенькая радиорелейная станция Р-405, которой в экстренных случаях пользовался наш комбат, не включалась в коммутатор поселковой связи. Конечно, можно было позвонить из бани, куда нас однажды по недосмотру командования возили на помывку, но телефон там несколько месяцев временно не работал.
Связь. Связь. Связь. Не проходило и дня, чтобы я не думал о возможности связаться по телефону. Но как? Решение пришло неожиданно. Как-то во время заготовки золотого корня я зашел в сопки чуть дальше положенного и обнаружил местную воздушную линию связи. Столбы с натянутыми проводами гудели в каких-нибудь двух километрах от нашего лагеря. Я не кричал «эврика». Это выглядело бы жалким плагиатом, но уже вечером в штабной палатке я докладывал комбату и старшим офицерам «План обеспечения надежной связи с большой землей».

— Наш лагерь оторван от головных частей и подразделений, так?
— Предположим, — уклончиво соглашался комбат, опасаясь подвоха.
— В случае ЧП, — продолжал я, — у нас практически нет гарантированной проводной линии связи для получения прямых указаний командования.
— Вам не хватает указаний? Это мы поправим, — живо отозвался замполит. — А насчет ЧП. Вы на что намекаете? Если на пьянку и драки в палатках, то это наше внутреннее дело. Разберемся без начальства.
— Про ЧП я так, не подумав. Но, допустим, боевая тревога. Или, не дай бог, учения. Как тут обойтись без надежной связи?
— Обходились же, — вяло отреагировал кто-то из офицеров.
— Но если, — не унимался я, — во время службы можно по радио дозвониться до штаба, то после… Как скрасить длинные вечера и мрачное одиночество дежурных офицеров? Как снять эмоциональные нагрузки и психологическую усталость, например вашу, товарищ комбат?
— Ты о чем? Говори конкретней.
— Если мы подсоединимся к колхозной линии, которая проходит всего в двух километрах от нас, вечером, после службы, естественно, можно будет поговорить с женой, семьей, боевыми подругами…
Офицеры в штабной палатке оживились.
— О боевой задаче и надежной связи мысль правильная, — крикнул кто-то.
— Хорошая идея, — согласился комбат. — Наконец-то нашелся человек, который службу несет творчески, с выдумкой. Берите пример. Молодой, а соображает. Говори, что тебе надо?
Через несколько дней в лагерь доставили все необходимое: старые, списанные телефонные опоры, крючья, изоляторы, провод. Выдали мне монтерский пояс, «когти», бурав, трех солдат. Поставили офицера-надсмотрщика. Неделю я сутками напролет, даже когда солдаты-срочники уходили на отдых, долбил киркой и ломом камни, волочил на себе опоры, разматывал, натягивал, «вязал» и «конечил» провода. Комбат был в восторге. Еще больше радовался замполит.
— Посмотрите на этого офицера, — говорил он, тыча в меня пальцем, на утреннем построении. — На нем лица нет, а он чуть свет, когда все еще дрыхнут — уже на столбе. Вечером, когда многие задницами давят матрасы, он пашет. За деньги? Нет. За звание? На черта оно ему сдалось. Его не волнует его личный член. Он не ползает за золотыми корешками. Кто он, по-вашему? Кто сказал «придурок»? — замполит сурово осмотрел шеренгу. — Он настоящий советский офицер, хотя и «партизан». Все бы так служили.
Замполит с энтузиазмом пожал мне руку, приобнял:
— Вы, наверное, член партии, коммунист?
— Пока нет, — скромно потупился я.
— Жаль. Я бы дал вам рекомендацию. Поступаете вы как настоящий партиец.
— В общем-то, да, — согласился я.
Строительство подошло к концу. В торжественный день концы провода были подключены к колхозной линии. В штабной палатке впервые раздался телефонный звонок. Комбат и офицеры были довольны. Все по очереди звонили родным и знакомым, наслаждаясь неожиданно свалившимся благом цивилизации. Целый вечер мне не терпелось быстрее позвонить, но в палатке было полно народу. Пришлось ждать до глубокой ночи. Наконец, когда все утихомирились, я с замиранием сердца набрал номер поселкового коммутатора.
— Девушка, соедините, пожалуйста, с номером 921-46, добавочный — 231.
Через минуту в трубке послышался недовольный голос:
— Слушаю.
— Пароль — «Зенит». Соедините, пожалуйста, с девятнадцатым.
— Кто спрашивает?
— Это офицер запаса, — я назвал свою фамилию.
— Откуда вы звоните? — четко, по-военному ставили вопросы на другом конце провода.
— Из лагеря. Здесь, недалеко от Гремихи. Я, собственно, от Фраймана.
— Кто ваш командир?
— Разве это имеет значение?
— Кто командир? — еще строже спросила трубка. Пришлось назвать имя и звание.
— Как вас найти?
Я подробно все объяснил. В конце еще раз напомнил, что от Фраймана.
— Сейчас за вами приедут. Ждите.
— Спасибо. Жду с нетерпением. Вещи собирать?
— Конечно, — сказала трубка.
И правда. Через час в палатку вбегает дежурный:
— Товарищ лейтенант! Срочно в штаб. Там вас ждут.
Наспех прощаюсь с удивленными товарищами. Бегу. Душа поет: — Оперативно. Оперативненько. Молодцы!
В штабной палатке — комбат и два незнакомых офицера.
— По вашему приказанию прибыл! — бойко докладываю я.
— Вольно. Вот товарищи из дивизионной контрразведки интересуются…
— Оставьте нас, — твердо приказал комбату один из контрразведчиков. Комбат мигом выскочил из палатки.
— Итак, лейтенант, рассказывайте, где вы умудрились взять номер телефона и пароль? — Тон офицера не предвещал ничего хорошего.
— Пароль, который не положено знать даже… — второй контрразведчик осекся.
— Только не говорите, что вы этот телефон нашли.
— Иначе вас будут ждать еще большие неприятности.
— Отвечайте!
Я все понял. Понял и успокоился. Еще час назад от родного города я был далеко-далеко. А с этой минуты расстояние увеличилось до бесконечности…
— Вы будете удивлены, товарищи, но я действительно его нашел…
— Где?
— В поселке.
— При каких обстоятельствах?
— Когда ездил в баню. Позвонил так, из любопытства.
Через час долгих и бесполезных разговоров контрразведчики позвали комбата и, ткнув в меня пальцем, предупредили:
— Этого к штабной палатке не допускать. Дать пять нарядов на кухню вне очереди. Загрузить работой так, чтобы пропала охота подходить к телефону.
Комбат исполнил приказ на все сто. Особенно старался замполит.
— Так ты, значит, хотел свалить. Хотел, умник, слинять. А мы, значит, придурки, должны здесь за тебя отдуваться. — Нет, я из тебя сделаю человека. Сделаю, потом дам рекомендацию в партию.
— Боже упаси.
— Потом исключу, чтоб ты всю жизнь с этим клеймом мучился… И еще. Ты у меня каждый год служить будешь.
До этого, конечно, не дошло, но уехал со сборов я последним. Оставили разбирать палатки, грузить кровати, выкапывать столбы и сматывать провода… На память о службе в Гремихе остались ложка, миска и алюминиевая кружка.
Как-то в небольшой компании рассказал эту историю Фрайману. Он долго смеялся. Потом сказал:
— А ты говоришь, что у нас плохая армия. Отличная армия и замечательный Военно-морской флот. Там плохому не научат. Всех воспитают. — Фрайман немного подумал и добавил: — Даже таких хитрозадых, как ты.
 (обратно)
(обратно)
Как здорово!

Сегодня похоронили Валерия Семеновича Зубова. Нашего старейшего оператора. Это был добродушный, спокойный, безотказный человек, основным занятием которого было помогать, выручать, поддерживать окружающих. «По совместительству» Валерий Семенович работал оператором, затем менеджером в коммерческом отделе телестудии. Много лет я ездил с ним на съемки информационных сюжетов. В колхозах, совхозах, на лесосплаве или в охотничьих хозяйствах он всегда первым выскакивал из машины и начинал снимать. Все, что попадалось на глаза. Фиксировал доярок, рабочих, лесорубов, скот, трелевочники, плоты, дороги, парящий в небе аэроплан…
Пробегая мимо с тяжелой кинокамерой на плече, он мне с упреком кричал:
— Ты чего сидишь? Записывай. Записывай! Кого снимаю, что, где, когда…
— А зачем?
— Что зачем?
— Зачем снимаем? — интересовался я.
— Не умничай. Чем больше сюжетов наберем, тем лучше. Раз приперлись в эту дыру, надо хотя бы заработать.
Вечером мы долго спорили в гостинице. Я доказывал, что каждый материал надо сначала разработать. Определить идею, выбрать тему, найти героев, изложить все на бумаге… Короче, настаивал на том, что вначале должно быть слово. Потом съемка.
Изредка Валерий Семенович соглашался, но утром, зарядив камеру, опять был впереди. Шел размашистым шагом. Иногда останавливался. Делал обширные панорамы. Крупные и средние планы. Раздраженно выкрикивал начинающему корреспонденту:
— Ты записывай, что снимаю. Записывай.
С моей системой подготовки материалов он смирился лет через десять. К тому времени Валерий Семенович погрузнел. У него появилась одышка и какая-то вялость. Бывало, он подолгу лежал в гостиничном номере. Читал детективы. Лишь говорил по утрам:
— Ты, пожалуй, сходи один на развод (планерку, летучку, совещание). Разработай тему, сформулируй идею, подготовь людей для интервью. А я полежу. Типа обдумаю план съемок.
Эти частые обдумывания привели Валерия Семеновича в профком. Снимать он стал редко. Больше занимался общественными делами. Готовил праздники и юбилеи. Согласовывал награды и премии. Доставал продукты, шампанское и елки на Новый год. Посещал хворых сотрудников в больничных палатах. Затем организовывал их торжественно-печальные похороны… И, надо сказать, добился на этом поприще неплохих результатов.
Как-то накануне 8 Марта собрались небольшим коллективом в редакции художественных программ. Дамы более обычного принарядились. Были, как всегда в такой праздник, чуть взволнованны и нервозны. Давно замечено, 8 Марта женщины, словно девчонки-школьницы, с особым волнением ждут комплиментов, необычных подарков, романтических признаний. Зачастую, вернее сказать, как правило, ожидают всего этого напрасно…
Первый тост — по старшинству, за Валерием Семеновичем. Он не торопясь поднялся. Оглядел коллег, слегка поклонился избранным дамам. Начал говорить торжественно и красиво. В конце речи высоко поднял бокал шампанского:
— …Так выпьем за женщин. Они нас в… они нас д…
Внезапно Валерий Семенович схватился левой рукой за сердце. Из правой выпустил фужер. Медленно опустился на стул и умер.
Через несколько дней на поминках возник спор.
— Он хотел сказать «Они нас в…» — вдохновляют, — утверждали женщины…
— «Они нас д…» — доконают, — не соглашались мужчины.
Может быть, Валерий Семенович все это слышал. Там, наверху. Во всяком случае, он, как всегда, мягко и задумчиво улыбался. С черно-белого портрета на специальной подставке.
«Да, — думаю, возвращаясь из кафе, — нелегко давались Валерию Семеновичу его печальные хлопоты. Может, на этом и подорвал здоровье. И то сказать, триста человек в коллективе. И каждый норовит „сыграть в ящик“ вне очереди, без графика и предварительного согласования. Многие несознательные зачастую уходят аккурат в праздничные дни. Есть эгоисты, которые „дают дуба“ вообще где-нибудь в командировке. За тысячу километров от родного коллектива. Потом возись с ними. Доставай цинковый гроб, запаивай, договаривайся с железной дорогой или авиацией…»
Организация похорон в нашем государстве по-прежнему дело непростое. Тысяча сложностей. Масса досадных мелочей и нестыковок. Одно объявление в морге чего стоит: «Зубы из ценных металлов отдаются только близким родственникам или по доверенности, заверенной нотариально!»
«И кто же, — думаю, — выдает такую доверенность? И когда?»
Многое в этом деле непонятно. Не ясны традиции и церемониал. Нет расторопных гробовщиков и надежных могильщиков. Не хватает настоящих профессионалов. Всюду любители. Впрочем, чему удивляться? Мы с ними встречаемся каждый час в повседневной жизни. Отчего же им не быть на кладбище?
Домой в тот вечер вернулся подавленный и усталый.
— Пап, ужинать будешь? — спросила дочь-третьеклассница, — давай разогрею.
— Не надо. Я поел немного. На поминках.
В тесной прихожей снял мокрый плащ. Повесил кепку. В зеркале увидел траурную повязку, забытую на рукаве. Начал стаскивать ее одной рукой.
— Пап, а что едят на поминках?
— Как обычно, кутью, первое, второе, кисель…
— Что такое кутья?
— Ничего особенного. Каша с изюмом.
Я прошел в гостиную. Устало опустился в кресло.
— А я думала, подают любимые блюда покойного…
— В этом был бы хоть какой-то смысл, — отвечаю рассеянно.
— И еще неплохо, если бы на похоронах звучала любимая музыка усопшего, — сказала дочь.
— Да, вероятно, ему было бы приятно.
Я никак не мог выйти из подавленного состояния. Чтобы поднять настроение отцу, Аня захотела сказать что-то хорошее. Она подошла. Встала рядом. Облокотившись на кресло, склонилась надо мной. Пообещала торжественно и серьезно:
— Пап, когда ты умрешь, мы с мамой угостим всех родственников и друзей твоей самой любимой едой.
— Какой же?
— Пивом, воблой и рыбными консервами.
— Хорошо, — говорю без энтузиазма, но на всякий случай решаю уточнить детали. Когда еще придется обсуждать эту грустную тему? — Пиво должно быть свежее и только бочковое.
— Разумеется, — соглашается дочь. — А еще мы поставим твою самую любимую бардовскую песню.
— Какую?
— Ну, ту — задушевную, которую вы с друзьями часто поете — «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Согласен?
 (обратно)
(обратно)
Мой дядя

После летучки ко мне подошел Фрайман. Сказал мягко, вполголоса:
— Сергей, не хотел говорить при всех. Тема деликатная. Речь идет о вчерашней программе с участием фронтовиков.
— Кажется, передача вышла неплохая, — отвечаю.
— Все так, — согласился Фрайман. — Поступило много благодарных звонков от телезрителей. Это отмечено в журнале дежурств… Но мне звонили из отдела пропаганды. Рекомендовали больше не звать пораженцев на студию.
— Какие же они пораженцы? Настоящие герои. Большинство — рядовые. Солдаты. Рассказывают о войне честно, без прикрас.
— Не до такой же степени. Некоторые выступали так, что не вполне ясно, кто же победил в Великой Отечественной. Короче, я тебя прошу как главный редактор, будь аккуратней с подбором выступающих. Согласен?
Я не стал спорить. Тем более, один из участников передачи был мой дядя. Хорошо, что никто не знал. А то обвинили бы в разведении семейственности на государственном телевидении.
Мой дядя, ветеран войны, свои фронтовые рассказы начинал примерно так: «Бежали мы от фрицев как-то в Прибалтике…» или: «Помню, отступали мы широким фронтом под Харьковом» и еще: «Чесали нас немцы в хвост и в гриву летом под Смоленском». Сначала дядю, как боевого старшину, часто приглашали выступить в школы. Потом заявок на него стало приходить меньше. И, наконец, ввиду пораженческих высказываний дяди, они вовсе иссякли.
Но однажды, после долгого молчания, снова позвонили из школы. Честно сознались, что ветеран, которого пригласили на урок военно-патриотического воспитания, заболел. Попросили дядю рассказать о фронтовой жизни.
— Только, Андрей Андреевич, — взмолилась учительница, знавшая его по предыдущим выступлениям, — расскажите об атакующих действиях наших войск. Скажите честно, вы лично участвовали хотя бы в одном наступлении?
— Ни хрена себе, — обиделся дядя, — а как же я, по-вашему, добрался до Берлина? На ракете, что ли?
— Хорошо, хорошо, — учительница поспешила успокоить ветерана, — вот об этом и расскажите.
— О чем? — переспросил дядя.
— О том, как вы шли в наступление и били фашистов.
— Это можно, — пообещал дядя. — Да мы их голыми руками…
— Почему голыми? — спросила учительница. Просто так. Для поддержания разговора.
— У них же танки, самолеты, артиллерия. Промышленность всей Европы… А у нас? Особенно в начале войны. Сказать, чем воевали? — завелся по обыкновению дядя…
— Андрей Андреевич, — взмолилась учительница, — я вас прошу. В рассказах используйте больше позитива, оптимизма, веры в силу нашей армии. Ребятам это так необходимо. Особенно сейчас.
Договорились, в общем. Приходит дядя в. школу. Солидный, статный, седой. На груди несколько орденов, медали.
Класс увидел и ахнул — настоящий боевой ветеран. Учительница решила не пускать встречу на самотек. Объявила жизнеутверждающую тему и старательно вывела ее на доске. Специально для дяди.
«Наступательные действия советских войск. Освобождение Восточной Европы от фашистских захватчиков».
— Андрей Андреевич, расскажите, как вы воевали? Где были во время наступления? Какие страны освобождали… лично.
— Где был, где был, — начал дядя. — Много где был. В Прибалтике, Болгарии, Польше. Брал Берлин… — Дядя потрогал шрам на щеке, задумался.
— А дальше, — подсказала учительница.
Ветеран удивился:
— Что дальше… Взяли Берлин. Война и кончилась.
Возникла пауза. Дядя посмотрел на дверь. Окинул взглядом класс. В наступившей тишине было слышно, как где-то за окном колотили сваи. С потолка на угловой шкаф мелкой пылью осыпалась штукатурка. Плафоны на длинных шнурах слегка вздрагивали. Звонка все не было.
— Значит, кончилась война? — вздохнула учительница.
— Не для всех, конечно, — сказал дядя. — Многим не повезло.
— Немцам?
— Почему немцам? Нашим. Тем, которых отправили на Дальний Восток воевать японцев, — объяснил дядя.
— Победоносно заканчивать войну, — добавила учительница.
— Нуда. Пришлось, бедолагам, как говорится, еще тянуть лямку. Мне подфартило. Дали по башке. Комиссовали. По контузии… — Дядя посмотрел на часы «Победа», подтянул кожаный облезлый ремешок. Застучал пальцами по столу. Стал ждать звонка.
— Та-ак, — вздохнула учительница. — Давайте еще раз. Вы воевали в Прибалтике. Где именно?
— Сначала в Эстонии.
— Вот расскажите про Эстонию. Что вам там особенно запомнилось? — учительница сделала паузу и добавила с нажимом: — Во время наступления…
— Во время наступления, — начал дядя, — мне запомнилась… страшная жара. Все время хотелось пить. В одном хуторе, помню, мы из колодца пьем и пьем, пьем и пьем. Вода холодная, ледяная, а напиться не можем. Вдруг я смотрю, по стенке колодца тоненькая веревочка тянется вниз. Я дернул. Чувствую, что-то тяжелое к ней привязано. Колодец глубокий, не видать. Я потянул, а там…
— Бомба! Граната? — стали выкрикивать мальчишки из класса.
— Нет, — успокоил всех дядя. — Там был кувшин с молоком. Эстонцы прятали его от нас. Ну, и от немцев тоже. Мы потом это дело раскусили. В деревню входим — я сразу к колодцу. Рукой — шасть, веревочку нащупаешь и тянешь. Тут главное — первыми успеть, а то знаете, сколько желающих. Да… — на дядю нашли приятные воспоминания. Он расслабился, потянулся на стуле. — Нашему расчету молочко доставалось. Пьешь и вспоминаешь родную деревню, отца, мать, сестер. Буренку Майку. Она у нас рекордисткой была. Тридцать литров давала. Попил молочка — как будто дом навестил… Эстонцы злющие ходят, шипят что-то по-своему. Молока им жалко… Нет, были, конечно, и нормальные… Угощали шнапсом. Но не так, как в Болгарии. Там, помню, выкатили нам две бочки красного вина…
— Андрей Андреевич, это, так сказать, элементы военного, я бы даже сказала, тылового быта. Но ребятам хотелось бы услышать о боевых действиях, — учительница пыталась держать выступление в рамках заданной темы. — Расскажите, как вы получили награды. За что? Я думаю, всем будет интересно. Вот эта большая звезда, — она разглядывала знаки отличия на груди ветерана, — где изображен красноармеец в буденновке с винтовкой, как называется?
— Так и называется, — нехотя ответил дядя, — орден Красной Звезды.
— За что вас наградили?
— Да так. Ничего особенного.
— Расскажите. Интересно, ребята?
— Да-а-а! — заорал класс.
— Собственно, чего рассказывать. Дали орден за спасение командира, когда нас отрезали в Эстонии.
— Во время наступления? — уточнила учительница.
— Что?
— Вас отрезали, когда вы освобождали Эстонию?
— Ну да. Тогда же, — дядя задумался. Начал вспоминать медленно, как бы нехотя. — Я служил в минометном расчете. Нас было три человека и командир.
— А командир, что, не человек? — спросил кто-то.
— Командир — это уже большой человек. У нас был молоденький такой лейтенант Валентин Кузин. Назначен сразу после училища. Пороху не нюхал, но ничего не скажу, грамотный. Расчеты для стрельбы делал точно и быстро. Только хилый какой-то. Городской. Недокормленный. Заморыш, одним словом. А для минометчиков — прежде всего надо что?
— Храбрость! Меткость! — закричали с мест.
— Нет, ребята, для минометчиков нужна сила и выносливость.
Наш 82-миллиметровый миномет весил килограмм шестьдесят, не меньше. А еще мины, по три кило каждая.
— Миномет с колесами?
— С колесами, — хмыкнул дядя, — с колесами. Это потом сделали. А мы таскали на себе. Вот у немцев был почти такой и с колесами…
Учительница мягко положила ладонь на руку ветерана:
— Андрей Андреевич, вы расскажите лучше о нашем оружии.
— О миномете, что ли?
— О нем.
— Миномет, дети, разбирался на три части. Я носил опорную плиту. Иван — ствол, Василий — лафет. Мы вместе два года воевали. Хорошие ребята. Ничего не скажу. Боевые. Иван с Украины. Веселый парень. Песни пел украинские. Погиб под Варшавой. Василий — татарин. Здоровый, крепкий. Я тоже был не слабым. Поэтому и поставили к миномету плиту таскать.
— А что это?
— Ну, такая плоская железяка. Тяжелая, килограмм двадцать. Она нужна для упора и чтобы гасить отдачу после выстрела. На нее крепится ствол — толстая труба с бойком. Ствол опирается на двуногу-лафет с амортизаторами и прицелом…
Андрей Андреевич из карандашей, ручки и мела быстро соорудил на учительском столе что-то вроде миномета.
— Ствол наводим под определенным углом от 45 градусов и выше. И по навесной траектории стреляем.
— Видите, ребята, — тут же заметила учительница, — как важно знать геометрию. Винокуров, покажи угол 45 градусов.
— Молодец, — похвалил Андрей Андреевич и продолжил любимую тему. — Что важно, для минометов мертвого, то есть недоступного, пространства не существует, как, например, для орудий настильной стрельбы или гаубиц. Он достанет везде — за склоном, в лощине, окопе. Даже за вертикальной стеной. От мин не спрячешься. Немцы злые на нас были. Минометчиков в плен не брали. Стреляли на месте. Охотились за нами. Бывало, сделаешь тридцать выстрелов и меняешь позицию. Чтобы немец не засек. У них ведь тоже минометы. Могут и накрыть. Так первого нашего командира убили. И Ивана тоже — миной на куски. Василий, татарин, — живой, виделись недавно. Выпили, конечно. Я ведь сейчас много не принимаю. Вот раньше…
— А вы немцев близко видели?
— Насмотрелся я этих трупов…
— Нет, в бою, — уточнил кто-то.
— Не часто, — признался дядя. — Мы ведь сзади шли. Давали огневую поддержку. Вот когда пехота драпала, нас обгоняла, тогда немца видел. Но смотреть было некогда. Надо хватать миномет и догонять пехоту…
— Андрей Андреевич, орден-то за что? — не унималась педагог. — Вы начали с наступления в Прибалтике…
— Вот я и говорю. Наступали мы, гнали немца. Но слишком быстро. Да, — Андрей Андреевич задумался, вспоминая, историю с орденом. А потом продолжил свой рассказ.
— Как-то обошли мы фрицев с двух сторон.
— С флангов? — уточнил кто-то.
— Можно и так сказать. Пехота далеко вперед ушла. Минометчики отстали. Нам с железом за ними не успеть. Получилось так, — Андрей Андреевич на столе изобразил диспозицию. — Вот здесь мы, впереди наша пехота, сзади — артиллерия. И вдруг — откуда они и взялись, не пойму — штук десять танков с крестами выскакивают из рощи и идут прямо на нас.
— И вы приняли решение вступить в бой? — спросила учительница.
— Да, мы приняли решение. Уносить ноги. То есть я, Иван и Василий кричим: «Командир, надо отступать. Танки!» А лейтенант уперся и ни в какую:
— Будем драться! Будем отбиваться и стоять насмерть!
Мы кричим:
— Чем драться, товарищ лейтенант? Минами по танкам?
— Да, вертикальной наводкой.
Андрей Андреевич покачал головой:
— Хоть башковитый был, но пороху не нюхал. Молодой, совсем пацан. Мы кричим: «Бесполезно! Гиблое дело. Бежать надо, пока не поздно. Гусеницами передавят!» Он орет: «Стоять! Кто побежит, тому пулю в спину. Как трусу и предателю». Ну что ты будешь делать? — От нахлынувших воспоминаний Андрей Андреевич раскраснелся. Лицо покрылось мелкими капельками пота. — А немцы прут и прут, прут и прут. Вот они идут на нас из рощи. Десять танков. Наш взвод в открытом поле. Три расчета. Все как на ладони. Слева от нас — лес. Метров сто. Единственная возможность уцелеть — добежать до леса. Смотрю, первый расчет уже разобрал миномет. Вместе с командиром перебежками уходит. Второй расчет замешкался. Их всех тут же одним снарядом и уложили. Мы кричим лейтенанту: «В лес! Надо бежать в лес!» Ну, тут танки по нам как долбанут! Земля дыбом. Потом еще как долбанут. Мы хватаем миномет. Разобрать успели. Без оружия бежать нельзя. Спросят строго. Орем: «Отступаем, командир!» Тут и он видит, что оставаться бесполезно. Передавят, как цыплят. Но упирается. Стоит на своем. «Вы, — кричит, — отступайте, а я здесь останусь. Буду драться до конца. Отступайте! — командует. — Это приказ…»
И начинает стрелять по танкам из пистолета.
— Вы остались?
— Нет. Мы побежали. Иван ухватил ствол. Василий — лафет. Я — плиту. А она тяжелая, сволочь, к земле давит. Бежим, значит, к лесу. Снаряды рвутся вокруг… Но в основном бьют, конечно, из пулеметов. Бежим втроем. Краем глаза вижу — пока все целы.
— А командир? — спросили из класса.
— Вот и я думаю — как нам без командира? Бросили и убежали? Да за такие дела — штрафбат. А то и к стенке. Повернул я с этой плитой назад. Опять несусь к командиру.
— Товарищ лейтенант, — кричу, — лейтенантик, дорогой мой. Скорее! Схватил его вот так, за ремень и потащил к лесу. А он, гад такой, упирается. Орет, мол, погибну, но не отступлю. «За Родину! За Сталина!» Вырвался и опять на танки с пистолетом. Ну, я бросил плиту. Выхватил этот пистолет и стукнул его по голове, чтоб не трепыхался. Он и осел. Потерял сознание. В горячке не рассчитал я. Сильно вдарил. Опять же лейтенант… говорю, слабый был. Схватил я винтовку, плиту, лейтенанта в охапку и зайцем петляю к лесу. Немцы озверели, лупят из пулеметов. Как не попали? До сих пор удивляюсь. Хорошо, что наша артиллерия по ним вдарила. Вижу, один танк горит, второй, третий… Остальным уже не до нас.
Только забежал в лес, слышу: «Стой. Куда бежишь?» Смотрю, под деревом какой-то майор с бойцами. Оказывается, наша контрразведка в лесу сидела. Были такие заградительные отряды. Тех, кто драпал без приказа, останавливали. Могли и пристрелить на месте.
— Куда бежишь, сволочь? Отступаешь?
— Никак нет, — отвечаю, — раненого командира выношу из боя.
А у лейтенанта и правда из головы, куда я его стукнул, кровь сочится.
— Ты кто такой? Как зовут лейтенанта?
Отвечаю по форме.
— Что ж, — говорит майор и записывает что-то в планшете. — Принимается. Будешь представлен к награде.
Гляжу, командир стад приходить в себя. Я его тихонько сзади прижал, чтоб не торопился. Он застонал. «Тащи его, — говорит майор, — скорее в медсанбат. Я твою фамилию записал. Награда разыщет героя».
Все молча ждали, пока дядя отдышится после боя.
— Не обманул майор. С опозданием, но догнал меня под Берлином орден Красной Звезды — за спасение командира. Правда, лейтенант, когда пришел в себя, хотел отдать меня под трибунал. Да передумал. Немцы, говорит, тебя стрельнут.
Андрей Андреевич смолк, задумался. Потом добавил:
— Ошибся лейтенант. И у них не получилось. После войны мы с ним встретились. Простил меня лейтенант. И даже поблагодарил, хотя шрам на виске у него остался. Правильно, говорит, наградили. За спасение командира.
Класс молчал, не решаясь спросить про остальные награды. Учительница подумала: «Опять какую-то неправильную войну изобразил Андрей Андреевич. Надо бы пригласить в другой раз настоящего боевого ветерана».
 (обратно)
(обратно)
Правая нога не хуже левой

Роза Васильевна всю жизнь была атеисткой. Пассивной. В Бога не верила, но и не отрицала. Некогда и незачем было задумываться о религии. Работала швеей, освобожденным председателем профкома, инструктором и завотделом райкома КПСС. Растила без мужа троих сыновей. Но, выйдя на пенсию, начала размышлять о вечном. Когда заболела, вспомнила о Всевышнем. Даже не сама вспомнила. Соседка подсказала:
— Ты, — говорит, — Роза, ногами мучаешься, ходить не можешь, потому что в Бога не веруешь. А ты повернись лицом к Господу. Прими веру. Помолись, и легче станет, милая. Смири гордыню.
— Да я согласна, — отвечала Роза Васильевна. — Только как принять веру-то, если я не могу. Не получается.
— А ты молись, молись, — отвечала соседка, — по-своему, как можешь.
Стала Роза Васильевна молиться. Как могла. Своими словами. Начала исправно ходить в церковь, креститься и ставить свечи. Просила прощения за нечаянные грехи. Вымаливала здоровье для сыновей, внуков, родных и близких. Для себя просила немного, чтобы только перестало болеть правое колено. Сильно ее эти боли донимали: «Иногда так скрутит, так скрутит, что ни встать, ни сесть, ни заснуть, ни забыться».
И чем только не лечилась. К каким только профессорам не возили ее сыновья. Ничего не помогало.
Однажды услышала Роза Васильевна, что есть на Полтавщине такой целитель — Касьян. Что излечивает он всякие болезни. А его чудодейственные методы поднимают даже лежачих. Решила Роза Васильевна съездить к Касьяну. Написала знакомой в Полтавскую область. Попросила помочь. Та ей ответила. Пригласила. Встретила на вокзале. Устроила у себя в небольшом домике. Все узнала про Касьяна. И даже договорилась, что примет он Розу.
В назначенный день, чтобы не прозевать очередь к знаменитому целителю, Роза Васильевна встала затемно. Умылась, причесалась, надела самое лучшее. В четыре утра тихо притворила за собой калитку. Вышла на дорогу и бегом, как только могла, заковыляла по темной улице. Пройти надо было километра два. Правую ногу беспрестанно крутило. Чтобы не терять время понапрасну, Роза Васильевна начала разговор с Господом.
— Господи, Всевышний, услышь меня. Господи, прости меня. Ты такой сильный, такой мудрый, такой добрый. Сделай чудо!
«И тут, — вспоминала потом Роза Васильевна, — облака расступились. Небо стало синее-синее. Тепло пошло по всему телу, и благодать снизошла на меня. И поняла я, что Господь внемлет мне. Я даже голос Его услышала, такой нежный и отеческий: „Чего ты хочешь, Роза? Говори“.
А я так, знаете, испугалась, растерялась и, думаю, не буду просить много. Неужто буду рассказывать Господу про все мои проблемы? Попрошу самую малость.
— Сделай так, — говорю, — чтобы правая нога была не хуже левой. Сделай, чтобы правая нога была не хуже левой.
Вот так я просьбу свою сформулировала и третий раз на бегу повторяю: „Чтобы правая нога была не хуже левой!“ Сказала и чувствую — земля уходит из-под ног. Я падаю и теряю сознание…
Пришла в себя на следующий день. Просыпаюсь и, как обычно, первым делом прислушиваюсь: как правое больное колено. Вроде ничего, терпимо. Зато левая нога горит и стреляет. Открываю глаза — боже мой, нога в гипсе. Я в больнице, а правая нога не хуже левой.
Оказывается, провалилась я в открытый люк колодца. Сломала левую ногу в двух местах».
— Ну а в Бога после этого веруете? — спрашиваю ее.
— А как же, — с жаром говорит Роза Васильевна, — Он же все сделал, как просила. С тех пор у меня действительно правая нога не хуже переломанной левой, — подумав, добавила: — И даже лучше.
При этом Роза Васильевна показывает рубцы на левой ноге:
— Вот, остались на память. Я теперь, прежде чем просить Господа о чем-то, очень точно подбираю формулировки. Помню, наш первый секретарь райкома Борис Вениаминович Дьяконов, Царство ему Небесное, всегда говорил: «Роза, четче формулируй задачу коллективам. В постановке задач твое слабое место».
Роза Васильевна много и истово крестится:
— Господи, прости нас, грешных. Ты один, а нас тьма тьмущая. Поди угляди за всеми. Некогда Тебе вникать в подробности. Это нам, рабам Твоим сирым, надо четче формулировать задачи.
 (обратно)
(обратно)
Прогресс

Вечером в редакцию вбежал Фрайман.
— Где сценарий «Прогресса»? Где план?
«Прогресс» — новый цикл передач, рекомендованный промышленным отделом обкома. После трех вышедших в эфир программ о достижениях в лесопереработке студия получила одобрительные отзывы отдела пропаганды. Срочно требовался очередной сценарий и план передач на год. И надо бы сделать, да некогда. У меня с утра полно незаконченных дел. Ночью вернулся с космодрома. В информационную программу дал два сюжета. Записал часовую передачу с участниками научной конференции. Съездил в психбольницу, отснял проблемный материал. Там закончились продукты. Кормить больных совершенно нечем. А всем известно, что аппетит у таких пациентов — зверский. Главврач дал несколько книг по психологии. Надо бы почитать на досуге. К вечеру добрался до рабочего стола. Пора, наконец, взяться за «Прогресс». Глаза слипаются. Сейчас бы поспать минут шестьсот. Да некогда… некогда. Чувствую — засыпаю…
— Сергей, где же «Прогресс»? — повторяет Фрайман.
— «Прогресс» задерживается, — отвечаю.
— Можно узнать почему?
— Есть объективные исторические причины.
— Например?
— Вывоз капитала из страны все еще не превышает вывоза товаров.
— Еще…
— Дешевая рабочая сила, — я показал на сидящих рядом коллег, — как видите, в нашем государстве, а не за рубежом.
— Это признаки империализма, а не прогресса, — сказал Фрайман. — Дальше.
— Разве это не одно и то же?
— Хватит болтать. Чем ты сейчас занимаешься?
Фрайман подошел к моему столу. Взял несколько книжек.
Пробурчал недовольно:
— «Введение в психоанализ», «Психология», «Физика». Я не пойму, чем ты все время занят? В общем, так. Эту ерунду психологическую я временно экспроприирую.
— Виктор Зиновьевич…
— Временно, — твердо сказал Фрайман, — пока не сдашь план и сценарий «Прогресса». Что делать с этим? — С брезгливым отвращением главный редактор кончиками пальцев взял учебник физики. Видимо, на него нахлынули неприятные школьные воспоминания.
— Какой прогресс без фундаментальной науки, — говорю. — Оставьте.
— Согласен, — поколебавшись, сказал Фрайман. — Вот за что я его ценю, — громко заявил он сотрудникам редакции, — так это за основательность. Готовит передачу на копейку, копает на рубль. Чувствуется техническое образование. Но подзабыл физику? Подзабыл, да?
— Да, — честно сознался я.
Фрайман бросил учебник на стол.
— А эту белиберду… — Фрайман сгреб книги по психологии. — Зачем они тебе? Можешь объяснить?
Я смолчал. Не хотелось рассказывать семейные истории. Все-таки дело касается личной жизни. И не только моей…
Ладно. Сейчас можно. В общих чертах…
Жена не спит несколько ночей подряд. Вскакивает в холодном поту. Ее преследует один и тот же сон: будто она сдает экзамен по физике и каждый раз получает неуд. Снится, как ее вызывают в деканат и отчисляют из института. На этом месте начинаются плач, крик и ночные бдения. К пяти утра я и дочь с трудом ее успокаиваем. К девяти вся семья с мятыми лицами разъезжается. Им что, а у меня ежедневные передачи в эфире. Надо как-то выглядеть.
Вечером — ужин, несколько часов спокойного отдыха и снова… кошмарный сон, крик, плач и… отчисление. Со всеми вытекающими последствиями. Что самое интересное — институт Вера окончила лет десять назад. Причем с отличием. Работала в солидной организации. Была на хорошем счету. И вдруг такой поворот. Снотворное не помогает. Травы не действуют. К психотерапевту идти отказывается. Я настаиваю — она ни в какую.
— Ты человек известный, — говорит Вера, — каждый день на экране. Поползут слухи по городу, мол, жена у ведущего — сумасшедшая… Что скажут?
— Известно что, — отвечаю. — Скажут: «Ага, оказывается, не только он сам с придурью».
Что делать? На очередном ночном совещании дочке пришло в голову элегантное решение проблемы.
— Мам, — позевывая, сказала Аня, — есть одна идея. Только ты сядь и успокойся.
Вера перестала ходить по кухне. Села. Скрестила на груди руки.
— Ну, — я спокойна.
— Выход простой, — сказала дочь.
— Какой же?
— Ты спокойна?
— Абсолютно.
— Выучить. И сдать.
— Ты что, ненормальная?! — возмутилась Вера. Она снова вскочила. Заметалась вдоль стенки. — Тогда уж лучше сразу отправьте меня в психушку…
— Ну, это мы всегда успеем, — начал успокаивать я.
— Мам, надо
попробовать. А что? Менделеев во сне придумал периодическую таблицу. Фурье, кажется, создал одноименные ряды. Неужели ты не сдашь какую-то физику? Я тебя подтяну по оптике, механике и кинематике. Папа — по электричеству. Он ведь инженер по первому образованию.
— Без проблем, — говорю. — Надо только вспомнить. Подготовиться.
— Вы издеваетесь надо мной. Кому сказать — засмеют.
— А мы никому, — пообещал я. — Правда, Ань? Тихонько сдашь, и все…
— Сумасшедшие! — Вера выскочила из кухни, хлопнув дверью.
Она упрямилась еще какое-то время. После долгих, изматывающих бессонных ночей как-то за завтраком спросила:
— Ну, и где эти ваши…
— Что?
— Какие?
— Ну, эти. Учебники по физике.
В общем, стали готовиться. Днем работали. На ночь глядя вспоминали школу. Мне приходилось таскать на работу учебники. Там штудировал физику. Читал много книг по психологии. Чтобы легче было ставить диагноз жене. Ну и нам с Аней… если что.
Целый месяц ушел на подготовку. Сначала Вера хотела запастись шпаргалками, но дочь резонно заметила, что воспользоваться ими ночью, да еще во сне, будет затруднительно. Пришлось все учить всерьез.
Правду сказать, чувствовали мы себя все это время неважно. Как-то в час ночи после очередного занятия с мамой Аня подошла ко мне:
— Пап, как думаешь, у нас все нормально?
— В смысле?
— С головой.
— А ты что-нибудь заметила?
— Нет.
— И я нет.
— Если заметишь…
— Тут же скажу.
— Заметано.
Иногда и Вера, задумавшись, подолгу смотрела на нас:
— У вас все в порядке?
— Да, — всё менее уверенно кивали мы с дочкой.
— Скорей бы все кончилось, — вздыхала Вера. — От этой физики с ума можно сойти.
В ночь сдачи экзамена Вера легла пораньше, «чтобы осталось больше времени на подготовку к ответам». Отключили радио, телефон, телевизор. Ничего не должно мешать сдаче.
— Ни пуха ни пера! — по старинному обычаю пожелал я.
— К черту! — ответила Вера, погасила светильник и укрылась с головой.
Я вышел на кухню. Закурил. Аня сидела в полумраке, держа скрещенные пальцы за спиной. Потянулось время ожидания. В полночь, когда, по всем расчетам, Вера должна была заканчивать теорию и переходить к решению задач, в дверь позвонили.
Мы сначала хотели затаиться. Не отпирать. Но звонки становились все протяжней и настойчивей. Пришлось открыть. На пороге стояла бледная теща. Трясущимися от волнения губами она чуть слышно прошептала:
— Что случилось? Я звоню по телефону — никто не отвечает. Свет на кухне горит. Дверь мне не открывают. Что произошло?
В который раз пожалел, что купил теще квартиру в доме напротив. Последние годы чувствовал, будто меня то и дело наблюдают под микроскопом.
— Что случилось? Где Вера? Где Анечка?
Я приложил палец к губам и открыл дверь в детскую. Дочь сидела в полутьме со скрещенными за спиной пальцами.
— Тихо, бабуля, — зашептала она.
— Что значит тихо? Почему тихо?
— Мама экзамен не сдаст…
— А где она? — опять заволновалась теща.
— Там, в спальне, физику сдает.
— Физику?
— Ну да.
— В спальне?
— Естественно. Где же еще?
— В двенадцать ночи? — теща внимательно осмотрела меня и внучку. — Нормально.
Она попятилась к спальне. Приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Ничего особенного не увидела. Вера спала. Лицо было серьезным и сосредоточенным. Настораживали праздничная завивка и дневной макияж. Над кроватью висело написанное от руки объявление: «Тихо. Идет экзамен!» Это дочь мелкими штрихами создавала подходящую атмосферу.
— Нормально, — повторила теща. Она подошла к Ане. Приложила ладонь к голове. — Покажи язык. Скажи: «А-а».
— А-а.
Мне предложила выйти на кухню. Там потребовала:
— А ну дыхни!
Пришлось все рассказать. Про бессонницу, учебу и экзамен, к которому мы так долго готовились.
— Ну вы дураки, — сказала, выслушав, теща. — Точно ненормальные. Месяц учили физику? С ума сойти. Кому сказать — засмеют.
— А что, что нам оставалось делать? — допытывался я шепотом.
— Как что? — удивлялась теща. — Известно что.
— Ну, например.
— Дать взятку преподавателю.
— Вы понимаете, что говорите? Какую взятку? Какому преподавателю?
— Что я такого сказала?
— Вы же знаете мои принципы — я взяток не даю. К тому же, как вам прекрасно известно, я ведущий программы «Слушается дело…».
— Да что вы говорите!
— В которой мы разоблачаем этих самых взяточников!
— Ой-ой-ой. Разоблачитель.
— И где взять столько денег? — вступилась за меня Аня. — Бабуля, ты не представляешь, какую уйму денег это стоит…
— На удочки и спиннинг деньги как-то находятся, — не сдавалась теща. — А вот для жены…Чего ни коснись — денег нет. Нет денег.
Назревал очередной скандал. Вдруг из-за двери появилась Вера. Лицо ее сияло. Казалось, она помолодела лет на десять. Будто чувствовала себя юной первокурсницей, вернувшейся только что из института.
— Сдала? — выдохнули мы хором.
Вера подошла к холодильнику. Достала пачку сока. Налила и мигом осушила полный стакан.
— Пять баллов!
— Ура-а! — закричали мы с Анькой. Теща перекрестилась.
— Господи, какое счастье, — говорю. Целую жену и снова открываю холодильник. — Я верил в тебя, Верунчик. Мама, — с гордостью объясняю дочке, — была у нас самой умной, самой сообразительной и самой красивой на курсе. По такому случаю — всем шампанского! Наконец-то вернется нормальная жизнь. Выпьем, и можно спать спокойно.
Все засуетились. Аня поставила на стол фужеры. Теща открыла коробку конфет. Хлопнуло шампанское.
— Думаю, пить еще рано, — вдруг сказала Вера. Лицо ее стало серьезным и озабоченным. — Не время расслабляться.
— Почему, Верунь?
Жена внимательно изучала настенный календарь.
— На следующей неделе — химия. А двадцать четвертого, — Вера карандашом отметила нужную дату, — математика. Думаю идти на повышенную стипендию!
— Да ты, мать, того, — всерьез забеспокоился я.
— Думаешь, не потяну?
Веру не покидал задор, который всякий раз охватывает студентов в первые минуты после успешной сдачи экзамена:
— Справлюсь! Так что рано нам расслабляться! Правда, Аня?
Дочь испуганно отшатнулась. Бутылка в моей руке дрогнула. Шампанское полилось на стол мимо бокалов. В груди что-то сжалось и заныло. Появилось ощущение полного тупика: «Что-то мы недодумали с методом. Причем серьезно. Что именно? Где просчитались? Почему? И что делать теперь?»
Дальнейшая жизнь виделась туманно. С обязательным посещением «желтого дома». Регулярным общением с санитарами…
Теща осела на табурет. Аня вымученно улыбалась. Впереди нас ждали серьезные испытания.
Все это я не стал рассказывать Фрайману, отнимавшему у меня учебники по физике, химии и математике. И правильно. С его энергией и обширными связями он точно отвез бы всех нас на лечение. Честно говоря, после «сдачи» первого экзамена я сам был готов добровольно отправиться в психушку.
К счастью, вскоре все наладилось. В дом вернулись тишина и покой. Что интересно — всеобщее семейное выздоровление было как-то связано с моей работой. Как только закрыли передачу «Прогресс» — у Веры напрочь прекратились ужасные, изнурительные сновидения.
Вот такое удивительное совпадение. Такой медицинский прогресс.
Тьфу! Тьфу! Тьфу!
 (обратно)
(обратно)
Эти тупые капиталисты

Самолет летит высоко над заснеженными облаками… Маленький серебристый Як-40 над огромной белой пустыней. Четверть часа назад мы поднялись с мурманского аэродрома, оставив под собой пологие голые сопки.
Пассажиров в салоне международного рейса немного. Несколько моряков, возвращавшихся из плаванья, режиссер Молчанов и я.
Молчанов спит. Его расслабленное грузное тело едва вмещается в откинутом кресле. Серебрящаяся густая шевелюра разметалась по голубой обивке. Аккуратно подстриженная бородка вытянулась по курсу движения. Вдруг что-то его начало тревожить. Дыхание стало неровным, прерывистым. Молчанов просыпается. Хлопает себя по карманам брюк, запускает руку внутрь пиджака. Затем, согнувшись, нащупывает оставленный под креслом портфель. Что-то лихорадочно в нем ищет. Проснувшись окончательно, вскакивает и, сбросив ремни безопасности, устремляется к кабине летчиков. Из-за плотных темно-синих занавесок слышны удары в дверь пилотов и громкий крик:
— Разворачивай! Разворачивай назад!
Его останавливает подоспевшая стюардесса. Но разве ей, молоденькой и хрупкой, унять крупного отечественного режиссера. На шум из кабины вышел кто-то из экипажа. В это трудно сейчас поверить — вышел запросто, без опасений.
— Что произошло? В чем дело, товарищ?
— Деньги. Я деньги забыл, — слышен возбужденный голос.
— Какие деньги? Где?
— В Киркенесе. Во время регистрации бумажник оставил на стойке. Все деньги.
— Ну, товарищ… — мягко упрекнул пилот, собираясь вернуться в кабину. — Ну вы даете…
— Высадите в Мурманске, — придерживает его за рукав режиссер, — а я оттуда в Киркенес на машине…
— Это вам, что? Такси? Лариса, следите за порядком.
Из-за ширмы Молчанова выводит стюардесса Лариса. Возвращает пассажира обратно в кресло.
— Я деньги забыл в Киркенесе, — сообщает он мне.
— Слышал, — говорю, — как ты убивался.
— Твои-то целы?
— При мне, — хлопаю по кожаной груди. — Видишь, даже куртку не снимаю.
Молчанова это не успокоило. Уткнулся в переднее кресло, обхватив голову руками.
Подошел второй пилот. Начал подбадривать: «Мы пытаемся связаться с Киркенесом. Пока не отвечают. Теперь пробуем через мурманского диспетчера. Сколько денег было?»
— Много, — говорит Молчанов. Чуть тише называет сумму. — В черном портмоне.
— Долларов?
— Нет, крон.
Летчик прикинул сумму в долларах США. Мало? Много? По лицу не понять.
— Ладно, — обнадежил, — попробуем связаться.
Две недели назад мы с Молчановым вылетели в Норвегию. Первый раз за границу. В капстрану! До этого принимали норвежских телевизионщиков. Они снимали фильм о нашем городе. Интересовались обычаями, природой, архитектурой. Мы с режиссером помогали коллегам. Показали лучшие точки для съемок. Познакомили с интересными людьми. Угощали у себя дома. В общем, понравились друг другу. За день до отъезда иностранцы пригласили к себе в Норвегию.
— Это невозможно, — поблагодарив, честно сказали мы.
— Why not?
— Пока не съездят товарищи из обкома, исполкома, прочее руководство, нас никто не выпустит.
— Мы будем думать, — пообещали коллеги.
— Подумайте, — без энтузиазма отвечали мы и через месяц забыли о безнадежном деле.
— Надо же, не обманули! — как-то, вбежав в павильон, радостно сообщил Молчанов.
— Раз-два, раз-два, — я проверяю микрофоны. Готовлюсь вести передачу «Прогресс» о модернизации чего-то в лесу. — Раз-два. СевНИИ изобрел новые снегоступы. Раз-два… и пескоразбрасыватель. Как слышно?
— Пришел от норвегов вызов на два лица!
— Уверен, что лица не наши, — говорю. — Раз-два, раз-два.
— Приглашают нас с тобой!
— До эфира пять минут. Внимательней в павильоне! — кричат с режиссерского пульта по громкой связи.
— Кто ж нас отпустит? Сам подумай.
— Правильно мыслишь, — сбавил голос Молчанов, — я все выяснил. Бодяга тянется уже месяц.
— Какая бодяга?
— Ну, переписка с норвегами. Мне Лариска сказала (Лариса Павловна — секретарша председателя). Говорит: «Руководство желало посетить заграницу с товарищами из обкома, но норвежцы заартачились». Оказалось, стойкие ребята. Уперлись рогом. Сказали, примут вначале нас с тобой, а затем начальство. Так что готовься. Я все узнал, через месяц едем.
— Вот это прогресс в лесном хозяйстве! Тьфу-тьфу-тьфу! — чтоб не сглазить, вместе барабаним по деревянной столешнице.
— Кончайте бить по столу! — заорали с режиссерского пульта. — Микрофоны уже включены. Вы что, обалдели?
Пришлось отойти в сторону. Молчанову не терпелось тут же обсудить детали.
— Вояж должен быть максимально полезным, — сказал он.
— Разумеется, — соглашаюсь я.
— Подойдем к этому серьезно.
— Что ты имеешь в виду?
— Сделаем бизнес. Используем шанс на все сто.
— Понятно, — говорю, — наберем водки. Там поменяем на что-нибудь… Здесь продадим…
— Купим еще больше водки, — передразнил Молчанов. — Мелко плаваешь, Серж, — лицо режиссера посерьезнело.
— Есть идея — организовать совместное предприятие. Слышал, как Абрамчик внезапно поднялся? (Был у нас общий знакомый, талантливый капитан угрозыска.)
— Поднялся? Разбогател, что ли? Говори по-русски.
— Что же еще?
— Каким образом? Неужели, — говорю, — подался в ГАИ? Он же матерый сыскарь.
— Был милиционер, — сказал Молчанов, — а стал миллионер. Полгода как уволился. Взял кредит, закупил вагон пиломатериалов и отправился с ними на Украину. Там поменял доски на вагон сахара.
— Нагнал самогонки…
— Подожди ты. Вернулся. Погнал вагон в область. Там сахара года два не видели. Начал менять у аборигенов песок на ягоды. По-честному: килограмм на килограмм. Затоварился клюквой, морошкой, черникой, брусникой и продал все это финнам. Что в сухом остатке?
— Долги и бега. Что еще? Дай хотя бы дочитать сценарий…
— Ошибаешься. Вернул кредит и рассчитался с банком — раз, — начал загибать пальцы Молчанов. — Однокомнатная квартира вместо милицейской общаги — два. И почти новенькая «Вольво-740» в гараже — три.
— Да ну?
— Нуда.
— Надо подумать, — говорю, пытаясь сосредоточиться на тексте.
— И чего? — не уходит Молчанов.
— В смысле?
— Чего мы здесь стоим?
— А-а, — листаю последние страницы.
— Поехали к Абрамчику!
— Разумеется, — дочитываю сценарий.
— Пусть научит, как заняться делом. Не век же вкалывать за копейки. Поехали!
— Извини, у меня тут одно дельце.
— Кончайте базар. Внимание! — вновь закричали с пульта. — Даем обратный отсчет. Где ведущий программы?
— Как всегда, на месте, — отвечаю в микрофон. — Последнюю отведу, — шепчу Молчанову, — и все. Иди же. У меня — эфир.
Через неделю Молчанов организовал встречу с Абрамчиком.
— Йес, — подтвердил бывший милиционер слухи о своем внезапном обогащении. — Все так и было. Приятель из Мурманска научил. Я рискнул и не ошибся. И вы не дрейфьте, мужики. Вот я из органов ушел…
— И как?
— Жалею, конечно. Что поздно. Сейчас такое время. Перестроечное. Надо ковать железо быстро. Только вот что, — голос Абрамчика сделался официальным, — договоримся сразу. Эту тему я застолбил.
— Какую?
— Ягоды. В будущем году открою пункты для сдатчиков во всех райцентрах. Вас в партнеры…
— Мы согласны.
— Не приглашаю.
— Понятно, — говорим.
Ягоды, значит, не трогать. Ладно, пусть Абрамчик занимается. Будем искать свой путь в искусстве.
— Может, возьмемся за грибы? — наугад предложил Молчанов. За границей в лесах, поди, ничего нету.
— Естественно, — говорю, — откуда. Неспроста вагон ягод у Абрамчика оторвали с колесами. Там же капитализм. Истощение ресурсов.
— Последняя стадия, — добавляет Молчанов.
— А ягоды, грибы растут даром. Не надо сеять, ухаживать, выращивать. Вся прибавочная стоимость твоя. Помнишь старика Маркса? — спрашиваю.
— А как же.
— Почему ж капиталистам не захапать бесхозное добро?
— Логично, — отвечает Молчанов.
— Думаю, там не только ягодники изведены. Грибницы давно порушены.
— Порушены? Да выдраны с корнями! В лесах — пустыня.
— У них же — все на потребу, — говорю.
— Ничего святого, — соглашается Молчанов.
Короче, остановились на грибах. С трудом достали редкие в то время методички по бизнесу. Почитали (новое дело все же). Из теории выходило, что надо провести маркетинговые исследования. «Не проблема» — кажется, так отвечают настоящие бизнесмены на любые вызовы рынка.
В ближайшие выходные отправились в лес. Полдня скитались по замшелым валежникам и топким болотам. Собирали будущий экспорт. Молчанов набрал полкорзинки. У меня — чуть меньше ведра. Всё ссыпали в одну кучу. Отдышались, прикинули — бизнес непростой. Ох непростой. Но попробовать можно. Надо же с чего-то начинать. Почему не с грибов?
За месяц одолели все процедуры увязок и согласований. Оформили паспорта, купили билеты, собрали вещички.
Весьма кстати в это время открылось авиасообщение между нашим городом и норвежским Киркенесом. Теперь мы могли лететь в Скандинавию с короткой дозаправкой в Мурманске. Практически напрямую. Более того, нам выпала честь быть первыми авиапассажирами международного рейса.
Но об этом мы узнали не сразу.
Чтобы оформить командировку, взяли с собой исходные материалы незаконченного фильма. В общем, «направлены», как было сказано в приказе, «по обмену опытом и для монтажа…».
Знакомый шеф норвежской телекомпании Ренинг Свенсон в официальном приглашении обещал все устроить: встретить, поселить, дать студию с монтажным оборудованием, развлечь и даже выписать какой-то гонорар. В общем, ждали нас четырнадцать дней жизни в развитом капитализме, а затем, что самое важное, крупный международный (нет — трансконтинентальный!) грибной бизнес. За это и выпили, оторвавшись от земли.
— За грибы!
Сначала в целом. Потом за белые, подосиновики, подберезовики, рыжики, маслята…
— А за грузди?
— Ну, за грузди. За грузди обязательно!
Затем подошла стюардесса. Сделала замечание. За стюардессу, естес-с-с-твен-но, пили стоя.
В самолете было несколько пассажиров. В Мурманске они вышли. И оказалось, что в Норвегию летим мы вдвоем с Молчановым. Пока самолет ждал дозаправки, нас пригласили в отделение транспортной милиции. Затем там же появились встревоженные сотрудники аэропорта. Культурно и вежливо попросили не усугублять.
— А в чем дело, товарищи?
Объяснили, что в Киркенесе намечается большое торжество, посвященное открытию новой авиалинии. И у руководства есть серьезные опасения, можем ли мы достойно представлять настоящих советских пассажиров.
— Предупреждать надо, — говорю. — Мы бы готовились как-то по-другому.
— Передайте вашему руководству, что лично я не могу пр-пр-дставлять, — вдруг заявил Молчанов и сделал так: — Фр-фр-ффр. — Я не могу взять на себя такую ответственность — фр-фр-ффр. — Затем он принял позу крупного бизнесмена, глубоко затянулся «Примой», выпустил пару колец и сказал дурным голосом избалованного миллионера: «Отвезите меня на авто».
Сотрудники аэропорта начали консультироваться с начальством по телефону.
— Оно и к лучшему, — неожиданно согласилось руководство. — Отвезем. Благодарим за понимание.
И оказалось, что в Норвегию лечу я один.
Сознательного Молчанова администрация обещала доставить в Киркенес сегодня же, автомобилем.
Прощаясь, режиссер попросил меня выгрузить его чемодан с пленками в Киркенесе.
— И не уезжай без меня, понял? А то, — он сделал козу и игриво ткнул мне в бок, — забодаю, забодаю, забодаю…
— Догоним ваш самолет на машине, — пообещала администрация.
— Хочу, чтоб перегнали, — заявил Молчанов служащему в форме. — А то забодаю, забодаю, забодаю…
«И чего, — думаю, — задержали человека. Главное, все помнит. Шутит. Про чемодан десять раз повторил. Сообразил неплохо насчет авто. И вообще. Кто здесь нетрезвый? Да вы нас в Воркуте в прошлом году не видели».
Ого! В Киркенесе цветы, музыка. На здании аэропорта транспарант: «Добро пожаловать, русские друзья!»
Новый рейс все же. А я как-никак первый воздушный гость. И, главное, единственный. Языка не знаю, что делать — не понимаю. Хорошо, что норвежцы на плохом русском объяснили, куда двигаться. Думаю, специально выучили несколько фраз к нашему приезду. Получилось, что к моему.
Служащие помогли с вещами. Поднесли два чемодана: мой небольшой и огромный пластмассовый Молчанова.
— Что там? — спросил его перед отлетом. — Тяжеленный.
— Да так, — говорит, — материал для монтажа. Кассеты.
На паспортном контроле битком народу. Администрация с цветами. Журналисты направляют камеры и микрофоны. Кричат из-за ограждений, не дожидаясь завершения технической процедуры.
— Здравствуйте. Как долетели? — слышу перевод.
— Хорошо, — говорю, прикидывая, где здесь туалет.
— Цель вашего приезда?
— Культурная, — отвечаю, стараясь глубоко не дышать на пограничника. Он долго изучает удостоверение личности.
— А конкретно?
— Будем заниматься совместным творчеством с норвежскими коллегами.
— То есть? Что вы планируете делать?
— Собираемся снимать и монтировать фильм.
— О чем?
— Документы в порядке, — говорит пограничник по-русски, — присмотревшись внимательней, тихо добавляет: — Туалет направо.
— О чем фильм?
— О крепнущих культурных связях норвежского и советского народов, — говорю.
— Нельзя ли конкретней?
— Как, еще конкретней? — к горлу подступает резкая тошнота. С усилием делаю вдох. Выкладываю все, что слышал в репортажах наших корреспондентов о прибытии советской интеллигенции в зарубежные государства. — Мы соседи. Лучшее, что есть в наших традициях, мы должны передавать друг другу.
— То есть?
— В совместных творческих поисках будем находить путь к взаимопониманию.
— О господи. Сплошная чушь, — сказал какой-то корреспондент по-русски. — Вы правильно его переводите?
— В вашей стране к власти пришел Горбачев. Будущее СССР социалистическое или капиталистическое. Как вы считаете? Какое?
— Светлое, какое еще.
Ну, думаю, все. Теперь стошнит.
— В чем ваша миссия?
— В этом наша высокая миссия художников, — направляюсь в сторону туалета. — В этом наше творческое предназначение.
Чувствую, снизу подпирает. Еще пару вопросов — и запросто могу испортить дорогие заморские микрофоны. Пытаюсь двигаться дальше. О боже, еще какая-то проверка.
У вставшего на пути таможенника интересы оказались более приземленными:
— Наркотики, оружие, фодка есть? — мягко уточнил он, стараясь не нарушить доверительную, праздничную атмосферу. Таможенное начальство приветливо улыбнулось. Репортеры притихли. Как-никак особый пассажир.
— Есть, — говорю тихо, — немного водки.
— Пожалуйста, сколько бутылок?
Открываю чемодан, показываю.
— Четыре.
— Можно дфе, — любезно говорит таможенник и смотрит на руководство. Те кивают — «пропусти».
— Пожалуйста, можно закрыфать чемодан.
Закрываю.
— А в этом, — показывает на объемный багаж Молчанова, — фодка тоже есть?
— Не знаю.
— Это фаш чемодан?
— Мой.
— Фодка?
— Не знаю. Не я упаковывал.
— Кто же?
— Жена, дочь…
— Пожалуйста, откройте.
Открываю и тут же захлопываю крышку. Мать честная! Родной город остался без спиртного. Таможенник обалдевшими глазами смотрит на начальство. Корреспонденты, почуяв жареное, еще ближе поднесли осветительные лампы. Нацелили на чемодан камеры и фотоаппараты.
Открывать? Пересчитывать? — глазами спрашивает таможенник руководство. Те опускают головы, давая понять: не стоит. Рядом дипломаты, чиновники, высокопоставленные гости. Впереди начало деловых отношений. Восстановление дружественных связей. Не надо.
Таможенник сам помогает мне защелкнуть замки.
— Спиртное можно дфе бутылки, — недовольно твердит он, давая понять, что при других обстоятельствах ни за что бы не пропустил. — Идите, пожалуйста.
Наконец, встретились с Ренингом. Он стоял позади официальных лиц, дожидаясь окончания торжественной церемонии. Обнялись. Сунул ему часть букетов и чемодан.
— Где господин Молчанов? — обеспокоенно спросил он. С ним что-то случилось?
— Ничего страшного. Должны доставить машиной.
— Доставить? Он что, груз?
— Не совсем. Думаю, фифти-фифти.
Объяснил ситуацию. Часа три пришлось ждать. Молчанова доставили до границы на милицейском уазике. Почти трезвого. Пропустили через контроль и таможню. Все устроилось. Поехали.
Какая красота. Ровное темно-серебристое шоссе. Без ям, с хорошей разметкой. Мчимся на немыслимой у нас скорости. Вдоль дороги мелькают какие-то небольшие камни. Аккуратные, красные, бурые, желто-коричневые, похожие на шляпки грибов. Я толкаю Молчанова в бок. Мы долго вместе всматриваемся в мельтешение цветных кружочков. Наконец, просим Ренинга остановить машину. Он припарковался не сразу. Остановился после разрешающего знака. Выходим — мама родная, кажется, мы не ошиблись в худших своих подозрениях. Вдоль шоссе и далее везде — полно грибов. Подосиновиков, подберезовиков, моховиков. Такого я еще не видел. Кажется, вся твердь земная до самого горизонта усеяна грибами. С кислыми минами возвращаемся обратно. Ренинг не понимает, что нас так расстроило. Молчим. Только когда автомобиль остановился у дачи Ренинга и мы направились к дому по дорожке, окруженной разноцветными шляпками, спрашиваем:
— Ренинг, почему никто не собирает грибы?
— А зачем?
— Их можно варить, солить, жарить. Можно насушить, а зимой приготовить грибные соусы или грибовницу.
— Что это?
— Грибной суп.
— В магазине полно грибов, — просто отвечает Ренинг. — И соленых, и маринованных, и свежих. А уж соусов — десятки видов. У нас никто не собирает грибы. Разве только олени. Всё можно купить в магазине.
— Накрылся бизнес, — тихо сокрушается Молчанов. — Будто ногой дали под дых.
— Да, — говорю, — зря приперлись.
У Ренинга отличная двухэтажная дача из оцилиндрованного бруса. На первом этаже кухня, гостиная, рабочий кабинет, туалет, душ, несколько кладовых. На втором — три спальни и еще что-то.
Вид из окон изумительный. Мы сидим в гостиной, цедим пиво, закусываем вяленой олениной. Через огромные панорамные стекла видим изумрудный газон, тихую гладь залива, могучие скалы в туманной дымке. Молчанов задумчив. Он никак не может отойти от внезапного удара, нанесенного коварным империализмом. Мысли его продолжают работу в одном направлении.
— Может быть, откроем что-нибудь другое? Типа экологической рыбалки, — наконец тихо говорит он.
— Хотите порыбачить? — переспросил Ренинг, доставая из гигантского холодильника очередную упаковку пива. Он неплохо говорил по-русски. Все понимал. — У нас отличная рыбалка. Сейчас убедитесь. Смотрите, — показал он в окно.
К воде нервной, отрывистой походкой спускался какой-то человек. В оранжевых сапогах, куртке ярко-красного цвета, фетровой шляпе и с коротким удилищем в руке. За ним спешила женщина с ведром. За ней, осторожно ступая на камни, лениво двигалась собака.
— Смотрите, — говорит Ренинг, — это немец. Сейчас опять будет смешно. Я уже два дня наблюдаю.
Смотрим. Немец подошел к воде, быстро отмотал леску и резким движением закинул блесну. Потом еще и еще раз. С третьей попытки удилище напряглось, затем сильно изогнулось. Кажется, попался неплохой экземпляр. Немец стал быстро наматывать леску. Затем несколько раз ослаблял ее и подматывал снова. Наконец, он вытащил на берег довольно крупную рыбину. Она заплескалась на камнях, сверкая чешуей в отблесках вечернего солнца.
— Ого, килограмма три, не меньше, — удивился Молчанов.
Немец отцепил рыбину. Небрежно отбросил в сторону.
Жена подобрала и затолкала добычу в ведро. Но рыбак выхватил и швырнул улов подальше.
Он вновь закинул блесну и сразу же удачно. Через пару минут у его ног трепыхалось несколько увесистых экземпляров. Немец был явно недоволен. Даже собака не проявляла никакого интереса к добыче. После четвертой удачной подсечки немец что-то начал выговаривать жене. Затем пнул ногой ведро, бросил спиннинг и пошел обратно. Жена столкнула улов в воду. Подобрала снасти, ведро и увязалась за мужем. За ними, рыча и чертыхаясь, поплелась собака. Ренинг смеялся:
— Я вам говорил…
Ничего не понимаем.
— Это Курт. Мы с ним вчера познакомились. На рыбалку он приехал из Германии. В рекламе обещали хороший лов семги. А ему попадается только сайда. Сейчас опять пойдет разбираться в местную туристическую компанию. Понимаете?
— Рыба, что ли, несъедобная?
— Сайда? Почему же?
— Тогда в чем дело?
— Он хотел семгу, — терпеливо начал объяснять Ренинг. — Пусть маленькую, но семгу. А не большую сайду. Понимаете?
Мы этого не понимали. То есть начали догадываться, что с приглашением иностранцев на рыбалку в Россию тоже может не сложиться.
— Ничего, — позже, уже ночью, сказал Молчанов. — Чего-то же у них нет. Как думаешь, Серж?
— Естественно, — все менее уверенно соглашался я. — Разберемся, где загнивает.
На следующий день Ренинг отвез нас в небольшой городишко на севере Норвегии. Что-то вроде нашего Нарьян-Мара. Только компактней, современней и гораздо чище. Поселили в уютном коттедже на берегу озера, неподалеку от телецентра. Он-то и поразил больше всего.
Небольшая студия, как оказалось, была напичкана огромным количеством современной техники. Новенькие камеры «Бетакам», два вместительных павильона, несколько аппаратных для монтажа. Сотрудники ходили в удобных фирменных полуспортивных костюмах. Некоторые лежали в кабинетах на мягких ковровых покрытиях. На полу перед ними стояли мониторы с клавиатурой. На кухне в металлических термосах томился горячий кофе. В бесплатном буфете печенье, крекеры, орешки. В холодильнике — бутерброды. В автомате — холодное пиво. Нас сразу предупредили, что оно за деньги. Внизу сауна с небольшим бассейном. Заглянули. В разгар рабочего времени там плескались какие-то девицы. На стульях — небрежно брошенная телевизионная форма. Мы ходили с открытыми ртами, то и дело протирая глаза. Закончив осмотр студии, подавленные, вернулись в директорский кабинет. Он ничем не отличался от комнат рядовых сотрудников. Открытая настежь дверь, стандартный набор мебели, компьютер, пара мониторов. Все просто и функционально. Как и остальные сотрудники, директор носил фирменный полуспортивный костюм. Держался по-свойски, без руководящего чванства.
— Понравилось? — спросил через ассистента, изучавшего русский.
— Нет, — говорим.
— Почему? — брови удивленно взметнулись.
— Здесь невозможно работать.
— Вот как?
— Сауна, пиво, девочки… Всюду диваны, мягкие кресла…
— Так и мучаемся, — улыбнулся директор. — Какие есть пожелания?
— Нам бы монтажера, — говорит Молчанов.
— Зачем? Можете работать сами. Выделим аппаратную.
— Нет, с вашей техникой не разобраться.
— Не проблема, — директор нажимает кнопочку и приглашает кого-то в кабинет.
Заходит молоденькая девушка, спортивная, ладная. Весело улыбается.
— Знакомьтесь, Эрика, — говорит директор. — Она поможет с монтажом.
— С удовольствием с вами поработаю, — улыбается Эрика, пожимая нам руки. Ладонь у нее маленькая, сухая, крепкая. — Составьте удобный для вас график на неделю. Потом обсудим. Я могу идти?
Еще раз улыбнувшись, Эрика вышла.
— Что еще?
— Надо бы доснять несколько планов на натуре. Природу, лес, фиорды, — осторожно начал Молчанов. — Как у вас…
— Нужен оператор?
— Да.
Директор вновь нажал кнопку. Появилась Эрика.
— Эрика, помоги коллегам выполнить съемки на натуре. Эрика — прекрасный оператор, — повернувшись к нам, сказал директор.
Эрика улыбнулась:
— С удовольствием. Только заранее спланируйте время.
Дружески кивнув, она снова вышла.
— Что еще? Не стесняйтесь.
— Потребуется еще звукорежиссер и осветитель, — говорю. — Мне надо начитать текст и сделать пару стендапов.
Директор вновь нажал кнопочку — появилась Эрика.
— Чем еще могу помочь? — улыбается.
— Эрика поставит свет и запишет звук, — сказал директор. — Она прекрасный специалист. Качеством вы будете довольны.
— Без проблем, — соглашается Эрика. Она так и не расставалась с улыбкой.
— Что еще? — после ухода Эрики спросил директор.
— Автомобиль.
— Пожалуйста. У вас есть права?
— Лучше с шофером, — обнаглели мы.
— Джип устроит?
— Более чем.
— Пригласить водителя? — улыбнулся директор. — Или дадим Эрике немного поработать?
В конце беседы директор поинтересовался, не будем ли мы против, если за время командировки нам немножечко заплатят? «Мы знаем, что для вас здесь все очень дорого».
Мы начали категорически возражать. То есть, немедленно согласились.
Вечером — еще одно потрясение. Директор выдал нам ключи от телестудии:
— Можете работать и ночью, если потребуется.
Мы онемели.
Десять лет я не мог войти в родной телецентр без пропуска. Хотя ведущие телепрограмм были известными людьми. На улице меня узнавали. За столик в ресторанах и кафе то и дело подсаживались благодарные телезрители. Мои программы ценили даже сотрудники нашей охраны. Но мы не могли пройти в студию без бумажки с фотографией.
— Это я, — говорил я вахтерам, — я.
— Мы знаем, что это вы. Но где пропуск?
— Я тут работаю. Мне надо срочно.
— Мы тоже здесь не просто так. Не положено! Отойдите в сторону!
Приходилось возвращаться домой за пропуском. За утрату красной корочки с черным тиснением «Телерадиокомитет» могли лишить премии или того хуже.
А здесь — оборудования на миллионы долларов. И, пожалуйста, вам ключи. Работайте. Пользуйтесь. И никаких пропусков. Что самое противное — в нас так въелась многолетняя советская подозрительность, что мы с Молчановым внутренне такого поведения норвежских коллег не одобряли. Ну совсем не одобряли.
— Как так? — хотелось крикнуть этим простофилям. — А вдруг… А что если…
— Не, они ненормальные, — резюмировал дневные впечатления Молчанов.
Мы лежим в мягких постелях на втором этаже выделенного нам коттеджа. Стены обиты деревянными панелями. Обработка дерева идеальная, полы без трещинки. Внизу остатки ужина. Холодильник доверху забит едой — презент от коллег…
— Пропаганда. Пыль в глаза пускают, — в который раз выражает смутные сомнения Молчанов.
— Ясное дело — неспроста.
— Завтра скажут, что техника сломалась или монтажная занята.
— Как ее, — говорю, — Эрика заболела.
— А девчонка ничего.
— Ничего.
— Жалко, если заболеет.
— Да-а. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи. — Молчанов натянул на голову одеяло. — Будем ждать подвоха.
— Да-а.
Невероятно! За всю неделю мы ни разу не отклонились от первоначального графика съемок и монтажа.
С Эрикой работалось легко и просто. Мы почти не употребляли спиртное. Не хватало времени. Из-за плотного графика каждый день надлежало быть в форме. Привезенную водку раздарили сотрудникам компании. Фильм, который у нас монтировался бы месяц, мы сделали за семь дней. И это с дополнительными съемками и озвучанием!
Каждый день перед сном Молчанов грезил:
— Представляешь. Нам бы такую видеокамеру, монтажную. Все это в Россию.
— Да, — говорю, — чтоб можно было загрузить в машину и рвануть в любое время без предварительных заявок, без цензоров, без руководящей и направляющей… Мы бы такое кино сняли!
Мы лежим и представляем, какое замечательное кино можно снять с такой фантастической техникой.
— Серж, — мечтательно интересуется Молчанов, — у тебя имеется свободная камера и джип «Ленд Ровер»?
Засыпая, я почему-то вспомнил Толика, моего приятеля по одесскому институту. Мы стоим в очереди возле Дворца спорта на улице Шевченко. Скоро на гастроли приезжает ансамбль «Веселые ребята». Еще с вечера за билетами у касс выстраивается длинная очередь. Ледяной январский пронизывающий ветер. Толик замерз, посинел. Скачет на месте, пытаясь согреться. Я отхожу в сторону, чтобы покурить. Толик приближается ко мне и спрашивает:
— Ты замерз?
— Замерз.
— И у меня зуб на зуб не попадает.
— Серж, можно вопрос?
— Валяй.
— У тебя, извиняюсь, есть кальсоны?
— Нет, — отвечаю.
— У меня тоже, — задумчиво говорит Толик и возвращается в очередь.
Утром приезжаем в общагу. Идем в душ, чтобы согреться. Окоченевшими пальцами Толик с трудом снимает брюки. Вся кожа в пупырышках. Ноги фиолетовые. Мать честная!
— Толик, так у тебя и трусов нет?!
— Что значит нет, — возмущается Толик. — Просто я их вчера постирал. Еще сохнут.
— Серж, я извиняюсь, есть у тебя джип «Ленд Ровер»? — сквозь сон доносится голос Молчанова.
После окончания работ у нас в запасе несколько свободных дней. Решили использовать их для изучения возможного бизнеса. Что мы с неудовольствием обнаружили: в окрестностях поселка, в двухстах метрах от крайних домов, полно черники, голубики, морошки. В болотцах наливалась соком отборная клюква. Брусника томилась в ожидании сборщиков ягод. Грибов — уйма. И ни одного (ни одного!) охотника за дарами природы.
Два оленя, два пожирателя грибов, вскоре начали бродить в окрестных лесах. С огромными коричневыми торбами они шлёндали по близлежащим перелескам и рощам. В светлые, будто молочные, ночи их часто видели местные жители. Два крупных самца, два русских лося — я и Молчанов. Мы жарили, парили, варили и тут же съедали грибы в огромных количествах. Во-первых, вкусно. Во-вторых, и главное — не надо тратиться на продукты. Как-то обнаружили в доме старый, испорченный электрогриль. Отремонтировали, приспособили и насушили за несколько дней по две вместительных наволочки боровиков. И все это без многочасовых поездок за город, без тряски в душных вагонах, без сна на заиндевевшей траве, без преодоления торфяников и буреломов, без обязательного физического надрыва. По грибы в домашних тапочках — фантастика!
Окончательно нас добило огромное количество живых существ в тех лесах: часто встречались зайцы, лисицы, ежи, и даже несколько лосих с телятами попадались на глаза. Глухари иногда шуршали над головой, тетерева пугали неожиданным взлетом. Такого изобилия дичи ни за что не встретить в наших почти безжизненных лесах. Еще одно невероятное зрелище. Как-то во время съемок в центре поселка под деревянным мостом мы заметили необычные темные поленья метровой длины. Они вяло шевелились и нехотя двигали хвостами, оставаясь на глубине. Шевелящиеся древесные стволы! Поленья, избегающие солнца!
— Мать честная, да это же семга! Семга! — закричали мы.
— Эрика, смотри, семга!
— Да, семга, — спокойно ответила Эрика, даже не взглянув с моста. — А что там должно быть, по-вашему?
Мы осмотрелись. Где люди? Ау? Где мужики с вилами и сетями? Бабы с корзинами и мешками? Пацаны с камнями и динамитом? Ну хоть бы кто остановился!
— Дикие люди, — возмущался Молчанов, сбегая к реке (против инстинкта не попрешь), — тупые капиталисты! Им лень наклониться, схватить и вытащить за жабры вот эту вот толстую, жирную, вкусную красную рыбу. — Рискуя свалиться, Молчанов завис над рекой.
— Никакой инициативы, — соглашаюсь я. — Полная атрофия чувств.
— Загнивающий капитализм!
— Все, как предсказывали классики.
— Ну полный упадок! — кричал снизу Молчанов. Рыба даже не пыталась отплыть в сторону. — Нет, я определенно здесь рехнусь.
— А между тем, сэр, еще одна страничка нашего бизнес- плана окончательно зачеркнута суровой рукой капиталистической действительности, — кричал я с моста.
— Ты о чем, сэр?
— Семужьей рыбалкой однозначно к нам не заманить.
— Согласен. Ни хрена не поедут, сэр! — отвечал снизу Молчанов.
С доисторическим азартом он пытался клюкой поддеть жирную заморскую рыбину за серебристое брюхо.
Несолоно хлебавши собираемся в обратный путь. Фильм готов, а вот с бизнесом абсолютная неясность.
В освободившиеся из-под водки чемоданы заталкиваем наволочки с сушеными подосиновиками и боровиками.
— Слушай, а с этим лешьим мясом дело все-таки может пойти, — вдруг задумчиво произносит Молчанов.
— О чем ты говоришь, — отмахиваюсь я. — Грех смеяться над бедными людьми.
— Почем у нас грибы на рынке? — не унимается Молчанов.
— Тебе зачем? На зиму мы с головой обеспечены.
— А сколько может стоить доставка, например, вагона грибов из Норвегии в Россию?
— Так, так, так, — наконец до меня стало доходить.
Мы присели возле открытых чемоданов. Прикинули. Наклевывались интересные варианты. В общем, по возвращении надо будет все хорошенько обдумать…
На прощание в бухгалтерии нам выдали по пачке крон. Директор студии извинился. «У нас скромный бюджет и небольшие возможности». В уме мы быстренько перевели кроны в рубли. Получалось, нам вручили годовую зарплату!
— Слушай, — по дороге в аэропорт выдохнул потрясенный свалившимся богатством Молчанов, — а зачем нам грибы? С такими деньжищами лично я намерен остаться в искусстве. А ты?
Рановато, конечно, он это сказал. В тот же день свою долю Молчанов по рассеянности забыл в аэропорту. Хотя, строго говоря, в этом была и моя доля вины.
На таможне снова довелось понервничать.
Служащий меня узнал. Тут же спросил:
— Фодки нет?
— Нет, — улыбнулся я и широко распахнул чемодан.
— А это что? — у таможенника снова, как при первой нашей встрече, округлились глаза.
Рядом с грибами я упаковал три пластиковые двухлитровые канистрочки. Они были невесомыми, чистыми и пустыми. В них мы с Молчановым покупали жидкий брусничный концентрат. Его разводили водой из-под крана. Получался отличный морс. Три пустые канистры с широкими удобными горлышками я решил взять с собой. Это сейчас пластиковых бутылок — горы на каждой свалке. А раньше таких и не видывали. Думаю, пригодятся. Буду возить в них с Украины повидло. Вишневое, грушевое, абрикосовое. Можно варенье, самогон, мед. А то таскаешь через всю страну мутные трехлитровые банки. И тяжело, и непрактично. А тут — легкая, удобная, прозрачная бесплатная тара.
— Зачем фам пустые емкости? — спрашивает таможня.
— Надо, — говорю.
— Фы можете объяснить, что в них?
— В пустых канистрах?
— Да.
— В которых ничего нет?
— Да, так.
— А вы как думаете?
— Думаю, они не дейстфительно пусты.
Разговор принимал шизофреническую окраску. Откуда-то срочно явился переводчик. Энергичный и шустрый:
— Что в канистрах?
— Говорю вам — ничего. — Объяснять, что в СССР нет пластмассовой тары, как-то, думаю, унизительно и непатриотично.
— Фы еще тогда показались мне сомнительным человеком, — напоминает таможня.
— Когда это? — не понял переводчик.
— Да перевез он недавно через границу ящик водки, — объяснил Молчанов. — Подумаешь.
— А-а.
— Сейчас мои потозрения усилились, — сказал таможенник. — Они не пустые.
— Давайте отвинчу крышку, — говорю. — Посмотрим.
— Не прикасайтесь, — рука в
белой перчатке легла на чемодан.
Таможенник что-то начал объяснять переводчику.
— Он хочет вызвать экспертов, — коротко перевел тот.
Потом они долго куда-то звонили. Наконец явились какие-то люди в голубых халатах. Взяли мой чемодан с грибами и пустыми канистрами. Куда-то отнесли, предварительно натянув резиновые перчатки. Через час вернули чемодан, рядом поставили канистры. Сказали что-то таможеннику, развели руками и извинились. Помню немое удивление таможни: «Эти странные, загадочные русские зачем-то вывозят из страны пустую тару. Наверное, взяли откуда-то пробы воздуха. Думают, опять перехитрили. Не вышло». Чтобы хоть как-то досадить, признается язвительно:
— Мы продули фаши бутылки.
— Вот как? — Я делаю огорченное лицо: задание сорвано, все пропало, предстоит трудное объяснение с Центром. И все же складываю канистры обратно в чемодан.
— Проходите, пожалуйста.
Наконец заветная дверь на летное поле открылась, и мы бросаемся к родному самолету. На радостях Молчанов забывает портмоне. Обнаруживает пропажу только после дозаправки в Мурманске.
Як-40 летит на высоте нескольких тысяч метров. Мы возвращаемся домой. Молчанов то и дело наведывается к пилотам. Что там? Есть ли новости?
Наконец, через мурманских диспетчеров летчики связались с Киркенесом. Дежурному норвежского аэропорта подробно объяснили, где могут быть деньги.
— Пусть на стойке посмотрит, на стойке, — горячится Молчанов.
— Хорошо, — неторопливо говорит дежурный. — Схожу посмотрю.
— Он посмотрит, — передали нам по цепочке мурманчане.
Десять минут томительного ожидания. Наконец приходят обнадеживающие сведения. Вернулся дежурный и сказал:
— Да, там, на стойке регистрации, лежит черное портмоне.
— Он его взял? — не выдерживает напряжения Молчанов.
— Спросите у дежурного, — просят мурманского диспетчера летчики, — он забрал бумажник?
Пауза. Помехи. Наконец связь восстановлена.
— Нет. Он его не взял.
— Как не взял? Почему?!
— Вы же не просили, — спокойно отвечает норвег. — Но, если надо, я позже его заберу. Перед окончанием смены.
Молчанов взвыл и схватился за голову:
— Нет, они нормальные? Эти тупые, тупые, тупые капиталисты меня доконают.
 (обратно)
(обратно)
Запуск разрешаю!

Как-то позвонил Вася Черный, бывший финансист, из разорившихся. Мы были мало знакомы. Не встречались лет пять. И вдруг звонок. С чего бы? Начал с претензий.
— Зря указал мой домашний телефон на ракете. Говорил же тебе…
Вася, Василий Никитич, давно не работал в банке, но по привычке обращался ко всем на ты. Голос его, как всегда, был глухой и недовольный. Голос для банкира — рабочий инструмент. Злой и раздражительный, к примеру, для безнадежных дебиторов, вредных клиентов и назойливых просителей.
«Банка нет, а голос остался», — успел подумать я.
— Предупреждал же — будут звонить, требовать денег, — продолжал недовольно Вася. — Третий день какой-то чукча донимает. Замучил всех домашних.
— Чукча? В каком смысле?
— В прямом. То ли с Нарьян-Мара, то ли с Койды. В командировку приехал. Каждый час звонит из гостиницы: «Банка? — спрашивает. — Кредит дай, однако. Деньги очень-на нужны. Новая лодка покупать нада».
— Так вроде уже нет банка, — говорю.
— Давно закрылись. А реклама только сейчас сработала.
— Ничего не понимаю. Какая реклама?
— Он номер моего телефона увидел в тундре. На какой-то лодке. А лодка сделана из обшивки ракеты.
— Неужели…
— Ну да, той самой. Вот и звонит.
Мир устроен разумно и правильно. Что бы ты ни делал, чем бы ни занимался, поступки выстраиваются в длинную, непрерывную цепь событий. Связанные тайными нитями, они непрестанно перекликаются, вытекают одно из другого. Жизнь — не дискретные, хаотичные, разрозненные движения (хотя иногда кажутся таковыми), а сплошная, непрерывная линия. Все сделанное когда-то имеет свое продолжение.
Конец двадцатого века. Время рождения массового предпринимательства. На каждом углу броские вывески: кооперативы, банки, фонды, торговые дома. Ваучерами торгуют на улицах и рынках. Везде. В мясных, овощных и даже рыбных отделах. Головы вчерашних советских людей посещают безумные коммерческие идеи. Цель одна — заработать быстро, много и без напряжения. За активными штатскими в бизнес потянулись энергичные военные. Звонит как-то ракетчик Ваничкин, тот самый, с которым я познакомился на космодроме «Песецк», и говорит…
Впрочем, здесь надо сделать небольшое отступление и рассказать о первом знакомстве с Космическими войсками.
Как-то прибыли мы с оператором и звукорежиссером в расположение воинской части для съемок материала о запуске очередного спутника.
— Кто из вас старший? — недовольно спросил начальник космодрома Овечкин. Плотный, рыжеватый, с легкой преждевременной одышкой. Он подошел к нашей съемочной группе внезапно. Застукал на съемках общих планов стартовой площадки. Глебыч, наш оператор, кивнул на меня:
— Вот, редактор.
— Отставить самодеятельность! — приказал Овечкин. — Без разрешения не снимать. Без сопровождающих не передвигаться. Задача такая, — объяснил полковник (в то время космодромом могли командовать полковники)… — Повторяю задачу, — громче сказал полковник, заметив, что я отвлекся, — никаких подходов к ракете. Никаких крупных планов. Никаких интервью. Снимать будете под нашим присмотром. И с наблюдательного пункта.
— Товарищ полковник, — сразу запротестовал я, — оттуда не получится. Это же во-он где. Больше километра.
— Все снимают, и ничего. Вы чем лучше?
Вопрос был правильный. Действительно, телекомпания наша областная маленькая. Не Центральное телевидение. Допустили на режимный объект по звонку председателя облисполкома. Было много жалоб на космодром от местного населения. Мол, наносит ущерб экологии. Отравляет грибы и ягоды. Вот и командировали нашу группу подготовить сюжет, успокоить общественность. Чем мы лучше?
— Товарищ полковник, вы же знаете, Виктор Сергеевич требовал снять все подробно. — Я нарочно упомянул председателя облисполкома по имени-отчеству, чтобы подчеркнуть дружественные отношения с руководством области. Это не произвело должного эффекта.
— Знаю, — перебил начальник космодрома. — Поэтому вы здесь. Будете препираться — выгоним. Повторяю, все съемки — с наблюдательного пункта. Майор Ваничкин, — обратился полковник к кому-то.
Из свиты, сопровождавшей начальника космодрома, вынырнул офицер среднего роста, коренастый, с мощным торсом. Лицо скуластое, глаза большие и веселые.
— Я! — бодро щелкнул каблуками майор.
— Возьмите на себя телевизионщиков.
— Есть!
— И чтоб близко к ракете не подходили. Глаз с них не спускайте. Задача ясна?
— Так точно, товарищ полковник.
— Выполняйте.
— Есть! — майор повернулся к нам, коротко скомандовал: «За мной!»
Мы собрали вещички и не спеша поплелись за Ваничкиным. Надо же, впервые на космодроме, и такое невезение — «снимайте, как все…» Черт дернул попасться на глаза командиру.
Как только свернули за угол какого-то барака, майор внезапно предложил:
— Хотите снять ракету поближе?
— Как сказать, — начал я, опасаясь подвоха.
— Да или нет?
— Естественно! — разом выдохнула вся телевизионная группа.
— Тогда быстро за мной. — Майор взглянул на часы. — Товарищи корреспонденты, обращаю внимание — часы «Ракета». Могу достать всем по сходной цене.
— Сейчас или все же отложим до вечера?
— Замечание принимается. До старта — один час сорок семь минут. Должны успеть. Движемся быстро, скрытно, короткими перебежками, — скомандовал майор. — Не дай бог, охрана заметит.
— Извиняюсь, а они могут стрельнуть? — поинтересовался звукорежиссер. Он недавно пришел на студию из музыкального училища. Ко всему относился всерьез и с опаской.
— Вообще? — переспросил Ваничкин.
— Почему «вообще»? По нам.
— Могут, — легко согласился майор, — на то и поставлены. Но я же сказал — скрытно. За мной!
Согнувшись, майор побежал в лес. Мы за ним. Что удивило — действительно в направлении стартовой площадки.
Мне и раньше армейские порядки казались странными. Вспомнился майор, в принципе — неплохой человек. С ним я встречался в камере предварительного заключения. За десять кубов леса (для своей дачи) он подарил на месяц директору леспромхоза целый взвод бойцов. На суде доказывал, что это солдаты его батальона, и искренне не понимал, за что страдает.
В зоне я брал интервью у бывшего командира полка. Он застрелил свою жену после возвращения из командировки. Полковник приехал внезапно и, как часто бывает в жизни, не вовремя. Хотел сделать сюрприз. Открыл дверь своим ключом… В прихожей стояли армейские сапоги. «Не мои», — удивленно констатировал полковник. Вошел в спальню. На стуле валялись брюки и китель с майорскими погонами. В постели с женой странным образом оказался его замполит. Он быстро вскочил, начал одеваться. Полковник машинально засек время. Замполит надел кальсоны, рубашку, китель. Натянул сапоги. Щелкнул каблуками и спросил:
— Разрешите идти?
— Идите, — сказал командир полка, — автоматически отметив, что майор уложился в тридцать секунд.
Майор отдал честь и вышел.
Оделась жена. Попыталась наладить контакт.
— Ваня, — сказала она, — ты не думай. Я не такая. Ну ты понимаешь…
Полковник не реагировал.
— Я не со всеми, Вань. — Только с офицерами нашего полка. Отличниками боевой и политической… (сказалось длительное пребывание в гарнизонах и тесное общение с замполитом).
Полковник молчал.
— Если бы из другой части, — продолжала жена, — я бы ни за что. Только свои… лучшие.
А вот этого говорить не стоило. Не надо было уточнять, что поощряла своих. Иногда это работает против. Полковник отстранил супругу. Зашел в кабинет. Открыл сейф, достал оружие. Вернулся и выстрелил в жену шесть раз. Столько, как он прикинул, в полку было хороших, надежных офицеров…
— Армия — это сумасшедший дом особого назначения, — любил повторять знакомый десантник. Но тут же делал извинительную сноску: — В нашем ненормальном государстве.
Мы бежали за майором узкими лесными тропами. Обогнули стартовую площадку с юга. Преодолев заграждения из «колючки», снова очутились в районе пуска. Где-то рядом завыла сирена. Зеленые фигурки военнослужащих прыснули в разные стороны и незаметно исчезли в укрытиях. И только наша группа каким-то сложным, ломаным маршрутом продвигалась к назначенной цели. Наконец, ракета оказалась почти рядом. Отчетливо было видно, как клубы пара поднимались от ее основания. Быть может, такой эффект давал жидкий азот, входивший в компоненты топлива. Картина потрясающая. Исполинской величины ракета, огромная стартовая площадка — и ни единого человека, кроме четверых придурков со съемочным оборудованием. Вдруг что-то зашипело.
— Стой! — закричал Ваничкин. — Давай сюда!
Он полез по лестнице на крышу небольшой кочегарки. За ним оператор с камерой, я со штативом и звукорежиссер с магнитофоном. Забравшись наверх, майор опустился на колени и помог втащить наше «железо». Площадка оказалась маленькой, но для съемок достаточно удобной — плоская, ровная, высокая. Окутанная белыми клубами ракета виднелась как на ладони.
— Вот это удача! — закричал я.
— А-а? — переспросил Ваничкин. Шипение ракеты заглушало наши возбужденные голоса.
— Удача, говорю.
— Это ВКС!
— Что?
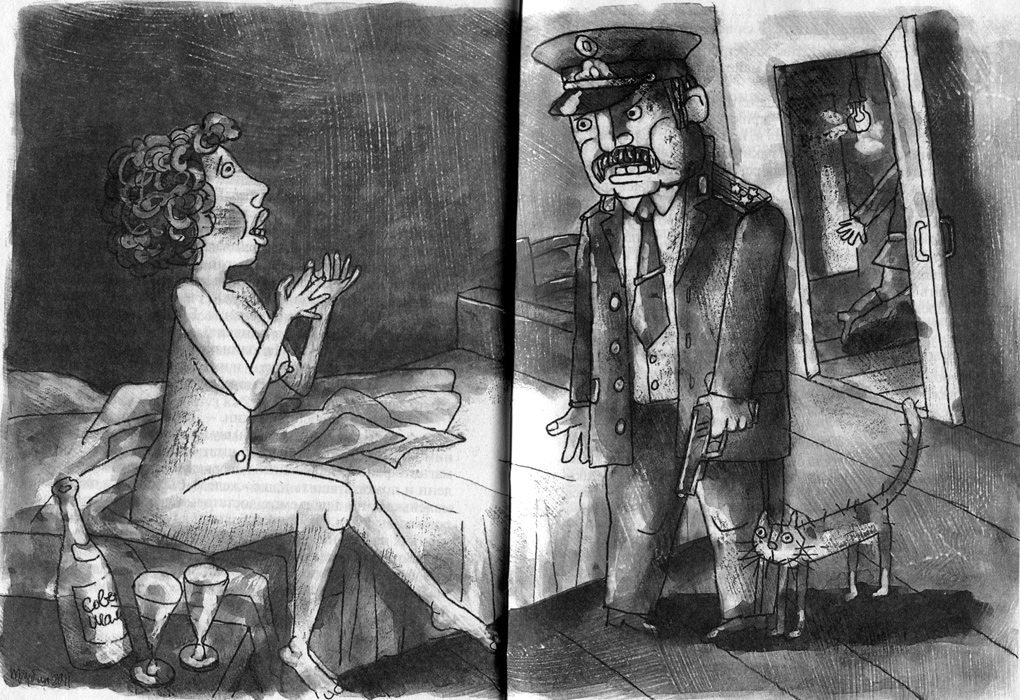
— Военно-космические силы!
Быстро установили штатив, закрепили камеру.
— Как панорама? — закричал майор оператору в ухо. Глебыч показал большой палец.
— С Ваничкиным не пропадете! В титрах укажете: консультант — майор Ваничкин, — крикнул он мне.
— Заметано! — громко сказал я, но голоса не услышал.
Включилось зажигание. Языки пламени вырвались из-под двигателей. В уши ударила ревущая волна. Грохот рвал перепонки. Мачты неспешно, будто нехотя, отклеились от дрожащего корпуса. Ракета поднялась на несколько метров и, слегка покачиваясь, зависла в воздухе. Огромная, она заслонила собой и тайгу, и солнце. Мгновения, когда она решала: лететь или рвануть на старте и разнести все к едрене- фене, показались вечностью. «При таких габаритах, — успел подумать я, — могла бы быть и решительней». Потом все случилось, как в учебном фильме о ядерной атаке. Мощная, будто взрывная, волна ударила в лицо. Сильно толкнула в грудь. Легко приподняла и снесла нас с крыши. Полетел майор без фуражки, я без дипломата, оператор в обнимку с камерой и штативом. Последним свалился звукорежиссер. Он даже не успел раскрыть магнитофон. Лежали, как при бомбежке, укрыв головы руками. Поток раскаленного воздуха обжигал спины.
— Ни хрена себе, — очнулся первым Глебыч, когда гул удаляющейся ракеты стих за облаками. Он рукавом вытер кровь под рассеченной бровью и осмотрел камеру. Линза «Бетакама» дала трещину. — Хана, — сказал Глебыч. — Отснимались.
Он поочередно показал трещину мне, звукорежиссеру и майору.
— А вы как думали, — сказал Ваничкин, отряхиваясь, — Космические войска — это… Это такая мощь…
— Послушайте, ладно мы, штатские. Вы-то должны соображать, — дрожащими губами прошептал бледный звукорежиссер. — Чуть заживо не сгорели.
— Честно сказать, я на запусках бывал редко, — признался майор, разглаживая фуражку, — все больше на сборке.
Наблюдал пару стартов из бункера. Но там все по-другому. А тут… Какая мощь! — возбужденный майор хлопнул меня по плечу. — Мощь?!
— Можете доложить командиру, — говорю, — что мы ничего не сняли. Он будет доволен.
— Это само собой, — как ни в чем не бывало согласился майор, — доложим, без лишних подробностей. Мол, приказ выполнен. Ничего лишнего не снято.
Так мы познакомились с Ваничкиным.
Через два года он разыскал меня в областном центре. Увидел по телевизору. Я был ведущим передачи. Ваничкин позвонил в редакцию общественно-политических программ. Встретились. Первым делом спросил, не заметил ли я чего новенького. Я поздравил. На его погонах вместо одной майорской красовались две звезды подполковника. За это и выпили через несколько минут «под танком». Так неофициально именовали кафе, расположенное рядом с английским танком. Он был отбит у белогвардейцев в Гражданскую войну и поставлен в центре города как памятник-трофей. Такие монстры встречались на кадрах военной кинохроники времен Первой мировой. Огромный танк с большими гусеницами в форме параллелограмма и непропорционально маленькой пушкой. Еще из танка высовывались стволы пулеметов. Они торчали из небольших углублений в толстой броне.
— Знаешь, как называются эти выемки? — как-то спросил режиссер Марлен Хуциев, когда я показывал ему достопримечательности города. Он долго ходил вокруг танка с какой-то брошюрой и с удивлением осматривал чудо английской техники.
— Понятия не имею.
— Спонсоры. Так здесь написано. — Хуциев улыбнулся. — Если будут просить в долг, можешь отвечать — денег нет, но имеется неподалеку пара английских спонсоров.
— Денег нет, но есть потрясающая идея, — задолго до этого сказал мне подполковник Ваничкин в кафе «под танком».
— Мы обсудили ее с нашими, — Ваничкин неопределенно показал куда-то вверх. — Короче, решили перестраиваться. Ведь армия должна как-то участвовать в процессе? Соответствовать духу времени. Согласен?
— Согласен. Только говори конкретней.
— Есть идея заняться рекламным бизнесом.
— Как это ново!
— Наружной рекламой.
— Ясно.
— Подумай где? — Ваничкин стал ждать. Но хватило его ненадолго. — На ракете! — выпалил он и застыл с радостным лицом конферансье в ожидании аплодисментов. — Ну как? Идея хорошая?
— Хорошая, — согласился я.
— Оригинальная?
— Да. Но, скажу прямо, идиотская.
Ваничкин слегка обиделся.
— Нормальная, — продолжаю, — бредовая идея. Ничего страшного. Бывает.
Ваничкин не переставал дуться. Пришлось объяснять:
— Кто же увидит рекламу в космосе? Об этом вы подумали? Есть такое понятие — эффективность рекламы. Например, количество просмотров за единицу времени. Допустим, за сутки. Формулы есть специальные. Теперь посчитай количество просмотров рекламы в космосе хотя бы за год.
— Вот ты умный человек, — наконец сказал Ваничкин, — а рассуждаешь как редактор. Наша реклама — не для зрителей. Не для потребителей.
— Для кого же?
— Для новых русских. Для малиновых пиджаков. Для «пальцев веером». Для этих сумасшедших. Тебе, например, приятно было бы увидеть название собственной фирмы на ракете? Скажем, крупно, красными буквами АО «СЕРЕГА» на ослепительно-белом корпусе «Циклона».
— Мне было бы приятней, — говорю, — в принципе иметь свое дело. А то долблю, как дятел, буквы на машинке. Одно и то же, одно и то же…
— Сейчас не об этом. Поверь мне, идея классная. Будет клев.
Ваничкин с воодушевлением поднялся и стал расхаживать вокруг столика. Видимо, в армии все ответственные монологи он научился произносить стоя:
— Реклама на ТВ, в газетах, на уличных щитах, плакатах… — это банально, традиционно, примитивно. А вот на ракете… Мы делаем уникальное, эксклюзивное, единственное в своем роде предложение, от которого трудно отказаться.
— Ты думаешь?
— Чую, — сказал Ваничкин.
— Хорошо, допустим. Что ты от меня хочешь?
— Ты человек публичный, лицом торгуешь с экрана…
— Не пошли.
— Ладно. У тебя должны быть связи. Позвони знакомым малиновым пиджакам. Найди человек пять-шесть. Договорись. На первый запуск — условия льготные. И, прошу, не тяни. Старт через две недели.
— Нереально, — говорю. — Где набрать столько идиотов? А еще потребуется время согласовать условия, цены. Подписать контракты…
— Стартуем через пятнадцать дней, — заупрямился Ваничкин. — Это принципиально. У нас план запусков расписан на год. К тому же, — Ваничкин понизил голос и наклонился, — через неделю начальник космодрома уходит в отпуск. — Ваничкин оглянулся по сторонам. — Ты меня понял?
— Нет.
— Командира не будет.
— Понял. И что?
— То самое. Следующий шанс подвернется не скоро.
— Ясно, — говорю. — Хотите протащить «джинсу»?
— Что это?
— Сделать левую рекламу? Заработать деньги.
— Не совсем, — возразил Ваничкин. — В общих чертах руководство в курсе. То есть офицеры предложили как-то ажитироваться, искать дополнительное финансирование, что-то делать. Как говорится, запустили ежа под череп. Командир обещал подумать, но ты же знаешь начальство. Видал этих перестраховщиков. Они будут думать, пока все не крахнется и народ не рванет из части. Короче, пока командир загорает, мы всю систему отработаем. Вернется, а мы доложим. Потом он отрапортует вышестоящему руководству. Мол, армия не топчется на месте. Военно-космические силы — впереди перестройки. — Замявшись, Ваничкин добавил: — Ну и, конечно, деньги.
— Ах, все-таки деньги!
— Они еще никому не мешали…
— Ладно, — говорю, — попробуем. В космических авантюрах я еще не участвовал. Даже интересно. Клиентов будем искать вместе. Форму не снимай. Человеку с ружьем у нас пока доверяют. Съемку, монтаж и прокат видеороликов беру на себя. Вы, военные, занимаетесь оформлением пропусков на космодром, согласованием живописи на ракете…
— На изделии, — поправил Ваничкин. — В договорах надо писать «изделие». Так у нас принято. Для конспирации.
— Ладно, за вами нанесение рекламы на изделие и собственно запуск.
— Как, запуск тоже мы? — переспросил Ваничкин.
К удивлению, найти потенциальных рекламодателей действительно оказалось несложно. К вечеру следующего дня мы практически договорились с биржами. В сравнительно небольшом городе их было две. Фондовая и товарная. Чем они занимались, доподлинно неизвестно. Но в двух конкурирующих фирмах кормилось по сотне толковых ребят. Они держались гордо и независимо. Одевались как брокеры в старом американском кино: белый верх, темный низ, узкие черные галстуки, лоснящиеся штиблеты. Торговали виртуальным металлом, зерном, сахарным песком, бананами, телефонными трафиками и еще черт знает чем. Бодро двигались по офисам-залам, приветствуя знакомых небрежными «хай». Произносили какие-то непонятные слова: фьючерсы, опционы, оферты. И, главное, много лет успешно держались на плаву.
Потом все же исчезли вместе с «хопрами», «тибетами» и «МММ».
Подписывая контракт на рекламу, директор товарной биржи предложил Ваничкину толкнуть за бугор пару ракет по сходной цене.
— Кому они, на хрен, нужны, — честно признался Ваничкин.
— А по частям? На цветные металлы?
Ваничкин обещал подумать.
Еще через день на рекламу согласилась инновационная лаборатория «Имлаб». Ее директор утверждал, что коллектив разработал уникальную компьютерную программу — так называемую «изобретающую машину». Она позволяла обдумать, рассчитать и спроектировать любое устройство для самых фантастических целей. После подписания контракта «О размещении логотипа „Имлаб“ на изделии…» директор подарил мне обновленный вариант программы на семнадцати гибких дисках.
— Признаться, я не очень высокого мнения об интеллектуальных способностях журналистов… — сказал он, прощаясь.
— Спасибо на добром слове…
— Но даже вы с помощью нашей программы в состоянии изобрести что угодно.
— Серьезно?
— Абсолютно. Это несложно. Надо только четко отвечать на вопросы, которые задает программа. В итоге она выдаст искомый результат. Попробуйте.
Вечером я испытал изобретающую машину в действии. После инсталляции на первый вопрос компьютера «что будем изобретать?» — я ответил без колебаний — ракету. Машина ненадолго задумалась и уточнила: значит ли, что я хочу изобрести летательный аппарат?
— Естественно, — ответил я, — что же еще.
— Он должен быть легче воздуха?
— Нет, — терпеливо отвечал я.
— Сколько крыльев должно быть у аппарата? — интересовалась машина.
— Откуда мне знать? Кто из нас изобретатель?
— Моноплан или биплан? — настойчиво спрашивала программа. Я напомнил, что собирался проектировать ракету. Компьютер требовал ввести необходимые параметры: скорость, грузоподъемность, дальность полета и т. п. Причем с каждым следующим вопросом предлагал мне кучу формул, решив которые я мог продвигаться дальше. После нескольких часов напряженного труда, максимальной концентрации внимания и интеллекта машина выдала рисунок, отдаленно напоминающий первый самолет братьев Райт. То есть даже не самолет, а расплывчатые контуры летательного аппарата. В общем, предстояла еще серьезная работа. Требовалось специальное образование, коллектив единомышленников и годы изнурительной работы…
Я сложил диски в упаковку. Они до сих пор хранятся у меня на антресолях. Думаю, с годами они действительно приобретут какую-то ценность. Для изучения истории компьютерных технологий, например. Надеюсь, где-нибудь сохранится и тот бытовой пудовый компьютер, куда их можно вставить.
Впрочем, мы отвлеклись. За два дня поисков нашлось три рекламодателя: «Имлаб» и две биржи. Осталось найти столько же. На одно рекламное место согласилась наша телекомпания. Без оплаты. Бартером. За съемки и монтаж рекламных роликов.
Вакантными оставались два места. Одно я предложил своему знакомому Абрамчику. Он долгое время работал следователем уголовного розыска. Был героем моих программ, снимавшихся к Дню милиции. Как-то на праздничный живой эфир он пришел с коллегой-кинологом. Тот взял своего приятеля — служебного пса. По сценарию, они вместе должны выйти на след «преступника», затаившегося в одном из кабинетов телестудии. Потом найти «наркотик», спрятанный под столом в павильоне. Собака никак не хотела работать в прямом эфире. Она отвлекалась на яркий свет и молоденьких ассистенток. Выручил Абрамчик. Он незаметно намазал ботинки «преступника» толстым слоем топленого сала. (Дефицитный продукт предусмотрительно принес в студию.) Собака тут же взяла след «злоумышленника». Потом нашла и мигом проглотила «наркотик» — толстый шмат сала, вместе с салфеткой, в которую тот был замотан. Передача удалась. Ее даже отметили на летучке. Только жирные следы на ступеньках, в коридорах и павильоне техничка убирала до поздней ночи. Кричала, что таким паршивцам не место в советской милиции.
— Ты о ком, Дуся? — лениво спрашивал дежурный охранник.
— Ну не о собаке же, — резонно отвечала тетя Дуся.
Как в воду глядела. С началом перестройки капитан Абрамчик оставил угрозыск. Занялся продажей ягод и водки. Дело пошло. Свои, милицейские, не трогали. Бандиты по привычке боялись. Абрамчик вырос до уровня регионального оптового склада. Избавившись от формы, продолжал носить пистолет. Побрил голову, надел кожан и цепь с крестом. Короче, стал неприлично похож на своих бывших подследственных. Как-то обратился ко мне.
— Понимаешь, — сказал мрачно, — купил партию водяры, а она не идет.
— Может, плохо рекламировал?
— Нет, — отвечает, — угрохал кучу бабок. На каждом столбе реклама, а не продается. Продукт хороший, чистый, не фуфло. Качество экстра-класса. Да ты, наверное, видел рекламу.
— Это какую же?
— Водка «Черная смерть» — пейте на здоровье.
Да, видел я эту рекламу на уличных щитах. Мухинские ребята — рабочий и колхозница — в вытянутых руках держат огромную бутылку водки. Внизу текст: «Пейте на здоровье». Во всем звучал какой-то диссонанс. Неясна целевая аудитория. Череп и кости на этикетке вкупе с представителями советской молодежи сталинской эпохи явно не сочетались.
Я предложил заказать клипы с новым слоганом:
ВОДКА «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» — ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ПОКОЙНИКОМ!
Абрамчику идея понравилась. Талантливый режиссер Лу- гаров поработал над видеорядом и звуковым оформлением.
Готовые ролики дали залпом по радио и телевидению. Реклама сработала. Как ни странно, «Черная смерть» хорошо расходилась. Вероятно, в то трудное время название и слоган были созвучны мироощущению граждан. Несколько сотен ящиков «Черной смерти» ушли в считаные дни. Осталось продать всего каких-нибудь пару вагонов. Но случилось непредвиденное. Конкуренты наводнили город дешевым скандинавским спиртом «Рояль». Абрамчика потеснили. Он по привычке — к нам. Какое-то время пришлось раздавать «Черную смерть» в виде призов к шоу лесорубов и на конкурсах швей-мотористок. Водка стала популярной в трудовых коллективах. Во всех винных магазинах Абрамчика усилили рекламный призыв. Теперь в его розничной сети рядом с традиционными «ВИНО. ВОДКА» ниже шла расшифровка:
«ШИРОКИЙ ВЫБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАПОЯ». Дело пошло веселей.
Позвонил Абрамчику. Рассказал о возможностях усилить позиции в ионосфере. Встретились. Выпили, поговорили. Ваничкин подробно доложил о грандиозном проекте космического масштаба. После «стременной» бывший опер умолял разместить рекламу его «Черной смерти» на нашем «изделии». Как отказать хорошему человеку?
Итак, к концу третьего дня пять договоров было готово. Две биржи, телекомпания, научно-производственное предприятие и сеть винно-водочных магазинов. Как говорится, широкий срез мелкой экономики. Крупные предприятия малого бизнеса. Недоставало чего-нибудь солидного, финансового.
В то время в городе орудовало несколько государственных и пара частных банков. Их возглавляли отъявленные бизнесмены. Обращаться в государственные не имело смысла. Сбербанк всегда надменно, но вежливо отказывал просителям. Всем. Промстройбанк уверенно двигался к банкротству. Пришлось зайти в первый частный — «Нордбанк». Чтобы как-то познакомиться с новым учреждением, мы с Ваничкиным решили действовать под видом обычных посетителей.
В бывшей пельменной, ныне главном офисе банка, как и при советской власти, было сумрачно и душно. Унылый фирменный стиль. Дешевые пластиковые столы. Металлические стулья.
— Где можно ознакомиться с услугами банка? — спросил я угрюмого охранника. Тот молча указал пальцем куда-то в угол. Из-под манжеты показался фрагмент темно-синей наколки.
— Топай…те сюда, — приветливо отозвался человек из полумрака. Он сидел в темном углу за стеклом с надписью «опэрационист». В сравнении с охранником казался веселым и простодушным. — На темень не обращайте внимание.
— А что случилось? — спросил Ваничкин.
— Совки, опять вырубили электричество. Говорят, веерное отключение. От жизнь, хуже зоны. Там такое не канает. Прикинь…те, ежели в зоне вырубить свет…
— Никола, заткнись. Не напрягай господ, — сказал кто-то за перегородкой.
— Что желаете? — мгновенно отреагировал Никола.
— Желаем стать клиентами вашего банка, — сказал Ваничкин.
— Не проблема.
— Но без электричества не работают компьютеры, — предположил я.
— Запишем вручную. Оформим. Деньги примем. Можете не сомневаться.
— Вероятно, у вас имеется какой-нибудь буклет?
— Что вы говорите?
— Ну, такая бумага с перечнем… списком услуг.
— Не, — просто сказал «опэрационист», — прейскуранта нету. Вы же видишь… видите (вежливое обращение давалось сотруднику не без усилий), как быстро все меняется. Инфляция. Никакие прейскуранты не угонятся. Прикинь…те, вчера доллар стоил шесть рублей двадцать копеек. Сегодня знаешь… знаете сколько?
— Нет.
— Вот и я без понятия. Говори…те, что нужно?
— Сколько вы даете процентов по депозиту? — выпалил Ваничкин заранее заготовленную фразу.
— Для частных лиц?
— Да.
— В какой валюте? Рубли, доллары?
— Допустим, рубли, — сказал я.
— Сто процентов годовых, — не моргнув глазом пообещал операционист. Заметив мои сомнения, тут же добавил: — Не меньше.
— А чем гарантируете возврат?
Служащий банка осмотрел голые стены, подержанную технику и нехитрую мебель.
— Зуб даю, — ногтем большого пальца он резко дернул желтую фиксу.
«Это наш банк», — решили мы с Ваничкиным и поднялись к начальству. Там и познакомились с управляющим Васей Черным.
Он принял нас в своем огромном кабинете. Из-за стола не встал. Небрежным движением руки предложил сесть напротив. Нас разделял огромных размеров стол из красного пластикового дерева. На стенах висели картины северных мастеров. Голые девки с лукошками бродили в темных, дремучих лесах. Глядели с полотен вызывающе и откровенно, мешая посетителям сосредоточиться. Василий Никитич Черный слыл меценатом. Поддерживал городской театр. Покупал работы только местных художников. Требовал от них, «чтоб все в натуре было посконно и домотканно». Со временем стены его кабинета заполонили рисованные избы, полати, лапти, туеса, снегоступы, ушкуйники, рыбацкие сети. За спиной банкира висело центральное полотно. На коче среди льдов в море Белом, море студеном сидел ладный купец с лицом хозяина кабинета. Дул сиверко. В небе переливались сполохи. Челн, заваленный семгой, пенькой и грибами, неустрашимо преодолевал опасную стихию. Из кадушки, опрокинутой набежавшей крутой волной, сыпались в море то ли рыжики, то ли золотые монеты (аллегория достатка и богатства). Удивленно смотрели на ладью моржи и тюлени. Чайки, не скрывая восторга, застыли налету. Даже северный олень перестал выковыривать копытом ягель и смотрел влажными глазами-маслинами в море, тревожась о судьбе брошенного в пучину волн челна. Лишь купец Черный, человек крутого нрава и широкой души, не думал беспокоиться. Он восседал в лодке гордо, смело и невозмутимо.
Договориться с таким человечищем оказалось несложно. Надо было соблюсти всего лишь пару особых условий.
— Сбербанка на ракете не будет?
— Нет, разумеется.
— А этих придурков из Промстроя?
— Разве они готовы к новациям? — заметил Ваничкин — Здесь в принципе другие мозги нужны. Альтернативные.
— Вот именно, — сказал банкир. — Заметано. Мы сделаем этих вонючих профессионалов.
— Можно готовить договор?
— На хрена?
— То есть?
— Выдам налом. Вы же понимаете, что космос не для дела.
— Для чего же?
— Да так. — Банкир задумался, — для души, мля.
Он позвонил в кассу. Распорядился принести нужную сумму.
Вошел человек с небольшим серым мешком. Положил на стол. Цветной логотип банка был нанесен на сукно.
— Можно взять непосредственно с упаковкой? — спросил я. — Логотип потребуется, чтобы срисовать.
— Картинка, что ли, нужна?
— Она самая.
— Валяйте.
Я взял мешок. Он до сих пор у меня. Оставил на память. Пустой, к сожалению.
— Нам бы еще телефон банка.
— Зачем?
— Так задумано. Под каждым логотипом — телефонный номер для связи.
— Это лишнее. Будут звонить. Напрягать.
— Кто будет звонить? — не удержался Ваничкин. — Он же в космос полетит. Разве что Всевышний увидит.
— Стоп! А это прикольно, — сказал банкир. — Вот что. Укажите на ракете мой домашний номер. Черный вывел на листочке шестизначный номер и протянул мне. — Пусть там, — он поднял палец, — знают. Может, даже позвонят.
Мы с Ваничкиным переглянулись: шутит банкир? Нет?
— Но условие — чтоб по этому номеру никаких просьб о кредитах, — потребовал Черный.
Мы пообещали. (Не выполнили. С небес не звонили. Но нашелся все-таки какой-то ненец. Попросил денег. Но это будет позже. Через семь лет после запуска.)
— А вы не боитесь, что мы деньги возьмем и… — Ваничкин изобразил ладонью шуструю рыбку.
Вася Черный так посмотрел на Ваничкина, что тот осекся. Только на лестнице сказал:
— Как бы нам не пролететь с рекламой. Опасаюсь я. Вдруг не получится.
На первом этаже опять сверкнул золотой фиксой знакомый «опэрационист». Увидев нас с мешком денег, присвистнул.
— Мужики, удачи! Останутся бабки, несите обратно.
— На депозит?
— На него.
— Ладно, — нетвердо пообещал Ваничкин.
— У нас всё как в банке!
— Видим! (Боже, сколько лишних дверей в финансовых учреждениях!)
— Сто процентов годовых!
— Помним! (Мы выберемся когда-нибудь отсюда?)
В тот же день Ваничкин уехал с деньгами готовиться к старту.
Кстати, «опэрационист» оказался прав. В тот год инфляция зашкалила за триста процентов. Свои фантастические обязательства перед клиентами «Нордбанк» выполнил без напряжения. И даже процветал несколько лет, открывая многочисленные филиалы. На здании последнего отделения банка в день открытия под музыку и аплодисменты водрузили огромный рекламный щит «МЫ ОТКРЫЛИСЬ!». Через месяц, когда все рухнуло, управляющий банком на последние деньги заказал новый текст. Чтобы не платить художнику лишнего, внес минимальную правку. Распорядился закрасить и дорисовать всего лишь две буквы. «МЫ НАКРЫЛИСЬ!» — прочитали утром оторопевшие клиенты. Одни вкладчики долго стучали в наглухо заколоченные двери банка.
— Бесполезно, — говорили другие. — По крайней мере, написано честно и прямо. Никто никому не морочит голову. Не то что «Хопер» или «Русский дом Селенга».
Кстати, о нем. Перед окончательным банкротством «РДС» открыл свой последний пункт в здании главпочтамта. Моя тетушка давно просила сопроводить ее на главпочтамт и помочь вложить в «РДС» довольно крупную сумму. Почти все сбережения, отложенные за долгую и трудную жизнь. Я всячески ее отговаривал от этой затеи. Безуспешно. Слишком лакомые проценты обещала компания. Договорившись заранее, утром мы явились на почтамт. Тетушка в новом костюме, с яркой косынкой на шее и двумя фронтовыми орденами на груди.
Народу мало. Пустовали окошки для приема телеграмм. Не было посетителей у стоек для отправки и получения бандеролей, денежных переводов. Возможно, гражданам СССР давно уже нечем меняться. И только у окошка с табличкой «Русский дом Селенга» выстроилась очередь.
— Вот видишь, — сказала тетя. — Не мы одни такие умные. Люди знают, что делают.
Граждане у окошка, казалось, чем-то встревожены. До нашего появления они толкались и спорили. При виде тетушки замолчали. Особый интерес вызывал мой целлофановый пакет, набитый пачками мелких купюр.
— Извините, кто последний? — вежливо поинтересовалась тетушка.
— А вы по какому вопросу? — культурно спросили из очереди.
— Деньги хочу вложить. Посмотрела рекламу и решилась, — зачем-то стала объяснять тетя. — Племянник отговаривал, а я решилась. Видишь, Сережа, — повернулась ко мне тетушка, — не я одна.
Очередь странно молчала.
— Ветеранам войны без очереди, — сказал кто-то.
— Да, да! — поддержали многочисленные голоса.
Люди расступились. Медленно сквозь живой коридор разгоряченных тел мы подошли к кассе.
— Благодарю, благодарю вас. Вы очень любезны. Очень мило с вашей стороны, — то и дело повторяла тетушка.
Сотрудница компании приветливо улыбнулась из окошка. В абсолютной тишине я передал девушке всю сумму. Пока она пересчитывала деньги, тетушка внимательно изучала рекламные буклеты. Они рисовали чудные перспективы. Надежные специалисты кратко и доходчиво объясняли пайщикам, куда вкладываются их деньги. Оказывается: в золотые прииски, нефтяные скважины, доходные квартиры. И еще… в дорогие гостиницы на средиземноморском побережье, космические программы и высокотехнологичное производство. Все направления сулили пайщикам высокие дивиденды и стабильное, обеспеченное будущее.
Закончив формальности, девушка выдала квитанцию и мило улыбнулась:
— Спасибо вам.
— Мы можем идти? — спросила тетушка.
— Да, конечно. Приходите еще.
Очередь позволила нам выйти. Как только мы сделали несколько шагов к выходу, она сомкнулась. Люди плотно прижали друг друга и надавили на окно кассы.
— Отдайте нам наши деньги! — закричали хором.
— Денег нет, — отвечала кассирша.
— Как нет? Что значит нет? Вам только что принесли.
— Это другие деньги. Я должна отвезти их в офис.
— Что значит другие деньги? Нас устроят любые.
Девушка сложила полученные купюры в мешок и собралась выйти.
— Не смейте уходить с деньгами! — кричала очередь. — Мы будем жаловаться в милицию. Ребята, держи ее с черного входа!
Пара человек бросились к выходу. Тетушке стало нехорошо.
— Сережа, — сказала она, лицо ее сделалось бледным, губы тряслись. — Иди скажи, что я передумала. Пусть вернут деньги.
— Мы передумали, передумали! — закричал я, бросившись назад. — Мы хотим получить деньги обратно!
Толпа не давала пробиться к окошку.
— Что значит обратно? — крикнула девушка из-за стекла.
— Есть процедура. Если хотите вернуть, становитесь в очередь на получение.
— В очередь! В очередь! — закричала очередь, выталкивая меня в хвост. Ну и в гриву, конечно.
Тетушке стало совсем плохо. Пришлось вызывать скорую.
А тех денег мы больше не видели…
На космодром наша группа прибыла ранним утром. Хотели приехать накануне, но вышла неувязка. Все из-за моей принципиальности. Не могу пройти мимо безобразий. За это когда-то назначили редактором сатирической программы. Вот и вчера. Подъезжаем на студийной машине к вокзалу. Поезд отходит через десять минут. Времени достаточно. Железно успеваем. Не спеша подкатываем к вокзалу и видим, как состав медленно отходит от перрона.
— Что за чертовщина? — возмущаюсь. — Понятное дело — время трудное, перестроечное. Самолеты не летают, автобусы стоят без горючего, поезда опаздывают. Ко всякому привыкли. Но чтобы составы отправлялись раньше времени?! Такого еще не было. И, главное, всего три поезда за день уходит со станции. И то не могут навести порядок. Бардак!
— Поехали обратно, — успокаивает оператор Глебыч. — Не судьба. Уедем ночью.
— Нет, — отвечаю, — надо противостоять разгильдяйству. А то совсем охамели. Пора кончать с этим вселенским бардаком. Ты, Глебыч, — говорю, — доставай камеру. Будем делать критический сюжет. Разнесем эту халабуду к чертовой матери.
На всякий случай сверили часы. По всем циферблатам получалось, что поезд ушел раньше времени.
— Значит, так, — говорю съемочной бригаде, — я пошел разбираться, а вы готовьте камеру, свет, микрофон. Как только соберу в кучу дежурного, милицию, начальника вокзала и свидетелей, врывайтесь и начинайте снимать. В общем, действуем как обычно. Мы им покажем.
— Нет, мы их покажем, — уточнил Глебыч. — Что еще хуже!
Захожу в здание вокзала. Людей немного. Тусклый свет в одной из касс. Я туда.
— Что у вас тут творится? — пугаю кассира, используя тактику полководца Суворова: глазомер, быстрота, натиск. — Бардак какой-то. Да, в стране тяжело. Да, перестройка. Да, порядка не стало. Понимаю, что составы могут опаздывать. Но чтобы раньше времени отправлялись — такого еще не встречал.
— Вы о чем? — спрашивает испуганная кассирша.
— О том, — говорю, — что кругом анархия. До отправления поезда целых пять минут, а состава уже нет.
— Не может быть.
— Еще как может, — отвечаю. — Пойдем, убедитесь сами.
На шум явился дежурный милиционер. Козыряет.
— В чем дело, гражданин?
Я снова начинаю:
— Бардак, — говорю. — Поезд ушел раньше времени.
— А вы, извините, кто такой?
— Телевидение. Программа «Стоп-кадр»! — показываю удостоверение. — Сколько на ваших?
— Пять. Без трех минут.
— Отправление по расписанию в семнадцать ноль-ноль.
— И что?
— Ушел в шестнадцать пятьдесят пять. У меня полно очевидцев.
— Не может быть, — говорит сержант.
— Будете свидетелем, — говорю. — Пошли к дежурному по вокзалу.
— Подождите, — кричит кассирша. Дайте хотя бы кассу закрыть.
Ждем. Потом идем вместе. Я, кассирша и милиционер.
— Давайте, — говорю, — еще свидетелей найдем. Незаинтересованных.
Остановили двух женщин. Сверили часы. Ровно семнадцать. Я рассказал все о поезде. Еле уговорил проявить гражданскую сознательность. Вместе идем в кабинет начальника вокзала. Она сидит за широким столом, разговаривает по телефону как ни в чем не бывало… Ждем, пока закончит. Наконец положила трубку.
— Что вам, товарищи?
Я без обиняков, прямо в лицо высказываю все свои претензии. Требую составить протокол.
— Не может быть, — говорит начальник. — У нас поезда раньше времени не ходют.
— Еще как ходют. Пошли на улицу, — говорю. — Со свидетелями.
Вышли всей толпой на перрон. Гляжу, а с первого пути тронулся и медленно-медленно поплыл мимо нас какой-то состав. Присмотрелся — ё-мое! Наш.
— Вот, — говорит начальник вокзала, — ваш поезд. Ровно по расписанию.
— А до этого какой ушел?
— Никакой. Просто откатили два вагона. Пассажиров-то сейчас мало.
Сначала вся компания молча смотрит на меня. Затем кассирша и
свидетели, подхватив животы, медленно сползают вниз. Ищу, куда бы провалиться.
Вдруг шум, гвалт. Яркий свет в глаза. Подбегают Глебыч с камерой, осветитель, звукооператор. Начинают работать. Насобачились хватать людей врасплох! Сколько таких сюжетов наснимали. Сотни! Звукорежиссер привычно вкладывает мне в руку микрофон. Я автоматически сую его в лицо «жертве».
— Вот, — не растерявшись, гордо сообщает начальник вокзала, глядя прямо в объектив. — В стране бардак, а поезда идут по расписанию.
Вернулись на студию. Позвонили Ваничкину. Сказали, чтоб к вечеру не ждал. Приедем утром.
В поезде поспать не удалось.
Всю ночь за перегородкой в штабном купе слышались пьяные разговоры проводников. Иногда бригадир поезда кричал по громкой связи:
— Тридцать третий, ответьте срочно. Тридцать третий, ответьте бригадиру поезда… Машинист локомотива тридцать три, ответьте срочно!
— Чего надо?
— Это бригадир говорит. Почему не отвечаете?
— Так че надо?
— Как поедем дальше? Как поедем дальше? Прием.
— Как-как? По рельсам, — недовольно отвечал машинист.
— Понял. До связи.
Через четверть часа.
— Тридцать третий. Ответьте срочно…Ответьте бригадиру поезда…
— Че нада…
— Как поедем…
Во всем вагоне никто не спал, но и связываться с полусумасшедшим бригадиром желающих не наблюдалось…
— Кипяточек, кипяточек, свежий кипяточек! — кричал он в два часа ночи. — Подходи за чаем! — Потом засыпал. Вздрагивал на остановках. — Какую станцию проехали? — спрашивал дурным голосом пассажиров, шедших мимо служебного купе.
Всю ночь они сами на станциях открывали дверь вагона. Сами себя впускали и выпускали. Даже подкидывали уголь в топку.
— Смотри у меня! — иногда кричал бригадир. — Зайцев не потерплю! И чтоб никакого перерасхода топлива! Тридцать третий, ответь бригадиру…
На вокзале встретил нас энергичный Ваничкин. Сказал, что все в порядке. Практически со всеми он договорился. Охрана за три ящика водки пропустит телевизионную бригаду через КПП на стартовую площадку. Там позволят снять монтажно-испытательный корпус и сборку ракеты. Ночью планируется нанесение рекламы на «изделие». В запасе у художников семь-восемь часов, не больше.
— Картинки привез?
Я достал из папки договоры на размещение рекламы и прикрепленные к ним логотипы компаний. Почти все они были напечатаны на цветных принтерах и выглядели довольно симпатично. Приложил мешок с логотипом банка. Общее впечатление смазывала реклама водки «Черная смерть» с черепом и костями. Ваничкин скривился:
— Могут быть проблемы. Плохой знак. Как бы не грохнулось изделие с таким рисуночком. Там, — он прижал фуражку рукой и посмотрел в небо, — могут не одобрить. Кроме того, запускаем интеркосмос.
— Это что значит?
— Иностранцы могут не понять. Вот что значит. Их человек двадцать приехало. Монтируют спутник. Ладно, херня война — главное маневры, — сказал Ваничкин. — Прорвемся. Сейчас — в гостиницу. Двести сорок минут на сон.
Он посмотрел на часы: — Заметьте — «Ракета». Могу достать по дешевке.
Вся наша группа показала Ваничкину запястья с часами «Ракета», купленными у него еще в прошлый приезд. Ваничкин стукнул себя по голове:
— Забыл. Вперед шагом марш! До восьми поспите. Потом завтрак — и на площадку. Рекомендую всем тепло одеться. Ехать километров сорок, не меньше.
Поспать в номерах так и не удалось. Дощатые перегородки обветшавшей гостиницы легко транслировали даже негромкий шепот. Только легли на скрипучие металлические койки, как в соседнем номере громко хлопнула дверь. Стены нашей комнаты гулко задрожали. Отчетливо послышались шаги. Пара бутылок со специфическим звуком водружена на стол.
— Еще пить будешь? — спросил низкий мужской голос.
— Буду, — просто и без жеманства ответил женский. Послышалось бульканье и отвратительный скрип железа. Кто- то сел на солдатскую койку.
— Вот консервы — закусывай.
Недолгая пауза — и опять бульканье в стакане.
— Еще?
— Нет, больше не хочу, — просто и без раздумий ответила девушка. (Может, это была зрелая женщина. Но постояльцам в соседних номерах представлялось, что это именно девушка, молодая и красивая.)
— Я буду, — сказал кто-то из соседнего номера. Девушка поперхнулась и закашлялась.
— А ты вообще спи, — крикнул ее ухажер.
— Кто это? — испуганно спросила девушка.
— Да так. Не обращай внимания.
— Здесь все так слышно…
— Это они на запах проснулись.
— Так точно, на запах, — подтвердил голос. — Калинин, шнапс остался? Занеси полбанки.
— Заткнитесь, придурки, — самим мало.
В диалоге нескольких комнат возникла пауза.
— Ты обещал рассказать про ракеты, — начала девушка.
В соседних комнатах прыснули, давясь от смеха.
— Ладно. Отбой, — глухо сказал Калинин. Через минуту щелкнул выключатель. Послышался скрип. Кто-то наткнулся на стул в темноте. Под тяжестью тел жалобно застонали пружины.
— Ну, давай. Что ты. Ну что ты, — шептал Калинин.
— Тихо, нас слышат.
— Калинин, не приставай к девушке, — послышался чей-то голос. — Лучше расскажи ей про ракеты.
— Да, — поддержали соседи, — про три космических скорости. А то налил девушке стакан водки и думает, что теперь ему все позволено.
— А он ничего такого не делает, — заступилась за Калинина девушка.
— И не сделает, — сказал кто-то, проходя по коридору. — Куда ему. Лучше приходите к нам в тридцать седьмой номер.
Сразу же в нескольких комнатах громко заржали.
— Спите, придурки, — крикнул Калинин. — И это Военно-космические силы? Позор!
— Вот именно, — обиженно поддакивала девушка. — Такие же дураки, как в нашем леспромхозе.
Утром перед отъездом на стартовую площадку возникла заминка. Еще до первого КПП наш автобус догнала и остановила патрульная машина. На ступеньку запрыгнул лейтенант. Подозрительно осмотрел разношерстную публику. В салоне: инженеры, ученые из дружественных стран, несколько военных, столичные журналисты.
— Здесь группа военной кинохроники?
— Так точно.
— На выход.
Оказалось, группа кинохроники нарушила строгие правила. Для них не отменяли особую инструкцию:
— Вам надо пройти специальный контроль и опечатать пленку, ввезенную для съемок, — объяснил лейтенант.
Группа возмутилась.
— Не беспокойтесь. Сегодня же пленку специальной машиной доставят на старт и выдадут на месте. Порядок есть порядок, — сказал лейтенант. — А это кто такие? — спросил он водителя.
— Иностранцы.
— Ученые?
— Интьеркосмос, — с акцентом сказал кто-то.
— Они наши. Из соцлагеря, — объяснил Ваничкин. — Понимают по-русски.
— Вижу, что наши. Welcome! Эй, кинохроники, — прикрикнул лейтенант, — мне ждать некогда. С пленкой на выход. Режимный объект, — извинился он перед иностранцами.
Те улыбнулись.
Мы перемигнулись с оператором. В наших кофрах был десяток получасовых кассет Sony Betacam. При желании на них можно было снять тайны всех космодромов планеты.
— Вы кто такие?
— Съемочная группа из областного ТВ. Наши ребята, — сказал Ваничкин и добавил с нажимом: — Проверенные.
— Кинопленка имеется?
— Боже упаси, — ответил Глебыч, — на кинопленку не снимаем.
Действительно, мы уже лет пять пользовались видеокамерами. Но про них в старой инструкции ничего не говорилось. Лейтенант про видео и не спрашивал.
Наконец кинопленку вынесли, сосчитали, опечатали и погрузили в УАЗ. Злые киношники вернулись в автобус. Тронулись.
В пазике становилось все холодней. Дверь плотно не закрывалась. Ледяной ветер дул сквозь оконные щели. Лица ученых дружественных стран выражали перманентное страдание. Одеты они были легко и щеголевато — береты, демисезонные пальто, ботинки не по нашим морозам. Зарубежная интеллигенция гибла в салоне молча, без ропота, обреченно, разделяя участь многих здешних научных специалистов.
Больше других возмущались два подполковника из Генштаба. Когда пересчитывали кассеты с пленкой, они предложили высадить киношников, а самим продолжить движение.
— Куда я их дену? — резонно спрашивал лейтенант. — В УАЗе мест нет, а на улице минус двадцать.
— Отняли пленку, заберите и людей, — не унимались подполковники.
— Не положено.
Обиженные военные кинохроникеры долго дулись на офицеров Генштаба.
Второй КПП, расположенный километров через двадцать, миновали без проблем. Вошедший офицер, пересчитав всех по головам, начал выкрикивать фамилии по списку. Каждый пассажир откликнулся и махнул рукой. У некоторых снова проверили документы. На четвертом КПП проконтролировали всех. При этом Ваничкин лично представлял разношерстные группы:
— Это ученые из солнечной Болгарии. Это из дружественной Польши. Профессура из Чехословакии. Областное телевидение, — отрекомендовал он всю нашу команду. — Очень надежные люди.
На задней площадке автобуса дежурный офицер начал особенно внимательно разглядывать подполковников.
— Мы из Генштаба, — сказал один из них. Небрежно протянул командировочные бумаги и удостоверения.
Дежурный, изучив документы, отдал честь и вежливо предложил:
— Попрошу вас выйти из автобуса.
— Это еще зачем?
— У вас нет допуска на площадку.
— Нас пропустили на всех КПП.
— Так точно, но на монтажный комплекс допуска нет. Прошу выйти из автобуса.
— Это какое-то недоразумение.
— Возможно, — спокойно отвечал лейтенант.
— Мы из Генштаба.
— Я вижу.
— Мы будем жаловаться.
— Не сомневаюсь.
Возмущенные штабисты начали двигаться к выходу, цепляя пассажиров черными пластмассовыми кейсами.
— У вас тут что? — громко возмущались они.
— У нас тут армия, — вяло отвечал лейтенант. — Всем счастливого пути, — сказал он. На ходу выпрыгнув из автобуса, лейтенант по узкой тропинке повел старших офицеров куда-то в лес. Легкие армейские полуботинки штабистов краями черпали рассыпчатый снег.
Иностранцы недоуменно переглядывались. Киношники победно ржали.
— Слышали, у них тут армия. Да у них тут дурдом!
— У вас так же? — улыбаясь, спросил Ваничкин болгарских специалистов, показывая в сторону леса, где остались штабисты.
— У нас теплее. Нет такой большой снег и крепкий мороз, — дипломатично ответил руководитель группы.
Монтажно-испытательный комплекс (МИК), расположенный в глухой тайге, всех новичков поражает масштабом. Просто чудо. А ведь он не один. И в таких корпусах запросто может разместиться по нескольку огромных ракет-носите- лей.
Бодрый, энергичный Ваничкин появился в МИКе в белом халате, с какими то приборами.
— Ну что, нравится красавица? — он похлопал цилиндрический корпус белоснежной ракеты. — Прошу знакомиться. Ракета-носитель «Циклон». Три ступени. Предназначена для выведения космического аппарата массой четыре тонны на круговую орбиту высотой двести километров. Что еще? Длина сорок метров, в диаметре — три. В общем, есть где разгуляться художникам-живописцам. Разрисуем ночью, когда народу будет поменьше. Старт завтра в двенадцать тридцать.
— Успеем? — забеспокоился оператор.
— Куда денемся? Вечером привезут семерых охламонов. Специально разыскал к вашему приезду. Профессиональные художники. Двое из них, между прочим, закончили Академию художеств.
— И чем они тут занимаются?
— Снег чистят. Лопатами машут. Им порисовать страсть как охота. А тут, — Ваничкин обвел глазами ракету, — во какой холст. Знай себе малюй всю ночь. Не оторвешь.
Оказалось, подполковник, кроме организаторских способностей, обладал знаниями ведущего специалиста. К нему то и дело подходили офицеры в халатах со схемами в руках. О чем-то спрашивали. Ваничкин руководил быстро и уверенно. Забравшись на высоченную стремянку, командовал стыковкой ракетных модулей. Орудовал гаммой непонятных инструментов. Запросто обращался с горой измерительных приборов. Пару раз пробегал мимо нас с небольшой кувалдой. Ею он иногда «уговаривал» особо упрямые соединительные болты.
Когда Ваничкин с тяжелым инструментом наперевес стремительно бежал куда-то мимо иностранных специалистов, они автоматически прикрывали телами родное детище, небольшой спутник. Ведь ради него и снаряжалась в полет вся эта огромная махина. Спутник выглядел как нечто неземное. Впрочем, как еще должен выглядеть космический аппарат? Немыслимое количество проводов, шлангов и трубок обволакивало блестящее, сверкающее тело. Колбы, цилиндры, антенны излучали фантастический свет. Аппарат внушал уважение своим интеллектуальным видом. Вероятно, его ждало блестящее космическое будущее. «Еще сутки, — думаю, — и он свысока холодно и отстраненно будет наблюдать нашу серую земную жизнь. Равнодушно щелкать затворами автоматических фотокамер. Может быть, снимет и нас, маленьких людишек, копошащихся среди глухих таежных лесов. Возможно, именно этот аппарат передаст уникальную информацию о состоянии околоземного пространства, спасет людей, определив координаты бедствия судов и самолетов. А может, привычно будет сообщать о ледовой обстановке в Арктике, сокращении биопродуктивности Мирового океана, истощении природных ресурсов… Возможно, он будет снимать американские базы, следить за вражескими подводными лодками, наблюдать передвижение стратегических ракетоносцев. Разумеется, „в мирных целях“, как поведают завтра центральные средства массовой информации. Ведь для чего-то он будет запущен… Кстати, схожу поинтересуюсь…»
Остаток рабочего дня пролетел незаметно. Нам удалось снять несколько ангаров, стартовую площадку, командный пункт. Ваничкин устроил так, что препятствий не чинили. Корреспонденты военной кинохроники, оставшиеся без пленки, с завистью глядели на нашего оператора. Он пиршествовал. Перед Глебычем открывались все секретные двери. Освещались самые тайные уголки космодрома. Охране разъяснили, что у специального оператора имеется неограниченный допуск. Ваничкин сказал это единожды и конкретному человеку. Никто больше не стал проверять. Оставалось догадываться — так устроена вся армия или только часть, в которой мы снимали? Поздно вечером снова встретились с Ваничкиным в МИКе. Спутник смонтирован. Пришло время крепить обтекатель на третью ступень ракеты. Огромных размеров конус уже придвинут. Для страховки его поддерживали натянутые тросы. Уставшие, с воспаленными глазами зарубежные специалисты никак не хотели уезжать. Они то и дело взбирались по стремянке к спутнику, осматривая агрегаты. Делали последние измерения. Проверяли надежность контактов. Каждый отвечал за свой прибор или систему. Похоже, никто не верил, что именно с его устройством ничего дурного в космосе не случится. Еще они явно опасались повреждений при установке обтекателя. Ваничкин обещал закрепить его «тютелька в тютельку». Ему верили, но не уходили. Ждали, пока все закончится.
Наконец, зал потихоньку опустел. Огромная белая «сигара» застыла в монументальной тишине и царском величественном одиночестве. Мы сняли еще несколько кадров в пустом МИКе. Ровно в полночь вошла бригада с красками и кистями. Под зелеными солдатскими мундирами бились творческие сердца художников. По команде Ваничкина они ловко перебросили через цилиндр ракеты шелковые нити. Уверенными движениями начали размечать контуры будущих картин.
Каждому художнику Ваничкин приставил нескольких солдат. Как настоящие подмастерья времен Микеланджело, Рафаэля, Леонардо да Винчи, они растирали краски, носили стремянки, таскали цветные ведра вдоль сорокаметровой ракеты. Рождался монументальных размеров шедевр, достойный эпохи Возрождения. По крайней мере, не уступающий по масштабам…
Мы пошли спать. Улеглись здесь же, в здании МИК, на солдатских койках. Поразила нищета и скудость их жилища. Для восприятия таких контрастов, видимо, нужна специальная психологическая подготовка. Вот помещение двадцать первого века. В нем ракета и спутник — квинтэссенция достижений цивилизации. В сложных приборах, двигателе, обшивке, металле, полимерах материализован долгий путь развития человечества. Весь. Как утверждали незабвенные классики, от простого созерцания, через абстрактное мышление к практическому опыту. Пересекаешь коридор и… поражает быт петровских времен. Ржавые двухъярусные солдатские койки. Грязные матрасы без простыней. Подушкой заткнуто разбитое окно. Одеяла, давно потерявшие свой истинный цвет. Спертый запах от развешанных на веревках бурых солдатских портянок…
Блеск и нищета ВПК. Такое приходилось наблюдать и раньше. Вспомнилось почему-то рваное, перемотанное скотчем кресло командира самой большой в мире подводной лодки «Акула». В нем капитан первого ранга — умница и трудяга — рассказывает прессе, что за чудо эта новая субмарина.
Между тем, в полутемных отсеках нет трети осветительных ламп.
— Почему? — спросил я дежурного офицера в стоптанных валенках.
— Нет денег.
Нам показали новинку — двухметровый, с отвалившимся кафелем бассейн. Им и убогой сауной особенно гордился командир.
— Правда, уже год не наливаем воду. Нет средств заменить насос. Пройдемте, товарищи, дальше. Посмотрите, какая красота. Это не то, что было на старых ПЛ десять лет назад.
Смотрим. Тесные матросские кубрики в ракетном отсеке, разбитая кухня, засаленные столики кают-компании и всюду тяжелый, рвотный запах… Помню удивленный выдох молоденькой журналистки:
— И это та самая лодка «Акула»?
— Да, это «Акула»!
— Та, что одним залпом может превратить Америку в пустыню?..
— А то! — гордо отвечал капитан.
Утром нас разбудил встревоженный Ваничкин:
— Есть проблемы.
— Что случилось?
— Просыпайтесь. Живее. Быстро одевайтесь, хватайте камеру. Снимайте что нарисовано и сматывайтесь. Чтоб никто не видел. Кажется, будет большой шухер.
— Ты можешь объяснить, что произошло?
— Едет начальник полигона.
— Он же в отпуске.
— Вернулся. До Москвы не дали доехать, сволочи. Уже накапали.
— Кто?
— А, — махнул рукой, — что сейчас говорить.
Мы выскочили в коридор. Забежали в корпус и обалдели. Вместо безжизненно-лилейной мертвой ракеты нам открылось произведение искусства. Рекламные логотипы блистали яркими, сочными красками. Золотилась птица счастья на рисунке телекомпании. Переливались бриллианты на фоне «Нордбанка». Богато и респектабельно смотрелись биржи. Даже череп с костями на рекламе водки выглядел симпатично. Художники заканчивали работу.
— Что, нравится? — поймали они наши изумленные взгляды.
— Не то слово.
Мы начали снимать. До конца не успели. Ворвался какой-то полковник. Оказалось, начальник штаба.
— Это что за херня? — с порога заорал он. Подбежал к ракете и выхватил кисть у живописца: — Вы с ума сошли! Кто разрешил?
Художники молчали.
— Кто дал команду? — схватил он творца за грудки.
— Подполковник Ваничкин.
— Вон отсюда! — Воины быстро начали собирать реквизит. — Где этот сумасшедший Ваничкин? А вы кто такие? — заметил нас капитан. — Что за съемки? Кто разрешил? Где дежурный? — Дежурный подбежал. — Задержать. Камеру забрать, пленки уничтожить. Немедленно выполнять!
— Отставить, — сказал незаметно подошедший Ваничкин.
Он был спокоен. Держался твердо и решительно. Но лицо!
Волнение выдавало лицо — абсолютно белое и неживое:
— Отставить. Бригада выполняет спецзадание.
— Ваничкин, да ты охренел, наверное. Или пьян. Чье задание?
— Руководства.
— Да командир, когда узнал о твоих художествах, с поезда выпал. Он едет сюда. И знаешь зачем? Чтоб расстрелять тебя на месте. Дежурный, задержать посторонних…
— А я сказал, отставить.
— Ну, знаешь, Ваничкин. Я этого…
Начальник штаба бросился куда-то вглубь помещения. Потом вернулся с командой. Несколько подчиненных держали ведра с белой краской. Снова пригнали художников.
— А ну-ка, закрасьте все обратно, на хрен, — скомандовал начальник штаба.
— А я сказал, отставить, — громче повторил Ваничкин. — Я ведь тоже здесь не просто так.
— Что это значит?
— Есть указание свыше. Вот что это значит.
— Откуда?
— Оттуда.
— Не темни.
— Я серьезно.
— Хорошо, — недобрым голосом сказал начальник штаба, — подождем командира.
Он развернулся и направился к выходу. Гулко хлопнула дверь.
Ваничкин молча прошелся вдоль готового к старту «Циклона». В плотной тишине был слышен звук его шагов. Он молча разглядывал сверкающую краской ракету. На всей ее цилиндрической поверхности красовалась реклама. Ярко разрисованные бока обещали деньги, зрелища и выпивку. Только макушка ничем не манила. Конус обтекателя оставался девственно-чистым.
— А ведь хорошо сделали, черти.
— Что? — переспросил я.
— Классно сделано! — громко повторил Ваничкин. — Не обеднела Русская земля талантами! — Его слова эхом отозвались в ангаре.
Он подошел к одному из художников:
— Но чего-то здесь не хватает. Как думаешь?
Рядовой пожал плечами.
— Извини, друг, — Ваничкин резким движением сорвал с гимнастерки солдата блестящий знак рода войск.
— А нарисуй-ка мне, брат художник, на обтекателе этот знак Военно-космических сил. И напиши крупно «ВКС». Быстро сможешь?
— Так точно. Но… начальник штаба.
— Что начальник штаба?
— Он…
— Где начальник штаба? — Ваничкин огляделся. — Это приказ, боец.
— Есть, товарищ подполковник!
— Справитесь за час — отблагодарю каждого. Ваничкин в долгу не останется.
Художники заметно оживились. Подкатили стремянки. Облепили нос ракеты.
Ваничкин подозвал дежурного водителя.
— Эту краску, — он указал на ведра, принесенные по команде начштаба, — в машину и ко мне на дачу. — Быстро!
— Есть, — сказал водитель и с двумя бойцами потащил ведра на улицу. Зарычал и стих двигатель отъехавшего дежурного УАЗа.
— Дача совсем облезла, — объяснил нам Ваничкин. — А это краска особая, ракетная. Ей сносу не будет. Правда, цвет белый. Ничего, отколеруем…
— Виктор Иванович, какая дача. Через час нас всех арестуют, — сказал оператор. — Ладно мы. А если камеру отнимут?
— Ты снимай, — успокоил Ваничкин. — Кассеты спрячем. А там видно будет.
Через полчаса художники закончили рисовать эмблему ВКС. Что-то вроде обода с крыльями. Получилось неплохо. Еще минут через двадцать в монтажно-испытательный комплекс вбежал перепуганный сержант. Крикнул обреченно:
— Командир идет! Сейчас будет здесь.
«Если б тут же упал, — думаю про себя, — было бы смешнее».
Глебыч вытащил кассету и передал Ваничкину.
— Снял?
— Снять-то снял. Да, кажется, мы влипли.
— Эт точно, — согласился Ваничкин, запихивая пленку под ремень. — Влипли по самое нельзя. Знаете старый анекдот? Мужик заказывает в ресторане много дорогих блюд. Быстро ест и торопит официанта: «Неси быстрее, а то сейчас начнется. Давай еще, а то сейчас начнется…» В конце официант приносит счет, а денег расплатиться у мужика нету. Официант — к начальству. Выходят повар с ножом, охрана с оружием и директор ресторана…
В МИКе появился начальник космодрома со свитой.
— Подполковника Ваничкина ко мне! — заорал с порога.
— Вот и началось, — выдохнул Ваничкин и побежал навстречу командиру. На ходу он то снимал, то снова набрасывал на плечи белый халат.
От моментальной гибели его спасло присутствие в цехе многочисленных иностранных свидетелей.
— Что это за бардак?
— Где, товарищ полковник?
— Вот это все, вот это. — Начальник обвел глазами окружающее пространство.
— Идет подготовка ракеты-носителя «Циклон»…
— Не прикидывайся идиотом. Кто разрешил вот это?
— Так мы вроде обсуждали с вами, товарищ полковник…
— Кто разрешил? — заорал полковник.
Даже привыкшие ко всему иностранные специалисты прижались к стенам.
— Я выполнял приказ.
— Чей?
Ваничкин поднял глаза кверху:
— Из штаба?
Ваничкин поднял глаза выше.
— Армии?
— Я не хотел бы сейчас называть фамилию…
— Кто дал приказ?
— Замкомандующего Военно-космическими силами.
— Врешь!
— Его приказ, — твердо сказал Ваничкин. — Вы знаете, мы с ним вместе учились. И он напрямую. Приказал…
— Соедините меня с Москвой, — скомандовал адъютанту полковник. — Срочно. Скажите, ЧП. Уйди, — махнул он Ва- ничкину: — Уйди, чтоб я тебя не видел. Все закрасить. Привести в надлежащий вид, — приказал он начальнику штаба. — Сейчас, сейчас разберемся.
Полковник сел у телефона. Раскачиваясь, стал ждать связи. Начальник штаба подбежал к художникам:
— Я давал краску, где она?
— Подполковник Ваничкин приказал увезти.
— Как увезти? Куда?
— Не знаем.
— Ваничкин?!
Ваничкин не слышал. Он мчался по широкому и длинному коридору МИКа. Мелькали плакаты, стенды, графики, боевые листки. Запыхавшись, вбежал в помещение связистов. Успел. Капитан набирал прямой телефон заместителя командующего ВКС. Дежурный майор поднялся навстречу.
— Ваничкин, что случилось?
— Мужики, ставлю ящик коньяка. Дайте минуту, — Ваничкин не мог отдышаться, — минуту поговорить. Тут такое творится, — успел выпалить Ваничкин. — Слышали? ЧП. Потом объясню.
— Москва на проводе, — сказал капитан. — Товарищ подполковник, не положено…
Ваничкин подбежал к коммутатору. Выхватил у капитана трубку.
— Товарищ генерал, говорит подполковник Ваничкин. Космодром «Песецк». Мы вместе учились в Можайке. Только вы на старшем. Помните меня, Виктор Ваничкин.
— Я вас слушаю, подполковник, — недовольно сказала трубка.
— Разрешите доложить.
— Что там у вас?
— Вы, конечно, знаете, что семьдесят процентов запусков наших искусственных спутников выполняется с Песец- кого космодрома. На ракетах-носителях «Союз», «Восток», «Циклон»…
Запыхавшись, Ваничкин говорил отрывисто, с шумным и глубоким придыханием.
— Догадываюсь. Что дальше?
— А кто еще, разрешите спросить, об этом знает, кроме военных и специалистов? Всем известны космодромы «Байконур», мыс Канаверал…
— Дальше?
— Обидно, товарищ генерал, но наш космодром практически не известен. А ведь мыс шестьдесят девятого года запустили полторы тысячи ИСЗ. Не только военного, но и промышленного, народнохозяйственного назначения. И все это делают Военно-космические силы.

— Короче, подполковник.
— Ваничкин.
— Короче, Ваничкин. У вас полминуты.
— Для пропаганды Военно-космических сил, популяризации, так сказать, боевой профессии я нарисовал эмблему наших войск. Распорядился нанести крупно ВКС на обтекателе изделия.
— Зачем?
— Здесь кинохроника, Центральное телевидение, пусть всем покажут. Полно иностранных специалистов. Пусть знают.
— Хорошая идея, — одобрил генерал. — Надеюсь, технология соблюдена?
— Так точно, товарищ генерал, двадцать лет на службе.
— Ну. В чем проблема?
— Полковник Овечкин приказал все стереть, то есть все закрасить. Прессу выгоняет. Ну наболело. Не могу я стереть ВКС. Рука, товарищ генерал, не поднимается.
— И это правильно!
— Не хочу нарушать субординацию.
— И это правильно.
— Пусть командир сам доложит…
— Давай его сюда.
— Переключай, — скомандовал Ваничкин капитану и побежал обратно к начальнику космодрома. Успел к самому началу разговора.
— Овечкин слушает.
Генерал начал издалека и вкрадчиво:
— Вам известно, полковник, что семьдесят процентов всех отечественных космических аппаратов запускает наш военный космодром «Песецк»?
— Так точно, товарищ генерал.
— А вы знаете, полковник, что с космодрома «Песецк» уже выполнено полторы тысячи запусков?
— Так точно, товарищ генерал. Знаю.
— А страна не знает! Стране говорят, запущен космический спутник Земли. И все. Из утюгов слышно «Байконур», «Байконур». А где «Песецк»? Где наш космодром? Пресса сообщает, мол, «на орбиту выведен искусственный спутник Земли». А ракеты сами не летают. Их запускают наши доблестные Военно-космические силы!
— Товарищ генерал…
— Да, полковник, не летают!
— Товарищ генерал, разрешите…
— И это должны знать все! Правильно ваш Ваничкин написал — ВКС!
— Так нарисовал черт-те что…
— Я ему разрешил. Вам не нравится эмблема ВКС?
— Да тут эмблема ни при чем, товарищ генерал…
— Оставьте все как есть. Телевидение пусть снимет. Подполковнику объявите благодарность. Отныне на каждой ракете обозначайте — ВКС. Требую и впредь поддерживать ценные инициативы личного состава.
— Разрешите, товарищ генерал…
— Время не стоит на месте, товарищ полковник. И мы сами должны меняться. Кончайте с этой показушной секретностью. Давно пора быть доступными.
— Товарищ…
— Более открытыми… В разумных пределах, конечно.
Связь прервалась. С лица начальника космодрома не сходили красные пятна. Шинель на груди подергивалась от ударов сердца. Тяжело дыша, он еле выдавил:
— Ну, Ваничкин, я тебя уморщу.
Командир развернулся и со всей свитой медленно покинул МИК. Иностранные специалисты молча переглядывались.
Бледный Ваничкин подошел к ракете, взял кисточку дрожащими пальцами и кивнул Глебычу:
— Камеру включи.
— Готово, — сказал Глебыч и поднял на плечо «Бетакам».
Ваничкин осторожно опустил кисть в ведро с краской, вымученно улыбнулся в объектив и написал на корпусе ракеты: «Запуск разрешаю!» Подумав, расписался чуть ниже — «Ваничкин».
— Кассету перепишешь, — обернувшись, сказал он мне и добавил: — Внукам буду показывать. Пусть гордятся, засранцы, дедом.
На следующий день наш репортаж о запуске «Интеркосмоса» был показан по местному и Центральному телевидению. Материал отметили на летучке. Всем понравилась операторская работа. Глебыч постарался. Представьте: зимний лес, ночь. Заснеженная ель, слегка подсвеченная фонарем. Далеко на заднем плане — наша ярко разрисованная ракета. Она, вся в огнях прожекторов, словно игрушечная, висит на кончике пушистой ели. Вдруг, прямо в кадре, «Циклон» вспыхивает, искрится, сияет и плавно уходит ввысь. Слышится грохот мощных двигателей. Луч от ушедшей в облака ракеты медленно гаснет. Камера делает отъезд, и под мерцающим светом звезд, на опушке леса остается дивной красоты заснеженная ель и белый, пушистый, нетронутый снег. Луна, бледная и задумчивая, неподвижна.
Сюжет несколько раз повторяли. Говорят, таких красивых стартов раньше не видели.
После запуска ракеты военной кинохронике доставили опечатанную пленку. Сгоряча руководитель группы покрыл матом армию, Космические силы, службу безопасности и швырнул пленку в снег. Ваничкин сказал водителю, чтоб подобрал коробки и отвез на дачу.
— Разрежу на куски и привяжу к кустам.
— Зачем?
— Воробьев пугать. Достали. Всю клубнику в прошлом году поклевали, сволочи.
Через полгода Ваничкина уволили из ВКС. Позже он баллотировался на пост мэра города Борисова. С кем-то судился. Просил поддержки у телевидения. Его фамилия мелькала в хрониках Верховного суда. Потом исчезла. Возможно, он своего добился.
И в нашем городе с тех пор многое изменилось. Давно сгинули фондовые биржи. Лопнул «Нордбанк». Испарился «Имлаб». Космодром наглухо закрыли для посторонних. Кругом другая жизнь. И вдруг…
Через много лет после запуска «нашей ракеты» бывшему финансисту Васе Черному домой позвонил ненец. Он увидел номер телефона и рекламу «Нордбанка» на лодке. Лодка плыла по реке Печоре. Она была сделана из обшивки ракеты, найденной в тундре. Там часто падают отработанные ступени. Местные умельцы делают из них ограды, сани, лодки. Все какая-то польза от освоения космоса. Ненец приехал в наш город. Несколько дней по телефону просил кредит у Васи Черного. Короче, реклама сработала. Злой Вася позвонил мне. Я посмотрел старую кассету. Пленка с записью необычного старта до сих пор хранится в архиве нашей телекомпании.
Все остальное пришлось вспомнить…
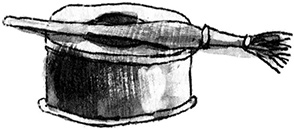 (обратно)
(обратно)
Жизнь налаживается

Капитан ГАИ Виктор Шлейкин дежурил. Через опущенное стекло только что остановленного «москвича», он взял предъявленные документы. Но не стал читать. Отточенным движением резко наклонил голову, сделал вдох. В салоне пахло. Не конкретно вином, коньяком или пивом, а едва уловимой смесью алкоголя с флюидами волнения и страха. Их выделяют слабые, не уверенные в себе человеческие организмы при виде сотрудника в милицейской форме. Почуяв этот специфический запах, инспектор пригласил водителя в служебную машину.
— Может, обойдемся без протокола? — со слабой надеждой осведомился водитель.
«Молодой, — отметил про себя капитан Шлейкин. — Интеллигентный. На вид вроде татарин. Работа будет несложной». Мурат Акимович — значилось в документах. Сокращенно М. А.
— Может быть, не надо бумажек? — еще раз спросил М. А. Он знал, что так начинали разговор с инспекторами опытные водители. Потом они отходили в сторону. Иногда садились в машину ГАИ. О чем-то толковали с работниками инспекции. Иногда у них получалось двигаться дальше. Сам видел. Не знал точно как. Какими словами договаривались. Но видел. Получалось…
— Не обойдемся, — твердо сказал капитан, изучая документы. Он держался подчеркнуто официально и вежливо. Вежливость была холодной. Для М. А. абсолютно бесперспективной.
— Я вижу — вы начинающий водитель. Недавно получили права? — не то спросил, не то констатировал Шлейкин.
— Месяц назад, — с готовностью подтвердил М. А., вылезая из машины.
— И такое серьезное нарушение.
— Виноват. Выпили по глотку коньяка. После тяжелой операции.
— Где работаете?
— В больнице. Я врач.
— Ну и как сегодня живут доктора? Наверное, не очень?
— В каком смысле?
— В смысле зарплаты.
— Не очень. Но платят регулярно.
— Без задержек?
— Без. Правда, я работаю всего лишь три месяца. После института. Вот сегодня пятнадцатое. Выдали аванс. День в день. — М. А. старался быть простым, искренним и откровенным. Помнил по лекциям — это всегда располагает пациентов к доверительным отношениям. Вот и сейчас надо было наладить контакт.
— Это хорошо, что без задержек, — рассуждал инспектор, — А у нас случаются. Значит, аванс выдали, поэтому и выпили?
— Нет, я же говорю, после операции.
— Точно после?
— Разумеется. Я ведь хирург.
М. А. смотрел на инспектора открыто и доброжелательно. На минутку Шлейкин ощутил себя пациентом в кабинете доктора. Ему даже пришла в голову шальная мысль отпустить нарушителя. Но он быстренько взял себя в руки.
— Пьянство за рулем — не шутки. — Почему-то большинство инспекторов обожает фразы из наглядной агитации. Может быть, они придают им особый импульс внутренней уверенности. Настраивают на работу. — Если не согласны, проведем экспертизу…
— Экспертизы не надо. Я ведь не спорю.
— Тогда пройдемте.
В служебном автомобиле было казенно и неуютно. Как в отделении милиции. Из украшений — фуражка, перемотанный изолентой радар, бланки протоколов.
— Товарищ капитан, я первый раз. Мне до гаража триста метров. Хотите, я оставлю машину. Дойду пешком.
— Это — само собой.
— Может, ограничимся устным замечанием? А я больше не буду.
— Не ограничимся. Лишение прав будет для вас суровым, но справедливым наказанием, — сказал Шлейкин, вынимая из нагрудного кармана ручку.
Обрывки служебных переговоров с треском вырывались из рации. Где-то случилась авария. Семнадцатый вызывал тридцатого. Тот долго не отвечал. Инспектор выключил рацию.
Каждый занялся своим делом. Шлейкин тщательно разглаживал чистый бланк протокола. М. А. незаметно пересчитывал деньги в боковом кармане. Не знал, с чего начать. «Как давать? В автошколе этому не учат. А зря. Жизнь была бы проще. Надо бы ввести специальный раздел — дача взятки, — думал М. А. — О Аллах, чего только не придет в голову».
В конце концов он решил действовать.
— У вас, наверное, была трудная смена?
— Да, — согласился Шлейкин, не отрываясь от бумаги, — шестнадцатый протокол задень… И, главное, знают, что нельзя… Все равно нарушают. Думают, что пронесет. Нет, не пронесет… Водке не место на дороге!
— Вы знаете, я тоже так думаю.
— Осознаете?
— Разумеется. У меня к вам предложение. Давайте закончим нашу встречу на приятной ноте. — Смущаясь, М. А. положил между собой и инспектором крупную банкноту. Ее яркий цвет внес явный диссонанс в аскетическое убранство салона. «Легла как-то по-дурацки, — отметил про себя М. А., — не к добру это».
— Взятка? — Инспектор с укоризной посмотрел в глаза водителю. Брезгливо авторучкой отодвинул деньги. — Не перестаю удивляться. Шестнадцать протоколов за день и столько же попыток дать взятку. В какой стране живем… — Шлейкин покачал головой. — Стыдно, товарищ доктор!
Дождь застучал по крыше автомобиля, ударил в лобовое стекло, с шумом пробежался по капоту. После напряженной паузы М. А. медленно потянулся за купюрой, но инспектор шариковой ручкой с надписью «50 лет ГАИ» прижал ее к сиденью. Сурово произнес:
— Вам не повезло, гражданин. Сегодня мы проводим операцию «чистые руки».
— И… что?
— А то, что вас ждут крупные неприятности…
— Понял, — сказал М. А. и снова взял паузу. Надо было что- то делать. Что? Забрать деньги? Все отрицать? М. А. поразмыслил и осторожно доложил еще две купюры.
Ударила молния. Гроза набирала силу.
— Усугубляем? — инспектор неодобрительно покачал головой. — А между тем, операцию проводит коллектив.
— И… что?
— Боюсь, вам трудно будет отвертеться…
М. А. обмер в замешательстве.
— Большой коллектив?
— Из двух сотрудников, — сказал инспектор. Он показал на коллегу, деликатно стоявшего под навесом придорожного киоска.
М. А. нерешительно полез в карман и удвоил сумму.
Виновато сказал:
— Больше нет. Этого хватит?
— Хватит.
М. А. расслабился и облегченно выдохнул…
— Этого вполне достаточно, — ледяным тоном добавил инспектор, — чтобы сесть на пару лет за решетку. Дача взятки должностному лицу. Статья УК РФ.
М. А. снова напрягся. Теперь его можно брать голыми руками.
Но благородный инспектор не стал этого делать. Он тяжело вздохнул, как бы принимая на себя все грехи человеческие. Нехотя сунул деньги в служебную папку.
— Вы даже не догадываетесь, какому ежедневному риску подвергаете…
— Понимаю. Меня можно привлечь…
— Какому ежедневному риску вы подвергаете сотрудников инспекции. Думаете, взял гаишник деньги, сунул в карман и забыл. А для нас это серьезная психическая травма! Мы ведь тоже люди!
— Виноват.
— Виноват… Кто здоровье вернет?
Шлейкин задумался. Может быть, об утраченном на службе здоровье.
— Пить за рулем будем? — возвращая документы, спросил он мягко, по-отечески.
— Нет! — выпалил М. А.
— Претензии есть? — рука инспектора с водительскими правами зависла в воздухе.
— Боже упаси.
— Свободны.
Капитан Шлейкин снова включил рацию.
Через минуту счастливый М. А. сидел за рулем своего автомобиля и думал: «Хорошо, что легко отделался. Какие все-таки приятные и обходительные люди встречаются в Госавтоинспекции».
Жизнь явно налаживалась.
 (обратно)
(обратно)
Всё для работы

Утром вызывает главный редактор студии телевидения Фрайман.
— Что ты опять натворил?
— Когда и где? — уточняю. — За мной числится масса хороших поступков.
— Говорят, ты разбил витрину магазина?
— Ложь.
— Директор гастронома звонила на студию. Ругалась с дежурным. Он передал мне. Честно говоря, — сознался Фрайман, — я не все понял. В общем, утверждают, ты выдавил стекло в торговом зале. Похитил колбасу, сыр. Вот ключевые слова.
— Я?
Главное, не дать Фрайману завестись. А то будет накручивать. Не остановишь. Уж лучше наступать самому:
— Да это у меня украли шесть палок импортной колбасы! И шесть кусков иностранного сыра!
— Опять врешь…
Фрайман устало опустился в кресло. Открыл лежавшие на столе микрофонные папки. Полистал сценарий. Отбросил его в сторону. Взялся за гонорарные ведомости, но не мог сосредоточиться:
— Причем обманываешь нагло, бестолково. Я бы даже сказал, вызывающе глупо. Ты опускаешься ниже минимально приличного уровня. Теряешь квалификацию. Я начинаю беспокоиться за интеллект подчиненных.
— В смысле?
— Твое вранье очевидно! Его уже не надо проверять. — Главный редактор не мог усидеть на месте. Поднялся. Быстро заходил по кабинету, роняя пепел от непогашенной сигареты. — Сам подумай, Сережа, откуда у тебя импортная колбаса, сыр? Скажи еще, что похитили черную икру, ананасы, бананы, копченые оленьи языки…
Мощная фигура Фраймана вопросительно застыла: «Попался?»
И, верно, если б я так соврал, крыть было бы нечем.
Все магазины нашего города давно и безнадежно пусты. В мясных секциях гастрономов иногда выбрасывают обрезанные кости. Их тут же с боем расхватывают. В рыбных отделах — только банки с морской капустой. В «Овощах и фруктах» советские граждане роются в ящиках с гнилой картошкой, морковкой, свеклой. Отбирают что получше и несут взвешивать. Из авосек капает слизь с запахом нечищеных погребов и развитого социализма.
Весь дефицит отпускается по специальным бумажкам с печатью — талонам.
Чтобы отоварить месячные талоны на масло, колбасу, чай, сахар, водку, приходится часами стоять в длинных очередях. А еще надо поймать момент рождения этой самой очереди. Это непросто. Попробуйте спрогнозировать движение циклонов, активность вулканов, шторм, землетрясение. И все это без длительных наблюдений, расчетов и специального оборудования. Так и с очередями. В уравнении слишком много неизвестных. К тому же надо как-то вклиниться в первую сотню людей с талонами. Иначе цветные бумажки не отоварить. Октябрьские считаются просроченными в ноябре. Ноябрьские не принимаются в декабре. И так далее — по календарю.
— Так откуда у тебя импортные продукты? — возвращает меня в действительность Фрайман.
Главный торопится. Ждет быстрых объяснений.
Давно заметил. Иногда зададут простейший вопрос. Ты отвечаешь в двух словах. Коротко и неполно. А в памяти — целая картина, сжатая, как архивный файл. А если разархивировать? Ответить расширенно и подробно. Как требовали в школе. Примерно так.
Огромную яркую упаковку с колбасой и сыром я привез из Соединенных Штатов Америки…
class="book">1
В сороковую годовщину испытания первой советской атомной бомбы случилось чудо: большой группе туристов США разрешили пеший ход по советской тундре. Их даже отправили теплоходом в пограничную зону, на Соловки. Допустили к местному населению. Американцам все жутко понравилось: белые ночи, туманные рассветы, чуть оранжевые стены былинного монастыря. Их покорила северная архитектура: шатровые церкви, часовни, деревянные избы. Удивили огромные просторы нетронутой земли…
Перед отъездом американской делегации во Дворце культуры был устроен торжественный вечер и банкет. Как это часто бывает, неофициальная часть сильно затянулась. Кажется, никто не помнил, что ранним утром запланирован вылет делегации в Москву.
Зал невнятно гудел. Иностранцы с трудом говорили. Наши переводчики туго соображали. В два часа ночи ко мне прибилась пара американских газетчиков. Один из них кое-как понимал по-русски. Стали напрашиваться в гости. Им захотелось посмотреть, как живут советские журналисты. «На черта, — думаю, — мне это надо. Жены нет. Уехала с дочкой в отпуск. Дома грязь. Холодильник пуст. На нем пыль и куча неотоваренных талонов. Из выпивки — полбутылки спирта для компрессов. Достал по случаю в Нарьян-Маре».
— Серж, мы идти к тебе? — американцы стоят, покачиваясь. Чтобы не свалиться, держатся друг за друга. Нейлоновые куртки, клетчатые рубашки, джинсы. На ногах желтые парусиновые ботинки с толстыми широкими подошвами. Кажется, именно они удерживают хозяев от падения.
— Пойдем, — говорю. (А ведь только что намеревался отказать. Есть у меня такая слабость — отсутствие воли.) — Вэлкам!
— Серж, что такой на посошок?
— Выпить перед уходом.
— Давай «на посошок»?
— Можно.
Водку на столы, ясное дело, не подавали. Наши распихали бы ее вмиг по карманам, сумкам и портфелям. Откупоренные бутылки стояли на широком прилавке в углу зала. Каждый подходил и наливал сам. За порядком следил дежуривший рядом офицер… извиняюсь, официант. Подошли и мы. Выпили, не отходя от источника. Американцы начали горячо благодарить официанта. Полезли целоваться. Очень удачно. Я незаметно сунул початую бутылку в карман куртки. Сделал это быстро и элегантно. Давно убедился, небольшая доза спиртного прибавляет организму ловкости и сноровки. Особенно если «надо раздобыть еще». У-ф-ф, кажется, не опозорил прогрессивную советскую журналистику. Обошлось без конфликта.
Стали продвигаться к выходу.
— У тебя большой дом, Серж?
— Огромный, — говорю.
— Два этажа?
— Больше.
— О-о! Серж, ты есть богат?
— Да, — соглашаюсь, — в моем доме пять этажей. Пойдем, увидите.
Выходим втроем на крыльцо. Свежо и пустынно. Вокруг сизый туман. Или белые ночи на излете? Мокрая растяжка едва держится над парадным входом. «Привет американским участникам похода на Русский Север!» От дождя буквы потекли и размазались. Поеживаясь, спускаемся по лестнице дворца. За нами из холла высыпала еще группа иностранцев. «Ну, — думаю, — наконец-то успокаиваются. Идут отдыхать в гостиницу». Гляжу, они сворачивают за нами. Ускоряемся. Слышу, как из распахнутых дверей Дворца культуры накатывает очередная шумная волна. Я прибавляю ходу. Мои спутники с трудом поспевают. Быстрым шагом идем метров триста. Толпа за нами. Выходим на улицу Комсомольскую. Оглядываюсь. Мать честная — вся дорога запружена людьми. Как на демонстрации. Куда они? Идут, кричат что-то на своем, поют. Сзади пристроилась машина ГАИ с включенными маячками. Слышно, как хрипло и неразборчиво орут с ее крыши мощные громкоговорители. Поворачиваем к моему дому. Гаишная «шестерка» с включенной сиреной и мигалками объезжает колонну демонстрантов и тормозит рядом. Из кабины выскакивает нетрезвый офицер в парадной форме. Дает команду водителю-сержанту заглушить мотор. Качнувшись, гаишник жезлом поправил милицейскую фуражку:
— Капитан Шлейкин.
— Очень приятно, — отвечаю. Мои спутники учтиво поклонились.
— Слушай, ты русский человек?
— Допустим.
— Глухой?
— Нет, — говорю. — С этим все в порядке. Слышал, как вы полгорода динамиками разбудили.
— Это я тебе, между прочим, кричал. Куда ты всех тащишь?
— Я?
— Ну да, — капитан взглянул на часы, — в два ночи!!! А между тем, по графику, — он достал из-под кителя листок с каким-то расписанием. Развернул. Прицелившись, ткнул в нужное место. — Здесь ясно сказано. Двадцать четыре ноль- ноль — движение в гостиницу. С часу до восьми — сон. Ты видишь, сон?
— Вижу.
— Почему не спишь?
— Вам какое дело?
— На по-са-шок, — с трудом объяснил американец.
Гаишник жестом попросил не вмешиваться.
— Куда ведешь?
— Двух коллег к себе.
— Тут семьдесят человек демонстрантов, — капитан указал жезлом на застывшую колонну. — Не меньше.
— Так скажи, пусть разворачиваются и идут в гостиницу.
— Я по-английски — ноль, — признался капитан.
— Аналогично, — отвечаю.
Нетвердое рукопожатие.
— Виктор, — представился капитан.
— Сергей.
Толпа ждала окончания переговоров.
— Переводчики есть? — спрашиваем.
Среди немногих русских, затесавшихся в ряды иностранцев, таковых не оказалось.
— Наверное, уснули в ДК! — крикнул кто-то.
— Слабые ребята оказались, из педагогов, — объяснил Виктор. — Ладно, сгоняю за ними. Сейчас пускай все эти, — он указал на пеструю толпу, — идут к тебе. А то разбредутся по городу. Хрен соберешь.
— Не-е, не пойдет, — говорю.
— Почему?
— Сам представь, что мне с ними делать? И водки в обрез, — показываю бутылку во внутреннем кармане. — Тут на троих не хватит.
— На по-са-шок, — с готовностью вмешался американец.
Капитан снова жестом попросил не вмешиваться.
— С этим не проблема, — сказал он. — Их выпивкой и закусью каждый день снабжают. — Гаишник подошел к машине и открыл багажник. — Я ведь за американами уже неделю езжу. От самых Дальнегор обслуживаем. — Виктор постучал жезлом по картонным коробкам:
— Водка. Стаканы. Бутерброды. Для дорогих гостей всего навалом.
Увидев открытый багажник, американцы привычно оживились.
— Пока бродили по Русскому Северу, — объяснил Виктор, — я всем желающим через каждые пять километров наливал. Точно по спидометру. Во-первых, идти веселей. Во-вторых, на окружающую действительность, как говорится, меньше нездорового внимания…
— Тогда чего ждем? — говорю. — Пошли.
Из милицейской «шестерки» достали коробки. Сгрузили перед моим подъездом. На вид получалось внушительно.
— Запас неслабый, — говорю, — до утра можно продержаться.
— Это что, — сказал Виктор, — первые дни на автозаке возили…
Поразмыслив, капитан решил остаться: «Мало ли чего». Он дал указание сержанту вернуться в ДК и доставить переводчиков. Посигналив длинными гудками, сержант уехал. Американцы весело отдавали честь машине ГАИ. Затем вслед за нами направились к подъезду. Мы с Виктором занесли коробки в мою квартиру.
— Айн момент! — закричал Виктор, выскочив на лестничную площадку. Он выставил перед иностранной делегацией полосатый жезл. Щедро улыбнулся: — Минуту на подготовку. Пли-из.
Американцы деликатно застыли в подъезде. С интересом разглядывали парадный и единственный вход в жилище. Оторванные гнутые металлические перила. Разбитые в патронах лампочки. Обшарпанные стены с математическими формулами, написанными от руки. «X» часто умножался на «У» и еще на какую-то неизвестную.
Тем временем из кухни в прихожую мы с Виктором вынесли небольшой столик. На него поставили бутылки с водкой и горки одноразовой посуды. Рядом пристроили коробки с закуской. Через несколько минут в своей двухкомнатной квартире я впервые принимал заморских гостей. Капитан Шлейкин у распахнутой входной двери наливал в пластиковые стаканчики водку. Я доставал бутерброды и подавал американцам. Они боязливо входили в узкую прихожую. С удивлением рассматривали низкие потолки и нехитрую мебель. Представлялись:
— Ричард Олсон.
— Фредерик Батлер.
— Анжела Розенберг.
— Стив Лансе…
Я начал было считать гостей. На третьем десятке бросил это занятие. Американцев на лестничной площадке не убывало. Кажется, они быстро освоились. В подъезде стоял веселый гомон. Зазвучали ковбойские песни. В квартире танцевали. Кто-то бренчал на моей гитаре. Потекла обычная жизнь со всеми ее неприятными мелочами. Вот соседка привычно принялась стучать по батареям. Затем, чтобы одернуть хулиганов, выскочила на площадку. Поток иностранцев чуть не хлынул в ее квартиру. Она с ужасом захлопнула дверь. Это был самый жуткий сон в ее жизни: дом захватили оккупанты. Осмелев и услышав русские голоса, она снова высунулась:
— Предупреждаю! Я вызову милицию!
— Sorry, we don’t understand…
— Во нахлестались. Только не надо прикидываться!
К двери подошел капитан Шлейкин. Его фуражка с кокардой повернута набок. Синий галстук небрежно лежит на погоне. Виктор нажал кнопку звонка. Дал три коротких. Потом шесть длинных. Соседка не открывала. Она разглядывала милиционера в дверной глазок. В одной руке он держал стакан. В другой сжимал полосатый жезл. Нетерпеливыми ударами проверял дверь на звучание:
— Милицию вызывали?!
— Нет, — наконец отозвалась соседка.
— Как не вызывали? Я слышал.
— Вы ошиблись.
— Ой ли, гражданка. — Виктор продолжал стучать в дверь. Наконец ему это надоело.
— Ноу проблем, — сказал он, будто извиняясь перед американцами. Повернувшись к двери, крикнул: «За ложный вызов, между прочим, можем привлечь к ответственности! Административной…»
Капитан плеснул себе из бутылки. Высоко поднял в руке стаканчик:
— За тех, кто охраняет покой граждан. За советскую милицию!
Американцы не понимали.
— Рашен полисмен! Ура!
— Ура!
Движение восстановилось. Кое-как я протиснулся в комнату. Еще раз порадовался за жену и дочь: хорошо, что уехали в отпуск. Незнакомые люди прямо в обуви лежали на кровати. Сидели на полу. На спинках кресел. Чьи-то ноги в красных ботинках свисали со шкафа. В ванной, на кухне и в детской комнате распивали. В туалет стояла очередь. Толпа из коридора все прибывала. В дверях возник затор. Остро чувствовалась нехватка кислорода. Пришлось распахнуть окно. Люди начали вылезать на улицу через подоконник. Я приободрился. Как оказалось, преждевременно. Гости спрыгивали, делали несколько шагов по клумбам и вновь занимали очередь в подъезде. Возник порочный, неразрывный круг. Образовалось что-то вроде орбиты с плотным движением тел. Как-то само по себе движение начало ускоряться. Серьезную выпивку превратили в игру.
— Я что заметил, — крикнул мне Шлейкин, — любят американы находить во всем развлечения. Прямо как дети.
«Дети» заходили в квартиру, брали из рук Виктора стаканчики и продвигались к окну. На ходу выпивали, закусывали. Пустую тару не выбрасывали. Не сбавляя темпа, ловко взбирались на подоконник, спрыгивали на землю и снова занимали очередь в подъезде. В узком тамбуре, изображая бег на месте, они весело двигались в квартиру. Многие успели сделать по нескольку витков.
От жеребячьего топота дом начал просыпаться. Окна приоткрылись. Из них высовывались заспанные лица соотечественников. Доброжелательные американцы им приветственно махали.
— Хай! Хэлло!
Наши не отвечали. А сказать хотелось многое… Возможно, их сдерживало врожденное уважение к иностранцам. Может быть, сбивала с толку форма капитана Шлейкина. Виктор стоял в палисаднике и регулировал движение. Иногда он поднимал жезл и свистел — «замри». Американцы охотно останавливались. В паузе Виктор принимал свою долю выпивки. Гости ждали нужного сигнала. Закусив, он свистел и давал отмашку — «отомри». Движение продолжалось.

Наконец скрипнули тормоза. Вернулся сержант с американцем, говорившим по-русски. Тот долго и с удивлением наблюдал за хороводом соотечественников. Помахал Виктору. Потом подошел ко мне. Представился:
— Пол Дрекстон, посольство США.
Он был почти трезв. Крепко пожал мне руку. Сказал, что это есть замечательная идея «подзывать столько люди в гости». Он восхищен русским гостеприимством. И собирается пригласить делегацию русских в Америку. Это будет настоящая народная дипломатия. Разумеется, столько людей они принять не смогут, извинившись, сказал Пол, но человек десять постараются. Места мне и этому симпатичному регулировщику, офицеру полиции, — он показал на Виктора, — «если вы не возражать, конечно», будут гарантированы.
Я подозвал Шлейкина. Он поднял вверх жезл, движение остановилось. Виктор подошел. Не вынимая свисток изо рта, протянул руку. Я коротко передал ему содержание разговора. Против поездки в США Виктор не возражал. Козырнув, вернулся к окну и снова дал сигнал к движению. Американцы зашевелились. Виктор протяжно засвистел и указал жезлом: «минуя подъезд, всем двигаться за служебным автомобилем». Сержант включил динамики. Громко скомандовал компании любопытных дворняг освободить проезжую часть. Дом проснулся окончательно. Соседи видели, как из окна первого этажа выползла пестрая стоногая змея. Извиваясь, распевая и приплясывая, она двинулась за машиной ГАИ в центр города. Замыкал движение четким строевым шагом бравый капитан Виктор Шлейкин.
Спустя несколько часов набитый людьми местный аэропорт рыдал. Иностранная делегация улетала со слезами на глазах. Десятки американцев и русских застыли в объятиях. Грубые ковбойские пальцы нежно сжимали бледные руки северянок.
— Эти необыкновенные люди. Этот волшебный Север… — мы записывали спонтанные фразы американцев для будущего фильма. Оператор поставил уже третью кассету. Иностранцы сами подходили к микрофону и говорили в камеру:
— Нам этого не забыть… Мы не хотим уезжать… Вы взяли в плен наши сердца… Русские, мы вас любим!
Несколько молодых людей всерьез захотели остаться в СССР. Их не отпускали нежные девичьи руки. Компетентные товарищи мягко разъясняли, почему это невозможно.
Пол Дрекстон подошел ко мне. От посольства США сказал несколько официальных слов благодарности в телекамеру. Потом, уже не для кино, еще раз пообещал вызвать нас с Виктором в Америку.
«Гудбай, Америка, о-о, где я не буду никогда…» — сипло гремели динамики на весь аэропорт. Этим словам как-то верилось больше.
И все же через несколько месяцев пришло официальное приглашение. На десять человек. В делегацию вошли инженер, рабочий, колхозница, чиновники из горкома, исполкома, два переводчика. От государственной автоинспекции, занимавшейся сопровождением американской колонны, пригласили Виктора Шлейкина. Меня — от средств массовой информации.
— Не понимаю. Почему тебя? — возмущался Фрайман. Я пришел к нему с заявлением на отпуск.
— Что же здесь удивительного?
— А то, что в студии имеется много порядочных людей. Которые лично у меня вызывают гораздо больше доверия. Надо бы подобрать человека надежного.
В кабинет, как всегда без стука, вошла редактор общественно-политических программ Ольга Дебец. Положила на стол сценарии на вычитку.
— Вот, Дебец, например. Она член партии, многодетная мать. По крайней мере, вернется обратно.
— Я никуда не собираюсь, — сказала Ольга. — Сначала пусть бухгалтерия вернет деньги за прошлую командировку. — Она вышла так же холодно и гордо, не вникая в подробности.
— К тому же, — продолжил Фрайман, — ты уже ездил в капстрану. Говорят, вы с Молчановым пол-Финляндии залили водкой.
— Нет.
— Что нет?
— Мы были в Норвегии. И, как видите, я не остался. Можно сказать, проверен искушением.
Виктор Зиновьевич вертел листок с фамилиями приглашенных. Бумага была плотной и упругой. Сверху — входящий номер. Внизу — заграничная печать. По обыкновению ему хотелось внести правку. Устранить нелепую ошибку. В крайнем случае — выбросить ненужный документ в мусор.
— Этот список направлен из посольства, — напомнил я. — Американская сторона меня включила.
— Иначе стал бы я с тобой разговаривать.
— Там, как видите, мне доверяют.
— Это и настораживает.
Фрайман никак не мог решиться. Тянул время. Долго, будто впервые, изучал кабинет. Желтый фанерный карниз над узким окном, зеленые шторы в полоску, бежевые стены. Его фотографии с легендарным Папаниным, комментатором Озеровым, поэтом Симоновым. Переходящий красный вымпел с ликом вождя в золотистой бахроме. Пара грамот в деревянных рамках от секретаря по идеологии обкома КПСС Ю. Н. Сапогова. Латунный штурвал с дарственной надписью председателя облисполкома: «Так держать!» Все свидетельствовало об относительно удачной карьере хозяина кабинета. Давало некий импульс к великодушию:
— Ладно. Подготовь сюжет из Америки, что ли, — сказал Фрайман, подписывая заявление.
— О чем?
— Откуда я знаю. Что-нибудь на тему политической нестабильности.
— В США?
— Ну, там… социального неравенства. Все какая-то польза.
Я согласился. Не сделал ничего.
— Где американский сюжет? — напомнил Фрайман после моего возвращения. — Ты же обещан.
— Без камеры? На чем снимать?
— А фоторепортаж? Его пока никто не отменял.
— Давно устаревшая форма.
Фрайман демонстративно затыкал уши:
— Командировку не оплатим даже до Москвы. И не надейся!
Конечно, лишние деньги бы не помешали. За океан летал на свои. Точнее, пришлось занимать. А вот расходы на самолет до Москвы и обратно главный обещал возместить.
— Хотите, сделаю подробный доклад на летучке…
— Никаких оправданий! — кричал Фрайман. — Опять обманул!
Пришлось готовить сюжет на американскую тему. Вот для чего в магазин я привез заграничную колбасу и сыр. Но об этом позже.
В Нью-Йорк наша группа вылетала из Шереметьева-2. С Виктором Шлейкиным встретились как со старым приятелем. В аэропорту он сразу спросил:
— Права есть?
— Зачем, — отвечаю. — Машины нет.
— Ерунда. Машина будет. А права сделаем. После возвращения.
— Ладно, — говорю.
— Водку везешь?
— Есть немного.
— У меня кое-что покрепче. — Шлейкин хлопнул по туго набитым чемоданам. — Еще прихватил ложки, матрешки, хохлому… — Виктор показал на большой целлофановый пакет, стоявший рядом с чемоданами, — щепные птицы счастья.
— Нормальные подарки.
Шлейкин вынул из пакета сверток. Развернул бумагу. Достал белую деревянную птицу с красной нитью вдоль крыльев.
— Как думаешь, пойдет по десятке штука?
— Счастье по червонцу? Дешево.
— По американскому червонцу, — уточнил Виктор. — Возьмешь пакет? А то у меня рук не хватает.
— Не вопрос.
Понизив голос, Шлейкин спросил:
— Доллары взял?
— То, что положено.
— А еще?
— Нет, — соврал я. — Строго по норме.
«Хорошо, — думаю, — что Виктор напомнил. Надо бы перепрятать контрабандную стодолларовую банкноту. В заднем кармане брюк, под носовым платком, могут обнаружить».
Пригляделся. Многие пассажиры с озабоченными лицами рассовывали какие-то бумажки, пакетики, сверточки в тайные места. У членов нашей делегации получилось неплохо. Оставили таможню за спиною без потерь.
Во время промежуточной остановки в Шенноне мы все же не уберегли одного человека. Какая-то женщина нечаянно зашла в магазин аэропорта. Увидела продукты, вина, фрукты, одежду, косметику, украшения — приоткрыла маленький кусочек заграничной жизни. И рухнула тут же у витрин. Ее долго не могли привести в чувство. Персонал вызвал скорую. Оказалось, серьезный приступ. Не выдержало сердце. О дальнейшем полете не могло быть и речи.
— Разумную политику ведет наше государство, — тут же объяснили бывалые люди. — Сначала отпускает в соцстраны. А потом уже медленно, по нарастающей — в капиталистические. Видать, с этой женщиной получилась неувязка.
2
В Нью-Йоркском аэропорту Кеннеди нас встретили яркие цветы и громкие аплодисменты. Американцы не поленились на воздушных шарах написать наши имена и фамилии. Всех прибывших заранее распределили по семьям. Будущие хозяева держали разноцветные шарики с именами своих подопечных и улыбались. На всякий случай всем. Мы подходили и дергали за ниточки. Каждый тянул шарик со своим именем. Делегация тут же распалась на отдельные группки. Начали знакомиться. Нас с Виктором взял к себе учитель географии Майкл. Высокий, худой, в очках, с бородкой и усиками, он напоминал Антона Павловича Чехова. Только говорил по-английски, быстро и неразборчиво.
— Блтмо, Блтмо…
— Что он говорит? — спросил я у переводчицы Лены. С того момента, как мы с Виктором выпили в самолете, у нее появилась тревога на лице и чувство постоянной опасности. Лена преподавала английский в школе. Была неофициально закреплена за мной и Виктором, как самыми отсталыми «в смысле языка и поведения». Так сказал руководитель нашей группы. Человек из горкома.
— Он говорит, что повезут нас в небольшой городок под Балтимором. Там и будем жить. Вы с Виктором остановитесь у него.
— Как же с ним разговаривать? Он же по-русски ни бельмеса… — всполошился Шлейкин.
— Виктор, прошу выражаться корректней. В самолете вы допускали мат. Здесь…
— Что я такого сказал?
— Вы отозвались неуважительно. Нехорошо. Теперь по существу. Нас всех поселят в одном районе. Я буду жить поблизости, на соседней улице. Не пропадете.
Пока Лена рядом, хотелось больше узнать о Майкле. По дороге из аэропорта мы начали задавать вопросы. Лена коротко переводила ответы:
— Майкл долгое время жил в Нью-Йорке. Преподавал в университете. Большой город ему не нравился. Он продал в Нью-Йорке квартиру…
Мы жадно вглядывались через приоткрытые окна автомобиля. Вот он, город мечтаний и грез. Продать квартиру в Нью- Йорке? Верх безумия. Голос Лены едва перекрывал свист ветра и ровное урчание двигателя:
— Квартира Майкла была в шумном Манхэттене. Он переехал в тихое место. Старается здесь не бывать. Только, говорит, не всегда получается. У него тут остались друзья и родственники…
Майкл перебил Лену. О чем-то спросил.
— Он интересуется, как вам нравится Нью-Йорк?
— Не очень, — говорю (думаю, надо поддержать человека). — Тоже стараюсь здесь не бывать. Пока получается. За всю жизнь первый раз в Нью-Йорке.
— Спроси Майкла: он женат? — поинтересовался Виктор.
— Да. Жена, Барбара, работает… я не совсем поняла. Скульптором, что ли. Она ждет нас дома.
— Красивая?
— Мне нравится, — сказал Майкл.
— Сколько ей лет?
Лена незаметно толкнула Шлейкина в бок.
— Не помню. Спросите у нее, — дипломатично ответил Майкл.
Виктор обрадовался. По-английски он твердо знал всего две фразы: «Му name is Viktor» и «How old are you?» Знакомясь с Барбарой, он тут же истратил весь свой запас английского:
— Меня зовут Виктор. Сколько вам лет?
Мне понравился неиссякаемый, упорный, тупой оптимизм американцев. Всегда веселые, довольные и жизнерадостные. По крайней мере, внешне. Эту национальную особенность я подметил еще по дороге из аэропорта. Лена уснула. Виктор не в счет. Переводить некому. До отъезда я пытался освежить свой английский по учебнику Бонка. Кажется, тщетно. Майкл долго рассказывал какую-то смешную историю. Он громко хохотал. Отпускал руль и стучал руками по коленкам. То и дело поворачивался ко мне. Потом спросил, все ли я понял. Я честно ответил: «Нет. Плохо знаю английский».
— Не важно, — бодро сказал Майкл, — я расскажу тебе другую историю. И, поверь мне, она будет такой же интересной и смешной.
Из второго рассказа я понял еще меньше.
— Не проблема, — не унывал Майкл. — Слушай еще одну. Ну очень смешную…
В центральных кварталах Нью-Йорка Майкл показал на многоэтажки. Чистые, ухоженные, красивые. Монбланы из стекла и бетона. Рядом цветники и спортивные площадки. О таких мы даже не мечтали.
— Бедные, бедные люди. Они проводят жизнь в этих ужасных домах.
— Не понял, — проснувшись, сказал Виктор.
— Кажется, Майкл жалеет людей, которые мучаются в небоскребах.
— Заелись, — недовольно буркнул Виктор. — Переведи. Я двенадцать лет стою в очереди на поганую хрущевку.
— Не клевещи. И как я ему объясню, что такое «хрущевка».
— Он еще моего деревянного барака не видел, — вздохнул Виктор.
На широком мосту пришлось остановиться.
— Пробка, — сказал Майкл и заглушил двигатель.
Мы вышли из машины. Впереди замерли сотни автомобилей. Никто не сигналил и не ругался. Двое парней вынесли из салона магнитофон, положили на асфальт. Включили погромче. Несколько машин поближе прижались друг к другу. Образовалась небольшая площадка. Молодежь высыпала из автомобилей. Начали танцевать прямо на мосту. Виктор открыл рот:
— Слушай, танцуют на проезжей части. Они нормальные? Серж, спроси, у них дорожная полиция есть?
— Есть, — ответил Майкл.
— Узнай, куда она смотрит.
Барбара встретила нас у дома. Высокая, статная, подтянутая. В джинсах и свитере. Рядом с ней чинно сидел мрачный лабрадор. Взгляд у него был холодный и подозрительный.
— Это Виски, — пожав нам руки, сказала Барбара.
— Виски? — оживился Виктор. Из непонятного языка он иногда правильно выхватывал и распознавал нужные слова. — Не откажусь.
— Собаку так зовут, — говорю.
— А-а, — разочарованно сказал Виктор, — я думал…
Барбара пригласила в дом. Показала, где вымыть руки.
Предложила ужин. «Все остывает. Я приготовила салат и курицу». Хозяйка, как водится, скромничала. В огромной гостиной был накрыт праздничный стол. На нем никогда не виданные «живьем» закуски вроде тунца, устриц, крабов. В центре стола большая ваза с фруктами. Ананас, бананы и еще что-то незнакомое. Возможно, киви и авокадо. Майкл включил джаз, подмигнул нам и достал из бара спиртное:
— Какой виски ты предпочитаешь, Виктор? — улыбнувшись, он предложил сделать выбор между бутылкой и собакой, лежавшей рядом с холодильником. Виски с лапами оскалился. Мы по-прежнему не внушали ему доверия. Виктор уверенно показал на красочную этикетку. Потом засуетился, вскочил и достал из своего чемодана две бутылки с чернобелыми наклейками. На них крупно одно рекламное слово: СПИРТ. Горлышко заделано сургучом.
— Презент, — сказал Виктор, — для тебя и Барбары. — Шлейкин, как было заведено в наших очередях, сунул по бутылке в одни руки. — Это настоящая русская водка. Из Амдермы. Наркомовские запасы.
— Что такое Амдерма? — спросил Майкл.
— Долго объяснять. Сибирь знаешь? Лена, переведи.
— Сибирь знаю.
— А это еще хуже.
— Что значит хуже, — сказала Лена, — я всякую ерунду переводить не буду.
— Ну, в смысле холода, — уточнил Виктор. — Скажи, эту водку пьют белые медведи.
Лена перевела. Майкл не поверил.
— Переведи, что я пошутил. Майкл, хочешь попробовать? Ее надо пить залпом. Сейчас покажу как.
Виктор ножом сбил над раковиной сургуч. Распечатал бутылку. Вернулся к столу. Налил Майклу до краев. Все поднялись, чуть отодвинув стулья. Чокнулись.
— За мир!
— Дружбу!
— И знакомство!
— Welcome! — Майкл опрокинул рюмку и бросился в ванную. Через несколько минут вернулся бледный и испуганный. Спросил, правда ли, что это пьют в России. Виктор не долго думая налил полфужера спирта и выпил. Я поддержал компанию. Майклу стали разводить. Барбара только вздыхала. Посидели. За Леной приехали ее «хозяева». Пожилая чета. Гай Теннот, высокий джентльмен с военной выправкой, и его супруга Патриция, чем-то напоминавшая артистку Ольгу Аросеву. Они долго извинялись за то, что не встретили Лену в аэропорту. Благодарили Майкла за помощь. «Путь не близкий. Да и лишние расходы на бензин». Они не стеснялись об этом говорить. Наши, думаю, ни за что бы не признались. Пока Лена собиралась, Тенноты деликатно ожидали у двери. Потом вышли на крыльцо.
— Заходите в дом, — широким жестом приглашал их несколько раз Виктор. Тенноты вежливо отказывались.
— Заходите по-соседски. Что вы как неродные! — настаивал Виктор.
Гости упорно не соглашались. Майкл и Барбара не вмешивались.
— У них не принято без приглашения, — вынося чемодан, сказала Лена.
— Это напрасно. А то бы посидели. Поговорили.
— Что хочет Виктор? — спросил Майкл.
Лена перевела.
— Они будут у нас завтра.
— Мы их пригласили, — сказала Барбара.
Лена уехала к Теннотам, помахав нам из серебристого «форда». Майкл предложил осмотреть дом. Мы двинулись за ним, прихватив бутылку виски и стаканы. Возникла хорошая идея — поднять по рюмке во всех комнатах. Кажется, погорячились. Выпивать за каждой дверью было абсолютно нереально. Договорились «принимать объект» поэтажно. Начали с подвала. Чего там только не было. Артезианская скважина, насосы, компрессоры, автоматы управления, газовая колонка. А еще — помещения для стирки и сушки белья, мастерская, тренажерный зал, сауна с крохотным бассейном и отдельным туалетом. На втором этаже — кухня, столовая, гостиная, кабинеты Майкла и Барбары, две спальни. На третьем — две комнаты и, разумеется, отдельный санузел для гостей.
— Майкл, хочешь, я угадаю твою фамилию? — спросил Виктор.
Я перевел.
— Давай.
— Твоя фамилия Рокфеллер.
Майкл улыбнулся:
— Да, это я, основатель банковской династии. К сожалению, дела мои пошли хуже. Я обнищал и разорился. Теперь у нас с Барбарой всего лишь один дом. Только две машины. Нам приходится ежедневно работать и ютиться в этой скромной хижине.
— Хижине?! — возмутился Шлейкин. — Да вы просто заелись! Майкл, ты знаешь Трелепнева? Ну, наш первый секретарь обкома. Так вот, Майкл. Я тебе скажу по секрету. Даже у него нет такого дома.
После осмотра жилища нам выделили большую комнату на третьем этаже. С двумя широкими кроватями и огромным телевизором, прикрепленным к стене. Под ним тумба с видеомагнитофоном. Майкл достал с полки несколько кассет. Положил на крышку. Извинился: «Надо вымыть посуду».
Я принял душ. Виктор быстро прокручивал кассеты. Оказалось, на всех пленках — документальные ленты и мультики. Шлейкин расстроился. Вышел на лестницу и громко позвал Майкла. Учитель бегом поднялся на наш этаж.
— Ду ю хев секс на видео? — спросил Виктор.
Майкл замахал руками. Боже сохрани.
— Это плохо. Бед!
— Плохо? — переспросил Майкл.
— Мне нужно посмотреть.
Майкл не понимал.
— Cepera, переведи.
— Успокойся, — говорю. — Они этого не любят.
— Понимаешь, — начал объяснять Виктор, — я милиционер. Полицейский, по-вашему, — Виктор отработанным до автоматизма движением плеснул в стакан нужную дозу виски себе и Майклу. Залпом выпил. — Мне надо смотреть порно. Это необходимо для работы.
— Ты полицейский?
— Cepera, скажи.
— Да, — говорю, — это рашен полисмен.
Майкл отказывался верить.
— Ван момент! — Виктор открыл чемодан. Достал милицейскую форму. Начал переодеваться. Натянул форменные брюки, рубашку, галстук, китель, фуражку. Достал со дна чемодана милицейский черно-белый жезл. Бойко выпрямился, стукнув голыми пятками.
Майкл пришел в восторг. Он громко позвал Барбару. Та не отвечала. Наверное, уснула, объяснил Майкл.
Виктор снова порылся в чемодане и вытащил свисток. Обнявшись, они пошли искать Барбару. Виктор свистел. Майкл стучал по перилам лестницы милицейским жезлом. В окнах соседей зажгли свет.
Увидев Виктора, Барбара всплеснула руками. Бросилась в свою комнату. Притащила фотоаппарат. Они с Майклом попросили немедленно сфотографировать их вместе с русским полицейским. Я сделал несколько кадров. На фото Виктор улыбался. Он обнимал Майкла и Барбару, не выпуская из рук стакан и бутылку.
Потом Барбара ушла готовить десерт. Виктор снова пристал к Майклу.
— Что он хочет?
— Он требует порно.
— Но для чего?
— Для работы.
Майкл не понимал.
— Серж, объясни еще раз.
Я попытался. Запаса обычных слов не хватало. Виктор требовал, чтобы я вначале обрисовал неутешительную картину роста оргпреступности в СССР. Переговоры зашли в тупик. Шлейкин решил звонить Лене. Уезжая, она оставила телефон своих хозяев. Там долго не брали трубку. Время позднее. То есть раннее. Практически утро. Наконец хозяева недовольно ответили.
— Позовите Ленку, — сказал Виктор.
Тенноты не поняли.
Майкл, двадцать раз извинившись, попросил к телефону русскую мисс. Подошла заспанная Лена.
— Имейте совесть. Вы не в России, — привычно напомнила она.
Виктор долго ей объяснял, что порнография, о которой он много слышал, — огромное зло. Оно захлестнуло Америку. Так им рассказывали в высшей школе милиции. Беда может прийти в СССР. С этим необходимо бороться. А чтобы победить, надо знать тему досконально.
— Поэтому я и хочу. Изучить проблему.
— Прямо сейчас?
— А чего откладывать?
— О господи, помоги мне объяснить этот бред, — вздыхала Лена.
Майкл брал трубку, слушал перевод и недоверчиво качал головой.
— Ты скажи, скажи ему, что это для работы, — выхватывая трубку, горячился Виктор.
Кончилось тем, что нетрезвый Майкл с початой бутылкой спирта в кармане и Виктор ушли в ночную темень. Искать нужные Шлейкину кассеты. Майкл разбудил всех знакомых. Выглядело это примерно так. Громкий стук в дверь. Недовольный голос хозяина:
— Кто там?
— Это Майкл, учитель географии.
— Доброй ночи, Майкл. Что случилось?
— Я извиняюсь. Ко мне приехал русский полицейский. Он просит кассеты с порнофильмами.
— Зачем?
— Не знаю. Говорит, для работы.
Во время переговоров Виктор скрывался в тени. Майкл предупредил, если увидят нетрезвого русского в форме, их точно заберет полиция.
— Это действительно ты, Майкл?
— А как же.
— У нас нет кассет с порно.
— О’кей!
Снова удары в дверь:
— Может, хотите водки? Это настоящая чертовски крепкая водка. Прямо огонь.
— Ее тоже привез русский полицейский?
— Разумеется.
Проснулись ближе к обеду.
— Серж, ты когда-нибудь смешивал спирт и виски? — с трудом произнес Шлейкин. — Не делай этого больше. Ни-ког-да.
Умывшись, кое-как спустились вниз. На столе — завтрак. Пакет молока и кукурузные хлопья.
Виктор заглянул в коробку.
— Это все? Не густо.
— Да, — говорю, — стоило ехать в Америку.
Шлейкин быстро открыл холодильник. Тут же захлопнул дверцу.
— Пусто. Завтра встану пораньше, — сказал тихо, — гляну, чем они сами питаются. Я их выведу на чистую воду.
Вошла Барбара. Мы поздоровались.
— Чай? Кофе? Сок?
— Спасибо. Всего достаточно.
— А где Майкл? Уехал на работу?
— Нет, — Барбара покачала головой, — он плохо себя чувствует. Попросил день отпуска. Но, когда директор школы узнал, что к нам приехали русские гости, он дал Майклу целую неделю.
В этот день Майкл повез нас на встречу в ротари-клуб.
— Что это? — перед тем как отправиться, спросил Виктор.
— Такое место, где встречаются бизнесмены. Обсуждают проблемы. Проводят досуг.
— А, знаю, — говорит мне Виктор. — Поедем. Думаю, классное местечко. Примем на грудь. Повеселимся. Будут девочки.
— Ты уверен?
— Да знаю я этих бизнесменов. Бывал на пьянках у кооператоров много раз. Жареные поросята, фаршированные щуки, раки с пивом. Водки — хоть залейся.
— Ну, тут, наверное, виски.
— Естественно, коньяк, виски. В общем, — Виктор хлопнул в ладони, — поперло!
Привозят нас в клуб. То ли школа, то ли детсад. Виктору сразу не понравилось:
— Бедновато как-то. Опять же запаха мяса не чую.
Куда деваться? Заходим внутрь.
В слабоосвещенном зале два десятка мужчин. Что-то спокойно обсуждают. Что за синклит? Ни музыки, ни пива, ни бильярда. Стулья из алюминия. Пластиковые столы, накрытые дешевой клеенкой. При нашем появлении встали. Зааплодировали. Мы изобразили что-то вроде поклонов. Разместились за отведенным столом. В центр зала вышел какой- то старичок. Сказал, что он председатель местного ротари-клуба. Попросил разрешения представить всех участников собрания.
Широким жестом Виктор дал согласие.
Оказалось, действительно бизнесмены. Владелец строительной фирмы, директор завода, собственник газеты, финансовый консультант, хозяин адвокатской конторы… Короче, не последние люди в этом городе.
— Все равно не верю, — шепнул Виктор.
Нас попросили коротко рассказать о себе.
— Что говорить? Я — журналист. Работаю на телевидении. В редакции общественно-политических программ. Виктор — офицер милиции. (Шлейкин встал, раскланялся.) Служит в ГАИ.
— Что это? — попросили уточнить в зале. Лена перевела.
— Не слышали про ГАИ? — удивился Виктор. — Серж, доложи.
Он снова сел.
Позже шепнул мне на ухо: «Ты понял? ГАИ не знают. О чем с ними разговаривать?»
Лена рассказала о себе. Мы с ней ответили на несколько дежурных вопросов о Советском Союзе.
Нам снова вежливо поаплодировали.
— Не нравится мне все это, — шепнул Виктор. — Какая-то секта.
— Ты можешь помолчать?
— Могу, но не нравится.
Председатель, извинившись, сказал, что им надо вернуться к повестке дня. Если нам интересно, можем остаться.
— Естественно, — сказал Виктор и добавил тише: — Тем более что в приглашении ясно написано: «После заседания — ужин».
Лена перевела, что мы согласны. Про ужин опустила.
— Если гости не будут возражать, начнем, — сказал председатель.
Все бизнесмены энергично поднялись и дружно, с каким- то даже воодушевлением, запели гимн.
— Прикинь, — наклонившись, шепнул Виктор, — а ведь еще не наливали.
— Ты можешь помолчать?
— Не могу.
Кончили петь. Председатель обратился к нам.
— Лен, что он хочет?
— Спрашивает, не желаем ли мы исполнить гимн нашей страны.
Сначала у Виктора задергался живот. Вслед за этим затряслись плечи. Шлейкин пробовал остановиться, но одна мысль, что он вот так ни с того ни с сего может запеть гимн СССР, смешила его до колик. Честно говоря, я тоже еле сдерживался.
— Нет, — наконец успокоившись, сказал Виктор, — извините. Мы пока в своем уме. То есть не готовы.
— Что сказал уважаемый Виктор?
— Он сказал, что у нас не принято, — говорит Лена, — петь гимн…
— А почему он смеялся?
— Петь без музыки, — говорю, — это как-то смешно. Без музыки.
Лена перевела.
— Извините, — сказал председатель, — за недостаточную осведомленность.
— Ничего страшного, — отвечаем.
Начали обсуждать повестку дня. Лена тихо переводила:
— Ага. Это не их помещение. Они собрались, чтобы решить… чем помочь этой школе. Директор излагает свои просьбы. Зачитывает смету предстоящих расходов…
Директору начали задавать вопросы. Он отвечал, заглядывая в бумажку. Капиталисты тем временем что-то прикидывали на калькуляторах.
Потом все по очереди вставали и зачитывали какие-то цифры. Председатель их аккуратно записывал.
— Сейчас о чем толкуют, Лена?
Лена сама не могла поверить. Долго прислушивалась. Затем начала переводить:
— Представляете, каждый встает и называет сумму, которую он лично готов жертвовать в фонд школы.
— С ума сойти. Серж, ты это понимаешь?
— Пока нет.
— Кто из них секретарь парткома? — Виктор внимательно оглядел собрание. — Кто на них давит?
— Вроде сами.
— Я так скажу. Или работают на публику. На нас с вами. Либо есть какой-то интерес.
— Не думаю. Похоже, у них так заведено.
Далее выступил еще один член клуба. Ему долго аплодировали. Лена коротко перевела:
— Этот человек руководил постройкой стадиона. Деньги выделил ротари-клуб в прошлом году.
— И что? Небось, просит увеличить смету?
— Напротив. Доложил, что строительство закончено. Он к тому же сэкономил деньги. Готов их вернуть или перечислить на цели благотворительности.
— Большая сумма осталась?
— Пятьдесят две тысячи.
— Ну, теперь я совсем ничего не понимаю, — сказал Виктор. — Они нормальные после этого? Человек не мог заныкать в котловане пятьдесят две тысячи баксов. И таким людям доверяют серьезные деньги? Они вообще бизнесмены?
— Да, солидные люди, — уже после завершения докладов ответил председатель.
— Можно посмотреть чью-нибудь фирму?
— Разумеется. Какая сфера вас интересует?
— Радио или телевидение, — сказал я.
— Что-нибудь связанное с автомашинами, — пожелал Виктор.
Председатель окликнул высокого молодого человека. Тот двинулся к нам, петляя между столами. Председатель дал короткую справку:
— Доминик. У него салон по продаже автомобилей и большая автомастерская. Долгое время он работал в ней слесарем, потом выкупил бизнес у старого хозяина. Еще Доминик владеет несколькими бензозаправками. Они достались ему от отца.
Подошел Доминик — рыжеволосый парень с лицом, густо усеянным веснушками. Виктор крепко пожал ему руку. Спросил без обиняков у председателя:
— Он миллионер?
— Ты миллионер? — переадресовал вопрос председатель.
— Да, — но я бедный миллионер, — улыбнувшись, сказал Доминик. — Начинающий.
— Здесь все миллионеры, — скромно добавил председатель.
Виктор оглядел присутствующих. Из одежды — джинсы, куртки, простые рубашки. На ногах стоптанные мокасины. Лица добродушные, веселые. Держатся просто.
— Что-то я сомневаюсь…
Договорились о встрече с Домиником в его мастерской. Майкл записал телефон и адрес.
Председатель объявил о начале ужина. На столах появились небольшие тарелочки с овсяной кашей. Подали чай с кексами.
— И все? — Виктор оглянулся по сторонам. — Лена, спроси, а спиртное?
— На заседаниях клуба не употребляем. Не принято, — вежливо ответил председатель.
— Во дают, — сказал негромко Виктор. — Переведи, Лен. Это очень хорошее правило!
Лена перевела. Председатель довольно улыбнулся. Спросил, что такого нам не хватает в Америке. В чем мы нуждаемся? Виктор наморщил лоб. Сказал мне тихо:
— Неудобно, Серж, как-то получилось с гимном. Решат, что мы совсем не патриоты, — неожиданно ответил председателю: — Не хватает информации о родине. У вас, в Америке, нам недостает советских газет.
Председатель задумался. Сказал, как он нас понимает. Разумеется, он окажет содействие. Сейчас же попытается решить вопрос. Короче, вскочил и снова отправился кого- то искать.
— Ты что, рехнулся, — говорю Виктору, — зачем тебе газеты?
— Пусть знают. А то подумают, мол, приехали в ихнюю Америку и забыли про родное отечество. Купили нас, блин, за тарелку каши.
Через минуту председатель отрекомендовал нам молодого человека. Это был курчавый негр с круглыми хитроватыми глазами.
— Познакомьтесь, Джон Тэйлор. Начинающий, но очень перспективный бизнесмен. Джон торгует на бирже. Он брокер.
Мы обменялись рукопожатиями. Джон извинился за опоздание. Посетовал, что не слышал наши выступления.
— Джон любезно согласился доставлять вам иногда русскую прессу, — сказал председатель. —Что вы предпочитаете?
— «Правда», — не раздумывая брякнул Виктор, — наша любимая газета.
— Ты вообще когда ее последний раз читал? — спрашиваю.
— Ничего, пусть ищут. Нехай покувыркаются. Пускай знают, что не все есть в их сраной Америке.
Джон что-то записал в маленький блокнот. Обещал доставить утром свежую почту. На всякий случай из вежливости поинтересовался, откуда мы.
— С холодного Севера. Наш город расположен у Ледовитого океана. Понимаешь?
— Да. А где это?
— Представь карту. Москва. А наш город выше Москвы, на севере. Тысяча триста километров. Понимаешь?
— Понимаю. А Москва где?
— Москва в России.
— О да, Россия. Я много о ней слышал. А это где?
— Ну ты, брат, даешь! — не выдерживает Виктор. — Ты хоть в школе учился?
— Да, — говорит Джон, — совсем недавно окончил высшую школу бизнеса.
После чая начали расходиться. Про танцы и девочек спрашивать было напрасно.
Нас отвозил домой Майкл.
— Понравилось? — спросил он.
— Оригинально, — уклончиво ответил Виктор. — Жаль, что без алкоголя.
— Ну, ты тоже хорош, — говорю. — «Не употребляете спиртное? Это очень хорошее правило…»
— Я и сейчас так считаю.
— Серьезно?
— Представь, если с выпивкой? Это сколько денег можно наобещать с пьяных глаз. Все отдать на пожертвования. А так — человек себя контролирует.
— Можно пообещать и не сделать. Как у нас водится.
— Ну, до этого они еще не доперли. Ты видел? Они же как дети.
— Да, — соглашаюсь, — расти им еще до нас и расти.
— Придурки, — наконец определился с терминами Виктор. — На какую-то благотворительность тратят личные деньги. Мало им налогов!
— Что они говорят, Лена? — спросил Майкл.
— Восхищаются.
— Мы от вас в шоке, Майкл. — Виктор подался вперед. Закричал громко в ухо: — Шок, Майкл. Понимаешь?
Майкл улыбнулся, включил приемник. Транслировали джаз. Майкл ехал гордый и довольный. За окном мелькали поля, рощи, аккуратные, ухоженные дома. Асфальт без выбоин и ям плавно ложился под колеса. Все вокруг было каким- то искусственным и неправильным. У Виктора вдруг затеплилась надежда.
— Майкл, а у вас есть другие организации бизнесменов?
Майкл приглушил динамики:
— Да. Киванис-клубы.
— Они настоящие?
— Как это?
— Ну, чем они отличаются от ротари?
— Ничем, — говорит Майкл.
— Так же исполняют гимн? Ужинают без алкоголя? Вносят пожертвования?
— Да, все так, — говорит Майкл. — Они еще иногда поют старинные народные и религиозные песни. На каждом столике в киванис-клубах обязательно есть песенники. Хотите послушать?
— Не-е! — закричали мы хором.
Через минуту Виктор опять заржал.
— Ты чего?
— Представил, какими идиотами мы бы выглядели, если б стали петь гимн. Как там, Cepera, напомни.
— Сла-авься, Отечество наше сво-ободное,
Дружбы народов надежный оплот,
— запел я.
Лена и Виктор громко подхватили:
— Па-артия Лe-нина. Си-ла наро-дная!
Нас к торжеству коммуни-зма ве-дет!
Майкл был счастлив.
Утром Шлейкин встал пораньше.
— Жрать охота.
В одних трусах спустился по лестнице. Незаметно заглянул в кухню. Майкл и Барбара завтракали. На столе — молоко и хлопья.
Виктор вернулся. Сказал разочарованно:
— Молоко и хлопья двух сортов. Мясо, наверное, по ночам лопают.
— Может, и нет у них мяса.
— Как так?
— Обыкновенно. Талоны кончились.
— Все шутишь. Сегодня прочешем магазины. Посмотрим, что есть в этой хваленой Америке.
— Монинг! — кричит снизу Барбара, приглашая нас завтракать.
— Монинг! — отвечаем мы.
— О, молоко! Хлопья! — устраиваясь за столом, радостно восклицает Виктор. — Барбара, ты прелесть!
Довольная Барбара улыбается. Кажется, угодила.
В этот день хозяева решились отпустить нас в город. Самостоятельно. Одних. Даже без Лены. Виктор надел милицейскую форму. В кобуру сунул пару бананов. Взял жезл.
— Это еще зачем?
— Привычка. Во-первых, руки заняты. Во-вторых, с ним я чувствую себя как-то уверенней.
Майкл долго заставлял нас выучить его адрес. В случае чего, мы должны четко назвать полицейскому или таксисту улицу и номер дома. С третьего раза я кое-как сдал экзамен. Чувствую, всплывают в памяти давно забытые слова. И даже целые фразы копошатся в подсознании. А может быть, школа и два высших образования не сумели окончательно убить природные задатки? Виктору английский не давался. Хотя он тоже начал вспоминать кой-какие иностранные слова. Для большей ясности Шлейкин их громко выкрикивал:
— Понимаешь. Майкл. Я донт ремембе инглиш. Ты меня андерстенд? Cepera, переведи. Я стади инглиш пятнадцать лет. Сикс ерс в средней скул и пять ерс в школе милиции. А выучить не могу. Не приспособлен к языкам. Не то полушарие работает. Cepera, переведи.
Майкл не сдавался. Он настойчиво требовал, чтобы Виктор повторил наш адрес. Шлейкин произносил слова так, что Майкл не мог понять, на какой улице его дом.
Он не выдержал, подозвал Виски. Снял с него ошейник и начал отрывать бирку с каким-то текстом.
— Что там? Серж, переведи.
Я взял из рук Майкла ошейник. Прочитал:
— «I am lost…» Короче, здесь адрес. Общий смысл такой. «Я потерялся. Если кто-нибудь меня найдет или догонит, по причине нанесения мною какого-либо вреда, прошу звонить хозяину по телефону 754-67-31 или доставить меня в ближайший полицейский участок. Заранее благодарю. Меня зовут Виски».
— Это другое дело, — удовлетворенно сказал Виктор. — Спасибо, Майкл. Не надо ничего отрывать. Так поношу.
Виктор натянул кожаный ошейник. Подошел в самый раз. Шлейкин застегнул ремешок и прикрыл обновку воротником форменной милицейской сорочки. Лабрадор Виски обиделся. Он хмуро глядел на Виктора своими черными глазами и недовольно рычал.
— Отдам я тебе твой ошейник, — успокаивал Виктор.
Пес не верил русскому полицейскому.
С этого дня иногда я называл Виктора Виски. К концу поездки капитан Шлейкин отзывался на кличку. Спохватываясь, неизменно обещал, что я еще пожалею об этом.
Наконец вышли. В конце улицы нас догнал джип с открытым верхом. Машина на полном ходу резко затормозила. Над лобовым стеклом появилось загорелое лицо Джона, биржевого маклера. Он что-то радостно кричал. Размахивал свернутой газетой. Потом выскочил из машины. Пряча газеты за спину, начал объяснять:
— В нашем городке газеты «Правда» не было. В соседнем тоже не было. Но я съездил за тридцать пять миль и привез- таки русскую газету. Правда, не уверен, что это «Правда».
Еще Джон добавил, медленно приближаясь, что в сегодняшнем выпуске напечатано фото какого-то государственного лидера. Это не Горбачев. Горбачева он знает. Возможно, это Ельцин. Он про него слышал.
Наконец, движением фокусника Джон развернул перед нами китайскую газету. И правда, на первой странице фотография какого-то крупного деятеля. Возможно, жирными иероглифами над портретом было указано его имя…
Виктора начал разбирать смех. Пришлось незаметно хлопнуть его по спине.
— Молчи. Человек по твоей прихоти с утра колесил по всему штату. Имей совесть.
Я взял свежую прессу. Трижды поблагодарил Джона. Жадно пробежал глазами первую страницу. Виктору дал внутренние полосы.
— Ая-яй, — Шлейкин закачал головой, рассматривая фотоснимки. На них люди вброд переходили улицу, — кажись, наводнение.
— Это очень плохо? — встревожился Джон.
— Нормально, — отвечаю. — Обычное явление.
Джон деликатно ждал, пока мы ознакомимся с заголовками.
— Все в порядке? Нет ли еще плохих новостей из России?
— Нет, — говорим, — в стране все хорошо.
— А этот человек, — указал Джон на портрет то ли генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна, то ли председателя КНР Яна Шанкуня, — лучше Горбачева?
— Трудно сказать, — отвечаем. — Все так непонятно.
— А как вы думаете, — Джон вновь показал на фото китайского лидера, — он способен вывести Советский Союз из коммунистического тупика?
— Этот? Ни за что, — без сомнений, твердо говорит Виктор.
— Аты, Серж, как считаешь? Он может возглавить Россию?
— В ближайшее время — вряд ли, — отвечаю честно. — Хотя в будущем не исключено.
Мы бродим по городу. Подолгу и бесцельно рассматриваем витрины магазинов. В кафе вдыхаем запах незнакомых ароматов. Извиняемся и уходим, когда к нам обращаются бармены, продавцы, официанты. У каждого с собой по нескольку долларов. Это дневная норма на питание. Надо расходовать их так, чтобы на сэкономленные деньги купить родне подарки. Еще обещаны сувениры друзьям и коллегам.
С утра меня тревожит вопрос. Где стодолларовая купюра? Перерыл весь чемодан. Куда дел, не могу вспомнить. На таможне несколько раз ее перепрятывал. В конце концов с перепугу забыл, куда сунул. Может, потерял? Очень рассчитывал на эти деньги. С таким трудом добыл их у фарцовщиков. Дочь просила купить магнитолу. Жена — косметику. Меня устроили бы настоящие американские джинсы. Если деньги утеряны, остается лишь без толку разглядывать заморские прилавки. Заходим в магазин радиоаппаратуры. От изобилия разбегаются глаза. Об этой технике мы только читали: «Сони», «Панасоник», «Филлипс», «Грюндик». Какой-то кореец бросается к нам. Спрашивает, что желаем приобрести.
— Все!
Кореец улыбается:
— Серьезно?
— Йес, — говорит Виктор. — Только денег нет ни хрена.
Кореец не понимает. Он кивает и улыбается. Виктор, не отрываясь, уставился на черную магнитолу с цветными лампочками по всему корпусу. Продавец тут же ее включает. Музыка гремит на полную мощность.
— Хорошая вещь, — кричит Виктор. — Сколько?
— Восемьдесят долларов, — говорит кореец. Дублирует сумму на калькуляторе.
Виктор чуть не поперхнулся:
— Сумасшедшие деньги. Ты видел, Серж?
— Экспенсив, — говорю я.
Кореец начинает делать какие-то расчеты. Объясняет, если возьмем две магнитолы, он отдаст по пятьдесят. Мы отказываемся. Направляемся к выходу. Кореец показывает: можно по сорок, но мы за горло душим весь его бизнес. Выходим на улицу. Продавец снова нас останавливает. Спрашивает, почем же мы хотим?
— По двадцать, — говорю я, чтобы отвязался.
— Вы — сумасшедшие.
— Нет, мы просто бедные.
— Спроси, — шепчет Виктор, — ему матрешки нужны? Ложки, птицы счастья, расписные доски? Скажи — настоящая хохлома.
Я кое-как перевожу.
— Нужны. Очень нужны, — говорит кореец, — доллары.
Мы удаляемся. Медленно бредем вдоль улицы. Подумаешь, еще одно мелкое унижение. Ничего, привыкли.
— Что мы… — приободряю Виктора. — Народные артисты СССР, к примеру, селятся за границей исключительно в дешевых номерах. Знаешь, чем питаются? Хлебом и консервами. Я читал. Разогревают их горячей водой в санузлах.
— У тебя есть консервы? — с надеждой спрашивает Шлейкин.
— Наши знаменитые ученые, литераторы, спортсмены покупают вещи только на распродажах. Торгуются всюду до последнего цента. Что говорить о нас?
Сзади кто-то дергает за рукав. Оборачиваюсь. Снова наш кореец.
— Эй, русские, — я согласен. Берите два по двадцать. Недостающую сумму я сам доплачу. Это презент.
Не сговариваясь, мы с Виктором прибавляем шаг. Затем резко срываемся с места. Мы бежим подлинной и малолюдной американской улице. Советский журналист. И советский полицейский. Что хорошо — пустые карманы способствуют легкому и быстрому движению.
— Сумасшедшие русские! — кричит нам вслед кореец.
Ближе к центру переходим на шаг. Здесь народу побольше.
Прохожие то и дело оглядываются на Виктора. Еще бы.
Первый милиционер на улице американской глубинки. Многие пытаются заговорить. О чем-то спрашивают. Виктор не понимает. Американцам это нравится еще больше. Шире улыбки, громче приветствия. Настоящий русский! Лишь однажды услышали родную речь.
На центральной улице — немолодая еврейка с тяжелым фотоаппаратом «Зенит» на шее тащит на плечах четырехлетнего внука. Пыль, жара, а тут еще мелкий орет на всю стрит:
— Баб, купи айс-крим! Баб, купи айс-крим!
Бабуля не выдерживает. Рывком сбрасывает пацана на тротуар:
— А ты знаешь, сволочь, что есть такое слово: пли-и-з?
Ребенок в слезы. Вдруг бабушка заметила Шлейкина. Сказала по привычке:
— Заткнись, чайлд. А то дядя милиционер заберет.
— Заберу, — строго пообещал Виктор.
Только в этот момент бабуля сообразила: в городе настоящий советский милиционер?! Она всплеснула руками. Бросилась к Виктору. Обнялись. Расцеловались. Оказывается, Сара Абрамовна несколько лет назад приехала из Одессы. Живет здесь с дочкой и «этим паразитом».
Мы с ней поговорили за Одессу. Там я учился. Отчего-то вспомнили «Гамбринус», «Оксамыт Украины», «Приморский бульвар», пляжи Аркадии…
Прощаясь, Сара Абрамовна спросила Шлейкина:
— Извиняюсь, можно вас щелкнуть с этим обормотом?
— Не проблема.
Виктор взял пацана на руки. Несколько раз сработал затвор фотоаппарата. Шлейкин опустил ребенка. Снял милицейскую фуражку, носовым платком вытер шею. Стал начищать кокарду. В перевернутой фуражке вдруг оказалось несколько мятых долларов. Сара Абрамовна по старой привычке отблагодарила за услугу.
— Ну зачем, — сказал с фальшивым неудовольствием Виктор, ловко опуская деньги в карман брюк. На прощание Шлейкин натянул фуражку и поднес ладонь к козырьку.
Тут же к нему подошло несколько аборигенов. Показали, мол, разрешите с вами…
— Пожалуйста, — не возражал Виктор.
Американцы сфотографировались. Жестами попросили снять головной убор. Виктор смущался недолго. В перевернутую фуражку вновь бросили деньги.
Через пару минут образовалась небольшая очередь на съемку.
— Виктор, — говорю, — ты не на службе. Кончай это дело.
— Подожди. Дай людям шанс получить удовольствие.
Я отошел в сторону. Опустился на скамейку в парке. Через кусты было видно, как мелькала синяя фуражка. Виктор ее то снимал, то вновь натягивал на коротко стриженную голову. Вскоре появился и сам. Распаленный и взволнованный.
— Слушай. Зашиваюсь. Подержи фуражку. Ну там, пройдись по кругу. С народом поговори. А то чего-то спрашивают. Мешают работать.
— Ты что, с ума сошел? Завязывай с самодеятельностью.
— Ну, как знаешь.
Шлейкин выскочил на тротуар. Вскоре появился снова.
— У тебя есть пятьдесят и сто рублей одной бумажкой?
— Зачем тебе?
— Надо. Потом скажу.
Я достал из кошелька пятидесятку и сотню. Виктор выхватил деньги и рванул через кусты обратно. Появился нескоро. Карманы форменных брюк заметно оттопыривались.
— Представляешь, они совершенно дикие. За фото дают по два-три бакса. А один чудак, фантастика, предложил ченч. Меняет свои купюры на наши. Просит рубль, а дает доллар. Я ему пятерик — он мне файф баксов. Я ему червонец — он мне десятку. Интрестинг, говорит, рашен мани. Я твои сто и пятьдесят обменял на полторы сотни зеленых. Отдам на родине.
— Ладно, — говорю.
— Рублей, естественно, — на всякий случай уточняет Виктор.
— Кто б сомневался.
— Слушай, может, мне остаться?
— В Штатах?
— Да нет. Здесь. Продолжу через часик. Без лишнего ажиотажа.
— Отчего же ушел?
— Полицейская машина остановилась. Представляешь, как раз напротив у них участок. Пришлось слинять. Пусть уедут. А то загребут с такими деньжищами. Отнимут на фиг. В этой стране, чую, денег немерено. И, заметь, одни доллары.
Виктор зашел в кусты и сосчитал добычу. Вернулся раскрасневшийся и довольный.
— Сколько?
— Ты даже не представляешь.
Сумму не назвал. Сработала профессиональная осторожность. Шлейкин, крадучись, выглянул на дорогу.
— Стоят. Ладно. Завтра приду. Место прикормленное. Грех не воспользоваться. Заодно продам сувениры. Надо только договориться с коллегами из полиции.
— Думаешь, это возможно?
— Не понял вопроса.
— Договориться…
Виктор снисходительно улыбнулся:
— Что-что, а эту тему я знаю.
Вернулись домой. Там застали плачущую Барбару. Она сидела на диване в гостиной и рыдала. Слезы ручьем текли по лицу и капали на газетные полосы.
— Что случилось, Барбара?
Барбара показала газету «Северный комсомолец». Утром мы забыли ее на столе. На первой странице две фотографии: абсолютно голые полки рыбного магазина «Океан» и длинная очередь на улице. У входа в магазин «дежурили» человек триста. В общем — ничего особенного.
— Людей жалко, — вытирая слезы, говорит Барбара. — Наверное, им совсем нечего есть. Глядите, в очереди много детей.
— Не расстраивайтесь, Барбара. Это временные перебои. А то, что стоят люди в очереди, это даже хорошо. Значит, что- то привезли. Сейчас начнут отоваривать талоны, и все будут довольны.
— Вы думаете? — с надеждой спрашивает Барбара.
— А что тут думать, — убежденно отвечает Виктор. — Раз стоят — значит, что-то дадут. Народ зря ждать не будет.
Немного успокоившись, Барбара отвела нас в столовую. Усадила за стол. Подняла белоснежную салфетку. А там… — жареная утка, копчености, буженина, колбаса, сыр…
— О, Барбара!
Два раза нас приглашать не надо.
— Серж, — спросила Барбара, подкладывая нам в тарелки угощение, — что такое талоны?
— Талоны? Ну, такие…
Как здесь, в сытой, богатой Америке, объяснить, что такое талоны? Нам бы самим разобраться. Почему на семидесятом году советской власти (в мирное время!) мы вернулись к бумажкам-разрешениям на молоко, масло, сахар, водку, мясо, колбасу, яйца, сыр пошехонский?.. Объяснить сие почти невозможно.
— Талоны — это такие, такие… реальные деньги.
— Почти как ваши доллары, — говорит Виктор.
Вечером в гости к Майклу и Барбаре приехала Лена со своими хозяевами Гаем и Патрицией Теннотами. Мы с ними виделись в день приезда. Сегодня — что-то вроде официального знакомства. Пожилая чета. Оба с безупречной осанкой. Одеты ярко и щеголевато. Гай в белом костюме с красной бабочкой. Патриция в темном вечернем платье. На увядающей шее дорогое колье.
Собрались в гостиной. Тенноты опустились в мягкие кресла. Я, Виктор и Лена сели напротив. Помолчали. Майкл и Барбара, извинившись, ушли на кухню.
Пауза затягивалась.
— Что вы думаете о польском кино? — наконец спросил Виктор.
Гай, прокашлявшись, ответил:
— Будем знать, что есть и такое…
Снова напряженная пауза.
— Мы много слышали о русских, — сказала Пат. — Вы в курсе? Американцы встречались с русскими в Германии… Во время войны.
— Слышали, — поддерживаю разговор на заданном уровне, — кажется, наши государства были союзниками.
— Вы тоже там воевали? — продолжил светскую беседу Шлейкин.
— Нет, мы еще не настолько стары — сказала миссис Тен- нот.
— Хау олд а ю? — тут же продемонстрировал свой английский Виктор.
Лена незаметно стукнула его каблуком. Миссис Теннот ответила уклончиво:
— В то время я еще училась…
— Наши родители воевали в Германии, — объяснил Гай.
— А вы?
— Я стажировался на флоте.
— Где?
— Здесь неподалеку. В Аннаполисе. Слышали?
— В этом городе я родилась, — сказала Пат.
— Когда? — снова поинтересовался Виктор.
Помолчали. Беседа не клеилась.
— Пожалуйте к столу! — наконец громко объявила Барбара.
Через полчаса — совсем другое дело. Всё, как у нас. Шум, гам. Слово некуда вставить.
Начали с проблем разоружения. Почему-то вспомнили Карибский кризис. Я говорю:
— Много лет назад мой отец, агроном, принес домой спичечный коробок. В нем сидел зеленый с темными полосками жучок.
«Смотри, — сказал отец — это жук из штата Колорадо. Сегодня я нашел его на картофельном поле. Американские империалисты тайно завезли его в СССР. Хотят уничтожить нашу продовольственную базу. Но ничего. Им это не удастся. Мы дустом истребим эту заразу. — Одним ударом каблука отец раздавил колорадского лазутчика. — Вот так и самим американцам вскоре будет крышка. Слышал, наши ракеты уже на Кубе».
Майкл, Барбара, Гай и Пат рассмеялись:
— Нам то же самое говорили про русских.
— В школе, — сказала Барбара, — мы залезали под парты во время учебных тревог.
— «Русские идут!» — передавали по радио.
— Мы прятались в бомбоубежище…
— Минуточку. — Майкл бросился в свой кабинет. Быстро вернулся с потрепанной книжкой: — Это мой старый учебник по истории. Полюбуйтесь на себя.
Он открыл нужную страницу с рисунком. Огромный вооруженный до зубов русский медведь поднял грязную лапу над крохотным пушистым зайчиком. С острых зубов косолапого стекала кровь. Зайчик сидел на территории своего маленького государства. Голову с опущенными ушами он прикрывал лапкой.
— Это Финляндия. А это СССР, — объяснил Майкл.
— Тысяча девятьсот тридцать девятый год, — уточнил Гай Теннот.
— Ну, вы не лучше, — отвечаем. — Не видели вы себя в наших книжках.
— Ешь ананасы! — вдруг закричал Виктор. — Рябчиков жуй!
И далее хором:
— День твой последний приходит, буржуй.
— Я не буржуй, — выслушав перевод, возражает Гай.
— Кто же? С виду очень похож.
— Мой муж, — говорит Пат, — всю жизнь служил на флоте. Сейчас преподает.
— Где, если не секрет.
— Уже нет, — улыбается Гай. — В академии ВМС.
— Хотелось бы взглянуть, — сказал Виктор.
— Сделать пару фотографий для КГБ?
— Не можем же мы вернуться с пустыми руками.
— Хорошо, — смеется Гай, — я вас приглашаю.
— Русские, нам следует лучше понимать друг друга, — говорит Майкл, поднимая бокал.
— Да, — охотно соглашаемся мы.
— Необходимо изучать чужую культуру, литературу, язык, — добавляет Пат.
— За это надо выпить.
— А как же!
— Не случайно сказано в Священном Писании, — говорит Гай, — вначале было слово…
— И слово это — доллар? — вставляет Виктор.
Все смеются.
— Дринкен?
— А как же!
Чокнулись. Закусили.
— Сижу здесь и не верю, — говорит Виктор. — Знаете, почему я язык не учил? В школе учительница иностранного на первом уроке сказала: «Английский вам нужен, как зайцу стоп-сигнал».
— Это переводить? — засомневалась Лена.
— Переводи. Но раз в программе есть — будем учить. Ну, мы так и учили… типа того.
— Как же вы школу полиции закончили? — спрашивает Гай. — Разве там не преподавали английский?
— Как-то выкручивались. Была у нас в группе одна девчонка — Наташа Самусенко. — Виктор повернулся к Лене. — Типа тебя. Английский знала… От зубов отскакивал. Она нам все тексты из учебника переводила. Перевод записывала в тетрадку. На занятиях мы тетрадку по очереди клали на колени. Читали тексты по учебнику, а с тетрадки — перевод. Помню случай. Гришаев, такой же двоечник, как я, читает по-английски: «Владимир Ильич Ленин приехал на Финляндский вокзал в апреле. Его встречали революционные массы». И так далее. Я ему для смеха другой перевод сунул. Про электронные приборы. Вот он читает про революцию, а переводит про транзистору.
И сам чувствует, что перевод расходится с текстом. Но тетрадке верит больше, чем себе. И так минут десять. Преподаватель чувствует себя как в сумасшедшем доме. Не останавливает. Мы сползаем под парты.
— Гришаев, — наконец, спрашивает англичанка, — вы хоть какие-то слова знаете?
— Слов не знаю, — честно и твердо отвечает Гришаев, — но переводить могу. Не верите? Давайте следующий текст.
Американцы хохочут.
— Выпьем?
— А как же…
— А у нас, — говорю, — на первом уроке англичанка спрашивает: «Дети, как будет по-немецки руки вверх?» Ну, мы все закричали: «Хенде хох!» Каждый день в войну играли. А она спрашивает: «А как будет по-английски „Стоять! Руки вверх! К стенке!“» Мы молчим. «Вот видите, дети, как важно знать язык Диккенса, Байрона, Шекспира, — говорит учительница, — короче, язык нашего вероятного противника».
— До вашего отъезда я выучу русский, — говорит Майкл. — Не весь, конечно.
— Только «руки вверх» и «к стенке»? — спрашиваем.
Майкл смеется:
— Лена, напишите мне простые русские слова и фразы.
— Ладно, мы с Леной напишем, — пообещал Виктор.
— С транскрипцией, — попросил Майкл. — Чтобы я знал, как произносятся.
— Конечно. Без проблем.
— За твой русский, Майкл! Дринкнем?
— Why not?
Вечер подошел к концу.
— Встречаемся в Аннаполисе, — уходя, напоминает Гай.
— С удовольствием.
— У нас там домик. Мы приготовим крабов, — сказала Пат. — Гай сам их ловит. Согласны?
— Why not? — отвечает Виктор.
Перед сном он вспоминает душевный ужин.
— Нормальные стариканы у Ленки?
— Да, веселые пенсионеры, — говорю. — Не скажешь, что им под семьдесят.
— На машинах гоняют… Ты видел, как он стартовал?
— В Европу собираются. В очередной раз, между прочим.
— Неправильно все это, — зевая, сказал Виктор. — Старики должны оставаться дома.
— Как у нас?
— Разумеется. В нашей стране все устроено так, чтобы человеку в возрасте не жалко помирать было. Чтобы он легко расставался с жизнью.
— Здесь, — говорю, — пенсионер только жить начинает. Получает достаточно. Не работает. Живет в свое удовольствие, развлекается, путешествует. Разве от такой жизни уходить захочется?
— Вот он и страдает, и мучается, — горячо возражает Виктор, — цепляется за эту жизнь из последних сил. Умирать не хочет. Это нормально? Буржуазное общество ставит пожилого человека в совершенно неестественные условия. А у нас — чем дольше живешь, тем меньше хочется. Здоровья нет, денег нет, смысла нет. Умираешь легко и с удовольствием. И это естественно. Скажу больше — это гуманно. Спокойной ночи.
Утром Виктор долго не отходит от телефона. Договаривается о чем-то с Леной.
— Скажи Майклу, — говорит в трубку, — чтобы он свел меня с местными полицейскими.
— Зачем?
— Это нужно для работы. У них криминал. У нас растет преступность. Понимаешь?
— Нет. Говори, что задумал.
— Мы должны учиться друг у друга. Обмениваться опытом. Что здесь непонятного?
Виктор сует Майклу трубку. Он терпеливо выслушивает объяснения Лены.
— Понимаю, — говорит Майкл, — для работы. Все для работы.
Он звонит какому-то знакомому депутату. Тот еще кому-то. Затем Майкл набирает номер важного человека в полиции. Наконец, договорились. Виктора, меня и Лену приглашают на официальную встречу в местные органы правопорядка…
— Может быть, — торжественно сообщает Майкл, — полицейские возьмут вас на ночное дежурство.
На третий день приезд нашей делегации с размахом отмечали в небольшом кафе.
Праздничную вечеринку организовали местные жители. Пришли целыми семьями. Со своей едой. Закуску везли и несли в пузатых термосах, кастрюльках, горшочках. Ну прямо как в нашей деревне. Все припасы выкладывали на отдельный широкий стол. Каждый сам подходил и выбирал угощение по вкусу. Спиртным обеспечивал бар. После коротких официальных выступлений занялись интеллектуальной разминкой. Выясняли, кто лучше знает чужую страну. Советская команда не подкачала. Мы вспомнили названия десятков штатов США, едва ли не всех американских президентов. Перечислили множество имен литераторов, режиссеров и актеров. Американцы не могли назвать даже несколько союзных республик СССР. Чуть отыгрались на писателях. С треском завалили музыку и кинематограф. Под смех и аплодисменты бросили это дело. Остановили бой ввиду явного преимущества. Нашей команде от спонсоров вручили конверт с денежными знаками. Руководитель группы сразу в микрофон пообещал:
— На выигранную сумму российская делегация устроит ответный банкет.
— По нашим старинным обычаям, пропьем вместе, — разъяснил со сцены Виктор.
— Мы вас всех приглашаем! О дате и времени будет объявлено дополнительно!
— Ура-а-а!
— А сейчас — танцы!
В разгар вечеринки Виктор подсел к какой-то барышне. Она долго гипнотизировала его своими изумрудными глазами. Кожаная юбка, высокие каблуки, блузка с глубоким вырезом. Нервные пальцы то и дело щелкали зажигалкой. Русский ей нравился. Виктор улыбнулся и поздоровался. Как всегда, запаса слов хватило ненадолго.
— Меня зовут Виктор. Сколько вам лет?
— Джессика, — девушка смело протянула Виктору руку. — Мне восемнадцать. Я совершеннолетняя, — с вызовом произнесла она и снова заглянула Виктору в глаза. — Уже можно…
— Что она сказала, Лена? Переведи.
— Она сказала, что ей восемнадцать.
— А еще? Она сказала еще что-то.
Зазвучала музыка. Джессика поднялась. Опустила руки Виктору на плечи. Они танцевали молча. В конце музыкального такта я слышал, как она повторила: «Мне восемнадцать. Уже можно все».
— Она опять сказала еще что-то. Серж, ты слышал?
Лена подошла ко мне и шепнула:
— Не хватало нам скандала. Останови Шлейкина.
— Как?
Парочка не расставалась. Она держала его за талию. Он не отпускал ее руку. Глаза Шлейкина искрились:
— Переведите, что она хочет.
Чтобы не привлекать лишнего внимания, отошли к дальнему столику. Джессика прижалась к Виктору. Склонила голову ему на плечо. Начала объяснять нам с Леной, что она уже взрослый, самостоятельный человек. Русский ей очень нравится. Она хочет уйти. Не может ли Виктор проводить ее.
— Переводите же, — торопил Шлейкин.
— Она сказала, что еще недостаточно взрослая. Ей пора уходить, — медленно и внятно перевела Лена. — Восемнадцать считается в Америке юным возрастом.
— Ага. Типа наших малолеток. Ничего. Восемнадцать не шестнадцать, — оживился Виктор.
— Она не может долго задерживаться. Ей пора уходить.
— А про меня что она сказала?
— Ничего.
— Она произнесла «Виктор».
— Сказала, что в общем ты ей понравился.
— Спросите. — Виктор начал помогать себе жестами. — Могу я ее проводить? Мы могли бы интересно пообщаться.
— О чем ты с ней будешь говорить? — не выдержал я. — И на каком языке? Короче, не приставай к ребенку.
— Не мешай, Серж. Чую, здесь наклевывается. Ленка, переведи.
— Виктор, сожалеет, что не может Вас проводить домой. У него важная беседа, — перевела Лена.
— Жаль, — сказала девушка. Посмотрела на Виктора загадочно и томно. — У меня никого нет дома. Родители уехали. Виктор мог бы провести остаток вечера у меня.
Из всего, что произнесла Джессика, Виктор кое-что уловил.
— Что она сказала про родителей?
— Говорит, они строгие. Если узнают, что дочь ушла ночью с незнакомым человеком, ей влетит.
— Мамы, папы нет дома, — повторила Джессика. — Вернутся завтра.
— Родители уже едут сюда, — перевела Лена. — Сейчас будут.
Виктор встал. Официально протянул Джессике руку. Сухо пожал кончики пальцев. Пересел за другой стол.
— Я что-то не так сказала?
— Все так, — объяснила Лена. — Дело в том, что Виктор — полицейский. Человек с высокими моральными принципами. Ты ему понравилась. Но то, что ты предлагаешь, неприемлемо. В смысле, он не может провожать молоденьких девушек. К тому же он женат, и у него могут быть неприятности на работе.
— Жаль, — огорчилась Джессика. — По правде сказать, он мне очень понравился. — Она подошла к Виктору. — Вы благородный, честный офицер. Извините меня. И выбросьте из головы все, что я вам наговорила. — Джессика быстро поцеловала Шлейкина в щеку и выбежала из кафе…
— Классная девчонка, — сказал Виктор. — Жаль. Я бы с такой покувыркался.
Утром, как обычно, Джон привез свежие китайские газеты. В этот раз он явился с приятелем. Тот так и не вышел из машины. Только помахал нам рукой, когда Джон вручал газеты. Мы с Виктором снова не подаем виду. Пьем кофе. Читаем новости. Виктор, отложив китайскую газету, украдкой рассматривает комиксы про Микки-Мауса. Старую детскую книжку он нашел в кабинете Майкла. Не расставался с ней до конца поездки.
Я заметил: когда Виктор увлекался чтением, он начинал слишком громко есть.
— Виктор!
Он не слышит.
— Виски!
— А? Что?
— Пожалуйста, или не чавкай, или сними ошейник. А то, ей-богу, идет перебор.
— Да ну тебя, — отмахивается Шлейкин.
Во дворе Джон о чем-то беседует с Майклом. Иногда поглядывает на нас через распахнутое окно. Вот уже несколько дней он исправно ездит в соседний город за газетами. Сейчас ждет, когда мы покончим с текстами. Нам это уже самим надоело. Но признаться Джону теперь нет никакой возможности. Боимся обидеть. По-дурацки все вышло. Что делать.
— Какие новости? — кричит Джон в раскрытое окно. — Всё о’кей?
— О’кей, — киваем мы.
— Как Ельцин? — прощаясь, указывает Джон на очередной портрет китайского лидера. — Кажется, этот политик набирает силу. Ни дня без его фотографий.
Я прошу Джона не привозить больше газет.
— Почему?
— Невозможно читать, — говорит Виктор.
— Как так?
— Надоела эта коммунистическая агитация, — объясняю, — да и тебя не хочется утомлять.
— Ничего, — улыбается Джон. Кажется, он доволен, что нам разонравилась пропаганда. — Это мое удовольствие.
Джон садится в машину.
— Читают? — спрашивает приятель.
— Как видишь, — радостно отвечает Джон.
По графику, составленному Майклом, пополудни у нас знакомство с бизнесом Доминика.
— Он хозяин огромной мастерской, — по дороге напоминает Майкл. — Долгое время сам чинил автомобили. Работал на дядю. Отнюдь не родственника. Сейчас кроме ремонта машин у него несколько заправок и автосалон.
— А магазинов у него нет? — интересуется Шлейкин.
— Каких?
— Для торговли сувенирами. Ну, там ложки, поварешки, резьба по дереву.
— Виктор, — говорю, — ты опять за свое?
— Нет. Таких магазинов у него нет.
Подъехали. Майкл перекинулся несколькими словами с дежурным. Сказал, что нас пригласил босс. Этого оказалось достаточно, чтобы пропустили на территорию.
Уютная, светлая приемная. Шустрая секретарша угощает нас кофе. Вдруг на столе у нее что-то затрещало. Из прорези черного аппарата вылезла какая-то бумажка с изображением машины.
— Что это?
— Авто для ремонта.
— Мы про бумажку.
— Это факс, аппарат для передачи изображения по линиям связи.
— С ума сойти.
— Вы что, не видели?
— Нет. А это?
— Ксерокс. Смотрите, я могу делать на нем копии.
— Фантастика.
— А это?
— Это телефон.
— А он для чего?
— Да ну вас.
Нас снова угощают кофе. Ждем Доминика. Его никак не могут найти. Секретарша расстроилась. Говорит, шефа видели на производстве. Мы выходим во двор. Медленно прогуливаемся вдоль ярких цехов и ангаров. Заходим в один из них. Вокруг — кадиллаки, доджи, линкольны, форды. Они будто сошли с экранов американских кинокартин. В мастерских светло и чисто.
— Здесь ремонтируют машины? — Виктор присвистнул. — Да тут жить можно!
Присматриваемся. Народу не густо. Каждый занят своим делом. На нас — почти никакого внимания. Лишь вспыхивают иногда яркие улыбки, доведенные до автоматизма. В конце цеха, за серой ширмой, битый джип. Под ним пара ног в стоптанных ботинках. Мы их едва не прошли. Ботинки зашевелились. Из-под бампера появилось знакомое веснушчатое лицо Доминика.
— Хелло! — хозяин фирмы ловко выбрался из-под машины.
— Привет, Доминик, — обрадовался Майкл.
Доминик улыбается, не решаясь подать нам наспех протертую ветошью руку.
— Простите, что не встретил. Тысяча извинений, — он глядит на часы и свистит от удивления: — Не уследил. Вы можете подождать еще минутку? Я приведу себя в порядок.
Доминик снова исчезает. Виктор дергает Майкла за рукав:
— Он действительно хозяин? Или вы нас разыгрываете?
— Все говорят, что да.
— А сколько человек на него работает?
— Думаю, не меньше трехсот.
Виктор потрясен:
— Это же как начальник ГАИ.
— И при чем тут это? — спрашивает Лена.
— Я только представил. Да у нас инженера не загонишь под машину. Майкл, скажи правду. Кто владелец этого хозяйства?
В своем просторном кабинете чистый, ухоженный, переодетый Доминик еще раз извиняется:
— Не могу удержаться. В свободную минуту так и тянет покрутить гайки. Осталась дурацкая привычка самому лезть под авто. Мне, конечно, стыдно. Стараюсь делать это тайком. Причем люблю заниматься ремонтом без подъемников, гидравлики и специальных механизмов. Представляю, будто автомобиль сломался на дороге и у меня нет выбора.
— Приезжайте к нам, Доминик, — говорю. — И у вас действительно не будет выбора.
— О, да? С огромным удовольствием.
— А вообще с вредными привычками, — назидательно говорит Виктор, — надо кончать. Вот наше руководство давно их в себе искоренило.
На следующее утро нас разбудил шум автомашины. Через некоторое время в дверь постучал Майкл.
— Не спите? Приезжал Джон. Извинялся. Он улетел на три дня в Нью-Йорк. Сказал, что не сможет по утрам доставлять вам газеты.
Мы с Виктором облегченно вздохнули.
— Но он передал вам это. — Майкл поднял увесистый сверток: — Сюрпрайз! Джон сказал, что здесь никакой коммунистической пропаганды.
Майкл оставил сверток на тумбочке. Когда он вышел, мы распечатали пакет. Там две книжки. Два увесистых тома без картинок. Естественно, на китайском.
За завтраком Майкл интересуется, как нам подарки. Виктор отрывается от комиксов. Мы вместе натужно улыбаемся:
— Передай Джону наши благодарности. Вот угодил так угодил.
С лица Майкла не сходит довольная улыбка. Ему нравится роль координатора и продюсера.
— Ешьте. Набирайтесь сил. Предстоит много работы. — Майкл обращает наше внимание на плотный график, написанный им от руки. Большой плакат с расписанием висит на кухне. Каждое утро Майкл вносит в него необходимые изменения:
— Сегодня мы приглашены в три школы, на радио и телевидение.
— Слышал, Виктор? — спрашиваю.
Шлейкин с головой увлечен комиксами.
— Виски!
— А? Что?
— Как Том? Он все еще не догнал Джерри?
— Отстань. В кои-то веки нашел интересную книгу.
Чудеса! На американской радиостанции ведущие общаются со слушателями в прямом эфире без всяких заранее подготовленных и «залитованных» цензурой текстов. Они посиживают за круглым столом в удобных креслах. Непринужденно болтают. Иногда из фирменных кружек с логотипом станции прихлебывают горячий кофе. Весело смеются. Мы через толстые стекла наблюдаем за их работой.
— А цензура, допустим, у вас есть? — спрашиваем владельца радиостанции.
— Что это? — с наигранным удивлением спрашивает босс.
— Ну, такие люди…
Мы объясняем какие.
— Нет таких.
— И можно говорить что угодно?
— Конечно, если это не противоречит законодательству.
— Всё-всё?
— Абсолютно.
— Обо всех?
— Кроме меня, разумеется. Хотите, вы можете выступить. Желаете?
— Желаем, — смело отвечает Виктор.
Хозяин делает знаки ведущим. Ассистент осторожно, без шума, заводит нас в студию. Подает наушники. Над столом висит несколько микрофонов. Их опускают пониже. Лена ужасно волнуется. Лицо и шея пошли красными пятнами. Она вообще впервые на радиостанции. Ведущий улыбается нам, продолжая о чем-то говорить в микрофон. Потом ставит музыку. Во время паузы босс объясняет ему, кто мы и откуда. Ведущий удивлен и, кажется, обрадован. Есть новая тема для беседы с радиослушателями.
— Снова в эфире, — говорит он, щелкнув тумблером. — К нам приехали русские: офицер полиции, учительница и журналист. Можете задавать им вопросы.
Мы по очереди представляемся и здороваемся с аудиторией. На студию обрушивается шквал звонков. Спрашивают про Горбачева, перестройку, угрозу ядерной войны. О ценах и зарплатах. Мы отвечаем. Слушатели довольны. Многие благодарят только лишь за предоставленную возможность услышать русскую речь. Телефоны не умолкают. Ведущий доволен. Майкл и владелец радиостанции слушают беседу в коридоре. Демонстрируют нам торчащие вверх большие пальцы. В конце беседы слушатели просят исполнить какой-нибудь номер. Радиостанция как-никак музыкальная.
— Есть ли песня про русских полицейских? — интересуется кто-то.
— А как же, — говорит Виктор и задумывается. — Сейчас вспомню. Ну, может быть, эта. Он громко запевает:
Это было весною, зеленеющим маем,
Когда тундра надела свой весенний наряд.
Ведущий достает откуда-то банджо. Ловко подбирает мелодию.
Мы бежали с тобою, замочив вертухая,
Вдоль железной дороги Воркута — Ленинград.
— Вертухай — это охранник. Можно сказать, полиция, — быстренько, до припева, объясняет Виктор Лене и ведущему.
Жестом Шлейкин требует от меня поддержки. Я подхватываю:
По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд «Воркута — Ленинград».
Дождик капал на рыло и на дуло нагана,
Вохра нас окружила: «Руки кверху!» — кричат.
— Вооруженная охрана — почти милиция! — снова объяснил Виктор.
Но она просчиталась, окруженье пробито,
Кто на смерть смотрит прямо, того пули щадят.
«По тундре, по железной дороге…» — разносится по всему штату.
В тот же день были встречи в нескольких школах. Речь держали мы с Виктором. Лена переводила.
Шлейкин докладывал коротко: Америка его поразила. Есть всё: богатые дома, шикарные автомобили, красивая одежда, разнообразные продукты.
— А у вас в стране?
— А у нас ничего нет, — отвечал Виктор и садился.
Перед тем как перевести, Лена долго на него смотрела. Как бы ждала разъяснений.
— У меня все. — Виктор демонстративно скрещивал на груди руки. — Нет, я, конечно, могу перечислить, чего конкретно у нас нет, но, боюсь, это займет слишком много времени.
— Сергей, ты слышал? — дискуссия разворачивалась на глазах удивленной аудитории. — Кого пригрело родное государство на своей истощенной груди?
— Продуктов нет, одежды нет. Даже носков нет в магазинах, — упирался Виктор, задирая штанину.
— И об этом надо говорить именно здесь?
— Да, именно.
— При детях?
— Пусть знают правду. И не повторяют наших ошибок.
Все это время зрители молча переглядывались.
— Господи. Я это переводить не буду. Хорошо хоть форму не надел.
— Здесь я высказываю свое частное мнение.
— Что говорит уважаемый Виктор? — наконец не выдержал Майкл.
— Простите, у нас тут небольшая дискуссия, — извинилась Лена. — Уважаемый Виктор сказал, что в нашей стране не все так замечательно, как в Америке. Не так красивы дома, не столь разнообразны товары. Но и у нас есть много положительного. Об этом расскажет, — тут Лена с улыбкой повернулась ко мне, — уважаемый Сергей. Или начнем с вопросов?
Вопросы задавали самые дурацкие:
— Можно ли детям учиться в Советском Союзе?
— Правда ли, что еду мыготовим на кострах?
— Платят ли деньги за работу?
— У вас есть Конституция?
— А суд?
Я пытался сгладить общее негативное представление об СССР. Рассказывал о достижениях в космосе, науке и технике. Вспомнил литературу и театр. Кино и живопись. Короче, как-то неожиданно для себя заделался лектором-пропагандистом.
Приезжаем в другую школу. Посещаем третью. Везде одно и то же. Огромное, дремучее невежество. Просят рассказать о медведях, которые гуляют по улицам Москвы. О домах из снега и льда, где живут русские крестьяне. «Правда, что они едят сырое мясо?»
Мне это стало надоедать. От бесконечных вопросов голова пошла кругом. Чувствую, не хватает опыта. Садится голос. Майкл снова гонит авто на очередную встречу. Просит выступать коротко. «Мы в цейтноте. Не успеваем на телевидение». В машине договариваемся с Леной. Чтобы сэкономить время для ответов, я начну сам излагать всю эту чушь про нашу страну. Перечислю многие дурацкие небылицы, услышанные сегодня. А потом все это разом опровергну. Коротко и эффектно. Задумано вроде неплохо…
В общем, приезжаем в следующую школу. Выходим на сцену переполненного актового зала. Выстраиваемся у стоек с микрофонами. Нас фотографируют. Вспышки камер мешают сосредоточиться. Сразу после аплодисментов начинаю:
— Вы живете в замечательной стране. Получаете образование в чудесных школах. А известно ли вам, что детям в Советском Союзе запрещено учиться?
После первых же слов в зале наступает тишина. Я продолжаю: — Тех, кто стремится к знаниям, читает книжки, наказывают. Их родителей штрафуют, сажают в тюрьму. Поэтому люди в нашей стране безграмотны. Они по-прежнему живут в непроходимых лесах. Готовят на кострах. Едят лишь тогда, когда удается подстрелить дичь или выудить рыбу. Телевидения, радио, дорог нет. Автомобили мы впервые увидели в Америке.
— Больницы, поликлиники, лекарства отсутствуют напрочь, — подхватывает Виктор. — Все больные — обречены. Стариков в СССР раз в год загоняют на деревья.
— Это еще зачем? — переспросила Лена.
— Потом их начинают трясти. Тех, кто удержался, оставляют жить еще на год. Кто свалился, добивают палками. Как говорится, не взыщите…
В зале послышался стон.
— Ну, это ты загнул, Виктор, — говорю. — Не увлекайся. Делай все-таки поправку на аудиторию.
В зале мертвая тишина. Ужас охватил присутствующих. Вдруг послышались легкие всхлипы. В первых рядах девчонки младших классов вытирали слезы.
Кажется, подошло самое время признаться, что все сказанное — чушь и нелепица. Дикие, беспочвенные измышления о нашей стране. Ложь, распространяемая западной пропагандой. Неправда, которой морочат головы простым американцам…
Но тут на сцену вышли директор школы и двое энергичных парней. Извинившись, директор сказала, что за русскими гостями приехали люди с ТВ. Нам надо срочно выезжать. Звезда телевидения Нэнси Кодин ждет нас на своем шоу в прямом эфире.
— Быстрее. Умоляем, быстрее, — просили телевизионщики. — Вас ждет сама Нэнси Кодин.
Мы пытались объясниться: «Подо… Да подо… Да подождите вы!»
Ждать не стали. Под рыдание и аплодисменты школьников нас почти силой увели из зала.
— Не плачьте, мои дорогие, — успела крикнуть директор, — великая Америка через океан протянет руку советским детям. Она поможет России. Избавит ее от коммунистического гнета.
У выхода нас догнала какая-то девица с портативным магнитофоном.
Придержала Виктора за рукав.
— Скажите, я не совсем поняла. Стариков на деревья поднимают или они забираются туда сами? — перевела Лена.
Виктор остолбенел. Впервые использовал знание английского по назначению:
— How old are you?
— Какое это имеет значение, — обиделась девица.
— Соображать надо, — не выдержал Шлейкин.
Лена перевела мягче:
— Как вы сами думаете?
— Мне кажется, используют автоподъемники! — крикнула она нам вслед после некоторого замешательства. — Правильно?
Начала телевизионного шоу мы ожидали в большом кабинете владельца студии. Он разговаривал по телефону. Кого-то долго выслушивал. Затем отвечал посмеиваясь. Мы рассматривали просторные апартаменты. На стенах плакаты международных телефестивалей. Цветные фото в дорогих рамах. Хозяин кабинета за трибуной NAB. Он же в компании Теда Тернера и Шварценеггера. Он же в офисах АБС, CBS и NBC. В застекленных шкафах многочисленные награды и памятные знаки.
— Нехорошо как-то получилось в школе, — тихо говорит Лена.
— Да, неудачно, — соглашаюсь. — Стоило торопиться, чтобы здесь ждать неизвестно чего…
— Извините, — улыбнувшись, положил трубку хозяин кабинета. Он снова рассмеялся. Начал объяснять:
— Позвонили с телеканала «Большая рыбалка». Просят запустить их в нашу кабельную сеть. Отвечаю: нет свободных частот. К тому же есть схожая программа ваших конкурентов. «А вы их уберите и поставьте нас, — говорят. — Все равно они скоро закроются». «С чего вы взяли?» — спрашиваю. «Это же очевидно, — говорят. — Взгляните на экран. Посмотрите, какую мелкую рыбешку таскают конкуренты. С такими уловами долго не протянешь. Вот у нас рыба так рыба. Знаете, какие экземпляры мы покажем вашим телезрителям? Глаза — как мячи для игры в регби».
Хозяин кабинета снова смеется: «Одно слово — рыбаки. У вас в России такие же?»
— Насчет регби не знаю, — серьезно говорит Виктор, — но вот в реке Амур, на Дальнем Востоке, встречается рыба калуга. Так вот, ее длина — более пяти метров. Вес — полторы тонны.
Хозяин кабинета, выслушав перевод, смеется и закрывает уши:
— Хватит. Хватит. Хватит. По-моему, рыбаки везде одинаковые. Достаточно фантазий. Все в павильон!
— Вижу, вы мне не верите, — не унимался Виктор. — А зря. Есть официальные данные.
До начала шоу Виктор подсаживается к владельцу студии.
— Слушайте. Русскими сувенирами интересуетесь? Ну, там ложки, поварешки, матрешки. Резьба по дереву. Настоящая хохлома.
Американец вопросительно смотрит на Лену.
— Виктор желает всем удачи… Шлейкин, я скоро тебя этими матрешками прибью.
Телевидение для американцев — все. Телеведущие — земные боги. После десятиминутной беседы с Нэнси Кодин мы с Виктором проснулись знаменитыми. На следующий день многие жители городка нас радостно узнавали. Еще бы, мы общались с самой Нэнси. Майкл гордо показывал отпечатанные ночью фотографии, сделанные на ТУ.
— Это русские, — говорил он про нас, встречая знакомых.
— Хай, — с дежурными улыбками кивали нам американцы.
— Они вчера снимались в программе Нэнси Кодин.
— Неужели?! — в глазах интерес. — Стойте. С этого места расскажите подробнее.
— Что рассказать? Про Россию?
— Нет, про Нэнси Кодин.
Лично я запомнил немногое. Больше всего — роскошную, обворожительную, волнующую улыбку телезвезды. Когда она улыбается зрителям — это море любви. Если лично тебе — океан счастья. Вот сидит в павильоне человек — симпатичная, приятная женщина. Не более того. Но включается камера. И экран наполняет яркая, ослепительная улыбка такой энергии и силы, что хочется надеть солнцезащитные очки. Подойдите к зеркалу. Попробуйте осклабиться всеми тридцатью двумя зубами. Правда, ужасное зрелище? У американских дикторов широкая сияющая улыбка — это мощный фонтан обаяния.
И еще одну профессиональную деталь сохранила память. Впервые я увидел, как работает телесуфлер. В то время наши дикторы старательно заучивали большие тексты. Иногда им разрешалось заглядывать в лежавшие под рукой сценарии. В американской студии ассистентка укладывала листы с текстом на специальный транспортер. Бумажки медленно двигались по ленте. После некоторых оптических комбинаций слова чудесным образом возникали на прозрачном экране перед камерой. Нэнси легко и непринужденно читала текст. В самом конце программы юная ассистентка неловким движением задела ленту транспортера. Несколько страничек улетели на пол. Возникла пауза. Пунцовая ассистентка кинулась собирать бумаги. Второй оператор бросился ей на помощь. Нэнси замерла с божественной улыбкой на лице, как бы вспоминая текст. Через секунду он снова поплыл на экране. Обворожительная Нэнси дочитала до конца. Потом сфотографировалась и попрощалась с нами. Когда мы уходили, Нэнси с неизменной улыбкой бросила что-то коротко и жестко режиссеру.
— Знаете, что она сказала в конце, — уже в машине перевела Лена: — Эта ассистентка никогда больше не должна у нас работать.
Утром следующего дня к нам на этаж поднялся взволнованный Майкл.
— Вы стали популярными людьми. Представляете?! Сегодня вас приглашают в университет. Просят сделать доклад. Или прочитать лекцию. Не знаю, как точно.
— Я согласен, — говорит Виктор.
— О чем, — спрашиваю, — ты будешь докладывать? «Как нам реорганизовать Рабкрин?» Или, может быть, перескажешь статью «Великий почин»?
— А что, я многое помню.
— Нет, — говорю, — Майкл, хватит вчерашнего позора. К таким вещам надо серьезно готовиться. Да и на какую тему выступать?
— Сказали, на любую.
— Нет, не поедем.
— Они заплатят, — сказал Майкл.
— Ты сказал «заплатят»? — напрягся Виктор.
— Нуда.
— То есть дадут деньги?
— Разумеется.
— Сколько?
— Я не знаю.
Мы с Виктором переглянулись.
— Хорошо, Майкл, едем.
— Но только из уважения к тебе!
Довольный Майкл тут же начал звонить в университет. Еще бы. Рядом с нами он становился популярным человеком. Вчера — радио, телевидение. Сегодня — приглашение из университета. На том конце провода кто-то взял трубку. Майкл радостно передал, что мы согласны.
— Спроси, мне форму надевать? — поинтересовался Шлейкин.
Майкл уточнил. Потом переспросил еще раз. Положил трубку. Удивленно пожал плечами:
— Ответили, что форма не нужна.
— Ты верно понял?
— Именно так. Сказали твердо. Форма исключается.
Приезжаем в университет. Я, Лена и Виктор. Молодой профессор ставит задачу. Мы будем выступать перед студентами четвертого курса ровно по пятнадцать минут. Вопросов из зала не будет. После того, как сделаем доклады, можем уходить.
— Кто будет переводить? — спросила Лена. — Требуется моя помощь?
— Нет, — ответил профессор, — это наша проблема. Можете погулять в саду. У нас прекрасные цветники, имеются редкие виды деревьев.
Лена сначала обрадовалась:
— Слава богу. Не нужно повторять всякую вашу ахинею.
— Но-но, — сказал Виктор, — несли бы ахинею, не пригласили бы.
— Сама удивляюсь, — подумав, сказала Лена. — Знаете, мне вас даже отпускать как-то боязно. За Сергея я более-менее спокойна. А вы, Виктор, можете наговорить бог весть что, — она повернулась к профессору: — Какие темы вас интересуют?
— Все что угодно. Мы хотим больше знать об СССР.
— Вначале расскажу в общих чертах о политической ситуации в стране, — предлагаю я. — Затем о свободе слова и проблемах журналистики.
— О’кей, — соглашается профессор.
— А я, — говорит Виктор, — дам общую характеристику дорожно-транспортных происшествий в городе и… доложу о структуре ГАИ.
— Замечательно.
— Вы думаете, это действительно заинтересует аудиторию? — удивляется Лена.
— О да! Крайне интересно.
— Лена, спроси про деньги, — тихо говорит Виктор. — Не доверяю я этим капиталистам. Прочтешь лекцию, а заплатить забудут. Как у нас в ГАИ. Наобещают, а потом заныкают.
— Здесь не ГАИ, — сказала Лена, — переводить не буду.
— Тем более, — говорю, — что свои премиальные вы на дежурстве не упустите.
— Естественно, — соглашается Виктор.
— Пошли?
Заходим в аудиторию. Я, профессор и Виктор. В зале — человек семьдесят. Молодые симпатичные ребята. Почти как наши. Только одеты поярче. И держатся посвободней.
Все встали. Мы поздоровались с Виктором по-русски. Они нестройно ответили на своем.
— Прошу, начинайте, — дал мне знак профессор.
Ну, я начал. Рассказал о политических изменениях, новых веяниях. О перестройке, гласности, слабых ростках демократии. В общем, поведал кое-какие новости из центральных газет.
Вижу, слушают внимательно. С интересом. Вопросов не задают. Многие что-то пишут. Вроде даже конспектируют. Только разошелся. Преподаватель машет — стоп. Теперь Виктор.
Виктор растерялся. Поплыл. Отошел от намеченного плана. Начал с деталей.
— Не все так плохо в государственной автоинспекции, как многие из присутствующих здесь, наверное, думают. — Виктор ждал опровержений выдвинутого тезиса. Зал держался индифферентно. Пришлось заходить с другого боку. — Вот был у меня недавно такой случай. Останавливаю «жигули». За рулем тетка лет пятидесяти. Ну, вы знаете наших деревенских. Можно сказать — баба. Прямо на моих глазах за минуту она делает шесть нарушений ПДД. Шесть! ПДЦ — это правила дорожного движения. Понятно?
Переехала сплошную — раз. Развернулась через два трамвайных пути — два, встала под знаком «остановка запрещена» — три…
— Виктор, — говорю тихо, — не отходи от намеченных тезисов. При чем тут бабка?
— История-то хорошая, — отвечает Виктор. — Я ведь с нее ничего не взял. — Шлейкин снова повернулся к аудитории. — Я ее отпустил. Вижу, тетка с деревни. Ну что с нее брать. Мы ведь не изверги какие.
Аудитория никак не отреагировала. Глядела на докладчика так же сосредоточенно и внимательно. Многие продолжали конспектировать.
— Ладно, — успокоившись, сказал Виктор. — Теперь о статистике ДТП в нашем районе. Статистика, прямо доложу, нерадостная. Удручающая, надо признать, статистика. Приведу несколько цифр… — Шлейкин задумался. Посмотрел на меня. Сказал озабоченно: — Слушай, никаких цифр не помню. Чего говорить-то?
Аудитория терпеливо ждала. Время топталось на месте так же медленно, как Шлейкин за трибуной.
— Можно о правилах дорожного движения? Вкратце.
Профессор не возражал. Виктор начал со знаков.
— Существуют несколько видов дорожных знаков. Предупреждающие, запрещающие, информационные… Предписывающие. А также знаки приоритета и сервиса…
На этом и закончили. Профессор указал на часы и попросил студентов встать. Они поднялись и зааплодировали. Коротким жестом преподаватель усадил аудиторию. Студенты достали ручки, бумагу и тут же начали что-то писать. Кажется, мы с Виктором их больше не интересовали. Вышли в коридор. Нас поджидали взволнованные Майкл и Лена.
— Ну как?
— Неясно, — говорю. — Лично у меня сложилось двоякое впечатление.
— Что тут неясного? — сказал Виктор. — По-моему, абсолютный успех. Слыхала, как хлопали? Стоя аплодировали.
Вышли на улицу. Майкл поинтересовался, как мы все-та- ки выступили. Профессор ответил, что хорошо. Он достал из кармана два конверта. Для меня и Виктора. Еще раз всех поблагодарил. Извинившись, вернулся в аудиторию.
Мы сели в машину. Виктор открыл конверт. Лицо его все еще пылало.
— О боже! Не верю. — Виктор вытащил и расцеловал зеленую купюру. — Пятьдесят баксов! Не может быть! Серж, посмотри у себя. Возможно, это на двоих?
Открываю свой конверт:
— Аналогично.
— Невероятно, — ликует Виктор. — Пятьдесят баксов за четверть часа!
— Это очень большие деньги, — соглашается Майкл. Видно, что он сам не ожидал таких высоких гонораров. — Очень, очень хорошие деньги.
Майкл завел двигатель. Виктор тут же приступил к расчетам.
— Пятьдесят за пятнадцать минут. Двести за час. Тысяча шестьсот баксов за смену. Майкл, какая у тебя зарплата?
— Это не принято обсуждать в Америке, — говорит расстроенная Лена. Ей было обидно. Не удалось заработать.
— Ничего, Майкл свой. Сколько получаешь в месяц, Майкл?
Майкл что-то долго подсчитывал в уме. Наконец ответил:
— Шесть тысяч. Но это без вычета налогов. Надо отнять иншуренс — страховки за дом, машину, медицинское обслуживание, банковские кредиты… Остается меньше половины.
— А я, Майкл, видал? Могу на одних лекциях заработать за день тысячу шестьсот долларов!
— Это очень много. Даже для Америки.
— Майкл, организуй нам еще выступления. И вообще, бросай работу. Создадим фирму. Будем ездить по стране. Читать лекции. С нами не пропадешь.
— Хорошо. Я подумаю, — улыбается Майкл.
В тот день как-то неожиданно еще раз всплыла тема зарплат.
Назавтра мы собрались ехать в Вудсток. К подруге Барбары и Майкла.
— Для этого, — сказала Барбара, — мне придется работать ночью.
В небольшой мастерской, стоявшей рядом с домом, Барбара занималась производством изделий из керамики. Она изготавливала нехитрый ширпотреб: вазы, кувшины, рамки под фотографии, сувениры с видами Аннаполиса и Балтимора, ангелочки, цветочки. Сама придумывала темы и формы. Сама лепила, раскрашивала, обжигала…
За ужином мы вызвались помочь хозяйке.
Спустя час под ее присмотром Виктор месил глину. Барбара с Леной заливали формы. Мы с Майклом обжигали глиняные изделия в специальной электрической печи. Работали допоздна. Наговорились досыта.
— Барбара, а какой у тебя отпуск?
— Не знаю.
— Как это? — удивляется Виктор. — У меня больше тридцати. Двадцать четыре дня. Плюс выходные, плюс отгулы, плюс северные. А у тебя?
— Не знаю, — улыбается Барбара.
— Ну вот, к примеру, тридцать дней в году можешь взять?
— Могу.
— А сорок?
— Конечно.
Обалдевший Виктор прекращает работу.
— А два месяца?
— Да хоть полгода, — переводит Лена.
У Виктора падает инструмент из рук.
— Ты можешь взять отпуск на полгода?
— Разумеется, — говорит Барбара, — я могу отдыхать еще дольше.
— Так почему же мы здесь вкалываем? Бери отпуск. И бросим это дело.
— А кто мне заплатит?
— Как кто?
Для нас очевидно: за все рассчитывается государство.
— Кстати, сколько раз в месяц тебе платят? У нас два раза. Аванс и получка. А у вас?
— У нас зарплату я могу получать хоть каждый день. Виктор остолбенел.
— Cepera, ты слыхал? Отпуск — сколько хочешь. Зарплата каждый день. Коммунизм. Устрой меня в свою контору.
— В какую?
— Ну, где ты получаешь зарплату.
— Я сама себе плачу.
— Возьми меня к себе.
— Хорошо. Считай, что ты принят.
Виктор доволен.
— Можно еще один вопрос? — через минуту спрашивает Шлейкин.
— Можно.
— Барбара, — говорит Виктор, отвлекшись от мешалки. — Что?
Виктор подмигивает нам с Леной:
— Барбара, когда у нас зарплата?
— Вот мы доделаем эту партию и сдадим в магазины. Они будут долго продавать. Затем на мой счет перечислят деньги. Я вычту из этой суммы все затраты…
— Какие такие?
— Те расходы, которые требуются для производства. — Барбара начинает перечислять: — Глина, краски, транспорт, электричество. В расходы могут войти затраты на рекламу, на организацию презентаций.
— Это что?
— Угощение для публики… Иногда я устраиваю показ новых образцов. Накрываю стол.
— Пиво может войти в затраты?
— Почему нет? И спиртное, и продукты… Еще я плачу налоги. Много налогов. То, что остается, может идти нам на зарплату.
— А если не остается. Такое бывает?
— Бывает.
— И что тогда?
— Тогда нам с тобой нечего будет есть, — просто отвечает Барбара.
Виктор некоторое время молчит, сосредоточившись на работе. Затем говорит:
— Барбара, ты меня еще не записала в свою фирму?
— Уже.
— Вычеркивай на фиг! — требует Шлейкин. Под общий хохот.
Утром мы тщательно заворачиваем продукцию в бумагу и упаковываем в коробки. Складываем их у самой дороги. Умываемся, приводим в чистоту одежду, завтракаем. Выходим из дома. Недовольный Виски лениво посматривает на нас заспанными глазами.
— Жди, — приказывает ему Майкл.
Барбара чиркает какую-то записку и кладет ее в верхний ящик:
— Поехали.
— А кто примет товар? — забеспокоился Шлейкин.
— Заберут без нас.
— Как это? Я не поеду, — говорит Виктор.
— Почему?
— Вдруг сопрут. Правда жалко. Всю ночь пахали. Мы с Виски остаемся. Будем стеречь.
Барбара и Майкл только улыбаются.
— Чего смеетесь? Я серьезно. Пропадет же работа!
— Украдут? Это исключено. По крайней мере, никогда такого не было.
Виктор не успокаивается:
— Еще товар надо передать по накладной. Как положено. Сдал — принял.
— Я вложила перечень изделий, — говорит Барбара.
— А если торгаши разобьют? Потом скажут, так и было. Или недостача. Вы еще не знаете этих прохвостов. Украдут и всё свалят на вас.
Майкл и Барбара только усмехались:
— Виктор, ты плохо думаешь о людях.
— Я их знаю с рождения. Как же я, по-вашему, должен о них думать?
— Поехали, Виктор.
Шлейкин еще какое-то время упирается. Потом все же опускается рядом со мной на заднее сиденье.
— Серж, ну хоть ты им скажи. Что за страна? Прямо как дети.
По полудню добрались до дома Беверли. Он находился на опушке леса. Большое поместье с хозяйственными зданиями и садом. Встретили нас хозяйка дома Беверли и ее тринадцатилетняя дочь Сара. Они стояли на крыльце большого трехэтажного дома. Дородная Беверли напоминала купчиху Кустодиева. Худенькая Сара терялась в складках ее широкого платья. Барбара представила нас. Майкл расцеловался с хозяйкой дома. Сара сказала по-русски:
— Здравствуйте. Добро пожаловать!
— Привет, — почему-то сразу обрадовались мы. Будто встретили родного человека.
— Я учу русский, — сказала Сара.
— А мы его уже знаем, — ответил Виктор.
Сара рассмеялась и тут же вызвалась показать нам свои владения. Мама не возражала.
В двух сотнях метров от дома находилась конюшня. Там шумно перебирали копытами несколько статных жеребцов.
— Мы с мамой по воскресеньям занимаемся верховой ездой. Это Дон, а это Ваня. Правда, красивые?
В углу конюшни стояло полдюжины клеток. В них, будто направленные радиолокаторы, шевелились длинные уши.
— Мы еще выращиваем кроликов.
— Для еды? — спросил Виктор.
— Простите, я не хорошо понимаю.
— Для еды, — я хлопнул Виктора сзади, — что вы им даете?
— Чем кормим? Морковка, капуста, — Сара показала на ящик с овощами. Можете их угостить. — Правда, они смешные?
Затем она повела нас вглубь чистого, светлого леса. Остановились на берегу небольшой речушки. В прозрачной тени веселились стайки мелких рыбешек. Тут же, не обращая на них внимания, лениво шевелили хвостами довольно крупные экземпляры.
— Это форель, — сказала Сара.
— Ее можно поймать и съесть? — поинтересовался Виктор.
— Разумеется. Но мы этого не делаем. За рыбой ездим в супермаркет.
— А другим людям можно здесь рыбачить?
— Нет. Это частная территория. Видите, — Сара показала на металлический колышек с надписью «Private».
— Привет, — прочитал Виктор.
— Прайвет, — улыбнулась Сара. — Как это по-русски? Частное владение.
— То есть ваша собственная речка.
— Не вся, — рассмеялась Сара, — только часть.
Она снова побежала вперед.
— Интересно, — сказал Виктор вполголоса, — простым людям здесь хоть искупаться можно?
— Была бы твоя речка, ты бы разрешил? — спрашиваю.
— Нет, конечно, — без раздумий ответил Виктор.
Сара остановилась у небольшой излучины.
— Как-то папа ловил рыбу в этом месте.
— Ага, все же ловил.
— Но потом отпускал.
— А вот это зря.
Мы вышли из леса. На раскидистом дереве, стоявшем на опушке, был устроен широкий настил.
— А это что?
— Место для охоты. Папа отсюда стрелял оленей.
— Олени тоже ваши, домашние?
— Что вы. Они дикие. Но иногда заходят в наш лес.
— Если б на мою дачу, — по ходу замечает Виктор, — забрели олени, ни один бы не унес копыта…
— А у нас их полно. Для них на зиму мы припасаем много кормов.
Вышли на поляну, усеянную грибами.
— Их можно есть? — спросил Виктор.
— Не знаю. Грибов для еды полно в супермаркете.
— Это ж сколько добра пропадает, — тихо возмущался Виктор. — Сара, у вас столько прекрасной земли. И она так плохо используется.
— Почему?
— Пустует. У вас, к примеру, есть огород?
— Что?
— Место, где можно выращивать растения для еды.
— Есть такое, — подумав, говорит Сара. — Сейчас покажу.
Обогнув бассейн, гараж и спортивную площадку, мы вышли к дому с северной части. Там Сара показала огород. Размером в пять квадратных метров.
— Здесь мы выращиваем растения, которые можно использовать для еды, — гордо сказала Сара. — Один куст картошки, один томатов, одна фасоль, один стебель кукурузы, вот свекла, это бобы, вот кочан капусты и огурец…
Заметив удивленное лицо Виктора, Сара объяснила:
— Можно я сразу отвечу на ваш вопрос, Виктор? Конечно, всего этого мало для еды. Но вполне достаточно для того, чтобы знать, как что растет и это… Родит плоды.
— Плодоносит.
Вошли в дом. Осмотрели комнаты. Мы с Виктором подавленно молчали. Конечно, мы и раньше много раз видели подобную роскошь, в кинофильмах…
Сара показала кабинет. Библиотеку с огромным количеством дорогих старинных фолиантов. Свою розовую комнату. Бильярдную. В зале для музицирования стоял концертный рояль. Рядом, на подставках, электрогитара и саксофон.
В углу сияла профессиональная ударная установка с несколькими барабанами и многочисленными тарелками.
— На ней играет мама, — похвасталась Сара.
Спустились вниз. Прошли через зимнюю оранжерею и гостиную. Сара сказала, что торопится. Ей надо ехать на занятия по танцам. Она берет частные уроки.
Сказала на прощание:
— Виктор, хотите, я вам покажу еще одно место, где есть растения, овощи, фрукты и остальное пригодное для еды?
— Конечно, — оживился Виктор.
Сара торжественно открыла дверь в столовую. Посреди комнаты — большой обеденный стол. Барбара, Лена и Беверли как раз заканчивали сервировку.
Через некоторое время мы дружно махали Саре из окна. На танцы ее увозил сверкающий черный лимузин.
Что показывают гостям после того, как они хорошенько выпили и закусили?
У нас иногда семейные альбомы. В Америке — то же самое.
— Это мой дед. — Беверли листает старый альбом. — После революции он бежал из России. У него были свои пароходы на Волге. Потом он женился в Америке и тоже занимался судоходством. Когда-то учил меня русскому языку. Правда, безуспешно. У Сары получается гораздо лучше.
— Она говорит великолепно, — подтверждаем мы.
— Мои мать и отец. Вот я в первом классе. А это на тренировке нашей школьной сборной по баскетболу. Это в университете. Ой, это лучше не смотреть. — На фотографии полуобнаженная Беверли в компании таких же раздетых девиц. Рядом длинноволосые парни.
— Это Вудсток. Хиппи. Может, слышали? Это тоже Вудсток. На концерте «Роллинг стоунз». Это мы обкурились травкой. Это тоже нельзя.
— Слушай, Беверли наш человек, — тихо говорит мне Виктор. — Она мне нравится все больше. — Виктор подмигивает Беверли. На особо пикантных фото требует задержаться дольше. — А это кто? Ты, Барбара? Никогда бы не подумал.
— Беверли, немедленно закрой, — кричит Барбара.
— Представляете, — говорит Майкл, — сколько мне надо было трудиться, чтобы сделать из нее приличного человека.
Барбара смеется и понарошку стучит Майклу по голове.
— После Вудстока я начала учиться на гитаре. А Беверли — на ударных, — говорит Барбара.
На фото — выступление студенческой группы. На сцене одни девчонки.
— Это наш джаз-бенд.
— Может, тряхнем стариной? — предложила Беверли.
— Ни за что. Я все забыла.
Разлили еще бутылочку. Поднялись на второй этаж. Барбара взяла электрогитару. Беверли села за ударники. Майкл опробовал саксофон. Оказывается, ничто не забыто…
Стемнело. В гостиной Майкл, запуская магнитофон, объявил:
— Stevie Wonder «I just called to say I love you»! — Он пригласил Барбару на медленный танец. Я танцую с Леной. Виктор кружит Беверли. Движется он, надо признать, неплохо. Только вот правая рука Шлейкина все время соскальзывает с талии вниз. Беверли ее деликатно поднимает. Мы движемся рядом. Иногда Лена по просьбе Виктора переводит.
— Лена, спроси, где муж Беверли. Я желаю познакомиться с человеком, которому выпало счастье иметь такую обаятельную, привлекательную, восхитительную супругу.
Смутившись, Беверли благодарит за комплимент. Коротко отвечает.
— У нее нет мужа, — переводит Лена.
— Вот как?
— Они расстались.
Виктор тут же обнял Беверли крепче.
— А чем он занимался? Чтобы иметь такой дом, нужны большие деньги.
— Он ничем не занимался, — сказала Беверли. — Все это — старые русские деньги. Old money, — повторила она. — Муж удил рыбу, охотился, катался на лошадях. Месяцами никуда не выезжал и нигде не работал.
— Лен, переведи. — Виктор прижал Беверли еще крепче. — Я тоже люблю рыбачить, охотиться и кататься на лошадях.
— За это я его и выгнала, — сказала Беверли.
Весь вечер Шлейкин не отходил от хозяйки дома. Приобняв Беверли, он ей что-то шептал. Иногда достаточно громко. Чтобы слышала Лена.
— Между прочим, я полицейский. Капитан. На хорошем счету у руководства…
— Он капитан полиции, — сухо и бесцветно между глотками кофе, переводила Лена. — Говорит, что перспективный.
Виктор игриво тронул пальчиками плечо Беверли:
— Четыре звездочки плюс, четыре небольших шага, и я — генерал.
Беверли отвела пальчики Виктора в сторону.
— Четыре звездочки минус, — улыбаясь, сказала она, — и вы вообще не офицер.
— Что?
— Тебя давно пора разжаловать, — сказала Лена.
— Попрошу точнее с переводом, — требовал Виктор. Он не собирался так просто отступать:
— Мы сможем встретиться завтра?
— Нет, ни завтра, ни послезавтра, — Беверли произнесла это с некоторым сожалением. Кажется, Виктор ей чуточку нравился. — Я всю неделю работаю.
— Где?
— Так. В Вашингтоне, — неопределенно ответила Беверли.
— Надеюсь, — игриво сказал Виктор, — в этот город ходит общественный транспорт?
Расставались поздно вечером, когда вернулась Сара. Беверли выглядела счастливой и чуть-чуть взволнованной:
— Я признательна всем за чудесный вечер. Давно так не веселилась. Работа, работа. Сегодня, благодаря вам, я опять почувствовала себя молодой и… немножко русской.
— Мы еще увидимся? — настаивал Виктор.
Беверли пожала плечами:
— Боюсь, что это невозможно.
— Черкните адресок.
— Думаю, не стоит.
— А ведь я настойчивый, — с этими словами Виктор начал медленно отцеплять бэйдж — маленький цветной пластик на кофточке Беверли, висевшей в прихожей.
Кажется, Беверли не возражала.
Позже она и Сара стояли на ярко освещенном крыльце и долго махали нам вслед.
На обратном пути Барбара быстро уснула.
Мы с Леной тоже дремали. Не мог успокоиться перевозбужденный Виктор.
— Майкл, как думаешь, мы можем завтра съездить к Беверли?
Майкл не понимал. Виктор растолкал Лену.
— Ну что тебе?
— Извини, это срочно. Узнай, смогу ли я завтра встретиться с Беверли у нее на работе.
— О господи, — простонала Лена.
— Если Майклу трудно, я сам доберусь. Пусть только объяснит.
Лена перевела.
— На работу? — удивился Майкл. — Вряд ли.
— Почему?
Майкл промолчал.
— Лен, смотри, что у меня.
Виктор достал из внутреннего кармана цветной бэйдж. На синем фоне белая лента, вокруг — желтые звезды, весы с красно-белыми полосками. Крупным шрифтом — название организации и полное имя Беверли.
— Переведи.
— Department of justice. Federal bureau of investigation, — читает Лена и дрогнувшим голосом расшифровывает: — Федеральное бюро расследований. ФБР!
— Ничего себе, — говорю, — Майкл, видал?
— Видал, — спокойно отвечает Майкл. — Я не хотел говорить… Беверли — руководитель отдела. Давно уже генерал.
— Ё-мое, — выдохнул Виктор и откинулся на спинку: — Майкл!
— Что?
— Что-что. Предупреждать надо.
На следующий день отправились в полицейский участок. Коллеги Шлейкина встретили нас тепло и приветливо. С интересом разглядывали и хвалили форму Виктора. Фотографировались. Бесплатно. Шлейкин пытался узнать главное:
— А есть у вас такие случаи… Я слышал, что это бывает в некоторых государствах… Ну, что полицейский взял деньги. Например, у нарушителя правил дорожного движения.
— Зачем? — спросил лейтенант Боб Тейлор.
— Ну, как сказать… Чтобы потом его отпустить.
Лица у полицейских удивленно вытянулись.
— Понятно. А может полиция закрыть глаза на маленькие нарушения, если ее за это, как бы сказать, чуть-чуть отблагодарят…
— Какие нарушения?
— Ну, к примеру, мелкий бизнес. Торговля без лицензии.
— За это отблагодарят? Нет, — американцы снова удивились, — это совершенно невозможно.
Лена рассердилась: «Такие вопросы больше переводить не буду».
— Что, русский коллега, имеете в виду? — переспросил Боб.
— Виктор, — говорю, — если ты насчет фото и матрешек, то бесполезно. Не договориться.
Виктор и сам понял бесперспективность разговора. Сказал Лене:
— Переведи, я так и думал. Полицейские всех стран одинаковы. Мы твердо стоим на страже законов и общественного порядка. Как сказал ваш Маугли, мы все одной крови.
Про Маугли Лена опустила.
Затем мы осмотрели служебные помещения. Боб показал офисную технику. Начал излагать детали оперативной работы. Виктор заскучал, поинтересовался, где туалет. Догнал нас, красный и взволнованный.
— Может быть, — спросили американцы, — хотите посмотреть нашу тюрьму? Здесь рядом. Съездим ненадолго.
— Годика на два-три? — почему-то спросил Виктор.
Коллеги заулыбались.
— Ну что, глянем на каторжную жизнь заключенных в мрачных застенках и казематах?
Мы с Леной не возражали.
В конце встречи принесли сувениры. Красочные нашивки и штук тридцать ручек с эмблемой полиции.
— Мы взяли несколько шевронов. Виктор вытянул из коробки три ручки и разделил между нами.
— Берите еще.
— Хватит, — сказал Виктор.
— Давай возьмем, — говорю.
— Скромнее ведите себя. Неудобно, — шипит Виктор.
Мы прощаемся и выходим на улицу. Ждем Боба. Через пять минут он обещал отвезти нас в тюрьму. Подставляем лица под яркое солнце.
— Ты чего от ручек отказался? — спрашивает Лена. — Нормальные сувениры.
— Достаточно, — отчего-то разозлился Виктор. — Неудобно брать столько.
— Нет, серьезно. На тебя это не похоже.
— Хватит, — Виктор откинул полу милицейского кителя, сунул руку в карман и вытащил из него горсть ручек.
— Виктор, ты с ума сошел! Ты их спер?
— Ну почему спер? Так зацепил на ресепшене мимоходом, возвращаясь из сортира. Чисто автоматически.
— О господи! — Лене становится плохо.
— Откуда я знал, что они так расщедрятся? — оправдывается Виктор.
Прибыли в местную тюрьму. В сопровождении дежурного офицера прошлись по этажам. В целом понравилось. Чисто, просторно. Зашли в женское отделение. В камере около десяти коек. Заняты не все. Форма Виктора и здесь произвела впечатление.
— С кем это вы, лейтенант? — интересовались молоденькие узницы.
— Это русский полицейский.
— На чем вы его застукали?
— Сколько ему дали?
— Он не для отсидки.
— Для чего же?
— Крепить мир и дружбу. По обмену опытом. Вы разве не слышали? По утвержденной программе мы с русскими меняемся заключенными. Их арестанты приедут к нам. А вас отправят в Сибирь.
Заключенные отшатнулись:
— Не имеете права.
— Не всех конечно. Только добровольцев. Есть желающие по обмену в Сибирь?
Дураков не было.
— Имеется другое предложение, лейтенант. Оставьте русского офицера у нас.
— Хотя бы на ночь.
— Для чего он вам?
— Меняться опытом!
— Будем крепить мир и дружбу!
И смех, как в нашей тюряге. Лена перевела.
— В общем, я не против, — сказал Виктор дежурному офицеру.
— Что он сказал?
— Он согласен.
Обе женские камеры ликовали. Молодые негритянки просили остаться именно у них. Посыпались другие варианты.
Общий смысл: русский офицер не пожалеет.
Мы осмотрели еще несколько многоместных камер. В них — приличные койки, душ, комфортные санузлы. Рядом с общим холлом комната с двумя стиральными машинами и помещение для сушки белья. В холле на стене повешены телефонные аппараты.
— Заключенные могут позвонить домой, поговорить с родными, — объясняет Боб.
— А в другой город?
— Пожалуйста.
— Бесплатно?
— Оплачивает та сторона. Соединяют, если они готовы тратить деньги. Кстати, — добавил лейтенант, — количество разрешенных минут связи зависит от поведения арестантов. Здесь все направлено на то, чтобы клиенты встали на путь исправления.
«Клиенты» мирно гуляли по общему пространству. Пили кофе, читали свежие газеты. Короче, чувствовали себя как дома. Чуть вдали у окна на возвышенности безучастно сидел полусонный дежурный. Перед ним лежал телефон. Валялась пара открытых книг. Светился экран монитора, письменные приборы были аккуратно разложены, как у обычного конторского служащего. Полицейская форма явно выбивалась из общего офисного стиля.
— Почему он без оружия? — обратил внимание Виктор.
— Клиенты могут отнять, — просто объяснил офицер.
— Серьезно?
— Да, было много случаев.
Мы с Виктором удивленно переглянулись.
— Так безопасней для персонала, — добавил полицейский. — Это раньше дежурили с револьверами. Возникали проблемы. Теперь обходимся простой сигнальной кнопкой. В общем, внутри помещений несем службу без оружия.
— Это зря, — неодобрительно сказал русский коллега.
— Почему?
— Чуть что — можно стрельнуть или рукояткой по голове. Переведи, Лена.
— Предусмотрены ли у вас санкции за нарушение режима? — смягчила вопрос Лена.
— Да, но это решает суд. Я не могу самостоятельно определять меру вины и назначать кару.
— А насчет физического воздействия? — Виктор показал, как это следует делать.
Офицер удивился и повел нас к какой-то двери. Открыл. Мы оказались в просторной и светлой библиотеке. На металлических стеллажах тысячи книг. За столами — десятки заключенных. При появлении начальства они даже не почесались.
— Здесь, — указал офицер на стеллажи, — юридическая литература. Многие клиенты знают ее в совершенстве. Может быть, гораздо лучше, чем я. Если администрация сделает что-нибудь противозаконное, они затаскают нас по судам.
Негр, сидевший поблизости, улыбнулся и что-то негромко произнес.
— Что он сказал, Лена?
— Он сказал: «Это точно».
Мы обратили внимание на то, что заключенные одеты в разную форму. Вернее, в форму разных цветов. Красная, синяя и зеленая.
— Цвет зависит от сроков наказания и поведения заключенных, — объяснил офицер. — Для людей в красной форме более жесткий режим.
Для заключенных в синей есть ряд послаблений. У них более свободный график. Они могут больше времени гулять, читать в библиотеке, заниматься спортом. Им разрешается подрабатывать в тюрьме.
Арестантов в зеленой форме часто отпускают на выходные домой. Их также иногда нанимают соседние предприятия. За работу платят. Часть денег направляется на содержание заведения.
— Нормально, — сказал Виктор. — Замочит кого-нибудь в выходные, а потом неделю здесь отдыхает.
Лена перевела вопрос мягче.
— К нам никогда не поступают убийцы и закоренелые преступники, — объяснил офицер. — Они не могут находиться в тюрьме вместе с осужденными за мелкие нарушения. Максимальные сроки у наших клиентов два-три года.
Экскурсия по мрачным застенкам и казематам продолжалась. Вокруг нас десятки «каторжан» беспечно развлекались на открытых баскетбольных площадках. Было видно, что за время отсидки многие довели мастерство до совершенства. Они легко попадали в кольцо из трехочковой зоны. Поразил нас крытый спортивный зал. В нем тоже веселились заключенные.
— Ого, — присвистнул Виктор, — у нас на воле нет ни одного такого.
Вместе с арестантами отобедали чем бог послал. В широкий поднос с углублениями налили суп, насыпали мелко резанных овощей, добавили второе. Огромный бифштекс сползал на край подноса. Чувствую, одной рукой не удержать.
— А компот? — потребовал Виктор.
Нам дали по стакану колы.
— Я бы охотно здесь посидел, — выпуская кольца дыма, сказал Шлейкин после обеда. Мы развалились в мягких креслах в кабинете заместителя начальника тюрьмы. — Отдохнул бы, расслабился. Серж, ты видел, сколько здесь насыпают жратвы? Опять же, спорт, кино, развлечения. Лен, спроси, а пивбара здесь нет?
— Нет, — отвечают.
— Хрен с ним. Отказался бы от выпивки на пару лет. Хотя, думаю, здесь достать можно.
— Не всем выпадает такое счастье, — говорю, — его надо как-то заслужить.
— Да, — соглашается Виктор, — жизнь несправедлива. Везет далеко не каждому…
— О чем они говорят? — спросил замначальника тюрьмы.
— Да так, мечтают о красивой жизни, — перевела Лена.
— Я тоже надеюсь уехать из этой дыры. Во Флориду, — затянувшись сигарой, произнес офицер. Как в старом американском кино, он вытянулся и скрестил ноги на широком письменном столе. Под каблуками виднелись документы с печатями, штампами и указаниями руководства.
Ночью на полицейской машине отправились на дежурство. Лена сидела в кабине пикапа рядом с лейтенантом Бобом Тейлором. Мы с Виктором — за решеткой сзади, в отсеке для преступников. Долго колесили по городу. Как назло, ничего не происходило. Заехали на огонек. В открытом помещении ни души. Медицинское оборудование сложено в идеальном порядке. В шкафах, расставленных вдоль стен, полки с лекарствами.
— Что здесь?
— Пункт скорой помощи.
— Почему никого нет?
— Машина уехала на вызов.
— Почему не заперто?
— А зачем?
Посидели в медпункте. Рация молчала. По-прежнему никаких происшествий.
— У вас есть, — интересуется Виктор, — хоть какие-нибудь криминально опасные зоны, где с высокой вероятностью могут случаться преступления?
Боб подумал:
— Садитесь в машину. Кажется, я знаю такое место.
Подъехали к какому-то складу. Зашли со двора. Боб осветил фонариком кирпичную стену. Вдоль нее на высоту более метра уложены штабелем небольшие сверкающие бочонки. Литров по десять-пятнадцать.
— Здесь в прошлом году, — сказал Боб, — украли бочку с пивом.
— В прошлом году? Серьезно? — Виктор подмигнул мне и сокрушенно качнул головой: — Ай-яй-яй.
— Да, был такой случай, — всерьез подтвердил Боб. — Но сейчас, видите, никого нет.
— Не везет, — посетовал Шлейкин.
Поехали дальше. Виктор долго молчал.
— Cepera, как думаешь, сколько времени у нас где-нибудь в Нярдоме без собак, охраны и колючей проволоки лежали бы эти бочонки с пивом? — наконец спросил он. Сам же ответил: — Бьюсь об заклад, не более часа.
— Что Нярдома, — говорю, — они бы и на Красной площади, у Кремлевской стены не запылились.
Наконец послышался тревожный сигнал рации. Бобвышел на громкую связь.
— Дежурный передает, — перевела Лена, — в каком-то доме семейный скандал с дракой. Вызывают полицию.
Подъехали к дому по указанному адресу. Тихо, спокойно. В окнах горит свет.
Виктор попросил Боба:
— Можно, я первый? А еще лучше — давай я один зайду в дом.
— Зачем?
— Посмотрим, что будет.
— Я не могу рисковать.
— Какой здесь риск? — убеждал Виктор. — Обыкновенный семейный конфликт. Увидим, как отреагируют на русского милиционера. Вместе посмеемся.
Боб долго не соглашался. Потом уступил.
— Если что — я рядом.
— О’кей.
Виктор нажал кнопку звонка.
— Кто там?
— Полиция, — сказал Боб и отступил в тень.
Дверь открылась. Свет упал на стоящую у крыльца полицейскую машину. Виктора впустили. Он закрыл за собой дверь. Возвращения ждали недолго.
Не прошло и минуты, как дверь с грохотом распахнулась. Из нее вылетел Шлейкин. Потом его милицейская фуражка. С крыльца Виктор скатился на землю. Вскочил, начал отряхиваться. Боб посветил фонариком. С губы русского полицейского сочилась кровь.
Боб кинулся к машине. Схватил винчестер (он стоял в кабине, пристегнутый к специальной подставке) и бросился обратно к дому.
— Не надо! — закричал Виктор. — Всё в порядке. — Испуганная Лена переводила синхронно. — У меня нет претензий!
— У меня есть, — ответил Боб, — и начал стучать прикладом в дверь.
Открыл внушительных габаритов разъяренный негр. За ним показалась темнокожая жена. Она схватила мужа за руки. Боб решительно вошел в дом.
На полупрозрачные оконные занавески упали три изломанных человеческих тени. Активно жестикулируя, негр что-то начал объяснять. Возможно, он был нетрезв, но говорил складно и убедительно. Жена кивала головой и поддакивала.
— У тебя, Виктор, есть какие-то претензии? — распахнув дверь, еще раз спросил Боб.
— Я же сказал. Никаких.
Вернулись в машину. Мы с Виктором сели на свои места, за решеткой. Шлейкин кривил опухший рот, пальцем трогал рассеченную губу. Возвращались молча. Боб искоса поглядывал в нашу сторону и качал головой. Потом оттаял и даже улыбнулся.
Подъехали к нашему дому.
— Что произошло?! — в один голос закричали Барбара и Майкл. Лицо у Виктора сильно распухло. Левый глаз заплыл, правый раскраснелся.
— Ничего особенного, — скромно ответил Виктор. — Такая у меня работа.
— Да, — подтвердил Боб. — Мы вместе сегодня дежурили.
Наконец, вижу, Майкл поверил, что Шлейкин не зря носит форму.
— Виктор, — горячо сказал он, — извини. Только сейчас я убедился — ты настоящий полицейский.
Весь вечер Майкл ходил за Виктором с аптечкой. Вместе с Барбарой они промыли Шлейкину глаз. Осторожно прижгли антисептиком раны.
Перед сном Майкл еще раз осмотрел лицо Виктора при свете настольной лампы. Произнес важно и серьезно:
— Виктор, я уважаю тебя и твою работу.
— Что случилось? — спрашиваю, когда мы остались одни в комнате.
— Ничего. Негр дикий попался.
— А все-таки.
Виктор долго молчит. Потом начинает рассказывать.
— Вхожу я, значит, в дом. Вижу такую картину. Негр лежит на кровати. Пьяный. Жена, симпатичная такая, увидев меня, бросается к мужу и тащит его с матраца. Мол, смотри, ирод, за тобой приехали. Он не поворачивается. Типа спит. Главное, она не замечает, что я в нашей форме. Орет, жалуется, что муж ее бил.
— Ты как понял?
— Насмотрелся я. У нас — все то же самое. Подбегает ко мне. Приподнимает свитер. Показывает, куда бил, какие у нее синяки. Я синяков никаких не вижу. Делаю знак — подними выше. Она задирает свитер. Представляешь? А там нет бюстгальтера. И такие груди! Чернее я никогда не видел. Cepera, это божественно. Маленькие такие, ладненькие негритянские сиськи. Думаю, надо рассмотреть повнимательней. Увлекся, короче. В это время сзади подскакивает муж. — Виктор снова осторожно потрогал губу. — Я его понимаю. Проснулся, наверное, смотрит, что за дьявол? Какой-то клоун в непонятной форме разглядывает его обнаженную жену. Ну, он вскочил и пару раз двинул. Главное, я не успел сгруппироваться.
— Правильно сделал.
— Я без претензий. Ты же слышал, я так и крикнул Бобу.
Ночью Виктор долго не мог уснуть. Делал примочки на глаз. Ворочался на кровати. В конце концов признался:
— Я, конечно, сделал одну ошибку. Не надо было руками трогать…
Сегодня мы приехали в Аннаполис. Гай Теннот встретил нас у здания Капитолия в парадной форме бригадного генерала ВМС.
— Везет нам на генералов, — скривился Виктор, вспомнив Беверли.
Первым делом Гай завел нас внутрь Белого дома. Характерный купол центрального городского здания, стоявшего на вершине холма, мы увидели еще на въезде в город. Теперь любовались изнутри.
— Между прочим, Аннаполис некоторое время был столицей США. — Гай с удовольствием выполнял обязанности гида. — Именно тут заседал конгресс. В этих креслах сидели депутаты. А на балконах второго этажа могли находиться простые граждане. И журналисты, — добавил он, повернувшись ко мне. — В общем, все желающие.
— Все желающие?
— Да.
— Вы шутите, Гай. Даже в наш горисполком без пропуска не войдешь, — говорит Виктор.
— В мэрию пропуск? — удивился Гай, выслушав перевод. — Вы шутите, Виктор.
Затем Гай повез нас мимо бухты, набитой океанскими яхтами и катерами, в Военно-морскую академию, USNА.
— Приготовьте секретные фотоаппараты. Сейчас я покажу вам мою работу.
— Не беспокойтесь, сэр. Они у нас включены постоянно.

— Гай, — спросил Виктор, — откуда такое количество дорогих яхт?
— Этих?
— Ну да.
— Их после семи вечера не будет.
— Вот как? Почему?
— У рабочих закончится смена. Они придут сюда, заведут моторы, натянут паруса и отправятся по домам.
Виктор долго не мог сообразить:
— Это яхты ваших рабочих?
Гай тихонько посмеивался.
У Академии (USNA) большая ухоженная территория. На площадках и газонах навечно приземлились истребители ВМС США, снятые с вооружения. Учебные корпуса разбросаны на сотни метров. В них новое оборудование и тренажеры. Тут же спортивный центр с хоккейной коробкой. На льду азартно бьются факультетские команды в полной профессиональной экипировке. Гай приглашает еще в одно помещение.
Огромный холл напоминает вход в Эрмитаж. Стены увешаны знаменами. Светлый коридор с высокими лепными потолками.
— Это административный корпус?
— Нет, — улыбнулся Гай. — Это общежитие.
Не верим.
— Гай, ты опять нас разыгрываешь?
Заходим в одну из комнат. Абсолютная чистота. Разумный комфорт. Уровень приличного отеля. Компьютер на столе. В то время такие у нас стояли только в институтских лабораториях. В шкафу для одежды — стеклянная дверь. На ней специальное крепление для обуви. Белые парадные и черные туфли курсантов безукоризненно сверкают.
— Это не общежитие, — сказал на выходе Шлейкин.
— А что?
— Пропаганда.
— Вот как? — рассмеялся Гай. — Пропаганда впереди. Сейчас мы поедем ко мне на дачу. Там будем есть крабов. И запивать пивом. Вы пробовали когда-нибудь наших крабов?
— Ваших? Тоже нет.
— О, вот это — настоящая пропаганда.
Небольшой дом Теннотов притулился на самом берегу Чесапикского залива. Рядом садик и небольшая площадка для барбекю. Мы уселись за длинным столом.
На него Гай ставит огромное блюдо с красными, еще горячими, крабами. Их приготовили Барбара и Пат.
— Это пробная партия! — кричат они нам. — Начинайте.
— Сам поймал, — хвастается Гай.
— Где?
— Вон там, — Гай махнул в сторону берега. — У меня несколько ловушек. Раньше крабы были покрупней. Сейчас уже не то.
— Придется брать количеством, — говорит Виктор.
— Уверяю, с этим проблем не будет. Показываю, как надо. Возьмите инструмент.
Мы взяли каждый по деревянному молотку. Они напоминали киянки. Только размером поменьше.
— В правую руку молоток. А в левую — краба! — командует Гай. — И бьем по нему что есть силы.
Гай разбил клешню и достал бело-розовое мясо.
— Это всё? — спросил Виктор.
— Конечно же нет, — отвечает Гай. — После этого надо взять добрую кружку пива и чокнуться с дорогими гостями. Ваше здоровье! Добро пожаловать в Америку…
Потом Гай принес еще одно блюдо. И еще…
— Гай, можно покататься на лодке? — спросили мы, когда добрая часть угощения была съедена и выпита.
— Не проблема, — сказал Гай. — Лодка на причале. Берите весла.
Спустились к бухте со множеством деревянных узеньких причалов. Я сел за весла небольшого челна. Виктор и Лена устроились на корме. Гай оттолкнул нас, упершись в кнехт.
— Только не заплывайте далеко! — прокричал с берега. — И не забудьте: все причалы частные. Вам нужно будет вернуться к этому месту!
— Хорошо-о-о!
Впереди огромное пространство. Голубое небо. Теплое вечернее солнце. Белые коттеджи, деревья, палисадники — все удаляется. Почти исчезает. Наконец, я опускаю весла. Мы дрейфуем в сторону океана.
— Вы даже не представляете, как меня сейчас тянет на службу. — Виктор снял рубашку, ослабил ошейник, лег поудобней. Закурил сигару Сказал дурацким голосом: — Серж, как тебе понравились крабы?
— Не очень. — Я лежу на носу лодки. Изображаю аллегорию каприза. — В этот раз они были чуть жестковаты.
— Давай назавтра закажем омаров.
— Омары? Опять?
— А говяжьи мосла? А гнилой капусты? А котлет из путассу? Не хотите попробовать?! — не выдерживает Лена.
— Нет. А вот от жареной картошечки с маслятами я бы не отказался.
— С солеными груздями.
— И маринованными огурчиками…
— Слабосоленая семга очень вкусна. Особенно наша, печорская.
— А морошка в собственном соку?
— Можно толченую брусничку…
— Или клюквенный морс…Такой ядреный. Из холодильничка…
Виктор поднялся. Теплый бриз щекотал лицо и шею. Он осмотрелся. Вокруг безбрежные дали Атлантического океана. Редкие яхты на краю горизонта… Зыбкая солнечная дорожка… От избытка чувств он вскинул руки и запел:
Издалека долго Течет река Волга,
Течет река Волга —
Конца и края нет.
Мы с Леной подхватываем:
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых
Течет моя Волга,
А мне уж тридцать лет…
Вернулись поздно. Разумеется, забыли место швартовки. Привязали лодку наугад. Сняли весла и зашагали подлинному узкому помосту. На берегу появилась дама в спортивном костюме. Она выбежала из своего дома. Сразу, без долгих вступлений, начала громко кричать. Точь-в-точь, как моя соседка по дому.
Мы шли не останавливаясь.
— Чего она орет? — у берега спросил Виктор.
— Не пойму, — сказала Лена. — Кажется, это ее причал.
Мы увидели знакомую табличку «Private».
— Может, переставим лодку? — предложила Лена.
— Перебьется, — сказал Виктор, — вздорная баба. Подумаешь. Ну постоит лодка часик. От нее не убудет.
Мы направились к коттеджу Гая. Он уже бежал к нам. На ходу застегивал китель. Натягивал пониже фуражку.
— Ничего страшного, — улыбнувшись, сказал Гай. — Отдыхайте.
Он прошел мимо дамы, стараясь не поворачиваться к ней спиной. Прижал обе ладони к сердцу. Извинился. Она, буркнув что-то в ответ, вернулась в дом. Гай добежал до конца причала. Отвязал лодку и потянул ее к берегу.
— Хочет по суше отбуксировать к своему месту, — сказал Виктор. Мы наблюдали за Теннотом, опершись на весла.
Опять выскочила соседка. В этот раз она стала кричать еще громче. Гай снова извинился. Он остановился на середине причала, не зная, что делать. Весел в лодке не было. Соседка не унималась. Она успокоилась лишь тогда, когда бригадный генерал прыгнул в воду.
Гай молча тащил лодку к своему причалу. Его китель мгновенно намок и потемнел. Иногда вода накрывала плечи. На поверхности оставалось мрачное лицо и форменная генеральская фуражка.
Утром вместе с газетами пришла дурная весть. Прибежала взволнованная Лена. Ворвалась к нам в комнату. Бросила на стол местную газету.
— Видали! Какой ужас!
На первой странице — я, Виктор и Лена на сцене школы. Еще наши портреты. Ну о-очень крупно.
— А, по-моему, неплохо, — сказал Виктор.
— Ты почитай, что здесь!
Оказывается, какая-то журналистка напечатала статью «Правда об СССР». С подзаголовком, набранным внушительным кеглем — «Русские сбрасывают стариков с деревьев!». Большой репортаж о нашей встрече с американскими школьниками.
— Эти ненормальные опубликовали все, что мы наговорили! — По щекам Лены текли слезы. — Нас теперь на родину не пустят. Cepera, смотри, что ты тут наплел. — Рыдая, Лена начала переводить некоторые цитаты: «Дети в школе не учатся… За чтение книг преследуют… Компьютеры? — переспросил русский журналист, — мы такого не знаем… Телевизоров не видели… За малейшую провинность всех сажают в тюрьму. Там пытают и бьют электрическим током». Бред какой-то-о-о-о.
Мне стало нехорошо.
— Лена, ну ты же помнишь. Это был ход. Ораторский прием. Все усугубить, довести до абсурда. Чтобы потом опровергнуть…
— Я-то помню. Только как возвраща-а-а-ться?
— Да, влипли, — расстроился Виктор. — Если дойдет до начальства…
Картина действительно вырисовывалась безрадостной. Виктор сник, задумался. Лена продолжала рыдать.
— Надо сейчас же ехать в редакцию, — говорю. — Пусть дадут опровержение.
Спустились на первый этаж к Майклу. Стали объяснять ему все с самого начала.
— Майкл, понимаешь?
— Понимаю, — говорит Майкл, — но зачем надо было столько врать? Не понимаю.
Через некоторое время добрый Майкл все же позвонил в редакцию и договорился о немедленной аудиенции.
В фойе редакции темно и малолюдно. Нас встретила корреспондентка, автор статьи. Как оказалось, та самая девица, которая, догнав Виктора в школе, интересовалась, как старики взбираются на деревья. Пригласила в кабинет. Терпеливо слушала все наши доводы.
— Да, — говорит, — все ясно. Когда вы уезжаете?
— Через несколько дней.
— Понятно.
— Что «понятно»? — на всякий случай уточняем мы.
— По-человечески я вам сочувствую. Скажу больше. И мне на вашем месте было бы страшно. За эти мужественные слова, наверное, вас будут преследовать. Возможно, арестуют. Кей джи би начнет оказывать физическое воздействие… Но за правду надо бороться.
Она сказала об этом так просто, будто отправляла нас на рынок менять негодный товар.
— С кем бороться? За какую правду?
Журналистка громко и вдохновенно начала что-то выкрикивать. Кажется, в стихах.
— Что она несет, Лена?
— Ну, вроде нашего: «Лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».
— Какой бой? — говорю. — Здесь все вранье от первой до последней строчки.
— Как вранье?
— А так.
Мы требуем отвести нас к руководству. Журналистка фыркает и звонит по внутреннему телефону. Идем в кабинет главного. Он холодно пожимает нам руки. Приглашает за стол. Вызывает по громкой связи переводчицу.
Входит испуганная пожилая дама с диктофоном в руках.
— Вы переводили.
— Да. Что-то не так?
— Да здесь все не так, — срывается Виктор. — Начиная с заголовка. «Русские сбрасывают стариков с деревьев». Да это же бред собачий.
— Объяснитесь! — Главный редактор в бешенстве. Кажется, он готов немедленно уволить своих сотрудниц.
— Я не могла ошибиться.
Трясущимися руками переводчица включает магнитофон в том самом месте, где Виктор говорит:
— Больниц, поликлиник, лекарств нет. Все больные обречены. Стариков в СССР раз в год загоняют на деревья.
«Это еще зачем?» — слышен голос Лены.
— Потом их начинают трясти. Тех, кто удержался, — оставляют жить еще на год. Кто свалился, добивают палками…
— Достаточно, — выслушав перевод, машет главный редактор. Сотрудница останавливает пленку. — Ваше выступление?
Виктор молчит. Широко открытым ртом возмущенно глотает воздух.
— Это ораторский прием, — говорю. — Лена, объясни.
— Это ваше выступление? Да или нет?
— Да, но…
— У меня нет времени, — жестко останавливает дискуссию главный. — Ясно одно, ситуация в СССР еще хуже, чем мы предполагаем. Вероятно, наша публикация наделала много шума. Понимаю, вас запугали органы. Они не дают вам житья даже в Америке. О, я чувствую железную хватку кей джи би. Но надо сохранять в себе мужество. Скажите, кто конкретно вас запугивает? Мы напечатаем продолжение этой истории. Если дойдет до расправы, сделаем все, чтобы Соединенные Штаты дали вам политическое убежище.
— Что?
Мы просим редактора не беспокоиться.
— Хотите, сегодня мы передадим этот материал на радио «Голос Америки»? У вас будет сильный покровитель.
— Боже упаси! — кричим, не сговариваясь. — Лучше мы сами…
— Хорошо. Пока на этом и закончим.
Прощаясь, твердо обещаем еще жестче и настойчивей бороться с режимом.
— Прочь малодушие, страх и компромиссы! — поддерживает нас редактор.
Выходим на улицу. Из окна нам машет журналистка. Вопит, сложив ладони рупором:
— Русские, лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
— Да иди ты, — выругался Шлейкин.
Медленным шагом возвращаемся к автомашине.
— Виктор, у тебя есть деньги? — спрашиваю.
— Только на подарки.
— Доставай. У меня тоже имеется кое-что. Лена?
— Около сотни.
— Майкл, сколько у вас газетных киосков?
— Немного, — отвечает Майкл.
Мы собираем все наши деньги в общую кучу. Всякая скомканная, мятая, прятанная-перепрятанная купюра имела свое назначение. Перед тем как опустить ее в бумажный пакет, каждый тихо прощается:
— Это магнитола, косметика, наушники фирмы «Филлипс», «Ионика», кроссовки…
— Джинсы мне и мужу, видеоплеер, блузка, обувь, что-нибудь поесть… заграничное.
— Магнитофон, фотоаппарат, джинсы, куртка, плащ, две бутылки виски, сигареты…
В городских киосках мы выкупаем тираж сегодняшней местной газеты. Нас узнают продавцы. Сочувствуют, поддерживают и благодарят за «правду об СССР». Толстые связки газет с нашими фотографиями за ближайшим поворотом летят в мусорные баки. В последнем киоске все экземпляры на свои деньги приобрел Майкл.
— Как мы тебе благодарны.
— Не стоит, — отмахивается Майкл. — Я всего лишь пытаюсь спасти три небезразличных мне человеческих жизни.
Бедный Майкл. Кажется, и он поверил в нашу «правду об СССР».
К обеду проблема с газетами решена. Вопрос с гостинцами и сувенирами также автоматически снялся с повестки. В наших кошельках ни цента. Поначалу Шлейкин хотел утаить часть суммы, вырученной за фото на улице. Говорил, что деньги нужны ему для очень важного дела. Мы с Леной изъяли его доллары почти силой.
Накануне отъезда на родину мы с Виктором отправились в Нью-Йорк. После неприятностей с газетой у Лены была истерика. Она плакала и кричала, что видеть нас с Виктором больше не может. В общем, осталась с Барбарой дома.
— Как-то нехорошо получилось с Леной, — всю дорогу переживал Майкл.
— Плохо, конечно, — соглашался Шлейкин и добавлял: — В том смысле, что переводить некому.
Сначала мы теплоходом отправились на Лонг-Айленд. Поднялись на статую Свободы, сфотографировались. Затем посетили Эмпайр-стейт-билдинг. В скоростном лифте взлетели на один из небоскребов Всемирного торгового центра. От быстрого подъема закладывало уши. С немыслимой высоты открылись удивительные панорамы города. Большие расстояния не мешали легко ориентироваться. На стеклах смотровой площадки, по всему периметру, нанесены контуры известных зданий. Оставалось подойти к стеклу так, чтобы рисунок совпал с очертаниями архитектурных достопримечательностей, и можно прочесть их названия, выведенные рядом.
Посидели в китайском ресторанчике. Отдохнули в парке. Майкл незаметно показал на человека, лежавшего на скамейке. Он был одет со вкусом, но слегка помят. Чтобы не испортить добротные вещи, человек постелил на скамейке газету. Он напоминал руководителя нашей технической службы Павла Камышина, вышедшего в обеденный час понежиться на солнышке.
— Вот, — шепнул Майкл, — та проблема, о которой я вам говорил.
— В чем проблема, Майкл?
— Это безработный. Безработица — серьезная проблема.
— Майкл, — позвал Виктор. Он подошел к пустой скамейке, развернул лежащие на ней газеты. Лег, вытянув ноги. — Гляди сюда.
Смотрим. Нечищеные ботинки на толстой подошве фабрики «Скороход», потертый костюм воронежского комбината бытового обслуживания, синий ремень из искусственной кожи, зеленые армейские носки и восемьдесят килограммов живого веса.
— И в чем разница, — кричит со скамейки Виктор, — с вашим безработным?
— Ну, разница, — говорю, — допустим, есть. Надо бы тебя приодеть, Виктор, а то позоришь державу, совсем обносился.
— Давай обсудим реальные проблемы, Майкл, — нетерпеливо говорит Шлейкин, поднявшись.
Я перевел.
— О’кей.
— Дай слово, что ты не откажешь.
— Хорошо, — сказал Майкл.
— Это связано с работой.
Майкл насторожился.
— Известно, что в Америке существует проблема сексуальной эксплуатации человека человеком.
— Возможно, есть такая. А что?
— Серж, скажи, пусть отвезет меня в публичный дом. Я хочу исследовать эту тему.
Я перевел. Майкл запротестовал. Замахал руками. Нет. На это он пойти не может.
— Майкл, — наседает Виктор, — это серьезная проблема. С ней надо как-то бороться. Но прежде ее следует изучить.
— Нет, нет и нет!
— Пойми, это для работы. Нельзя закрывать глаза на язвы общества.
— Нет!
— Если не согласишься, я останусь здесь на ночь. Буду самостоятельно изучать эту тему. Без языка. В чужом городе. Ты знаешь, ради работы я готов на все.
Виктор снова демонстративно ложится на скамейку.
— Ладно, — сдается Майкл и, поразмыслив, излагает свой план.
Я перевожу: «Он примерно знает, в каком районе эта проблема существует. Но к борделям подъезжать категорически отказывается. Он высадит тебя за два квартала. Мы будем ждать, пока ты занимаешься исследованием».
— Разве ты со мной не пойдешь? — забеспокоился Виктор. — Кто будет переводить?
— Обойдешься. Думаю, с этим как-то справишься.
— Ладно. Рискну. Но, если что, Серж, вся ответственность на тебе.
Начали выбираться из центра. Вскоре улицы потемнели и сузились. Наконец Майкл остановил машину в каком-то сером безлюдном районе. На тротуаре горы рваного картона. Всюду банки, склянки, пакеты с мусором. Обрывки газет и клочья целлофана висят на пыльных деревьях. Грязно и неуютно. Район не соответствовал возвышенным представлениям Виктора:
— Да тут много хуже, чем я думал.
Шлейкин начал собираться. Достал брошенный утром на заднее сиденье тугой целлофановый пакет:
— Не хочется идти, — вздохнул, — а надо.
— Не фарисействуй.
— Чего?
— А ты знаешь, — говорю, — что на изучение темы могут потребоваться средства?
— Все учтено, — отвечает Виктор. Он приоткрыл целлофан.
Там в плотной упаковке виднелась милицейская форма. В отдельном пакетике — фуражка. — Если что, продам. Думаю, этого хватит.
— Ты с ума сошел!
— Как говорится, все для работы.
Майкл примерно объяснил, в каком направлении двигаться. Шлейкин вышел из машины, придерживая сверток.
— Телефон? Адрес? — обеспокоенно спросил Майкл.
Виктор расстегнул воротник и показал ошейник. Глядя на удаляющуюся фигуру, Майкл задумчиво сказал:
— Хорошо.
— Хорошо что? — спрашиваю.
— Хорошо, что Виктор сегодня без формы.
Мы ждали несколько часов. Шлейкин не возвращался.
Я гулял возле машины. Майкл зубрил русский. Виктор и Лена написали ему два десятка слов и выражений. Майкл иногда опускал стекло, высовывал голову и спрашивал: «Серж, что такое „дай лапу“»?
— Это значит — «Здорово. Добрый день».
— Коу мнье?
— Ко мне — означает «подойди», «иди сюда». Что ты там учишь? Дай посмотрю.
— Нет, — Майкл спрятал листочек. — Еще нельзя. Виктор сказал, чтобы я тебе не показывал. Завтра я буду говорить с тобой по-русски. Это сюрприз.
Пару раз мимо проезжала полицейская машина. Однажды затормозила. Офицер спросил, приоткрыв окно, все ли у нас в порядке.
— Все о’кей! — отвечал Майкл.
На самом деле он уже начал волноваться. То и дело поглядывал на часы.
На город опускались сумерки.
— Серж, — наконец не выдержал Майкл, — надо искать Виктора. Извини, но я пойти не могу. Категорически.
— Хорошо, — говорю, — отправлюсь я.
— Только осторожно, Серж. Могут встретиться хулиганы. В случае опасности беги сразу к машине.
— О’кей!
Я осторожно двинулся на мерцающий свет неоновой рекламы. Прошел несколько слабо освещенных улиц. Пару раз какие-то люди призраками выходили из мрачных дворов. Пытались что-то мне сбыть. Требовали подарить им хотя бы несколько долларов. Для ясности я вывернул карманы брюк. Больше не заправлял. Они торчали с боков, как серые небольшие мешочки.
Вот, наконец, специфическая реклама на одном из домов: роскошная дама с пульсирующим бюстом настойчиво рекомендует зайти. Кажется, здесь может находиться то самое место. Но вот еще похожая реклама и еще… Понимаю, вероятность отыскать в этих шхерах нужного человека ничтожна. Все же, для очистки совести, открываю ближайшую дверь.
Полумрак. В нос ударяет резкий запах прелых трав и восточных специй. Китаец средних лет поднялся навстречу. В холле на широких диванах несколько девиц. Они нехотя встали. Лениво приосанились. Китаец начал предлагать товар. Говорил что-то про хорошие скидки.
— Нет, — отмахиваюсь, — я ищу русского парня, Виктора.
— Возраст?
— Лет тридцать.
— Высокий, низкий?
Китаец говорит по-английски так же плохо, как я. Помогают жесты. Кажется, мы понимаем друг друга.
— Среднего роста.
— Худой или толстый?
— Нормального телосложения. Со светлыми волосами. Мне нужен Виктор.
Китаец задумался. Сказал: «ждать» — и исчез за тяжелой портьерой. Через несколько минут появился в компании двух мужчин неопределенного возраста. Один негр, второй азиат.
Мужчины улыбались, явно стараясь понравиться.
— Русских нет, — извинившись, сказал китаец. — Но к твоему удовольствию имеются эти симпатичные парни. Любого из них, при желании, можешь называть Виктором.
Один из Викторов, обольстительно улыбаясь и подмигивая, стал медленно приближаться. Его походка была вызывающе развязной…
Хорошо, что входная дверь оставалась приоткрытой. Через пять минут, запыхавшись, я вскочил в машину Майкла.
— Что случилось? Где Виктор?
— Не знаю, — отвечаю без подробностей. — Но больше я из машины не выйду.
Вскоре явился Шлейкин. Мрачный, недовольный, без пакета.
— Где тебя носит?!
Виктор даже не оправдывался. Упал на заднее сиденье.
— Что случилось?
— Ничего особенного. Заплутал в трущобах. Еле выполз. Поехали.
Мы стали медленно выбираться из города.
Долгое время Шлейкин бесцельно глядел в окно. Иногда что-то тихо бубнил и чертыхался. Наконец его прорвало:
— Они все с прибабахом. — Виктор матюгнулся. — Проститутки.
— А что такое?
— Пришла одна… Слышишь, Серж.
— Ну. Хотя бы симпатичная?
Виктор скривился.
— Уединились. То, се. По бокалу шампанского. Я допить не успел, а она р-раз все сняла — и уже в постели. Лопочет что-то по-своему. Зовет. На часы показывает. Сам понимаешь, для изучения темы мне тоже пришлось раздеться.
— Совсем?
— Ну да. Ошейник с координатами только на себе оставил. На всякий случай. Лезу, значит, под простыню. Она как меня раздетого увидала, сильно впечатлилась. Вскочила. Натащила какие-то плетки, цепи, копья, маски, кнуты с шипами.
Приковала, как бы в шутку, к спинке кровати наручниками. А затем стала тыкать палкой с электродами. Поражать током. Как с цепи сорвалась. Слушай, с трудом отмахался. Натянул штаны, выскочил, попросил заменить. Так прислали еще страшнее. Вся в коже, с хлыстом… Еле унес ноги. Придурки. Только ты Майклу не говори…
Виктор долго молчал. Потом сказал озабоченно:
— Майкл, в Америке есть еще одна серьезная проблема.
— Какая?
Минута ушла на формирование претензии.
— Нью-Йорк — безумно дорогой город. Представляешь? Содрали двести восемьдесят долларов. Практически ни за что.
Повернувшись ко мне, Виктор объяснил:
— Потратил все, что заработал на самом дорогом для всякого офицера.
— На форме, что ли?
— Ну.
— Не надо было платить.
— Как? Они в руки денег не дали. Забрали обмундирование. Назвали сумму, и все.
— Что произошло? — спрашивает Майкл.
— Виктор жалуется, что за изучение проблемы с него слупили почти триста долларов.
Майкл удивленно поднял брови.
— Где же он их взял?
— Не говори…
— Виктор продал свою милицейскую форму.
— О боже! — Майкл чуть не зарулил в кювет.
Долгое время он качал головой. Потом обернулся, подмигнул мне и сказал: «Что не сделаешь для работы».
Сегодня у нас отвальная. Собрались в том же кафе, где десять дней назад отмечали приезд. С утра вся русская делегация гадала, чем угощать американских друзей. Решили приготовить борщ, пельмени, салат оливье, жареное мясо под майонезом и сыром. Готовить пришлось человек на шестьдесят. Вместе сходили в магазин. Купили необходимые продукты. Несколько упаковок пива. Пару коробок вина. Все чеки Виктор аккуратно складывал в карман.
Десятерых русских пришли провожать многочисленные семьи. Веселились, танцевали. С удовольствием ели борщ, пельмени, торт «наполеон». После десерта вторично становились в очередь за русским борщом. К нему Шлейкин выдавал по наперстку спирта.
— Что это?
— Водка. Настоящая, особая.
С борщом «суперводка» шла на ура. Даже ребятишки протягивали маленькие стаканчики. У Виктора хватало рассудка наливать им колу. Из рук иностранца она казалась особенно вкусной.
К началу застолья мы с Леной опоздали. Расписывали торт. Пришли в кафе к очередному тосту за мир, дружбу и сотрудничество. Заметив мое появление, слово взял Виктор:
— Друзья, — сказал он в микрофон, — теперь вы будете свидетелями необычной премьеры. Уважаемый Майкл впервые продемонстрирует свой русский язык. Всего за одну неделю он выучил достаточное количество слов для общения с Сержем. Майкл, прошу!
Все зааплодировали. Майкл поднялся и раскланялся.
— Серж, коу мнье! — крикнул он громко и на всякий случай подтвердил просьбу жестом.
Я подошел.
— Дай лапу.
Мы поздоровались под одобрительные аплодисменты зрителей…
— Сидеть! — Майкл освободил место рядом с собой.
Я подчинился.
— Пей! — Майкл налил водки. — Ешь! — придвинул ближе тарелку.
Американцы захлопали. Русская публика сдержанно улыбалась. Майкл сиял. Он очень гордился своим русским. Главное, я все понимал с одного раза.
Делать замечание Майклу было как-то неловко.
— Наверное, — думаю, — так же грубо выглядит наш английский. «I want» иногда говорим мы вместо «I would like». Редко употребляем «not at all», «the pleasure was mine». Что ж, будем учить правильный английский.
По отмашке Майкла заиграла музыка. Местные ребята специально для нас выучили «Подмосковные вечера».
— Танцуй! — тут же скомандовал Майкл, заглянув в свою шпаргалку.
Я отказался. Что за бестактность?
— Серж, сидеть! Ждать! — приказал Майкл. Он встал и направился к эстраде. Принес микрофон. Сунул мне, отрывисто скомандовав: «Серж, голос!»
Русские не выдержали. Начали медленно сползать с кресел…
Больше всех ржал Виктор. Это он написал Майклу памятку собаковода. Сказал, что это настоящий, современный русский язык.
— Шлейкин, нормальный ты после этого?
Растерянный Майкл не мог понять, над чем хохочут эти странные русские. Спросил по-английски:
— Серж, я сказал что-то не так?
В конце вечера к нам подошла молоденькая девчонка. Пожала руки мне и Шлейкину:
— Вы, конечно, меня не помните.
— Почему же, — начал было Виктор.
— Нет, и не пытайтесь, — рассмеялась девчонка. Лена перевела. — Вы приезжали к нам в университет. Читали лекции. Сейчас я хочу вас поблагодарить.
— Вам понравилось наши выступления? — оживился Виктор.
— Очень.
— Слыхала?! — Виктор повернул к Лене довольное лицо.
— Я получила за вас отличные оценки.
— Вы изучаете русский?
— Нет, мы учимся на психологов. Русский нам не преподают.
— Как же вы нас понимали? — спрашиваю. — Вам переводили?
— Нет. Мы даже не знаем, о чем были ваши доклады.
— Вот как. Зачем же мы распинались?
— Понимаете? У нашего профессора своя методика. Иногда он приглашает на занятия каких-то людей. Разговаривает с ними на разные темы. Мы по речи, манерам, жестам определяем их профессию, должность, социальный статус. В этот раз профессор усложнил задачу — пригласил иностранцев. Не зная языка, то же самое мы должны были рассказать о вас. Я единственная получила «отлично». Я многое про вас написала. Вы, Серж, журналист. У вас есть жена и дочь. Вы, Виктор, тоже женаты. Имеете детей. Работаете в дорожной полиции.
— Потрясающе, — говорю. — Вот это да.
— Но откуда? — выдохнул пораженный Шлейкин. — Я даже не был в форме.
— Просто, — девчонка начала хохотать, — я случайно видела ваше выступление в программе Нэнси Кодин. Там вы о себе многое рассказывали.
— А-а-а.
— Майкл! — тут же закричала Лена. — Хотите узнать, за что нашим «профессорам» заплатили такие деньги?
Сегодня мы пакуем чемоданы. В дом Майкла то и дело приходят друзья, знакомые, соседи. Шлейкину, так много рассказывавшему о проблемах в СССР, несут кучу одежды.
— Почти все новое, — возбужденно говорит Виктор, укладывая вещи в добротные кожаные чемоданы. Их тоже подарили.
— Зачем тебе столько джинсов?
— Родственничкам, туды их. Пусть подавятся. Знаешь, у жены их сколько? Смотри, эти даже с бирками. — Виктор показал на отдельную кучку абсолютно новых вещей. — Загоню на барахолке.
Барбара преподнесла мне большой продуктовый набор. В фабричной упаковке, под целлофаном, с яркими этикетками — шесть палок копченой колбасы и шесть больших кусков сыра. Недосягаемая мечта советского человека. Я начал было отказываться, но Барбара обиделась: «Это от нас с Майклом. Для жены и дочки».
Виктор подошел к Барбаре. Протянул ей аккуратно сложенные чеки из магазина. Попросил Лену объяснить:
— Барбара, это тебе от меня. Презент. Здесь все чеки за вчерашнюю еду и выпивку.
— Но зачем?
— Это элементарно. Ты можешь включить их в свои затраты. Сэкономишь на налогах.
Барбара помрачнела.
— Как я это объясню налоговой инспекции?
— Можно сказать, что в кафе была не просто вечеринка, а презентация для советской группы твоих новых керамических изделий… Все так просто. Мы уедем, и никто ничего не узнает.
Лицо Барбары пошло пятнами. Губы задрожали.
— Никогда. Слышите, Виктор! Никогда не предлагайте такое в Америке. Вы меня поняли?!
Барбара вышла из комнаты. Лена выскочила за ней. Виктор пожал плечами:
— Серж, я не понял. Это же элементарно.
Приехал лейтенант Боб на служебной машине. Вручил Шлейкину огромных размеров коробку. Она была перевязана лентой, украшена бантом. Сбоку надпись: «All is for work!»
— Это твоим коллегам — для работы, — сказал полицейский. — Пообещай, что отдашь это товарищам по службе.
Виктор поблагодарил. Дал слово, что откроет упаковку только в кабинете начальника ГАИ.
Мы ненадолго остались одни.
— Слушай, — говорю, — подарил бы им сувениры, что ли. Я свои все раздал. А у тебя полчемодана осталось.
— Еще не вечер, — упирался Виктор, — может, толкну в аэропорту. — Шлейкин открыл фибровый чемодан с ложками, матрешками, щепными птицами. — А хочешь, я тебе уступлю? Возьми оптом. С хорошей скидкой. Деньги отдашь на родине.
Нас вышел провожать весь поселок. Каждая семья привозила «своих» русских к большому автобусу. Рядом с колесами быстро росла гора узлов, сумок и чемоданов с подарками.
Перед самым отъездом к автобусу на своем джипе примчался биржевик Джон с приятелем. Товарищ остался в кабине.
— А вот и Джон, — сказал Майкл, — наш молодой бизнесмен.
Джон выскочил с большой пачкой свежих газет. Всем русским он сунул в руки по толстому экземпляру. Наши оторопели: «Он что, охренел?»
Джон не мог понять их легкой растерянности.
— Благодарите! И ни о чем не спрашивайте, — кричим мы с Виктором. — Улыбайтесь! Улыбайтесь! Это местный сумасшедший. Он покупал нам китайские газеты. Каждый день за семьдесят верст ездил. Святой человек. Его нельзя обижать. Улыбайтесь!
Все начали благодарить Джона за щедрый подарок. Делали это подчеркнуто громко и радостно. Кажется, Джон был счастлив.
— Вы хоть для вида загляните в газеты! — кричим. — А то человек обидится. Читаем! Все читаем!
Русские с жадностью набросились на иероглифы. Джон сел в машину. Сказал приятелю.
— Видишь, все они читают. Мой выигрыш.
Приятель достал деньги.
— Здесь тысяча. Невероятно. Неясно, почему они делают это?
— Я, кажется, начал понимать русских, — негромко отвечал Джон. Он улыбнулся нам через окно автомобиля. — За грубой внешностью и ужасными манерами кроются тонкие, чувствительные, деликатные натуры. Не хотят меня расстраивать. Какие нежные сердца. Поехали.
Джон помахал нам и включил зажигание. Мы махали ему газетами вслед.
Стали прощаться. Обнимая нас, Майкл и Барбара еле сдерживали слезы.
— Надо же, — расчувствовался и Виктор, — словно прикипел. Лен, переведи. Если бы Майкл жил в Советском Союзе, я бы ему сделал права. Бесплатно.
Лена отмахнулась.
— Ну тебя.
— Нет, ты переведи. Это очень важно.
— Что сказал Виктор?
— Если бы ты, Майкл, потерял водительские права в нашей стране, Виктор помог бы тебе их восстановить.
— Это очень, очень мило с твоей стороны, — поблагодарил Майкл.
Виктор отвернулся. Вытер слезу. Потом махнул рукой, кинулся в автобус и вытащил свой чемодан. Бросил на землю. Распахнул. Начал вынимать оттуда матрешки, птицы счастья, ложки, расписные доски.
— Дарю! Всем дарю! — Виктор лихорадочно раздавал сувениры всем желающим.
— Забыл! — переводила Лена. — Он совсем забыл о подарках для всех вас.
На прощание мы еще раз обнялись с Майклом и Барбарой.
— Виктор, вы запомнили, что я вам сказала?
— Конечно, Барбара.
Сели в автобус. Провожающие долго махали нам вслед. Точь-в-точь, как в каком-нибудь Долгощелье, когда перед закрытием навигации последний рейсовый теплоход уходит в Белое море. На причале стоят местные жители. И машут родственникам, машут. Пока корабль не растворится в серой туманной дымке.
Виктор едва сдерживал слезы: «Американы, американы. Оказывается, нормальные люди».
Он еще раз оглянулся назад. Через стекло провожающих уже не было видно. Только одинокий пес изо всех сил пытался догнать автобус.
— О черт, это же Виски! Стоп! Драйвер, стоп бас!
Заскрипели тормоза. Виктор стал пробираться к выходу.
— Виски, я же совсем забыл.
Виктор выскочил из автобуса и бросился навстречу собаке. На ходу он снимал с себя ошейник.
— Прости, друг. — Виктор надел ошейник на Виски. Проверил крепление. — Извини русского полицейского.
Виски не обижался. Он скулил и махал коротким хвостом. На прощание они крепко обнялись и расцеловались.
Взлетно-посадочные полосы аэропорта имени Кеннеди напоминают леток огромного улья. То и дело садятся и взлетают пчелы-самолеты с новыми взятками. Гул не прекращается ни на минуту.
Нам осталось совсем немного. Пройти регистрацию, погрузиться в самолет и улететь. Перед посадкой случилась небольшая заминка. Советские пассажиры отказалась сдавать чемоданы. Представитель Аэрофлота несколько раз подходил к соотечественникам и уговаривал:
— Отдайте вы свое барахло. Не позорьте страну. Сдайте вещи в багаж. Ну куда вы прете с вашими манатками?
Группы туристов и командировочных из разных городов СССР стояли насмерть.
— Мало ли чего, — за всех отвечал Виктор. — Нам не тяжело. И не уговаривайте. Не сдадим.
Наконец пассажиры из Хабаровска дрогнули:
— Да, что мы, в самом деле, товарищи! Мы же не на родине.
— Не забывайте, куда летим, — многозначительно отвечал Шлейкин.
Дальневосточники пошли «сдаваться». Несколько человек из нашей делегации последовали их примеру. Виктор еще раз советовал им этого не делать.
— Но вы же цивилизованные люди, — продолжал стыдить остальных представитель Аэрофлота. — Ведете себя как дикари.
— Да, мы такие, — отвечал за всех Виктор.
Наконец, пустили в салон. Оказалось, что там полно свободных мест. Все легко разместились с вещами. Мыс Леной и Виктором сели рядом. Летим. За окном чистое небо с редкими прозрачными облаками. На крыльях стрелки с непонятными обозначениями. Виктор молча глядит в иллюминатор на удаляющуюся землю:
— Отсюда Америка такая же, как Россия.
— Какой же ей быть, по-твоему?
— А она другая… Приедем домой, — задумчиво говорит Шлейкин, — возьмусь за английский.
— Теперь зачем? Все позади.
— А вдруг там, — Виктор показал пальцем вверх, — когда- нибудь спросят: «Куда тебя, мил человек, определить? В рай или ад? Расскажи, как жил, чем занимался».
— А ты ответишь: «Можно я здесь на перекрестке с жезлом постою», — говорит Лена. — Знаю я этот анекдот.
— Нет, — задумчиво произносит Виктор, — вдруг ОН спросит меня по-английски…
В Шереметьево приземлились ночью. В зале паспортного контроля громкий собачий лай. Пограничники встречают кого-то. С собаками. Ничего не понятно. Полное ощущение, что вернулись в зону.
Хабаровчане стали ждать багаж. Мы сразу потащилась на таможенный досмотр. В час ночи покончили с формальностями. Ищем, куда бы приткнуться до утра. Несколько раз мимо нас пробежала группа взволнованных дальневосточников.
— Что случилось, мужики?
— Не могут найти вещи. А у нас скоро вылет в Хабаровск.
— Ну-ну.
Последний раз мы видели их в шесть утра.
— Ну как, нашли багаж?
— Представляете? Он остался в Нью-Йорке. Пришлось сдать билеты.
— И что теперь?
— Привезут следующим рейсом.
— А следующий рейс когда?
— Через три дня. Но это еще не точно!
3
Мы встретились с Виктором случайно. Примерно через месяц после возвращения в родной город. В тот день у меня были назначена съемка в продовольственном магазине. Свой драгоценный продуктовый набор я решил использовать в служебных целях. Как любил выражаться Шлейкин — все для работы. Надо было, наконец, снять обещанный Фрайману сюжет на американскую тему.
Инспектор ГАИ свистнул, когда я переходил улицу в неположенномместе. Он стоял на перекрестке и жестом требовал немедленно подойти. Продрогший, в длинном, тяжелом от шедшего мокрого снега плаще, он выглядел неважно. Осунувшееся серое лицо под влажным капюшоном. Впалые глаза. Усталый взгляд.
— Виктор?!
Узнав меня, Шлейкин просветлел. Обрадовался.
— Ты?!
Мы обнялись. Прохожие удивленно оглядывались.
— Как служба?
Виктор поморщился.
— Так… серятина.
— И граждане, небось, норовят одни рубли всучить? Не то, что в Америке.
Виктор развел руками. Мол, что поделаешь.
Заметив в моем целлофановом пакете знакомую яркую коробку с подарочным набором, улыбнулся.
— Не рискуешь оставлять еду дома?
— Нет, сегодня это реквизит, — говорю. — Извини, опаздываю на съемки. Может, подкинешь?
— Я без колес.
— На тебя не похоже.
Виктор отмахнулся. Растер синюшные пальцы. Спросил:
— Разве тебе не положен служебный транспорт?
Машины, конечно, были. Съемочную группу я заранее отправил в магазин, чтоб готовилась. Сам решил забежать домой за ценным пакетом. Не мог же я с утра отнести продукты на работу. Там спрятать негде. Зевнешь, и все умнут коллеги.
— Тебе куда?
— В «Белый медведь».
— Поехали вместе, — сказал Виктор. — Надоело здесь маячить.
Мы перешли улицу. Запрыгнули в полупустой троллейбус. Виктор встал у окна. Подышал на стекло, чтобы отпотело. Протер рукавом. Выглядел задумчивым и серьезным.
— Как думаешь? В Нью-Йорке сейчас тепло? — Сам же ответил: — Тепло. Знаешь, иногда мне кажется, что зря я это сделал…
— Поехал?
— Нет, — Виктор смотрел на движущиеся за стеклом дома, опоры, голые кусты и деревья. Сказал после паузы: — Вернулся.
— Брось, — говорю, — расслабься. У меня такое было после Норвегии. Пройдет. Гляди, у нас первый снег. Настоящая зима.
— Да, — вздохнул Виктор. — Зима. — И добавил задумчиво: — Тормозной путь увеличился…
В магазине осветители устанавливали софиты. К съемке готовились во время обеденного перерыва. Старались делать все быстро. Разрешение на съемки от директора магазина мне получить не удалось. Уговорил знакомую. Раньше она была ассистентом режиссера на студии. Теперь поднялась. Была всегда при продуктах. Работала старшим продавцом. Просила снять все до возвращения директрисы, уехавшей на базу. В одной из пустых витрин мы выставили мою коробку. Отрегулировали свет. Под яркими заморскими наклейками аппетитно сияли шесть палок копченой колбасы. Шесть кусков сыра. Камеру установили так, чтобы крупным планом можно было снимать реакцию посетителей магазина.
С внутренней стороны витрины я приклеил заранее напечатанный текст:
Так мы будем жить после перестройки!
Образец не продается.
— Не пойму, что ты затеял? — наблюдая за приготовлениями, спросил Виктор.
— Представь себе, — говорю, — когда-нибудь лет через двадцать на наших полках будет тридцать сортов колбасы. Столько же видов сыра. Конфеты, шоколад, кофе, водка, коньяк. И все это будет продаваться, как в Америке. Без талонов.
— Ну ты загнул. Лет через сто, не раньше.
— Допустим. И тогда, через сто лет, найдутся люди, которые скажут, как хорошо, как богато жили в СССР.
— Понимаю, будут трындеть всякую чушь.
— Вроде той, — говорю, — когда они смотрят «Кубанских казаков».
— Понимаю. Кстати, фильм неплохой.
— И тогда кто-нибудь достанет из архива кадры, которые мы с тобой нынче снимем. И покажет их тем, кто будет так утверждать. И увидят наши далекие потомки, извини за высокую прозу, как их отцы и деды…
— То есть, — уточнил Виктор, — такие же полудурки, как мы с тобой.
— В общем-то, да. Как шли, — говорю, — советские люди мимо этой дурацкой колбасы… с открытым ртом…
— И выпученными глазами, — заканчивает Виктор.
— Вот именно.
— Да, — соглашается Виктор, — эти кадры будут почище, чем съемки ДТП на объездной дороге.
— Конечно, найдутся и другие свидетельства времени, — говорю. — Но пусть наша пленка тоже останется.
— Знаешь, что я тебе скажу. Кино — великая вещь. Пойдем, выпьем за искусство.
— На работе не употребляю.
— А за встречу?
Зашли в подсобку. Оказывается, пока устанавливали свет, Виктор обо всем договорился с продавщицами. Из нескольких ящиков они соорудили небольшой стол. Накрыли газетами. Принесли чекушку и две банки морской капусты. Добавили грубо нарезанный черный хлеб, пару луковиц. Вместо стаканов поставили две чистые баночки из-под майонеза.
— Вчера в таких же, — наливая, заметил Виктор, — все наше отделение сдавало анализы.
Я посмотрел на часы. До открытия магазина оставалось минут десять.
— Ну, вздрогнули, — говорю. — За встречу.
— И за Америку.
— Два часа дня. Там бы нас не одобрили.
— Это точно.
— Как подарки из-за океана? Родственники довольны?
— Что ты. Всем не хватило. Перессорились. Со мной не разговаривают. А-а, — Виктор махнул рукой. — Оно, может, и к лучшему.
— А презент от американских коллег? Помню, они просили распечатать его в родном коллективе.
— Это отдельная тема.
— Расскажи.
— Я так и сделал. В День советской милиции. Собрались в актовом зале. В президиуме все руководство. Начальник. Несколько замов. Представитель от горкома. В конце торжественного заседания, перед концертом, начальник говорит, мол, так и так. Наше управление выходит на высокий международный уровень. Капитан Шлейкин был награжден поездкой в Соединенные Штаты Америки. (Соврал, конечно, — заметил Виктор.) Там он общался с нашими коллегами. Выезжал с ними на дежурство. Проявил себя. Полицейские США сделали нашему коллективу подарок. Презент по-их- нему. Тут из-за кулис, как приказали, я выношу коробку. Оркестр играет туш. Все аплодируют. Я кладу упаковку на стол. Все так… Ну очень торжественно.
— А на подарке надпись, — говорит начальник и читает: «All is for work!», что в переводе означает… Шлейкин, переведи!
— «Всё для работы», — отвечаю.
Все аплодируют.
Начальник снимает с коробки один слой подарочной бумаги, второй, третий. Наконец добрался до крышки. Открыл и перевернул коробку. Ну, а там… На стол вываливается куча цветных презервативов. Не меньше тысячи.
Вспоминая, Шлейкин слегка улыбается.
— Попало, небось, от начальства? — спрашиваю. — За такие шутки.
Виктор показал на погон. Я впервые заметил, что из капитанов он превратился в старшие лейтенанты.
— За это?
— По совокупности.
— Что еще натворил?
— Что можно натворить в ГАИ самого страшного? Перестал брать деньги. Представляешь, как начинают давать, почему-то вспоминаю Боба, Майкла, Барбару. Думаю, они бы не одобрили. Сам понимаю, что глупо не брать. А не могу. Будто внутри что-то сломалось… Мне теперь кажется, и у нас можно жить, работать, относиться друг к другу совсем иначе, по-человечески. Серж, скажи, мне важно знать… Ты в это веришь?
— Не знаю.
— Я, например, теперь выписываю штрафы только официально.
— Вот оно, — говорю, — тлетворное влияние Запала. Перед выездом тебя предупреждали.
— Все шутишь. А раз не беру, то и наверх давать нечего. Формально разжаловали за срыв торжественного вечера. А ведь хотели майора в этом году дать. — Виктор разлил остатки водки. Поставил бутылку вниз.
— Хоть пить не разучился, — говорю, — и то ладно.
— Что ты. Брошу пить — сразу уволят. У нас с этим строго. Все трезвенники на подозрении. — Виктор вспомнил еще что-то. Горько усмехнулся.
— Главное, сами-то всю коробку растащили. Даже мне не осталось…
Чокнулись.

— Ну…
Вдруг за стенкой что-то треснуло, посыпалось, зазвенело. Поднялся крик, шум.
Выскакиваем в торговый зал. Что такое? Навстречу перепуганный оператор:
— Кина не будет!
У витрины с нашей колбасой три десятка покупателей. Куча битого стекла. У нескольких женщин на руках глубокие порезы. Кровь течет на пол. Оказывается, продавщица, открывшая магазин, не смогла сдержать натиска. Покупатели сразу же бросились к «нашей» витрине. Ломанулись, не обращая внимания на то, что продукты «из будущего». «Не продаются!»
Задние уперлись. Поднажали!!! Стекло треснуло и разлетелось в стороны. Толпа через мгновение отшатнулась от разбитой витрины. Главное, все моментально исчезло. Шесть сортов сыра! Шесть палок колбасы!
Народ привычно завелся. Передние орали на тех, кто толкал. Задние, естественно, не отмалчивались. Заметив Виктора, все бросились к нему, человеку в форме. Начали хором объяснять, что произошло. Кто виноват. И что ему, Шлейки- ну, следует делать. Стали тут же толкать и хватать друг друга за воротники, обещая сдать в милицию. Виктор задумчиво глядел на соотечественников. Их перекошенные лица медленно приобретали расплывчатые формы. Вдруг, каким-то странным образом, граждане начали удаляться. Превращаться в мелких, дерганых, кричащих человечков. Похоже, Виктор теперь их не слышал. Кажется, он сам, приподнявшись, улетал. Откуда-то издалека зазвучала дивная, волшебная мелодия «I just called to say I love you». Виктор летел высоко-высоко. Нет не летел. Он парил, танцевал в воздухе, проделывая в небе замысловатые кульбиты и диковинные па. Рядом появилась еще одна танцующая пара. О боже! Да это же я с Леной! А вокруг в такт мелодии движутся Майкл с Барбарой, Гай и Пат, Беверли, Сара, Джон, Доминик, лейтенант Боб Тейлор… Мы летим над полями, лесами, голубым океаном. Возможно, в Россию. Может быть, в далекую Америку… Какая- то странная дама, вся в коже, помахивая стеком, плотоядно улыбается…
«Да, — думаю, — пора завязывать с выпивкой. Надо взять себя в руки, сосредоточиться. Выбросить дурь из головы. Направить силы на полезную деятельность. Как говорится, отдать все для работы…»
Утром вызывает главный редактор студии телевидения Фрайман.
— Что ты опять натворил?
— Когда и где? — спрашиваю. — За мной числится масса хороших поступков.

(обратно)
Журналистика прошлого века

Приходят ко мне две студентки журфака. Молоденькие, веселые, симпатичные. Говорят: «Нам дали задание написать об известных журналистах прошлого века. Вот список. В нем ваша фамилия. Расскажите что-нибудь…»
«Господи, — размышляю, — звучит как-то нехорошо — „прошлый век“. Обо мне? Да-а, приехали. Как быстро прошла жизнь. Обидно. Вот, наверное, студентки думают: „Сидит в своем кабинете старый, толстый и без мозгов. Что он может? И что он мог?“».
— Нет, — говорю, — нынешнему поколению репортеров не понять, что такое настоящая журналистика.
— А все же. Хотя бы в двух словах.
— В двух словах?
— Ну да. К примеру.
— Например, — начинаю вспоминать, — когда улицы становятся абсолютно безлюдными, потому что идет твоя программа. Когда после воскресного эфира заводы, фабрики и учреждения не могут войти в рабочий ритм — все обсуждают твою статью или передачу. Когда паника в райкомах, горкоме, обкоме партии и варианты, варианты, варианты «правильного объяснения народу, почему журналист неправ». Это шквал звонков в студию и тысячи писем благодарности.
— Действительно писали? — спрашивают девушки.
— Что значит «писали»? Письма сочиняли в школах, общежитиях, семьях. Готовили в бригадах, лабораториях, коллективах. Они так и назывались — «коллективные письма». И под ними — десятки, сотни подписей!
— Серьезно?
— Конечно.
— А смысл?
— Как сказать. По крайней мере, они давали нам силы бороться с чиновниками, цензурой, партаппаратом. Хотите, я покажу вам эти письма? Кажется, сохранилось несколько папок в студийном архиве.
— Покажите.
Достаю из шкафа старую пожелтевшую папку. По всему видно, что лет десять к ней никто не прикасался. На папке от руки написано «Программа „Стоп-кадр“ от 17 марта». Открываю. Бережно листаю страницы.
— Вот, смотрите, под этим письмом сорок подписей. Здесь штук сто. А тут еще больше.
Девушки с интересом разглядывают сухие, ветхие листочки. Перебирают конверты с обратными адресами. Удивляются:
— Это всё отзывы на ваши передачи?
— А то! Вы даже не представляете, какие чудные письма шли после моих программ! Какие искренние благодарности слали люди в мой адрес. Берите всю папку, читайте. Нынешние журналисты таких писем никогда не получат.
Оставляю ошеломленных студенток знакомиться с содержимым папки. Сам ухожу на совещание. Через полчаса возвращаюсь. Смотрю, папка с письмами лежит на столе. Девушки уже в пальто, собрались уходить.
— Ну, что, — спрашиваю, — ознакомились? Правда, эти письма вдохновляют, окрыляют, радуют?! После таких отзывов еще больше хочется жить и работать.
— Да, наверное, — соглашаются девушки без энтузиазма. — Можно мы в другой раз придем? Нам на лекции…
— Хорошо, — говорю, огорчившись, — идите.
— А про вас мы непременно расскажем всему курсу, — обещают они, прощаясь. — И обязательно напишем.
Молчу, а сам думаю: «Даже не остались поговорить. Странное вырастает поколение журналистов. Ничего их не интересует, ничто не заботит, не волнует. Даже такие чудные, дивные письма».
Подбираю тесемки ветхой папки. Она такая, как я. Старая и ненужная. Прежде чем обратно спрятать ее в шкаф на пять, десять лет, а может, навсегда, пробегаю глазами первые строчки верхнего письма.
«Большей мерзости, чем передачи от 17 марта, мы на нашем телевидении еще не видели. И с этим согласны все сто двенадцать человек, нашего коллектива».
Читаю начало второго письма:
«Надо повесить этого журналиста на одной ветке вместе со всей шайкой-лейкой, участвовавшей в программе от 17 марта».
А вот следующее:
«…во время передачи хотелось выбросить телевизор из окна, прикончить всех участников, а главное, этого гнусного ведущего программы, который все время выгораживал нарушителей закона, хапуг и взяточников… Жаль, не знаем фамилии этого журналиста-мерзавца».
В конце — восемьдесят шесть подписей! Лихорадочно листаю еще и еще несколько посланий. Сплошной мат и нецензурщина в адрес ведущего. Ни одного доброго слова.
Кровь ударила в виски. Не может быть! Что за ерунда?!
Пытаюсь вспомнить историю многолетней давности. Память медленно возвращает былые события. Ага. После одной из передач «Стоп-кадр» (о незаконном распределении жилья) в адрес съемочной группы пришло невероятное количество писем. В каждом — слова благодарности и поддержки. Народ взбудоражен. Мы готовим продолжение. По распоряжению обкома партии меня отстранили от эфира. Вторую передачу на ту же тему ведет наш теленачальник. Да, вспомнил. Он пригласил «героев» моей критической программы в студию. Как мог, защищал их и выгораживал в прямом эфире. Снова пришло огромное количество писем. Критических. Злых. Матерных. С проклятиями и угрозами в адрес продажных журналистов. Вот они. Случайно сохранились в папке «Программа „Стоп — кадр“ от 17 марта».
— И эту папку я дал студенткам? Идиот!
Выскочил в коридор, на улицу — девушек нет. Где искать? Как объясниться? Не знаю. Медленно возвращаюсь обратно в кабинет.
Представляю, что они думают после нашей встречи. Да, собственно, ничего нового. То же, что и вначале: «Старый, толстый, выживший из ума кретин. Чем он гордится?»
И еще: «Ну, теперь-то мы знаем, что такое журналистика прошлого века».

(обратно)
Послесловие

За ценные советы и «туманную» критику автор выражает глубокую признательность своим друзьям и первым читателям рукописи:
Юрию и Татьяне Барашковым, Николаю Винокурову, Людмиле и Ксении Новицким, Олегу Приходько, Мансуру и Валентине Салахутдиновым, Валентину Рассказову, Леониду Слободянюку, Александру и Елене Ширяевым.
Отзывы, замечания, пожелания других возможных читателей все еще принимаются по эл. адресу: zapuskraz@mail.ru
P.S. «Для особо дотошных читателей». Все события и персонажи, описанные в книге, вымышлены, а любые совпадения — случайны.
С уважением, Станислав Новицкий

(обратно)
Содержание

Птахы — наши друзи
Еврей
О чем гудят провода
Прекратил существование
Ночь спустилась на землю
Генеральный секретарь
Цензура
Траулер
Звуки и буквы
Аполлон
Я от Фраймана
Как здорово!
Мой дядя
Правая нога не хуже левой
Прогресс
Эти тупые капиталисты
Запуск разрешаю!
Жизнь налаживается
Всё для работы
Журналистика прошлого века


(обратно)
Оглавление
Птахы — наши друзи
Еврей
О чем гудят провода
Прекратил существование
Ночь спустилась на землю
Генеральный секретарь
Цензура
Траулер
Звуки и буквы
Аполлон
Я от Фраймана
Как здорово!
Мой дядя
Правая нога не хуже левой
Прогресс
Эти тупые капиталисты
Запуск разрешаю!
Жизнь налаживается
Всё для работы
Журналистика прошлого века
Послесловие
Содержание