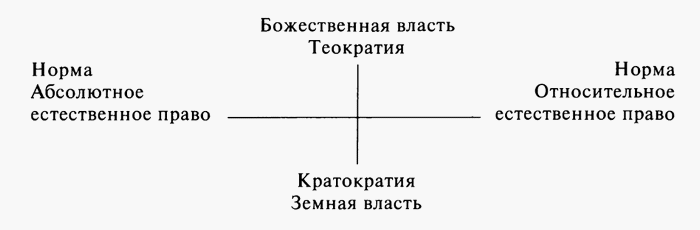История — это образ, при помощи которого воображение человека стремится почерпнуть понимание живого бытия мира по отношению к собственной жизни и таким способом придать ей углубленную действительность.
О. Шпенглер
Говори о самом личном, говори об этом, одно только это и нужно, не стыдись; об общественном говорится в газете.
Э. Каниати
Эти слова продиктованы ясным сознанием трагичности человеческого существования вообще — и пониманием России как наиболее абсолютного к нему приближения.
И. Бродский
Посвящаю Ирине Глебовой
Предисловие
). В ней, как мне представляется,
). И так было всегда (в последние столетия). Не случайно большинство реформ — от Петра до наших дней — несет на себе печать упрощеченства. Иными словами, складывающаяся постепенно сложность социальной ткани, увеличение ее разнородности начинают угрожать каким-то важнейшим, принципиальным первоосновам традиционного
Русская мысль, Система русской мысли и Русская Система (опыт критической методологии)
Философия — отыскивание
сомнительных причин в
обоснование того, во что
веришь инстинктивно.
Олдос Хаксли
Философия — это усилие,
связанное с проверкой всех
очевидностей.
Лешек Колаковский
Кроме нашего знания, мы все
же ничего не имеем, с чем
можно было бы сравнить
наше знание.
Иммануил Кант
Русская философия ведет постоянную
борьбу с кантианством.
Семен Франк
В конце концов нам ничто не
мешает отказаться от
философии ради истины.
Семен Франк
) и Б. Гройса ().
) (как и понять «тайну» Пушкина, которую он унес с собой в могилу). А помимо этого необходимо ответить на вопрос: почему, находясь
лат. — так называлась главная книга Николая Кузанского, учителя и «первоисточника» Франка).
)
Русская власть и исторические типы ее осмысления (или: Два века русской мысли)
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал.
Анна Ахматова
Constitutional state и русское государство
В 1921 г. известный ученый Р.Ю. Виппер подводил итоги свершившихся событий. «Произошло все как раз наоборот предвидению теории — мы притягивали историю для объяснения того, как выросло Русское государство и чем оно держится. Теперь факт падения России, наукой весьма плохо предусмотренный, заставляет … проверить свои суждения. Он властно требует объяснения, надо найти его предвестия, его глубокие причины, надо неизбежно изменить толкования … науки». — С тех пор с «Русским государством» произошло еще много чего — оно возрождалось, вновь «падало», вновь пыталось возродиться. Однако «толкования науки» так и не изменились. То есть до сих пор мы не удосужились разработать методологию, с помощью которой можно
адекватно описывать, изучать, анализировать феномен русского государства. Более того, большинство исследователей даже не подозревают, что «Русское государство» есть нечто в высшей степени специфическое. И оно весьма отличается от того, что мы привыкли называть государством…
Дело в том, что в современной науке под псевдонимом «государство» скрываются различные, по своей природе очень далекие друг от друга типы власти. Государство Древнего Рима, государство инков, государство Китая и т. д. Говорят: да, все это — государства, хотя и несхожие. С этим можно было бы, наверное, согласиться, если бы не одно обстоятельство.
На всех основных европейских языках «государство» звучит одинаково: state, Staat, etat, stati, estado (от латинского status). Этот термин возник относительно недавно — четыре столетия назад. Раньше для обозначения властного устройства европейцы использовали другие понятия: polls, res publlca, civitas, regnum, imperium и т. д. В XVI–XVII вв. в европейском самосознании и природе европейского социума происходят фундаментальные сдвиги. Реформация, гуманизм, созревание капитализма, возникновение наций, постепенное разрушение сословной организации, рождение идеи прав человека и вообще нового понятия о праве — в определенном смысле все это события одного ряда, свидетельствующие о наступлении принципиально новой эпохи. Государство (state) также «событие» из этого ряда. Оно, повторяю, есть форма организации не власти вообще, но — того типа власти, который характерен для Западной Европы начиная с XVI–XVII столетий (а затем и «дочерних предприятий» фаустовской цивилизации по всему свету). A «state» есть понятие, с помощью которого описывается этот (и никакой другой!) тип власти.
По поводу происхождения и природы государства (state) очень важные наблюдения были сделаны Карлом Шмиттом: «Государство (Staat) … есть в высшей степени единичное, конкретное, обусловленное временем явление, которое следует датировать эпохой с XVI по XX столетие христианского эона и которое вышло из этих четырех веков, из Ренессанса, Гуманизма, Реформации и Контрреформации; оно есть нейтрализация конфессиональной гражданской войны, а также специфическое достижение западного рационализма и т. д. Государство есть по преимуществу продукт религиозной гражданской войны, ее преодоление посредством нейтрализации и секуляризации конфессиональных фронтов, т. е. детеологизация».
Итак, государство (state) явилось (во многом) и результатом, и способом выхода из полуторастолетнего кровавого конфессионального конфликта. Причем результатом и способом весьма своеобразным. Ни одна из конфессий не одержала победу. Однако не победила и «дружба» между католиками и протестантами. Компромисс был достигнут путем выхода из сферы религиозного. Произошла, по словам К. Шмитта, «детеологизация». Детеологизация сознания и социума. Самоидентификация человека не только по конфессиональному, но и вообще по религиозному принципу уступила место самоидентификации по принципу государственно-политическому (или национально-государственному). Религиозное как таковое вытеснялось из сферы властных отношений. Строилась новая Вселенная — антропоцентричная. Теоцентричный мир был отправлен на свалку истории. State и есть властное измерение антропоцентричной европейской цивилизации последних четырех веков.
Но подчеркнем: Бог не был изгнан из этого brave new world. Он «лишь» перестал быть смысловым центром этого мира … Государство (state) лишь отчасти пришло ему на смену; как мы понимаем, ни о какой полной «смене вех» не может быть и речи. К. Шмитт роняет: «Государство: от христианской веры к объективному разуму», «Левиафан — смертный Бог, Deus mortalis». — «Объективный разум» и «смертный Бог» — два лика нового универсума. За «объективным разумом» стоят европейская наука, Гегель со всей его проблематикой, включая апологию государства (state), социальные революции и т. д. «Deus mortalis» — это ужас перед неотвратимой бездной смерти («то вечности жерлом пожрется»), которая открылась после детеологизации мира. Это ужас похотей человеческих, сбросивших державшую их в узде Высшую Волю. Похотей, ведущих к смерти. «Desire of power that ceaseth only in death».
Государство (state) и становится «защитой» от этого страха смерти. Фасадом перед ее «лицом». Одновременно государство есть результат страха, охватившего европейцев в холодной неуютности победившего гуманизма. Это позже сентиментализм и романтизм сделают этот мир более теплым и приятным. И западный конституционализм во многом явится плодом этих (разумеется, и других) коллизий, новаций, «необходимостей». Тот же К. Шмитт фиксирует: «…право на религиозное заблуждение стало основой современного конституционного права». То есть конституции рождаются там и тогда, где и когда «религиозное» в социальном отношении становится относительным. Конституционное государство — это примета мировоззренчески-релятивистского мира. Но оно невозможно (по сути, а не как прикрытие чего-то иного) в социумах теоцентричных и атеистических.
Constitutional state возникает в обществе посюстороннего консенсуса, где религия — частное внутреннее дело человека. «Выдвинув положение о том, что человек не нуждается в посредниках для общения с Богом, он (Лютер. — Ю.П.) заложил основы европейской демократии, ибо тезис "Каждый сам себе священник" — это и есть демократия». В этих словах «схвачено» содержание современного Запада — христианская поли-субъектность, полагающая отношения человека с Богом делом сугубо внутренним, личностным, интимным. И потому общественный договор, социальный консенсус строится здесь относительно ценностей «предпоследних» (политических, правовых, экономических и т. д.). Религиозно-метафизическое выведено за пределы социального порядка, выведено за штат (дословно: за Staat, state, etat).
Потому-то главный субъект западных конституций — гражданин, гражданское общество, нация. Последняя является способом, средством, путем интеграции всех элементов гражданского общества в политическое единство — государство. Именно с этой целью (интеграция) нация создает конституцию. Но в основе всего, скажем об этом еще раз, человек — гражданин, живущий в секуляризированном, антропоцентричном мире, поделенном на публичную и частную сферы. Это — homo occidentalism.
Подчеркнем: современное государство (state) есть по преимуществу государство конституционное, живущее по духу и букве Основного закона! Поэтому его природа и зашифрована в конституционных текстах. Следовательно, необходимо четко представлять себе, чем является современная Конституция. Сделаем это, опираясь на воззрения двух классиков социальной мысли XX столетия (кстати, антагонистов), — Карла Шмитта и Ганса Кельзена.
Конституция непременно соответствует императиву гражданских свобод и содержит твердые гарантии этих свобод. Причем под свободой здесь прежде всего имеется в виду гарантированная законом свобода индивида от государства. В Конституции подобная свобода закрепляется следующим образом: признаются основные права, фиксируются принципы разделения властей и участия народа в законодательном процессе. Провозглашение в Конституции основных прав означает, что общество усвоило идею свободы. Осуществление же принципа разделения властей свидетельствует о том, что идея свободы получила организационные гарантии против возможных злоупотреблений властью со стороны государства.
Конституционное государство есть законническое государство в том смысле, что единственной формой его вмешательства в сферу свободы индивида является вмешательство, основанное на законах. Да и оно рассматривается как исключение. В подобном государстве правят законы, а не люди. Администрация же руководит только в том смысле, что следует существующим позитивным нормам. Легитимность конституционного государства обусловлена законностью всех действий его властей.
Государство, построенное по канонам идеально-типической конституции, контролируется обществом, занимает по отношению к нему служебное и подчиненное положение, отождествляется с системой норм. «Это — нормы или процедуры и больше ничего» (К. Шмитт). «Государство понимается как правопорядок»; «государство есть относительно централизованный правопорядок» (Г. Кельзен). Важнейшей организационной характеристикой такой государственности является независимая судебная система.
Это шмиттовско-кельзеновское понимание «идеи» Конституции необходимо дополнить следующим. Задача Основного закона состоит не только и не столько в «освящении» той или иной властной структуры, а в
упорядочении открытого (по своей природе)
политического процесса. Видеть в Конституции нормативное закрепление
определенной формы правления — значит, обеднять ее содержание. Это —
открытая норма, в рамках которой возможны как сегодняшняя политическая система, так и некие другие ее варианты в будущем. «Любая конституция рисует не одну, а множество схем правления, построение которых зависит от расстановки сил в данный момент. Различные политические режимы могут … функционировать в одних и тех же юридических рамках», — писал двадцать пять лет назад Морис Дюверже.
Конституция как норма, упорядочивающая политическую жизнь, имеет два измерения.
Первое: сила, организующая и регулирующая институциональную систему правления.
Второе: регулятор
своего собственного изменения, а следовательно, и этой системы. Соответственно, конституционные нормы должны иметь различную степень жесткости. Наиболее жесткие, наиболее трудноизменяемые — это нормы, в наименьшей мере предопределяющие политическую деятельность (например, регулирующие права человека). Самые гибкие — нормы, регулирующие процесс отправления власти, т. е. нормы, в рамках которых совершается выбор в пользу конкретной организационной формулы.
Кроме того, «идеально-типическая» Конституция обязательно закрепляет принцип
функционального разделения власти на
три ветви, каждая из которых в большей или меньшей степени соответствует трем сферам жизнедеятельности современного социума: 1) гражданскому строю, т. е. области «субъективного» и гражданского права, личной свободы, частной автономии; 2) административному строю или системе — области централизации и сосредоточения государственной власти, социального обеспечения, авторитарного руководства; 3) конституционному строю, т. е. конституции, понимаемой одновременно и как пространство, в котором происходит самоограничение государственной власти, и как способ этого самоограничения — установление
правильного соотношения (и в этом смысле равновесия) между различными государственными органами. Это — сфера
децентрализации власти, ее
непосредственного функционального разделения.
В соответствии с таким подходом орган народного представительства, власть законодательная, корреспондирует конституционному строю, является главным его выразителем, исполнительная власть, правительство (government) — административному строю, а судебная власть — гражданскому (суды-то и существуют прежде всего для того, чтобы защищать субъективные права личности как от повреждения их другими гражданами, так и от нарушения их государством).
Весьма удачное, на мой взгляд, определение Конституции дал восемьдесят пять лет назад русский юрист Е.В. Спекторский. По его словам, она «обещает много, но далеко не все. Она не устраняет социальной борьбы, религиозной, классовой и иной. Зато она вводит ее в культурную форму. Она не производит социальных реформ. Зато она создает для них законную возможность. Она вообще не разрешает по существу ни одного общественного вопроса, ибо она устанавливает пути для разрешения всяких общественных вопросов … Она носит … не столько принципиальный, сколько технический характер. Хорошая конституция — это все равно, что хорошие пути сообщения. Кто заботится о них, тот не спрашивает, почему и зачем едут пассажиры, должны ли они вообще ехать, тот просто старается увеличить число поездов, ускорить их ход, удешевить проезд и т. п. Подобным же образом и конституция формальна. Она стремится всем обеспечить свободу передвижения, слова, веры, участия в государственных делах. И при этом она не читает в сердцах, не справляется об убеждениях, о принадлежности к той или иной партии. Вот почему, в свою очередь, все партии при всей своей борьбе по другим вопросам и могут и должны сойтись на вопросе о конституции, ибо она гарантирует общечеловеческие блага — свободу и порядок».
…И еще одна тема, важная для понимания природы constitutional state. Это тема принципиальной
безличности современной государственной власти. К примеру, М. Дюверже называет «правителей» «слугами», «должностными лицами». По его мнению, государство тем совершеннее (т. е. тем больше оно государство), чем государство-«идея», государство-«абстракция» отдельнее, отдаленнее от конкретных носителей власти.
Другой классик французской политической науки Жорж Бюрдо пишет: «Люди изобрели государство, чтобы не подчиняться другим людям». Поначалу они не знали, кто имеет право командовать, а кто нет. И потому пришлось придать власти
политическую и правовую форму. «Вместо того, чтобы считать, что власть является личной прерогативой лица, которое ее осуществляет, они разработали форму власти, которая независима от правителей. Эта форма и есть государство». Согласно Бюрдо, государство возникает как
абстрактный и постоянный носитель власти. По мере развития этого процесса правители все больше и больше предстают в глазах управляемых агентами государства, власть которых носит преходящий характер. Подобная трансформация (если угодно: эволюция) власти явилась в истории человечества огромным шагом вперед. «В этом смысле идея государства есть одна из тех идей, которые впечатляющим образом демонстрируют интеллектуально-культурный прогресс … Ведь отделение правителя, который командует, от права командовать позволило подчинить процесс управления заранее оговоренным условиям. В результате стало возможным оградить достоинство управляемых, которому мог наноситься ущерб при прямом подчинении какому-нибудь конкретному человеку».
Конституция возможна, т. е. действенна и необходима,
только при такой и для такой власти. Конституция является формулой и формой такой власти. Предпосылка (обязательная) конституции — возникновение абстрактно-безличностной власти. Суверенитет должен отделиться от лица — носителя власти, от лица — персонификатора власти.
Надо сказать, что в европейской истории процесс отделения суверенитета от властного лица нередко проходил в форме отделения головы этого лица от его туловища. Карл I Стюарт, Людовик XVI Бурбон … Современный американский исследователь А. Хардинг пишет: «Английская революция показала, что суверенитет, "сосредоточенный" в короле, может находиться и в другом месте. 19 мая 1649 года в ходе пуританской революции парламент провозгласил: "Народ Англии … постановил быть политическим сообществом и свободным государством и отныне управляться как политическое сообщество и свободное государство высшей властью этой нации — представителями народа в парламенте". Джон Мильтон назвал короля "врагом народа"».
Таким образом, формирование государства (state) проходит обряд инициации — «обрезание» суверенитета в виде головы у монархической власти. Затем эта власть (монархическая) может быть даже восстановлена, но суверенитет к ней уже не вернется. Реставрация неосуществима в принципе. «Не Робеспьер, но Меттерних разбил монаршью корону … Реставрация — это специфический метод уничтожения и разрушения реставрируемого». Или: что упало, то пропало…
Из всего этого явствует: с помощью термина state нельзя описывать другие, незападные типы власти. State намертво закреплен за Западом, за его неповторимой и уникальной историей. Это касается и России; в ней человек, общество, власть развивались иначе. Иным оказался и результат. Русская власть никак не может быть описана и понята через призму концепции и реальности constitutional state {nation-state). Термин же «государство» вполне подходящ. В нем, по крайней мере этимологически, отражены и природа генезиса, и природа функционирования этого особого типа власти.
Трудность лишь в том, что в мире и у нас господствует один-единственный тип научного познания, которому соответствует и универсальная терминология. За этими «универсалиями» скрывается принципиально различный опыт уникальных цивилизаций. Скрывается, а не отражается. Как не отражается и историческая неповторимость той или иной эпохи. Причем даже в рамках европейской культуры. Ведь «state» не применим не только к незападным обществам, но и к Европе, скажем, XII–XIII столетий.
Все это надо держать в уме, когда мы говорим и о «государстве». И конечно, в 1921 г. Р.Ю. Виппер думал о таких новых «толкованиях науки», которые могли бы объяснить именно «Русское государство», а не «государство вообще». Здесь уместно вспомнить двух гениальных и очень разных русских людей, оказавшихся по воле судьбы в самой гуще современной западной культуры. Их нельзя заподозрить в плоском и провинциально затхлом и бесплодном русском «самобытничестве». Напротив, оба этих деятеля подчеркнуто всемирны. Илья Пригожий: «Мир слишком богат, чтобы быть выраженным на одном-единственном языке». Иосиф Бродский: «Любой опыт, исходящий из России, даже отраженный с фотографической точностью, просто отскакивает от английского языка, не оставляя видимого следа на его поверхности. Безусловно, память одной цивилизации не может и, наверное, не должна стать памятью другой. Но когда язык не в состоянии воспроизвести реалии другой культуры, может возникнуть наихудшая из тавтологий».
* * *
Теперь же обратимся к России. Специфика ее социокультурного развития отразилась и на особом характере русской власти. Об этом хорошо сказано у Р. Пайпса: «Каждый, кто изучает политические системы незападных обществ, скоро обнаружит, что в них разграничительная линия между суверенитетом и собственностью либо вообще не существует, либо столь расплывчата, что теряет всякий смысл … В условиях первобытного общества власть над людьми сочетается с властью над вещами, и понадобилась чрезвычайно сложная эволюция права и институтов (начавшаяся в Древнем Риме), чтобы она разделилась на власть, отправляемую как суверенитет, и власть, отправляемую как собственность. Мой центральный тезис состоит в том, что в России такое разделение случилось с большим запозданием и приняло весьма несовершенную форму. Россия принадлежит par exellence к той категории государств, которые … обычно определяют как "вотчинные" (patrimonial). В таких государствах политическая власть мыслится и отправляется как продолжение права собственности, и властитель (властители) является одновременно сувереном государства и его собственником».
Конечно, термины «политическая система» и «политическая власть» не вполне корректны при описании обществ незападного типа; конечно, весь этот понятийный аппарат несколько устарел, но в целом и по существу Ричард Пайпс прав. Власть (а именно ее, а не «государство» — state имеет в виду американский исследователь) в России по своей природе вотчинная (патримониальная). На протяжении многих столетий разделительная линия между властью и собственностью почти не проглядывается (это было в Новгороде и Пскове, но московско-ордынские Даниловичи пожрали этот «анзеатический» Ост-ланд). Великие князья и цари Московской Руси были действительно в полной мере хозяевами своей страны. Как отмечал Н.Н. Алексеев, «у Петра I если не совсем, то в значительной степени можно считать … изжитыми те патримониальные представления о государстве, которые владели старыми московскими князьями. До Петра … в ходячем политическом сознании народа идея государства сливалась с лицом государя, как в частном общежитии домохозяин юридически сливается со своим домом».
Это все так, хотя образ Петра в значительной мере «модернизирован». На самом деле власть и представления о ней перестают быть патримониальными лишь в ходе пореформенной (после 1861 г.) эволюции российского социума. Да и к 1914 г. власть еще далеко не окончательно потеряла вотчинное измерение. Этот тезис весьма убедительно развивает в своей знаменитой книге В.В. Леонтович. Причем тему патримониального характера власти он напрямую связывает с темой конституции. «Я неоднократно подчеркивал, что считаю неправильным называть Конституцию 23 апреля 1906 г. лжеконституцией. Но если бы даже можно было так ее определить, то уж во всяком случае не потому, что в России не было парламентского строя или не было всеобщего голосования, и не потому, что царь не присягал на Конституции, а только потому, что конституционный строй в России не был основан на развитом гражданском строе, который вообще всегда является необходимой основой для всякой либеральной конституции. (А настоящая конституция ведь по сути своей не может быть не либеральной.) Как раз неразвитость гражданского строя, гражданской свободы и повела к исчезновению политической свободы, к крушению конституционного строя в России».
Под «неразвитостью гражданского строя» ученый-эмигрант полагал то обстоятельство, что к началу Первой мировой войны еще не был закончен «процесс распространения на крестьян гражданского строя» (в крестьянской стране!). Или, иными словами, «не был превзойден старомосковский принцип верховной собственности государства на землю».
Следовательно, к 1917 г. у нас еще не было закончено строительство, формирование государства в смысле «state» (хотя прогресс очевиден). В немецкой науке той эпохи по отношению к России применялась такая квалификация: «Конституционная монархия, под самодержавным царем». В этом определении очень важна разделительная запятая, устанавливающая подлинную властную иерархию (очень странную для западного сознания) в поздней петербургской империи.
Кстати, вотчинный характер самодержавия (русской власти), его принципиальную несовместимость с частной собственностью на землю и — по логике вещей — с утверждением в России гражданского строя (гражданского общества), а на его фундаменте — конституционного государства очень глубоко понимал Л.Н. Толстой. В августе 1865 г. ему приснился сон (по гениальной пронзительности напоминающий сны Декарта), содержание которого он зафиксировал в записной книжке: «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. "La propriete c'est le vol" («Собственность — кража» — франц.) останется большей истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина
абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные … Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда (т. е. частную собственность вообще, как институт. — Ю.П.) и … собственность поземельную (частную на землю. — Ю.П). Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимают одинаково ученый русский и мужик … Эта идея имеет будущность. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности …
Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей (выделено мной. — Ю.П.)».
Самый органический русский гений с непревзойденной точностью выразил то, что сложилось в ходе тысячелетней русской истории. Он дал почти математическое соотношение власти — собственности — конституции по-русски. И объяснил причины мощного антиконституционализма русской мысли. Особенно той ее части, которая, подобно Льву Николаевичу, имела абсолютный слух на «русское». Следовательно, прав был и В.И. Ленин с его «зеркалом русской революции». Эта самая революция полностью подтвердила предчувствия Толстого…
Но не только, конечно, патримониальный характер власти и соответствующий тип ее понимания стали преградой на пути укоренения у нас конституционализма. Можно назвать еще целый ряд природных черт русской власти, которые также препятствовали формированию конституционной государственности.
К ним относится унаследованная от Византии модель взаимоотношений государства и церкви по типу симфонии. Эта модель не предполагала никакого ограничения или разделения светской власти. В отличие, скажем, от модели «двух мечей» (папы и императора), господствовавшей в средневековой Европе. Там церковная и светская власть были разделены изначально (в том числе — и это немаловажно — они были отделены друг от друга и географически) и тем самым были ограничены сферы их компетенций. «Два меча» — это уже, хоть и интенционально, начало плюрализма.
Далее, тягловый характер русского социума. Если на Западе сословия отличались друг от друга объемом и типом повинностей и свобод, то у нас — только повинностей (тягла). Следовательно, проблематика автономии индивида, прав человека возникнуть здесь не могла. Как, впрочем, и основы для формирования правового государства. Вместо Rechtsstaat строится «государство правды», которое, по словам евразийца М. Шахматова, проникнуто стремлением «соблюсти изначальную истину, покорить человеческую волю, человеческое "самочинение" религиозно-государственной правде». В идеале «государство правды» есть подчинение «государства началу вечности». Первостепенное значение для него имеет «вопрос о преемстве благодати от Бога». Цель «государства правды» — спасение душ подданных, защита чистоты православия. «Государство правды» — институт не только и не столько внешний, но «внутри нас есть». П.Б. Струве весьма удачно квалифицировал это государство как литургическое.
В принципе нет ничего специфического в том, что на определенных этапах своего развития русская власть имела яркое и глубокое религиозное измерение. Это знала и Европа. Своеобразие заключено в категории «правда», которая — до известной степени — подменила у нас «право». И заблокировала на столетия возможность его появления (речь идет о «праве» в европейском смысле слова; «русское право» существовало, но содержательно это был иной феномен). Ведь «правда», как еще в XI в. учил митрополит Иларион, есть и истина, и добродетель, и справедливость, и закон. Религиозно-нравственное начало растворяет в себе начало юридическое. Или, точнее, — не дает этому последнему кристаллизоваться.
Созданная на обломках Святой Руси петербургская империя также была сущностно враждебна идее конституционализма. Полицейское государство, регламентирующее государство, воспитательная диктатура — так называют устройство послепетровской власти. Но еще это государство было «оформлением», формой, которая стягивала распавшуюся на две субкультуры страну. Такая форма оказалась неизбежно деспотической. Однако в деспотизме новой государственности таились и сила репрессивно-подавляющая, охранительно-удерживающая, и сила просвещеннически-реформистская, прогрессистски-революционаристская (недаром Пушкин скажет, что «все Романовы — революционеры»). То есть отечественная государственность XVIII–XIX столетий имела принципиально двуосновный характер. В определенном отношении все цари-императоры были папой и Лютером в одном лице.
Важно подчеркнуть: обе эти силы, как правило, реализовывали себя деспотически, насильственно. И реформы, и контрреформы, и прямая реакция, и действия, смахивающие на «крутую» революцию, — все это осуществлялось именно так (за некоторыми, разумеется, исключениями). Причем речь идет не о властных технологиях, а о самом характере власти. Не о насилии «внешнем», но — о сущностном. Не о том, в белых ли перчатках и «бархатно» действует власть или, напротив, ведет себя так, словно ведет боевые действия.
Да, русская власть после Петра была одновременно и папой, и Лютером. И в этом коренилось страшное ее противоречие. Однако было нечто, в значительной мере это противоречие «снимающее». Это «нечто» — та самая изначальная природа власти. Насильственно-деспотическая. Она и позволяла Романовым быть то Лютером, то папой. Позволяла быть функциональным Лютером и функциональным папой. Все зависело от того, кем для самосохранения и господства надо было быть в данный момент. Какую стратегию избрать — стратегию Сперанского или Аракчеева.
Исторически известно несколько вариантов. После реакционного царствования наступает реформистское, и наоборот. В рамках одного и того же царствования «период Сперанского» сменяется «периодом Аракчеева» (а вот наоборот не бывало; но бывало в такой последовательности: «Сперанский» — «Аракчеев» — «Сперанский»). А при Александре III весьма органично уживались Витте и Победоносцев. Вообще-то, все эти «варианты» и «стратегии» носят скорее идеально-типический, типологический характер. В реальной жизни все было сложнее, перемешаннее, хаотичнее.
И все-таки до конца — в силу целого ряда причин, о которых мы здесь говорить не будем, — эта изначальная природа власти не «снимала» этого ее же коренного противоречия. Так и оставались Романовы о двух лицах, а монархическая государственность их — двуосновной.
Соответственно, и идеологии, с изобилием возникавшие в русском обществе в XIX в. — славянофильство, официальная народность, западничество, шестидесятничество, почвенничество, либерализм, народничество и т. д., — самоопределялись во многом в процессе выработки отношения к этому типу государственности. Иными словами, идентичность приверженцев той или иной идеологии строилась на особом, лишь им присущем восприятии власти. Но при
особости отношения все эти идеологии можно разделить на две группы. Те, кто относился к первой, принимали лишь одну (для нас сейчас не важно, какую) «компоненту» двусложного петербургского самодержавия, ее хотели совершенствовать, а другую — отменить. Идеологии, входившие во вторую группу, вообще отрицали этот тип государственности.
Результатом всего этого — и типа власти, и типов ее осмысления, и многого другого — и явилась весьма своеобразная Конституция 1906 г. Она была компромиссом различных элитных групп по поводу именно власти. Но не консенсусом относительно прав человека, который, как уже отмечалось, лежит в основе западных либеральных конституций. Причем подчеркнем: основные государственные законы 23 апреля 1906 г. суть компромисс, а не консенсус. Последний-то как раз и не был достигнут.
Скажем еще несколько слов — последних в этой части работы — о специфике русской власти. Точнее, о существе ее
перестроек. Это ведь вообще любимое занятие наших правителей — постоянно что-то менять в деятельности властного механизма. Правда, при этом существо власти практически не трансформируется. И в конечном счете все возвращается на круги своя. Затем начинаются новые перемены…
Вообще-то, реформы, как и контрреформы, — дело нормальное, исторически будничное и вполне прогнозируемое. На Западе кардинальные изменения власти обычно фиксируются в конституциях, а их реализация обеспечивается функционированием институтов управления. У нас происходит по-другому. И с конституцией, как мы знаем, в России по-своему, и с институциональной системой тоже.
Во-первых, практически всем верховным российским начальникам конституции или какие-то сопоставимые с ними «основные законы» всегда узковаты. А потому и преодолеваются; так сказать, из конституционного поля осуществляется трансцендирование в поле властно-волевое, властно-силовое.
Во-вторых, результатом этого преодоления является создание новой, неинституциональной, системы управления. Органы этой системы можно условно назвать чрезвычайными комиссиями (никакой аллюзии на ЧК Дзержинского у автора в данном случае нет). Они образуются для решения каких-то специальных задач. Такое мы можем наблюдать все последние пять столетий отечественной истории. У истоков чрезвычайных комиссий стоит Иван Грозный со своей опричниной. Далее это петровская гвардия, Канцелярия Его Императорского Величества, Коммунистическая партия (номенклатурное ядро прежде всего). При типологической схожести судьба чрезвычайных комиссий различна. Одни, выполнив (или не выполнив) определенную задачу, отмирают, другие сосуществуют с институтами, третьи оттесняют их на периферию социальной жизни, четвертые подменяют собой. Разумеется, возможно и некое смешение вариантов.
В-третьих, конечно, не исключено, что со временем чрезвычайные комиссии становятся чем-то схожим с институтами. Хотя это происходит редко.
В-четвертых, чрезвычайные комиссии могут существовать довольно долго. При этом их цели и методы видоизменяются.
Однако, со всеми оговорками, наличие такого рода комиссий подрывает конституционные устои, принцип разделения властей и институциональную систему. Подчеркнем: здесь принципиальное отличие традиционных российских реформ власти от конституционных и институционных реформ европейского (западного) типа.
Безусловно, все это не только не случайно, но и коренным образом связано с природой российской власти.
Как они хотели обустроить Россию
Хорошо известно: русская мысль XIX–XX столетий подготовила несколько оригинальных моделей обустройства общества; прежде всего властного его измерения; и при этом следует заметить, что она не менее, чем литература,
креативна. Обе они «пророчествуют», и пророчества — в известной степени — сбываются. Поразительно и то, что креативность обращена не только в будущее, но и в прошедшее, прошлое.
Лев Толстой пишет «Войну и мир» и завершает созидание мифа «1812 год». Это один из основополагающих мифов отечественной культуры. И для нее он во много раз существеннее и важнее, чем сама героическая эпоха. Но, подчеркну, Толстой именно «созидает» (создает). Что, кстати, не всегда вполне понятно даже проницательнейшим, умнейшим наблюдателям. Так, Петр Вяземский и Константин Леонтьев обвинили его в том, что персонажам 1812 г. приписан психический строй людей 60-х годов, современников Льва Николаевича. Будучи замечательно умными людьми, они «почему-то» не догадались, что «Война и мир» не про это…
В этом же ряду Анна Ахматова. По свидетельству Л.К. Чуковской, Анна Андреевна рассуждала следующим образом: «Исторической стилизацией — стилизацией в хорошем смысле слова, в смысле соблюдения признаков времени — он никогда не занимался. Высшее общество в "Войне и мире" изображено современное ему, а не александровское … При Александре … оно было гораздо образованнее, чем потом. Наташа — если бы он написал ее в соответствии с временем — должна была бы знать пушкинские стихи. Пьер должен был бы привезти в Лысые Горы известие о ссылке Пушкина. И, разумеется, никаких пеленок: женщины александровского времени занимались чтением, музыкой, светскими беседами на литературные темы и сами детей не нянчили. Это Софья Андреевна погрузилась в пеленки, потому и Наташа».
Анна Ахматова объясняла все это тем, что Толстой был «полубог» и мир творил по своему образу и подобию («из себя и через себя»). Это-то, конечно, так. Но Толстой, разумеется, не случайно не коснулся Пушкина и пушкинского в творимом им мифе. Причин было несколько. Пушкин сам по себе стал мифом — пушкинским; Александр Сергеевич мог быть только смысловым центром мифа и потому в «1812 год» не укладывался. Там же центральное место было занято…
Вяземский, Леонтьев, Ахматова судили Толстого как литератора. А он был действительно «полубог», творец новой реальности (условно — мифа). Причем
эта реальность, в свою очередь, порождала новые смыслы, новые типы личности, новое восприятие жизни. Настоящее толстовство — это не то, что под этим названием вошло в мир. Толстовство есть совокупность, целостность и цельность созданных им мифов (помимо «1812 года» были и другие). И
это толстовство является важнейшей движущей силой русской истории. Силой, повторю, смыслообразующей и преобразующей социоисторическую, социопсихическую и личностную «материи».
Толстой, конечно, один из примеров, образцов особой русской креативности. Иной тип мифотворца и мифотворчества представляет собой Н.М. Карамзин. Это «пророк», обращенный в прошлое. Он «предсказывает» то, что было. И его предсказания сбываются. Для всякого русского русская история — карамзинская. Даже если мы не читали Карамзина, даже если мы читали современных историков, опровергающих Николая Михайловича. Какое нам до этого дело! Карамзинский миф по поводу России и ее истории столь конститутивен для русского сознания, сколь конститутивны «дураки», «дороги», «зима, Барклай иль русский бог», «татаро-монгольское иго», «Петр», «Минин и Пожарский», «за державу обидно» и т. д.
Или мифотворчество по поводу будущего. Ф.М. Достоевский «запланировал» русскую революцию «Бесами» и «Карамазовыми». Это — общее место, это признали все. Порою кажется, что персонажи Семнадцатого года были порождением его воображения. Вплоть до физического сходства, до ситуативных повторов … Ну а тема отцеубийства, отцовства вообще, артикулированная Федором Михайловичем и одновременно проходящая через его собственную жизнь. Учеба в Инженерном училище, расположенном в Михайловском замке, где все вопиет об убийстве отца с ведома детей (Павел — Александр, Константин), убийство отца будущего писателя (крестьяне — дети против помещика — отца), убийство Карамазовыми — сыновьями Федора Павловича, смерть Верховенского-старшего как (во многом) следствие деяний сына Петруши (опосредованное убийство), убийство Александра II (царя — отца) подданными (детьми), до которого Достоевский не дожил всего несколько дней, — однако воздух последних лет его жизни был пропитан запахом царской (отеческой) крови.
И тема эта не исчерпана поныне. Проклятием легла она с нелегкой руки «омского каторжанина» на русскую историю. Убийство Николая II, будучи эпилогом в чреде насильственных или «странных» смертей Романовых (убиты Петр III, Павел, Александр II, Николай II; при не вполне ясных обстоятельствах кончили жизни Александр I, Николай I), стало кровавым прологом для красных вождей: Ленин, Троцкий, Сталин (убежден: если не в деталях, то по сути Авторханов прав: три толстяка — Георгий, Лаврентий и Мыкита — «замочили» отца народов) — убиты. Да, да и Ленин тоже. Политбюро «помогло» Ильичу, отправив его под фактический арест в Горки.
Сталин последний в ряду правителей — отцов. Затем, от Хрущёва до Горбачёва, власть постепенно изживает отцовскую природу. Происходит очередная, после Петра и Ленина — Сталина, десакрализация русского cratos-a. Поэтому «мужицкого царя Никиту» и могильщика коммунизма Горбачёва уже не убили, а лишь погнали вон. Процесс этот так углубился, что следующего правителя россияне уже выбирали (впервые, подчеркнем). Отцов же, как известно, не выбирают…
Но тема, повторю, не исчерпана. Достоевский еще актуален. Борис Николаевич Ельцин, как мы хорошо помним, из всех возможных политических ролей как-то больше предпочитал отцовскую (эдакий папаша Карамазов), и политики-«отцы» (Примаков, Лужков) в народном сознании явно теснили политиков-«женихов» (Явлинский, Лебедь, Жириновский, Немцов). А уж если «жениха» и приняли, то лишь такого, которого сам «папаша» благословил и которого страстно хотят видеть «отцом». Да и о воссоздании монархии все поговаривают. Не исключено, что и договорятся. И за всем за этим одна интенция: ох, несладкой оказалась безотцовщина, трудно деткам без отцовской власти. А значит, и не изжит этот комплекс русской жизни, эта тема: «отцы и дети» и «власть и ее убийство».
Напомним только, что все это пришло на смену другой властно-психологической «диспозиции». Петр был первый царь, умерший «странно» (есть подозрение, что помогли умереть — Меншиков и Екатерина), и последний отец — персонификатор власти, убивший своего сына. До этого отцы детям укорот делали (Иван IV, Иван III отчасти — внука, имевшего шансы на трон, уморил). Это, конечно, другая тема. Но держать ее в уме следует. Она, как мы в дальнейшем увидим, тоже имеет некоторое отношение к русским мифам и их особой креативной силе.
Этой особой силой в особой, кстати, мере обладал Н.В. Гоголь. Хлестаков, Чичиков, Коробочка, Собакевич, Манилов и другие пришли в Русский Дом и поселились в нем навеки «с подачи» Николая Васильевича. До него их не было. То есть были, но не явленно, не ощущаемо и не зримо. Гоголь сказал: «Вот они!» И они зажили, задвигались, задышали. Пошли плодиться и размножаться. И, конечно, мутировать. В редком русском не найдешь одновременно Хлестакова, Манилова и Чичикова.
И это не метафора. «Хлестаков» и «Чичиков» суть социологические категории, с помощью которых адекватно познается и описывается русская жизнь. Это также инструменты русской гносеологии. Как и Обломов, Штольц, Онегин, Печорин, Чацкий, Рахметов и др. Более того, «лишний человек» («лишние люди») — совокупный образ, созданный нашей литературой, — стал важнейшей, фундаментальной категорией отечественной истории XIX — начала XX столетия.
* * *
Ну а теперь пора вернуться к русской мысли. Она, как отмечалось, тоже в высшей степени креативна. Однако в силу ряда обстоятельств это ее качество недостаточно осознано, попросту недостаточно известно. Что, кстати, весьма прискорбно, поскольку «домашние заготовки» вполне бы пригодились сегодня русскому уму в его стремлении «обустроить Россию». Да и многое бы прояснили относительно того, что представляется «тем-то и тем-то», но на самом деле «тем-то и тем-то» не является. Или наоборот…
Правда, для того, чтобы это обсуждать, надо отказаться — пусть на время, пусть не совсем — от привычного знания (полузнания, наслышенности и т. п.) русской мысли, от привычного ее восприятия, от устоявшихся классификаций мыслителей, их исторических репутаций.
Прежде всего, следует иметь в виду, что «русская мысль» — это социоинтеллектуальный феномен, имеющий достаточно четкие хронологические рамки, границы. Русская мысль «просыпается» в прологе XIX в. Позади столетие заимствований, ученичества, подражательства. Она готова к зрелому творчеству. Да и эпоха верит. Корабль Просвещения потерпел крушение в штормах Французской революции. Наполеоновские войны, романтизм, историческая школа права, немецкая философия, консерватизм (Шатобриан), либерализм (Бенжамен Констан), социализм и т. д. — на все это необходимо было дать ответ.
Какая эпоха уходила! И
какая вступала в свои права! Всему этому ренессансному восторгу и порыву, гносеологическому оптимизму и самоуверенности пришел конец. Зато явились болезненная саморефлексия, иррационализм, пессимизм и новые утопии социальной гармонии.
А за плечами России был век Петра и Екатерины, век, расколовший Отечество на два «враждебных склада жизни» (В.О. Ключевский), — европеизированный, петербургско-имперско-дворянский, и старомосковский, традиционно-патриархальный. И этот раскол в большой мере определит судьбы страны. Русская мысль просыпается, когда исторические часы указывают на «1812 год» (в широком смысле — и то, что к нему привело, и его последствия), который занес нас в Париж, произведя русского царя в «главу царей». Но и — в недавнем прошлом пугачевщина и незнание того, что делать с крепостным правом.
Все это и многое другое, сойдясь в какой-то точке, стало причиной «большого взрыва» — рождения оригинальной и субстанциальной русской мысли (включая и социально-политическую).
Но и верхняя граница не менее значима и значительна. Национал-социалистическая революция в Германии, расцвет фашизма в Италии и салазаризма в Португалии, вот-вот разразится гражданская война в Испании, мировой экономический кризис и спасительный New Deal, энциклика Пия XI «Quadragesimo anno», явившаяся поддержкой свободной рыночной экономики и критикой капитализма с социал-реформистских позиций. А в России — полная победа Сталина и его режима … Иллюзии развенчаны повсюду. Немецкий национализм, так радостно и бодро начинавшийся в «Замкнутом торговом государстве» Фихте, логично завершается «тотальным государством» К. Шмитта. Все продумано до юридических деталей. За работу, немецкие товарищи! И палачи, засучив рукава, принялись за дело … — «Полмира в крови и в развалинах век». — Вместе с немецкими палачами выступили, реализуя собственные и заимствованные утопии, интенсивно созидавшиеся более столетия, палачи русские, итальянские, испанские и пр., пр., пр.
Конец первой трети XX столетия подвел кровавую черту, разделившую социальную историю нашего времени на эпоху «слова» и эпоху «дела».
Русская мысль тоже «закругляется». Последние великие ее поколения («бердяевское» и «евразийское») уже высказались. Принципиальные вопросы сформулированы, принципиальные ответы получены. Разумеется, движение, развитие мысли не останавливаются. Однако последовавшие десятилетия
субстанциально и
тематически нового почти не принесли.
Это дает мне основание утверждать: русская мысль XIX — первой трети XX столетия есть некая, вполне завершенная целостность. Именно как целостность я и предлагаю ее понимать. И именно ее проекты и предложения рассматривать.
Нет, я не хочу сказать, что в Древней Руси не думали. Что лишь насильственная прививка некоторых элементов европейской культуры побудила наших прадедов к философствованию, к гнозису. И поучившись эдак около столетия, они вдруг заговорили собственным языком. Конечно, и допетровская Русь мыслила. Мы являемся наследниками великой и великолепной интеллектуальной традиции русского православия. От митрополита Илариона до Юрия Крижанича и Симеона Полоцкого. Мы наследуем и определенные измерения византинизма (модель симфонии, паламизм и т. д.). В нашем сознании, безусловно, навечно отпечатались и черты ордынства. Не в меньшей мере, чем Abendland, Русь вобрала в себя и общехристианские (т. е. поверх конфессиональных различий) идеи. В том числе эсхатологизм, хилиазм, учение о трех царствах (у нас — «Третий Рим») и др. Не стоит забывать и о языческом пласте русского сознания (как утверждают историки, весьма живучем).
Однако все это не привело к становлению субстанциальной интеллектуально-философской культуры и мысли (включая социальную). И не могло привести в рамках той, московско-до-петровской, цивилизации. Ей там попросту не было места; так сказать, не предполагалось.
Перефразируя известное выражение, рождение русской мысли было русским ответом на французскую политическую и английскую промышленную революции. А также, о чем отчасти уже говорилось, на революцию Петра, на революцию русского сознания XVIII в. и т. д. Рубеж осьмнадцатого и девятнадцатого столетий был ознаменован вступлением России в Современность (Modernity). Это была, разумеется, Современность по-русски, или, другими словами, у России в пространстве Modernity было свое место.
Соответственно, по одежке и пришлось протягивать ножки. Ухнул «большой взрыв», и Россия «вдруг» заговорила голосами Карамзина и Сперанского. Вполне неповторимыми и современными голосами.
Итак: что же они (и те, кто пришел вслед за ними; и приходили, приходили, пока всё не провалилось куда-то в небытие) завещали нам? Назовем, укажем на ряд (далеко не полный) предложений конкретных, деловых. Небезнадежных, полагаю, для русского служебного пользования.
* * *
Начнем abovo, т. е. с Николая Михайловича Карамзина, этого классического джентльмена, певца бедной Лизы и Марфы-посадницы, путешественника по закатным странам и подмосковного затворника, придворного историографа и советника царя. Ему (повторим) навек принадлежит русская история. Его миф по поводу прошлого Отечества стал одной из констант русского сознания. Миф, сводящий историю родины к истории власти, истории самодержавия. Недаром он пишет не «Историю России», а «Историю государства Российского».
Но вопрос в другом. Какова «практическая польза» карамзинского наследия. Что из его идей открыто и актуально для нас?
…В 1809 г. он знакомится с великой княгиней Екатериной Павловной, младшей сестрой Александра I. Одна из самых блестящих и образованных женщин своего времени, она имела значительное влияние и на венценосного брата, и на придворные круги. Вместе с тем открыто выступала против либерального и реформистского курса царя (главным врагом почитался находившийся тогда в зените славы Сперанский). Разумеется, Карамзин, со своим резким и твердым неприятием духа первого александровского десятилетия, пришелся здесь ко двору. Николай Михайлович читает у ее высочества начальные тома «Истории», осваивает роли «советника царей» и своеобразного светского духовника членов императорской фамилии (пройдет несколько лет, и перед нами Карамзин, вольно и даже в поучающем тоне беседующий с матерью Александра I Марией Федоровной. Императрица Елизавета Алексеевна читает ему свои дневники, дойдя же до мест «слишком интимного свойства», протягивает тетрадь, и Карамзин дочитывает молча).
В 1811 г. по просьбе великой княгини он пишет «Записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Специально для Александра I, чтобы объяснить ему,
что такое Россия и
как надобно с ней поступать. А также: показать всю пагубность либеральных реформ, которые начал царь со своим молодым окружением, а продолжил М.М. Сперанский. Обстоятельства возникновения этого произведения крайне показательны. Точно так же во второй половине XX столетия по инициативе того или иного крупного партийного начальника будут готовиться для генсеков, членов и кандидатов в члены ПБ, секретарей ЦК различного рода записки, доклады, проекты относительно «древней и новой России» во всех ее отношениях. То есть это коренное наше качество. Политическая мысль, апеллирующая к Власти и только к Ней. И Власть, снисходительно разрешающая это. Но только, чтобы интимно, «сов. секретно», эксклюзивно. Чтобы ни в коем случае общество об этом не знало. Чтобы все было сплошной эзотерикой. И ни-ни, чтобы напечатать. «Записку», кстати, и не печатали…
Так явилось на свет произведение, которое каждому русскому, собирающемуся во власть, пишущему или говорящему о власти, следует знать назубок (а это ведь уже большинство русских людей; рассуждение по поводу власти есть чуть ли не характернейшее национальное качество; и в этом смысле, быть может, искомая ныне верхними чиновниками и их интеллектуальной обслугой «Русская идея» и есть «Идея Власти» (ее формула), адекватная потребностям сегодняшнего времени). Государственные деятели и политики Запада проходят свой «ликбез», изучая «Государя» Макиавелли. Нашим, повторю, было бы полезно обратиться к «Записке». Это и автореферат «Истории государства Российского» (а знать историю действительно полезно), и наставление власти, как ей «обустраивать» (а не разрушать) Россию.
И еще в одном отношении «Записка» оказалась новаторской и символической. Впервые в нашей истории представитель общества выразит более консервативные позиции, чем те, что занимает Власть. Карамзин твердо отстаивает идею незыблемости господствующего порядка, открыто критикует легкомысленные (по его мнению) и противоречащие русской органике либерализацию и «модернизацию». В
таком контексте «Записка» стала предшественницей многих позднейших «предупреждений» Власти. Если сравнивать ее с подобными документами современной эпохи, то ее, видимо, следует поместить где-то между «Не могу поступиться принципами» и «Как нам обустроить Россию». Первая наследует яростную, горячую принципиальность «Записки», вторая — мудрое и неспешное охранительство.
В марте 1811 г. Екатерина Павловна представляет Карамзина императору. Тот благосклонно выслушивает главы из «Истории государства Российского» и рассуждает с автором о самодержавии. Мнения их расходятся: мыслитель твердо отстаивает идею незыблемости господствующего порядка, самодержец склоняется к необходимости его либерализации и модернизации. Ночью, перед отъездом из Твери (где и произошла эта встреча), Александр знакомится с карамзинской «Запиской о древней и новой России». Прощается он с Николаем Михайловичем холодно…
А ведь Карамзин утверждает: единственно возможный для России политический строй — самодержавие (оно есть «палладиум России»). При этом оно понимается как «надклассовая», надсословная сила, обеспечивающая движение русского общества вперед (движение вперед для Карамзина заключается по преимуществу в нравственном совершенствовании народа). В ходе исторического процесса самодержавие становится все более мягким и «разумным», оно постепенно переходит от «самовластия» к своеобразному варианту просвещенного абсолютизма.
Своеобразие это состоит в патриархальном («отеческом») типе правления. Монарх руководствуется не юридическим законом, а действует по «единой совести», воля самодержца — «живой закон».
Кроме того, в «Записке» содержатся и такие классические принципы (точнее, здесь они звучат впервые, «классикой» станут позднее) русского охранительного государственничества: «Требуем более мудрости охранительной, нежели творческой», «Всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в необходимости», «Для твердости бытия государственного безопаснее порабощать людей, нежели дать им не вовремя свободу».
Яркими красками рисуются «идеальный тип» самодержавного правления, образ русского властителя. Строгого и доброго отца, мудрого и осторожного водителя своих детей (народа), крепкого в православной вере и отстаивании заветов старины. Впервые под русским пером рождается
русский Государь, рождается портрет вечной Русской Власти, Власти-Константы. Лишь следование за ней, лишь сохранение ее, лишь борьба со всем тем, что представляет для нее угрозу, обеспечивает русскому народу социальную безопасность и процветание. Властная Норма создана. Отныне она будет разрабатываться русской мыслью — Уваровым, славянофилами, Кавелиным, Катковым, Леонтьевым, евразийцами, Ильиным и др. Отныне все участники русской политической игры будут соизмерять себя, свои действия, свои планы и программы с
этой Нормой. Даже не читая Карамзина, даже не зная о существовании какой-то там его «Записки»! Вот она — креативная сила русской мысли; сила, выражающая и отражающая органическую стихию, нутро, первоинстинкт («основной инстинкт») Русской Системы. То есть того, во что оформились и перманентно (на протяжении веков) оформляются русская история и ее субъекты (тем самым, кстати, теряя свою субъектность).
Но если бы «Записка» ограничивалась только этим! Создавая идеальное самодержавие, Карамзин резко критикует самодержавие реальное. И самодержцев тоже. По сути дела, он
противопоставляет наличному, историческому самодержавию — идеальное. Зачем? Наверное, Николай Михайлович шел на это с определенным умыслом —
с умыслом назидания, поучения. Как не вспомнить здесь вновь, что именно в годы работы над «Запиской» Карамзин примеривается к роли «советника царей», затем придут роли светского духовника членов императорской фамилии и даже некоего светского старца. Эти странные роли (особенно последняя) вовсе не странны в той культуре, которая окончательно сложилась в России на рубеже XVIII–XIX вв.
Одной из ее особенностей было то, что в «общей диспозиции» церкви отводилось очень скромное место. И многие функции «алтаря» взяли на себя другие институты. Одним из таких институтов стала литература/мысль (я намеренно объединяю их, поскольку одно намертво связано с другим и питаются они общими соками) — «церковь» русской интеллигенции. Правда, в эпоху Карамзина «церковью» литература/мысль еще не была, в этом качестве она только созидалась. Расцвет же ее придется на вторую половину столетия. Но Карамзин приложил немало сил для ее строительства. Более того, он первый великий «старец» этой, им же творимой, «церкви». Он первый русский литератор и мыслитель, присвоивший себе право поучать власть и общество. Вслед за ним явились другие «старцы», другие «учителя»: Гоголь, Достоевский, Толстой. В советское время — Горький, сегодня — Солженицын.
Но лишь назиданием и поучением объяснить противопоставление исторического самодержавия идеальному нельзя. Здесь все и тоньше, и сложнее. И противопоставление это связано с
определенными качествами мировоззрения Карамзина. Так, заметим, самодержавие для него есть институт сакральный. Но самодержцев он критикует как «обычных политиков». Карамзинская критика практически всех русских императоров есть типично
политическая (по своей сути) критика. Она характерна для европейской культуры Нового времени, но ее совершенно невозможно представить в рамках той культуры, которая и выработала идею сакральной власти (в нашем случае — самодержавия). Следовательно, налицо сочетание блоков идей, принадлежащих принципиально различным типам культур — «традиционной» и современной (культуры просвещения).
Все это далеко не случайно. Дело в том, что певец русских традиций, русской архаики и русского охранительства был одновременно главной фигурой русского Просвещения (которая, по Канту, есть выход человека из состояния несовершеннолетия). Он — первый русский независимый и автономный (от Власти) социальный индивид, социальная личность. Карамзин — первый среди русских социально субстанциальная личность. Человек, заговоривший с Богом, властью, обществом, женщиной и самим собой на частном языке, который и стал русским литературным языком. И остается (несмотря на все модификации) им и сегодня. Отсюда это, казалось бы, странное сочетание архаико-традиционалистского и современного (в смысле modem). Отсюда — это сочетание несочетаемого. Отсюда весь карамзинский миф — выражение архаичного современным способом. Досовременный по содержанию и современный по форме. Это и фундаментальное противоречие, и фундаментальное качество нашей культуры. Причем по сей день!
Посмотрите на всенародно избранного (тип легитимности и форма власти соответствуют требованиям Modernity) (бывшего) президента Бориса Ельцина. С балкона резиденции патриарха в Троице-Сергиевой Лавре он как-то возвестил orbi et urbi о том, что является президентом «от Бога». То есть Богом поставленный. Первый глава демократической России очень быстро усвоил себе манеры «царя Бориса». И стиль его правления — царский. Вот она, карамзинщина! (А на язык и на ум приходят и карамазовщина, и кармазиновщина Достоевского; разумеется, не просто так все это; и не звуковое здесь созвучие, а содержательное, хотя и глубинное; к Николаю Михайловичу не относящееся.) Но это лишь пример из великого множества явлений и событий, подтверждающих описанное выше качество русской культуры и тем самым актуальность Карамзина.
И еще о Карамзине. Он первым сформулировал то, что надобно знать всякому русскому политику. «Гражданские учреждения должны быть соображаемы с характером народа: что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле». Конечно, сегодня это звучит совершенно тривиально. Звучит-то, да. Но руководством к действию за два столетия не стало! Значит, не так уж тривиальна эта мысль Карамзина. Что касается за ней следующей, то ей и вовсе полагается быть «судьбоносной». Но ее забыли. Напрочь. Надеюсь, не навсегда … «Законы народа должны быть извлечены из его собственных понятий, нравов, обыкновений, местных обстоятельств … Русское право также имеет свои начала, как и Римское; определите их, и вы дадите нам систему законов».
Это — пророческие слова. Это — задача, которую Россия еще не решила, но решить обязана. Иначе
своего государства и общества ей никогда не построить. И пока мы не «определим» «начала» русского права, у нас не будет эффективной и адекватной «системы законов». Сделав же это, мы покончим с господствующим заблуждением относительно якобы неправовой по сути природы России. Это заблуждение губительно для отечественной истории, поскольку, с одной стороны, несет в наши души правовой нигилизм, а с другой — открывает возможность для любого иного регулятора социальных отношений. Будь то деспотия или чуждые русской культуре заимствованные юридические нормы. Все это лишь
заменители, уродующие народный организм…
* * *
Михаил Михайлович Сперанский — и об этом надо сказать, как говаривал Карл Шмитт, со всей сюрреалистической открытостью и откровенностью — есть отец-основатель всей современной русской политико-правовой традиции. И вместе с тем это, наверное, самый недооцененный отечественный мыслитель. Более того, его не поняли, не захотели понять и Толстой, и Достоевский, и Герцен, и Чернышевский, и отчасти Ключевский. А ведь это почти все «наше все»! К счастью, и здесь Пушкин стоит особняком. Он называл Сперанского «Гением Блага» и всячески ухаживал за ним в свете.
Значение Сперанского становится очевидным после простого перечисления того, что он завещал нам. Того, чего русские до него не имели: правовое государство, разделение властей, конституционную схему организации власти, систему министерств, кодификацию законов, теорию элит, социальное христианство, просвещенную бюрократию. А также «по мелочи» — Царскосельский лицей, Училище правоведения, Киевский университет, систему управления Сибирью, ряд кодексов, регулировавших хозяйственную деятельность страны в XIX в., новое церковное образование. Помимо того, был крупнейшим государственным деятелем, богословом, преподавателем.
В 1809 г. он напишет «Введение к Уложению государственных законов». Наряду с карамзинской «Запиской о древней и новой России» я бы включил эту работу в список экзаменационных для кандидатов на занятие государственной должности. И если в «Записке» была создана русская Властная Норма и заложены основы господствующей у нас поныне психологии восприятия Русской Власти, то «Введение» стало конституционным текстом, Конституционной Константой России XIX–XX вв.. Для сведения современников: «уложение государственных законов» есть практически синоним термина «конституция». В ту эпоху и ранее наши предки предпочитали говорить «уложение».
Подчеркну: здесь креативность русской мысли достигает апогея. Судите сами.
Первая русская Конституция, октроированная Николаем II в апреле 1906 г., и так называемая ельцинская Конституция 1993 г., подобно отечественной литературе, вышедшей из «Шинели», вышли из властно-организационной схемы, предложенной Михаилом Михайловичем во «Введении». Нет, конечно, это не копии оригинала, однако их генетическая преемственность несомненна. При жизни самого Сперанского реализовалась лишь одна деталь его плана. Был создан Государственный совет — законосовещательный орган при императоре, институция, члены которой составляли круг влиятельнейших сановников. В эпоху «великих реформ» Александра II (ему в середине 30-х Сперанский читал лекции по правоведению и «политическим наукам») через введение системы земского уездного и губернского самоуправления и создание независимого (от власти) суда план был осуществлен на среднем и нижнем уровнях. То есть новый конституционно-правовой дом строили, как и полагается, с низа, с фундамента.
Несколько огрубляя и модернизируя (с целью опустить детали и не запутаться в частностях), схему Сперанского можно представить следующим образом:

В 1906 г. дом достроили, был завершен верхний уровень. Государственный совет фактически превратился в первую палату парламента (одна половина его членов отныне избиралась, другая назначалась царем); Дума стала — второй. Правительство сохраняло ответственность перед императором. В 1993 г., проведя антикоммунистическую и антисоветскую революцию, Россия вновь избирает себе — по крайней мере, в ключевых моментах и на верхнем уровне — схему Сперанского. Разумеется, в соответствии с реалиями конца столетия. Власть президента огромна, он не «вписан» в разделение властей, а располагается над ними (в
этом смысле —
римейк царской власти); правительство ответственно перед президентом; Госсовет преобразился в Совет Федерации, который вместе с Думой (ограниченной, как и ранее, в реальном влиянии на политический процесс) составляет двухпалатный парламент.
Так, на протяжении почти двух столетий (за исключением коммунистического периода, но об этом еще скажем) Россия живет фактически с одним конституционным текстом (сначала в теории, затем на практике), который, повторим, следует признать Конституционной Константой. А заодно — прекратить безграмотно-бессмысленные заявления о том, что Конституция 93 сделана под г-на Ельцина, а за образец взяты французские порядки. Это — оскорбительно для русской истории, которая — воспользуемся метафорой Ленина — выстрадала (плоха ли она, хороша) эту Конституцию. Кстати, это не отменяет возможного исторического факта: (якобы) придворные юристы стремились уложить Россию под президента. Нет, это не они — «здесь дышат почва и судьба». Здесь — «разряд ядра, не властного не рваться». Здесь — «история орет».
И далее. Мимоходом, бегло. Поскольку тема разработана не достаточно. Но если это условие будет выполнено, последствия окажутся грандиозными. Николай Николаевич Алексеев, известный в качестве крупнейшего евразийского государствоведа и правоведа (на самом деле значение алексеевских идей выходит далеко за пределы этого политико-идеологического направления), в работе «На путях к будущей России (советский строй и его политические возможности)», написанной в середине 20-х, утверждал: «В самых общих формах при снятии монархического принципа из системы Сперанского и выходит то, что действует ныне в России в виде системы Советов». Естественно, что Н.Н. Алексеев представляет и некоторые — вполне, кстати, убедительные — доказательства этого своего тезиса. Действительно, под
определенным углом зрения советская власть в ранней форме (до Конституции 1936 г.) напоминает организацию власти, предложенную Сперанским во «Введении». Повторю: тема требует серьезной разработки. Но и сегодня уже видно — Алексеев нащупал золотую жилу, попал в «десятку».
Это рушит все устоявшиеся воззрения на политическую историю страны! Это возводит Сперанского на высочайший пьедестал. Это опровергает мнение Ленина, что Советы суть продукт творчества народных масс, абсолютно народная форма самоорганизации и самоуправления … Да нет, не опровергает. По-своему Ленин, безусловно, прав. Трудящие люди Иванова-Вознесенска и Шуи, пролетарии Питера и полуграмотные бронштейны-носари слыхом не слыхивали о проектах Сперанского. Это — тоже «почва и судьба», тоже рев истории, ее инстинкты и повадки. Однако каков Михаил Михайлович! И это учуял, «запланировал», «напридумывал»! Вот и не верь в «пророчески-мистическую» силу русского слова, русской мысли…
Теперь несколько слов о Сперанском как теоретике элитизма. Современная политическая наука (political science) сводит политический процесс к конкуренции и взаимодействию элитных групп. Лишь элиты признаются действенными политическими «акторами». Конечно, в первой половине прошлого века political science еще не существовала. Но в разных странах мира творили мыслители, которые закладывали (как это выяснилось впоследствии) ее основы. У нас это — Сперанский. Он обнаруживал в России пять элитных образований, которые, по его мнению, держали будущее России в своих руках. Сохранение монархии он связывал с необходимостью регулирования и контроля над взаимоотношениями элит, с необходимостью иметь институт, находящийся «над схваткой». Но сейчас я хочу коснуться другой части элитистской концепции Сперанского.
Михаил Михайлович мечтал о создании в России наследственной политической элиты, аристократического политического класса наподобие того, что в Великобритании заседает в палате лордов и носит название «establishment». Именно как орган этого класса и планировался им Государственный совет империи. Зачем? Ну конечно, ему глубоко импонировала самая стабильная из политий — английская. Однако и не в этом только было дело. 5 апреля 1797 г. в истории России произошло в высшей степени важное событие. В этот день Павел I издал Акт о престолонаследии. Тем самым Россия превратилась из наследственной монархии по завещанию в наследственную монархию по закону. Этот Акт вносил в отечественную государственность реальные конституционные начала; он же избавлял страну от потрясений, преследовавших ее весь XVIII в. (да фактически и раньше, от момента становления Русской Власти, от Ивана IV). Он отменил несчастное и неудачное правило наследования престола, введенное его великим прадедом. И одновременно достроил здание примогенитуры (власть переходит от отца к старшему сыну; при отсутствии сыновей — к братьям по старшинству и т. д.).
Павел совершил главное для нормального функционирования власти — узаконил эффективный и логичный механизм ее трансляции от одного лица к другому. Как только это было сделано, Россия вступила в эпоху стабильности. Сперанский мог планировать дальнейшее развитие русской системы лишь опираясь на
этот фундамент. Его конституция включает в себя павловский Акт. В
этом контексте «введение» наследственной политической элиты (в основе которой и частная собственность, т. е. абсолютное, от Власти независимое, обладание неким имуществом, некоей субстанцией; и здесь трансляция — по закону — носит «объективный» характер) было вполне оправданным. И если бы Россия избрала этот путь, не исключено, что «великих потрясений» в ее судьбе было бы несколько меньше. Исторический союз наследственного монарха по закону с наследственными по закону членами Госсовета, союз, опирающийся на закон, охраняющий закон, принимающий закон и законом гарантированный, — чем не преграда всем этим стихиям и демонам разрушения, всем этим Пугачевым и Ульяновым?
Не удалось … Что же, Сперанскому удалось многое другое. И в первую очередь, заложить основы современного русского политико-правового мышления. А нам неплохо бы на ус намотать: проблемы трансляции власти и трансляции имущества суть центральные для устойчивого бытования общества. Михаил Михайлович помнил об этом постоянно.
* * *
Между смертями двух «отцов-основателей» — Карамзина и Сперанского, между 1826 и 1839 гг. в интеллектуальной жизни России произошли существенные изменения. Сначала явились декабристы (т. е. те, кого так стали называть впоследствии, всё сформулировали и выступили раньше, но общеизвестными их идеи стали именно в этот период), затем идеология «официальной» народности, и — Чаадаев. С декабризмом в Россию пришла Революция. И стала целью, способом, формой жизни нескольких поколений русских образованных людей. Одновременно это была последняя попытка нашей аристократии ограничить Власть. Последний гвардейский переворот и первое революционное выступление в одном лице — вот что такое декабризм.
И то и другое, заметим, оказалось неудачным! Власть благодаря Павлу I и Сперанскому настолько окрепла, что даже в неблагоприятных обстоятельствах отстояла самое себя. А золотой век дворянства, дворянократия окончились. Для победы же Революции было еще рано. Однако вот что интересно. В рамках этого движения было выдвинуто два принципиально различных проекта (революция-проект; проект фундаментального социального изменения; революция кардинально отличается и от бунта, и от реформы) обустройства России. И полярный характер эти проекты имели не только по линии декабризма. Они вобрали в себя тогда еще лишь пробивавшиеся в русской мысли тенденции. Но их витальность и креативность и в начальной стадии были столь интенсивны, что сохранились — реализуясь попеременно — вплоть до наших дней.
Павел Пестель, вождь «Южного общества», создает модель республиканского, централистского, унитарного, русифицированного, культурно и административно-политически однородного и нивелированного государства. С господством полиции, в том числе и тайной. При этом крепостное состояние отменяется и половина всех земель отдается во владение, в собственность волостному обществу. То есть крестьяне освобождаются с землей, но она не становится их частной собственностью. Мир получает ее как «общественную землю». Таким образом, рождается следующая политико-организационная схема: «якобинская», жесткая диктатура с социальными и экономическими гарантиями для большей части населения. Схема, не «предполагающая» политическую свободу и перевод крестьянства в состояние частных собственников.
Идеолог «Северного общества» Никита Муравьев строит в России федеративное государство с четко проведенным принципом разделения властей, с правительством, ответственным перед законодательной властью. Сохраняется, но резко ограничивается монархия, гарантируется политическая свобода. Крепостное право ликвидируется, и крестьяне получают в собственность землю — на каждый двор по две десятины (что для выживания в русских условиях ничтожно мало). У политикоорганизационной схемы Никиты Муравьева либеральные очертания: федеративное устройство с гарантиями политической свободы (в том числе и через разделение властей) и частной собственности крестьян на землю. Но без социальных и экономических гарантий для большей части населения.
Различия между Пестелем и Муравьевым в самом сжатом виде можно сформулировать следующим образом: с одной стороны, рабство с гарантиями, с другой — свобода без гарантий. Таковы две тенденции русской мысли, идущие от декабризма. Таковы два главных социальных проекта Русской Революции. В целом они сохранились не только до ее «победы», но и — как оказалось — до конца XX столетия. Ельцинская Россия 90-х годов, безусловно, социально воспроизвела муравьевский вариант. Что поразительно, поскольку, наступив на грабли «гарантийного деспотизма», мы, ни на минуту не задумавшись, бросились на другие грабли — «безгарантийной свободы». И не попытались даже уравнение «рабство с гарантиями против свободы без гарантий» преобразовать в «свободу с гарантиями против деспотизма без гарантий». По-прежнему уравнение редуцировали до одной составляющей. Вторая — аннигилировалась.
Что же касается проекта Муравьева, то он был «альтернативным» не только пестелевскому, но и плану Сперанского. Уже отмечалось: Михаил Михайлович был создателем русского Конституционного Текста, Конституционной Константы. Однако параллельно с этим в русской интеллектуально-политической традиции существует — причем тоже постоянно — другой текст (другая константа). Он еще ни разу не воплотился. Но всегда присутствует в качестве альтернативы. Альтернативы, горячо желаемой значительной частью общества. В период думской монархии (1906–1917 гг.) борьба за реализацию этого конституционного проекта сведется к лозунгу: требуем «ответственного министерства». Иными словами, речь идет о парламентской форме правления, базирующейся на принципе ответственности правительства перед законодательной властью.
Именно в этом отличие Муравьева от Сперанского. У последнего, как мы помним, правительство несет ответственность перед императором (в Конституции 1906 г. тоже, 1993 г. — перед президентом, «выборным монархом»). Никита Муравьев первым в России убедительно сформулировал принцип парламентского правления (хотя, конечно, его оригинальность как мыслителя типически русская: заемная — в данном случае североамериканская — модель пересаживается на нашу почву, затем начинается процесс подгонки; если мыслитель настоящий, а не фиговый, «заемность» подгоняется под русскость; в противном случае наоборот; Муравьев был настоящим).
Но декабристы стали отрицанием (во многом) не только Сперанского, на идеях которого выросли. Другой учитель, не менее великий — Карамзин, — был тоже отвергнут. Всем известно это, классическое: декабризм есть критика «Истории государства Российского» вооруженной рукой. Данное выражение
столь классично и столь часто подвергалось всевозможным комментариям, что освобождает меня от поиска каких-то новых коннотаций. Скажу лишь: идейно различие между Карамзиным и декабристами установил тот же Никита Муравьев. Карамзин, по мнению декабриста, полагал, что «история народа принадлежит царю». Муравьев утверждал, что «история принадлежит народам».
Таким образом, он отвергает один из основополагающих мифов русской мысли, карамзинский миф о России, миф, сводящий историю России к истории русской Власти, Самодержавию. Никита Муравьев обнаруживает в русской истории ростки гражданского общества, одним из первых теоретиков и сторонников которого он и был у нас (по этой линии его ярчайшими и серьезными «наследниками» были в целом чуждые муравьевскому духу славянофилы).
В этом контексте и следует рассматривать политико-организационную схему Муравьева. Она соответствует реальности гражданского полисубъектного общества. Она не Властецентрична и не «предполагает» в качестве фундамента социальный консенсус по поводу Власти. Она «рассчитана» на эволюцию русской цивилизации в сторону антропоцентричности. Говоря несколько иначе, муравьевский проект подобен западным конституциям, главный субъект которых, напомним, гражданин, гражданское общество, нация.
У нас же главный субъект Конституции — Власть. Порождающая, «октроирующая» самою конституцию (1906, 1993). Таким образом, Власть дарует обществу Основной закон при условии и на условиях признания ее главным субъектом этого Закона. Ну а такое признание возможно лишь на основе общего для всего социума (в лице его ведущих актеров) понимания природы и механизма функционирования Власти. Повторю: конституции Николая II и Бориса Ельцина par exellence таковы.
Это — принципиальное различие между двумя властными моделями. Отечественная публика полагает (и полагала), что конкурируют «президентская» и «парламентские» республики. А на самом деле — два различных типа общества с соответствующими им политико-организационными структурами. Западное гражданское общество в зависимости от национальной или историко-ситуативной (как во Франции) специфики с большим или меньшим успехом (но успехом!) отливается и в президентскую, и в парламентскую модели. В России под псевдонимами «президентский» и «парламентский» типы правления прячутся два различных типа общества. Точнее — две властные схемы, корреспондирующие тому или иному варианту социума. «Президентский» — традиционно властецентричному, «парламентский» — возможному (в обозримом будущем — основания для этого
сегодня есть; но страстно желаемому издавна) поли-субъектному, антропоцентричному, гражданскому обществу. (Конечно, это не означает принципиальной невозможности для русского полисубъектного общества избрать себе президентскую форму правления; я лишь подчеркиваю
историческую связность в России двух властных моделей с двумя вариантами социального развития.)
Вот что такое по сути проект Сперанского и проект Муравьева. При этом я не хочу сказать, что конституционный план Сперанского «отвергает» гражданское общество: вовсе нет. Более того, сам Михаил Михайлович был крупным теоретиком и безусловным сторонником
этого типа социума. Но его конституционный план — так исторически сложилось — как-то очень органично «вписался» во Властецентричность и стал даже ее правовым оформлением. Хотя сам план этим не исчерпывается. Это русская жизнь так приспособила к себе и под себя идеи Сперанского.
Конечно, «президентская» республика (или ранее русская монархия) есть юридическая форма отцовской власти и отражение гетерономистской (согласно терминологии Канта «гетерономия» — подчинение извне приходящим нормам) формы сознания. «Парламентская» республика (или ранее лозунг «ответственного министерства» в условиях сохранения и — одновременно — ограничения монархии)
должна соответствовать гражданскому обществу (обществу «совершеннолетних», не нуждающихся в патерналистской власти, власти отца-опекуна) и автономистской («самопорождающей» нормы — также по Канту) форме сознания. Но я не случайно выделил глагол «должна». Прежде мы обязаны точно знать, что русское общество таково, что оно готово взять на себя ношу громадной ответственности.
* * *
И еще немного об эпохе 1826–1839 гг. В начале 30-х приходит граф Сергей Семенович Уваров с триадой «Православие. Самодержавие. Народность». По заказу императора рождается первая официальная идеология, первая государственная идеология.
Обязательная для
всех. Это как раз то, что совсем недавно пытались сформулировать по распоряжению первого президента России. Правда, пользовались эвфемизмом — «Русская идея». Больно уж термин «идеология» скомпрометирован. Что в «официальной народности» было совершенно внове русскому уму той эпохи? Негативное отношение к Западу. Более чем вековой период подражательства и заимствований закончился. Россия, по крайней мере отчасти, возвращалась к традиционному для нее восприятию Запада — отрицательному, критическому. А в русском сознании прочно утверждалась дихотомия «мы — они», «Россия» — «Европа».
Вообще-то, враждебное отношение к Европе не бог весть какое новшество. Оно красной нитью проходит через историю последних столетий допетровской Руси. Но
это, уваровское, антизападничество обретает иные черты. Отныне процесс
самоопределения России, русского и русских будет обязательно включать в себя и некое представление о Европе — как правило, негативное, причем даже у западников (но это особая тема), и сопоставление себя с Европой, и заимствования у нее, и выработку оружия для борьбы с этой «гниющей блудницей» и одновременно «страной святых чудес».
Неудивительно в
этом контексте, что идейный наследник Сергея Уварова (в определенном, разумеется, смысле — весьма ограниченном) скажет: «Русскому Европа так же драгоценна, как Россия … Европа так же точно была отечеством нашим, как и Россия». И еще: «…Русский … получил способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец». Это устами своего любимого персонажа Версилова («Подросток») говорит ярчайший антизападник Федор Достоевский. Теперь, вот уже два века, русское сознание может быть противуевропейским или проевропейским, однако не внеевропейским.
Внешне это, конечно, парадоксально; «самобытник» Уваров утверждает — пусть через «враждебное слово отрицанья» — нашу связность с Европой, наши какие-то с ней счеты, нашу с ней обреченность на общность (еще раз: пусть даже «единство и борьбу противоположностей», но ведь — и
единство!). И здесь, как мне кажется, к месту и ко времени сказать несколько слов в защиту графа Уварова. Его оценка Пушкиным хорошо известна. Великий историк и едко злой мемуарист С.М. Соловьев в своих «Записках» дал формулу уваровской исторической репутации. По выражению Сергея Михайловича, Уваров внушил императору мысль, что он, Николай, является творцом «какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником … самодержавие — будучи либералом, народность — не прочитав за свою жизнь ни одной русской книги … Люди порядочные, к нему близкие … с горем признавались, что не было никакой низости, которой он не в состоянии сделать, что он был кругом замаран нечистыми поступками».
Да, наверное, все так и было. Но вот что гораздо важнее. Вся (в целом) русская культура классического и золотого XIX столетия была православием безбожников, самодержавием либералов и народностью людей, не читавших русских книг. Уваров лишь картинно-показательный образец персонификаторов этой культуры. Да еще и человек, произнесший заветные слова. Утонченный и искушенный западник, ставший у истоков русского самобытничества.
Эту характеристику Уварова и им отчасти, хотя многие с этим не согласятся, порожденной русской культуры можно дополнить еще одним, «зеркальным» измерением. Атеизм православных, либерализм самодержавников, русские книги, выросшие из чтения европейской литературы. Вот он, наш XIX век! Вот он, граф Сергей Семенович! И заметим, эта культура в своих первоначальных интуициях и конечных выводах совсем не умерла с России, «которую мы потеряли». Это ведь и сегодняшнее русское самоощущение и мировосприятие…
Но уваровская «система» — это и русский ответ Французской революции. Каждому элементу их триады соответствовал элемент
нашей триады. «Православие. Самодержавие. Народность» versus «Свобода. Равенство. Братство». А еще Уваров учил: самодержавие не есть только и просто историческая форма русской власти. Это — Константа нашей истории; это — вечная Русская Власть. Другой не было и не будет. То же можно сказать о Православии. Впервые прозвучало: русский = православный; если не православный, то не русский. В «народности» были заложены и антизападничество, и редукция высоких и сложных форм культуры к «элементарным», «простонародным».
Как это все живуче! Как близко нашему времени! Да и всем пришедшим после уваровского открытия. Власть каждый раз возвращается на круги своя в качестве самодержавной. А уж какие силы выставлялись против этой Субстанции. Даже институт выборов ей не помешал. И убежден — в обозримом будущем в Кремль по-прежнему будут приходить самодержцы. Поначалу-то, конечно, самодержцами они могут не быть, но затем русские условия заставят их пойти по исторической колее … И православие даже после истребления
почти всех священников потихонечку встает на ноги. И все увереннее наставляет: если русский — значит — православный. А начальник со свечой в храме — это такая же примета времени, как мобильный телефон, рассказы о заграничных поездках и убегание от налоговых служб. Это — примета удачи, обязательный ее аксессуар.
Что же касается народности, то она переживает ныне чуть ли не эпоху акме. Это просто товарищи патриотически настроенные писатели не поняли, не догадались. Они думали: народность — «бабы в сарафанах, мужики с балалайками и замученный евреями Есенин». О котором Анна Ахматова: «Очень плохо, очень однообразно, и напомнило мне нэповскую квартиру: еще висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства в присутствии посторонних … Все время — пьяная последняя правда, все переливается через край, хотя и переливаться-то, собственно, нечему». Замечу, это не оценка поэта поэтом, это человек высокой культуры о «народно-простонародном» есенинском мифе … Так вот народность как редукция высоких форм к низким и есть знамение нашего времени. Заготовленная на Западе специально для пролов (сытых и физиологически опрятных) «масскультура» очень хорошо пошла здесь, на просторах бывшего СССР, бывшей Российской империи. Нам, выросшим на русско-советской народности (ее поздне-коммунистический ярчайший выразитель — Алла Пугачева, которая, по словам моего покойного учителя профессора Николая Никаноровича Разумовича, принесла на эстраду свежую струю советской торговли), как ни полюбить было всю эту латино-северо-американскую сарафан-балалайщину, всех этих просто-санто-барбаро-марий.
Приходится признать: Уварову удалось редкостное. В трех словах передать, выразить важнейшие, конститутивные стороны русской психеи. Эта триада наряду с «Москвой — Третьим Римом» и коммунизмом принадлежит к важнейшим идеологиям русской истории. Но третьеримская и коммунистическая суть универсалистские, не русские по происхождению, по истокам. Они усвоены и переработаны под себя русскими, но не порождены ими. Это в конечном счете универсалистские схемы, в контекст которых
вписывается Россия. Уваров же говорит
только о России. Учительный старец Филофей и «старик» Ильич создают, так сказать, про-русские схемы, про-Русь-Россию в рамках мирового процесса. Уваровское же не
про-русское, но русское. Единственно русская формула самоопределения России. Это единственное партикуляристское русское уравнение: Россия = Православие + Самодержавие + Народность.
В сравнении с ним ленинское «коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» с ходу проигрывает. Ни слова о России; к тому же оно какое-то инженерно-безличностное, унылое. «Москва — Третий Рим», напротив, по красоте, эстетике, поэзии вполне сопоставимо. Особенно эти: «падоша», «не быти», «аки тать в нощи» и т. п. Но это все-таки «всеобщая история». Как, впрочем, и коммунизм. Нет в них той домашности, той самодостаточности, того органического чувства, которое испытывает всякий русский, возвращающийся из мировой истории к себе, в свою. Это то, что переживал Пьер Безухов, оставляя блестящий Петербург и вступая в «белокаменную». «В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал "проехав по городу" эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, эту кремлевскую площадь с незаезженным снегом, этих извозчиков и лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и, никуда не спеша, доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и московский Английский Клуб, он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате».
Или Александр Блок:
Три раза преклониться долу,
Семь осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.
Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.
Ведь и в уваровской «системе», отразившей всю эту двойственность русской культуры (о которой уже говорилось), звучит блоковское:
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
Это толстовско-блоковское чувство всегда было и остается поныне коренным свойством русской культуры. Особой силы оно достигло в поэзии Б. Пастернака. «Из кухни вид. Оконце узкое / За занавескою в оборках, / И ходики, и утро русское / На русских городских задворках».
Иными словами, Филофею и Ленину не Россия мила, а участь ей выпавшая. А Уварову мила
и эта, такая Россия. Вот почему, нравится это нам или нет, его триада
всегда будет греть русское сердце. И нам как минимум стоит это знать и не сбрасывать со счета, с исторического счета…
В 1836 г. напечатано первое «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. И в развитии русской мысли начинается новая эпоха зрелости. По сути дела,
основные темы уже сформулированы. Философия истории и русской в особенности, избранничества России, противоположности Западу, исторической отсталости, определяющей роли религиозного начала для любой культуры, исторической самокритики или критики исторического опыта и некоторые другие. Это было мощное завершение пушкинского периода русского развития и одновременно начало «сороковых годов». Времени славянофилов и западников.
* * *
Невероятную с точки зрения классического либерализма модель политического обустройства России предложил один из классиков отечественного либерализма К.Д. Кавелин. Следует подчеркнуть: этот мыслитель действительно был по своим убеждениям либералом, но — либералом типически русским. То есть с большой склонностью к социализму (Чичерин и Милюков здесь скорее исключения), с подозрением (вплоть до отрицания) к частной собственности, с отказом от разделения властей, конституции и т.д.
Каким же видит он тот строй жизни, который органичен и поэтому единственно возможен для России? «Позвольте мне … напомнить вам одно очень умное слово Ю.Ф. Самарина. Он где-то сказал: "В идеале русском представляется самодержавная власть, вдохновляемая и направляемая народным мнением". Мне кажется, что это вполне верно. Тут выражено органическое единство власти и народа, а так как народ, без сомнения, по самому существу своему самодержавен, то единая с ним власть ео ipso (тем самым. — Ю.П.) должна быть самодержавной». Это, так сказать, общая формула. Но имеется и расшифровка того, что есть «самодержавный народ» и как реально воплощается «органическое единство власти и народа» (кстати заметим, политическую формулу западник Кавелин практически заимствует у славянофила Самарина; вот вам и раскол русской мысли на западничество и славянофильство! Вот вам русское либеральное западничество!).
Сначала о «самодержавном народе». Это такой народ, который «убережен судьбою от принципов римских (т. е. в первую очередь от института частной собственности; вообще от правовых принципов. — Ю.П), уже и теперь не знает сословных разделений»; народ — «как нельзя более веротерпимый и стремящийся к осуществлению своего исторического идеала не в грубой конституционной борьбе большинства с меньшинством, но в общинном единогласии под эгидой самодержавной власти». Причем Кавелин уверен, что «семидесяти-миллионный крестьянский мир не пойдет ни за дворянством, ни за буржуазией».
Далее: о том, в какой властной форме осуществится «органическое единство» самодержавия и народа-крестьянина. «Царь есть единственный и самый верный оплот крестьянства против аристократических или мещанских (читай: буржуазных. — Ю.П.) конституций; он и в будущем лучшая гарантия против возникновения всяких привилегированных правящих классов. И нет сомнения, что всею массой своей, дружно и уверенно Россия может идти только за самодержавным, т.е. свободным (!!! — Ю.П.) царем, не зависящим ни от бояр, ни от плутократии. Сама история заставляет нас создать новый, небывалый своеобразный политический строй, для которого не подыщешь другого названия, как —
самодержавная республика».
Этот «небывалый» политический строй — самодержавная республика (!!!) — и должен будет провести
социалистические преобразования в России (как бы хотелось, чтобы этот текст увидели современные отечественные либералы; в наивности своей они и не подозревают, что русский либерализм родился как социал-либерализм и одно из важнейших измерений — социалистическое; кстати, и западный либерализм вот уже несколько десятилетий во многом социал-либерализм; могу напомнить известные слова классика европейского либерализма XX в. Ральфа Дарендорфа: в своих лучших проявлениях наше столетие было социал-демократическим и мы — либералы — тоже социал-демократы). В общем же Кавелину видится такая страна: «Я начинаю с крестьянской общины, вполне автономной во всех делах, до ее одной касающихся; затем союзы общин уездные и губернские или областные со своими выборными представительствами: а целое завершится общим земским собором под председательством самодержавного, наследственного царя. Для того наследственного, чтобы не было борьбы партий и смуты при его избрании, для того самодержавного, чтобы он мог быть всегда царем всех, а не того случайного большинства, благодаря которому он бы царствовал».
Таково политическое кредо Кавелина. Еще раз подчеркнем: в нем нет места традиционным либеральным идеям и ценностям. Напротив, всему этому объявляется война не на жизнь, а на смерть. Кстати, для Кавелина характерно онтологическое неприятие интеллигенции («Если верховная власть и действует иногда как бы в согласии с интеллигенцией, так это с ее стороны только временная ошибка, со стороны интеллигенции — это злой расчет»). Единственные же
позитивы его либеральной программы, как мы видим, — социалистически-общинный уклад, пронизывающий Русь по всей социальной горизонтали, и самодержавие — организующий принцип властной вертикали. При этом, повторим, социалистически-общинный народ «самодержавен», а самодержавие — «народно». И эти предикаты не случайны. Здесь устанавливается
внутренняя,
сущностная (а не внешняя, формальная, юридическая) связь царя с народом и народа с царем. Это даже не связь в привычном смысле этого слова, а некая диффузия друг в друга. Это не мужское и женское начала, но мужско-женское или женско-мужское. Это —
социальный андрогин. Для понимания такого организма не подходит веберианская социология с ее типами господства и рациональности. Перед нами — скажем это с некоторой иронией — воплощенное
всеединство.
Поразительным образом — но об этом в скобках, кратко, мимоходом — совершенно неожиданно эти идеи Кавелина оказались близкими, родственными идеям другого русского гения — Константина Леонтьева. Внешне это полностью чуждые друг другу люди. Трудно представить себе мыслителей более несхожих. Общее у них только имя … И тем не менее оба (эти «полюса»!) — в конечном счете — думали об одном. Лидер русского либерализма и лидер русской (жесткой, «без страха и упрека») реакции думали об одном и, определим это герценовским словом, «
одинако». Это одно: как самодержавный тип власти сохранить и соединить с общинно-социалистическим народом, вообще с социализмом (да и убрать с дороги то, что мешает этому). Безусловно, у каждого были свои побудительные мотивы, резоны, целеполагания, характеры и темпераменты. Для нас же — сейчас — важно то общее, что их связывало, поверх, казалось бы, непреодолимых барьеров, и то, что важно для формирования русской науки о политике.
За полтора года до смерти (умер осенью 1891 г.) бедный, больной, несчастный, ослепительный и великий Константин Леонтьев, не очень-то и веря, но с последней (а на что еще? — могу подтвердить я более чем через сто лет) надеждой, напишет: «Иногда я думаю (не говорю, мечтаю, потому что мне, вкусам моим, это
чуждо, а
невольно думаю, объективно и беспристрастно предчувствую), что какой-нибудь русский царь — быть может и недалекого будущего, — станет во главе социалистического движения (как св. Константин стал во главе религиозного) и
организует его так, как Константин способствовал организации христианства, вступивши первый на путь Вселенских Соборов».
А еще раньше в по-ницшевски гениальном «Среднем европейце» (чего только стоит название (полное) — «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения»!) он желал России «заразиться … несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим мистическим настроением Индии». Затем соединить их в нечто цельное и «подчинить» им европейский социализм». И все, честно говоря, исполнилось. Не беда, что вместо православного царя явился Председатель Совнаркома («Председатель Совнаркома, Наркомпросса, Мининдела!»). Не беда, что в «Третьем Риме» прошли не Вселенские соборы, а конгрессы Коминтерна. И европейский социализм мы подчинили себе. И китайским несокрушимым духом заразились: «Сталин и Мао слушают нас», «Русский, китаец — братья навек», «Эта местность мне знакома, как окраина Китая». И могучее мистическое настроение Индии не минуло нас. Иностранный отдел ОГПУ через художника и мыслителя Рериха, через эмиссаров Коминтерна соединил советский социализм с этим древним духовным источником.
По сути исполнилось все. Все, о чем мечтал Константин Леонтьев.
Впрочем, как и Константин Кавелин. Безусловно, властный строй СССР можно квалифицировать как «самодержавную республику». Безусловно, система советов («союзы общин уездные, губернские или областные со своими выборными представительствами» — внизу и «общий земский собор» — пленум ЦК плюс Верховный Совет — во главе) была народна, а сам советский народ — самодержавен. То есть без всяких там «римских принципов» социалистичен. Вот только власть генсека не была наследственной. Этот-то «пустячок» и пустил под откос «наш паровоз», который «летит вперед» (конечно, не одно лишь это).
Но никогда еще в русской истории власть не была столь народной, а народ — столь властен. Над формулой такого всеединства, такой близости (а ведь как развел их Петр I) бились лучшие умы XIX столетия. Ленин и большевики оказались возможными именно в
этой атмосфере. И ленинский марксизм в этом не противоречит кавелинско-леонтьевской (на самом-то деле соавторов была тьма-тьмущая, многие поработали) формуле. Он и укладывается в нее, и модернизирует, и адаптирует, и развивает.
* * *
Очень важный шаг в развитии русской государственной идеи был сделан критическими, свободомыслящими марксистами-ревизионистами. После первой революции они составят ядро сборника «Вехи» и прославят себя в качестве виднейших мыслителей-идеалистов, после второй революции окажутся в эмиграции и мир узнает о существовании великой русской религиозной философии. Но в период 1890–1906 гг. эти молодые люди — П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, А.С. Изгоев, С.Л. Франк, Б.А. Кистяковский — были видными марксистами, участвовали в социал-демократическом движении. Правда, их марксизм был крайне своеобычным; такими же стали и интеллектуальные плоды этого марксизма. Скажем прямо: ошеломительно неожиданными и имеющими самые серьезные последствия.
Итак, что же за новый государственный проект был выдвинут в начале века «странными» отечественными марксистами? Обратимся к мнению А.С. Изгоева, проницательного политического мыслителя и либерального общественного деятеля. «Русский марксизм (т.е. ревизионизм. — Ю.П.), — пишет он, — был несомненно
отцом русского демократического конституционализма (выделено мной. — Ю.П.). Внешним образом это выразилось в том, что значительная часть марксистов отдала свои силы теоретической и практической пропаганде конституционных идей в России. Внутренне это сказалось тем,
что только марксизму удалось теоретически обосновать необходимость для России конституционного строя (выделено мной. — Ю.П.), и это обоснование было так блестяще, так оправдывалось событиями жизни, что очень скоро от старых народнических антиконституционных иллюзий не осталось и следа. Эти иллюзии потом возродились — такова ирония судьбы — в лагере "твердо-каменных" социал-демократов из интеллигенции. Марксисты доказали, что конституции требуется ход экономического развития, что
переход к правовому строю от феодально-самодержавного обусловливается переходом от натурального, преимущественно земледельческого, быта к современному меновому индустриальному денежному хозяйству (выделено мной. — Ю.П.). Жизнь блестяще оправдала их теорию».
Но одно дело — теоретическое обоснование — пусть и блестящее — необходимости перехода к конституционному строю, демократическому правовому государству, а другое — практическое осуществление этих идей. Где тот исторический субъект, который сможет взяться и решить эту задачу? Поэтому-то «неортодоксальные марксисты не делали себе кумира из пролетариата, а добросовестно искали те социальные силы, которые способны были … перевести Россию в разряд правовых государств … В этих поисках неортодоксальные марксисты и пришли к интеллигенции». Дворянство было отвергнуто как разрушающийся и реакционный класс, буржуазия как еще слабое, малоразвитое и малокультурное сословие, к тому же никогда и нигде непосредственно, прямо не управляющее государством.
И получалось, что «силой для конституционной реформы», «опорой конституционного строя» могут быть «только интеллигенция, лица свободных профессий, педагоги, так называемый "третий элемент", земский и городской, всякого рода технические работники, близко стоящие к населению…»
Таким образом, необходимый исторический субъект был найден. Однако интеллигенция, по убеждению Изгоева, была тоже не совсем готова к великой роли. 1905 год убедительно показал это. Следовательно, интеллигенции предстояло «переродиться и возродиться». «Из антигосударственной, антипатриотической — интеллигенция должна стать творческой, созидательно-государственной, по своим идеям, силой, не теряя в то же время своего духа, не сквернясь холопством, в котором морально и умственно погибло наше нынешнее служебное сословие. Из антирелигиозной, фантастически атеистичной — интеллигенция должна превратиться в группу людей действительно культурных. Она должна научиться ценить силу и значение для жизни подлинных религиозных идей, разделяемых сотнями миллионов, но в то же время не унижаться до лицемерного ханжества, убивающего человеческий дух. Из духовно-высокомерной и нетерпимой она должна сделаться истинно гуманной, отвергающей всякий террор, как физический, так и моральный. Из замкнутой в себе узкой группы теоретиков-фантазеров интеллигенция должна превратиться в широкое, открытое национальное общество умственно развитых людей, смотрящих на жизнь открытыми глазами…»
Понятно, что эта программа-максимум для интеллигенции звучала как-то нереалистично, уж слишком многое в себе должна была она изменить. Но Изгоев знал, о чем говорил и «что ныне лежит на весах». «Скажут, что поставленная задача не разрешима, что она утопична. На это могу дать только один ответ: разрешение ее необходимо. Если не удастся создать в России государственную интеллигенцию сознательными усилиями, она в ней народится как результат целого ряда катастроф, если только за это время не погибнет и не расчленится само государство. Пока мы живы, наша задача предупреждать эти катастрофы и готовить людей, способных к творческой работе».
В сущности, на эту тему шесть бывших ревизионистов и «примкнувший к ним» М.О. Гершензон и написали «Вехи». А тот скандал, который разразился вокруг «отважной семерки» («клевета», «пасквиль», «ренегатство»; да ленинская злоба, да милюковская тупость), лишь свидетельствовал об оправданности их опасений. Не понял «третий элемент», либерал-социал-демократ, что «резкость и сконцентрированность … нападок на интеллигенцию тем и вызвана, что они (авторы "Вех". — Ю.П.) слишком ясно видят огромную роль, предстоящую русской интеллигенции, и сознают, как много надо сделать, чтобы она стала достойной этой роли…».
Но в чем все-таки принципиальная новизна государственной идеи, разработанной ревизионистами? И почему ревизионизм готовил русскую интеллигенцию к восприятию государственной идеи?
Выше уже говорилось о природе той государственности, которая возникла у нас в результате преобразований Петра I. Так вот к концу XIX столетия творческая потенция этого властного организма начинает затухать. Нарушается и равновесие между ее «консервативной» и «прогрессивной» компонентами. Этот организм постепенно перестает соответствовать тому типу социальности, который формируется в России в ходе «великих реформ». Ослабевает и витальность основной привластной силы — либерально-консервативной просвещенной бюрократии, пережившей свой звездный час в эпоху Александра II. На повестке дня встает вопрос о необходимости выработки новой властной формулы, новой властной идеи для России. Необходимыми условиями для решения этой задачи были трезвый анализ природы петровского самодержавия, отказ от утопических проектов его «подмораживания» или полной замены чем-то совершенно иным, из него как бы не вырастающим, нахождение той социальной силы, того исторического субъекта, который мог взяться за реализацию этой новой идеи.
Эта проблема и была решена группой молодых ревизионистов в период 1890–1905 гг. России была предложена
государственная формула — демократическое, конституционное, правовое
государство. Эта формула соответствовала тому типу социальной, экономической, политико-правовой, социопсихологической эволюции, которую переживала страна в конце прошлого — начале нынешнего столетия. Был найден и исторический преемник просвещенной бюрократии — интеллигенция. Но интеллигенции еще предстояло возвыситься до уровня стоявших перед ней грандиозных задач. Ей предстоял труд внутреннего «перерождения» и тяжелейшая работа по организации всех творческих сил русского общества — нарождающейся в городе буржуазии, поднимающегося в деревне самостоятельного хозяина, «остатков» (впрочем, не таких уж и малых) просвещенной бюрократии. Позднее к этим силам мог присоединиться и рабочий класс, окультуренный и ведомый динамичной и конструктивной социал-демократией. Так складывался исторический блок, которому было вполне по плечу строительство в России общества «совершеннолетних».
И еще об одном очень важном элементе русской государственной идеи. Предложенная формула имела не только демократическое, конституционное, правовое измерения, но и —
социальное. Эта тематика была блестяще разработана Б.А. Кистяковским. Он полагал, что правовое государство со временем станет «социалистическим правовым государством». По его мнению, «правовой строй нельзя противопоставлять социалистическому строю. Напротив, более углубленное понимание обоих приводит к выводу, что они тесно друг с другом связаны, и социалистический строй есть только более последовательно проведенный правовой строй. С другой стороны, осуществление социалистического строя возможно только тогда, когда все его учреждения получат вполне правовую формулировку». Термин «социалистическое правовое государство» не должен отпугивать современного читателя. Это понятие принадлежит своей эпохе. На языке сегодняшнего дня оно звучит так — «социальное правовое государство». Его мы можем обнаружить, например, в Конституции ФРГ. А смысл заключается в том, что демократические принципы распространяются не только на политико-правовую сферу жизнедеятельности общества, но и на социально-экономическую. Подразумевается необходимость дополнения демократии политической демократией социальной и экономической. Право же выступает основным инструментом реализации демократических принципов.
Следует сказать, что впервые эти идеи появляются (почти одновременно) у классика немецкого либерализма Фр. Наумана, с чьим именем связано зарождение социального либерализма, у теоретиков германской социал-демократии начала XX в. в учении об этическом социализме и у русских ревизионистов. Кистяковский же обосновывал необходимость соединения принципов социализма и правового государства также и с точки зрения хозяйственной эффективности. Для капитализма его времени были характерны кризисы и анархия производства. Покончить с ними, считал он, можно лишь с помощью социадиетических механизмов, которые упорядочат процесс производства и сделают более справедливым механизм распределения материальных благ.
Но, повторяю, не надо «пугаться» слова «социализм». У ревизионистов он означает наиболее справедливый и высший тип социальной политики (кстати, сам Кистяковский впоследствии отказался от термина «социалистический строй» в пользу термина «социально-справедливый строй»).
Так русская политическая мысль в лице марксистского ревизионизма сделала принципиально новый выбор. Говоря языком Канта — выбор в пользу
автономии, автономистского типа сознания, выбор в пользу правового государства. И хотя идея Rechtsstaat не была внове русскому сознанию (Сперанский, Муравьев, Чичерин, Соловьев и др.), именно в рамках ревизионистского марксизма она получила
практическое обоснование. То есть доказательство возможности построения у нас, на Руси,
такого типа власти. Великая заслуга этих мыслителей состоит в том, что им удалось — в высшей степени убедительно — связать
желательность правового государства с потребностями и логикой социально-экономического развития России.
* * *
Как известно, события 1905 г. привели к существенному изменению государственного строя России. И вместе с тем они стимулировали разработку новых подходов к теме «государство». Так, к примеру, в марте 1908 г. П.Б. Струве напишет: «…Русская революция научила меня живо ощущать и понимать что такое
государство». Действительно, сразу же после ее затухания он приступает к написанию «Книги размышлений о государстве и революции». И хотя она оказалась незавершенной, из этих набросков вырастает замысел «Вех». Некоторые фрагменты автор публикует самостоятельно, в виде отдельных статей. Их появление встречено обществом бурей непонимания, несогласия, негодования. Особый шум вызывают две работы — «Великая Россия» и «Отрывки о государстве».
Сначала (в январе 1908 г.) появляется «Великая Россия». В ней Петр Бернгардович формулирует несколько
принципиальных и
неожиданных (для русского общества) положений. Первое. «Можно как угодно разлагать государство на атомы и собирать его из атомов, можно объявить его "отношением" или системой "отношений". Это не уничтожает того факта, что психологически всякое сложившееся государство есть как бы некая личность, у которой есть свой верховный закон бытия». Второе. Этот закон гласит следующее: «Всякое здоровое и сильное, т. е. не только юридически "самодержавное" или "суверенное", но и фактически самим собой держащееся государство желает быть могущественным. А быть могущественным значит обладать непременно "внешней" мощью». Третье. Не внешняя политика является продолжением и следствием внутренней, а наоборот. Внутренняя политика должна исходить и «подчиняться» императивам внешней. «Оселком и мерилом всей т. н. "внутренней" политики как правительства, так и партий должен служить ответ на вопрос: в какой мере эта политика содействует т. н. внешнему могуществу государства?». Четвертое. «…Государство есть "организм", который во имя
культуры подчиняет народную
жизнь началу
дисциплины … Дисциплина, в свою очередь, есть основное условие государственной мощи». Пятое. «Дух государственной дисциплины был чужд русской революции». Но и русской реакции тоже. Шестое. «Как носители власти до сих пор смешивают у нас себя с государством — так большинство тех, кто боролся и борется с ними, смешивали и смешивают государство с носителями власти». То есть в России и реакционеры, и революционеры путают «государство» с конкретными физическими лицами, в
данный момент отправляющими властные функции.
Заключает этот теоретический этюд следующий пассаж: «Государство должно быть революционно, когда и поскольку этого требует его могущество. Государство не может быть революционно, когда и поскольку это подрывает его могущество. Это "закон", который властвует одинаково и над династиями и над демократиями. Он низвергает монархов и правительства; и он же убивает революции. Понять это, значит понять государство в его истинном существе, заглянув ему в лицо, которое, как лик Петра Великого … "прекрасно" и "ужасно"».
Через несколько месяцев (в мае 1908 г.) публикуются «Отрывки о государстве», в которых Струве развивает тему. «Государство есть существо мистическое», — заявляет бывший социал-демократ и (de facto) бывший кадет. Мистичность же государства «обнаруживается в том, что индивид иногда только с покорностью, иногда же с радостью и даже с восторгом приносит себя в жертву могуществу этого отвлеченного существа.
Ницше говорил о холоде государства. Наоборот, следует удивляться тому, как это далекое существо способно испускать из себя такое множество горячих, притягивающих лучей и так ими согревать и наполнять человеческую жизнь. В этом именно и состоит мистичность государства, что, далекое индивиду, оно заставляет жить в себе и собою. Говоря это, я имею в виду не те технические приспособления государства, как упорядоченного общежития, которые служат индивиду, а сверхиндивидуальную и сверхразумную сущность государства, которой индивид служит, ради и во имя которой он умирает. Мистичность заключается именно в этой полнейшей реальности сверхразумного».
Струве утверждает, что сверхразумная природа государства выражается и выражает себя в его стремлении к могуществу, «мощи во вне». С этим стремлением связано «империалистическое» измерение государства, государственный империализм — «забота о внешней мощи государства». Но оно обладает и другим измерением — «либеральным» («забота о справедливости во внутренних отношениях»). Таким образом, империализм и либерализм суть конститутивные элементы государственности вообще.
В «Отрывках о государстве» делается также важное наблюдение по поводу природы власти: «Жизнь государства состоит, между прочим, во властвовании одних над другими. Давно замечено, что власть и властвование устанавливают между людьми такую связь, которая нерациональна и сверхразумна, что власть есть своего рода очарование или гипноз».
Таким образом, по Струве, мистическим (сверхразумным, нерациональным) характером обладает не только государственное, но и властное. Однако и более того. Все то, что связано с государством и властью. А именно: нация, культура, язык. Или, иначе говоря, мистичен весь этот круг явлений: государство — власть — культура — нация — язык. В подтверждение этой своей мысли Струве с сочувствием цитирует Вильгельма Гумбольдта: «Мне всегда казалось, что тот способ, каким в языке буквы соединяются в слоги и слоги в слова, и каким эти слова в речи спрягаются между собою, сообразно своей длине и своему тону, что этот способ определяет или указует умственные и в значительной мере моральные и политические судьбы нации». Для самого же Петра Бернгардовича мистичность государства лучше всего подтверждается историей Североамериканских штатов. «Идеи … могут создать государственность … Так, идея свободы, перенесенная пуританами в леса Северной Америки, создала там новую государственность».
Надо сказать, что в этих статьях 1908 г., написанных еще по горячим следам первой революции, представлен — разумеется, in nuce — тот подход к государству (к «государству» вообще, а не только русскому государству), который в окончательном виде будет сформирован на Западе в межвоенный (20 — 30-е годы) период. Таким образом, Струве в очередной (но не в последний!) раз оправдывает свою репутацию первопроходца. Что же касается русской мысли вообще, в целом, то этот интеллектуальный прорыв подтверждает мой тезис: в эти годы она становится
современной (modern). Как, кстати, современной становилась и Россия…
Что же касается нового подхода к государству в межвоенный период, то прежде всего он связан с именем Карла Шмитта. «Бывают странные сближения». И это, наверное, тоже может вызвать некоторое удивление. Хотя, думаю, лишь в первый момент. Если вчитаться в тексты обоих авторов, очень быстро убеждаешься в «сродстве» их мысли. Но не по каким-то конкретным, практическим вопросам, а по существу. А «существо» это таково.
Современная западная мысль, тип сознания и наука (способ рационального понимания мира и человека) родились во многом как результат спора схоластов, спора двух школ — номиналистов и реалистов. Возобладала номиналистическая линия. Затем явились Декарт, Паскаль, Ньютон, Гоббс, другие; началось «расколдовывание» действительности. Пришло Просвещение с призывом к homo sapiens выходить из состояния несовершеннолетия и т. д. Что касается русской культуры и русской мысли, то их участие в этом интеллектуальном процессе в целом оказалось скромным. Более того, есть ощущение, что русский человек как будто и не знает о сути этого спора. То есть мы как бы люди «до спора номиналистов и реалистов». И еще более того, «наше все», наши гордость и совесть, к примеру, последний герой и титан отечественной мысли А.Ф. Лосев прямо заявлял: русская философия до и вне всех этих западных интеллектуальных революций. Она — до-логическая, до-рациональная, до-, до-, до-. В «Диалектике мифа» тем не менее А.Ф. Лосев говорит о необходимости проведения «чистки понятий» (кстати, в это же время развертываются партийные чистки). Это, безусловно, свидетельство того, что зловредные номиналисты проникли и в нашу обитель.
Но это — с одной стороны. С другой — в XX столетии в сфере естественных наук произошла революция. Эйнштейн, квантовая физика, Гейзенберг и т. д. — все это символы этой революции (читателю-гуманитарию содержание ее объяснили в книге «Порядок из хаоса» Илья Пригожий и Изабелла Стенгерс). Науки же социальные и науки о человеке по-настоящему в революционную фазу вошли намного позже. Скажем, во второй половине века. Хотя, конечно, и Мартин Хайдеггер, и Карл Шмитт, и другие вовсю развивались в этом фарватере уже в 20-е годы, да и раньше.
Развивались куда? Революция в чем? Отвечая очень общо: поиск нового соотношения между номинализмом и реализмом. При сохранении номиналистического подхода определенная реабилитация реалистического. Или — релятивизация номинализма посредством «реализации». В науках политической и государствоведческой во главе авангарда шел Карл Шмитт.
В России же складывалась ситуация не просто неудачная, но, так сказать, дважды неудачная. «Проспали» эпоху номинализма и, понятно, оказались вне игры в ходе новой революции сознания. Однако не все. Петр Струве и его соратники по ревизионистскому марксизму оказались людьми вполне современными и открытыми этим качественным переменам.
Внешне воззрения Струве на государство представляют собой какую-то странную смесь социал-демократических, социал-реформистских, вполне позитивистских идей с «мистицизмом», апологией силы и т. п. Он одновременно либерал, социалист, консерватор, империалист, мистик и пр., пр., пр. Как же это понять? С помощью этих, таких, подобных определений понять невозможно. А вот в ином, новом контексте — вполне.
Струве утверждает первичность внешней политики по отношению ко внутренней. И казалось бы, ставит привычное нам понимание с ног на голову. Но для современного исследователя, прошедшего школу «мир-системного» анализа (И.Валлерстайн), это не кажется чем-то экстравагантным. Ибо, конечно, внутренняя политика всякого государства обусловлена жизнедеятельностью феномена «мир-система» (мир как система, мировая система). Просто Петр Бернгардович еще не имел адекватного научного языка и потому был вынужден новое выражать в старых терминах.
Или идея Струве о том, что государство покоится на двух китах, — «либерализме» и «империализме». В конце 20-х годов К. Шмитт в «Учении о конституции» убедительно покажет и докажет, что государство обладает двумя измерениями: либерально-правовым и властно-политическим. По сути он воспроизведет идею Струве (в целом, в общем, с некоторыми иными коннотациями).
Теперь о «мистике» государства и власти. В современной физике фундаментальным является понятие «энергия», в политической науке — понятие «власть». Причем сами политологи говорят об энергийности власти, об определенной схожести природ энергии и власти. Точно так же наука XX столетия подтверждает связь между строем языка того или иного народа и властно-политической организацией этого народа. Приведенная выше мысль В. Гумбольдта, столь понравившаяся Струве, была подхвачена и научно доказана в наши дни. Речь идет об известной гипотезе Сепира — Уорфа (гипотеза лингвистической относительности). Смысл ее заключается в том, что структура социальной и политической жизни человеческого коллектива определяется типом языка. Им диктуется нормативное мышление и поведение (в том числе и государственно-политическое).
В
таком контексте нет ничего странного, когда Струве говорит о мистике государства и власти. Нам лишь следует поместить его «мистику» в поле той науки, которая занята проблемами бессознательного, подсознания, обратимости и необратимости времени, порядка из хаоса, энтропии и т. д. Это мистика той же пробы, что звучит в словах К. Шмитта: «Сегодня каждый физик знает (раньше это было ясно лишь теоретикам познания высокого уровня), что наблюдаемый объект меняется в процессе наблюдения над ним». Мистика Струве сродни мистике К.Г. Юнга и квантовой физики. Скажем, известному уравнению Шрёдингера, которое «описывает не какой-то особый уровень реальности. В его основе лежит скорее предположение о существовании макроскопического мира, которому принадлежим мы сами». Мистическое государство-существо, государство-личность тоже своего рода феномен «макроскопического мира».
Квантовая механика покончила с «замкнутыми» физическими теориями позитивистского XIX в. Но и идеи Струве о мистике государства и власти, о первичности внешней политики, безусловно, ломают «замкнутые» концепции социального и политического, порожденные тем столетием.
С пониманием государства как особого «существа», особой «личности» связана и мысль Струве о том, что носители государственной власти не могут быть смешиваемы с самим государством. Это — нормальное номиналистическое положение, не вполне усвоенное русской культурой. Но для modern political science эта идея играет ключевую роль.
Следовательно, воззрения Струве на государство не только не «странны», но и совершенно современны. При этом, повторим, они обгоняли его эпоху, выдвигали русскую государство-ведческую мысль на самые передовые позиции.
Но главное все-таки в другом. Для Петра Бернгардовича «государство» есть антитеза «революции». В известном смысле «Государство и революция» Струве (не важно, что он так и не закончил книгу с таким названием, — по существу большинство его работ об этом) подобна «Войне и миру» Толстого. «Война» для Льва Николаевича — это отрицание «мира» и «Mipa». В то же время она связана с ними неразрывно (по негативу).
У Струве социальное состояние «государство» прямо противоположно социальному состоянию «революция». Напомню: «Государство есть "организм", который во имя культуры подчиняет народную жизнь началу дисциплины». И еще: «Дух государственной дисциплины был чужд русской революции». Иными словами, государство является не просто состоянием прямо противоположным революции, но и путем, средством, способом ее обуздания и подчинения культуре и дисциплине. По-своему Струве здесь близок Гоббсу и всей великой европейской традиции, идущей от него. И — полярен Ленину, у которого государство (коммунистическое) — воплощение революции, способ осуществления революции, результат революции и т. п. При этом ленинское государство предполагает — в ходе своей самореализации — отмирание и западного nation-state, и русского государства.
В эмиграции Струве продолжил свои исследования «государства» — и специфически-русского, и специфически-европейского. Он пишет работу «Никита Муравьев и Павел Пестель. "Российская" (имперская) и "русская" (национал-центристская) идеи в политических проектах декабристов» (Муравьев — теоретик «российской», Пестель — «русской»). В ней подчеркивается: «В политическом развитии России мы видим два процесса, тесно между собой связанные и в то же время в известной мере и в известном смысле расходящиеся. С точки зрения историко-социологической, нет в образовании государств различия, быть может, более основного и решающего, чем различие между единым национально-сплоченным, национально-целостным государством и Империей, образуемой из объединения под какой-то единой верховной властью разнородных в национально-этническом смысле территорий. То, что делали и сделали московские цари, уже было
в одно и то же время и образованием национального государства и созданием Империи (выделено мной. — Ю.П.)».
Итак, Струве фиксирует фундаментальное различие между двумя типами власти: «национально-сплоченное, национально-целостное государство» и Империя, под властными крыльями которой объединяются «разнородные в национально-этническом смысле территории». В России оба этих, противоположных, властных типа складывались одновременно, параллельно. «…При Петре, — продолжает мыслитель, — национальная консолидация вчерне … почти закончилась и начался процесс построения Империи. Имперский характер образования русского государства даже в московский период имел свое яркое словесное выражение в том, что слово "государство" прилагалось не только ко всему государственному целому, но и к отдельным его частям (например, к Новгороду Великому, к Казани) и после их окончательной инкорпорации в московское государство». И поясняет: «Самый яркий и законченный тип образования единого национального государства представляет в истории великих европейских народов создание французского государства. К этому типу приближается процесс образования московского государства, поскольку оно, это образование, держалось в пределах территорий, освоенных великорусским племенем, и состояло в присоединении к Москве двинских областей, Новгорода, Вятки, Пскова, Твери, Рязани. Тут чисто русские государства, и притом государства великорусские, объединились в некое единое политическое целое, с единым национальным составом. Тут не было еще Империи. На имперский путь Москва встала, когда она стала присоединять татарские государства». А также — («несмотря на племенное родство») Малороссию, существенную часть Польши, Грузию, Финляндию, Бессарабию и т. д.
Далее Струве говорит о специфике Российской империи: «Различие между целостно-национальным государством и многоплеменной и многокультурной империей во всяком случае имеется налицо, при наличии известных реальных бытовых условий, какие бы юридические формы ни принимало государственное устройство данного государства. Империя может быть, но отнюдь не всегда является, федерацией в точном государственно-правовом смысле. По определению Н.М. Коркунова, "федерация есть соединение нескольких государств для совместного осуществления союзною властью общих им задач государственной жизни". Историческая Россия никогда не была федерацией в этом смысле, даже если считать, что в разные исторические моменты Малороссия, Финляндия, Царство Польское с коренным ядром государства вступали в отношения или находились в отношениях какой-то "унии".
Империя в том смысле, в каком я говорю сейчас о России, с момента присоединения Казанского царства и кончая установлением русского верховенства над Хивой и Бухарой в 1873 г., есть понятие историко-социологическое. Трудно и сейчас определить юридическую природу Британской Империи, но не может подлежать сомнению, что Великобритания уже давно с историко-социологической точки зрения представляла империю. Такой же империей уже со второй половины XVI в. являлось и Российское государство.
Рядом с процессом сложения огромной, многоплеменной и многокультурной Российской империи происходил и процесс скрепления и сплочения этой империи цементом преобладающей национальности, русской, давно уже переросшей племенные рамки, так называемого великорусского племени».
Скажем сразу: в этих рассуждениях Струве много архаичного. Нынешняя наука довольно далеко ушла от подобного понимания темы государства (правда, не наша наука, а западная). Тем не менее попробуем увидеть, обнаружить в этой позиции, в этом способе осмысления то, что не только не устарело, но и является принципиально важным для дня сегодняшнего.
Струве связывает «государство» с «национальным». И это правильный ход. Ведь в political science термины «state» и «nation-state» практически синонимы. Правда, у Петра Бернгардовича основная и даже преимущественная коннотация «nation» — этнически-территориальная, у современных исследователей она — второстепенная, хотя и важная. У них «nation» в первую очередь — «общество», «гражданское общество», этнос, организованный в civil society, «полисубъектный социум». В принципе, если судить и по этой работе, и по всему творчеству в целом, Струве шел к такому пониманию и в значительной степени достиг его. Но не до конца.
Весь вопрос в том, почему не до конца. Не сумел, не смог или … Или что-то «субстанциальное» не пустило, остановило?
Уверен: именно «субстанциальное». Он, подобно ряду других русских мыслителей и ученых, далеко не случайно не усвоил себе на все сто процентов modern-науку. Струве был современником Леона Дюги, сформулировавшего концепцию nation-state. Вне всякого сомнения, имя и идеи этого великого французского государствоведа и конституционалиста были ему известны; наверняка, Петр Бернгардович читал его работы. Как, впрочем, многих иных западных классиков XX столетия.
Имя этому «субстанциальному» — Россия. «Русский материал» сопротивляется (сопромат) modern-науке. Русский гений всегда немного (больше — меньше) несовременен, архаичен, провинциален. (С западной точки зрения, с точки зрения Modernity.) И в этом
залог, непременное условие адекватности русской психее, русской энтелехии. Нет, нет, это не очередная попытка «пославянофильствовать», не очередной опыт «само-бытничества». Это лишь — констатация…
Конечно же, Струве не мог встать на позицию Леона Дюги. В России XVI–XVII столетий он обнаружил два по содержанию и смыслу противоположных друг другу процесса властеобразования. Nation-state возникло в Европе в XVI–XVII–XVIII вв. Как результат, следствие, продукт разложения феодализма (в том числе и Священной Римской империи германских народов) и Великой капиталистической революции. Затем в XIX столетии некоторые «национальные государства» становятся колониальными империями. При этом они не только не перестают быть «nation-state», но и совершенствуются в этом. После отпадения колоний эти страны по-прежнему сохраняются как «национальные государства».
У нас в те же самые исторические эпохи каждый шаг власти в сторону «национально-целостного государства» был одновременно движением по направлению к империи, имперскому устройству. Струве говорит о двух процессах, «тесно между собой связанных и в то же время в известной мере и известном смысле расходящихся». На самом деле это был один процесс. Но чтобы понять генезис Русской Власти как один процесс, необходимо пользоваться совершенно определенной методологией исторического познания. Петр Бернгардович ее не имел и иметь не мог. Не приспели еще тогда сроки. Его величайшая заслуга состоит в том, что он указал на
принципиальное отличие формирования Русской Власти от «nation-state».
* * *
Что же сказать в заключение этого краткого очерка идей русских мыслителей XIX — первой трети XX столетия … Вслед за дебютной стадией пришли не менее великолепные миттельшпиль и эндшпиль, которые еще не изучены и не поняты нами. Кто, к примеру, знает конституционный проект Михаила Сперанского, для кого актуальны и животворны идеи Николая Карамзина, Павла Пестеля, Никиты Муравьева, Сергея Уварова, Петра Чаадаева, Юрия Самарина? Кто держит в уме концепцию «самодержавной республики» Константина Кавелина или теорию эволюции русской общины Александра Изгоева? Кто анализировал новаторские воззрения на государство Петра Струве (и вообще русских легальных марксистов-ревизионистов) или попытку сформулировать русскую доктрину права (помните завет Карамзина), предпринятую в эмиграции Николаем Алексеевым? Да и всю его политико-правовую доктрину, да и все его воззрения на русскую политику в прошлом и настоящем? Кто усвоил основы «МЫ-миросозерцания» Семена Франка и модель перехода России от коммунизма к иному состоянию, предложенную Иваном Ильиным?..
Русская мысль лежит перед нами большой непрочитанной книгой. Ее страницы испещрены знаками, которые начертаны «кровью былей» (Пастернак, «Высокая болезнь»), кровью мировой культуры и кровью русской истории. Мы, начисто проигравшие XX век, нуждаемся в этом витальном кровотоке. Это не просто одна из последних русских надежд, это обретение того прошлого-настоящего, которое путем наших усилий сможет стать основой нашего настоящего-будущего.
Русская собственность, русская власть, русская мысль
Некоторые вводные замечания
Известно, что главной темой русской мысли является Россия, философия отечественной истории. Этим она отличается от западной, где на первом плане методология, гносеология и т. д. Следовательно, обращение к русской мысли по какому-либо важному русскому вопросу всегда актуально.
Одним из таких вопросов и является вопрос о собственности и власти, об их взаимоотношениях. А также о традиционных российских представлениях (зафиксированных нашей мыслью) о собственности и о собственности в связи с властью. Эти представления, как мне кажется, не изжиты и сегодня. И наверняка воздействуют на социальную психологию народа в целом и верхних слоев в частности. Думаю, что анализ традиционных русских воззрений на собственность и власть поможет понять,
что происходило с нами в XX в. и
что происходит ныне.
В любом случае, каждый соотечественник — и не надо для этого быть экономистом, историком, правоведом, политологом — понимает: тема «собственность и власть» ключевая для социального развития страны. При этом все если даже и не знают, то ощущают, что в России и власть какого-то особенного типа, да и собственность с ней как-то особенно и по-особому связаны. Кроме того, сама собственность (точнее — то, что в обществе полагается собственностью) — тоже особенная. Все это, кстати, выразила и отразила русская мысль.
Но и еще одно обстоятельство имеет большое значение в контексте «собственность и власть». В этом веке мы попробовали целый ряд различных форм власти и форм собственности, целый ряд их различных соотношений. И все в конечном счете оборачивалось неудачей. Это заставляет нас крайне внимательно отнестись к разного рода попыткам осмыслить тему «собственность и власть».
Безусловно, центральное место в рамках этой темы занимает проблема собственности на землю. Более 1000 лет Русь-Россия была по преимуществу крестьянской, земледельческой страной. И естественно, представления о владении, имуществе складывались прежде всего по поводу земли. Следует подчеркнуть, что земля в интересующем нас контексте важна не только как земля, но и как повод к формированию определенного типа отношения к вещественной субстанции. И это отношение впоследствии оказало серьезное воздействие на подход к иным объектам собственности. Другими словами, традиционные русские представления о том, кому и на каком основании принадлежит земля, во многом определили понимание собственности в более позднюю промышленную эпоху.
И здесь нельзя не вспомнить об общинном землевладении. Именно оно, как окончательно стало ясно в XX столетии, было «идеальным типом» главного русского воззрения на собственность.
Кроме того, «общинное землевладение» есть псевдоним одного из двух-трех центральных вопросов отечественной истории последних веков и Революции. Это — вопрос собственности, собственности на землю и частной собственности вообще, коллективизма, privacy, личной и коллективной
ответственности, права как универсального регулятора социальных отношений; наконец, это вопрос «власть — собственность». И — вопрос «аграрного кризиса», который, по мнению многих исследователей (я разделяю это мнение), был одной из важнейших причин нашей Революции и в немалой степени повлиял на ее содержание и формы.
Община — чудотворная икона славянофилов, народников, самодержавия. Община — специфический русский путь, отрицающий частную собственность и устраняющий возможность социальных катаклизмов. Община — хозяйственный аналог монастыря; так сказать, профанный монастырь.
Споры вокруг общины, если суммировать все их измерения (экономическое, политическое, юридическое, историческое, социальное, нравственное), наверное, были и самыми интенсивными, и самыми продолжительными, и самыми «массовыми» (по количеству участников) в полуторавековой одиссее русских интеллектуальных исканий. Да и сегодня эти споры не закончились…
Увы, — не уверен, позволительно ли историку пользоваться этим междометием, — мы не знаем, куда пришла бы община в ходе послереволюционной эволюции. Сталинская коллективизация, как известно, покончила с этим важнейшим институтом русской истории. Однако и без гипотетического будущего вполне ясен перечень тем, требующих к себе самого жгучего внимания современных исследователей. Напомню его: община, общинное землевладение и крепостной строй хоть и не идентичные понятия, однако столь туго сплетенные, что все это «пришлось» не распутывать, а разрубать. Юридическая природа крепостного права, покоившегося на общине и общинном землевладении, так и не была выяснена до конца. Что это — институт публично-правовой или частно-правовой? Паллиативные ответы лишь затрудняли решение этой задачи. И еще: община и крепостное право существовали в условиях раскола России на две субкультуры, цивилизации, два «склада жизни» (по В.О. Ключевскому; я писал об этом многократно, например, в монографии «Политическая культура пореформенной России», М., 1994). Более того, были причиной-следствием этого раскола. Или точнее: петербургское самодержавие и крепостной строй (община в цепях) суть властно-социальное выражение раскола.
Ну и последнее вводное замечание. Исследуя тему «собственность и власть», мы должны постоянно помнить о господствовавшем на протяжении почти всей русской истории феномене «власть — собственность», о патримониальном характере русской власти, о «верховенстве собственности государства на землю».
К истории вопроса
В древности отношения «вотчинник — крестьянин» регулировались договором. Уложение 1649 г. подвело черту под многовековым процессом становления крепостного права и оформило весьма гармоничную — на свой, конечно, лад — модель. Царь служит Богу — метафизическому обоснованию, источнику метафизической легитимности его (царской) власти и общесоциальному raison d'etre. Боярство и дворянство служат царю, крестьянство — боярству и дворянству. Церковь, служа Богу и всем, соединяет эти «элементы» в целое. Система всеобщей службы, гармония всеобщей службы. Основа этого порядка — несвобода всех, включая и несвободную (по-своему) власть.
Затем в силу целого ряда хорошо известных исторических обстоятельств эта гармония была разрушена. Правда, перед этим Петр Великий довел логику Уложения 1649 г. до предела: крестьяне превратились в потомственных крепостных при условии
обязательной службы помещика власти.
При Петре III и Екатерине II произошло освобождение дворян от этой обязательной службы, т. е. от крепостной зависимости от власти, что сделало крестьян
безусловными крепостными, а самих дворян —
безусловными крепостниками. Однако вопрос о земле оставался принципиально невыясненным. Чья она? Кто ее хозяин? Ответа не было…
Неожиданно результатом же всех этих преобразований стало появление в России частной собственности. «Крещеной собственности», как ее называли в XIX в. Такой собственности, где субъектом был помещик, а объектом — крепостной крестьянин. Кстати, подобная новая связь между дворянами и крестьянами в глазах последних не имела никаких законных оснований. Власть так никогда и не объяснила, почему одни являются рабами других, почему одни
имеют, а другие —
нет.
Окончательно разрушив старую русскую гармонию, правители второй половины XVIII в. существенно запутали вопрос о земле. И хотя крестьяне говорили: «Мы — помещичьи, а земля — наша», на самом деле помещик мог продать крестьян без земли, оторвав их от нее; имел также право продать землю без крестьян.
Итак, неурегулированность вопроса о земле, неразработанность земельного законодательства, с одной стороны, обостряли вопрос «чья земля?», с другой — разрывали связь между земледельцем и землей. Именно этот разрыв способствовал окончательному вызреванию условий для создания-возникновения
передельной общины. В этой общине нет ни собственности (государственной или частной), ни аренды. Нет никаких привычных, традиционных отношений, которые можно описать языком классического права.
Но появление на исторической сцене «передельной общины» было далеко не случайным. Типологически подобная община была связана с особенностями характера русского земледелия — во многом, как бы это парадоксально ни звучало, — «кочевым земледелием». Передел и есть «кочевание земли», но ограниченное определенными рамками. Кроме того, передельная община представляла собой эффективную социальную инженерию в условиях постоянного дефицита ресурсов, вещественной субстанции, т. е. в условиях бедности. Также передельная община минимизировала неизбежную имущественную дифференциацию, что в условиях этой самой бедности было крайне важно. В целом наличие этой общины способствовало поддержанию социального мира в стране.
Однако ресурс самой «передельной общины» был исторически ограничен земельным ресурсом европейской части России. И конечно, никем не предполагавшимся демографическим взрывом крестьянского населения во второй половине XIX — начале XX в. Так разразился «аграрный кризис». Наиболее острый и опасный из всех тех кризисов, которыми была охвачена страна в пореформенный период. Скажем о нем несколько подробнее.
Между 1850 и 1914 гг., за 60 с небольшим лет, население России выросло в два с половиной раза (68 млн. человек — 170 млн. человек; в 1900 г. — 125 млн. человек). Это были самые высокие в тот период темпы увеличения населения в Европе. Вместе с тем урожайность зерновых была существенно ниже, чем среднеевропейская. В течение XIX в. на 60 % увеличилась и посевная площадь (1809 г. — 80 млн. га, 1887 г. — 128 млн. га). «Однако даже такого безостановочного расширения посевной площади не хватало, поскольку … население росло еще скорее, а урожаи оставались на прежнем уровне. К 1880-м годам в средней и южной полосе России целины практически не оставалось, и земельная рента увеличилась необыкновенно. В то же самое время … рост современной промышленности лишал крестьянина основного источника побочного дохода. Вот, в двух словах, корни знаменитого "аграрного кризиса", потрясшего империю в последний период ее существования и в огромной степени "ответственного" за ее падение».
Действительно, несмотря на значительное расширение посевной площади, сельское население росло еще быстрее, намного быстрее. В результате начался процесс обезземеливания миллионов крестьян. Не поспевала за резким демографическим подъемом и урожайность. В начале XX в. крестьянство европейской части России собирало 14 пудов хлеба на душу населения. Прожиточный минимум официально определялся в 20 пудов. Годовой доход средней крестьянской семьи тоже значительно отставал от минимального прожиточного (38 и 49 рублей соответственно).
Таким образом, русское крестьянство в целом явно недоедало. К примеру, потребление хлеба на душу населения в России равнялось 13 пудам, во Франции — 22,3, в Германии — 19,45, в Великобритании — 18,39. В год на питание тратили: русский крестьянин — 20 руб., немецкий — 40, французский — 56 руб. Причем происходило постепенное ухудшение питания, что, безусловно, сказывалось на здоровье крестьян. Об этом свидетельствовало нарастание доли так называемых забракованных и получивших отсрочки по состоянию здоровья при приеме на военную службу. В 50 губерниях Европейской России в конце 70-х годов таких было 11 %, а в начале XX в. — 22 %.
Особенно тяжелым было положение крестьянства в центральных и средневолжских губерниях — ранее житницы России. В 1901 г. правительство учредило даже специальную комиссию для изучения причин «оскудения центра».
Надо сказать, что обострению аграрного кризиса и ухудшению экономического положения крестьянства способствовала политика правящих кругов, ориентированная на экспорт хлеба и льна. «Сами не доедим, а вывезем», — говорил министр финансов И.А. Вышнеградский, имевший репутацию прогрессивного и дальновидного деятеля. «Вывозили», понятно, для того, чтобы затем финансировать промышленное развитие и поддерживать активный баланс внешней торговли. Причем экспорт хлеба рос быстрее его производства. Накануне отмены крепостного права он еще не превышал 5 % чистого сбора (т. е. сбора за вычетом семян). К началу 70-х годов составлял приблизительно 1/10. В 80-90-х годах экспортировалось около 1/5 чистого сбора хлеба в Европейской России (в том числе пшеницы — 2/5, ячменя — 1/3). Если в начале 60-х годов вывоз хлеба в стоимостном выражении равнялся 1/3 всего российского экспорта, то с 70-х годов до конца века — половине. И России удавалось поддерживать активный баланс внешней торговли. Но … прежде всего за счет крестьянства, за счет целенаправленного и последовательного снижения уровня его благосостояния.
Произнося «сами не доедим», Вышнеградский — один из самых талантливых русских «дельцов» в области экономической политики, крупный математик и профессор, видимо, отчетливо не представлял себе, во что может обойтись режиму такой курс. Какими бы объективными потребностями он ни оправдывался, «им подкапывались и колебались нижние ярусы … здания в полной уверенности, что так может быть упрочен или поддержан один высший».
Но до сих пор речь шла о положении крестьянства в целом, т. е. не учитывался процесс его социально-экономической, имущественной дифференциации. А процесс этот, несмотря ни на что, в том числе и на ряд мер правительства, призванных затормозить расслоение в деревне, неуклонно расширялся и углублялся. В 1877 г. П.П. Семенов-Тян-Шанский, известный географ, этнограф и государственный деятель, произвел описание крестьянских хозяйств Мураевенской волости Данковского уезда Рязанской губернии. Сопоставляя соотношение между разными по имущественной обеспеченности группами крестьян в 1877 г. и при крепостном праве, он пришел к выводу, что если, «с одной стороны, явилась между крестьянами большая пропорция богатых и зажиточных дворов, то, с другой — усилились и появились такие неимущие дворы, которых до 1861 г. почти не существовало». Согласно П.П. Семенову-Тян-Шанскому, «к «сельской буржуазии» относилось около 23 % всех крестьянских дворов, к середнякам — 37 и к беднякам — 40 %. Число безлошадных и однолошадных составляло 54 %. На их долю приходилось всего лишь 13 % общего количества крестьянских лошадей, в то время как 23 % дворов, владевших каждый тремя и более лошадьми, имели 56 % общего количества лошадей». Заметим, что исследование было проведено П.П. Семеновым-Тян-Шанским в 1877 г., т. е. уже тогда процесс имущественно-социальной дифференциации шел в деревне на всех парах. Надо сказать, что основные выводы П.П. Семенова-Тян-Шанского очень близки тем, к которым позднее, в 90-е годы, пришли в своих работах, посвященных «аграрной проблеме», Струве и Ленин.
Итак, в тот период, когда Россия переживала мощный промышленный подъем (в среднем 9 % в год, первое место в мире по темпам развития), крестьянство в целом беднело. При этом основные тяготы кризиса выпадали на долю беднейших слоев. В результате —
впервые в русской истории — сложилась ситуация, при которой в деревне появились десятки миллионов людей с постоянно (как тенденция) снижающимся уровнем благосостояния. И социальное напряжение неумолимо поползло вверх. И не было уже крепостного права, не было наброшенной самодержавием на основную массу населения страны цепи, не было надзора и контроля помещика (его влияние и возможности воздействия слабели год от года), «посредующего элемента» между крестьянством и Русской Властью. Крестьяне фактически оказались один на один с чуждым, непонятным и враждебным им миром. Это не могло не травмировать их и не повергнуть в психологический шок. В 1910 г. В.И. Ленин — в своей манере, утрируя и окарикатуривая, но в целом правильно и точно — писал об «ужасе патриархального крестьянина, на которого стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все устои деревенского быта, несущий с собой невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис, — все бедствия "эпохи первоначального накопления", обостренные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших приемов грабежа, выработанных господином Купоном».
И это происходило в условиях, когда, напомню, всю доступную тогда целину в Европейской России распахали. «Кочевому земледелию» был поставлен природный барьер. Пространственное, важнейшее измерение русской культуры, в том числе и земледельческой, оказалось под вопросом…
Ну а понимали ли правящие верхи России всю сложность и опасность создавшейся ситуации? Когда в тугой клубок противоречий сплелись патримониальная власть и начатки конституционного строя («правового государства»), развитие капитализма и сохраняющаяся община в деревне, расширяющаяся зона господства частной собственности при одновременной активизации сопротивления этому процессу и т. д. Казалось, что понимали. И последовавшие вскоре Столыпинские реформы вроде бы лучшее тому подтверждение. Однако я возьму в «свидетели» не модного ныне Петра Аркадьевича (и его сотрудников), а тех, кто проложил ему дорогу и во многом облегчил осуществление великих преобразований.
22 января 1902 г. под председательством С.Ю. Витте было учреждено «Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности». По всей стране создали 82 губернских и областных комитета и 536 уездных и окружных комитетов. Задача состояла в сборе материалов и в подготовке заключений по трем вопросам: крестьянское управление; суд, гражданское и уголовное право крестьян; община, семейное владение и выход из общины. Заключения комитетов рассматривались в Особом совещании с 8 декабря 1904 г. по 30 марта 1905 г. (Петербург), когда указом Николая II Совещание было закрыто. Приведем мнения его ведущих деятелей.
С.Ю. Витте (на 43-м заседании Совещания 12 марта 1905 г.): «Россия составляет в одном отношении исключение из всех стран мира, и как отнесется к этому исключению история — покажет будущее. Исключение это состоит в том, что систематически,
в течение более чем двух поколений, народ воспитывается в отсутствии понятия о собственности и законности … Какие исторические события явятся результатом этого, затрудняюсь сказать, но чую, что последствия будут очень серьезные. Великая освободительная реформа 19 февраля 1861 года … не имела в виду считать идеалом отсутствие понятия о собственности у крестьян, но смотрела на ограничение права собственности на землю как на временную меру, которая с окончанием выпуска должна исчезнуть. Что же в действительности произошло? Население воспитано в условиях уравнительного землепользования, т. е. в условиях, исключающих всякую твердость и неприкосновенность прав отдельных лиц на их земельное владение.
Наука говорит, что право собственности на общинную землю принадлежит сельской общине как юридическому лицу. Но в глазах крестьян (не понимающих, конечно, что такое юридическое лицо) собственник земли — государство, которое и дает им … землю во временное пользование. Никакого понятия о собственности в сознание крестьян не внедрилось. Этого понятия не мог создать у крестьян не только порядок владения землею, но и вообще весь характер их правоотношений. Ведь правоотношения эти нормируются не точным писаным правом, а часто "никому неведомым" … обычаем, причем спорные вопросы разрешаются частью волостным судом, т. е. судом темным и небезупречным, а часто даже в административном порядке: сходом и попечительной властью начальства. При таких условиях для меня является огромный вопросительный знак: что может представлять собою Империя со 100-миллионным крестьянским населением, в среде которого не воспитано ни понятия о праве земельной собственности, ни понятия о твердости права вообще … Освобождая крестьян, государство дало им землю, но не в собственность, а в пользование. Затем крестьянство осталось обособленным от всех прочих сословий как в порядке управления, так и суда. Суда, в сущности, у крестьян не оказалось, а получилась грубая форма расправы в лице волостного суда. Наряду со всем этим крестьянское население увеличилось со времени освобождения в два раза, земли не стало хватать.
Что же говорят крестьяне?.. Они говорят: когда нас освобождали, то взяли землю у помещиков и отдали нам — крестьянам. Теперь народу много больше, земли не хватает. Стало быть, можно опять взять земли у помещиков и дать нам. С точки зрения крестьян — такая идея совершенно естественна, логична, и государство своим образом действий — в частности, отрицанием у крестьян прав собственности на надельную землю — как бы поддерживает эту идею о праве на дополнительное получение земли при помощи государства же. Мне представляется, что если идея воспитания крестьян в условиях уравнительного землепользования и вообще в условиях, отдаляющих их от общего правопорядка, будет и далее проводиться с таким же упорством, то Россия может дожить до грозных исторических событий…».
Сенатор Г.А. Евреинов (на заседании 26 января 1905 г.): «Я нисколько не сомневаюсь в том, что если бы могла упрочиться относительно крестьянского дела в России эта политика всестороннего социального обособления крестьян, которая нашла крайнее выражение в трудах редакционной комиссии МВД, то в связи с ней противоположение аграрных интересов высших классов и громадной массы крестьян, создаваемое порядками общинного землепользования, при прогрессирующем обнищании земледельческого населения, в недрах которого сосредоточены главные запасы вооруженных сил страны, — вызвало бы, в относительно не отдаленном будущем, такой социальный катаклизм, который еще свет не видел … Но нельзя, однако, не признать, что создание мелкой поземельной собственности в широких кругах крестьянского населения дало бы наиболее прочный устой общественному и государственному строю России. Многочисленный класс поземельных собственников-земледельцев составил бы наиболее консервативный элемент в населении страны, знающий цену собственности и потому солидарный с личными собственниками других состояний…».
Управляющий земским отделом МВД В.И. Гурко (на заседании 22 января 1905 г.): «Мысль, что возможно увеличить крестьянское благосостояние не путем усиления производительности состоящих в пользовании крестьян земель, а посредством увеличения самой площади земель, не только не осуществима, но фантастична … Пространственное увеличение крестьянской земли возможно двумя способами: с одной стороны, путем перехода частновладельческих земель в крестьянские руки, с другой — посредством разрежения населения переселением части его на дальние, малолюдные окраины. Обе эти меры, осуществляемые в сколько-нибудь широком масштабе, безусловно, гибельны как для благосостояния всей страны … так и для благосостояния самого крестьянского … класса … Действительно, если страна наша была бы единственной страной на земной планете, то мы могли бы прибегнуть к этому средству бегства от культуры, ибо оно иначе названо быть не может».
Управляющий государственными сберегательными классами А.П. Никольский (на заседании 9 февраля 1905 г.): «…я укажу на крайне низкую урожайность общинных земель, по сравнению с землями частного владения. В ожидании переделов общинники не вывозят навоз на свои наделы, не имея уверенности, что удобренный надел не достанется другим. Но там, где крестьянин знает, что земля его, там он достигает хороших результатов … За 50 лет, истекших после освобождения крестьян, наиболее обнищали и выродились крестьяне-общинники. Перепись 1897 г. показала, что общий прирост населения после Х-й ревизии составляет около 50 % … В губерниях с общинным землевладением населения убыло на 12 %. В тех же губерниях самый высокий процент физически негодных лиц призывного возраста. Здесь же и самый большой процент неграмотных. Таким образом, если проверять принципиальные положения фактами — трудно защищать общину … Наконец, что касается чудодейственного свойства общины — предохранять от пролетариата, то я сошлюсь на исследования … М.П. Кашкарова. Оказывается, что в губерниях Орловской, Рязанской и Тульской, где существует община, лиц, не имеющих ни своего хозяйства, ни своей усадьбы, т. е. пролетариев в полном смысле слова, от 20 и … до 30 %. Таким образом … община есть условие для того, что в России через несколько десятков лет не будет ничего, кроме пролетариата…».
Вместе с тем не все влиятельные в общественном мнении России люди разделяли
такие позиции. Более того, две мощнейшие стихии русской жизни той эпохи были с подобными выводами полностью не согласны. Это — Лев Толстой и партия эсеров (ведь именно она победила на — единственных всеобщих и почти свободных — выборах в Учредительное собрание). Послушаем великого писателя и учителя: «Всемирно-народная задача России состоит в том, чтобы внести в мир идею общественного устройства без поземельной собственности. "La propriete с'est le vol" останется большей истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. Это истина
абсолютная, но есть и вытекающие из нее истины относительные … Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда (т. е. частную собственность вообще, как институт. — Ю.П.), и … собственность поземельную (частную на землю. — Ю.П.). Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах казаков. Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик … Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана. Русская революция не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности … Самодержавие не мешает, а способствует этому порядку вещей (выделено мной. — Ю.П.)».
Поразительно, что эти вещие строки
приснились Толстому. И утром 13 августа 1865 г. он занес их в дневник. Но этот сон оказался в конечном счете явью: русская революция была и вправду против поземельной собственности (как верно и то, что самодержавие и отсутствие
такой собственности обусловливают друг друга). А русские люди исполнили завет великого человека, создав «общественное устройство без поземельной собственности».
Получается, что «сном» оказались трезвые рассуждения высших бюрократов на Особом совещании в начале 1905 г. «Сном» также были реформы Столыпина, на исторический лишь миг образовав у нас «поземельную собственность». Да ведь и сегодня, уже после колхозно-совхозного эксперимента, сон Льва Толстого господствует в умах многих замечательных современников. Отчасти Солженицына, например. Или вспомним осень 93-го, когда после кровавых событий октября и до принятия Конституции Б.Н. Ельцин, стремясь закрепить победу, готовился издать указ о введении права частной собственности на землю. Какие истерические, патетические, умоляющие призывы — «не делать этого» — раздались с разных сторон. И громче всех звучал голос драматурга (вот оно, величие русской литературы! Мнение писателя всегда весомее, чем эксперта, специалиста) Виктора Розова. «Вспомните слова Льва Толстого о том, — говорил он, — что земля, как солнце и воздух, не может быть чьей-либо собственностью»…
Ну а теперь послушаем, что говорила о собственности (и о собственности в связи с властью) русская мысль. В качестве примера возьмем три подхода — народнический, либеральный и евразийский. Пожалуй, именно в рамках этих направлений было сказано наиболее интересное — порой и неожиданное — о собственности (и власти).
Народническо-эсеровский подход
Общеизвестно, что народники были стопроцентными противниками частной собственности. Но не менее известно и то, что их наследники (эсеры) отвергали и тот тип собственности, который возобладал в СССР. То есть социалистическую или общенародную собственность. При этом народники выдвигали оригинальный проект правовой организации социальных отношений по поводу материальной субстанции. На мой взгляд, значение этого проекта далеко не «ретроспективно». Во всяком случае, в нем учитываются некоторые фундаментальные «энтелехии» русского общественного бытия.
Еще в 1882 г. С.Н. Южаков писал о «капиталистическом хозяйстве» и «народном хозяйстве». В рамках «капиталистического хозяйства» происходит разделение капитала и труда между различными социальными силами. С точки зрения Южакова, помещичье хозяйство тоже «капиталистическое». Для «народного хозяйства» характерно то, что земля, труд и капитал принадлежат только «рабочему сословию». В России «народное хозяйство» существует практически всю ее историю и является органической и традиционной формой производства и собственности. Это хозяйство опирается на «специально-русское», «славянское» поземельное право. Содержание последнего состоит в поголовном наделении землей всех, кто трудится на ней, и ее общинном владении. В 1861 г. именно на этих основаниях, полагал Южаков, и было проведено освобождение крестьян.
В новых исторических условиях эту же (по сути) идею развивал лидер и ведущий теоретик партии эсеров В.М. Чернов.
Он задавался вопросом: почему в России власть и народ расколоты, почему они так далеки друг от друга? По его мнению, начиная с эпохи Петра Великого власть формирует законодательство и строит политику путем рецепции норм римского права и прежде всего права частной собственности. Что касается народа, то он продолжал жить по нормам обычного (русского) права. А именно: земля не есть объект купли-продажи, право на землю имеет тот, кто ее обрабатывает, неухоженная пустошь передается другому владельцу, крестьянская семья получает землю по количеству «едоков» — чтобы прокормить семью и «восстановить ее производительные силы», но размер этой земли не должен превышать «трудовой нормы» — сколько семья сама может обработать.
При этом, согласно Чернову, традиционное русское право исходит из такого постулата: при найме на работу в первую очередь следует защитить интересы работника, но не работодателя. Ценностная система отечественного права (обычного) ставит гораздо выше землю и труд, а не неприкосновенность собственности. И это вполне укладывается в логику существования «народного хозяйства» (по южаковской терминологии). Раскол же власти и народа можно преодолеть, преобразовав правовую систему страны исходя из норм обычного права.
Отсюда лозунг эсеров: «социализация» земли. То есть — «равное право каждого трудящегося на землю». Национализация и социализация суть прямо противоположные варианты правового решения земельного вопроса. В первом случае земля есть собственность государства, во втором она
вообще несобственность, не объект купли-продажи. Земля выводится из сферы отношений собственности. Однако пользоваться ею могут — в принципе — все; если, конечно, сами, лично готовы трудиться на этой земле. Осуществление эсеровской программы также предполагало, что распоряжаться землей будут органы местного самоуправления. Государство должно было «уйти», не вмешиваться в дело распределения земельных наделов.
Либеральный подход
Евразийский подход
Нечто о природе русской власти
Заключение
Русская история как «Русская идея»
«Русская идея» — это тяжелая болезнь, изнуряющая сознание русского народа Дм. Чижевский
«The Agony of the Russian Idea» — название книги американского исследователя Т. Мэк-Дэниэла (1996 г.)
Восстановить на земле … верный образ божественной Троицы — вот в чем русская идея.
Вл. Соловьев
Я не хочу быть Я, я хочу быть Мы.
М. Бакунин
«Русская идея» как небо на земле
«Русская идея» как «МЫ-мировоззрение»
«Русская идея» как «примитивная» сверхиндивидуальная демократия или самодержавная республика
Три источника и три составные части «Русской идеи»
Особенности национальной Идеи
Полная гибель всерьез
Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более, чем великолепно, что же касается её будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение.
Граф Л.X. Бенкендорф
Человек будущего — это тот, у кого окажется самая долгая память.
Фр. Ницше
Друг, я спрошу тебя самое главное: ежели прежнее все — неисправное, что же нас ждет впереди?.
Юрий Кублановский
Прошлое точно так же видоизменяется под воздействием настоящего, как настоящее испытывает направляющее воздействие прошлого.
Т. С. Элиот
(и совсем не распространенной, не общеизвестной, не модной) точки зрения это произошло 23 апреля 1906 г. Это день вступления в силу первой русской конституции («Основные государственные законы»). За несколько месяцев до этого граф С.Ю. Витте предложил Николаю II
одиннадцать лет после принятия Конституции Николай II


1. Основной вопрос русской истории, вопрос, завещанный XIX в. XX столетию, вопрос, принявший известный псевдоним «аграрный кризис», иными словами,
Историософия или антропология?
История не в том, что мы носили, А в том, как нас пускали нагишом.
Б. Пастернак

Карл Шмитт. Политико-антропологический очерк
…Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?
А.С. Пушкин
1947–1951. В.:
?..
.
«Platon und die Polis». — Ю.П.) называет полис государством, так вот государство есть в высшей степени единичное, конкретное, обусловленное временем явление, которое следует датировать эпохой с XVI по XX столетие христианского эона и которое вышло из этих четырех веков, из Ренессанса, Гуманизма, Реформации и Контрреформации; оно есть нейтрализация конфессиональной гражданской войны, а также специфическое достижение западного
). ) …
)
),
)
)
). ); Veritas in dictamine non in re ().
)
.
). Божественная власть и земная власть в естественном праве составляют единство; конечно, естественное право лишь относительно релятивно; иначе воспринимать естественное право было бы абсолютно неправильно.
)…
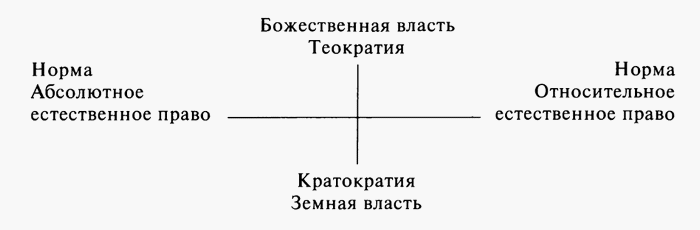
Русский Гамлет
О, что мне сделать в память друга? В твою единственную честь…
Мы были музыкой во льду.
Б. Пастернак
) тоже провалился. Русская Революция, вырвавшаяся из чернильницы Русской Литературы, показала всю утопически-мифологическую природу этого «идеального типа». Впрочем, и русский Христос был — по-своему — не менее измышленным и «придуманным».
Приложение
Оглавление
Предисловие
Русская мысль, Система русской мысли и Русская Система (опыт критической методологии)
Русская власть и исторические типы ее осмысления (или: Два века русской мысли)
Constitutional state и русское государство
Как они хотели обустроить Россию
Русская собственность, русская власть, русская мысль
Некоторые вводные замечания
К истории вопроса
Народническо-эсеровский подход
Либеральный подход
Евразийский подход
Нечто о природе русской власти
Заключение
Русская история как «Русская идея»
Вновь «Русская идея»?
«Русская идея» как небо на земле
«Русская идея» как «МЫ-мировоззрение»
«Русская идея» как «примитивная» сверхиндивидуальная демократия или самодержавная республика
Три источника и три составные части «Русской идеи»
Особенности национальной Идеи
Полная гибель всерьез
Историософия или антропология?
…Карл Шмитт. Политико-антропологический очерк
Русский Гамлет
Приложение