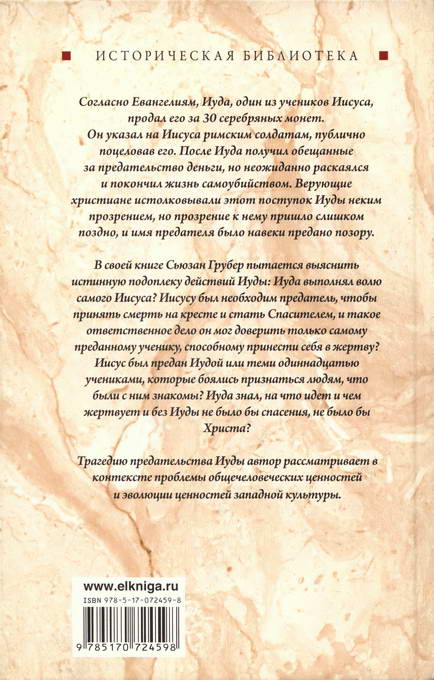Сьюзан Грубар
ИУДА: ПРЕДАТЕЛЬ ИЛИ ЖЕРТВА?
ПРЕДИСЛОВИЕ
«У каждого великого человека есть ученики, — часто не без усмешки повторял Оскар Уайльд, — причем его биографию всегда пишет Иуда».
[1] Согласно этому ироническому замечанию, биографами нередко движет не что иное, как преступное и злобное намерение предать огласке компрометирующие сведения, которые большинство людей предпочли бы сжечь перед своей кончиной, а при жизни, по меньшей мере, спрятать за семью печатями на долгий-долгий срок. Какие грязные тайны самого Иуды еще остались неизвестными? На протяжении почти двадцати веков поэты и художники, романисты и драматурги, богословы и кинорежиссеры чернят его на все лады… «за дело и просто так», как однажды выразилась моя младшая дочь. О том, что этот «христопродавец» — фигура действительно притягательная, свидетельствует одно то, что ему удалось завладеть воображением того же Оскара Уайльда, так часто поминавшего его на словах. Однако до публикации книги «Иуда: предатель или жертва?» ни в одной другой работе не исследовалась эволюция образа двенадцатого апостола в западном художественном сознании на протяжении его долгой и разнообразной посмертной жизни. И причин столь странной малочисленности научных и критических исследований несколько.
Что может побудить биографа взяться за написание истории жизни персонажа, о котором известно так мало? Большинство таких биографических исследований обычно начинаются или заканчиваются предложениями типа: «Родившийся в городе таком-то в году таком-то, наш герой умер тогда-то от того-то». Они включают семейные генеалогии, интервью с потомками и друзьями, описания домов и любимых мест, цитаты из публичных выступлений, фрагменты личных писем и дневников, случаи из детства, повлиявшие на формирование личности героя, свидетельства переломных моментов или судьбоносных встреч в его молодости и зрелом возрасте. Подобными сведениями биографы Иуды, увы, не располагают. Возможно, именно поэтому, несмотря на богатый арсенал произведений, созданных творческой фантазией поэтов и художников, романистов и драматургов, богословов и кинорежиссеров, так мало появляется аналитических, научных или критических исследований об Иуде даже в наши дни. Жизнь Иуды не поддается воссозданию в виде фактографической биографии. К ней можно лишь приблизиться сквозь призму картин, сочинений и проповедей, отражающих трансформацию и неоднозначную интерпретацию его образа с библейских времен до сегодняшнего дня, хотя афоризм Уайльда и напоминает нам о том, сколь прочно закрепилось за Иудой клеймо предательства.
Есть и другая причина, по которой даже уже раскрытые тайны гнусного прошлого Иуды никогда не удостаивались тщательного анализа. И связана она с иной гранью биографического жанра. Следующий из блестящей остроты Уайльда вывод о том, что любой автор, берущийся за жизнеописание Иуды, становится «предателем предателя», едва ли способен лишить сочинителя решимости взяться за перо. А вот бытующее мнение о том, что биографы способны повлиять на прижизненную или посмертную ^судьбу» своего героя, на отношение к нему публики, пожалуй, заставит его призадуматься. Знатоки этого жанра утверждают, что биографы могут стать как злейшими врагами, так и близкими союзниками личностей, о которых они пишут.
[2] Гораздо приятнее и выгоднее писать биографию «благородного» героя, образца для подражания. Это, как и приписываемое биографу родство, сходство со своим персонажем, возможно, и объясняет, почему так мало людей привлекает перспектива проследить длительную эволюцию образа Иуды Искариота в художественном творчестве. Иными словами, расхожее мнение о том, что биографы находят привлекательными персонажей, в которых видят отражение самих себя, может послужить серьезным препятствием для всякого, кто задумается создать жизнеописание двенадцатого апостола. Корыстный доносчик и интриган-изменник — по крайней мере, в традиционном восприятии — Иуда представляется многим тем антигероем, который не должен и не заслуживает быть для кого-то образцом и идеалом. Он настолько отвратителен, что даже служит примером единственного в библейском тексте (насколько мне известно) оправдания искусственного прерывания беременности: было бы лучше, убеждает нас Новый Завет, ему вовсе не рождаться.
И потому не удивительно, что жизнь двенадцатого апостола привлекала внимание лишь узкого круга специалистов — если не считать того потока публикаций, который повлекла за собой недавняя находка древнего «Евангелия от Иуды» — яркого образца древней гностической философии. И все же, по крайней мере по моему ощущению, образы Иуды, навеваемые творческому сознанию каноническими Евангелиями, гораздо более многогранны и вызывают куда как больший резонанс в общественном сознании, нежели Иуда гностиков. На самом деле слова «резонанс» и «многогранный» едва ли выражают мистическую разноликость этого персонажа, притягательного именно тем, что его можно представить не только как лучше бы никогда не рождавшегося демона, исполняющего злую волю Сатаны, но также и как божественного посредника, содействующего воскресению Сына Божьего и спасению человечества. Избегая следовать какой-либо одной из существующих концепций, я постараюсь показать по ходу повествования, что восприятие Иуды, вполне уместного персонажа в Библии, в тот или иной период истории отражает целый ряд спорных психологических и этнических аспектов, вызывавших разногласия у людей во все времена и продолжающих волновать их и сегодня.
Имя Иуды не сходит с языка. Подобно Оскару Уайльду, большинство людей и сегодня поминают его всуе не реже, чем, скажем, имена современных идолов — Элвиса и Мадонны, — ведь этот предатель часто служил олицетворением всего еврейского народа; в то же время он играет второстепенную роль даже в объемистых исследованиях истории антисемитизма. Поскольку многие евреи никогда не раскрывали Нового Завета, Иуда гораздо лучше известен христианам, нежели иудеям. Впрочем, и у христиан не сформировалось однозначного отношения к Иуде, иначе чем объяснить те проявления расизма и нацизма, которые он время от времени провоцирует. Каковы бы ни были причины, но мне не удалось найти ни одной интересной или исчерпывающей книги о долговременной эволюции образа Иуды, пережитой им со времен написания Евангелий до XXI столетия, и потому я решила написать такую книгу сама. И мне не хотелось бы, чтобы читатель думал, будто мне близка тема измены или привлекает характер предателя — нет, мной двигало лишь желание выяснить, насколько отличалось восприятие Иуды в различные исторические эпохи и каким целям отвечали разные, подчас противоположные, интерпретации роли этого персонажа. Простое любопытство — вот что побудило меня попытаться узнать побольше об Иуде, который всегда представлялся мне важной фигурой драмы Страстей Господних, но о котором, помимо этого, мне было слишком мало известно.
Никто, кроме, разве что Мела Брукса, не способен проникнуть в сознание жившего две тысячи лет назад человека, чтобы узнать, как он воспринимал тогда мир. Да и стоит ли это делать, коль скоро этого человека, возможно, и не существовало вовсе? Ответ краток: стоит. Ведь в его существование люди верили на протяжении многих столетий. Данная биография прослеживает восприятие Иуды со времени его появления на страницах Нового Завета до интерпретации его образа в современном кинематографе и художественной литературе. Поскольку я рассказываю о предателе, который всегда приковывал к себе внимание теологов и деятелей культуры, побуждая их предпринимать все новые и новые попытки постичь его характер, моя книга «Иуда: биография» в определенном смысле — метабиография. Это своего рода антология многочисленных псевдобиографий двенадцатого апостола, страдающего многовариантным раздвоением личности — это лишь одно, пусть и постоянное, его несчастье. В последующих главах я пытаюсь раскрыть важную роль образа Иуды в западной истории, особенно европейской и северно-американской, как, впрочем, и южно-американской.
Исследование эволюции этого образа позволяет раскрыть процесс зарождения христианства в недрах иудаизма и его последующее отделение от него, а также то значение, которое имеет общее наследие двух религий для христиан всех концессий и иудеев из разных стран. Будучи не слишком ревностной, но правоверной иудейкой, связанной межличностными отношениями со многими, как грешащими, так и набожными католиками, я всегда восхищалась наследием, которое досталось всем нам, но которое мы так по-разному воспринимаем. И, конечно, как и все американцы, я являюсь представительницей подчас необъяснимо агрессивной христианской культуры, в которой величавый язык и возвышенная музыка, рожденные Новым Заветом, звучат на торговых ярмарках, политических мероприятиях и распродажах фигурок библейских персонажей.
Эта книга писалась мной легко и быстро. Меня словно подстегивала странная, сверхъестественная энергия, подпитываемая осознанием того, что путь мой верен, и сбиться с него практически невозможно. Большинство биографов опасаются, что если они поставят перед собой ложную или необдуманную задачу, их могут раскритиковать за искажение истинного хода событий, или, что еще хуже, осудят за клевету на их героя. В случае с Иудой все обстоит иначе. Даже когда я описываю какие-либо события или детали, допускающие двусмысленное толкование, я лишь просто привожу мнение одного из многочисленных деятелей культуры и мыслителей, которым мы обязаны таким изобилием интерпретаций его образа. Иуда, предстающий нам как в знаковых произведениях, так и во второстепенных и откровенно слабых работах под самыми разнообразными личинами, просто не позволяет нам составить о себе однозначное мнение. Вот почему мне понравилось противоречивое заглавие, предложенное одним из моих коллег: «Иуда: неавторизованная биография». Ведь даже несмотря на то, что Иуде уделяется гораздо меньше внимания в сравнении с персонажами, с которыми он чаще всего взаимодействует, мастера визуальных искусств и словесности в каждой мыслимой геополитической сфере не оставляют попыток воплотить на бумаге или полотне образ двенадцатого апостола.
Благодаря их поэмам и картинам, романам и драмам, трактатам и фильмам я могу предложить читателям то, что они обычно ожидают от биографий: сначала портреты Иуды, как «персональные» (где он изображен и молодым, и старым), так и «групповые», запечатлевшие Иуду либо в кругу его сподвижников и наставников, либо совершающим свои злодеяния, принесшие ему печальную славу. Затем — версии о происхождении Иуды, его предках и родственниках, а также сокровенные подробности его «образа жизни», который Иуда так часто менял благодаря его биографам, и особенности его переменчивого характера, следствиями которых подчас становились его гнусные интриги и порочные деяния. И наконец, — завораживающую историю превращения Иуды из грешника в святого, историю оправдания и спасения. Правда, в этой истории Иуда страдает частыми рецидивами и неоднократно вновь впадает в пороки, из-за чего трудно понять появление его образа в сонме кукол Моисея, Самсона и Иисуса, активно продающихся т.н. Посланцами Веры якобы для того, чтобы «научить вашего ребенка Библии». В своей попытке воссоздать «истоки» своего персонажа я опираюсь на фундаментальные источники. В случае с Иудой — это новозаветные Евангелия. Ясно сознавая, что никто не может поручиться за достоверность их свидетельств, я уподобляюсь многим биографам, которые, не желая грешить против истины, все же лукавят, отказываясь от однозначного толкования событий, расцвечивая их мелкими деталями и совершенствуя формы повествования.
[3] А значит, моя книга не является биографией в строгом смысле этого слова по одной простой причине — несмотря на то что двенадцатого апостола неоднократно убивали, он всячески противится тому, чтобы его наконец-то похоронили окончательно, и потому его жизнь и биография и поныне остаются незавершенными. Кроме того, я не ставила себе задачи проанализировать все картины, поэмы, пьесы или романы о предателе; да я и не смогла бы этого сделать, учитывая пространственные и временные ограничения.
Еще один мой коллега, сам увлекающийся биографическими трудами, однажды посоветовал: если ты собираешься писать биографию, выбери кого-нибудь, чья жизнь была недолгой. Поскольку история Иуды растянулась на целых двадцать столетий, его кандидатура могла бы показаться совсем не подходящей, если бы не тот факт, что его роли бесконечно повторяются и потому могут быть типизированы. Это, конечно, не позволяет создать исчерпывающее жизнеописание Иуды, но дает возможность обобщить и выявить закономерности в его эволюции. Также из-за долголетия Иуды эту первую биографию двенадцатого апостола оказалось невозможно написать без помощи целого ряда специалистов, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Поскольку я не являюсь профессиональным историком-библеистом, любые ошибки и неточности, допущенные в этой книге, — целиком моя вина. И я бесконечно благодарна многим людям, которые старались оберечь меня от них и которым, как я очень надеюсь, это удалось.
Я бесконечно благодарна Дж. Альберту Харррилу, лекции которого на темы Иисуса и Евангелий в Университете Индианы заложили прекрасную основу для постижения мной различных ролей Иуды в Новом Завете. Я также многим обязана Дэвиду Бракке, чей курс, посвященный Иисусу, в «Мувиз» помог мне понять причины гипнотической притягательности образа Иуды. Благодаря его завидной эрудиции и глубоким познаниям в области древней истории и литературы, на свет появились многочисленные переводы и толкования древних текстов. Очень важную работу проделал мой помощник Джами Хоррокс. Благодаря его цифровой обработке многочисленных статей и иллюстраций, я смогла изучить их все, а его творческие идеи помогли мне наметить верный путь. В качестве читателей моей рукописи и Берт, и Дэвид, и Джами оказали мне бесценную помощь, хотя, конечно, они никоим образом не отвечают за ее недостатки или возможные ошибки.
Три моих близких друга помогли мне с анализом визуальных образов Иуды, обсуждаемых в этой книге. В один прекрасный день осенью 2006 г. Шехира Давезас, Жан Сор-би и Джейн Спенсер обогатили мои интерпретации произведений искусства и иллюстрации. Поддержку я получила и от других специалистов. Я благодарна Бонни Эрвин за переводы старинных английских сочинений, Джулии Вайс за сведения по истории культуры XIX в. и составление библиографии, а также Джеймсу Расмуссену — блистательному знатоку и толкователю немецких текстов. Моя сотрудница Сандра М. Гилберт, искренне верившая в успех дела, поддерживала меня всякий раз, когда обстоятельства складывались для меня не самым благоприятным образом.
Мои многочисленные коллеги, друзья, корреспонденты и студенты делились со мной своими идеями и помогали мне считывать и править различные главы книги. В их числе -Мэт Брейн, Джудит Браун, Сара Берне, Фред Кейт, Линда Чарнс, Аманда Чиккарелли, Паулина Дэвид Ли Эдельман, Дайяна Эллиот, Мэри Фавр, Дженифер Л. Флейшнер, Эйлин Фрай, Сандер Гилман, Поль Гутьяр, Сусанна Хешель, Марианна Хирш, Эмми Хангерфорд, Патриция Ингам, Кен Джонстон, Жоржет Каган, Джон Лоуренс, Дейдре Линч, Элин Маккей, Сандра Макферсон, Морис Меннинг, Майкл Макгерр, Диана Мидлбрук, Эндрю X. Миллер, Ричард Миллер, Майкл Морган, Лаура Нэш, Уильям Раш, Элвин Розен-фельд, Адам Ровнер, Джон Шилб, Мириам Сегал, Элен Сворд, Алисой Аммингер, Шейн Вогел, Стивен Уатт, Роб Уайт, Николас Уильяме и Джудит Уилт. Режиссер «Прости, Иуда», Селия Лавенштейн, любезно предоставила мне DVD-запись фильма. Кураторы и архивариусы различных музеев и киноархивов, а также артисты помогли мне изучить иллюстрации. Свою особую признательность я выражаю Нанетт Брууэр и Адельхейд Гилт из Художественного музея Университета Индианы, Бетси Дж. Росаско и Лауре М. Жилье из Художественного музея Принстонского университета, Рону Манделбауму из «Фотофест», Дэйву Макколлу из BFI, Кристофу Эггенбергеру из Центральной библиотеки в Цюрихе (Zentralbibliothek Zurich) и Джеоффу Тодду
Два гранта, предоставленные мне Университетом Индианы, освободили меня на время от необходимости продолжать исполнять преподавательские обязанности, благодаря чему я смогла закончить рукопись без пагубной спешки: одну стипендию мне предоставил Институт Гуманитарных наук и искусств (College Humanities and Arts Institute), другой фант я получила от «Нью Фронтьерс» (New Frontiers). Я выражаю глубочайшую благодарность Андреа Чиккарелли и Майклу Макробби за выделение мне этих премий; Элин Левин за посредническую роль агента в презентации моего проекта; Джил Биалоски из «В. В. Нортон» за помощь в редактировании текста, а ее одаренному помощнику Полю Уитлатчу за безграничное терпение при обсуждении моих бесконечных вопросов, связанных с публикацией книги. Мой редактор -незаменимая Элис Фолк — стала мне близкой подругой в процессе работы над многими, масштабными и скромными, проектами и тем человеком, у которого мне всегда есть чему поучиться.
Как всегда, неоценимую помощь оказали мне мои близкие и родные, которые каждый день были рядом со мной и всячески вдохновляли меня. Дональд Грей, редакторский опыт которого помог мне придать отточенный вид главам этой книги, ходил со мной в музеи и на кинопросмотры. Вместе с ним мы обсуждали многие проблемы, затронутые в книге, и его обширные познания существенно обогатили мои представления. Удивительная самостоятельность моей матери, Луизы Дэвид, позволила мне с головой погрузиться в творчество, не отвлекаясь на повседневные мелочи. Мой зять, Керан Сетия, помог мне вникнуть в догмы философской этики, а моя падчерица Джулия Грей помогала мне в прочтении и толковании текстов на французском языке. Доброта моих любящих дочерей, Мары и Симоны Губар, укрепляла мою подчас пошатывающуюся веру в будущий успех. Мои дорогие двоюродные братья, Бернард Дэвид и Колин Дэвид, удачно уравновешивали и разнообразили мою жизнь. Наряду с Сусанной Грей и Джоном Лионе, все члены моей семьи обогащают мой кругозор. От всего сердца мне хочется поблагодарить и Джека Лионе и Элиота Губар Сетия, вдохновлявших меня и заряжавших своей неуемной энергией.
Эта книга посвящена подруге всей моей жизни — Мэри Джо Вебер, чьи глубокие познания христианства и приверженность лингвистической ясности изложения материала помогли мне не только оформить каждую главу книги, но и выстроить еще в процессе написания ее логичную концепцию. Многим ее друзьям и студентам хорошо известны преданность, честность, откровенность, широта взглядов и терпимость Мэри Джо, полной противоположности традиционного Иуды. И все же никто лучше Мэри Джо не способен постичь все мыслимые причуды человеческого духа, которые порождают странные, порой неожиданные, перевоплощения Иуды, равно как и огромную значимость диалогов между людьми различных вероисповеданий, которую лучше всего доказывает эволюционный путь образа Иуды.
Глава 1.
ВВЕДЕНИЕ.
Иуда: правда или вымысел?
Второстепенный персонаж Нового Завета, Иуда Искариот стяжал себе не только дурную славу, но и долгую посмертную жизнь благодаря неоднозначным толкованиям его образа пытливыми умами вот уже двадцать столетий. Имеет ли мифический Иуда какой-либо исторический прототип? И если Иуда существовал в действительности, почему он предал Иисуса и какова была его кончина? Попытаться найти ответы на эти вопросы и раскрыть причины гипнотической притягательности образа Иуды на протяжении столь длительного времени и в столь многочисленных версиях — лишь такой подход может принести успех его биографии.
* * *
Кто не слышал о проклятии Сатаны, искушении Евы, убийстве Каином своего брата и предательстве Иуды? Один из самых ранних документов, дошедших до нас с Библейских времен (50-е гг. н.э.), позволяет предположить, что Павлу об Иуде известно не было. Первое сообщение о предательстве Иисуса не называет имени виновного: Павел использует страдательный оборот, когда пишет о том, как Он был выдан, не упоминая лица, к этому причастного: «Господь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб, И, возблагодарив, преломил и сказал: …Сие есть Тело Мое, за вас ломимое…» (1-е послание к Коринфянам 11:23—24, выделено автором). Из свидетельства этого миссионера I в. ясно, что некто донес об Иисусе или выдал его властям, но кто именно это сделал, остается тайной. Тем не менее в Новом Завете вероломный поступок безоговорочно приписывается Иуде Искариоту: Марк, Матфей, Лука и Иоанн — все четыре евангелиста связывают с актом предательства именно Иуду. И во всех четырех Евангелиях мы находим описание сцены, в которой двенадцатый апостол выдает Иисуса его врагам. Кем же в действительности был Иуда Искариот и почему на протяжении двух тысячелетий так много мыслителей и деятелей культуры пытались найти ответ на этот вопрос? Был ли он реальным человеком? Откуда он явился? Что двигало им? Какова была его истинная роль и во имя чего он исполнил ее? И чем это обернулось для него самого?
В поиске ключей к разгадкам всех этих тайн логично для начала обратиться к Новому Завету. При том, что авторы всех четырех Евангелий единодушны в принципиальной оценке антагониста Иисуса, сделанные ими жизнеописания Иуды полны множества белых пятен и даже противоречий в трактовке его личности, побудительных мотивов и версий гибели. Недавно найденное Евангелие от Иуды заметно подогрело интерес к двенадцатому апостолу, но не заполнило белых пятен, а только еще рельефнее обозначило противоречия. Эти-то белые пятна и противоречия и побуждают художников и богословов, поэтов и драматургов, романистов и кинорежиссеров вновь и вновь обращаться к ключевой фигуре драмы Страстей Господних — фигуре, чей неподдающийся пониманию акт предательства повлек за собой распятие Иисуса, но также Его воскресение. «Иуда является самой важной фигурой в Новом Завете, помимо Иисуса, — считает высокочтимый протестантский богослов Карл Барт, — поскольку он, единственный из всех апостолов, активно действовал… во исполнение того, что было Божьей волей и что стало содержанием Евангелия. Хотя именно он предстает тем, кого совершенно явно осуждает Закон Божий» (502). Основания для подобных рассуждений Барта заложил еще несколькими столетиями ранее Блаженный Августин своим допущением «тройственного союза» Бога, Иисуса и его двенадцатого ученика: «Предал на смерть Отец, предал на смерть Самого Себя Сын, предал на смерть Иуда; все трое свершили одно» (222—223). Всего лишь 1200 слов об Иуде в Новом Завете набрасывают скупой сценарий его жизни. Позднее неоднократно предпринимались попытки разработать этот сценарий как можно тщательнее и детальнее.
И тот Иуда, которого описывают новозаветные предания, из-за их белых пятен и противоречий окажется отодвинутым в истории западной цивилизации на задний план. Новозаветного Иуду просто затмят его на удивление разнообразные, вымышленные «ипостаси» послебиблейских времен. Не будет исключением и эта книга. Ведь скудость информации об историческом Иуде Искариоте, наряду с неясностями в письменных источниках библейских времен, породили в интерпретации самых разных людей такое множество историй о загадочном апостоле, что в конечном итоге он превратился в одного из самых многоликих персонажей западной культуры. Особенно примечательны в этом смысле средневековые легенды и живопись эпохи Ренессанса, где мы наблюдаем постепенную трансформацию облика и характера Иуды в чреде сменяющих друг друга портретов, сильно разнящихся и зачастую несовместимых. Подобным образом меняется с течением времени отношение к Иуде и в литературных произведениях. Сначала библейский антигерой предстает алчным служителем Сатаны и, соответственно, самым отвратительным злодеем в истории западного общества; но затем он вдруг неожиданно начал «перевоплощаться» то в страстного поборника Иисуса, то в Его героического сподвижника, и наконец, в Его спасителя. Хотя двенадцатому апостолу всегда отказывали в центральной роли в истории христианства как до, так и после обнаружения в 2006 г. гностического Евангелия от Иуды. Как же и почему получилось так, что изначально заклейменный позором, опальный персонаж в конечном итоге поменял свое «амплуа», превратившись из Иуды-предателя в Иуду-святого, жертву, пророка и даже (в одном Евангелии, обнаруживающем влияние Ислама) в Иуду, принимающего вместо Иисуса смерть на кресте? Именно на этот вопрос я ищу ответ в длинной биографии образа двенадцатого апостола.
Рамки биографии, пусть даже домысленной или метафоричной, позволяют мне вскрыть те факторы и мотивы, что влияли на концептуальное восприятие этой неоднозначной фигуры, сменившей множество личин.
[4] Образно говоря, «Иуда: предатель или жертва?» прослеживает «истоки» нетипичного образа двенадцатого апостола в библейские времена, его злодейскую «юность» в Античности и в Средние века, его «возмужание» и превращение в героя-любовника в эпоху Ренессанса, его героическую «зрелость» в Новое время, а также его «гибель» и «жизнь после смерти» в XX — в начале XXI вв. Иными словами, фазы непростой эволюции образа Иуды в художественном сознании соотносятся с этапами жизни человека, и, как его «биограф», их я воссоздаю на страницах этой книги. Биографический жанр, избранный мною, должен дать понять моим читателям, что эта книга отнюдь не является трудом по теологии или истории, а посвящена определенному персонажу и отношению к нему, интерпретации его образа в разные периоды истории. И я надеюсь, что в этой вводной главе вы найдете удовлетворяющее объяснение тому, почему я избрала столь странный подход к заклейменному бесчестием персонажу, даты жизни которого, происхождение, место рождения, устремления, деяния, взгляды и ценности до сих пор остаются неизвестными.
Антигерой, отверженный изгой, любовник, герой, спаситель… Иуда пережил не меньше впечатляющих перевоплощений, чем Сатана, Ева и Каин, с которыми его постоянно сравнивают. Но в отличие от Сатаны, Евы и Каина, Иуда Искариот не фигурирует в еврейской Библии и не воспринимается как чисто мифический персонаж. И в отличие от Сатаны и Евы — но не Каина!
[5] — двенадцатого апостола нередко представляли олицетворением некоей религиозной, этнической или расовой группы. По происхождению еврей, как и сам Иисус или, скажем, Матфей, Петр и Иоанн, Иуда часто соотносился со всем еврейским народом. Как, когда и почему Иуда становился вдруг олицетворением иудеев и евреев и какие последствия это влекло за собой? И что кроется за тем, что в определенные моменты Иуду вдруг переставали причислять к евреям? Ответы на эти вопросы я вкратце излагаю на нескольких последующих страницах, но их значение в долговременной ретроспективе станет полностью очевидным лишь в конце этой книги.
То, что имя Иуды христиане в послебиблейские времена взяли на вооружение в своем противостоянии иудеям, придает ему особо важную роль в истории взаимоотношений между иудеями и христианами. Уже в IV в. святой Иероним вопрошал: «Кого полагаете вы сынами Иуды?» И ответ его был категоричным: «Это иудеи. Иудеи получили имя не от святого человека Иегуды, а от предателя» (259). «Как бы вы ни толковали его, — убеждал Иероним, — Искариот означает “деньги” или “цену”» (260). Его воззрений придерживались многие и во времена Античности. В XVI в. Мартин Лютер объяснял отношение иудеев к христианской Библии и их комментарии к ней пагубным влиянием Иуды. Якобы после того как Иуда «низринулся» и его внутренности вывалились и мочевой пузырь лопнул, евреи «собрали мочу Иуды» и «смешали ее с испражнениями и ели и пили все это, чтобы у них было такое же острое зрение» (Falk 214). Согласно Лютеру, иудеи вкушали стряпню из мочи и фекалий Иуды, по-видимому, для того, чтобы избавиться от врожденного искажения зрения или развить у себя особое зрение, позволявшее им видеть то, чего не могли видеть другие. Подход Лютера наглядно демонстрирует то отвращение, которое Иуда и его возможное влияние мог вызывать и часто вызывал у читателей и слушателей Евангелий.
Не склонный к столь отталкивающей, чтобы не сказать портящей аппетит, риторике, американский ученый В.Б. Смит опубликовал в 1911 г. эссе, в котором утверждал как нечто, само собой разумеющееся, что двенадцатый апостол «воплощает собой все еврейство, весь еврейский народ» (539). А в 1942 г. высокочтимый протестантский теолог Карл Барт развил синекдоху: хлеб часто символизирует пищу, бычья голова — крупный рогатый скот, а Иуда — еврейский народ. Берт, издавший второй том своей «Церковной догматики» в Швейцарии из-за того, что его активное противостояние Гитлеру сделало его пребывание в Германии невозможным, продолжил развивать позицию Иеронима. «Иуда и весь Израиль, Иуда, а в лице него и вместе с ним все евреи как таковые, подобно Исаву, пренебрегшему благословением Бога, продали свое право первородства за чашу похлебки. И сделали они это не с закрытыми, а с открытыми глазами. Хотя, очевидно, что это были глаза слепцов» (465).
[6] В отличие от блестящих интуитивных интерпретаций Бартом иных текстовых вопросов, связанных с двенадцатым апостолом, его утверждение о том, что «Израиль всегда пытался откупиться от Яхве тридцатью сребрениками» пропитано чувством отвращения (и поэтому отталкивает) не меньше, чем суждение Лютера (464). И эта идея о том, что евреи бесчестно и по обычаю своему пытаются подкупить или дать взятку Богу, была выдвинута принципиальным противником нацистов как раз тогда, когда обсуждалось принятие «окончательного решения»!
В 1966 г., проведя опрос среди населения, Антиклеветническая лига при Б'най Б'рит (или Антидиффамационная лига, от от англ. «defamation» — «клевета», организация, созданная при закрытом еврейском обществе Б'най Б'рит, или «Молодой Израиль», для противодействия антисемитизму —
Прим. ред.) опубликовала исследование на тему американского антисемитизма. Попытка выявить отношение разных людей к событиям драмы Страстей Христовых принесла неожиданные и смущающие результаты. Изучив ответы, полученные на вопрос: «Когда вы думаете об Иуде, предавшем Христа, вы думаете о нем, как о..?», авторы пришли к однозначному выводу: «Восприятие Иуды как еврея никак не связано с вероисповеданием: 44% протестантов и 47% приверженцев римско-католической церкви считали, что Иуда был евреем (и только 13% и 19% из этих групп думали, что апостолы были евреями)» [Glock and Stark 49]. Логично было бы ожидать, что последняя фраза должна была звучать чуть иначе: такой-то и такой-то процент людей «думали, что
и другие апостолы были евреями». Но, похоже, даже сами исследователи оказались не способны признать апостольское служение Иуды. В 2005 г., вспоминая свое обучение в воскресной приходской школе, Джон Шелби Спонг, бывший епископ епископальной церкви Ньюарка, рассказывал: «Распознать евреев было легко. Они имели такие имена, как фарисеи, саддукеи, книжники — Каиафа, Анна и Иуда Искариот. Когда учителя рассказывали нам истории о них, они произносили эти имена с явной враждебностью»; хотя, «никто и не говорил мне, что Иуда был евреем» (194).
Вплоть до нынешних времен и невзирая на поразительно единодушное уверение ученых и теологов в обратном, некоторые люди продолжают верить в то, будто бы Иуда был иудеем, а Иисус и его одиннадцать других учеников — христианами. Типичное мнение о «еврействе» Иуды выражают слова современного историка культуры: согласно Джереми Коэну, «само имя Иуда, или Иудея, (“Yehudah” на древнееврейском языке) означает весь еврейский народ на языке Священного писания, а также в сочинениях более позднего времени. Иуда, это олицетворение зла и предательства, живет в любом и каждом из евреев» (259). С уходом Иуды с Тайной Вечери, утверждает Джордж Штайнер в типичной для него категоричной манере, «не только те тридцать сребреников, но самая демоническая сущность денег… прилипнет к Еврею, как проказа» (417).
[7]
Вопрос — как выглядел Иуда? — способен навеять в воображении целый сонм антисемитских портретных стереотипов. В самых ранних сочинениях вы не найдете описания ни черт лица Иуды, ни его физических характеристик. Однако двенадцатого апостола часто изображают с крючковатым носом, слепыми глазами или в профиль с одним хитрым и злобным глазом, рыжеватыми волосами, морщинистой или покрытой бородавками кожей и злорадно ухмыляющимся ртом. Образ Иуды, использованный христианами против иудеев, пожалуй, наиболее ярко графически воплотил австралийский художник-экспрессионист Альберт Такер, чей сатирический портрет Иуды (1955) запечатлел абсолютную, все подавляющую порочность. Изображенный в коричневых тонах, низкорослый и толстый, сидящий на корточках, неестественно напряженный, с отвислым задом, так что ягодицы его почти касаются земли, Иуда Такера способен навеять зрителю лишь ассоциацию с дельцом, замаравшим себя грязными деньгами, или напомнить об омерзительном конце Иуды, когда его внутренности вывались наружу. Рыжеватые волосы, которыми художники наделяли Иуду в истории живописи, намекают на сатанинскую греховность и кровавые муки.
Как будто бы согбенный под гнетом своего прошлого, слепой Иуда Такера лишен глаз и вовсе зрения, но запечатлен с темными губами, желтоватым цветом лица и крупным носом — всеми теми чертами, которые стереотипное сознание обычно приписывает образу еврея, а также с нахмуренными, напряженно сдвинутыми бровями, сближающими его с заклейменным позором Каином. Толстые ступни словно врастают в землю под грузностью земного, но едва ли человеческого существа. И что бы ни свисало под его туникой между раздвинутыми коленями — концы оборванной веревки висельника, вялые гениталии, хвост, кишки или экскременты — эти две выпуклости выглядят столь же неприятно и пугающе, как и Искуситель, представший Еве в облике змея. Иуда здесь кажется старым, как если бы он растерял годы, состарившись вместе с более ранними полотнами.
Своими алчными устами Иуда изрыгает не переваренное желудком содержимое — всего пять из тридцати сребреников, которые он заработал вероломством и предательством.
Эти деньги настолько тошнотворны, что их готово извергнуть с рвотой или испражнениями даже такое омерзительное хранилище, как тело Иуды. Крепко сжимая локти руками, Иуда исторгает монеты, в то время как к его разверзнутому рту тянется один из его экскреторных органов, который он, как сатанинский змей свой хвост, готов всосать или заглотнуть, если только тот не заткнет ему рот, словно кляп, или не задушит его. Наглотавшийся монет, а теперь вынужденный рыгать из-за несварения, Иуда, выплевывая монеты, застыл в неподвижной, скованной позе, словно подвергаемый пыткам колодник, на фоне многозначительного желтоватого неба. Художники эпохи Ренессанса часто выбирали для одежды Иуды желтый цвет, отличавший евреев как в Средние века, так и в нацистской Германии, символизировавший жадность до золота, а также его завистливость, малодушие и бесчестность (связано с немецким выражением «gelb vor Neid» — «желтый от зависти»). Иуда с головы до пят кажется бессердечным и бездушным, как открытая запылившаяся книга. В главном грешнике нет ничего привлекательного.
[8]
Разрушает или закрепляет портрет Такера антисемитский стереотип? Если интерпретировать эту картину как сатирическую (отчасти в силу ее гиперболичности), то я склонна думать, что ее автор осуждает созданный им карикатурный образ; однако переменчивость изображения оставляет широкий простор для его толкования при каждом новом взгляде на него зрителей в зависимости от их индивидуального восприятия. Не удивительно, что следствием бесчестной, низкой пропаганды, эксплуатирующей образ Иуды, стало противоречивое отношение как христиан, так и иудеев к трактовке его образа в западной культуре. Именно такие отталкивающие образы Иуды, как образ, созданный Такером, как нельзя лучше объясняют, почему отождествление Иуды с евреями побуждало одних к поношению евреев, а у других вызывало совершенно справедливый гнев по поводу этого поношения — ведь это двойственное отношение к евреям питалось различными толкованиями Драмы Страстей Господних. И все же рыгающий, приземистый и косоглазый Фейгин (персонаж «Оливера Твиста» —
прим. пер.) Такера воплощает лишь одну грань — пусть и самую отвратительную — многогранного характера Иуды.
Еще до Холокоста, а в особенности после того, как он убедил многих американцев в катастрофических последствиях антисемитизма, образ Иуды в массовой культуре становился все более привлекательным. Достаточно сравнить вызывающего отвращение Иуду в немой кинодраме Сесиля Блаунта Де Милля «Царь царей» (1927) и Иуду-героя в блокбастере-римейке Николаса Рея «Царь царей» (1961). Сесиль Б. Де Милль, сам частично еврей, являет зрителю заблудшего и думающего только о себе, но внешне вполне приятного Иуду, пребывающего в тягостном раздумье над кучкой монет, предложенных ему более виновным, по версии режиссера, Каиафой.
[9] Попытавшийся объяснить поведение двенадцатого апостола политическим выбором, режиссер Николас Рей воссоздает в своей киноверсии кровавую бойню евреев, учиненную жестокими римлянами и повергшую Иуду в такой ужас, что он готов любым способом освободить Иерусалим: он предает Иисуса только затем, чтобы принудить его проявить свою мессианскую силу.
[10] Роль терзаемого страданиями, но красивого и мужественного Иуды исполняет в римейке Рип Торн. Через пару десятилетий после Второй мировой войны, в то самое время, когда в Израиле вершится суд над Адольфом Эйхманном (способствующий осознанию всего ужаса Холокоста), идеалист Иуда у Рея убеждает себя, что арестованный Иисус нанесет ответный удар убийцам-римлянам и освободит евреев из того ужасающего рабства, на которое их, как показано в фильме, обрекают гонители.
Рьяно защищающий Иуду Мартин Скорсезе в кульминации своего фильма «Последнее искушение Христа» (1988) являет зрителю праведного, готового к самопожертвованию и возвышенного в своем благородстве Иуду (в исполнении Харви Кейтеля), который, осознав, что «Бог выделил [Иисусу] испытание попроще» в Иерусалиме, вызволяет Иисуса из сатанинского плена, чтобы дать Тому возможность искупить грехи людей и спасти человечество.
[11] Иуда Скорсезе — несгибаемый, преданный и выглядящий, как шикарная модель в журнале мод, спасает сомневающегося Иисуса, равно как и всю Его великую миссию.
[12] Один из критиков, подмечая длительное драматичное взаимодействие Иисуса и Иуды, считает, что фильм выдержан в духе «голливудского кино о дружбе, о двух друзьях, помогающих друг другу в общем деле» (Humphries-Brooks, 86); другой пытается доказать, что фабулой фильма движет чувственное, гомоэротическое влечение, угадывающееся в отношениях между Иисусом и Иудой (Reinhartz, 176). По версии фильма «Последнее искушение Христа», Иуда на фоне пребывающего в смятении Иисуса предстает верным, надежным товарищем, который, несмотря на огромные сомнения, постигает и исполняет высшую волю Бога.
Сегодня мы можем сказать, что восприятие Иуды Скорсезе, как и греческим писателем, чей роман лег в основу киносценария, подкрепляет недавно обнаруженное Евангелие от Иуды, демонстрирующее гуманный подход к этому персонажу, как и два первых Евангелия в Новом Завете (пусть и в меньшей степени). Ни в одном из приведенных примеров не акцентируется еврейское происхождение Иуды в сравнении с другими персонажами Драмы Страстей Господних. Более ранние канонические и неканонические тексты редко обособляют Иуду от других одиннадцати апостолов, редко объединяют его с первосвященниками, редко подчеркивают его особую религиозную или этническую принадлежность. Не делают этого ни Рей, ни Скорсезе. Эти и прочие примеры объясняют, почему автор масштабного немецкоязычного исследования концепций об Иуде считает вполне обоснованным утверждение: «Нельзя сказать, что Иуда, в отличие от других апостолов, всеми поголовно воспринимался выразителем иудаизма, так же как нельзя утверждать, что ненависть к этому этническому меньшинству была перенесена большинством на него одного» (Dinzelbacher, 80).
[13]
Переменчивое отношение к Иуде, который иногда представлен заклятым врагом Иисуса, а иногда самым близким другом Иисуса, проясняет, почему многочисленные исследования на тему антисемитизма воздерживаются от упоминаний о влиянии двенадцатого апостола. Даже самые важные теологи и историки религий, вовлеченные сегодня в христианско-иудейские дискуссии, предпочитают не затрагивать роль Иуды.
[14] Это отчасти вызвано тем, что антисемитизм не всегда привязан к Иуде, Иуда не всегда воспринимался евреем или символом Израиля, а значит, и сходство между Иудой и евреями случайно. На различных этапах эволюции своего образа Иуда попеременно выступает то как иудей, то как христианин, а то и вовсе как персонаж без определенной религиозной принадлежности. Как такое возможно и что это значит?
В последующих главах рассматривается предположение о том, что различные интерпретации Иуды — заклятого врага-иудея, противника Иисуса или самого близкого друга Иисуса — обусловлены неотделимостью иудаизма и христианства и отражают эту неотделимость начиная с библейских времен и вплоть до поздней Античности. В период, когда евреи-христиане и евреи-нехристиане пользовались составленными на еврейском языке священными текстами, а в недрах каждой из этих групп множились разнообразные секты с различными взглядами на разные вопросы религии, отличия между общинами верующих не разделяли население так сильно, как разделяет его сегодня исповедание четко разграниченных иудаизма и христианства.
[15] Историки древности свидетельствуют, что с библейских времен и вплоть до IV в. множилось число и евреев-христиан, и евреев-нехристиан, равно как и христиан неевреев. Во всех этих группах были люди, истово отстаивавшие учение Иисуса, и те, кто не менее истово отвергал его. Многие остро полемизировали по поводу краеугольных вопросов этого учения, но лишь немногие оставались к нему равнодушными.
На невозможность в древние времена четко разграничить явление, обозначаемое термином «иудаизм», и веру, названную
«христианством», указывает Даниэль Боярин: «Иудаизм не является «матерью» христианства; они близнецы, сросшиеся в утробе» (5).
[16] Фигура Иуды как раз дает нам один из ключей к осознанию этой связи. Временами причисляемый к апостолам, временами — инструмент в руках первосвященников, Иуда воплощает неразделимость иудаизма и христианства, острые моменты их взаимосвязи или взаимное сходство, которое периодически будут отрицать, допускать и отстаивать множество мыслителей и художников более позднего времени. По моему глубокому убеждению, Иуда являет собой пример переменчивого отношения к иудео-христианству, как до того, так и после того, как различные авторитеты возвели стены ортодоксальности, разделившие христианство и иудаизм, противопоставленные друг другу.
[17] Еврей, как и Иисус, Иуда стремился превзойти своего учителя, но он также взаимодействовал и сотрудничал с храмовыми священниками, которым Иисус бросил вызов. Противоречивые сведения об Иуде, его неясное отношение к Иисусу и странное поведение, которое можно толковать неоднозначно, привлекают писателей и художников вплоть до сегодняшнего дня. Вскрыть происхождение, корни Иуды, причины его включения в сюжет драмы Страстей Господних — значит обрисовать истоки тех вероисповеданий, которые мы сегодня называем иудаизмом и христианством. Действительно, образ Иуды был активно использован в целях отделения иудаизма от формировавшегося христианства. Именно из-за использования его в качестве «орудия», средства для достижения тех или иных задач, равно как и из-за изобилия белых пятен и противоречий, пробелов и парадоксов в его евангельской «биографии», множество мыслителей и деятелей культуры беспрестанно обращали свои взоры на Иуду, предлагая свои трактовки его образа и свои версии развития драмы Страстей Господних. За 20 столетий миру был явлен целый сонм на удивление разнообразных концепций подобного характера.
Противопоставляющая нынешнее пренебрежение к Иуде или замешательство, в которое он приводит современных исследователей, и его важное прошлое, книга «Иуда: предатель или жертва» была написана не для того, чтобы развенчать или искоренить, либо, напротив, оправдать антисемитские идеологические концепции, эксплуатирующие фигуру Иуды. Моей главной целью было исследовать, что же в действительности означает гипнотическая притягательность этой фигуры в ракурсе иудейско-христианских традиций и их взаимодействия. И я надеюсь, что мне удастся показать, что «перевоплощения» Иуды Искариота отражали изменения во взаимоотношениях между иудаизмом и христианством в тот или иной период истории, а также менявшееся отношение западных европейцев к плоти, крови и деньгам; жадности, лицемерию и предательству; самоубийству и раскаянию; дружбе, гомосексуальности и проявлению божественной природы. Даже в своем самом простейшем толковании история предательства Иуды неизменно поднимает вопрос о зле. Почему люди совершают неправедные, злые поступки? Почему всеведущий и всемогущий Бог допускает, чтобы свершались аморальные преступления? И если злодейства чинятся с соизволения или даже по промыслу Бога, должны ли люди-исполнители нести за них ответственность? Могут ли они, и более того, следует ли им верить в такого Бога? Эти важные вопросы — центральные аспекты проблемы свободы воли и предопределенности, доверия и веры. Не удивительно, что к ним постоянно возвращались мыслители и деятели культуры, не только в прошлом, но и в конце XX — начале XXI вв., и не только в высоком искусстве, но и в его популярных, массовых формах.
Научных трудов об Иуде написано не много — все они предназначены для специалистов по истории христианства и все они оставляют без должного внимания ту важную роль, что отводится ему в изобразительном искусстве и в современной литературе. Самой ценной из работ является труд Кима Паффенрота «Иуда: образы пропащего ученика» (2001). Типологическому подходу этого автора я противопоставляю подход хронологический, прослеживая эволюцию образа Иуды во времени — от древности до наших дней. Свое исследование я начинаю с изучения Евангелий в порядке их составления, а затем перехожу к анализу ранних христианских мыслителей, средневековых баллад и театральных пьес-мистерий, живописи Ренессанса, поэзии XVIII-XIXbb. и, наконец, теологических концепций, художественной литературы и кинематографа XX в.
Решение Паффенрота, подрывающее религиозные устои (как и весь его труд), простое — он игнорирует хронологию и скрупулезно пересказывает множество часто банальных сочинений, способных ввести читателя в заблуждение об истинном историческом пути Иуды с библейских времен до настоящего момента.
Кроме того, я не только усматриваю в эволюции образа Иуды историю переосмысления западным миром идей предательства и доверия, свободы воли и предопределения. Я также всячески стараюсь избежать присущей другим мыслителям тенденции открыто осуждать поношение Иуды или даже оправдывать его деяния. В своей книге «Иуда Искариот и миф о еврейском зле» (1992) Хайям Маккоби придает особое значение соотнесению названия еврейского народа с именем апостола, предавшего Иисуса, и обвиняет христианский антисемитизм в создании уничижительного мифологизированного образа Иуды. Уильям Классен в книге «Иуда: предатель или друг Иисуса?» (1996) пытается смягчить суровый евангельский сценарий: Классен считает неверной трактовку греческого глагола, обозначающего деяние Иуды как «предательство» и предпочитает толковать его как акт предания, передачи Иисуса в руки первосвященников, тем самым оправдывая этот акт, как одобренный свыше. Если Маккоби осуждает поношение евреев через очернение Иуды, то Классен жалеет Иуду, руководствовавшегося, по его мнению, добрыми намерениями, но непонятого. В отличие от этих двух авторов, я не собираюсь ни чернить Иуду, ни превозносить его.
И нападки иудеев, и попытки христиан оправдаться за религиозные спекуляции на имени Иуды заслоняют как значимость его эволюции, так и сложность его переменчивого образа, перевоплощений, зависевших не только от отождествления его с той или иной религией. Ведь бывало, что двенадцатый апостол превращался и в единственного апостола-гомосексуалиста, и в африканца, а то и вовсе в духовно неустойчивого, сомневающегося ученика или даже гностика. Описывая этот длительный эволюционный путь Иуды, на котором он предстает под столь разными личинами, я привлекаю также работы некоторых современных теологов, пытающихся преодолеть противоречия традиционной морали, которые высвечивает образ Иуды. Теолог Энтони Кейн так пишет об этом: «если спасение обрекает на проклятие даже одного человека, это — несправедливость, которая подрывает самый его смысл» (156).
[18] Коль скоро Иуде, единственному из апостолов в Евангелиях, было предопределено содействовать исполнению Божьей воли — помогая состояться распятию и Воскресению — разве то осуждение или проклятие, которому он (единственный из апостолов) предается в Драме Страстей, не умаляет или не ставит под сомнение милосердие или действенную силу Бога или Сына Божьего? Во все периоды истории мыслители не оставляли попыток переосмыслить характер и роль Иуды, чтобы прояснить, разрешить или сгладить те сомнения, которые его противоречивый образ сеял и поныне продолжает сеять в сердцах мыслящих людей. Едва ли не во всех видах и жанрах искусства Иуда поднимал и поднимает вопрос о том, что следует считать злом, и о справедливости воздаяния за содеянное. Высвечивая многогранность и затрудняя решение этой дилеммы, самый печально известный ученик Иисуса упорно доказывает свою актуальность и в современном мире.
Исторический Иуда
Помимо публикаций об Иуде, включающих англоязычные исследования о нем недавнего времени, существует также множество трудов об Иисусе — только за последние несколько десятилетий написаны сотни таких книг.
[19] Евангельскую историю о жизни и гибели Иуды затмило великое множество книг, кинофильмов и телевизионных сериалов на темы рождения и распятия Иисуса — работы, которые зачастую ограничиваются только упоминанием имени Иуды, а то и вовсе умалчивают о нем. Поскольку в Новом Завете Иуде посвящено всего несколько строк, подобное невнимание к нему вполне понятно.
Кроме того, это невнимание к Иуде можно отчасти объяснить упором на историчность, которой в последнее время стараются придерживаться библеисты. Иными словами, ученые, руководствующиеся в своих изысканиях принципом строгого историзма, игнорируют, более того, вынуждены игнорировать Иуду. В 1998 г. «Франтлайн» выпустил четыре 60минутные телепрограммы под общим названием «От Иисуса к Христу», посвященные истокам христианства и включавшие интервью известных исследователей Нового Завета, подкрепленные множеством археологических свидетельств, обнаруженных на территории Израиля. Но ни разу в этих замечательных программах не было упомянуто имя Иуды. Причиной такого замалчивания явилась опять-таки историчность, заложниками которой показали себя продюсеры, не рискнувшие вступать в полемику с авторитетными исследователями, утверждающими, что в самых ранних свидетельствах о жизни и смерти Иисуса Иуда-предатель, как реальное лицо, не фигурировал. Библеисты апеллируют к так называемому «источнику Q», на который наряду с Евангелием от Марка, возможно, опирались (полностью доверяя ему) Матфей и Лука при составлении своих Евангелий («Q» -начальная буква немецкого слова «Quelle» — «источник»). Эти ученые-библеисты выдвигают предположение о том, что в источнике Q Иуда-предатель вообще не упоминался.
[20] В Талмуде, своде раввинистической литературы, формировавшемся с I по VII вв., редкость упоминаний об Иисусе «может быть сравнима с вошедшей в поговорку каплей в «ям ха-Талмуде» (“океан Талмуда”)» (Schäfer, 2) и нет никаких ссылок или намеков на апостола по имени Иуда Искариот.
[21]
Вот основной вопрос, который возникает в контексте историчности: означает ли тот факт, что Иуда «носит имя иудейского народа» то, что история о нем была измышлена как антисемитский миф. А именно такого мнения придерживается Хайам Маккоби (ix). Маккоби считает, что история о борьбе между Иисусом и «иудеями, как иудиным народом» позволила христианам полностью отделить христианство от иудаизма.
[22] Следуя Маккоби, Джон Шелби Спонг совсем недавно высказал предположение о том, что идея об Иуде возникла через несколько десятилетий после смерти Иисуса, когда ранние христиане пытались заручиться расположением и поддержкой римлян, перекладывая вину за распятие на иудейские власти. Или же предателя породила фабула повествования, нуждавшегося в сюжете о предательстве, коль скоро, согласно Фрэнку Кермоду, «есть основания полагать, что на самом деле никакого Иуды не было» (Frank Kermode, 94)?
[23] При всей кажущейся правдоподобности таких предположений не следует спешить делать однозначные выводы о том, что Иуда явился всего лишь стереотипом иудея, «плодом стратегии выживания», созданным ради получения Церковью поддержки у неевреев-язычников, или придуманным, второстепенным персонажем, включение которого в повествование было продиктовано логикой сюжета. Отсутствие Иуды или небрежение им в самых ранних источниках не может служить бесспорным доказательством того, что этот персонаж — целиком и полностью вымышленный.
Не следует также относиться к вопросу об историчности или вымышленности Иуды как к несущественному. Хотя Иуда играет второстепенную роль в Драме Страстей Господних, едва ли эта роль маловажная. Самые последние слова, сказанные Иисусом своим ученикам перед смертью, связаны с двенадцатым апостолом: «Встаньте, пойдем: вот приблизился предающий меня» (Марк 14: 42, Матфей 26:46). «Для того, чтобы мир был спасен, — поясняет один из персонажей романа Никоса Казандзакиса «Христос, распятый вновь» (1948), — Иуда необходим, более необходим, чем любой иной Апостол» (25). То же подразумевает и Карл Барт, когда говорит, что «Иуда делает то, что Сам Господь хочет, чтобы свершилось. Он, а не Пилат, является
исполнителем Нового Завета» (502). Современный автор Марио Брелих убеждает нас, что без двенадцатого апостола не существовало бы ни Евангелий, ни христианства. Учитывая те «огромные выгоды», которыми в результате для всех нас обернулись действия Иуды, «мы все являемся соучастниками этого Преступления из преступлений», — доказывает он, усматривая в этом определенный парадокс: «Единственный человек в мире и в истории, ничего не выигравший от его совершения или, точнее говоря, выигравший бы гораздо больше, не совершай он его, без сомнения, — Иуда Искариот!» (218). Среди исследователей, изучающих роль и задачи Иуды, царит даже еще большее расхождение во мнениях относительно его вымышленной или исторической природы, поступков и изречений, чем среди тех, что изучают деяния и учение Иисуса.
В последнее время ученые выработали несколько критериев для использования религиозных документов в качестве исторических источников, и ряд этих принципов может помочь в поиске реально жившего Иуды. На этом пути неизбежны свои подводные камни, но тем не менее такой подход позволяет подвести историческую основу для трактовки этого персонажа и его деяний, при том что одновременно открывает широкий простор для толкования мифического Иуды, претерпевающего в Евангелиях и более поздних сочинениях на удивление разнообразные метаморфозы. Вот эти разработанные историками критерии, с помощью которых мы можем удостовериться в законности древних свидетельств об Иуде.
Во-первых, самые ранние источники вызывают больше доверия, нежели более поздние. Во-вторых, вероятную достоверность ряда текстов подтверждают многочисленные свидетельства независимых информаторов. В-третьих, следует учитывать правдоподобность контекста в целом (при возможности исключить анахронизмы). В-четвертых, с точки зрения достоверности, наибольшую ценность представляют собой источники с наименее выраженной теологической мотивацией: противоречивые или витиеватые свидетельства (в изложении лиц нейтральных, не являющихся рьяными поборниками или проповедниками иудаизма или христианства) могут содержать интересные и достоверные факты именно в силу своей непредсказуемости или противоречивости.
[24] Библеисты склонны доверять подобным источникам при оценке исторической достоверности Евангелий — ведь все новозаветные предания были написаны на греческом языке анонимными авторами, которые не были свидетелями пересказываемых им событий и которые создавали свои Евангелия спустя 35-65 лет после того, как они случились. Учитывая это, большинство исследователей опираются на ныне принятую хронологизацию четырех Евангелий, отводя первенство в написании Марку. Если Иисус умер около 30 г. н.э. и если Евангелие от Марка было написано в середине 60-х гг. или в начале 70-х гг., в чем сходятся большинство ученых, то оно предваряет Евангелия от Матфея и Луки, созданные в 80-е гг., и Евангелие от Иоанна 90-х гг.
[25] Добавления, привнесенные авторами всех последующих Евангелий, выявляют их единодушие или разногласия по тем или иным вопросам.
Прежде чем обратиться в следующей главе к Марку и его последователям, чтобы оценить, насколько кардинально изменился характер Иуды под пером новозаветных авторов, вернемся к самому раннему источнику, цитируемому в начале этой книги — Первому Посланию к Коринфянам. Поскольку Павел не упоминал вовсе имени Иуды, возникает вопрос — а знал ли Павел вообще ученика с таким именем: «Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб и возблагодарив преломил…» (11:23—24, выделено автором). Еще в большее замешательство повергает другой вопрос, поднимаемый рядом ученых, — а описывает ли Павел именно акт предательства? Поскольку «“
paradidomi” не переводится, как “предать, выдать”, в иных текстах, кроме связанных с традицией Иуды», отдельные исследователи Библии полагают, что Павел просто свидетельствует о том, что происходило «в ночь, на которую [Иисус] предан был» (Saari 22, выделено автором), и употребляет страдательный залог.
[26] Иными словами, возможно, Павел описывает ночь, в которую Иисус был предан на смерть Богом, который, как бы там ни было, «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас»
[27].
Во всем Новом Завете апостолы
передают добрые вести, и Бог
предает грешников смерти без надежды на воскрешение. И потому акт предания, передачи, описанный Павлом, утверждают эти исследователи, не является предательством. И нет нужды в предательстве Иуды в более поздних Евангелиях.
И все же, учитывая критерии современных историков, свидетельство Павла может помочь в доказательстве историчности Иуды, поскольку это — противоречащее традиции, неожиданное утверждение — из тех, что создают постоянные проблемы для теологов. Более того, это одно из утверждений тех многочисленных независимых свидетелей, которые, по всей вероятности, руководствовались в своих заявлениях отнюдь не религиозными мотивами.
В самых ранних документах, включенных в Новый Завет, Павел утверждает, что воскресшего Иисуса видели все двенадцать апостолов: Павел свидетельствует об Иисусе, «что Он погребен был и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом
Двенацати» (1-е Коринфянам 15:4—5, выделено автором). Авторы Евангелий упоминают об одиннадцати либо вообще не называют числа апостолов, видевших воскресшего Иисуса. В то же время Евангелия от Матфея и Луки содержат изречения самого Иисуса, сказавшего двенадцати ученикам: «в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славе Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Матф. 19:28; в Евангелии от Луки читаем: «Да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Лука 22:30). По мнению библейского историка Барта Д. Эрмана, «Это явно не традиция, созданная христианином позднее, после смерти Иисуса, — после того, как один из этих двенадцати отверг Его путь и предал Его, когда никто и помыслить не мог, что Иуда Искариот может быть посажен на престол Славы как правитель в Царстве Божьем. Таким образом, это высказывание, вероятно, принадлежит Иисусу и указывает на то, что у Него было двенадцать приближенных учеников, которым он предсказал, что они будут править в грядущем Царстве» (Jesus, 186).
[28] Следует также подчеркнуть, что у некоторых евангелистов мы находим упоминания о том или ином апостоле, которого не называют другие; при этом Иуда фигурирует во всех четырех Евангелиях.
Более того, свидетельства, согласующиеся со словами Павла или Матфея, как, впрочем, и Луки, заметно множатся после того периода, в который писал Иоанн. С течением времени Евангелий в Древнем мире становилось все больше, и до того, как некоторые из них (а не другие) были признаны в IV в. каноническими, лидеры различных общин продолжали записывать притчи, в которые облекал Иисус наставления Своим последователям. Например, в заключительной части фрагментарного неканонического Евангелия от Петра, обнаруженного в 1886 г. и имевшего хождение около 175 г. н.э., автор рассказывает о том, как после распятия, в последний день вкушания пресного хлеба, «Мы,
двенадцать учеников Бога, постились и сидели, горюя и плача» (Cartlidge and Dungan, 79, выделено автором). Точно так же, в начале коптской «тайной книги» конца II в., названной «Апокрифом Иакова», Иисус возвращается через много дней после воскрешения из мертвых, чтобы наставить тех, кого объединила скорбь по нему:
«двенадцать учеников все сидели вместе и повторяли то, что Спаситель сказал каждому из них, тайно ли, открыто ли, и занесли это в книги» (Cartlidge and Dungan, 111, выделено автором). Как и остальные одиннадцать, Иуда — и мы это увидим в третьей главе — появляется в целом ряде текстов, не включенных в христианскую Библию, но широко распространенных в древности.
Иными словами, при сопоставлении ряда критериев исторической достоверности, представляется очевидным, что Иисус выбрал двенадцать учеников, по-видимому, для воплощения двенадцати племен Израиля. Конечно, число «двенадцать» ассоциируется в сознании многих с числом месяцев в году, знаков зодиака или половиной часов в сутки, в силу чего напрашивается мысль о его заданности, предопределенности. Но авторы всех трех Синоптических Евангелий (Марк, Матфей, Лука) и Иоанн включают Иуду в это число. Даже его имя сигнализирует о вероятном правдоподобии. Греческая форма библейского «Иегуды», или «Яуды», имя «Иуда» было очень распространенным у иудеев: достаточно вспомнить о героическом Иуде Маккавее и нескольких второстепенных персонажах с именем «Иуда» в иудейской и христианской Библии.
[29] Вопреки толкованию св. Иеронима, «Искариот» может происходить от «sicarii» (слова, которым называли убийц-ассасинов), группы жестоких иудейских патриотов, о которых известно, что они прятали свои кинжалы под одеждой, предательски вонзали их в спины своих жертв в толпе и растворялись в ней, избегая разоблачения. В Католической энциклопедии слово «Искариот» толкуется, как «человек из Кериота», города в Иудее, а все апостолы причисляются к Галилеянам. Впрочем, подобное мнение разделяют далеко не все ученые.
[30]
Как видим, Иуда Искариот, ученик Иисуса, пожалуй, заслуживает доверия как исторический персонаж. И даже несмотря на то, что его акт предательства может вызывать сомнения, по тем же критериям исторической достоверности он также имеет под собой основания.
[31] Поскольку все три автора Синоптических Евангелий и Иоанн свидетельствуют, что предательство было подстроено Иудой.
Правда, когда в Евангелии от Петра мы читаем о том, как двенадцать учеников Бога «сидели, горюя и плача», создается впечатление, будто двенадцатый апостол не связывается автором с предательством. Не согласуется с версией о предательстве Иуды и «Апокриф Иакова» с его утверждением о том, что после смерти Иисуса все двенадцать учеников записывали в свои книги свидетельства о Его служении. И все же Эрман кажется очень убедительным, когда отстаивает свое предположение о том, что вероломство Иуды «почти настолько же исторически достоверно, как и все прочее в традиции» (216), приводя в пользу своей версии два весомых аргумента. Во-первых, подтверждений предательству много (в свидетельствах Марка, Иоанна и в «Деяниях»), а во-вторых, оно порождает проблему, едва ли приветствуемую теологами: мотив предательства сопряжен с пока еще неразрешенной загадкой — почему Иисус выбрал в апостолы человека, способного свершить подобное? Веками мыслители и деятели культуры пытались найти ответ на этот вопрос, но их версии только еще больше все усложняли. Если Иисус не сумел разглядеть предателя в Иуде, то насколько мудр Он был при выборе своих приближенных учеников? Если же Он постиг характер Иуды — возможно ли допустить, что Иисус обрек Своего любимого ученика на проклятие и сделал это ради того, чтобы восславиться Самому (пусть и через страдание)? Добрую историю делают необъяснимые и непредсказуемые события — так, быть может, полагали древние мудрецы, и потому мы можем сделать вывод, что предательство Иуды, вероятно, имело место быть.
Ключевое слово здесь — «вероятно». Замечания Гарольда Блума — что «Биография Иисуса — всегда оксиморон» (11) и что мы должны «признать, как безнадежно мало мы в действительности знаем об Иисусе» (Bloom, 22) — в равной степени справедливы и для Иуды.
[32] Возможно, мое «вероятно» продиктовано моим желанием, как биографа, воссоздать четкую, недвусмысленную, картину жизни своего персонажа. Хотя более подходящим словом, пожалуй, было бы «возможно». Многие современные исследователи сходятся во мнении, что евангельская история об аресте Иисуса, суде и распятии восходит к самому раннему периоду христианства. Некоторые, ссылаясь на два независимых источника (этиологические предания, анализируемые в следующей главе), связывают Иуду с полем красной глины, принадлежавшим иерусалимскому горшечнику и названным Землей крови.
[33]Много это или мало, но только историческую вероятность или возможность самого существования Иуды в древней Иудее и факта его предательства мы можем констатировать на основании зачастую противоречащих друг другу рассказов Марка, Матфея, Луки и Иоанна об изменнике в Писании. Как справедливо подметил историк-библеист Э. Р. Сандерс, «В Евангелиях вообще ничего не говорится об устремлениях и целях Иуды» (Sanders, 74).
Почему Иуда выдал? Но и какую именно информацию он выдал? Читатели Евангелий могут только гадать. Греческий глагол, которым описывается в библейских переводах поступок Иуды — «paradidonai» — и который Раймонд Э. Браун склонен переводить как «передавать, вручать» (Brown, 1399), возможно, и таит в себе ключ к постижению того, что же произошло в реальности: Иуда прибыл на Масличную гору с теми, кому было поручено арестовать Иисуса, показал им, где Его найти, и указал на Иисуса, отделив Его от остальных.
[34] Подытоживая вышесказанное словами другого ученого авторитета, Джона П. Мейера, мы должны признать, что «нам известны только два основных факта [об Иуде]: (1) Иисус выбрал его одним из Двенадцати Своих учеников, и (2) он выдал Иисуса иерусалимским властям, тем самым приблизив казнь Иисуса» (Meier, 208).
Эти «два несовместимых факта», подобно «кресалу и кремнию», «с той поры разжигают христианскую фантазию» (Meier, 208). Откуда явился Иуда, когда он встретился с другими учениками, почему он сначала решил последовать, а затем предать Иисуса, какие именно сведения он выдал и кому именно, как погиб он и где нашел свою погибель: эти вопросы остаются сокрыты завесой тайны. Слишком скудны источники, в которых историки Древнего мира могут почерпнуть хоть какую-нибудь информацию об Иуде (не считая Нового Завета).
[35] И в самом деле, если принимать в расчет источники, независимые от новозаветных преданий, — об Иуде нет ни одного! Не удивительно, что почтенные ученые продолжают не верить в его историческую реальность. И конечно же, противоречивые евангельские портреты были созданы не для того, чтобы воспроизвести объективную картину, а для того, чтобы облечь историю в форму, удобную для толкования учения и вдохновления верующих. Но именно пробелы в нашем знании о реальном Иуде и искры, высекаемые «кресалом и кремнием» из его истории, будоражат и побуждают творческих людей вновь и вновь вглядываться в его черты.
Вымышленный Иуда
Поскольку исторический подход проливает слишком слабый свет на Иуду, основное внимание в данном исследовании уделяется трансформации Иуды, как вымышленного персонажа. Злодей в фольклоре, Иуда в ходе своей эволюции отражает менявшиеся в западной культуре представления о зле, заслуживающем наказания, подлежащем наказанию и наказываемом. Во всем Средиземноморье, в Испании, Центральной Европе, Мексике и Южной Америке вплоть до XX в. на Пасху фигурки Иуды, сделанные из дерева или папье-маше, выставляли на всеобщее обозрение, проклинали, искалывали иглами, пороли, вешали или сжигали. Эти обряды, очень популярные в народе, приносили, по поверьям, благосостояние и богатство.
[36] Барана, козла или быка, ведущего других овец, коз или коров на убой, перепела для приманки других перепелов некоторые народы называют «иудиными животными». Слепой и сидящий в клетке «иудин перепел» горестно стенает, привлекая тем самым других птиц, которые, откликнувшись на его жалостливые призывы, оказываются в ловушке охотников.
Огромные или крошечные, «иудины формы жизни» уничтожают свои собственные виды. Когда недавно 90-килограммовые, 6-метровые питоны в Национальном парке Эверглейдса (США) начали угрожать своему виду и им подобным, ученые вживили радиопередатчики в тела самок и обнаружили, что эти «иудины змеи» приманивали искавших себе пару для скрещивания самцов и затем убивали их. «Иудиным червем» некоторые народы называют и гораздо меньшего по величине шелковичного червя, который, угодив в ловушку, погибает, свисая с дерева без своего кокона (Gillet, 326). В фантастическом романе Джеймса Роллинса «Печать Иуды» (2007) описывается микроскопический вирус «Иуда» или «Иудин штамм», который «обращает друга во врага», предавая и угрожая уничтожением жизни: «Этот организм обладает способностью перемещаться в биосфере планеты и превращать все бактерии в смертоносные, уничтожающие все живое организмы» (123). В реальном человеческом мире Иуда также символизирует саморазрушение и вероломство. «Опиум — этот Иуда наркотиков, целует, а затем предает» наркоманов мукам физической и духовной агонии, во время которой несчастные испытывают «неодолимые позывы к суициду» — такие обличительные слова поместил Уильям Россер Кобб на титульном листе своей книги «Доктор Иуда: описание свойств опиума», изданной в 1895 г. «Иудиным глазом» в некоторых языках называется «волчок» — небольшое отверстие в двери тюремной камеры, через которое надзиратели подсматривают за заключенными. Позорным прозвищем «Иуда» клеймили на протяжении веков и продолжают клеймить и поныне нечестных государственных деятелей, уличенных в интригах, шпионаже или заговорах против своего собственного народа. Такие политики способны на компромиссы, как и под стать Иуде, предавая родину врагам и тем самым санкционируя ее разрушение.
Поскольку Иуда стал со временем олицетворением уникальной несправедливости по отношению к евреям, он нередко воспринимался и как образ, воплощавший собой историю антисемитизма. И в самом деле, его эволюция — и мы увидим это в дальнейшем — служит своего рода барометром, отображающим менявшееся отношение к евреям и иудаизму. Правда, в определенные моменты Иуда Искариот вдруг переставал «быть» иудеем и даже, наоборот, противопоставлялся евреям (обычно в ущерб им). И все же именно его можно назвать «первым кандидатом» на роль «музы» Холокоста — во многом из-за того, что его предательское соучастие в убийстве Бога было использовано для оправдания геноцида.
[37]
В сцене из фильма Клода Ланцманна «Шоа» («Холокост») (1986) собравшиеся перед католической церковью поляки пытаются оправдать свое непротивление убийству евреев из их общины. Избравшие позицию «мое дело — сторона», они оправдывают устраивавшиеся нацистами облавы и расстрел своих соседей-евреев воздаянием, предсказанным в Евангелии от Матфея. Тем самым они списывают истребление шести миллионов в ходе «окончательного решения» еврейского вопроса на справедливое возмездие Бога евреям за то, что они обрекли невинного Христа на смерть, полностью сознавая, что будет кровь Его на них и на детях их (27:25).
[38] В Евангелии от Матфея предательский сговор Иуды с безнравственными иудеями успешно реализуется именно потому, что их готовность к совершению злых поступков оказывается сильнее угрызений совести, которые терзают Пилата, вынесшего приговор о распятии Иисуса. С 1860 по 1990 гг. актеры баварского городка Обераммерган каждые десять лет разыгрывают театрализованную мистерию «Страстей Господних», в которой Иуда признает совершенное им зло: «куда податься мне, чтобы сокрыть стыд мой, чтобы спрятаться от угрызений совести!» — восклицает он, призывая смерть: «О, Земля, разверзнись и поглоти меня! Невыносимо мне больше жить» (196).
[39] Таким образом, Аушвиц вполне может быть истолкован антисемитами как заветный конец, смерть, которую так истово призывал покаявшийся грешник и которую, по их мнению, явно заслужили нечестивые соучастники его преступления, равно как и их потомки. В контексте обвинения Иуды в убийстве Иисуса, а с ним и иудеев, как соучастников тайного сговора, напрашивается вопрос: насколько велика была роль Иуды в геноциде евреев в XX в. — действительно ли его поступок предопределил Холокост, или Иуда оказался всего лишь удобной фигурой для его оправдания? Поскольку образ Иуды имел такое большое значение в антисемитской идеологии, эволюция его образа позволяет глубже постичь сущность и причины нацистского геноцида, не укладывающегося в сознание нормального человека, как и само «окончательное решение» нацистов. Любопытно, но в XIX в. многие немецкие мыслители видели в Иуде, прежде всего, еврея-патриота, восстающего против римского гнета. Именно такой образ Иуды привлек Томаса де Куинси, затронувшего вопрос о потребности Христа в предателе: по мнению Де Куинси, Иуда «полагал, что служит исполнению самых сокровенных целей Христа», но «учитывая все, что случилось потом в мире, едва ли Искариот был прав» (181). В последующих главах я постараюсь показать, что вовсе не Иуда вызвал Холокост, также его фигура не способствовала его оправданию ни прямо, ни косвенно. Во-первых, потому, что откровенно антисемитские образы «еврея-христопродавца» Иуды периодически рождались и рождаются едва ли не повсеместно в Европе и Америке, а не только в Германии; во-вторых, потому, что антисемитские риторы, обличавшие евреев, как убийц Христа, далеко не всегда вспоминали про Иуду даже в древности; и, в-третьих, потому, что после эпохи Просвещения образ Иуды часто трактовался — по причине и без видимой на то причины — как образ романтического повстанца.
[40]
В книге «Иуда: предатель или жертва?» периоды истории культуры соотносятся с этапами непрерывной, но постоянно менявшейся (пусть и на удивление долгой) «жизни Иуды после смерти». По мере развития сюжета мы увидим, как загадочный одиночка переживает в древности и раннем Средневековье суровую юность всеми отверженного и немилосердно хулимого изгоя, а затем неожиданно, в позднем Средневековье и эпоху Ренессанса, вступает в период своего возмужания и нравственной зрелости. В предисловии к своему замечательному стихотворному сборнику «Книга Иуды» (1992) Брендан Кеннелли справедливо подметил: «Научившись ненависти, трудно разучиться ненавидеть» (9). И все же, в XVIII и XIX вв., Иуда обретает политическую, нравственную и эротическую силу, превращаясь в… героя, пусть даже противоречивого и мучимого сомненьями. Короче говоря, за свою долгую «жизнь после смерти» двенадцатый апостол через бесчестие и немилость стяжает честь, славу и достоинство. Подобная эволюция порождает множество вопросов. Почему персонаж, причисляемый Марком и Матфеем к самым близким ученикам Иисуса, превратился в древности в демонического антихриста? Как мог подобный изгой затем перевоплотиться в любовника Иисуса, каким он предстает в эпоху Ренессанса, или в его соратника, каким он становится в глазах современников Томаса де Куинси в период романтизма? Был ли Иуде, наконец, подписан «окончательный» приговор с возвращением его гонителей в эпоху Третьего рейха? И по каким причинам защитникам Иуды так до сих пор и не удается доказать его невиновность и полностью реабилитировать его? Эти загадки и пытается разрешить книга «Иуда: предатель или жертва?».
Таким образом, мое решение облечь повествование, разворачивающееся на последующих страницах, в рамки биографии, или «истории жизни», вполне обоснованно: этот жанр позволяет воспроизвести в подробностях мифическую «карьеру» моего персонажа на протяжении многих исторических периодов в большинстве западных обществ. Мой, возможно, несколько эксцентричный подход к жанру биографии восходит к двум совершенно различным моделям. Я имею в виду произведения «Бог: биография» Дж. Майлса и «Орландо» В. Вульф. Оба они написаны на темы, далекие от моей, но оба предлагают подходящий ключ к раскрытию образа и характера центрального персонажа, изменяющегося внешне или внутренне на протяжении долгого времени. В книге Джека Майлса «Бог: биография» (1996), Господь из еврейской Библии предстает сложной и противоречивой личностью, подверженной страстям и сомнениям, обуревающим Его, когда Он взаимодействует сначала с Адамом и Евой, а позднее с Ноем, Иовом и Даниилом. В написанном ранее новаторском «Орландо» (1928) Виржинии Вульф эфемерный художник, рожденный в эпоху Ренессанса, меняет свой пол, превращаясь в знаменитую художницу современности. Оба автора безоговорочно подписываются под идеей, выраженной Вульф и вдохновляющей автора этих страниц об Иуде, согласно которой «биография считается удачной, если она раскрывает хотя бы шесть или семь граней героя, даже если у него их многие тысячи» (309).
Сочинения Майлса и Вульф различны по содержанию, но выбранная ими структура повествования позволяет проследить развитие полуреального, полумифического персонажа на протяжении исключительно длинного временного интервала. Подобный подход уместен и применительно к такому, возможно, реально существовавшему, но быстро ставшему легендарным персонажу, как Иуда, чья мифологическая жизнь растянулась на двадцать столетий. Конечно, по причине столь завидного долголетия на последующих страницах могут быть всесторонне освещены только определенные аспекты, только самые важные, имевшие резонанс события в «карьере» Иуды, только «шесть или семь граней» его характера. Но эти «шесть или семь граней» зачастую затеняют, затмевают или даже умаляют образы других персонажей, с которыми он взаимодействует, поскольку — как поясняет Джанет Малкольм — «биографы увлекаются [своим] героем, и это ослепляет [их] до того, что они не замечают никого больше» (58). Что делает биографическую модель Майлса или Вульф подходящей для жизнеописания Иуды Искариота, так это — неразрывность на протяжении всего времени его имени с актом предательства, а также отчасти исторический, отчасти вымышленный характер персонажа. Иуда прочно привязан к акту измены в новозаветном повествовании, но никто не знает его реальных корней, намерений, особенностей характера или обстоятельств гибели.
Во второй главе «Единственный в своем роде» я делаю акцент на необычности, исключительности образа этого апостола уже на самом начальном этапе его эволюции, еще в Евангелиях. Этот аспект впоследствии обыгрывали многие художники, выделявшие или противопоставлявшие Иуду его общине посредством определенных изобразительных приемов — отсутствие у Иуды, единственного из апостолов, нимба, определенное место Иуды за столом, изображение его с рыжими волосами, денежным ящиком или в желтом одеянии. Также во второй главе анализируются и противоречивость евангельских свидетельств о его мотивах, целях и гибели. В Новом Завете Иуда трансформируется из своенравного апостола у Марка в осужденного, но раскаявшегося и совершающего самоубийство грешника у Матфея. Затем из одержимого демоном вероломного изменника, вешающегося и исторгающего свои внутренности у Луки в вора, приспешника Сатаны, пособника и подстрекателя иудеев, одержимых Дьяволом, у Иоанна. Но во всех этих обличьях Иуда, разрывающийся между апостолами Иисуса и первосвященниками, олицетворяет взаимосвязь и взаимопроникновение иудаизма и христианства в древние времена. Он аллегорично показывает, когда, как и почему два персонажа, рожденные в одной вере и приверженные одной вере, начинают исповедовать разные религии, поскольку Иуда становится иудеем, а Иисус — христианином.
Библейские парадоксы, обозначенные четырьмя каноническими Евангелиями, преломляясь в христианском творческом сознании, повлекли за собой впоследствии последовательные перевоплощения Иуды — решавшие или не решавшие, опровергавшие или усугублявшие те многочисленные противоречия и несоответствия, что встречаются в Новом Завете. Выстраивая свое повествование во второй части этой книги, я исхожу как раз из того допущения, что образ Иуды неоднократно переосмысливался с древнейших времен до наших дней во многом именно из-за белых пятен и противоречий в самых ранних евангельских свидетельствах о его роли, как «орудия» свершения драмы Страстей Господних. Многие мыслители и деятели культуры, убежденные в том, что участь Иуды не соответствовала логике евангельских повествований, предлагали свои интерпретации характера и роли Иуды. Порожденные ими многочисленные «ипостаси» двенадцатого апостола и описываются во второй части данной книги. Однако, в каком бы «амплуа» не выступал Иуда в длинной чреде своих правдоподобных и неправдоподобных перевоплощений, каждый из его образов является неполным, пристрастным и не согласующимся с остальными. Во всех послебиблейских трактовках личности Иуды противоречия решались путем отрицания или замалчивания тех или иных аспектов евангельских свидетельств. И потому появление многочисленных образов Иуды, разнящихся подчас довольно сильно между собой и поведением, и характером, было неизбежно. Ради ясности я стараюсь анализировать по отдельности образы Иуды отверженного и изгоя, любовника и героя или жертвенного спасителя. Хотя своенравный Иуда время от времени яростно бунтует против такого искусственного дробления его многогранного характера.
Вторую часть открывает третья глава, «Проклятое кровосмешение», посвященная Иуде — «козлу отпущения» или изгою. С древности и до Нового времени, когда большинство людей не имели возможности сами читать Библию и устные предания активно множились, пример всячески чернимого Иуды предостерегал против бытовавшей тогда практики ростовщичества и увлечения религиозными ересями, распространением которых сопровождалось формирование обществ Средневековья и эпохи Возрождения. В начале XIV в. Данте изобразил Иуду с головой, застрявшей в огромной красной глотке Люцифера в самом центре скованного льдом ада. Инквизиторы XV и XVI вв. активно применяли «Иудин стул» для пыток обвиняемых. Несчастных сажали на пирамидальное острие, пронизывавшее и затем разрывавшее им анус, вагину или мошонку: подобные наказания считались подобающим возмездием за анальные и оральные злодеяния, приписываемые Иуде и иудеям в минувшие века. Со времен теологических рассуждений Отцов Церкви и до появления самых ранних записанных баллад, преданий и мистерий Иуда нередко предстает полукровкой с порченой, нечистой кровью, стирающей границы между человеком и животным, человеческим и дьявольским, живыми и мертвыми. Увлечение мотивом тлетворного, вредоносного влияния, заразности Иуды породило великое множество книжных иллюстраций, фресок и гравюр с
изображением окровавленных внутренностей и кишок Иуды, зубастого рта, черных демонов и насекомых, нередко ассоциировавшихся с Иудой, а также фольклорных преданий на тему зловония, осквернения христианских святынь, совершения ритуальных человеческих жертвоприношений, вампиризма и каннибализма иудеев. Но почему Иуду вдруг начали сравнивать с Эдипом? Не указывает ли это на его переход из анальной и оральной стадий развития в стадию фаллическую?
В четвертой главе «Приковывающие взгляд поцелуи» описываются мозаичные витражи, Псалтыри, гравюры на дереве и картины маслом, созданные в период с XII в. до эпохи Возрождения и представляющие антагонистов Иисуса и Иуду соратниками. Один мотив в особенности привлекает художников: предательский поцелуй. Иуда, воспринимающийся как олицетворение всеобщей человеческой греховности, обозначает новую проблему: как близко соседствуют друг с другом зло и добро, порочность и чистота. Декларируя непостижимость смысла самого акта предательства, такие мастера изобразительных искусств, как Джотто, Дюрер, Лудовико Карраччи и Караваджо, акцентируют внимание зрителя на том, насколько близки неправедность и благочестие, умерщвление плоти и торжество духа. Некоторые художники используют историю об объятии и поцелуе Иуды для того, чтобы затронуть проблемы признанных отклонений — садизма или сведения любви к голому эротизму. Тогда как другим Иисус и Иуда видятся противниками, разыгрывающими по ролям любовный или духовный союз. В четвертой главе поднимается вопрос о том, что может означать тот факт, что самый распространенный в нашей культуре образ двух обнимающихся мужчин обязан своим появлением акту предательства Иуды? Ведь, по крайней мере визуально, объятие Иисуса и Иуды могло восприниматься и воспринималось в ряде случаев как гомоэротическое, гомосексуальное.
Вопреки интуитивному восприятию, картины, запечатлевшие предательский поцелуй, отображают поступательное очеловечивание образа Иуды — сначала как терзаемого угрызениями совести, кающегося грешника, затем как ревностного сторонника учения Иисуса. Хотя интерес к Иуде, как и к различным другим библейским персонажам, в век Просвещения и после него снижается, пятая глава, названная «Тайное в зеркале современности», исследует светскую традицию интерпретации образов Иисуса и Иуды, переводящую чувственную и духовную близость, подмеченную художниками, в ракурс психологического и этического параллелизма. Авторы, вскрывающие этот параллелизм, соотносят жертвование Иисусом своей жизнью с принесением в жертву Иудой своей души. Начиная с «Иуды Искариота» Ричарда Хенгиста Хорна (1848) и до «Человека, рожденного на Царство» Дороти Сэйерс (1943), художественные произведения являют нам образы, по меньшей мере, искреннего, а по большей — героического Иуды. Именно такому Иуде, по версии Хорна, «…небом предначертано ускорить великое дело спасения и установления Царства Христова на Земле» (Ноте, 154). Под такой привлекательной личиной двенадцатый апостол воплощает, как и Прометей, бунт (выступая против жестокого владычества Рима) и идеализм (помогая своему соратнику Иисусу ускорить приближение нового века справедливости).
Объединяет преданного Иисуса и предавшего его Иуду, представляемых «соратниками в борьбе», их невиновность. Даже когда попытки моральной реабилитации Иуды терпят неудачу, он продолжает вызывать сострадание как одинокий, отверженный персонаж, жертва той жестокой роли, которую ему пришлось сыграть в истории ради искупления грехов и спасения всех людей, а также как несчастная душа, которой, непонятно почему, отказано в милосердии и прощении. Некоторые писатели и художники видят в Иуде олицетворение отчаяния, что навевает параллель со святым Иудой, находящимся в тени Иуды-предателя и считающимся в христианской традиции покровителем пропащих и безнадежно отчаявшихся. Иногда Иуда как воплощение страданий, соотносится некоторыми авторами с Иовом, прообразом страждущего искупителя мира. Это самый несчастный образ Иуды — тот, что я называю «Иудой Мрачным». Какими бы мотивами ни был движим Иуда в современных сочинениях, заканчивающихся его гибелью, — добрыми чувствами или противоречивыми инстинктами, — авторы, как правило, проявляют сочувствие к нему и время от времени используют его мрачный удел для обсуждения вопроса о справедливости Бога или даже обвинения Сына Божьего в использовании двенадцатого апостола.
Несмотря на такие согласованные усилия по оправданию Иуды, в прошлом столетии был вдруг воскрешен и средневековый образ Иуды-изгоя. Шестая глава этой книги «Смерти и воскресения в XX в.» поднимает вопрос о том, повинен ли Иуда в Холокосте. И хотя я отвечаю на этот вопрос решительным «нет», сомневаться в том, что оживила Иуду-изгоя именно инспирированная нацистами пропаганда, не приходится. Некоторые историки считают также, что нацистские клирики даже вышли за рамки отождествления Иуды с евреями, когда читали свои проповеди о «нееврейском, арийском Христе». Многие известные религиозные мыслители продолжили рьяно обвинять Иуду и евреев в том, что они распяли Иисуса на кресте. Из-за чего после войны авторитетные лидеры христианства были вынуждены защищаться от обвинений христиан как в неверном толковании Писания, так и в причастности к разжиганию антисемитизма. Впрочем, все эти события представляются вполне предсказуемыми. Более странен другой, совершенно неожиданный поворот в истории Иуды, позволивший мне вынести на обсуждение два необычных и обычно игнорируемых феномена в поздней «иконографии» двенадцатого апостола. Рожденный в Евангелиях еврей Иуда, изгой, был приговорен нацистами к смерти в Аушвице, а после Аушвица их послевоенными противниками-христианами, но вести о его кончине были сильно преувеличены.
Суровые попытки убить Иуду-изгоя сопровождались новыми перевоплощениями двенадцатого апостола под личинами более эффектными и противоречивыми, нежели все его прежние маски. В главе шестой описан удивительный феномен конца XX в.: провозглашение Иуды сначала спасителем человечества, а затем всемогущим божеством, масштабной аллегорией проклятого и обреченного положения человечества в мире, в котором мог случиться Холокост. Вселенский Иуда, который не более и не менее еврей, чем Иисус, продолжает жить и здравствовать — этакая мощная символическая фигура. Описываемый мной в последней части шестой главы Иуда божественный воплощает непрочную действенность искупительной жертвы Иисуса и ее последствия: скорбное разочарование, болезненное отчуждение и растление не спасенного человечества. Современные писатели размышляют над приговором Мирчи Элиаде, вынесенным им из философии Ницше: «как историческое существо, человек убил Бога и после этого «богоубийства» обрек себя жить исключительно в истории» (48).
Поскольку образу Иисуса я уделяю в своей истории долгой «культурной жизни» Иуды меньше внимания и опираюсь в своем исследовании преимущественно на работы христианских художников, я решила затронуть в последней главе книги еще две темы: как воспринимают Иуду иудеи — что обсуждается крайне редко, — и как менялась природа Самого Иисуса на протяжении двух тысячелетий в зависимости от изменения отношения к Иуде, с которым Он неразрывно связан. Несмотря на то что на протяжении двадцати столетий Иуда представал в самых разных обличьях, прочнее всего в сознании людей всех вероисповеданий за ним закрепился все же образ предателя. Рассуждением о том, почему так случилось, я заканчиваю свою книгу. Во многом и к моему собственному удивлению, поскольку мой проект был мотивирован в большей степени любопытством, я прихожу к выводу, что Иуда и сегодня остается одним из самых значимых библейских персонажей в силу тех сложных психологических и этических дилемм, которыми он постоянно будоражит сознание человечества.
Подобное расследование убийства — божества ли, человека ли — требует изучения массы научных трудов по религиозной тематике, которое буквально поглотило меня, и охвата устрашающе огромного временного пласта и географического материала. Чтобы осветить длинную дорогу жизни Иуды, мне пришлось поступиться традиционной хронологией и рассматривать периоды древности, Античности и Средневековья как единый культурный срез до Нового времени, а также объединить XVII и XVIII вв., как если бы они были таким же монолитным явлением, как эпоха Просвещения. Вопиюще неточная периодизация, вкупе с такой же «свободной» группировкой художников разных языковых, геополитических и религиозных ареалов, были допущены мною с единственной целью — отобразить весь путь эволюции образа Иуды. Анализируя отдельные литературные или живописные произведения, я в скобках указываю даты их создания, а также место их происхождения (например, Ирландия или Гватемала). А вот от пространных описаний национальных традиций и обычаев, связанных с Иудой, равно как и различий в толковании Драмы Страстей Господних приверженцев англиканской, лютеранской и православной церквей, я отказалась. Хотя будущие исследования об Иуде обязательно отобразят ту уникальную роль, что он сыграл в разных странах и религиозных обществах.
Временами, для того чтобы не разрывать логической нити повествования об эволюции образа Иуды, мне приходилось пренебрегать формальной сложностью отдельной поэмы или романа, поступаясь анализом их жанровых и стилевых особенностей. В своей работе я опиралась на уже имеющиеся труды и сочинения, в том числе переводные (древнегреческие, коптские, древнегерманские, французские и итальянские), ограничив собственные исследования, если под этим словом понимать открытие новых артефактов и фактов. Поэтому моих личных выводов на страницах этой книги не так уж много: в определенной степени я завишу от ученых, занимающихся изысканиями в этих областях. Однако я обильно снабжаю текст подстрочными примечаниями специалистов в различных областях, радея о тех читателей, кто захочет полистать академические издания или цитируемые источники.
Новаторство этой книги, как мне думается, в том, что это первое и единственное жизнеописание одного из самых жизнеспособных персонажей в истории западной цивилизации, «формирование» которого было прервано или приостановлено в середине XX в. С этой «задержкой в развитии» моего героя связаны два вопроса. Первый: были ли образы возмужавшего и героического Иуды умалены или искажены (и до какой степени), для того чтобы принять или содействовать принятию «окончательного решения» по еврейскому вопросу? Если были, то почему так трудно установить, насколько предопределено было Иуде вновь выйти на историческую сцену в своем самом демоническом обличье? И другой вопрос: повлиял ли, в свою очередь, Холокост на восприятие современного Иуды, отражающее озабоченность людей разных религиозных сообществ тем, что они живут в мире, не искупившем своей вины и, возможно, лишившемся права на спасение?
Кратко подытоживая все выше сказанное, можно сделать следующий вывод: ни в один из исторических периодов Иуда не выступал всего лишь в одном своем амплуа (отверженного, изгоя, любовника, героя, спасителя). Он всегда оставался многоликим. Его различные образы сосуществовали, хотя и оказывали разное влияние. Если в один период, например до Нового времени, ведущей ролью Иуды была роль изгоя, то другие образы Иуды — любовник, герой, спаситель — не исчезали полностью, они лишь отодвигались на задний план или частично заслонялись. Однако это означает также и то, что в тот период, когда Иуда представал преимущественно в демоническом обличье, он не переставал выступать и в образе защитника Иисуса. Эволюционный путь образа Иуды, этого «трудного ребенка христианства», никогда не был прямолинейным. Особенно показателен XX в., породивший даже крамольные концепции Иуды, способные шокировать читателей этой книги. Лишь немногие авторы обращаются к теме Иуды для критики бессовестной эксплуатации образов Сына Божьего и Бога в некоторых светских обществах, пытающихся использовать христианское учение в абсолютно нехристианских или даже противных христианству целях. И все же, как подметил Серен Кьеркегор, «Постичь состояние христианства в тот или иной век можно только проследив, как оно трактует Иуду» (Journals, 512).
Вездесущий Иуда
Многообразие личин было присуще Иуде во все века. Не удивительно, что изображения некоторых мозаик, картин и кадров из фильмов перечеркивают традиционное представление о нем, неопровержимо доказывая, что траектория исторической эволюции образа Иуды не была простой и прямолинейной. Хорошим примером тому служит «Тайная Вечеря» Даниэле Креспи (1624—1625). На этой картине запечатлен Иуда, погруженный в себя, предающийся глубочайшему раздумью, — полная противоположность тому изгою, каким его представил в своей сатире 1955 г. Альберт Такер. Внутреннее состояние Иуды с полотна Креспи явно перекликается с переживаниями Иисуса. Все другие апостолы как будто бы шумно спорят, ссорятся и словно не могут усидеть на месте. А может быть, они просто выпили? Забывшись, одиннадцать апостолов сплетничают или выдают друг другу доверенные им тайны, тогда как Иисус, придерживая любимого ученика, который так часто спит за столом, выглядит отрешенным, печальным и покорным судьбе. Безучастным к застолью остается и Иуда, как будто бы он мысленно уже переживает грядущую драму, участником которой (и он это осознает!) ему предстоит стать. Он явно моложе Иуды Такера; ему около тридцати — почти ровесник своему учителю.
Иуда у Креспи посажен так, как будто художник хотел максимально приблизить его к зрителю. Он не размахивает ножом, как апостол по правую руку от него, не норовит украсть рыбу со стола или вонзить свои зубы в гостию, как на картинах, описываемых в последующих главах. Он не развернут в профиль, словно двуликий обманщик, и рядом с ним не изображены ни дракон, ни птица — традиционные «спутники» Иуды в композициях других художников. Иисус и Иуда оба облачены в красносерые одежды и явно связаны друг с другом; на их единение художник намекает, разместив обе фигуры по одной линии с окном, сквозь которое на них изливаются лучи света, и стягом, который держат херувимы. Объединенные незримой связью, Иисус и Иуда отделены от всех остальных, что подчеркивается отчасти тем спокойствием и молчанием, в котором они пребывают, отчасти тем, что сидят они, волею художника, по оба края овального стола.
Отрешенный взгляд Иисуса устремлен в пространство, тогда как Иуда словно бы пытается выглянуть за полотно, всматриваясь если не в зрителя, то во что-то рядом с ним или позади него. Как будто он пытается успокоить свою совесть и вовлечь в действо зрителей, которые понимают, что вот сейчас, встав из-за стола, он непременно пойдет к первосвященникам в храме. Изображенный, в отличие от других апостолов, в фас, вглядывающийся в зрителей, Иуда явно старается сделать нас своими сообщниками. Его очевидная растерянность подчеркивается противоречивыми действиями рук: правая рука Иуды, как и руки других апостолов за столом, держит кусок хлеба, тогда как его левая рука, хоть и с открытой ладонью, но украдкой тянется вниз, как если бы он хотел при удобном случае бросить часть присвоенных им денег. Над всеми присутствующими развернут горизонтальный стяг, надпись на котором гласит: «Хлеб Ангельский яде человек». Это латинское изречение, фразу из Римского требника — «panem angelorum manducavit homo» — ежедневно повторяли монахи и священники. Как и в Псалме 78, где «Смертные вкусили хлеба ангелов» до того, как «гнев Божий обрушился на них» (25, 31), Иуда с полотна Креспи получает то, чего он страстно желает, до своей гибели. Благодаря этой надписи создается впечатление, будто на Тайной Вечере Иуда
вместе со всеми остальными апостолами вкусил предложенный Иисусом дар в виде хлеба и вина — Его тела и крови, что согласуется со свидетельствами Марка, Матфея и Луки. Однако кусочки хлеба позади двенадцатого апостола напоминают зрителям о сообщении Иоанна, утверждавшего обратное: будто Иуда один съел кусок хлеба с вином, что и привело к его дьявольской одержимости. Таким образом, картина Креспи наводит на размышления не только о явно трудном для Иуды выборе — отсюда и его отчужденность от происходящего, и растерянность, и возможные угрызения совести, — но и обо всей его неясной истории.
История изобразительного искусства являет нам немало примеров восприятия Иуды, не соответствовавшего господствовавшей в тот или иной период времени идеологии, которая утверждалась богословами и писателями. Именно поэтому, равно как и потому что путь Иуды от бесчестия к славе был приостановлен во время Холокоста, в своей книге «Иуда: предатель или жертва?» я, в конечном итоге, поднимаю вопросы о прогрессе человечества и о том, можно ли считать западную культуру представляющей логическое целое во все времена, либо ее следует рассматривать в поступательном развитии. Особенно это касается способности к этнической и религиозной терпимости. Важность этого вопроса не вызывает сомнений, учитывая рост мотивированного верой насилия, наблюдаемый на всем земном шаре в последние пятьдесят лет. Сегодня на фоне периодически возобновляемых военных действий между мусульманами и иудеями на Ближнем Востоке кажется своего рода иронией истории, что изначально христианское учение несло для иудеев большую угрозу, нежели любое из течений ислама.
[41] Однако центральное место, которое отводится иудеям в христианской Драме Страстей Господних, доказывает, насколько тесно всегда были переплетены эти две религии. Эволюция образа Иуды не только демонстрирует, насколько сильно некоторые христианские тексты были ориентированы на то, чтобы обуздывать и наказывать нехристиан. Она также свидетельствует о том, что сеявшие рознь и разногласия религиозные практики имели место и проявлялись, в тех или иных формах, во все периоды истории, зарождаясь в недрах иконографических и теологических концепций, провозглашавших социальную справедливость и милосердие по отношению ко всем народам.
«Иуда: предатель или жертва?» — книга, написанная для читателей, интересующихся историей религий, их взаимовлияния и взаимопроникновения и, в особенности, отношениями между христианами и иудеями. Хотя я и не христианка, в своем труде я использую христианские термины, например, «Драма Страстей Господних» или «Святой Дух», чтобы выдержать языковую стилистику интерпретируемых мною текстов. Увы, слишком часто в прошлом, на протяжении всей христианской истории, портреты Иуды, порожденные воображением поэтов, художников и проповедников, использовали в своих прохристианских или проиудейских рассуждениях теологи и богословы. Ключевые аспекты менявшегося характера Иуды нередко ускользали от внимания среди не прекращавшихся полемик и споров. Поэтому на последующих страницах я сознательно отказываюсь от любых попыток уточнять исторические неясности или решать теологические головоломки при раскрытии сути и подтекста художественных произведений на протяжении многих периодов времени. Поступая так, я исхожу из того, что культурные критики склонны интерпретировать подобные творческие работы как знаковые вехи истории интеллектуальной мысли. Подобный подход способствовал появлению на свет многочисленных исследований по динамике создания стереотипных образов людей, считающихся второсортными, подвергнутых поношению или заклейменных позором.
Поскольку на протяжение своей долгой мифологической карьеры Иуда иногда обретал жену, как, впрочем, сестру, мать и разных любовников, и поскольку он часто изображается личностью дурной, порочной или даже связанной с темными силами, его биограф должен учитывать тендерный аспект при осмыслении его жизненной истории, а также его пола, сексуальной ориентации и этнических корней. Со времен святого Иеронима и до наших дней иудеев, или «сынов Иуды», считали типичными мужчинами, хотя и довольно эксцентричными в своих проявлениях мужского начала. Кроме того, со времен Даниэле Креспи и до Альберта Такера художники-портретисты, писавшие Иуду, были в большинстве своем представителями мужского пола, как и большинство создателей его литературных образов. И в самом деле Иуда служит стержнем многих умозрительных концепций мужественности, подобно тому, как Еве подчас отводится центральное место в культурологических анализах, связанных с женским началом. Считается, что подобно тому, как желание Евы вкусить соблазнительный плод якобы явилось причиной падения Адама, алчность Иуды привела к распятию Иисуса. Рядом с обоими этими персонажами часто изображают соответствующих животных, хотя змеиные хвосты на полотне Такера вырастают прямо из человеческой фигуры. Оба они — и Ева, и Иуда — дают возможность авторам как литературных, так и изобразительных произведений попытаться преодолеть стереотип соблазненной и падшей личности, на которую принято возлагать всю ответственность за смерть, страдания и несправедливости, столь тяготящие человечество.
То, что к Иуде прилипло клеймо «козла отпущения», изгоя — что так блестяще показал Такер, — бесспорно. Возможно, как намекает пребывающий в смятении персонаж Креспи, это было вызвано тем, что его отказ уверовать в лучшее будущее, ожидающее человечество благодаря искупительной жертве Иисуса, отражает полное неприятие и упрямое противление именно этому осуществлению, исполнению лучшего будущего, надеждам и благим вестям о вере в целом и христианской вере в частности. Мы увидим, что уже с древнейших времен Иуда воплощал то, что Эдгар Аллан По называл «бесом противоречия», Серен Кьеркегор — «болезнью смерти», а Фрейд «влечением к смерти». Вследствие духовного невежества, онтологических расхождений, особой извращенности сознания или порочности Иуда отвергает сулимую Иисусом жизнь после смерти, при жизни принимая смерть, неизбежность которой, впрочем, обусловлена евангельским сюжетом. Ведь он — главная фигура в этом сюжете, кульминацией которого должны стать страдания и жертва. Если Иисус предлагает спасение, загробную жизнь, мир на Земле и благоволение к людям, то Иуда упрямо и непокорно отстаивает то, что невозможно воспринимать с оптимизмом: мрачную, но от этого не менее глубокую предрасположенность человека к отчаянию, способности обречь себя на вечные муки, саморазрушению, соперничеству и ненависти к себе.
Подобное неприятие, противление, возможно, отражает те противоречия, на основе которых появился многоликий Иуда. Я имею в виду те несоответствия и несообразности, которые стимулировали трансформацию его образа. Иными словами, неясные и допускающие различные толкования евангельские свидетельства об Иуде отражают не только истоки тех религиозных форм, что мы называем иудаизмом и христианством, но и объясняют многообразие правдоподобных и виртуальных образов Иуды, которые занимали воображение множества людей на протяжении всей послебиблейской истории западной культуры. Правдоподобные образы Иуды, в свою очередь, высвечивают и, возможно, даже в большей степени, чем любые иные общепринятые или местные иконографические мотивы в западной культуре, едва ли не самую трудноразрешимую дилемму — дилемму предательства. А предательство само по себе является весьма неопределенной и также допускающей различные толкования моральной категорией. Категорией настолько скользкой, что иногда она может подразумевать и саморазоблачение, когда любой промах — неверное, сколькое слово или жест — способен выдать нас самих, изобличая, кто мы есть на самом деле. «Зачаровывающее… поскольку оно часто вызывает замешательство», предательство, безусловно, предполагает возможность поступиться доверием, но на это нужно смотреть, учитывая целый комплекс оправдательных факторов. Об этом напоминают нам философы, приверженцы этического взгляда на мир (Shklar, 141).
Художники, чьи работы обсуждаются в этой книге, поднимают целый ряд вопросов, сопряженных с предательством доверия. Различны или схожи ощущения человека, думающего, что его предали, человека, которого действительно предали, и человека, который собирается предать сам? Всегда ли предательству сопутствует обман, призванный сокрыть, замаскировать факт предательства? Есть ли разница — и если есть, то в чем, — между предателем, причиняющим вред другому, и человеком, выдающим самого себя неконтролируемыми эмоциями? Можно ли считать предательством подмену или неверное истолкование понятия верности? В этом вопросе кроется странный и смущающий парадокс. Не менее странный феномен: человек может пойти на предательство по наущению другого человека или ради другого человека. А в том, что предательство сил зла может быть расценено как высшее благо, скрыта ирония, как и в том, что человек, предавший одного, может хранить верность другому. Все эти вопросы кристаллизует Писание на примере мистического Мессии, который сам надежен, заслуживает доверия и доверяется другим, но при этом его доверие было предано. Толкователи образа и роли Иуды и Нового Завета по-разному интерпретируют эту тему, лишь приумножая различные аспекты, что таит в себе предательство доверия.
Если Иисус предлагает «евангелие», «благовестие», то Иуда несет «зловествование», «антиевангелие» — «dusangelion», соотносимое с греческим глаголом «dusangelo» («объявлять дурные вести») и греческим прилагательным «dusangelos» («возвещающий зло»).
[42] Иуда «приносит злую весть», что некоторые люди, совершающие злодеяния не умышленно, или претерпевающие страдания, которые ими не заслужены и не облагораживают их, знаменуют ограниченность искупления или нарушение Божьего завета. Враг своему собственному благополучию, Иуда отстаивает всех тех, кого высшие силы тайно сговорились предать на вечные муки или смерть. Он воплощает собой тех страждущих, о которых более счастливые люди злословят, что им отказано в милости Божьей… Сама эта фраза звучит кощунственно, поскольку допускает, что всемилостивый и милосердный
Бог может быть немилосердным и проявлять немилость. В одном из моих эпиграфов Тони Моррисон называет любовь «погодой», а предательство «молнией, что рассекает и разоблачает ее», подразумевая, что любовь и предательство тесно переплетены друг с другом. Подобно тому, как подъем западной цивилизации сопряжен с ее периодическими упадками, так и в истории Драмы Страстей Господних «вознесение» Иисуса сопряжено с «падением» Иуды, хотя здесь и поднимается вопрос, могло ли одно случиться без другого.
И все же то, что роль «козла отпущения» была определена одному только Иуде, явно несправедливо, учитывая количество людей и божественных посредников, участвовавших в «предании» Иисуса в Новом Завете.
[43] Даже если именно Иуда выдал Иисуса первосвященникам в Евангелиях, те же первосвященники затем выдали Иисуса Пилату, а Пилат, в свою очередь, сначала передал Его иудейской толпе, а потом римским солдатам, которые и распяли Его. Согласно Иоанну, Иисус пытался донести до сознания последователей, что Он Сам вершит свой удел: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее, — объявляет Иисус у Иоанна, — Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее: имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (10:17—18). В «Послании к Римлянам» сам Бог предстает тем, «Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (8:32). Именно эта жуткая параллель или взаимодействие, соучастие Иуды, первосвященников, Пилата, иерусалимской толпы, римских солдат, Иисуса и Бога не позволяют возложить на одного человека вину и ответственность за заслуживающий морального порицания акт, приведший к смерти Иисуса во исполнение спасительного обещания Воскресения.
То, как каждый из авторов канонических Евангелий подходил к этому вопросу, составляет тему следующей главы, посвященной переосмыслению, трактовкам и различному использованию образа Иуды в массовой культуре и высоком искусстве с древности до наших дней. Хотя я покажу, что в античные времена Иуда чаще всего выступал в роли изгоя, в эпоху Ренессанса — любовника, в эпоху Просвещения — героя, а в XX веке — спасителя, я должна оговориться, что все эти роли ему удавалось и удается успешно совмещать и в минувшие столетия, и в настоящее время. В рок-музыке, на театральных подмостках и на киноэкранах — Иуда появлялся везде, и в последние десятилетия XX в., и в первые годы XXI в. К примеру, на концерте Боба Дилана в Манчестере (Англия) в 1966 г. один из зрителей настолько возмутился его переходом от акустической фолк-музыки к электронному року, что во всеуслышание обозвал его «Иудой», на что певец парировал, хотя и не совсем метко: «Я не верю тебе. Ты — лгун». Эпитет, которым наградил певца раздраженный зритель, возможно, был навеян еврейским происхождением Дилана или рок-трилогией, созданной им тремя годами ранее. Строки одной из песен Дилана содержат предписание, которое все артисты, затронутые в этой книге, восприняли близко к сердцу: «Вы должны решить / Был ли Бог / на стороне Иуды Искариота»
[44]
Допуская, что Иуда походит на всех бунтарей, прикрывающихся Божьей волей, или же все бунтари, прикрывающиеся Божьей волей, походят на Иуду, стихи Дилана не отвечают, тем не менее, на вопрос, а был ли сам Иуда уполномочен Богом свершить свое деяние. Однако контркультура, к которой принадлежал Дилан, породила массу своеобразных, вызывающих сочувствие образов непонятого Иуды: Иуды уникума и аномалии. «Я не думал ни о каком вознаграждении», — постоянно оправдывается Иуда в рок-опере «Иисус Христос Суперзвезда» (1970, 1973), добавляя: «Я пришел к вам не по собственной воле». Когда Иуда понимает, что будет «ползать в пыли и грязи» за то, что он сделал, он поет рефрен песни, сначала вложенной Эндрю Ллойдом Веббером в уста Марии Магдалины: «Я не знаю, как любить Его»; затем страдающий Иуда восклицает: «Боже! Я уже никогда не узнаю, зачем Ты избрал меня для своего преступления / для своего кровавого преступления / Ты убил меня!» Один волнующий кадр из фильма «Иисус Христос Суперзвезда», в котором в роли предателя снялся афроамериканский артист Карл Андерсон, показывает нам линчеванного Иуду, висящего в безлюдном поле. Привлекая внимание к долгой традиции выставления изгоями и «козлами отпущения» не только евреев, но и чернокожих, Иуда Андерсона не возносится на небо, а висит на бесплодной земле, зацепившись одним из сандалий и в силах сопротивляться влекущей его вниз силе притяжения. Однако вскоре он воскресает, чтобы вместе с группой Motown спеть в финале заглавную песню. «В американской кинематографической традиции, — напоминает нам один из критиков, — линчеванию всегда подвергается невинный». И потому смерть Иуды превращается в «убийство», учиненное паствой «Белого Бога»: «Мишенью беспощадной критики является современная американская паства, а не непознаваемый, истинный Бог Иисуса» (Humphries-Brooks, 65).
Иную версию предлагает «Godspell», поставленный в 1970 г. и экранизированный в 1973 г., допускающий, что «Бог на стороне Иуды Искариота». Поскольку в нем Иуда отказывается целовать Иисуса, и тогда Иисус целует его. Сатирический фильм «Жизнь Брайана по Монти Пайтону» (1979) рассказывает нам историю незадачливого молодого человека, ошибочно принятого за Мессию, и транссексуала Иуды, зовущего себя Джудит. Лжемессия Брайан становится лидером революционного «Народного фронта Иудеи» (НФИ) и имеет большие неприятности с оккупационными властями.
[45]К 1989 г., когда в Канаде на экраны вышел «Иисус из Монреаля» Дэниса Арканда, самоубийство Иуды через повешение стало символом суицидального гамлетовского отчаяния и отчаянного положения человека в безбожном мире. Вероятно, этим можно объяснить, почему в сцене распятия отсутствуют какие-либо упоминания или намеки на предателя из Писания.
Снятый недавно с явно еврейской точки зрения фильм независимой студии «Несчастный Иуда» (1993), озвученный популярным саундтреком со словами «Вы всегда причиняете боль Тому, кого любите», затрагивает тему антисемитизма, запущенного Иудой-изгоем. Его режиссер, Селия Левенштейн, и остроумный сценарист Говард Джекобсон поднимают вопрос, затронутый в отрывке из «Тристрама Шенди», приведенным мною во втором эпиграфе к книге, а именно: почему родители во все времена считали оскорбительным или предосудительным называть своих отпрысков именем Иуда. Независимо от своей фамилии, имя «Иуда» никогда не будет звучать благозвучно, ведь, как говорит один шекспировский персонаж другому: «Отбрось Маккавея — все равно остается Иуда», «целующий изменник» («Бесплодные усилия любви» 5, 2, 595—596). Левенштейн и Джекобсон прослеживают гротескные стереотипы евреев, которыми те обязаны Иуде, но этим не ограничиваются. Они начинают фантазировать на тему явно донкихотских попыток канонизировать Иуду за его мученичество — «единственным его грехом было то, что он способствовал распространению христианства», — обескураживая зрителя кадрами с пивными бутылками, станциями метрополитена, кредитными картами, больницами и бульварами, названными его именем в его честь! Макс Бирбом предвосхитил эту шуточную мистификацию в своем комическом романе «Зулейка Добсон» (1906), героиня которого приезжает в Оксфорд, чтобы посеять панику среди мужчин из Колледжа Иуды.
Две драматические постановки 1998 г. оценивают связь между Иисусом и Иудой сквозь призму гомосексуализма: Иуда — любовник. Смущающая пьеса Дэвида Хэйра «Поцелуй Иуды» описывает опасную любовь Оскара Уайльда к человеку, не раз предававшему его, лорду Альфреду Дугласу. Уайльд, изображенный Хэйром, подмечает «одно слабое место» в «истории Христа»: «было бы куда правдивей, если бы [Иисуса] предавал Иоанн. Потому что Иоанна Он любит больше всех» (117). Более стилизованная трактовка Драмы Страстей Господних — пьеса Теренса Макнелли «Тело Христово» — воссоздает разговор Иисуса с разоблачающим
Его первосвященником; Иисус оказывается обречен, но не потому, что настаивает на том, что Он — Сын Божий, а потому, что Он готов поклясться, что гей Иуда — тоже: «Сын Божий — петушок (оскорбительное прозвище гомосексуалиста)? — глумится первосвященник, — «Я так не думаю. Нам нужны грешники» (65). По свидетельству убитого горем Иуды, Иисус — «Царь странных людей» — распят гомофобами-церковниками и правителями (75). Макнелли хотел, чтобы зритель с большим пониманием и состраданием относился к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку божественная искра есть во всех людях без исключения, однако обладателям билетов в манхеттенский «Театральный клуб» приходилось проходить сквозь детекторы на металл из-за анонимных телефонных звонков с угрозами поджечь зал.
Если Макнелли критикует предвзятое отношение к поруганному апостолу, пьеса Стивена Эдли Гиргиса «Последние дни Иуды Искариота», поставленная весной 2005 г. на сцене нью-йоркского Публичного театра, описывает пересмотр судебного дела Иуды. «Приговор» вечно гореть в аду представляется его защитнику вопиющим контрастом милосердию всепрощающего Бога. На протяжении всего этого периода множились и популярные песни об Иуде; группа Judas Priest продала свыше тридцати миллионов пластинок с записями таких альбомов, как Sin After Sin (1977), Hell Bent for Leather (1979), Painkiller (1990), and Angel of Retribution (2005).
[46] И все же образ заблудшего и страждущего Иуды никогда не затмевал образ Иуды-изгоя. Когда в 2004 г. на экраны вышел фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», зрители могли отдохнуть от созерцания кровавого мученичества Иисуса, наблюдая замедленные кадры с летящим в воздухе денежным мешком Каиафы, роняющим монеты, которые затем тайком подбирает Иуда. Затем кадр с Сатаной, переносящим Антихриста, устанавливает связь Дьявола с Иудой, которого травят собаками юные мальчики в ермолках, превращающиеся в преследующих Иуду дьяволят, с которыми тому суждено столкнуться и до и после самоубийства повешением.
[47]
Но и Иуде-изгою не удается затмить новое явление Иуды-спасителя, способное пролить свет на многие загадки. На Пасху 2006 г., под невероятную газетную шумиху, были обнародованы планы опубликования найденного фрагмента гностического Евангелия от Иуды, выплывшего на свет спустя 1700 лет после написания. Иуде из этого Евангелия суждено «превзойти» всех других апостолов в глазах Иисуса, потому что они принесут в жертву человека, в которого Он «обличен» (43). Обнаруженный текст, хоть и был назван Евангелием от Иуды, не содержит прямых указаний на то, что он был составлен самим Иудой; но Иуда предстает в нем как небесный дух, насыщенный именно той мудростью и той силой, в которых нуждается Иисус и которых недостает другим апостолам. В представлении гностиков, Иуда был использован Иисусом для Его перевоплощении из телесного существа в одухотворенную божественную силу. Иисус предается Иудой, который полностью осознает, что будет забит камнями до смерти другими апостолами, но который также знает и то, что его собственная душа воссоединится с духом Иисуса в вечности.
[48]
Это коптское Евангелие от Иуды, датируемое IV в. и найденное в пещере Мухазафат в Альминьи в Среднем Египте, было приобретено швейцарским фондом и опубликовано «National Geographic». По всей вероятности, оно представляет собой греческую версию, составленную во II в., и подтверждает, что даже в Древнем мире было множество противоположных точек зрения как на Иуду, так и на других апостолов Иисуса.
[49] На веб-странице «Guardian» была размещена статья, в которой говорилось: «Теперь мы знаем, каким было оправдание Иуды». И приводились слова Иуды: «Иисус побудил меня сделать это» (Borger and Bates). Хотя, по мнению Адама Гопника из «The New Yorker», более очеловеченный Иуда «преуменьшает и божественную силу Иисуса» (81). Независимо от того, умаляет или нет реабилитация Иуды образ Иисуса, из повествования на последующих страницах моим читателям станет ясно, что основная идея Евангелия от Иуды — о том, что он исполнил то, о чем его просил Иисус, — имеет долгую и бурную историю.
Обнаружение древнего коптского текста, безусловно, имеет бесценное значение для историков Древнего мира, однако писатели и художники предвосхитили явленный в нем образ Иуды задолго до того, как оно было возвращено людям и переведено. Некоторые толкователи гностического текста утверждают, что его обнаружение «знаменует поворотный момент в истории христианского осмысления Иуды» (Erhman, Lost Gospel, 52). Но они не учитывают того сонма псевдоевангелий, которые породило на свет воображение писателей XX в. — текстов, авторство которых приписывается Иуде, чей образ в канонических новозаветных Евангелиях якобы был искажен их составителями.
[50] И даже еще раньше христианские художники
не всегда изображали Иуду в уничижительной манере; иногда они создавали образ любящего и сильного Иуды, содействующего «божественному служению» Иисуса.
[51] Странно, но большинство авторов книг, вышедших в свет вскоре после публикации древнего списка Евангелия от Иуды, склонны относиться к новообретенному тексту так, будто других текстов об Иуде, пусть и написанных позднее, не существовало вовсе. Причем все они норовят поместить один и тот же образ кисти Джотто на обложки своих опусов, словно не было написано множества других картин, изображающих двенадцатого апостола, многие из которых гораздо более откровенно намекают на дружбу Иуды и Иисуса.
[52]
Как и в случае с древним Евангелием от Иуды, любое новое переосмысление образа Иуды, описываемое в этой книге, сопряжено с переосмыслением образа Иисуса, поскольку эти двое тесно связаны между собой. Сосредоточив свое внимание на образе Иуды, я лишь в конце книги останавливаюсь на том, как менялся образ Иисуса по мере того, как евангельский Иуда-уникум и раннесредневековый Иуда-изгой превращались в ренессансного Иуду-любовника, а затем героический Иуда появился в XX в. в роли спасителя. В своей книге «Иуда: предатель или жертва?» я стараюсь доказать, что многие художники и мыслители во все времена вновь и вновь «пересматривали дело» Иуды, иногда находя его закоренелым преступником, иногда освобождая от наказания, но всегда возвращаясь к его корням в Новом Завете, в котором и начала складываться его неоднозначная личность. Все евангельские авторы описывают Иуду как ученика, предавшего Иисуса; но в любом из них можно найти еще что-то, что так или иначе свидетельствует о его характере и судьбе.
Глава 2.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ: ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ИСТОКИ
Почему и зачем Марк, Матфей, Лука и Иоанн дают разные, иногда даже противоречащие друг другу портреты двенадцатого апостола? Под разными углами зрения образ Иуды в Новом Завете изменяется. Но несмотря на то что сопоставление всех евангельских свидетельств высвечивает целый сонм неясностей и парадоксов, трансформирующийся образ Иуды отображает не только проницаемость и взаимосвязь иудаизма и христианства в древние времена, но и ту нараставшую тревогу или враждебность, которые это начинало вызывать в христианском сознании.
* * *
Ни о матери, ни о детстве Иуды в канонических Евангелиях ничего не говорится. Он появляется в Новом Завете уже совершенно сформировавшимся человеком и упоминается в нем всего лишь двадцать два раза. Довольно странно и то, что чем больше проходит времени со смерти Иисуса ок. 30 г. н.э., тем больше слов посвящают Иуде евангелисты. Если Марк, написавший свое Евангелие в середине 60-х или начале 70-х гг., уделяет Иуде всего три строфы, то Матфей в 80-е гг. упоминает его уже пять раз; Лука в свое Евангелие, составленное в 80-е гг. или чуть позднее, включает шесть строк об Иуде, а Иоанн в 90-е гг. ссылается на него уже восемь раз. Пусть и скромная в своем масштабе, эта прогрессия, тем не менее, предвосхищает рост интереса к Иуде среди религиозных и светских писателей в Средние века и в эпоху Ренессанса. Авторам многих из этих более поздних произведений, навеянных евангельским сюжетом, Иуда видится главным врагом Иисуса, других Его апостолов, а значит, и их самих.
[53] Любопытно, однако, что того же нельзя сказать о составителях ранних Евангелий, утверждавших общность характера Иуды с характерами других одиннадцати учеников и даже (пусть и косвенно) самого Иисуса.
Как же произошло превращение Иуды из одного из нескольких соучаствующих наблюдателей искупительного самопожертвования Сына Божьего в главного преступника, повинного в распятии? И почему в более
поздних Евангелиях Иуда превратился в исчадие злодейства, воплощенное зло? В своем анализе Нового Завета, дополненном работами ранних художников-иллюстраторов и научными выводами его толкователей более позднего времени, я предлагаю возможные варианты ответов на эти вопросы.
[54] Сначала Иуда предстает ярким представителем своей когорты. Однако по мере того, как временной интервал между событиями, описанными в Евангелиях, и авторами, их описавшими, увеличивается, его положение меняется. Виновность Иуды в измене обрекает его на все большую изолированность, и постепенно он становится совершенно одиноким в своем окружении и всем роде человеческом — предателем людей. То есть поначалу выдача Иисуса Иудой трактуется как предопределенный и неизбежный акт, но в конечном итоге вероломство Иуды начинает вменяться ему в позорную вину.
Проще говоря, Иуда — «один из нас» у Марка и Матфея, где под «нами» подразумеваются ближайшие друзья, соратники и современники Иисуса, те, кто видел творимые Им чудеса и внимал его проповедям. Затем — у Луки и Иоанна — Иуда превращается в «одного из них», где под «ними» имеются в виду те, кто отвергал чудеса Иисуса и высмеивал Его заповеди и притчи. Если в более ранних Евангелиях раскаявшийся, сам себя осуждающий грешник может быть прощен, то в более поздних Евангелиях безнравственный нечестивец остается не прощенным. Новозаветный образ Иуды на глазах претерпевает изменения. Иуда из глуповатого ученика Иисуса у Марка превращается в раскаявшегося грешника, искупающего свою вину добровольным отказом от жизни, у Матфея. Из существа, одержимого Сатаной и уничтожающего самого себя, у Луки Иуда превращается в нечестивого изменника, вступившего в сговор с предавшимися Дьяволу иудеями, у Иоанна. Возможно, это усиливающееся поношение Иуды отражает нарастающую потребность евангелистов (и их общин) провести различие между притесняемыми, гонимыми последователями Иисуса и иудейскими общинами, из которых они сами вышли и с которыми им приходилось бороться. После Иудейской войны и разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н.э. — и такое мнение разделяют многие ученые — враждебность иудеев и христиан друг к другу заметно усилилась.
[55]
Впрочем, я на этих страницах поступаюсь историчностью, предпочитая чисто интерпретационный подход. В попытке понять, как и почему Иуда начинает все больше ассоциироваться со всем иудейским народом, я обхожу споры об исторической важности или пророческом значении Евангелий.
[56] Поскольку порочащие Иуду «связи с иудеями» со временем становятся все крепче, постепенная трансформация его образа высвечивает причины раскола между «христианами» и «иудеями». Хотя изначально эти два понятия были тесно переплетены: ведь все центральные персонажи Евангелий, за исключением римлян, были евреями по рождению и именно им адресовалось то, что впоследствии назовут христианскими уроками, проповедуемыми евреем Иисусом иудеям Галилеи и Иудеи; и в этом ракурсе образ Иуды, мечущегося между апостолами и фарисеями или храмовыми книжниками, логично воплощал взаимосвязь и проницаемость иудаизма и христианства в древнейшие времена. Меняющийся Иуда показывает, когда, как и почему диаметрально изменяется отношение к двум личностям, рожденным в одной вере и принадлежащим к одной вере: Иуда воспринимается иудеем, а Иисус — христианином.
Попыткам свести воедино или согласовать между собой различные евангельские свидетельства я предпочитаю сопоставление взглядов на Иуду как на «одного из нас» Марка и Матфея и его порицаемых образов как представителя «одного из них» Луки и Иоанна. Ведь именно это несоответствие в отношении к Иуде евангелистов закладывает основу для дальнейшего развития образа Иуды в культуре. Хотя эволюцию его образа со времен Средневековья до наших дней можно трактовать как своего рода поздние
midrash (комментарии) к Новому Завету или его редактирование, т.е. расширение или правка. Равно, как и средневековых переписчиков и светских художников, обращавшихся к евангельским сюжетам, можно уподобить либо благочестивым корректорам, либо безбожным «редакторам» оригинальных, древних текстов.
Ведь они неизбежно соединяли воедино в своем сознании четыре свидетельства, расходящиеся едва ли не по всем аспектам, связанным с Иудой и сыгранной им ролью. А при любой попытке согласовать или соединить воедино евангельские повествования, как это было в послебиблейские времена, неясные или противоречащие друг другу фрагменты приходится объяснять, согласовывать, вычеркивать или вовсе предавать забвению. Вот и получается, что множественная личность Иуды обязана своим существованием многочисленным рассказчикам, выкладывающим из отдельных частей головоломки различные образы сообразно своему видению проблемы и воображению. И породили эту множественную личность Иуды — своенравного апостола, осужденной жертвы, ненавидимого изгоя — авторы канонических Евангелий. Разные «ипостаси» личности Иуды сосуществуют подобно тому, как в лицах Пикассо совмещаются несколько носов или ртов. Потому Иуда многолик, и каждый из его ликов высвечивается под определенным углом зрения. И эта множественность перспектив предсказывает уже в библейские времена превращение Иуды на средневековых и ренессансных полотнах в любовника Иисуса, а в художественной литературе XIX и XX вв. — в героического помощника и спасителя великого дела Учителя. Чтобы понять, как складывался этот коллаж из разных, но соотносимых портретов Иуды, я перехожу — не как специалист по древней истории, религии или лингвистике, а как исследователь текста — к сравнительному анализу Евангелий в хронологическом порядке их составления.
Заблудший апостол у Марка
Самая впечатляющая и сатирическая черта Иуды у Марка — это его сходство с другими апостолами: в том, как он был избран в ученики Иисуса, в своем служении, в своем общении с Иисусом, в своем неверии и в своей неверности. Эта схожесть, общность с другими Иуды усиливает одиночество Иисуса, Его ранимость и страдания в Евангелии от Марка. До того как Иуда впервые упоминается в этом самом раннем из Евангелий, Иисус уже «крестился от Иоанна в Иордане» (1:9) и слышал глас Бога с небес: «Ты Сын Мой Возлюбленный» (1:11); Он преодолел искушение Сатаны и уже собирал огромные толпы людей, наблюдавших, как Иисус изгоняет «духов нечистых», излечивает горячку, исцеляет прокаженного «расслабленного» (парализованного) и «сухорукого». Однако это Его последнее чудо, сотворенное в субботу, побудило фарисеев обвинить Его (3:6). Но люди продолжали приходить к Нему «в великом множестве», чтобы слушать Его притчи, хотя ни они, ни семья Его, ни ученики не разумели до конца Его иносказательные поучения (4:10-13, 3:21). Современные исследователи убеждены, что так было потому, что Иисус у Марка верит в то, что Он должен хранить в тайне свои устремления стать Мессией, скрывать Свою мессианскую роль.
Впервые упомянутый Марком в перечне двенадцати, избранных Иисусом «чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять демонов» (3: 14, 15), Иуда назван в этом перечне последним и отделен от других, как «Иуда Искариотский, который и предал Его» (3: 19). Однако предлагаемый Уильямом Классеном перевод этой строки, как «Иуда Искариот, который предал Его» (глагол «paradido{ll}ni» в греческом языке означал также «передать, вручить»), несколько сглаживает определение Иуды и, соответственно, смягчает осуждающий приговор, проводящий четкое и жесткое разграничение между Иудой и другими одиннадцатью (Klassen, 47—58). «Читатель или слушатель не знает ни того, является ли “предание” Иудой Иисуса негативным актом, ни того, кому будет передан Иисус» (Saari, 45). Поскольку апостолы
передают благие вести, а Бог
предает грешников на вечную смерть, «предание» Иудой Иисуса, возможно, и не подразумевает вероломства и измены. А учитывая приводимое Марком утверждение Иисуса о том, что будут «последние первыми» (10: \31), помещение Иуды в самом конце перечня учеников подкрепляет двусмысленность толкования. В любом случае, Иуда несомненно входил в круг учеников Иисуса, когда Тот послал апостолов проповедовать покаяние, дав им «власть над нечистыми духами» (6:7). Иуда точно соблюдал заповеди Иисуса, не взял в дорогу ничего, кроме посоха, — ни хлеба, ни денег — и, по всей вероятности, также «изгонял многих бесов и многих больных мазал маслом и исцелял» (6: 13). По-видимому, он, как Иаков или Симон (Петр), останавливался в разных домах и стряхивал пыль с ног своих, выходя из домов, свидетельствуя против тех, кто отказался слушать Его. И почти наверняка Иуда был схож с другими одиннадцатью в их неразумении слов и поступков Иисуса (6:51-52,8:21).
До прихода в Иерусалим вовсе даже не Иуда, а Петр был тем апостолом, с которым Иисус обходился суровей, чем со всеми другими. В Кесарии Филипповой, после того как Иисус исцелил слепого и Петр уверовал в Него, как в Мессию, Иисус повелевает апостолам, «чтобы никому не говорили о Нем», и открывает им, что Ему предстоит «быть убитым и в третий день воскреснуть». Когда же Петр начинает прекословить Ему, Иисус упрекает его, уподобляя воплощению зла: «Отойди от Меня, сатана! Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (8:29,32—33). Как и попытки Иисуса сокрыть свою миссию в тайне, это увещевание отражает Его стремление изменить образ Мессии, чтобы Он предстал не творящим чудеса, изгоняющим демонов, могучим воином или царем Давидовым, а Сыном Божьим, претерпевающим страдания. Но у Марка ученики Иисуса не понимают Его. «Их изначальная неспособность к восприятию того, кем Он в действительности является и к чему стремится, — поясняет Кейт Никл, — выливается впоследствии, в повествовании Марка, в преднамеренное, умышленное непонимание, кульминацией которого становится Его оставление» (Nickle, 73).
[57]
Даже в самом начале истории, р.к оказываемой Марком, — к примеру, в сцене, когда двенадцать апостолов наблюдают хождение Иисуса по морской глади, — их изумление и преисполненное страха упорство вызвано закостенелым непониманием, «ибо не вразумились они» чудом Иисуса, «потому что сердце их окаменело» (6: 52). Очень часто апостолы ссорятся между собой (например, о том, «кто больше» ([9:34]), либо вызывают негодование Иисуса (как в случае с маленькими детьми, которых они не допустили к Нему [10:13-14]). По прибытии в Иерусалим провинциальные галилеяне испытали неподдельное изумление: «Учитель! Посмотри, какие камни и какие здания!» (13: I).
[58] И все же за два дня до еврейской Пасхи, когда первосвященники искали способ, «как бы взять Его хитростью и убить» (14:1), только Иуда, по свидетельству Марка, пошел к ним, «чтобы предать Его им», и те «обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать Его» (14: 10).
Объяснить мотивацию Иуды, принявшего столь ужасное решение, может эпизод, непосредственно тому предшествовавший: когда был Иисус в доме Симона прокаженного, пришла женщина с алебастровым сосудом «очень драгоценного» мира и возлила Ему его на голову Некоторые осудили ее затрату мира, тогда как Иисус защитил, раскрыв смысл доброго дела, которое она для Него сделала: «Она сделала, что могла: предварила помазать Тело Мое к погребению» (14:8).
[59]В следующей сразу за рассказом об этом фразе у Марка
«И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам» (14: 10, выделено автором) можно усмотреть намек на то, что Иуда был движим справедливым негодованием по поводу расточительного использования масла, которое (как думали и некоторые другие) «можно было бы продать… более, нежели за триста динариев, и [деньги] раздать нищим» (14: 5). В те времена триста динариев мог заработать человек своим трудом лишь за год. Это было больше другой крупной суммы, упоминаемой в Евангелии ранее, в сцене «насыщения 5000» — когда апостолы беспокоились о том, чтобы «пойти купить хлеба динариев на двести», чтобы накормить пять тысяч, которых Иисус чудесным образом накормил «пятью хлебами» (6: 37).
Были или нет остальные апостолы среди тех, «кто вознегодовал» (14: 4) из-за того, что для помазания Иисуса неизвестная женщина растратила целый сосуд дорогостоящего мира, но Иуда явно входил в их число, поскольку начал искать способ, «как бы в удобное время предать» Иисуса (14: 10). Если учесть, что слово «Мессия» в литературном переводе означает «[Тот, кто], помазанный», подобная последовательность событий обретает социальный и теологический подтекст. Не показывает ли нам автор Евангелия, в котором Иисус хранит в секрете свое мессианство, запрещая исцеленным и даже демонам разглашать сотворенные Им чудеса в излечении людей и призывая апостолов поклясться в соблюдении тайны, что таким способом Иуда протестует против новой роли Мессии? Несоответствие Мессии, который должен был стать царем и возродить Иерусалим, и Мессии «помазанного к погребению», возможно, означало, что «мессианские надежды Иуды в тот момент окончательно рухнули, и он не увидел иного выхода, кроме как выдать Иисуса первосвященникам», — подытоживает один из комментаторов Евангелия. — «С Иисуса следовало сорвать маску, поскольку он не оправдал ожидания «обычных» людей, связанные с приходом Мессии» (Gartner, 21). Разгневанный ли растратой денег, которые можно было раздать нуждающимся, или сбитый с толку несоответствием пророчеств Иисуса о своей предстоящей смерти традиционному образу ожидаемого Мессии, Иуда вполне мог действовать, руководствуясь возвышенными принципами. Не менее важно, как подмечает Ким Паффенрот, комментируя евангельскую версию Марка, что «мысль предложить деньги приходит в голову сначала первосвященникам, а не Иуде» (Paffenroth, 7). Иуда вполне мог быть раздражен неразумной тратой драгоценного нарда, но едва ли им двигала алчность.
Даже за Пасхальной трапезой, которую он полностью разделяет с другими, Иуда ничем не выделяется из остальных апостолов. По-видимому, он помогает им в приготовлениях в большой горнице и ест вместе с ними. Когда, по версии Марка, Иисус предрекает им: «один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня» (14:18), все апостолы, опечалившись, пытают Его: «Не я ли?», на что Иисус отвечает им: «один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо» (14:20), добавляя: «но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (14: 21).
[60] Сразу же после этого страшного предупреждения, которое могло относиться к любому из двенадцати, Иисус берет хлеб и, преломив и благословив его, дает всем двенадцати ученикам вместе с чашей вина, провозглашая хлеб и вино Телом и Кровью Своею. И опять предсказывает: «все
вы соблазнитесь о Мне в эту ночь» (14:27, выделено автором) — непосредственно перед тем, как идти молиться в Гефсиманию, где Его провожатые оставят Его в час, когда Ему больше всего нужна будет их поддержка; несмотря на то, что Он трижды попросит их бодрствовать, апостолы трижды заснут, не начав молиться. Сходство между Иудой и ничего не осознающими и не видящими, но также неосознанно проявляющими враждебность в виде невнимания и непослушания, Петром, Иаковом и Иоанном в Гефсимании выявляется еще рельефнее во время ареста Иисуса, когда исполняется Его предсказание о Петре: тот трижды подряд отрекается от Иисуса, прежде чем петух успевает пропеть дважды.
Марк не указывает, в какой именно момент решает уйти Иуда, ни разу за время Тайной Вечери не упоминаемый по имени евангелистом. И когда он вновь появляется с множеством народа с мечами и кольями, Марк вновь характеризует его, как «одного из двенадцати» (14:43). В рассказе Марка Иуда, похоже, имел достаточно времени после посещения первосвященников, чтобы принять «окончательное решение» о сотрудничестве с ними и продумать свои слова и поистине сардонический сигнал, которым он выдаст Иисуса. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть; возьмите Его, и ведите осторожно. И пришед тотчас подошел к Нему и говорит: Равви! Равви! И поцеловал Его. И они возложили на Него руки свои и взяли Его (14: 44-46).
[61]
Таким образом, Иисус выдается своим гонителям способом, в котором некоторые (но далеко не все) склонны усматривать проявление привязанности: повторяющееся обращение «Равви» и целование могли быть вызваны сокровенными чувствами, которые испытывают только к самым близким людям.
[62]
Часто выбиравшаяся ранними художниками, эта сцена — арест Иисуса — являет историкам один из лучших образов Иуды из всех, что складывались в художественном сознании на протяжении столетий. На переднем плане датируемой началом VI в. византийской мозаики в Равенне Христос, запечатленный в пурпурном одеянии, обращен лицом к зрителю. По одну сторону от Него изображены апостолы, по другую — преследователи. Сандалии Иуды и его светлое одеяние однозначно указывают на его принадлежность к кругу апостолов, хотя он находится не на их стороне, а на стороне тех, кто пришел арестовать Иисуса, а его ласкающая рука поднята параллельно с занесенной рукой стражника с мечом, готового схватить Иисуса. Впрочем, меч Петра также повторяет этот жест, уравновешивая меч стражника. А нимб вокруг головы Иисуса охватывает и голову Иуды; обоих их — как нечто единое — касается и рука стражника, подчеркивая их единство. В отличие от более поздних визуальных интерпретаций данной сцены, в которых все апостолы изображаются с нимбами, здесь только Иисус наделен этим символом святости. И если можно допустить, что этот нимб объединяет Иуду и Иисуса, то руку Иуды, положенную на сердце Иисуса, вполне можно расценить как подтверждение обета верности. Никто в этой мозаике не наступает на пальцы чьих-либо ног, как на более поздних изображениях. И вся сцена выглядит почти так, как будто воины пытаются оторвать Иуду от арестовываемого ими Иисуса. Византийская мозаика подчеркивает общность Иуды с другими апостолами, равно как и его близость с Иисусом.
После того как один из стоявших подле Иисуса людей в Евангелии от Марка отсек ухо рабу первосвященника, Иисус провозгласил: «да сбудутся Писания» (14: 49); «тогда, оставивши Его,
все бежали» (14: 50, выделено автором). Среди бежавших был и неизвестный юноша в покрывале, наброшенном на голое тело. «Воины схватили его, но, оставив покрывало, нагой убежал от них» (14: 51-52). По мнению Дэвида Фридриха Штрауса, Марк, включая в канву повествования такие подробности, пытается передать драматизм «панического и поспешного бегства приверженцев Иисуса» (653); никого из них не было рядом с Иисусом ни во время последовавшего за арестом суда, ни когда Его бичевали, ни когда мучили и насмехались над Ним. И в самом деле одиннадцать, как будто, исчезают из текста вместе с Иудой: римский сотник, стоящий напротив распятого Иисуса, называет Его «Сыном Божьим» (15: 39); две женщины смотрят, как его кладут в гроб; и три женщины приходят ко гробу Его, где видят юношу и, услышав от него, что «Он воскрес. Его здесь нет» (16: 6), бегут от пустого гроба в страхе, никому не рассказывая о том, что видели и что передал им юноша.
Читатели Евангелия от Марка, в котором Иисуса в конечном итоге покидают все его ученики, могут усмотреть в Иуде их типичного представителя; он — отражение остальных апостолов, но также и их моральной неустойчивости, присущей и другим людям. Для чего же Марку нужно предательство Иуды и какое место ему отводится в сюжете? — эти вопросы остаются неразрешенными.
[63] Возможно, Иуда раскрыл местонахождение Иисуса, но многие исследователи сомневаются, была ли в том необходимость, поскольку иудейские власти могли и сами без труда найти Иисуса. И потому гораздо важнее понять, что еще раскрыл Иуда.
[64] По свидетельству Марка, на судилище Синедриона многие люди «лжесвидетельствуют» против Иисуса (14:56,57) — «Мы слышали, как Он говорил: «Я разрушу храм сей рукотворенный, и чрез три дня воздвигну другой нерукотворенный» (14: 58); мучимый сомнениями первосвященник вынужден спросить, истинны ли такие свидетельства. Иисус отказывается отвечать на его вопрос, но отвечает утвердительно на следующий: «Ты ли Христос, сын Благословенного?». Тогда первосвященник, разрывая свои одежды, восклицает: «на что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство» (14: 61—63). У пытливых читателей может при этом опять возникнуть вопрос: для чего же тогда нужен предатель? Иисуса осуждают за богохульство на основании сделанного Им Самим признания: «Я [Мессия]» и Его собственного заявления: «вы узрите Сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных» (14: 62).
[65]
Как явствует из повествования — ведь в реальности все могло быть иначе, — Иисус приговаривается к смерти за то, что Он признает и называет Себя «Сыном Божьим». Может быть, Иуда у Марка просто открыл первосвященникам правду об истинной природе своего учителя?
[66] Да, Иисус у Марка постоянно наставляет апостолов сохранять Его мессианскую роль в тайне (3: 12,5:43, 8:30). Но сам же Иисус ставит свою жизнь под угрозу, когда прилюдно входит в храм, опрокидывает столы менял и объявляет святое место «вертепом разбойников» (11:17), а впоследствии пророчествует о разрушении Храма (13:2) и провозглашает Себя Мессией перед Синедрионом. Иуда, может быть, и есть один из тех, кто «предал» или «передал» Иисуса, но его образ представляется излишним, неуместным в контексте кульминационной развязки сюжета у Марка. И когда говорит он воинам, арестовывающим Иисуса, чтобы «взяли Его и вели осторожно» — значит ли это, что он боится, что Иисус убежит, или, напротив, беспокоится, чтобы тот остался невредим?
[67]
В Гефсиманском саду Иисус умоляет «Авва Отче»: «пронеси чашу сию мимо Меня» (14: 36); на кресте Он вопрошает: «Боже мой, Боже Мой! Для чего ты Меня оставил?» (14: 34). По крайней мере, Иисуса гораздо больше, чем предательство Иуды, волнует то, что Его оставил Бог. Коль скоро в первом Евангелии Иисус молит Господа, чтобы чаша страданий миновала Его, но Бог отказывает Ему в том, напрашивается вывод, что Марк поддерживает точку зрения Павла: именно Бог и есть «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас» (К римлянам, 8:32). А если учесть, что Павел не ограничивает применение слова «апостол» двенадцатью учениками и не проводит различий между апостолами, когда пишет о том, что Христос «явился Иоанну, также всем апостолам» [1-е Коринфянам 15:7], можно подумать, что и в этом Марк солидарен с Павлом, ведь он воспринимает Иуду, как типичного ученика. Хотя в его Евангелии апостолы непостоянны, бездеятельны и не видят Воскресения. Иуда, трижды упомянутый им, как «один из двенадцати», помогает Марку «умалить значение двенадцати» (Saari, 49). Подчеркивающее, что вину за распятие Иисуса должны разделить они все, Евангелие от Марка могло послужить основой для Катехезиса Тридентского собора (1566), который осудил действия всех людей против Бога: «Иуда предал Его, Петр отрекся от Него, и все покинули Его» (цитируется по Кохену; Cohen, 169).
В самых ранних списках Евангелия от Марка нет сцены Воскрешения Иисуса и не описывается смерть Иуды. Не умирает Иуда и в более поздних списках Евангелия от Марка. Повествование Марка заканчивается на том, что священники передают Иисуса Пилату и подстрекают народ распять Христа; Пилат отдает Иисуса на распятие. В заключительной главе женщины обнаруживают гроб пустым. Согласно Марку, Иуда воплощает собой не только капризных и неверных апостолов, но и пагубных священников и жестокую толпу, большинство которой разбежалось в страхе оттого, чему им довелось стать свидетелями. Более энергичный, чем все другие, Иуда, тем не менее, действует подобно им, как наблюдатель разворачивающейся Драмы Страстей Господних, вместилище или символ вины и несовершенства всего человечества — первостепенной причины, по которой Иисус пришел на Землю, чтобы своими страданиями искупить человеческие грехи.
Раскаивающийся грешник у Матфея
Читателей, знакомых с длительной историей антисемитизма, возможно, и не удивит, что евангелист, которого многие считают евреем, — Матфей — создал одно из самых антисемитских сочинений.
[68] Матфей уподобляет книжников и фарисеев «окрашенным гробам», «змиям» и «порождениям ехиднины», которым не избежать «осуждения и геенну» (23: 27, 33).
[69] А вот многих действительно может удивить предположение о том, что в интерпретации Матфея Иуда предстает достойным сочувствия грешником, чья вина и раскаяние, побудившее его принести себя в жертву через самоубийство, подчеркивает и даже отражает невинность Иисуса, равно как и Его добровольное самопожертвование. Более благоговейное отношение Матфея к Иисусу, который в Евангелии от Марка показан легко поддающимся переменам настроения и одиноким, влечет за собой более человечный подход к Иуде, выражающийся акцентированием двух тем: божественным предвидением Иисусом своей судьбы и самоубийством Иуды. Помимо того, что Иуда, висящий на дереве, раскаивается в том ужасном и, возможно, неумышленном зле, причиненном Иисусу, которому предстоит быть повешенным на кресте, эта жуткая параллель у Матфея устанавливает еще более прочную связь между предателем и Сыном Божьим. И все-таки сложный образ Иуды у Матфея служит также «зерном» для антисемитизма более позднего времени.
Главное, что привносит Матфей в повествование и чего нет у Марка (что часто подмечают исследователи, но редко обсуждают в контексте влияния на образ Иуды), — это возросшая нравственная мудрость Иисуса. Евангелие от Матфея изобилует нравственными поучениями Иисуса — беседами, рассуждениями, иносказательными притчами, изречениями и молитвами, и оно заметно длиннее, чем Евангелие от Марка. Помимо того, что Матфей устанавливает генеалогическую связь Иисуса с Давидом и Авраамом, он также постоянно цитирует иудейские священные тексты, содержащие предсказания, исполнившиеся с жизнью Иисуса.
[70] Иисус Матфея считает Себя воплощением пророчеств Исайи, Он осознает, что должно произойти, и выказывает мудрое, смиренное, принятие своего земного пути во исполнение пророчеств еврейской Библии и предательства как предопределенного и неизбежного.
В перечне тех, кто обладал властью врачевать болезни и изгонять нечистых духов, «Иуда Искариот, который и предал Его» (10: 4), упоминается Матфеем последним, как и в Евангелии от Марка. Как и другие апостолы, Иуда будет возвещать благие вести, став мудр, как змий, и прост, как голубь. Вместе с другими одиннадцатью, которые у Матфея предстают более проницательными, чем у Марка, Иуда постигает значение хождения Иисуса по морской глади и поклоняется Ему, признавая: «истинноты Сын Божий» (14:33). Сам же Иисус у Матфея, верный воинствующему служению, называет апостолов своей матерью и своими братьями (12:49), долженствующими отказаться от всех своих прежних привязанностей и претерпеть тяжелые испытания, когда, по пророчеству Иисуса, «предаст … брат брата на смерть, и отец — сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их» (10:21). Иисус подробно наставляет апостолов, менее своенравных и более надежных, чем у Марка, уподобляться Учителю в апокалиптическом и враждебном мире, который Он несет: «Довольно для ученика, чтобы он был,
как учитель его», но «не выше учителя»; ученик должен быть
«как учитель его» во времена раздоров и гонений (10: 24-25, выделено автором).
Несущий «не мир… но меч», строящий Церковь, Иисус приходит на землю «разделить человека с отцем его, и дочь с матерью ее» (10:34). Он часто разъясняет последователям Свое понимание страданий, которые Ему предстоит претерпеть от первосвященников из-за Своего радикального проповедничества (16:21).
[71] Поскольку Иисус у Матфея не делает тайны из Своей миссии (тому в Евангелии есть множество подтверждений), как в Евангелии от Марка, то те иудеи, которые не внемлют Его словам, более заслуживают порицания за верность тому, что преподносится как устаревшая вера. С самого начала и на протяжении всего повествования у Матфея Иисус высмеивает и осуждает книжников и фарисеев, как слепых лицемеров, считающих Его способность изгонять нечистых духов бесовским даром, а его труд в субботу нечестивым, а также как неспособных понять Его или следующих своей Торе.
В Евангелии от Матфея Иисус сокрушается и скорбит от того, что Иерусалим — город, «избивающий пророков и камнями побивающий посланных» к нему (23:37). В третий раз предсказывая свою смерть и Воскрешение, Иисус Матфея сообщает «двенадцати апостолам», что «Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть» (20:18). Длинные и яростные обличительные речи в адрес продажных первосвященников и фарисеев, воспроизведенные Матфеем в главах 21-23, только сгущают тучи, нависающие над Иисусом, поскольку иудейские власти усматривают в Его притчах намеки на их нравственное падение и ищут способ отомстить и выдвинуть Ему встречные обвинения. Готовясь к празднику, Иисус говорит Своим ученикам: «Вы знаете, что чрез два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие» (26:2). Все эти пророчества подчеркивают фатализм событий, излагаемых в Евангелии, сюжет которого уже не может обойтись без изменника, способного предать Иисуса иудейским книжникам и фарисеям, алчущим отмщения за оскорбления. В свете этой фатальности событий или их божественной предопределенности Иуда выглядит заложником божественного плана и потому вызывает сострадание.
Вторым новшеством, привнесенным Матфеем -в евангельский сюжет и активно обсуждаемым библеистами, является мотив искупления Иудой своей вины путем принесения в жертву собственной жизни — мотив, зеркально отражающий самопожертвование Самого Иисуса. Но описанию гибели Иуды предшествуют различные, на первый взгляд, малозначимые, поправки в сюжете, открывающие более лицемерному — в трактовке Матфея — Иуде путь к покаянию в конце истории. Резким контрастом описанной Марком сцене в доме Симона прокаженного предстает недвусмысленное свидетельство Матфея, что «ученики Его» были там и «вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим» (26:8—9). И когда
сразу же за этим следует поход к первосвященникам Иуды - «одного из двенадцати» (26:14) - отчуждение на почве недовольства только еще больше акцентируется: как и другие ученики, и по тем же, совершенно понятным причинам Иуда протестует против траты денег на обряд помазания вместо помощи нуждающимся.
И все же в Евангелии от Матфея именно Иуда, а не первосвященники поднимает вопрос о материальном вознаграждении. «Что вы дадите мне, и я предам Его?» — спрашивает он. Впервые нам указывается на то, что Иуда хочет нажиться. Но что означают эти деньги, если верна сумма, названная Матфеем (и только Матфеем!)? «Они предложили ему тридцать сребреников» (26: 15) - эта строфа в учебных изданиях Библии обычно сопровождается комментарием, поясняющим, что столь ничтожная сумма дважды упоминается в еврейской Библии. В Книге Пророка Захарии (11:12— 13) благочестивый пастырь стада (овцы выступают как аллегория людей), обреченного на заклание Богом, потерявшим терпение из-за его непокорности, отказывается пасти его со словами, что стадо может дать ему плату или не дать — как сочтет угодным. Получая тридцать сиклей серебром,
[72] пастырь восклицает: «И сказал мне Господь: брось их в хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня!» Во Второй Книге Моисеевой — Исходе - один из законов о рабе или рабыне, которых забодал вол, гласит: «господину их заплатить тридцать сиклей серебра, а вола побить камнями» (21: 34).
Что следует из этих странных намеков на Иуду, как на обманутого пастыря или рабовладельца, и несоответствия уплаченной суммы неоценимому труду или непоправимому вреду? В обоих случаях сумма ничтожно мала, чтобы служить достойной компенсацией (за стадо, не заслуживающее пастуха или за мертвого раба). Вот почему в «Книге Пророка Захарии» пастырю велено выбросить деньги, а в «Исходе» быка надлежит забить камнями; то есть деньги не являются полноценным возмещением за сделанную работу или погибшего раба. Подобно стаду или рабам, Иисус обречен быть убитым; но, в отличие от непокорного стада, Он не отрекается от Своего Бога, и, в отличие от раба, он — свободный человек. Но тогда тем более шокирует та мизерная сумма, которую заплатили Иуде первосвященники: она никак не соответствует ценности жертвы, принесенной Иисусом. Элайн Пейджелс и Карен Л. Кинг уточняют: «Тридцать монет серебром были презренной ценой, в которую правители Израиля оценили Захарию (Зах. 11:12-13); столько же... вожди Иерусалима заплатили за Иисуса, выказав такое же презрение» (Elaine Pagels and Karen L. King 18). «Возможно, — размышляет А. М. Саари, — плата в тридцать серебряных монет, полученная Иудой, имела символичное значение: Иисус был куплен по цене раба и своей искупительной смертью спас все человечество от порабощения грехом и смертью» (Saari, 120). Впрочем, странно, что тридцать сребреников уравнивают Иуду с честными людьми, не по своей вине лишившимися собственности или работы, а не с жадными и корыстными дельцами.
То, что Иуда берет такие жалкие гроши, позволяет предположить, что он осознает их неуместность в той драме, действующим лицом которой становится; ведь точную сумму устанавливают первосвященники, а не он. Если читатель вспомнит, что Иуда был оскорблен тратой трех сотен динариев на миро для помазания, а не на нужды нищих, то тридцать сребреников, возможно, послужат ему намеком на то, что Иудой двигали вовсе не жажда наживы или алчность. Скорее, им, возмущенным самим обрядом помазания, совершенным над Иисусом и напомнившим ему акт культового поклонения, завладела обидная мысль о том, что его учитель может отказаться от проповедования идеи о нищих, наследующих на Земле. В знак протеста против растраты трехсот динариев Иуда берет всего тридцать сребреников: деньги служат лишь условным вознаграждением за то, что он мог бы сделать и даром. Удивительно другое — сумма, трактующаяся в Библии как ничтожно малая, со временем начинает символизировать жадность, или алчность, корыстного апостола.
[73]
В любом случае Иуда евангельский получает больше, чем Иуда из еврейской Библии, который решает, поедая хлеб со своими братьями, что ничего не выиграет от убийства своего брата Иосифа, и потому посылает его в египетское рабство за двадцать сребреников (Быт. 37: 25-28).
[74] В версии Матфея, Иуда начинает планировать выдачу Иисуса сразу после получения тридцати сребреников: «и с того времени он искал удобного случая предать Его» (26: 16). Эта расчетливость и перемена, происходящая с ним во время ритуальной вечери на Пасху, делают Иуду в глазах читателя более реальным —лживым и способным к предательству. И у Марка, и у Матфея все апостолы, встревожившись, начинают расспрашивать Иисуса, кто же предаст Его («Не я ли, Господи?»), но Матфей добавляет в повествование новую деталь. «Иуда, предающий Его», спрашивает: «не я ли, Равви?» На что слышит в ответ недвусмысленное: «Ты сказал» (26: 22, 25). Мотивация Иисуса остается здесь неясна; но получение Иудой денег, поиск им удобного случая, чтобы предать Иисуса, и при этом вкушение вместе со всеми пасхи свидетельствуют о его двуличности, даже порочности. Наделенный изворотливым умом, Иуда явно пытается избежать прямого ответа на свой вопрос («Не я ли, Равви?»), что, возможно, осознает, а может быть и нет, Иисус («Ты сказал»). В этой сцене Иуда отделяет себя от других апостолов, соблюдающих наказ Иисуса избегать чинов и титулов (23: 8-10); в то же время используемое им обращение «Равви» как будто связывает его теперь с иудейскими первосвященниками, чьи деньги он тайком хранит. У Матфея лицемерие Иуды на Тайной Вечере заложило основу для последующих нападок на иудеев за якобы присущую им всем лживость и двуличность. Как и у Марка, в Евангелии от Матфея Иуда принимает участие в Тайной Вечере, слышит предсказание Иисуса об отречении Петра, а затем тайком исчезает, чтобы появиться позднее в Гефсиманском саду с толпой народа и первосвященниками и поцелуем указать им на Иисуса. И Марк, и Матфей предваряют рассказ об аресте Иисуса Его восклицанием: «Вот, приблизился предающий Меня» (Марк 14: 42, Матф. 26:46). Но у Матфея Иисус отвечает на приветствие и поцелуй Иуды словами: «Друг, для чего ты пришел?» (26:50). Ни одного из остальных апостолов Иисус при обращении не называет «Друг».
[75] Подобно фразе «Ты сказал», этот вопрос, по существу, налагает ответственность на Иуду; ведь слово «Друг» — даже при прочтении его с толикой сарказма — свидетельствует, как о покорном приятии Иисусом своей участи, так и о Его тесной связи с Иудой. В сцене, следующей за отсечением уха рабу первосвященника, Иисус у Матфея вновь ведет себя несколько иначе, чем у Марка, подчеркивая неизбежность предначертанного Писанием. Иисус в более раннем Евангелии от Марка говорит пришедшим: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня». Затем уступает: «Но да сбудутся Писания» (14: 48, 50). У Матфея же Иисус протестует против их действий, подкрепляя свой протест предостережением о том, что «все, взявшие меч мечом погибнут», ведь Он может призвать легионы Ангелов, и в то же время рассуждает: но «как же сбудутся Писания, что так должно быть?» (26: 52, 54). И только затем Иисус Матфея повторяет, но уже утвердительно, чтобы подчеркнуть Божье предопределение: «Сие же все было, да сбудутся писания пророков» (26: 56).
Кроме того, при чтении Евангелия от Матфея вообще складывается впечатление, будто Иуда и Иисус действуют сообща, по уговору, словно каждый из них понимает необходимость другого для завершения повествования. Возможно, именно поэтому развязкой в истории Иуды у Матфея становится сцена покаяния. После совещания первосвященников и старейшин народа о предании Иисуса смерти и выдачи Его Пилату, Матфей описывает самоубийство Иуды:
«Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявши сребреники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; Посему и называется земля та Землею крови до сего дня (27: 3—8).
[76]
Подобно пастырю из «Книги Пророка Захарии», Иуда хочет бросить деньги в церковную сокровищницу; теперь он понимает, что содеянное им того не стоит, это худшее, что можно было сделать. И подобно Ахитофелу, изменившему царю Давиду, а затем удавившемуся (2-я Царств 17:23), Иуда вешается сам, что подтверждает вероятность того, что он донес на Иисуса, не осознавая, что это обернется пролитием «крови невинной».
[77] Фраза «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден» позволяет предположить, что Иуда не думал о том, что его действия могут повлечь смерть Иисуса. Но осудили его те же самые люди, что презрели Иисуса.
[78]
Включая в свое повествование сцену самоубийства Иуды, Матфей вбивает клин между Иудой и иудейскими властями и связывает Иуду с Иисусом. Замученный совестью Иуда бросает деньги в храме, поскольку первосвященники предают Иисуса смерти. В том, что первосвященники берут и используют «кровавые деньги» Иуды, содержится намек и на их ответственность за смерть Иисуса, поскольку к моменту распятия Его на кресте Иуда, отказавшийся от денег, уже мертв. При этом первосвященники остаются совершенно безразличными к греху Иуды, заключающемуся в том, что он предал «кровь невинную», подобно тому, как иудеи - теперь характеризуемые как «весь народ» - остаются безучастными к сомнениям Пилата по поводу предаваемого смерти Праведника. По версии Матфея, Пилат был упрежден через сон своей жены о невинности Иисуса и потому «умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего». Следовательно, вся ответственность за распятие Иисуса ложится на иудеев, сознательно обрекших на проклятие своих детей: «Кровь Его на нас и на детях наших» (27: 24—25). Чаша вина Христова — это «Кровь... нового завета, на многих изливаемая во оставление грехов» (26: 28); Иуда удостоверяет, что то «кровь невинного»; на его грязные деньги куплена «земля крови», кладбище для странников. Здесь, как и часто впоследствии, Иуда, отделяемый от иудеев, выигрывает с моральной точки зрения.
Едва ли стоит говорить, что самоубийство как акт раскаяния нельзя объединять с распятием невинного: о человеке, заслуживающем смерти за преступление и повешенном на дереве, Второзаконие говорит: «проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве» (21:23). Нов Послании к Галатам (3: 10—14) Павел приводит эту цитату из еврейской Библии, чтобы отменить это положение Закона, поскольку «Христос искупил» своих последователей от «клятвы закона».
[79] А если учесть то, что распятие считалось позорной казнью, жуткий параллелизм просматривается в том, что Иуда, ассоциирующийся с «землею крови», и Иисус, умирающий на лобном месте, — оба по своей воле отказываются от жизни на стволе дерева или доске. Идеал сакрального самоубийства Христа, совершившего суицид, восходит к древности: «Какой бы странной ни казалась некоторым идея суицида Христа, — пишет Джек Майлс об Иисусе, добровольно отказывающемся от своей жизни, — эта идея, которая может найти одобрение у христианина, даже фанатичного» (169).
[80] Сначала Иисус покорно соглашается на распятие, затем Иуда вешается на дереве. «Совершенно одинокий, предающийся самобичеванию» Иуда убивает себя, «даже не дожидаясь решения Пилата», и тут уместно напомнить, что «ни один Завет не содержит ни слова против самоубийства» (Даубе 312, 314).
[81]
Эту жуткую параллель между Иудой с безвольно висящим телом и лицом, обращенным к небу, и Иисусом, поднятым и распятым на кресте, воссоздает пластина слоновой кости северо-итальянского ларца, датируемого 420—430 гг. н.э. Контраст между свисающими конечностями Иуды и его обращенным вверх лицом вызывает сострадание к его участи. Мария, еще один апостол и римский воин, проявляющие внимание к фигуре справа, служат намеком на то, что
шокирующая театральность публичного распятия Иисуса затмила личную трагедию Иуды. В этой композиции явно слышится отзвук пусть и не выраженной ясно в тексте Матфея мысли о том, что самоубийство Иуды явилось результатом его заблуждений насчет возможных последствий своего доноса на Иисуса, равно как и нарушенного им золотого правила Иисуса: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (7: 12). У ног Иуды лежит брошенный кошелек. Преисполненный раскаяния, Иуда в конечном итоге, как и Иисус, изобличает безнравственность иудейских властей. Таким образом, в Евангелии от Матфея именно иудеи, а вовсе не Иуда, воплощают лицемерие народа, не исполняющего того, что проповедует.
Резким контрастом раскаянию Иуды еще до распятия Иисуса в Евангелии от Матфея предстает обращение иудеев после Его распятия к Пилату с прошением поставить охрану у гроба Иисуса, чтобы его ученики не украли Его тело и не распространили ложные вести о Его Воскрешении. Когда же фоб обнаруживают пустым, первосвященники и старейшины подговаривают римских воинов, посулив им деньги, пустить слух о том, что ночью, когда они спали, тело Иисуса выкрали его ученики. Манипулирование людьми, подтасовка фактов, подкуп и обман, на которые идут иудейские старейшины, резко контрастируют с молчаливым страданием Иисуса и Иуды. Итак, Матфей включает в свое повествование новый фрагмент о немедленном раскаянии, обращении и смерти Иуды. Но позволило ли ему это внести и другие существенные смысловые корректировки в версию Марка, прежде всего, в описание Воскрешения Иисуса и Его воссоединения со своими учениками? Этот вопрос возникает не случайно: ведь Иуда у Матфея оказывается первым, кто постигает ценой своей жизни божественную сущность Иисуса. Обращение Иуды предсказывает то, что доказывает Воскресение — божественную ипостась Иисуса. Если в Евангелии от Марка содержится намек на то, во что, возможно, он верил - не Иуда, но Бог «предал [Сына Своего] за всех нас» (К Римлянам 8:32), - то Матфей в своем Евангелии намекает, что через распятие Сын Божий «возлюбил меня и предал Себя за меня» (К Галатам 2:20).
Конечно, подобная интерпретация параллелей между Иисусом и Иудой, навеваемая воспроизводимыми Матфеем деталями, не является обязательной или безусловно верной. Но все же брошенная Земля крови горшечника прочно связывает Иуду с теми, кто умирает на чужой земле, без родных и близких, без своих обрядов и ритуалов, без своей истории.
[82] То, что Иуда заплатил за грехи своей жизнью, подчеркивается в заключительной главе Евангелия, в которой Матфей описывает
«одиннадцать учеников», идущих в Галилею, чтобы увидеть воскресшего Христа (28:16). Несмотря на то что Матфей настаивает на осуждении и наказании тех, кто грешен, его Евангелие закладывает основы для возможного восприятия в дальнейшем Иуды, как воплощения отчаяния, жуткого предшественника Иисуса, в равной степени чуждого обладающим властью римлянам и лицемерным иудейским правителям, контролирующим народ Иудеи. Тонкую грань между самоубийством и жертвенностью вскрывает противопоставление смертей Иуды и Иисуса: Иуда принимает смерть в наказание, Иисус идет на смерть смиренно, сознательно принося себя в жертву. Наконец, своею смертью Иуда, образно выражаясь, исполняет наказ Иисуса, который Он проповедовал ученикам: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего; довольно для ученика, чтобы он был,
как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его» (10: 24—25, выделено автором).
Читатели, пытающиеся оценить степень вины и раскаяния Иуды, могли бы оправдать его на основании нравственных и этических принципов, которые Иисус у Матфея провозглашает в Своих беседах и притчах: «молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (5:44); «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш Небесный» (6:14); «не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (10:28); «потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее» (10: 39). И если Милтон Уильяма Блейка, толкующий пути Бога к людям, бессознательно ставит себя в один ряд с Сатаною, то Матфей, возможно, сам того не желая, поддерживает Иуду, который в конечном итоге следует наставлениям Иисуса в Евангелии, что открывает возможность более поздним интерпретаторам для толкования его мотивации.
Одержимый Сатаной изменник у Луки
С каждым изменением, которые Лука привносит в евангельское повествование, Иисус наделяется все большей божественной силой, тогда как Иудой все больше овладевает сатанинское зло, при том что их история преподносится автором, как «тщательное исследование» отдаленного прошлого (Лука 1:3).
[83] Если у Матфея Иисус только предвидит свою участь, то в Евангелии от Луки иногда кажется, будто Иисус регулирует все происходящее, контролирует весь ход событий, необходимость которых Он признает и утверждает (9: 22,44; 13:33; 17:25). С того момента, как евангелист устами Ангела Гавриила заявляет об Иисусе как «Сыне Божьем» и до явления воскресшего Иисуса двум ученикам, следовавшим в Еммаус, Иисус Луки ассоциируется с чудесными исцелениями и поучительными притчами, подчеркивающими Его исполненность Святого Духа и тесную с ним связь (4:1), а также Его доброе отношение не только к нищим и женщинам, но и к презиравшимся в иудейском обществе сборщикам податей, самаритянам и римлянам. Ведь движут Иисусом в этом Евангелии универсализм, идеи всеобщности бытия, сделавшие потом новую Церковь столь привлекательной и для неевреев.
[84] Иуда же, воплощающий бесчестность и низость иудейских властей, не ведающих, какое зло они творят, начинает лишаться прощения.
В первом перечне двенадцати у Луки указаны два апостола по имени Иуда — Иуда, сын Иаковлев, и Иуда Искариот, о котором Лука говорит, что он «потом сделался предателем» (6:16). Таким образом, в версии Луки Иуда предстает отнюдь не тем, кто совершит предательство лишь единожды, как у Матфея; евангелист сразу намекает на его изменническую натуру, на его отступничество, отпадение впоследствии от круга апостолов и их учителя. Сцену испытания Иисуса Дьяволом в течение сорока дней в пустыне, которое Иисус успешно преодолевает, Лука заканчивает словами: «И окончив все искушение, Диавол отошел от Него
до времени» (4:13, выделено автором). Это время наступаете приближением праздника опресноков:
«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им» (22: 3—4, выделено автором).
[85]
По логике Луки, к сговору со священниками и «начальниками» храмовых соглядатаев Иуду толкает вошедший в него Сатана, и эту логику подкрепляет высказанное ранее Иисусом обвинение в адрес фарисеев о том, что внутренность их «исполнена хищения и лукавства» (11:39). Кроме того, иначе описана в Евангелии от Луки и предшествующая акту выдачи Иисуса сцена с алебастровым сосудом; женщина обливает своими слезами, обтирает волосами, целует и мажет миром лишь ноги Иисуса; Лука не упоминает ни высокой стоимости драгоценного масла, ни тридцати сребреников (см. 7: 36). Лука мотивирует предательство Иуды не духовными, политическими или корыстными целями, а простой одержимостью Сатаной. Во время Тайной Вечери Иуда получает свой кусок хлеба, подаваемого Иисусом, как Тело Его, и чашу вина, «нового завета» в Его Крови, после чего Иисус замечает: «Рука предающего Меня со Мною за столом» (22: 21). Затем Иисус провозглашает, что «Сын Человеческий идет по предназначению» и предрекает «горе тому человеку, которым Он предается» (22: 22). В этих словах раннехристианский теолог отец Тертуллиан (с. 155—230) усматривает «проклятие и угрозу рассерженного и негодующего учителя» в адрес Иуды, который «должен быть непременно наказан Им за грех вероломства» (354).
На иллюстрации к рукописной Псалтыри, созданной в Сан-Жермен-де-Пре ок. 820-30 гг. н.э. и ныне хранящейся в Штутгарте, Христос подает Иуде евхаристические чашу и хлеб, а с ними — черную птицу, что, по мнению Гертруды Шиллер, «иллюстрирует слова Павла во 2-м Послании к Коринфянам: “кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе” (11:29)» (Gertrud Schiller? 34). Слова Павла явно перекликаются с Псалмом 39, где сказано: «Даже человек мирный со Мною, на которого Я полагался, который ел хлеб Мной, поднял на Меня пяту» (10).
[86] Эта строка перекликается с традиционными представлениями о том, что люди, делящие хлеб, не должны быть врагами. (Steiner, 413). Подобно современному карикатуристу, художнику IX в. удалось передать двуличность лицемерного Иуды — он повернулся к Иисусу, чтобы причаститься гостией (и духовно, и физически), но ноги уже несут его совершить зло, как приказывает Иуде темный дух, готовый завладеть им — и телом, и душой. Впрочем, возможно, этот Иуда, просто страдает синдромом «беспокойных ног».
Далее, у Луки, все апостолы спрашивают Иисуса, кто из них предаст Его. Дьявол вновь появляется в этой сцене, когда Иисус предсказывает отречение Петра: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу; но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» (22:31). Однако Иисус Луки, похоже, не молился об Иуде, чья вина возрастает, тогда как вина других одиннадцати умаляется. В отличие от Евангелий от Марка и Матфея, в Евангелии от Луки Иисус никогда не выговаривает Петру: «отойди от Меня, сатана» (8:33, 16:23). Заснувшие за молитвой на Масличной горе апостолы не выглядят уклоняющимися от своего долга; они засыпают только раз, а не три раза, и то - «от печали» (22:45). Что до приближающегося Иуды, идущего
«впереди» народа и «первосвященников... и начальников храма и старейшин, собравшихся против Него» (22: 47, 52, выделено автором), то Иисус встречает его с полным осознанием или предвидением того, что оскверняющего поцелуя удастся избежать: «[Иуда] подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его... Иисус же сказал ему: Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» (22: 47—48). Иуда не произносит ни слова «Равви», ни целует Иисуса. Сразу вслед за этим Иисус демонстрирует Свою Божественную силу: коснувшись раба Он излечивает ему отсеченное ухо. Перед тем как Его уведут, Иисус в тексте Луки мрачно заключает: «теперь — ваше время и власть
тьмы» (22:53, выделено автором). Эти слова впоследствии послужат основой для интерпретации образа Иуды как человека темного, дурного, управляемого Дьяволом. Черная птица в Псалтыре лишь предвестник тех многочисленных черных насекомых, летучих мышей, собак и других животных тотемов, которые свяжет с Иудой позднее творческое воображение многих художников и писателей.
В Евангелии от Луки об Иуде ничего больше не говорится; однако в самом начале его «Деяний Святых Апостолов», которые традиционно считаются неотъемлемой частью его Евангелия, Петр говорит другим ученикам о смерти Иуды, «бывшего вождя тех, которые взяли Иисуса; он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю неправедную мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть «земля крови». В книге же Псалмов написано: “Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем”: и “Достоинство его да приимет другой”» (1:16—20).
* * *
Подобно Матфею, пытающемуся объяснить называние участка земли «землей крови», Лука также связывает его с Иудой, но не раскаявшимся.
[87] Если у Матфея землю горшечника приобретают иудейские священники на деньги, брошенные им раскаявшимся и задумавшим самоубийство Иудой, то у Луки именно Иуда покупает на деньги первосвященников землю, на которую потом он и «низринулся». Само же слово «низринулся» вызывает ассоциации не только с падением Адама и Евы в Райском саду, но и с более ранним падением Люцифера, мифического восставшего Ангела. Не случайно у Луки Иисус «видел сатану, спавшего с неба, как молнию» (10:18).
Где мог Лука почерпнуть идею о том, что «выпали все внутренности» Иуды?
[88] Она напоминает об «ужасной смерти», постигавшей злодеев, сродни нечестивцу во II Маккавейской Книге, из тела которого «во множестве выползали черви и еще у живого выпадали части тела от болезней и страданий; смрад же зловония от него невыносим был в целом войске» (9.9).
[89] Поедают черви и Ирода Агриппу, пораженного Ангелом, в «Деяниях Святых Апостолов» (12:23). Впрочем, какой из источников ни цитирует Лука, идея выпадающих внутренностей явно перекликается с учением Иисуса о том, что «исходящее от человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство» (Марк 7 : 20—22).
Чтобы доказать, что участь Иуды являет свершение священного пророчества, Лука повторяет проклятия из Псалма 68: «Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Ибо, кого Ты поразил, они
еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают» (68: 27—28).
[90] В этом фрагменте из Септуагинты (греческий перевод Библии), автор псалма негодует на тех, кто ненавидит его без всякой причины, тех, кто намеревается уничтожить его. Лука уподобляет Иуду врагам псалмопевца, преследуемого ими «несправедливо» (68: 5) и надеющегося, что недоброжелатели его будут посрамлены и обесчещены. А поскольку гонители дали ему «в пищу желчь» и «напоили уксусом», он молит Господа об их наказании: «Да
помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и
чресла их расслабь навсегда» (68:24, выделено автором). Обыгрывает ли Лука метафоры помраченных глаз и расслабленных чресел, превращая их в своем тексте в «силу тьмы» и выпавшие внутренности, или нет, но он явно считает Иуду заслуживающим того наказания, которое вымаливает у Господа для своих врагов псалмопевец: «приложить беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою» (69: 28), тем самым отказывая Иуде в прощении. Запятнавший себя «землею крови», Иуда вычеркивается из книги живых, а его выпавшие внутренности указывают на то, что ему никогда не удостоиться очищения. Возвышающая духовная эсхатология Иисуса противопоставляется Лукой уничижающей скатологии Иуды. В «Деяниях Святых Апостолов» одиннадцать апостолов исключают Иуду из своего круга и передают жребий Апостольства Матфею.
В Евангелии от Луки апостолы не выглядят «дезертирами», как у Марка. Резким контрастом Иисусу, печалящемуся о том, что Бог покинул Его («Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» [Марк 15:34, Матф. 27:46]) у Марка и Матфея, в повествовании Луки предстает умиротворенный и спокойный Иисус: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой» (23:46). Безупречны у Луки и все светские правители: и Пилат, и Ирод считают Иисуса ни в чем неповинным и хотят отпустить Его (23: 14—16). Напротив, иудейские религиозные лидеры хитры, бесчестны и сребролюбивы (16:8-9). То, что закоснелые, черствые фарисеи лицемерны и превозносят сами себя (12:1, 18:13—14), представляется особенно важным в свете некоторых дополнительных упоминаний о храме, которые Лука вводит в ряд начальных и финальных эпизодов своей версии биографии Иисуса. Сначала Иисус был признан Мессией в храме (2: 36-38); в храме Его родители приносят жертву (2: 25, 39); в храм, который Он называет «домом Отца Моего», юный Иисус приходит и вступает в спор с иудейскими первосвященниками (2:49); а после воскресения Его видят возвращающимся в храм (24: 50-52).
В большей степени, чем Матфей, по мнению Паолы Фридриксен, Лука представляет «Иисуса гармонично реализующим все основные обещания Бога Израилю» (Fredriksen, 193), но книжники, первосвященники и саддукеи изводят Его и мстительно интригуют против апостольской церкви в Деяниях. Помимо того, что иудейские вожди вступают в сговор с Иудой, чтобы предать Иисуса смерти, они также оскорбляют мессианские идеи своей собственной традиции и таким образом оказываются сопричастными вселенскому злу. В Деяниях — как мы уже видели — Петр, обращаясь к «собранию человек около ста двадцати», говорит: «надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый
устами Давида об Иуде, бывшем
вожде тех, которые взяли Иисуса; он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего» (1:16—17, выделено автором). Иными словами, в далекие времена царя Давида уже было известно, что Иуда свершит свой гнусный поступок. Когда Сатана вселился в Иуду и он сговорился с первосвященниками, «они обрадовались и согласились дать ему денег; и он обещал...» (Лука 22:5). То есть и первосвященники, и Иуда в равной степени замарали себя столь ничтожной суммой. И одержимость Сатаной вовсе не оправдывает Иуду, обвиняемого в Деяниях в «неправедности».
Многие комментаторы отмечали, что Лука переосмысливает также и самое распятие: божественной акт искупительной жертвы во спасение грешного человечества превращается у него в убийство иудеями невиновного Иисуса, преисполненного Духа Святого. На кресте Иисус у Луки (и только у Луки!) просит «Отца» своего: «прости им, ибо не знают, что делают» (23:34). Однако прощение — слишком малая сила против зла подобной несправедливости, всю глубину которой, как дает понять Лука в своем Евангелии, постигнут не кровожадные иудеи, а неевреи, что спасутся через осознание вины и раскаяние. Неоднократно в Деяниях, — подчеркивает Бертил Гартнер, — греческие слова «предательство» и «предатель» применяются к иудеям, убившим Спасителя (Gartner, 24-25).
[91]
Дьявол-казначей у Иоанна
Что происходите Иудой, когда возвышенный Иисус превращается в «Слово... у Бога», «свет миру», «воскресение и жизнь» (11:1, 9:5, 11:25) в повествовании Иоанна, включенным в Новый Завет, но умалчивающим о многом из того, что рассказывается в трех более ранних Синоптических Евангелиях? За время трехлетнего, а вовсе не годового, служения Иисус у Иоанна неоднократно открыто, в пространных речах провозглашает Свою Божественную сущность: «никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (14:6). Иоанн не описывает, в отличие от Марка и Матфея, ни искушения Иисуса Дьяволом в пустыне, ни Его страдания в саду Гефсиманском, ни крик от мучительной боли на кресте. В этом Евангелии не описывается больше чудес, после того как Иисус превращает воду в вино и воскрешает Лазаря из мертвых. Но если Иисус у Иоанна предстает божественным - «Я и Отец — одно» (10:30), — то Иуда превращается в Дьявола, убивающего Бога, как, впрочем, и иудеи, играющие в Евангелии от Иоанна гораздо более важную роль, нежели в более ранних свидетельствах.
[92] Несмотря на то что многие иудеи, похоже, не одобряли первосвященников, а «истинно верующие иудеи, возможно, были настроены против храма» (Borg and Crossan, 43), Иоанн объединяет всех иудеев с иудейским священством и церковью. Столь же демонический, как и у Луки, Иуда у Иоанна наделен, тем не менее, совершенно иным характером (он — вор) и профессией (казначей у апостолов, хранитель их денежного ящика). На фоне разворачивающихся политических событий трактуется евангелистом, как представитель всего иудейского народа, всех иудеев — предателей, не гнушающихся сговора с врагом, заискивающих перед своими языческими римскими властителями.
Иуда Искариот появляется в Евангелии от Иоанна в тот момент, когда многим людям еще трудно принять слова Иисуса. Окруженный скептиками, Иисус у Иоанна интуитивно чувствует противодействие и при этом сразу определяет, что исходит оно из одного источника. С самого начала Иисус осознает, кому предначертано предать Его, равно как и сатанинскую природу предателя: «Иисус от начала знал, кто суть неверующие, и кто предаст Его» (6:64).
[93] После того как Симон Петр заверяет Иисуса, что апостолы уверовали в
Него и познали, что Он — «Христос, Сын Бога живого», Иисус отвечает ученикам: «не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас
Диавол». Далее Иоанн свидетельствует: «Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати» (6: 70-71, выделено автором). Как подмечает Генри Э. Келли «Это - первый и последний случай, когда кого-либо называют
дьяволом в Евангелиях» (110).
Дьявол воплощает ту связь, которую Иоанн устанавливает между Иудой и иудеями. В главе 8 отнюдь не первосвященники или фарисеи, а именно «иудеи» говорят Иисусу: «одного Отца имеем, Бога». На что Иисус возражает им: «если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего.
Ваш отец Диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (8: 41,42—44, выделено автором).
Последующее заявление Иисуса - «прежде ежели был Авраам, Я есмь» — побуждает иудеев взять камни и бросать их в Иисуса прямо в храме. Иуда, «диавол», в своей демонической одержимости связан с иудеями, чей «отец диавол», «отец лжи» (8: 44).
В Евангелии от Иоанна неверующие иудеи действуют через посланцев к фарисеям: «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много чудес творит; Если оставим Его так, то все уверуют в Него — и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. Один же из них, Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, И не подумаете, что лучше, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить Его» [11:47—53].
Иудейские религиозные лидеры здесь изрекают суррогатные пророчества, призванные обеспечить сохранение иудаизма под римским владычеством; Иисус воплощает Собой «угрозу священству, первосвященникам и их соглашательскому договору с римлянами (Smith 220).
[94] Под страхом нависшего уничтожения иудеи у Иоанна никогда не оказывают героического сопротивления мстительным римским карателям; вместо этого они замышляют коварный обман, предусматривающий принесение в жертву человека. Исторической справедливости ради следует заметить, что иудеи дифференцировали себя от язычников, отвергая человеческие жертвоприношения, но у Иоанна иудеи задумывают предать Иисуса смерти, чтобы сохранить свою святую землю и свой народ.
[95] Таким образом, по версии Иоанна, затеянный политический заговор включает план убийства. Иоанн усматривает в том иронию истории: иудеям неведомо, что ложь, которую они создают — «что Иисус умрет за народ, И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино», — в точности исполнится.
Разделяет ли Иуда идеологию этой клики или он только наживается на их замыслах? Этот вопрос порождает переосмысленная Иоанном сцена с драгоценным нардом, использованным для помазания ног Иисуса. «Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?» (12:15). Этот вопрос звучит и в более ранних Евангелиях, однако Иоанн вкладывает его только в уста Иуды и сразу же сопровождает его пояснением: «Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был
вор: он имел при себе денежный ящик и
носил, что туда опускали» (12:6, выделено автором). Оговаривая это, Иоанн отделяет Иуду от других апостолов и одновременно отвергает любое иное толкование, которое могло бы оправдать союз Иуды с фарисеями.
Устами Иисуса Иоанн рассказывает о судьбе апостолов и участи Иуды: «Никто из них не погиб, кроме
сына погибели, да сбудется Писание» (17:12, выделено автором). Выражение «сын погибели» появляется еще раз в Новом Завете, во «Втором Послании к Фессалоникийцам», где Павел описывает «человека греха» (2:3), который «откроется» перед последним пришествием Христа: антихрист, как и Иуда, человек, но исполняет волю сатаны
[96]. Иудой движет страсть к воровству или сам сатана, подобно тому, как иудеями у Иоанна движет не религия, но политическая выгода. Хотя некоторые из них и даже те, кто наделен властью, действуют под влиянием панического страха; часть иудеев верит в Иисуса, но репрессии, чинимые первосвященниками, столь сильно страшат их, что они скрывают свою веру, «чтобы не быть отлученными от синагоги» (Иоанн 12:42). Очевидно, что христиане времен Иоанна чувствовали себя в изоляции в своих иудейских общинах; демонизация Иуды и иудеев, возможно, являлась своего рода «защитным рефлексом» со стороны этого гонимого, вынужденного защищаться, меньшинства.
[97]
На Тайной Вечери перед праздником Пасхи, по свидетельству Иоанна, — еще до того, как Иисус решил омыть ноги своим любимым ученикам, -
«диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его» (13:2, выделено автором). Именно по этой причине Иисус Иоанна говорит апостолам: «Вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, поэтому и сказал: не все вы чисты» (13:10-11). Грязь Иуды, как и его верность дьяволу, связывает его с иудеями, поскольку Иоанн (в отличие от авторов синоптических Евангелий) описывает очищение храма «в самом начале служения Иисуса..., что позволяет предположить, что основной целью Его служения было очищение иудаизма» (Kysar, 6). Утверждение Иисуса «Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание» (13:18) может быть истолковано двояко: Иисус разбирался «в
породе людей - то есть Иисус избрал Иуду, полностью сознавая, что за человек тот был, либо Иисус знал,
кого именно он избрал, и Иуда к ним не причислялся» (Carson, 131). Сознательно или нет Иисус выбрал злодея Иуду, чтобы реализовать Свое мессианское предназначение, но Он явно заботится о том, чтобы апостолы верно поняли его слова: «Не обо всех вас говорю» (13:18). Поскольку они хотят знать точно, кто же предаст Его, Иисус, сидя за столом, подает им абсолютно ясный знак: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска
вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежащих не понял, к чему Он это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: «купи, что нам нужно к празднику», или чтобы дал что-нибудь нищим. «Он, приняв кусок, тотчас вышел; и
была ночь». (13:26—30, выделено автором).
Этот фрагмент включает целый ряд любопытных деталей. Чаще всего исследователи обращают внимание на тот факт, что эта вечеря — не Седер (ритуальный иудейский ужин, устраиваемый на Пасху. —
Прим. пер.); ведь Иоанн четко указывает, что вечеря проходит «пред праздником Пасхи» (13:1). Если так, то грядущее распятие должно совпасть по времени с ритуалом заклания ягнят в храме; таким образом, Иисус может воплощать приносимого в жертву Агнца Божьего. Как и в Евангелии от Луки, Иуда у Иоанна становится одержимым сатаной, которой входит в него с вкушением хлеба, поданного Иисусом. В отличие от свидетельств в синоптических евангелиях, Иуда у Иоанна не планирует предательства заранее, а решается на него во время вечери. И, если Иисус есть «Свет Истинный, который освещает всякого человека» (1:9), то Иуда олицетворяет гносеологическую и духовную темноту даже тех иудеев, которыми движут исключительно добрые намерения, — таких, как Никодим. Возможно, противоречие между фразой «Диавол уже вложил в сердце Иуде» [13:2] и строкой «и после сего куска вошел в него сатана» [13:27] является последствием множественных переписей и редакций Евангелия от Иоанна.
[98] В связи с этим Дж. Альберт Харрил отмечает, что слово «одержимость» не слишком подходит для описания того, что происходит с Иудой Иоанна, «потому что сатана едва ли будет входить в человека, который уже принадлежит ему (свое дитя)».
[99]
Во всех трех Синоптических Евангелиях Иуда разделяет священный хлеб и вино с другими апостолами, из-за чего у многих читателей может возникнуть ассоциация со строкой из псалма: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (40:9). Однако в Евангелии от Иоанна, в котором Иисус заблаговременно угадывает порочную натуру Иуды и в котором этот псалом цитируется (13:18), Иуде не предлагаются ни хлеб, провозглашенный «Телом» Иисуса, ни вино, провозглашенное Его «Кровью». Иисус не совершает здесь обряд евхаристии. Напротив, Иуда получает просто «кусок хлеба» и один его съедает, после чего в него входит сатана. На лицевой стороне кафедры собора Волтерра (XII в.) коленопреклоненный Иуда изображен по одну сторону стола, тогда как все другие апостолы сидят по другую. Как и в Евангелии от Иоанна, в этой композиции явно подчеркивается его сатанинская природа — у ног Иуды находится крылатый дракон с пастью, раскрытой в готовности поглотить его, и хвостом, свитым в кольца, как у змеи. В отличие от сидящих одиннадцати, Иуда опустился на колени в мольбе. Это явный намек на лживость, предопределившую его удел: вкусившего с кормящей руки Иуду пожирает дьявол. Его положение внизу, как и на многих картинах, иллюстрирующих Тайную Вечерю, подчеркивает уничижение Иуды, не заслуживающего поддержки, в отличие от любимого ученика, которому Иисус выказывает благосклонность и который блаженно покоится на Его груди. В отличие от Бога, Тело которого вкушается, как духовная пища, карликовый Иуда с чрезмерно большой головой и его дьявольский двойник - оба с широко раскрытыми ртами-пастями - жаждут уничтожения и проклятия.
И все же, Иисус у Иоанна побуждает Иуду быстрее исполнить задуманное. Остальные одиннадцать не постигают смысл происходящего, поскольку здесь впервые Иуда представлен не просто жадным воришкой, а чем-то вроде казначея, связанного с деньгами по долгу службы. Впрочем, трудно утверждать, что любовь к деньгам была основным мотивом предательства Иуды — ведь в Евангелии от Иоанна Иуда никогда не обсуждает с иудейскими священниками денежный вопрос. Просто «вор по натуре» (12:6) и дьявольской сущности, Иуда у Иоанна всегда творит зло, даже если не из материальной выгоды, а по причине алчности или гнева.
После ухода Иуды Иисус продолжает предостерегать одиннадцать учеников через новые заповеди — пространные речи и молитвы, в которых предсказываются гонения на апостолов, Иисус отождествляется с «истинной виноградной Лозой», звучат призывы «любить друг друга» и даже упоминается один «Иуда (не Искариот).
[100] Предсказывая апостолам, что восплачут они и возрыдают, Он обещает им прислать Утешителя, «ибо Сам Отец любит» их (16: 20, 27). Без тени сомнения, которое он выказывает в первых Евангелиях, Иисус у Иоанна обращается к Богу: «Славу, которую Ты дал Мне, Я дал им» (17:22), а затем идет в сад. «Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими» (18:22). По мнению Грэхема Стэнтона, «Иуда проявляет инициативу, выступает предводителем, и потому вся вина лежит на нем» (Stanton, 116); к тому же, у Иоанна он приводит в сад не толпу, а
«отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев», которые все противостоят Иисусу (18:3, выделено автором). Появление (вместе с храмовыми стражами священников и фарисеев) римского отряда - «когорты» (600 римских воинов) или манипулы (подразделения из 200 человек) в той же сцене, в которой в последний раз в Евангелии от Иоанна упоминается Иуда, придает развязке политический и идеологический подтекст (Brodie, 524).
В этой сцене не звучит обращение «Равви» и Иуда не целует Иисуса. Иоанн расставляет в ней иные акценты. Он подчеркивает, что Иисус заранее «знал все, что с Ним будет» (18:4), и описывает, как Он пытался защитить одиннадцать апостолов, прося воинов отпустить учеников, чтобы сбылось «слово, реченное Им: из всех, которых Ты Мне дал, я не погубил никого» (18:9). В этом противостоянии странно молчаливый Иуда стоит с теми, кому Иисус дважды говорит: «Это Я», тем самым обрекая себя на арест и одновременно побуждая воинов и служителей отступить назад и пасть на землю. Многие комментаторы Библии в дважды повторенном заявлении «это Я» усматривают параллель с открытием Богом своего имени Моисею: «Я есмь Сущий (Иегова)» (Исход 3:14). После того, как Симон Петр отсекает правое ухо рабу, которого Иоанн именует Малх, Иисус упрекает его: «вложи свой меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец» (18:11).
Иисус в Евангелии от Иоанна не желает, чтобы «чаша страданий» Его миновала. Не находим мы в нем также сцены суда в Синедрионе и обвинения в богохульстве. Вместо этого Пилат неоднократно отвергает обвинения против Иисуса и предает Его на распятие только под давлением возбужденной толпы. Ведь когда Пилату становится ясно, что Иисуса обвиняют в том, что он «сделал Себя Сыном Божиим» (19:7), он лишь страшится того, что это может быть правдой, и пытается убедить Иисуса, что в его власти освободить Его: «Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. С этого
времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю». (19:11-12)
На первосвященниках «больше греха», чем на Пилате. Таким образом, по версии Иоанна, Пилата вынуждают предать Иисуса на распятие
иудеи.
Не менее важным представляется и то, что иудеи у Иоанна политизированы; причем они предательски сотрудничают с врагом, потворствуя империалистам, колонизировавшим их, политически и психологически. Когда Пилат спрашивает: «Царя ли вашего распну?», первосвященники отвечают: «Нет у нас царя кроме кесаря» (19:15). Иудеи, отвергая любого, кто претендует «быть царем», в своей притворной вассальной преданности римскому императору, спасают свои тела, погубив свои души: Иоанн намекает, что своим подчинением языческому правлению они предают собственную веру и историю подготовки к приходу Мессии. Пассивно-агрессивный Иуда в повествовании Иоанна редко говорит или действует самостоятельно. Напротив, он олицетворяет лицемерие, подобострастие и малодушие грязных иудеев, связанных с Дьяволом, которые сначала вершат суд на основании сфабрикованных обвинений, а потом убивают Иисуса не как духовного лидера, но как мнимого мятежника против императорского Рима, принеся Его в жертву, как «агнца» ради своего выживания под властью империи.
Краткий обзор несоответствий
Стоит ли нам, подводя итоги, сопоставлять строки и сцены из Евангелий от Марка, Матфея, Луки и Иоанна вместо того, чтобы трактовать их по отдельности и выискивать несоответствия и противоречия в их рассказах о двенадцатом апостоле? И в древности, и позднее люди не разбирали критически каждое из Евангелий по отдельности так, как это делаю я. Вплоть до совсем недавнего времени Марк, Матфей, Лука и Иоанн считались заслуживающими полного доверия очевидцами, чьи свидетельства следовало рассматривать в совокупности ради установления истины.
[101] Даже сегодня, как справедливо подмечают Маркус Дж. Борг и Джон Доминик Кроссан, «нам чаще всего преподносят историю о смерти Иисуса, как сводную компиляцию Евангелий и Нового Завета в целом» (139). (Marcus J. Borg and John Dominic Crossan, 139). Приводя ниже перечень различий, я хочу не дискредитировать авторов Евангелий, а всего лишь продемонстрировать, что при попытке составить обобщенный портрет или историю Иуды на основании их рассказов возникает масса вопросов и загадок. Любая попытка свести воедино свидетельства Марка, Матфея, Луки и Иоанна чревата выявлением разнообразных расхождений и противоречий. Именно эти несообразности и неясности, подобно магниту притягивавшие самых разных и с веками только приумножавшихся толкователей, обеспечили жизнь после смерти в Новом Завете вымышленному Иуде. Эти загадки пытались решить теологи и мыслители любого толка, а также представители едва ли не всех видов искусств. А как — это мы увидим на последующих страницах этой книги.
Итак, ниже я привожу краткий обзор тех смущающих разночтений, которые выявляются только при сравнительном анализе всех Евангелий и которые периодически будоражат творческое воображение. Этот обзор включает очевидные и понятные расхождения в видении событий в разных повествованиях; необъяснимые заключения или выводы; а также парадоксы. Их перечень составлен в хронологическом порядке, чтобы сохранилась последовательность рассказа об Иуде, и каждый пункт в нем является вопросом, который можно начать словами «как может быть, что...» или «в чем причина того, что...»:
— Иисус избрал Иуду в ученики, наделив его силой исцелять болезни и проповедовать послание о любви, даже несмотря на то, что Сын Божий изначально знал, что в Иуду уже вселился или вот-вот должен вселиться Сатана.
— Будучи вором, двенадцатый апостол, тем не менее, был назначен казначеем, и ему был доверен «денежный ящик».
— Иуда, вместе с несколькими или всеми учениками, возражал против использования драгоценного нарда для помазания Иисуса; либо он один протестовал против этого, потому что был вором.
— Иуда замыслил измену уже в самом начале служения Иисусу, либо при посещении первосвященников перед Тайной Вечерей, либо во время последней трапезы после того, как получил из рук Иисуса кусок хлеба; и это было предсказано царем Давидом.
— Хотя Иуда и был вором, но к предательству его подвигла не жадность, поскольку он не просил денег у первосвященников; либо — когда он спросил, что первосвященники дадут ему взамен, те предложили ему, а он принял жалкие гроши.
— Иуда присутствовал на Пасхальной вечере в четверг ночью; либо этот четверг пришелся на день до Пасхи; Иуда исчез во время трапезы, тогда как другие одиннадцать апостолов остались.
— Иуда удостоился всех знаков заботы, которую Иисус проявил к Своим ученикам, радея об их вечной жизни, включая святую евхаристию, либо омовение ног; но не отказался от предательского замысла.
— В тот момент, когда Иуда начал воплощать свой дьявольский план, Иисус велел ему идти и действовать быстро.
— Иуда пришел в Гефсиманский сад с толпой народа, первосвященниками и старейшинами; либо он привел отряд римских воинов и стражников от первосвященников.
— Иуда поцеловал Иисуса, чтобы представители властей смогли опознать Его; либо предпринял попытку поцеловать Иисуса; либо, вместо этого, молча наблюдал, как воины и стражники падают ниц перед Иисусом.
— Единственный ученик, которого Иисус называл «другом» в Синоптических Евангелиях, выступил в роли врага.
— Иуда раскаялся, возвратил деньги и повесился; либо он «низринулся» на землю, купленную им на неправедные деньги.
— Иисус объяснил Иуде, что тому не следует губить душу, проявив тем самым заботу о нем; но Иуда покончил жизнь самоубийством, повесившись или «низринувшись».
— Хотя действиями Иуды управлял Сатана, за самим Иудой закрепилось клеймо нечестивца.
— Иисус поведал Своим ученикам, что лучше бы было предателю не родиться; в то же время, Иисус также говорил им, что знает, кого Он избрал, дабы свершилось предначертанное Писанием.
— Проводник Божьей воли — распятия и воскрешения — был, по мнению Иисуса, нечистым грешником.
— Иисус заверил двенадцать в приходе царствия, в котором им предстоит воссесть на престолы, чтобы судить двенадцать племен Израилевых; однако Он назвал Иуду потерянным сыном погибели.
— Зло Иуды было благом Иисуса; его вероломство предопределило выбор человечества.
Думается, большинству читателей должно стать ясно, что увязать абсолютно все несоответствия и расхождения в обобщенном повествовании об Иуде, как, впрочем, и составить его общий портрет, — очень трудно, практически невозможно.
[102] Последующие главы этой «культурной биографии» наглядно показывают, что сильно разнящиеся образы Иуды объясняются нечем иным, как попытками замолчать или, наоборот, акцентировать различные аспекты Нового Завета его интерпретаторами. Различные интерпретации образа Иуды связаны с огромным количеством явных текстуальных неувязок. Учитывая то, что некоторые детали евангельских историй явно противоречат друг другу, обойти их молчанием или вообще «не заметить», действительно, гораздо проще. К примеру, при акценте на воровстве Иуды становятся неуместными его участие в евхаристии или омовение ног; в историях, где Иисус просит Иуду делать задуманное быстрее, можно опустить рассказ о том, что он «низринулся». Некоторых художников и мыслителей пробелы в новозаветных повествованиях побуждают к попыткам воссоздать отсутствующие сведения. Других евангельские противоречия и несоразмерности подталкивают к поиску логического их объяснения, хотя на этом пути они обычно выделяют одни детали, жертвуя другими. Прежде чем мы обратимся к послебиблейским версиям Драмы Страстей Господних, имеет смысл скрупулезно проанализировать, что означало нарастание отрицательного отношения к Иуде в четырех, хронологически сменявших друг друга, Евангелиях.
Иудейско-христианская интермедия
При всей своей поверхностности, мой анализ различных подходов евангелистов к предателю в Драме Страстей Господних позволяет предположить, что по мере того, как Иисус возвышается в Своей духовной силе и становится Христом, Иуда деградирует нравственно и морально. Иными словами — когда и по мере того как Иисус утверждается в Своей божественной силе, Иуда превращается в сатанинскую фигуру. Механизм этого превращения зависит от тех, кто его окружает и с кем ему приходится взаимодействовать. У Марка Иуда остается тесно связанным со всеми, слишком боязливыми и далеко не безупречными, апостолами, особенно Петром. У Матфея Иуда оказывается в полной изоляции, что в конечном итоге толкает его на самоубийство, которое, как нельзя лучше, удостоверяет и отражает невиновность Иисуса. У Луки Иуда действует во власти Сатаны только для того, чтобы встретить заслуженный отвратительный конец. У Иоанна Иуда — Дьявол, и его предательское сотрудничество с иудеями, одержимыми Дьяволом, поддерживает их раболепное выражение вассальной преданности римским захватчикам путем убийства Бога. Эта новозаветная трансформация образа Иуды означает, что теории исследователей, которые сомневаются в историчности Иуды, и о которых я упоминаю во введении, опираются на свидетельства различных
Евангелий. Так, теория Фрэнка Кермода о том, что история о предательстве нуждается в предателе, выглядит правдоподобной для самого раннего Евангелия, тогда как мнение Хайяма Маккоби и Джона Шелби, что Иуда позволил христианам противопоставить себя «иудеям, как племени Иуды», представляется оправданной при ориентации на более поздние Евангелия.
Большинство библеистов объясняют усилившееся со временем отрицательное отношение к Иуде и иудеям гонениями на общины христиан, их изгнанием из синагог в тот период, когда писал свое Евангелие Иоанн. Авторы более ранних Евангелий считают себя иудеями, тогда как авторы более поздних Евангелий и те общины, к которым они обращаются, скорее всего, определяли себя уже, как христиан, противостоявших нехристианам-евреям, которые после сокрушительного поражения в Иудейской войне против Рима и разрушения Второго Храма в 70 г. н.э. начали причислять их к еретикам и всячески притеснять их. «Евангелия писались с полным осознанием того факта, что учение Иисуса распространялось быстрее среди неиудеев, чем среди иудеев», — отмечает Э. П. Сандерс. «И потому, — продолжает он, — неиудеи в некотором отношении “деиудаизировали” схему, акцентировав отречение иудеев от Иисуса» (Sanders, 80). Более резка в своем суждении Розмари Рэдфорд Рутер, считающая, что авторы Нового Завета «перенесли вину за смерть Иисуса и Его учеников с римских политических властей на иудейских религиозных лидеров» (88).
[103] Иными словами, в большей или в меньшей степени, но все евангельские авторы намекают на то, что в распятии следует винить религиозных вождей иудеев, а не политические власти - римлян. С большим или меньшим рвением авторы Евангелий декларируют фундаментальные расхождения и разногласия между иудеями и Иисусом, между иудейскими властями и последователями Иисуса.
Однако роль Иуды разрушает этот умысел авторов, выявляя взаимосвязь иудеев и христиан. Тот факт, что Иуда входит в круг апостолов — евреев, верующих в Иисуса, — но при этом передает Иисуса в руки неверующих в Него иудеев, первосвященников и фарисеев, препятствует построению или ломает единую концепцию повествования евангелистов. Независимо от того, как разные евангелисты преподносят свою «версию» Драмы Страстей Господних, все они единодушно утверждают, что Иисус был не просто арестован, обвинен в провозглашении Себя «Царем Иудейским» и убит либо римлянами, либо иудеями. Все они признают, что Иисус был обречен на смерть одним из тех, кто входил в круг его приближенных, и, поступая так, они неизбежно стирают любое четкое и ясное различие между теми, кто следовал за Иисусом, и теми, кто его последователями не являлся. Сбивающее с толку предательство, мучения и самое тяжелое — одиночество в трудную минуту — все это исходит не от известных врагов, а от доверенных друзей.
Нечеткая граница между преданным апостолом и ненадежным отступником отражает нечеткое, но уже намечающееся разделение между иудеем и христианином в Древнем мире: вот, что вскрывает обобщенный портрет Иуды в Новом Завете. То есть Иуда олицетворяет взаимосвязь, проницаемость или смешение иудаизма и христианства, трудность отрыва христианства от своих иудейских корней. Перебежчик или посредник, Иуда выдает (предает, передает, вручает) Иисуса или сведения о Его местонахождении, либо о политической деятельности, либо об Его учении первосвященникам. Иуда также смешивается с толпой людей, собирающихся вокруг Иисуса во время его поучительных проповедей и исцеления больных, он находится вместе с избранными Иисусом учениками и последователями во время трапез, поучений, совершения чудес и отправления обрядов. Действительно, он проповедует приближение Царства Небесного, совершает помазание миром больных, исцеляет их и изгоняет бесов. Только в Евангелии от Иоанна Иуда замечен с римскими солдатами (при аресте Иисуса), но в этой сцене он хранит молчание. В любопытном эссе «Создавая Иуду» Кёрк Т. Хагис описывает, как Иуда «попадает между священниками снаружи и Иисусом и апостолами внутри», как он «переходит границы» и «перемещается взад-вперед из одного мира в другой», блуждая между апостолами и священниками (Kirk T.Hughes, 225).
Иуда вращается между маленькой группкой преданных Иисусу людей и остальным миром, управляемым храмом и его служителями, не определившись в своей лояльности и приверженности ни к одной из групп. Он — связующее звено между теми, кого впоследствии назовут христианами, и теми, кого позднее причислят к иудеям. Замешательство, которое Иуда может вызвать у читателей Евангелий, возможно, сродни тому чувству, что испытывали древние евреи-христиане или евреи-нехристиане - до того, как эти два понятия стали диаметрально противоположными. Такой ракурс еще больше обособляет Иуду от других апостолов, подчеркивает его «аномальность». Но именно под таким углом зрения Иуду можно соотнести с тем множеством людей, которые сначала собираются вокруг Иисуса в благоговении и восхищении, но очень быстро восстают против Него в неверии и гневе. Колебания Иуды воплощают тех из общей массы, кто то прославляет, то критикует Иисуса в Евангелиях. Иуда находит себе место среди апостолов. Но, вместе с тем, он олицетворяет собой и народ, изображенный в Новом Завете, — тех сбитых с толку, прибывающих в смятении и замешательстве, безвестных людей, которые внимают каждому слову Иисуса, приносят своих детей, чтобы Он только прикоснулся к ним, и кричат «Осанна!», но которые также и насмехаются над Ним, лжесвидетельствуют против Него, называют сумасшедшим, плюют в Него или требуют помилования Вараввы, а не Иисуса.
[104]
Также как и Савл (Павел), только иначе, Иуда высвечивает общее и различное между иудаизмом и христианством.
[105] И хотя составить полноценное представление о христианстве до того, как оно стало оформившейся религией не легко, Иуду тех смутных времен вполне можно представить кем-то вроде обывателя, не способного понять, кому стоит доверять, а кому — нет. В подвластной римлянам Палестине в период между двумя Заветами, во времена Второго Храма, приверженцы иудаизма являли собой эклектичную смесь обычных крестьян, равнодушных к жарким теологическим спорам фарисеев, саддукеев, эссенов, раввинов, священства и зелотов, воззрения которых на значение Торы и устной Торы, важность и место храма в культе, реальную связь между духовными и политическими практиками и между человечеством и Божественным, сильно разнились.
[106] Различавшиеся своими представлениями и прогнозами, каким будет Мессия и что принесет, все эти группировки спорили и полемизировали друг с другом, стремясь воскресить дух Исхода, то есть договора Бога с еврейским народом и освобождение евреев из Египетского плена. На фоне подобных напряженных и сложных разногласий колебания, нерешительность или непостоянство, характеризующие склад мышления и действия Иуды, могли отображать реакцию многих, если не большинства, людей. То был сумбурный, нестабильный период, о котором пророчествовал Иисус у Матфея: «Предаст же брат брата на смерть» (10:21).
Нетипичный апостол Иуда олицетворяет общество, в котором жили сначала Иисус, а затем те общины, которые чтили и хранили историю жизни и учение Иисуса. По мнению Даниэля Боярина, вплоть до конца IV в. «иудаизм и христианство были, по сути своей, неразделимы, и не только в общепринятом смысле, как христианство и иудаизм, но и в смысле тех различий, которым в надлежащее время суждено было стать основой для разделения «двух религий» не между, а внутри формировавшихся групп евреев, последователей Иисуса, и евреев, которые за Иисусом не следовали» (Daniel Boyarin: Border Lines, 89). Боярин поясняет: «были евреи-нехристиане, которые верили в Слово Божие, Мудрость, или даже Сына Божьего, как «второго Бога», и в то же время были те, кто верил в Иисуса, но считал, что три ипостаси Троицы были лишь тремя именами различных воплощений одного Лица» (90). Именно эти расхождения Боярин называет «различиями
внутри» и отделяет от возникших впоследствии «различий
между» (90). Когда Иуда описывается, как «один из нас», мы можем трактовать это, как намек на различия
внутри сложной общины евреев-христиан и евреев-нехристиан; когда же Иуду называют «одним из них», мы наблюдаем уже различия
между христианами и иудеями.
Чем же можно объяснить то, что самое исторически точное и наиболее мягкое по форме изложения свидетельство об Иуде в самом раннем Евангелии от Марка, оказало наименьшее влияние? До середины XX в. Евангелию от Марка отказывали в должном внимании, недооценивая и даже пренебрегая им в пользу прочих, тогда как наиболее влиятельное Евангелие от Иоанна подогревало антисемитскую теологию и художественное воображение на протяжении 2000 лет. А ведь только в версии Иоанна Иуда не разделяет вместе со всеми учениками священную трапезу, через которую он приобщается в синоптических Евангелиях к Телу и Крови Иисуса.
[107] Таким образом, в трактовке Иоанна (и только Иоанна!) Иуде решительно отказано в воскресении, которое обещает Иисус: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (6:54). На фреске «Иуда, получающий плату за предательство» (ок. 1303— 1304) в Капелле Скровенья (Капелла дель Арена) в Падуе работы Джотто отразил удел, сужденный Иуде вплоть до Нового времени, во многом, «благодаря» Луке и Иоанну.
В отличие от длиннобородых и седовласых патриархов храма, Иуда Джотто в желтых одеждах и с рыжими волосами очень молод и, возможно, столь же пылок и энергичен, как и другие апостолы, но при этом у него вдавленный лоб и длинный, искривленный нос — подчеркнуто семитские черты, традиционно приписываемые евреям.
[108] Как и на миниатюре слоновой кости в Штутгартской Псалтыри Иуда запечатлен в профиль, что намекает на его бесчестность и двуличность. За его спиной и также в профиль изображено некое чудовище с головой волка или собаки, подстерегающее его, чтобы заполучить для Дьявола. Джотто отступает от традиции, поскольку «здесь уже состоялся обмен денег», «договор скреплен» и потому положенные Дьяволом руки на плечи Иуды — «обоснованный жест, подтверждающий принятие предложения» (Derbes and Sandona, 279).
[109] Возможно, темное пятно над головой Иуды и является результатом обесцвечивания красок, но оно создает зловещую ауру над ним. Демон, извивающийся позади Иуды, и Каиафа перед ним — Сатана и иудейский священник - с двух сторон окружают Иуду, обреченного выполнить приказание Дьявола. Этот мотив особенно выражен в древности и Средние века.
И все же даже момент взяточничества, запечатленный Джотто, не следовало бы считать мотивом, побудившим предателя к предательству, поскольку денежный ящик, который он сжимает в левой руке, напоминает зрителю о свидетельстве Матфея, согласно которому Иуда позднее возвратил деньги их прежним владельцам. Но в композиции Джотто все руки заговорщиков устремлены к Иуде, указывая на него, как на пропащего, обреченного, человека. Даже самая резкая книга Нового Завета может быть использована для объяснения, почему Иуда может быть понят как инструмент сил, ему неподвластных. Например, когда Иисус у Иоанна объясняет Пилату: «Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше», разве не значит ли это у Иоанна, что Иуда «не имел бы власти над» Иисусом, если бы она ему «не была дана свыше»? Или ранее, в том же Евангелии от Иоанна, в сцене трапезы, которую Иисус разделяет со Своими учениками, что может означать тот факт, что Сатана входит в Иуду после того, как тот получает хлеб из рук Иисуса? Не могли здесь Иоанн, у которого Иисус ранее провозгласил: «Я — хлеб живый» [6:51], предполагать, что Иисус приготовляет способ для завладения Иуды Сатаной? При таком прочтении, если трактовать кусок хлеба с вином как своего рода антиевхаристию, замышленную Иисусом как соучастником действа, — некоторые композиции в следующей главе, изображающие Иисуса предлагающим кусок хлеба Иуде, возможно, проводят связь между рукой Иисуса и ртом Иуды. Ведь Иисус у Иоанна говорит Иуде: «Что делаешь, делай скорее» (13:27).
Именно широкие возможности толкования делают Новый Завет столь притягательным для аналитиков, художников, музыкантов и писателей, в чьих работах получит впоследствии переосмысление этот персонаж, явно превосходящий силой личности целый ряд своих двойников-злодеев из еврейской Библии, в особенности Каина, убившего своего брата Авеля, и патриарха Иуду, продавшего в рабство своего брата Иосифа. Ведь Иуда уже в древних текстах может быть истолкован, как вероломный брат или родственник Иисуса. Действительно, в Новом Завете у Иисуса есть брат по имени Иуда (не Искариот), а имена «Иисус» и «Иуда» даже перекликаются между собой. И все же подобные аналогии и параллели не могут в полной мере отобразить магнетизм личности апостола-отступника, колебания которого драматизируют замешательство всех людей, внимавших новому учению Иисуса, и который благодаря своей близости к Иисусу послужил своего рода «катализатором распятия», но также и Воскрешения.
Название этой главы восходит к названию научного исследования Марины Уорнер, посвященного Пресвятой Богоматери: «Единственная среди женщин». К этой аналогии я прибегаю для того, чтобы показать, что Иуда, становящийся все более бесчестным, низким, и все более далеким от других учеников Иисуса в более поздних Евангелиях, в действительности, воплощает замешательство и растерянность, с которым встретили учение Иисуса большинство людей в Иерусалиме. Эта аналогия также позволяет предположить, что в более ранних Евангелиях Иуда, как бы странно это ни звучало, в чем-то напоминает Марию — не только в своей исключительности, но также и в предании Сына Божьего. В Евангелии от Матфея, Иисус, указывая на двенадцать Своих учеников, называет их не только Своими «братьями», но и Своей «матерью» (12:49). Это только подтверждает мнение некоторых исследователей о возможности двоякого перевода греческого слова «предать» — как «выдать» и как «передать, вручить, отдать». «Я первая, кто предала Его», — восклицает Мария в пьесе начала XX в. Робинсона Джеффера, когда она раздумывает над неумолимой связью между чревом и могилой.
[110] «Мы, матери, делаем это» (47), — добавляет она о детях, которых матери рождают на свет, только для того чтобы те стали заложниками судьбы. В книге современной писательницы Джамайки Кинкайда главная героиня Люси хочет порвать с мешающим ей жить прошлым, оковы которого в ее сознании ассоциируются с предательствами матери, которую она называет «мистером Иудой» (130).
На многочисленных средневековых мозаиках, витражах и иллюстрациях к манускриптам Мария изображается обнимающей и целующей Иисуса, как это делает Иуда в Евангелиях от Марка и Матфея. Как и Мария в Благовещение, Иуда испытывает шок в связи с рождением нового, новозаветного, Мессии. В одном «Ежедневном католическом требнике» верующим сообщается о связи между Марией и Иудой: «Среди тех, кто предстоял ближе всех Нашему Учителю, были многие, любившие Его и служившие Ему искренне и преданно. Но был также и один, вор, ставший предателем своего милостивого Учителя. И помазание Марии, и измена Иуды предварили гибель Сына Божьего - гибель, чрез которую нам милосердно дарована любовь и прощение грехов» (Daily Missal of the Mystical Body, 303). Без усилий Марии и Иуды Иисус никогда не стал бы Христом. Но если имя Марии сняло с женщин бремя проклятия, на которое их обрекла прародительница человечества Ева, то имя Иуды стало олицетворением демонизированного начала, обвиненного в чувственной похоти — именно того, что, как принято считать, воплощает Ева. Каким бы сложным ни был путь Иуды, хронологически он начал свою карьеру с воплощения зла. До Нового времени неверность, измена, Иуды (когда цена преданности столь велика!) высвечивает хрупкость доверия, подчеркивая благородное великодушие Иисуса. Что, если бы Иуде-изгою удалось подавить в себе противоречивые свойства своего характера или свои сомнения? Увы... Эти противоречия и в дальнейшим позволяли пытливым умам предпринимать попытки реабилитировать его, либо клеймить его имя позором.
Глава 3.
ПРОКЛЯТОЕ КРОВОСМЕШЕНИЕ: ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ И ПОЗДНЕЕ
Вплоть до Нового времени Иуда воспринимался как физическое и моральное чудовище, чьи наказания соответствовали его отвратительным преступлениям. В то время как церковь утверждала свои теологические доктрины, а развивавшийся капитализм свои коммерческие принципы, образ Иуды питал расистский фольклор об «оральном и анальном вырождении евреев». И все же, в народных легендах, балладах и пьесах Средневековья проклятие и отчаяние Иуды все чаще трактуются, как «Эдипов удел», благодаря чему отношение к нашему персонажу постепенно становится все более человечным.
* * *
Будь оглавление этой книги скроено на старомодный лад, подзаголовок данной главы звучал бы так: «Глава…, в которой Иуда приобретает ряд довольно специфических физических изъянов и недугов, мать и отца, жену и сестру, и совершает дальние путешествия по различным мифическим царствам, демонстрируя пагубные наклонности к самым разным преступлениям, от каннибализма до кровосмешения и отцеубийства, а вместе с тем— время от времени — и странную покорность уделу, подобающему его дьявольской юности». Во времена утверждения ранней и поздней церкви Иуда переживает дьявольскую стадию юности в своей исторической эволюции. Уже с древности получили хождение различные истории, пытавшиеся восполнить пробелы в евангельских свидетельствах о жизни и смерти Иуды или разрешить их многочисленные парадоксы. И все эти версии, развивавшие, уточнявшие или приукрашивавшие новозаветное повествование — будь то богословские рассуждения, картины, устные предания или пьесы-мистерии — являют нам два схожих портрета Иуды: Иуды демонического и Иуды обреченного. При этом Иуда все сильнее страдает множественностью личности, представая нам даже в каждой из этих ролей в разных воплощениях. Именно поэтому я поделила данную главу на несколько частей, каждая из которых посвящена определенной «ипостаси» демонического, а затем обреченного Иуды, несмотря на то, что в действительности они сосуществовали. Такой подход соответствует духу авантюрных готических сюжетов, в которых оказывается замешанным Иуда, не предпринимающий при том никаких попыток, чтобы стать целостной личностью и хоть как-то сгладить свою противоречивость.
[111]
И все же, название, выбранное мною для этой главы, позволяет предположить наличие одной, прочно и надолго закрепившейся за Иудой характеристики, присущей всем его ранним воплощениям. Речь идет о его ассоциации с дьяволом, а также о дьявольском смешении свойств — совершенно несовместимых в силу своей разности. Во второй главе я выдвигаю предположение, что в новозаветных Евангелиях Иуда олицетворяет собой сложное смешение иудаизма и христианства. Но помимо этого, в образе Иуды преломляется целый ряд основных категорий. В нем стираются или совмещаются традиционные границы между живыми и мертвыми, между людьми и животными или демоническими существами, равно как и различия между мужским и женским телами, братской дружбой и враждой, а также сыновней и половой любовью. В силу столь возмутительного совмещения несовместимых сфер Иуда должен был и постоянно подвергался обличению и поношению. Впрочем, на самом деле, все происходило с точностью до наоборот:
не сам Иуда взращивал в себе несовместимые свойства, но из Иуды — чтобы его можно было огульно чернить и поносить — делали хаотичное, непристойное «рагу», выставляя живым мертвецом, человеком-животным, гермафродитом, виновным в кровосмешении. В любом из этих ракурсов Иуда служил предостережением против греховного кровосмешения — этакий беспрестанно третируемый монстр, призванный охранять границы христианского мира.
«О, как мою он ненависть разжег, / И кару, знать, за дело он несет»: этот тезис красной нитью пронизывает эволюцию Иуды в послеевангельских культурах.
[112] Ужасавшее ранних христиан противоречие между спасительным милосердием Бога, распространяющимся на всех, с одной стороны, и предопределенной Иуде роли в Драме Страстей Господних, с другой, возможно было разрешить, лишь доказав абсолютную порочность и неисправимость двенадцатого апостола, который потому и не заслуживал спасения. И вот уже Св. Августин отказывается от своего обескураживавшего утверждения «Предал на смерть Бог, предал на смерть Сам Себя Сын, предал на смерть Иуда», опровергая себя же заявлением о том, что «одно действие заслуживает любви, другое осуждения». «Мы славословим Отца, нам ненавистен Иуда», — провозглашает Августин; «мы славословим любовь, мы ненавидим зло» (Tractates, 222). Во славу Отца, ради снятия с Бога вины за распятие, вина возлагается на Иуду.
[113] И вот уже многие мыслители пытаются подавить пугающую мысль о том, что Иуда, бывший движущей силой Драмы, лишился спасения, отделяя его от одиннадцати учеников и доказывая, что он никогда не ел хлеба или не пил вина на Тайной Вечере, либо что ему никогда не омывал ноги Иисус.
[114] Лютер, естественно, клеймит двенадцатого апостола в вероломстве жестче всех прочих: «У каждого Авеля есть свой Каин; у каждого Исаака — свой Исмаил; у каждого Иакова — свой Исав; также и у Христа есть Его Иуда, предавший Его душу, особенно в тех вещах, которые имеют отношение к душе, а именно, вере и справедливости» (Luther, «W)rks», 14:197). И вплоть до Нового времени мыслители и художники изобличают бездуховность заслуженно или грязно порочимого Иуды, развивая мотивы, заданные в Новом Завете: губы — целующие, чтобы убить, или открытые, чтобы съесть обмакнутый кусок хлеба; внутренности — выпадающие и оскверняющие все окрест.
Отверстия в теле Иуды будоражили воображение людей и в древности, и в Средневековье. О ноздреватом «Иудином ухе» (разговорное название огромного гриба) в старину думали, будто оно отравляет дерево, на котором растет. Проницаемость телесных границ Иуды через оральные, анальные или внутренние полости соотносилась с нарушением им границ нормативных. По мере того, как христианство развивалось из малозначимого ближневосточного культа в официальную религию Запада, физическая и нравственная чудовищность Иуды все сильнее оскверняла церковные и государственные владения, которые надлежало охранять от олицетворяемых им позорных грешников: нечестивых чужестранцев, еретиков и ростовщиков. В его проявлениях оральности — поедание хлеба, целование с целью убийства — и анальности — выпадающие кишки — видели действия, переходящие границы норм и приличий и справедливо заслуживающие порицания и наказания. В период, когда большинство людей не читали Библию, а только смотрели инсценировки библейских сюжетов и слушали проповеди, либо пересказывали из уст в уста библейские предания и баллады, образ кусающегося, источающего через поры или выделяющего из тела скверну Иуды, как нельзя лучше, подходил для увещевания христианской паствы или отвращения ее от неугодных ересей и экономических практик, развивавшихся во всех обществах до Нового времени. Единственный нечистый апостол также служил и символом еврейства.
Иуду начали отождествлять с иудеями и евреями вообще уже ранние христиане. Так, Римский папа Геласий I (492-496 гг.), считавший, что «целому часто дается название его части», утверждал, что «Иуда, о котором было сказано: “Один из вас Диавол” [Иоанн 6:7], поскольку был он слугой Дьявола, вне всякого сомнения, дает название всему народу» (Synan, 32). И даже еще раньше Святой Иероним пояснял: «Иуда проклят, а через Иуду прокляты и все евреи» (262); а в начале XI в. монах-бенедиктинец по имени Отлох из Св. Эммерана утверждал, что преступления Иуды «перешли на весь еврейский народ» (Nirenberg, 62). Так что совсем не удивительно, что Иуда очень скоро стал воплощать собой всех иудеев/евреев, обреченных на поношение ассоциативной связью. По меткому замечанию средневекового историка Лестера К. Литла, «Иуду одели, как типичного еврея и наделили всеми атрибутами жадности» (Lester K. Little, 53). Обнаруженные археологами средневековые игрушки — крошечные фигурки в остроконечных еврейских шляпах — недавно были означены в музейных каталогах, как вероятные копии Иуды Искариота. Христиане выдали евреям мандаты ростовщиков, определив им роль иуд и вероломных заимодавцев.
[115]В период с 1215 по 1344 г. Церковь последовательно проводила политику сегрегации евреев посредством законов, отстранявших их от службы и общественной деятельности, или вменявших им носить позорную униформу: конические шляпы и желтые круглые значки. В 1290 г. евреи были изгнаны из Англии и Южной Италии, в 1306 г. и повторно в 1394 г. — из Франции, к 1350 г. — с большей территории Германии, в 1492 г. — из Испании, а в 1497 г. — из Португалии (Langmuir, 303). Развитие определенных деталей Евангелий и замалчивание других позволило вылепить из предателя-корыстолюбца Иуды яркий стереотип иудеев, обвиняемых в убийстве Христа и ростовщичестве. Демонизированный Иуда оказался «завербован» христианами, как инструмент для наказания народа, типичным представителем которого его теперь выставляли. Не акцентированная в трех Евангелиях и признанная Матфеем явно малой, сумма — 30сребреников — была переоценена, чтобы стать символом жадности и корыстолюбия Иуды, иногда отягощавшихся его грязной, смердящей анальностью, а иногда ненасытной, злобной оральностью. Помимо всего прочего — и мы увидим это — его фигура отражала безудержный антисемитизм, плодивший обвинения евреев в зловонии, животной порочности, осквернении священной гостии (Евхаристии) и ритуальных убийствах — обвинения, пусть и развенчанные историками XX в., но в свое время повлекшие гонения, погромы и кровопролитные избиения еврейских мужчин и женщин.
Сохранившиеся ранние тексты об Иуде получили хождение в популярных формах, а иллюстрации, которыми они были снабжены со временем, подкрепляли доминировавшие стереотипы евреев, предопределив их удел: «К концу Средневековья, — подытоживает Розмари Рэдфорд Рутер, евреи, живущие на Западе, были сокрушены» (Ruether, 213). Устройство гетто, ставшие традиционной практикой избиения евреев и их исключение из социальной жизни —таков был исторический фон демонизации образа Иуды. Могли ли эти явления отражать ряд кризисов в христианстве и возобновлявшиеся попытки клириков задушить на корню любые сомнения по поводу обрядов и противоречий в догмах, на почве которых в этот период развивались и множились также различные ереси?
[116] Ваш покорный автор избегает точного ответа на столь сложный вопрос, но даже умозрительное «да» не объясняет полностью того, что происходит с Иудой и в кого превращается он за века, предшествовавшие Новому времени и придавшие столь мрачный магнетизм его образу.
В отсутствие реальных иудеев, или, по крайней мере, в рамках мечты о свободном от иудеев мире, созданный христианами Иуда-иудей воплощает то, что каждый должен ненавидеть: одержимого Сатаной «предателя» Луки (6:16), дьявольского «сына погибели» Иоанна (17:12). Но то смакование, с которым его чернят и проклинают в начале его послебиблейской жизни, задает Иуде-иудею энергичный импульс для перехода (в ненормативном формате) из анальной и оральной стадии своего развития в стадию генитальную. Действительно, безудержное, огульное поношение изгоя со временем приводит к осознанию того, что роль характерного злодея, возможно, была навязана Иуде или определена ему для удобства манипулирования. Каковы бы ни были причины, но со временем демонический Иуда засвечивается в роли обреченного или обманутого персонажа в литературных текстах, навевающих в памяти историю Эдипа, трактуемую как попытку преодоления индивидуумом своего ужасного, предопределенного, удела. С «козла отпущения» Иуды — проклинаемого ли за свое отвратительное тело, грязные внутренности, алчная пасть или осуждаемого за свою половую распущенность — следовало снять ответственность хотя бы в части обвинений. Иначе его ничтожная участь грозила вновь породить сомнения в милости Бога или Сына Божьего. И вот, через Иуду — и мы это увидим далее, по мере того, как проникнем внутрь Иудина ада и в ад Иудина нутра — иудеям приписывается не заслуживающая прощения похоть, что оправдывает или снимает грехи с более одухотворенных христиан.
Грязные дела
Противоречивые свидетельства о смерти Иуды в Евангелиях порождают вопрос: что же на самом деле случилось с Иудой перед кончиной? Как именно он «пал»? В древности этот вопрос привлекал внимание всех авторов, склонных преувеличивать приверженность Иуды Дьяволу. В ранних историях об Иуде его моральная деградация часто сочетается с вырождением физическим. И хотя кому-то может показаться не логичным мое решение начать свой рассказ с концов Иуды — конца его жизни и конца его пищеварительного тракта — но во многом именно зловонная кончина привлекала внимание к Иуде ранних авторов. Независимо оттого, за кем следовали комментаторы или толкователи Нового Завета — за Лукой ли, описавшим выпавшие внутренности Иуды, или за Матфеем, рассказавшим о повешении Иуды на дереве, — все они подробно описывали его зловонное, изуродованное или распухшее тело, исторгнутые экскременты, окровавленные внутренности и кровоточивость. Уже тогда странно феминизируемый всеми этими телесными течами, источающий — кровь ли, опорожнения или зловонный смрад — Иуда на картинах нередко держит мешок, в котором, по-видимому, находятся тридцать сребреников. Но на фоне его физических течей этот мешок мистическим образом начинает ассоциироваться в сознании зрителя с его утробой или колостомой. И по мере того, как Иуда теряет контроль надо всем, над собой и даже над своими внутренностями, все то, что он бесчестно вынашивал или втайне копил всю жизнь — свои эгоистичные интересы и заговорщицкие замыслы, деньги первосвященников — он извергает наружу. Преломленная в творческом сознании идея справедливого и заслуженного конца в своем классическом варианте, с которым перекликается и портрет Альберта Такера, являет нам образ вора, при жизни ловко маскировавшегося, потворствовавшего своим похотям и домогавшегося чужого, а в момент кончины выворачиваемого наизнанку, «из кожи вон», вызывая отвращение и читателя и зрителя.
Фрагментарное свидетельство Папия Иерапольского, одного из авторитетов ранней христианской Церкви, писавшего ок. 130 г. н.э., развивает идею демонической одержимости Иуды и, вместе с тем, высвечивает нараставшее единодушие толкователей относительно пагубных последствий злобной натуры и злодеяний Иуды для его тела.
[117] В своей книге «Толкования слов Господних», сохранившейся лишь в виде отдельных фрагментов и цитат в сочинениях авторов более позднего времени, Папий расширяет данное Лукой описание гибели Иуды, «низринувшегося» на землю крови: «Великий пример бесчестия представлял в этом мире Иуда, тело которого распухло до такой степени, что он не мог проходить там, где проезжала повозка, и не только сам не мог проходить, но и одна голова его. Веки глаз его настолько, говорят, распухли, что он вовсе не мог видеть света; а самых глаз его не увидел бы и врач, даже с помощью увеличительного стекла: настолько глубоко находились они от внешней поверхности. Его гениталии раздулись до безобразия, и смотреть на них без отвращения было невозможно, а чрез них из всех частей его тела вытекал гной и выползали черви. После больших мучений и терзаний он умер, говорят, в своем селе; и село это остается пустым и необитаемым даже доныне; даже доныне невозможно никому пройти по этому месту, не зажав руками ноздрей. Таково зловоние, которое сообщилось от его тела и земле» (Эрман, «Мужи апостольские» 105,107)
[118] (Ehrman, Apostolic Fathers, 105, 107).
Папий подменяет духовную слепоту Иуды настоящей слепотой, из-за которой Иуда утратил способность видеть, а люди не могли различить его органы восприятия. Если зрение (способность узреть) сопряжено с верой, то слепота (способность презреть) означает отступничество. При всем солипсизме Папия, несчастья, претерпеваемые заживо гниющим Иудой, навевают в памяти фрагмент из Книги Пророка Исайи, цитируемый Иоанном во изобличение иудеев, отказавшихся верить в Иисуса, несмотря на все знаки, Им явленные:
«Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем» (12:40). Не слепой и не ослепший (каковым он предстает время от времени на некоторых других картинах), Иуда, тем не менее, не видит и не разумеет.
Если верить Луке, то перед смертью своей — прежде, чем он «низринулся» и «расселось чрево его, и выпали все внутренности его» (Деяния 1:16-20), — Иуда должен был раздуться, как воздушный шар, а затем лопнуть. Папий подчеркивает, что Иуда распух до неимоверных размеров перед тем, как умереть. Став больше повозки, а значит, неспособным двигаться, сам вялый, Иуда — пропитавшийся зловоньем своих собственных испарений — отращивает огромные гениталии. Но, в отличие от греческого бога Приапа, прославившегося большим фаллосом, потенция Иуды от этого не повышается. Наоборот, из-за нарушенной эрекции он становится зловонным источником болезнетворной заразы и потому — тлетворным и вредным для окружающих. С распухшими конечностями из-за болезни, которую викторианские толкователи диагностировали, как «слоновую», Иуда Папия предвосхищает «гонения на еретиков, евреев и прокаженных» в Средние века (Moore, 66).
[119] В Средневековье словосочетание «mal de Judas», означавшее в переводе «корь», использовалось применительно евреям (Hand, 354). Будучи еще живым, Иуда Папия душой своей уже мертв — из его заживо разлагающегося тела бегут даже черви и сочится гной. Живой труп еще до своей фактической смерти, Иуда, безусловно, не может воскреснуть. А поскольку он умирает на своей земле, это значит только одно — Иуда не раскаялся и не вернул деньги книжникам, как сказано у Матфея. Отравленная испарениями и зловонием умиравшего Иуды, земля, им купленная, долго остается пустынной и заброшенной — его смердящие останки, как будто, не подпускают к ней никого. В неспособности Иуды исчезнуть без следа и неспособности любого другого человека пройти мимо его земли явно видится намек на то, что ни у Иуды, ни у тех, кто, сбившись с пути истинного, забредает в его смердящее владение, выхода нет.
[120]
Даже ранние комментаторы и художники, опиравшиеся на свидетельство Матфея о самоубийстве Иуды, стремились, подобно Папию, развить тему зловония распухшей плоти Иуды. Во многих легендах и преданиях, отражающих попытки свести воедино свидетельства Матфея и Луки, Иуда вешается, и из его «рассевшегося» тела выпадают наружу кровавые, червеобразные кишки.
[121] Такую попытку, в частности, мы наблюдаем в переводе греческой Библии Св. Иеронима, сделанном в конце IV в.: описывая смерть Иуды, Иероним пишет, что он «повесился», заменяя употребленное Лукой выражение «низринулся», а затем лопнул.
[122] Раздувавшаяся в назидание еретикам, лихоимцам и корыстолюбцам, тема кончины Иуды — при сведении воедино свидетельств Матфея и Луки, повешения с выпадением внутренностей — отражала широко распространенное тогда мнение о самоубийстве — как об ужасном заблуждении человека, утратившего надежду на милосердие и прощение Божье, но также и как о наказании свыше за содеянное зло. И в древности, и во все Средние века самоубийство Иуды расценивалось как страшное, но заслуженное возмездие за нечистую совесть, а также как признак влияния дьявола. Согласно Иерониму, Иуда «не только не мог изгладить преступления предательства, но к прежнему преступлению еще присоединил преступление собственного человекоубийства» (259 [Толкование на Евангелие от Матфея, гл. XXVII, ст. 5]); ему следовало покаяться, а вместо этого он совершил еще один грех. Расцениваемое не как свидетельство раскаяния, самоубийство соотносилось с убийством своей подспудным чувством вины.
[123]
По мнению Блаженного Августина, «Иуду, предателя, погубило не столько самое предательство, сколько отчаяние. Не был достоин он милосердия Божия, а потому и не пришло ему в мысль прибегнуть к милости Того, кого предал… Но отчаянием погубил себя, повис на веревке и удавился. Что сделал он с телом своим, то же случилось и с душой его» (О пользе покаяния II). В XIV в. Генрих Тейхнер в своей дидактической поэме «О человеческом отчаянии» утверждал, что «Иуда, получивший тело Божие от Бога, был проклят», а, значит, «у тех, кто отчаялся, было не больше шансов оказаться на Небе, чем у тех душ, которые Люцифер отягчил отчаянием и утащил за собой в преисподнюю». Поскольку «Бог соблюдает закон: Он не принимает тех, кто отчаивается» (Ohly, 38). Точно так же, в XVI в. Джон Кальвин заявлял, что «Иуда испытал раскаяние», но не изменился; вместо этого он впал «в отчаяние, причислив себя к тем, кому отказано в милосердии Божьем» (Calvin, 175). Аллегорическое воплощение отчаяния, Иуда, возможно, «признал свой грех, [но] не надеялся на прощение и потому и не удостоился милосердия» (Voragine, 77). Таким образом, в средневековом сознании композиция на ларце из слоновой кости, описываемая в предыдущей главе, не устанавливала никакой параллели между Иисусом и Иудой, а, напротив, противопоставляла повесившегося Иуду, «символ всепоглощающего отчаяния», распятому Иисусу, «символу надежды на грядущее спасение» (Barasch, 569). Так называемый грех Иуды означал грех самоубийства, грех отчаяния. «Отчаяние, — напоминает нам историк литературы Ли Паттерсон, — это, прежде всего, неспособность к покаянию — иными словами, неспособность к изменению: человек отчаивающийся не может совладать с недозволенными желаниями и очиститься» (Patterson, 414).
[124]
Для мирян отвергнутый всеми Иуда убивал себя,
и его внутренности выпадали из «рассевшегося» чрева: выпадение внутренностей было кульминацией суицидального повешения. В Германии актер, игравший Иуду в мистериях Страстей Господних, облачался в широкий костюм из воловьей кожи, внутрь которого помещались овечьи кишки и живая черная птица, и эти кишки и птица выбрасывались наружу во время популярной сцены повешения (Weber, 182). Эта сцена была одним из самых распространенных мотивов каменного резного декора, что украшал фасады средневековых европейских церквей. И в ней Иуда нередко изображался висящим между Небом и Землей, с веревкой на горле и веревками раздувшихся кишок вокруг тела, со сломанной шеей, перекрывшей дыхание, и внутренностями, загрязняющими его же собственное мертвое тело. На одном из архитектурных фризов Мюнстерской церкви тринадцатого века во Фрибурге из чрева повесившегося Иуды выпадают червеобразные кишки, и из его руки высыпаются сребреники. Коль скоро у Матфея Иуда возвращает деньги, а у Луки он покупает на них «землю крови», наличие у него «денег на момент смерти противоречит евангельским свидетельствам» (Вебер, 168), но отягчает его виновность грехом корыстолюбия.
[125] Во многих композициях, изображающих удавившегося Иуду с выпадающими из чрева внутренностями, фигурируют бесы и дьявол. Двое бесов утаскивают проклятую душу Иуды на фризе Мюнстерской церкви. На каменном барельефе Отёнского собора, одного из национальных памятников Франции, бесы как будто «перетягивают канат», схватившись за концы веревки, обвивающей шею Иуды.
В церкви Св. Себастьяна в Неваше Дьявол вынимает Иуду-младенца из чрева удавившегося Иуды, по одежде которого стекают вниз кишки (ок. 1530 г.). Отвращение у зрителя вызывает даже не вид выпадающих внутренностей Иуды, а скорее, его непроизвольный самораспад, саморазложение, способное привидеться в столь отвратительной сцене. Ведь один из библейских персонажей, по имени Расис, напротив, лишь доказывает героизм, когда падает на свой меч и, вынимая из своего чрева внутренности, бросает их в толпу, моля при этом Бога вернуть их ему (2-я Книга Маккавея 14:41—45). Полная противоположность ему, Иуда безвольно наблюдает распад своего собственного тела, претерпевая при том заслуженные муки без всякой надежды на телесное преображение. А что же младенец, почти целиком появившийся из его брюшной полости? В иных случаях младенец часто символизирует невинность; иногда — например, в сценах Страшного Суда над умершими — душа младенца, слетающая с уст, ассоциируется с жизненным духом, покидающим бренное тело.
[126] А в церкви Св. Себастьяна внутренняя сущность Иуды не вылетает из вывернутого рта его свисающего тела, а исторгается из инертной, мертвой массы его бренных останков. Распотрошенный и истекающий кровью, умирающий или уже мертвый, слепой Иуда подтверждает мысль Стивена Ф. Крюгера о том, что в средневековых христианских полемиках «евреи представляются преувеличенно материалистичными и, соответственно, менее духовными, чем их современники христиане» (xxiv). Энергичный бес цепко сжимает левую руку исторгающегося духовного последа Иуды, двойника демона.
Чем же заслужил Иуда — со свисающей петлей, копирующей переплетенные шнуры его внутренностей или кишок — эту двойную смерть? В XII в. Петруш Коместор в своей «Истории схоластики» объяснял, что Иуда сначала удавился, а затем из утробы его выпали внутренности, потому что его тлетворная душа не могла покинуть тело через уста, целовавшие Иисуса: «Ибо не достоин он был соприкоснуться Неба или Земли; и умер он меж ними, потому что предал Бога, Небесного и Земного… И внутренности его выпали, но не из уст, заслуживших пощаду, ведь ими целовал он Спасителя» (Weber, 169).
Другие верили, что тело Иуды «расселось» после тщетной попытки самоубийства, неудавшейся «из-за того, что оборвалась веревка… или из-за того, что дьявол нагнул ветку вниз… или из-за того, что… сами деревья отказались принять его» (Braswell, 305).
[127] Непохороненный висельник, возможно, напоминал о запрете Церкви предавать земле тела ростовщиков (в 1179 г.) и самоубийц (ок. 1240 г.). У Иуды в церкви Св. Себастьяна есть нимб, но он кажется затемненным, поскольку он — дважды убитый, как и подобает двуличному, — висит в лимбе на виселице, будь то фиговое дерево, что гнется вниз, бузина, плоды которой горьки, или осина, что дрожит на ветру.
name=r128>[128]
Ряд характеристик, приданных Папием, а затем и художниками, лишенному внутренностей Иуде, предвещают или отражают антисемитские черты, закрепившиеся за стереотипом еврея. Конечно же, его метания и «подвешенность» воплощают состояние «вечного жида» — не имеющего корней, странствующего еврея-торговца. Кочующий Иуда — это изгой, сродни братоубийце Каину, грехи которого не могут быть прощены и который не связан верноподданническими отношениями ни с какой светской властью.
[129] Именно потому, что Каин запятнал себя кровью брата своего, вопиющего к Богу из земли, некоторые переводчики заменяют слово «гной», употребленное Папием в своем рассказе об Иуде, «кровью», сочащейся из всего тела Иуды в Землю крови.
[130]Пятна крови напоминают и об иудеях Матфея («кровь Его на нас и на детях наших» [27:25]), а также ассоциируются с рыжими волосами, шляпами или бородами — частыми атрибутами евреев на витражах и театральных подмостках. «Основатель» союза рыжих евреев в западном искусстве и литературе, Иуда в «Земле крови» — с его часто красноватым или веснушчатым лицом — смердит, претерпевая физическое разложение как до, так и после смерти.
И на протяжении всего Средневековья, показывает Лестер Литл, «грязные» евреи попадали «в компанию этого смердящего, нечистого существа, дьявола»: «В тот самый момент, когда обращенный еврей принял крещение, то есть когда он отказался от служения дьяволу и стал слугой Христа, он сразу же смыл свою зловонную грязь в очищающих водах христианства» (Little, 53). Только в 1646 г. сэр Томас Браун осудил широко распространенное, «общепринятое мнение» о том, что «евреи воняют» (201): подобное представление явно было навеяно мотивом трупного разложения Иуды и до, и после смерти, из-за которого «земля крови» еще долгое время, оставаясь незаселенной, источала «foetor Judaicus», или еврейское зловоние.
[131] Не случайно, один из героев «Зимней сказки» Шекспира (ок. 1608-1612 гг.) говорит, как об установленном факте, что «предавший Лучшего» источал «трупное зловонье», от которого «люди, как от чумы, в смятенье разбегались» (419, 421, 423-425).
Вдобавок ко всему, прогорклое, зловонное «кровотечение» из тела Иуды соотносится с еще одним любопытным средневековым поверьем о том, будто иудейские мужчины менструировали. Согласно Джошуа Трахтенбергу, христиане Средневековья считали, что иудеи страдали всеми видами кровотечений, включая «менструации, которые случались, по-видимому, как у еврейских женщин, так и у мужчин; на втором месте, по частотности, были обильные кровоизлияния и геморрои — все связанные с потерей крови» (Trachtenberg, 50).
[132] Упоминая огромные гениталии Иуды, Папий преувеличивает его мужескую природу; в то же время, его распухшее, окровавленное и плохо пахнущее тело навеивает ассоциации с менструирующей женщиной и теми табу, которые налагались на нее церковью. Покрытое коростой червей туловище Иуды напоминает также о союзе Евы с хитрым змеем и даже о Медузе, с ее змеиными локонами. Место половой анархии живых мертвецов, Земля крови с ее еврейским зловонием воплощала собой перерождение и вырождение.
[133] Символ половой патологии, Иуда из церкви Св. Себастьяна — исторгающий младенческую Иуду-душу — предстает аллегорией мужчины, в родовых муках избавляющегося от своего гнилостного плода. Демонический послед — при том мертворожденный — исторгается из уже мертвого человека, а веревка, обвивающая висящего Иуду, напоминает перевитую пуповину.
На эльзасском витражном панно (1520—1530 гг.) повесившийся Иуда (без нимба) и в самом деле претерпевает кесарево сечение, что только подтверждает происходящую с ним неестественную половую мутацию. В роли повитухи, извлекающей из чрева Иуды его душу, выступает пятнистый, с нетопырьими крыльями, Дьявол.
[134] У обоих этих Иуд — и у Иуды из церкви Св. Себастьяна, и у Иуды с эльзасского витража — низко посаженные глаза, отражающее поверье в то, будто еретики умирают, потупив взгляд в горестном осознании того, что они никогда не вознесутся на Небеса.
[135] А сатанинское существо в роли повитухи, принимающей душу Иуды, отражает еще одно бытовавшее тогда мнение, что не Бог ее создал, но Дьявол, а потому именно Дьяволу она и предназначена.
[136] Исторгающаяся из щели в боку Иуды, Иуда — душа с эльзасского витража вызывает ассоциацию с Евой, созданной из лишнего ребра Адама, и в то же время перекликается с иконографической традицией изображения рождения антихриста в кесаревом сечении, повитухами и служками на котором выступают бесы.
[137] А поскольку душа Иуды появляется наружу из зоны, расположенной чуть выше гениталий, это изображение также навеивает мысли о фрейдовском уподоблении младенца фаллосу (или обывательских сравнениях пениса с «маленьким человечком»). Упругий, змеевидный язык пятнистого сатаны (возможно, зараженного «mal de Judas»), как и его коленопреклоненная поза; младенец, извергающийся из разрезанного мужского живота… что мог означать совершаемый сатаной акт оральной стимуляции для художника или зрителя того времени?! Младенец как будто ужасается той участи, что его ожидает. Пока Иуда мучается родами в лимбе, дьявольские повитухи сразу завладевают его душой.
Возможно, именно идею тендерной анархии стремился выразить и Джотто, когда на алтарных арках в Капелле Скровинья (Капелла дель Арена) он разместил напротив «Иуды, получающего плату за предательство» сцену «Посещения», запечатлевшую встречу Марии и Елизаветы, вынашивающих чад. По мнению двух теоретиков искусства, не только расположение фресок и их цветовая палитра привлекают внимание посетителей именно к этой паре композиций, «но даже размещение денежного мешка Иуды — на уровне брюшной полости — словно перекликается с беременностью женщин в «Посещении» (Derbes and Sandona, 279). Иуда выступает «в женской роли», поскольку «так задумана композиция, хотя в определенном смысле Иуда и сам зачал, как зачали Мария и Елизавета», почему позднее и «разверзается брюхо Иуды в страшных муках противоестественного деторождения — неизбежного следствия зловещей концепции, представленной на алтарной стене» (280). В контексте рожающего (и, следовательно, женственного) Иуды особое значение обретает и желтый цвет его традиционного одеяния — этот цвет сближает Иуду с блудницами, а через них — и с наймитами.
[138]
Со времен Аристотеля и до Фомы Аквинского философы и этики противопоставляли естественные и духовные ценности плодородия, плодовитости и биологического воспроизводства противоестественному и бесплодному накоплению и приумножению монетарного богатства, вменявшемуся в вину ростовщикам во многих проповедях и уподоблявшего их в греховности содомитам и блудницам — именно поэтому евреев-ростовщиков нередко сравнивали с Иудой-казначеем.
[139] На фреске Джотто «Страшный суд» в Капелле дель Арена осужденные подвешены на лямках своих кошелей, обвитых вокруг их шей, а брюхатый сатана выставляет напоказ свой раздутый живот, готовясь породить чудовищного грешника. Этот образ как будто иллюстрирует участь Иуды в «Размышлениях о Жизни Христа», популярном жизнеописании конца XIII в., в котором рассказчик восклицает: «Горе тебе, несчастный и жестокосердный! Что зачал ты — тебе носить» (313).
Впрочем, кошель у брюха Иуды Джотто, выпадающие наружу внутренности повесившегося Иуды или его душа, как плацента, выкидыш, утробный плод или недоразвитый уродец, намекают не просто на бессмысленное накопление денег. Они отражают идеи о ростовщических деньгах, как «деньгах крови» Иуды, — разбухающих и смердящих, как и сам Иуда: паразитирующий, обирающий людей, ростовщик ничем не отличается оттого, кто получает деньги за пролившуюся кровь Христа. Добытые нечестным путем деньги крови наиболее сильно графически «замарывают» их обладателя в композиции Валентина Ленденштрейха «Христос на горе Елеонской», части вюллерслебенского триптиха (1503 г.). Художник изобразил Иисуса за молением в Гефсиманском саду; пока его ученики все с нимбами, на переднем плане спят, на заднем плане композиции к Нему приближается рыжеволосый Иуда в желтом одеянии, ведущий солдат с фонарями, флагами и копьями. Стараясь не выдать себя, Иуда не смотрит прямо в лицо Иисусу, а, наоборот — развернутый художником в три четверти профиля — отворачивается, словно пытается ввести всех в заблуждение относительно направления, в котором он движется. В то время как расположение его рук намекает на его лживую сущность, отвернутое лицо Иуды говорит скорее не о двойственности его двуличного профиля, а о раздвоенном сознании безумца. В своей левой руке Иуда держит белый кошель с красной лямкой. Рут Меллинкофф указывает на красное пятно на среднем пальце Иуды (MellinkofT 1:52). Кровью запятнаны руки, вручившие Иисуса врагам за тридцать сребреников. Сочащийся кровью кошель с деньгами — здесь, как и на многих других полотнах, — свисает совсем близко от талии, живота или внутренностей Иуды. Кровь и кишки, кал и геморрой как будто прилипают к деньгам Иуды.
Кошель, если только он не заполнен кровавыми деньгами, сначала мучившегося запором, а затем опорожняющегося, Иуды символизирует грязный презренный металл, в конечном итоге запятнавший, опорочивший, а вовсе не возвысивший и не обогативший его испражняющегося владельца.
[140]Примерно в середине XIII в. англо-норманнский сочинитель Уолтер Уимборнский написал поэму «О симонии и алчности», в которой обличал развивавшуюся денежную экономику, замешанную на грязном предпринимательстве, модель которой, по мнению автора, предвосхитил Иуда. Писатель подробно останавливается на предательстве Иуды, «обменявшего» Иисуса на «жалкую монету», соотносимую в приводимых ниже четверостишиях с Иудиным нутром, безбожием и ядом:
«Изменник снова жив, однажды уже павший
И Иудею испражненьем пропитавший;
Рассеявшись тогда, его яд и кишки
Опять манят людей в свои силки.
Изменник жалкий, бывший нечестив,
Суму с нутром своим опорожнил, залив
Тогда все грязью. И сейчас он изливает
Желчь, что сама тлетворный яд рождает.
Оживший негодяй пытается, однако,
Сглотнуть нутро и яд, что вывалил когда-то;
Но желчь, что нынче нечестивец извергает,
Горчей, и яд ее сильнее отравляет.
Безбожником он был, безбожник дважды,
Как прежде, нечестив, но более продажный;
И яд обильный, изливаем им теперь,
Сочится всюду, и, увы, стократ вредней».
[141]
(Пер. И.В.Павловой)
Фраза «сума с нутром», как и идея о яде и испражнениях, рассеянных уже однажды Иудой, обратно заглотанных им и опять исторгаемых вместе с желчью, устанавливают параллели между ростовщиком, в частности, и торговлей в целом, и истекающим телом Иуды, с нажитыми нечестным путем деньгами, которые он сначала копил, а затем выбросил.
Очень часто в ранних изображениях Иуды кошель с деньгами, свисающий с его руки или пояса, становится символом его кишок, внутренностей или экскрементов. В композиции «Тайная Вечеря» (ок. 1480-1485 гг.; алтарь Шпей-еровского собора), выполненной Мастером Домовой книги, Иуда с крючковатым носом — сидящий полевую сторону стола — пытается спрятать кошель с позорными деньгами за своей спиной. Кошель свисает вдоль спины, словно капля помета над корзиной, на которой сидит насекомое — знак убытка, порчи, зловония, загрязнения. Все другие сидящие за трапезой напоминают апостолов, описанных в сатирическом стихотворении Жака Превера «Тайная Вечеря»: «Сидят за столом / Ничего не едят/ Они не в своей тарелке / Позади их затылков тарелки торчат/ Поставленные вертикально»
[142]. Только у Иуды нет нимба. Правая рука Иуды у Мастера Домовой книги поглаживает левую в мастурбирующем движении самоудовлетворения, что соотносится с тем, что Иуда отвернулся от стола. Руки Иуды резко контрастируют со сложенными в молитвенных жестах руками других апостолов. Полностью открытое лицо Иисуса, запечатленного в фас, противопоставляется лицу Иуды, изображенному в профиль, что — как и во многих других подобных композициях — намекает на его двуличность и позволяет художнику связать его подбородок с носом, установив тем самым параллель с колдуном или чародеем.
[143] Более склонный к дидактике, нежели Мастер Домовой книги, Уолтер Уимборнский в своей поэме «О симонии и алчности» указывает, что в отличие от Иуды, осквернившего грязью своей в Библейские времена лишь Иудею, его предприимчивые отпрыски во времена, современные поэту, оскверняют весь мир: «Христа продают ежедневно» торговцы, предавшиеся «жульнической торговле».
Одному из нескольких критиков, изучавших поэму Уолтера Уимборнского «О симонии и алчности», экскременты Иуды напомнили
«отраву, липкий, зловонный, текучий яд, что заразил алчностью сначала родину (“patria”), а затем Церковь (“ecclesia”)» (Nirenberg, 62). Смрад страдающего диареей или дизентерией Иуды сравним с вонючим душком нечестного чиновника:
«Когда Иуда, удавившись, умер,
Грязь из кишок его залила Иудею.
Зловонье ж, что исходит нынче от мздоимца,
Сильней, чем смрад подагрика-страдальца.
[144]
(Пер. И.В. Павловой)
Подагра, или «болезнь королей», которая, по тогдашним поверьям, посылалась развращенным правителям в наказание Богом, связывает нечестивого монарха с прокаженными и евреями (Nirenberg, 60). Но только «грязь» евреев представляла собой действительную угрозу христианской чистоте. По свидетельству Р. И. Мура, «в середине XII в. клюнийский аббат Петр Досточтимый предостерегал короля Людовика VII о том, что евреи могли использовать попадавшие в их руки священные сосуды для отвратительных и не достойных вспоминания оскверняющих ритуалов. А через сотню лет Матфей Парижский рассказывал историю о том, как некий Авраам из Беркхэмпстеда хранил данный ему в оберег образ Богоматери с Младенцем в своей уборной» (R. I. Мооге, 38-39).
В контексте вышесказанного обретает смысл и странная цитата, приведенная в начале этой книги. Как я упоминала во введении, Мартин Лютер объяснял интерпретации Библии еврейскими толкователями влиянием Иуды: «когда повесился Иуда Искариот, его внутренности, и, как то случается с повешенными, его пузырь лопнул: может быть, тогда евреи послали своих слуг с серебряными блюдами и золотыми кувшинами, чтобы собрать экскременты Иуды. Затем они съели и выпили все это дерьмо и в результате приобрели такое острое зрение» (Falk 214).
[145] Сочиненная в XVI в., отвратительная пародия Лютера на Тайную вечерю — «евреи, плохие и лживые, как Дьяволы», поедающие дерьмо и мочу Иуды, — поднимает простой вопрос (Falk, 215): как и почему грязный Иуда вытеснил чистого, благочестивого Иуду, встречающегося в некоторых, хотя, конечно же, далеко не во всех, древних текстах?
Прочно закрепившейся в те времена художественной традиции умирающего или умершего Иуды, замаранного своими же фекалиями, мочой и кровью, противостоят портреты Иуды в ряде неканонических Евангелий, обнаруженных в 1945 г. в Наг-Хаммади, в которых он предстает благочестивым, преданным учеником — точно таким же, как и другие одиннадцать апостолов.
[146] Например, в Диалоге Спасителя, Иисус ведет философские (сохранившиеся фрагментарно) беседы с тремя Своими учениками: Матфеем, Иудой и Марией.
[147] Резко контрастирующий с грубым Иудой Папия, Иуда в Диалоге Спасителя поясняет: «Мы хотим понять образ одежды, в которую мы облечемся, когда мы отбросим разрушенную плоть» (310). И даже когда Иуда изобличается во грехе — как в коптском тексте VIII и IX вв., озаглавленном «Деяния Андрея и Петра», — он показан раскаявшимся: Иуда умоляет Иисуса о прощении, и Иисус посылает «его в пустыню для покаяния, наказав ему не бояться никого, кроме Бога» (Elliott, 304).
[148] Считавшие долгом своим изобличать гностические секты и тексты, Отцы Церкви отвергали подобные версии в пользу не искупившего своего греха покаянием и не заслужившего спасения Иуды.
В ранние сектантские войны Иуда служил либо «стягом», либо «заложником»: и если его защищали гностики, то их победоносные противники его поносили и чернили. Ириней, признаваемый некоторыми основоположниками христианской теологии, упоминает об Иуде в своем труде «Против ересей» (ок. 130-200 гг. н.э.). И это отчасти объясняет, как и почему в Средние века Иуду чаще всего ассоциировали с одержимыми, дьявольскими существами, животными и аномалиями. Ириней обвиняет еретиков-гностиков в том, что они говорят, будто «Каин происходил от Высшей Силы», как и «Исав, Корей, Содомляне»: «И это, учат они, хорошо знал предатель Иуда, и так как только он знал истину, то и совершил тайну предания, и чрез него, говорят они, разрушено все земное и небесное. Они также выдают вымышленную историю такого рода, называя Евангелием Иуды» (102-103). Изменники в глазах Иринея, гностики и Иуда уподобляются им Корею, восставшему против Моисея (Числа 16: 1-50), но также — и изгнанному Каину, волосатому и лишенному наследства Исаву и особенно осужденным Содомитам — чье зло претит Богу. В заключение, Ириней называет гностического Иуду «лютым зверем», которого он сумел «выставить на вид», но которому он также хочет нанести «раны со всех сторон» (104). Другим мыслителем, связывавшим Иуду с Каином, Содомитами, Исавом и Кореем, был Епифаний Саламийский (ок. 310—402 гг.): он также приписывал гностикам мнение, будто Иуда достоин восхищения.
[149]Богословы и ораторы наперебой вторили обличительным речам Епифания и Иринея, осуждая «вредное невежество» гностиков, чтобы представить христиан антагонистами Иуды, быстро ставшим олицетворением еретиков.
Раннехристианские мыслители неистово поносили и принижали Иуду, доказывая несостоятельность мнения гностиков. Например, в своей эпической поэме «Пасхальная песнь» (ок. 425—445 гг.) Седулий, толкуя об Иуде, рьяно обличал «слепца [который был] одержим столь великой злобой», что «лучше бы этот проклятый не появлялся на свет» (1. 43, 50-51). Иными словами, автор этого поэтического эпоса, который «читали школах на протяжении всего Средневековья и который был источником вдохновения для писавших на библейские темы латинских и местных авторов вплоть до XVII в.» (Спрингер, 1), соглашается со мнением Иисуса у Марка и Матфея, что «лучше бы» предателю не рождаться (14:21, 26:24). Возмущение вероломством Иуды побуждает Седулия спросить:
«Разве не запятнан ты кровью, надменный, дерзкий, безумный, мятежный,
Вероломный, жестокий, лживый, продажный, несправедливый,
Мерзкий изменник, дикий изменник, нечестивый корыстолюбец,
Знаменосец, указующий путь, под лязг ужасных мечей?» (1. 59-62).
* * *
Не менее гневно обличает демонического Иуду блестящий риторик IV в. Иоанн Златоуст в своем «Толковании на Святого Матфея Евангелиста.
Для Златоуста жадность, вероломство и самоубийство Иуды являются признаками его одержимости Сатаной, делающей его схожей с изображенными в зверином обличье, рогатыми, с нетопырьими крыльями или пятнистыми дьяволами-повитухами Иудиной души в церкви Св. Себастьяна в Неваше и с эльзасского витража.
Необузданная страсть Иуды к деньгам «по каплям проливает кровь человеческую, имеет смертоубийственный вид, всякого зверя лютее, так как и падших терзает и, что еще хуже, не дает и чувствовать этих терзаний» (61 [беседа 9]). Уподобляя «неслыханную злобность» Иуды злобе «бесноватых», Златоуст опасается, что «все ему подражающие, подобно диким зверям, убежавшим из ограды, возмущают города, никем не будучи удерживаемы» (193, [беседа. 28]). Иуда служит наглядным примером для предостережения от того, к чему может привести жадность: «Услышьте, все сребролюбцы, страждущие болезнью Иуды, — услышьте и берегитесь этой страсти. Если тот, кто находился со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, низвергся в такую бездну от того, что не был свободен от этой болезни, то тем более вы… Ужасен, поистине ужасен этот зверь. Впрочем, если захочешь, легко победишь его. Это не есть похоть врожденная, как то доказывают освободившиеся от нее… Противоестественны и злоба, и болезнь сребролюбия, подвергшись которой Иуда сделался предателем». (483 [беседа.80])
Тем, кто утверждает, что если бы Иуда не предал Иисуса на распятие, «то не исполнено бы было строительство нашего спасения», Иоанн Златоуст твердо заявляет: «Но нет, нет!… Не предательство Иуды сделало нам спасение» (487), поскольку «он был объят сребролюбием, как бы некоторым бешенством, или лучше, как самою лютою болезнью… Иуда не испускал пены из уст, но испускал убийство на Владыку… Поэтому бешенство его было гораздо сильнее, — он бесновался здоровый» (488 [беседа 81]). Несмотря на все, чему учил Иисус, и несмотря на всю Его доброту и любовь, Иуда «сделался лютее любого дикого зверя» (499).
Кусающие пасти
Был ли Иуда с колыбели таким лютым, диким зверем? Каким ребенком он рос, и как скоро проявилась его злая сущность и порочность? Ответы на эти вопросы мы находим в «Арабском Евангелии детства Спасителя» — манускрипте-апокрифе, датируемом IV или V в., в котором грубая, звериная натура Иуды проявляется уже во младенчестве. Образ Иуды, рисуемый в этом тексте, не имеет ничего общего с чистым, благочестивым Иудой из «Диалога Спасителя», а больше напоминает зараженного скверной порока Иуду Папия. Но если у Папия Иуда сталкивается с проблемой истечения жидкостей из тела, то «Арабское Евангелие детства Спасителя», рисующее Иуду, как одержимого пожирателя плоти или кровопийцу, намекает на вожделение крови, «кровострастие», объясняющее все те оральные преступления, что приписываются теперь целому народу, олицетворением которого он становится. Помимо того, что оно поддерживает приговор Златоуста о том, что зло истекает из уст предателя, «Арабское Евангелие» обеспечивает подходящие предпосылки для гротескного конца, постигающего Иуду у Папия, объясняя характер Иуды не его воспитанием, а его противоестественной, чудовищной, натурой.
В «Арабском Евангелии детства Спасителя» противопоставляются добрый и дружелюбный ребенок Иисус, совершающий чудеса, исцеляющий как детей, так и взрослых, и чрезмерно раздражительный, неуравновешенный ребенок Иуда. Это противопоставление четко обозначено в возможно первом пространном описании одержимости Иуды уже в детском возрасте: «И другая там проживала женщина, у которой сын одержим сатаною был. Звали его Иудой. Всякий раз, как вселялся в него Сатана, кусал он всех, кто к нему приближался, а если близ себя никого не находил, собственные руки и ноги он грыз. И вот, услыхав о Госпоже Марии и Сыне ее Иисусе, собралась мать несчастного этого и привела сына своего Иуду к Владычице Марии. Меж тем Иаков с Иосией увели младенца Господа Иисуса с другими детьми поиграть. Уселись они пред домом, и Господь Иисус с ними. Подошел [к ним] бесноватый Иуда и справа от Иисуса присел. И тут, как обычно бывало, охваченный сатаной, захотел он загрызть Господа Иисуса, однако ж не смог, только поранил Ему правый бок, и потом разрыдался. И выскочил в тот же миг стремглав из мальчика этого сатана, подобный собаке бешеной. Мальчик же тот, что Иисуса поранил и из которого сатана в собачьем обличье выскочил, был тем Иудой Искариотом, что Его иудеям предал. И тот бок Иисуса, который Ему Иуда поранил, иудеи потом копьем пронзили». (Walker trans, 116-117)
Подобно Каину и Авелю, Иисус и Иуда предстают от рождения обреченными на противостояние, жертвой которого станет невинность. Как и в других текстах, Иуда в «Евангелии детства» ставится в один ряд с нечеловеческими видами: овладевающий им сатана, обретающий обличье собаки, напоминающей Цербера, стража Подземного царства греков, превращает Иуду в кусачего зверя. Укусы этого бесноватого существа способны заразить бешенством любого, однако загрызть Иисуса ему не удается — Иисус сохраняет свою чистоту.
Эпизод с кусающимся Иудой в «Евангелии детства» предваряет рассказ о другой несчастной, молодой женщине, «терзаемой Сатаной. Являлся к ней этот проклятый в обличье дракона громадного и проглотить ее собирался, всю кровь из нее высасывая, так что становилась она на труп похожей» (115). К счастью, для этой жертвы кровопийцы, Владычица Мария дала ей одну из «старых пелен» Господа Иисуса, от которой сатана отпрянул в страхе, «сгинул и не показывался» больше. В сцене с Иудой Иисус оказывается пораненным, прежде чем сатана выскакивает из того. Из чего можно заключить, что одержимость нечистой силой, когда она случается, обычно бывает временной; но — не в случае с Иудой! В отличие от невинных, хоть и одержимых существ, греховный Иуда заслуживает свою демоническую одержимость.
[150]
Подобно тому, как незаурядные способности младенца Иисуса предзнаменовывают Его мессианские чудеса в будущем, так и нападение ребенка Иуды на мальчика Иисуса предвещает, что тело Иисуса впоследствии будет пронзено. Хотя в Синоптических Евангелиях о том не упоминается, а в Евангелии от Иоанна не Иуда, то есть иудеи, а римский воин «копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (19:34).
Образ кусающегося Иуды в «Арабском Евангелии» находит параллели и в ряде средневековых картин, авторы которых акцентируют внимание зрителей на разверзнутом в алчности, зубастом рте Иуды. На оральность Иуды и иудеев намекает в своем Толковании на Псалом 108 и Иероним, подчеркивая «злобный рот», «губы» и «лживые языки» в «истории Иуды, которая по сути… есть история иудеев» (255). С нарочито большим ртом Иуда изображается и во многих композициях на тему Тайной Вечери. На иллюстрации к Винчестерской Псалтыри (ок. 1150 г.) изогнувшийся, облокачивающийся — но не о левую сторону стола, а ниже, — Иуда касается блюда с рыбой. Широко раскрыв рот, он готов проглотить или украсть символ Иисуса, в то время как остальные одиннадцать апостолов с нимбами, преисполненные покорности и сознания долга, внимают горестному плачу своего учителя.
[151] На часах королевы Елизаветы (Англия, ок. 1420-1430 гг.) рыжеволосый, но чернобородый Иуда, приоткрыв полные губы, показывает свои зубы, готовые вонзиться в обмакнутый хлеб или руку, что подает его ему. Без нимба, сидящий по левую сторону стола, в желтом одеянии Иуда, прячущий под скатертью свой кошель, в профиль напоминает волка, тогда как его черная борода вкупе с рыжими волосами намекает на неестественное смешение кровей. Не столько благочестивым, сколько скользким и лживым, выглядит и Иуда с алтарной композиции мастера Бертрана (Страстной Алтарь, конец XIV в.). Хотя художник явно изображает его причащающимся, коленопреклоненный Иуда также пугающе алчно обнажает зубы, чтобы вонзить их в облатку, которую ему передает смиренный Иисус. Ни один из воздерживающихся от пищи апостолов не показывает зубов. Но все они смотрят на Иуду, ясно сознавая, что он — чужой среди них.
В иллюстрациях к строфе 13:26 из Евангелия от Иоанна, в которой Иисус указывает на сидящего за столом предателя словами: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам…», Иуда обычно выступает олицетворением злоупотреблений, пагубных пристрастий и неуемного корыстолюбия. По мнению Льва Великого (ок. 395—461 гг.), именно сребролюбие, «корень всех зол», двигало «злым Иудой, отравленным этим ядом, [который] сам полез в петлю, алча наживы» (263). Когда Лютер клеймил евреев, как «детей Дьявола, приговоренных к адскому пламени» (Falk, 167), он пояснял, что «от них исходит дьявольская грязь»: «Впрочем, это им вполне подходит, по нутру, они чмокают своими губами, как свиньи» (171). Резкий и едкий, его памфлет «О евреях и их лжи» (1543 г.) воскрешает в памяти резные каменные барельефы, которые с XIV до XVI вв. вделывались в фасады церквей и гражданских строений.
Так называемый «Judensau» (букв, «еврейская свинья») — традиционный мотив в немецкой храмовой архитектуре — зиждется на звериной природе Иуды и замешанной на жадности оральности: несколько иудеев изображаются сосущими свиноматку, либо поедающими или пьющими ее испражнения, уподобляясь поросятам под брюхом или задом своей матери-свиньи.
[152] Ведь и бесноватые дикие звери, Гадаринские свиньи в Новом Завете могут быть сравнимы с Иудой не только своей демонической одержимостью, но и своим концом: они также покончили с собой — бросившись «с крутизны в море» (Матфей 8:28—34). В одном из пространных толкований XVII в. на мотив «еврейской свиньи» («Judensau») проводится параллель между «достойными виселицы ворами», «ненасытными жадинами» и «Иудой, предавшим Христа ловко»; по мнению автора, их всех ждет схожая участь: всем им гореть в адском пламени — заслуженно и неизбежно (Cohen, 208). Лютер, считавший, что «Давид сочинил [Псалом 108] о Христе, свидетельствующем на протяжении всего псалма от первого лица против иудеев» (Works, 14, 257), утверждал, что «нет у христианина более злобного, жесткого врага, после Дьявола, чем еврей» (278). Этот псалом, проклинающий «уста нечестивые и уста коварные», что говорят «языком лживым» (108:2), цитирует и Лука во фрагменте «Деяний Святых Апостолов», повествующем о гибели Иуды.
[153]По мнению Лютера, «Иуда был апостолом и все же он не апостол», потому как справедливо и заслуженно его поношение на протяжении всей истории Христианского мира наряду с «евреями, иудиным племенем» (Works, 14, 308, 263). Хотя на Тайной Вечере Иоанна не свершается таинства Евхаристии, соотнести или объединить кусок хлеба у Иоанна, знаменующий вхождение дьявола в Иуду, с освященным хлебом, который Иисус преломляет и подает ученикам в синоптических Евангелиях, было не сложно.
[154] Но, несмотря на то, что имели хождение и компилированные истории о последней трапезе, антиевхаристия, предлагаемая Иисусом Иуде у Иоанна, затмевала обряд Евхаристии, разделяемый у Марка, Матфея и Луки Иисус всеми двенадцатью учениками. Зубастый Иуда, алчущий священной гостии (Евхаристии), укреплял убежденность христиан не только в жадности Иуды и иудеев, но и в том, что они способны осквернять или красть гостию.
[155] Даже в XVII в. не стеснявшийся бранных выражений монах-сочинитель Абрахам а Санта Клара (Иоганн Ульрих Мегерле) легко переходил от нападок на «некоторых иудеев, терзающих святую гостию ножами самым позорным образом» к оскорблениям и проклятиям: «О, негодный Иуда, что ты делаешь? Ужели не боишься ты, что земля поглотит тебя целиком?» (127).
[156] Абрахам а Санта Клара часто предостерегает христиан о «грязном языке» Иуды (138): «если кто принимает высочайшее благо [гостию], не будучи того достоин, чрез то уподобляется он безбожнику Иуде Искариоту, чрез то насмехается он над Иисусом… чрез то он плюет [или харкает, или рыгает] вместе с иудейскими служителями в самое святое лицо Иисуса» (140). Обвинения в осквернении гостии — будто «иудеи заполучили освященную воду и затем использовали ее неподобающе» (Little, 52) — возможно, отражали тревогу и обеспокоенность, которые вызывали не затихавшие споры и разногласия по поводу евхаристических доктрин, ставших догматами только в 1215 г. На витраже Кембриджского университета (1500 г.) рыжеволосый, рыжебородый, изображенный в профиль, Иуда с крючковатым носом, — открывает свои губы в предвкушении своего кусочка, обнажая алчные зубы и язык.
Способствовали ли изображения Иуды, похотливо кусающего освященный хлеб — тело Иисуса — распространению представлений об иудеях, как поедающих плоть или пьющих кровь невинных христиан? Не сливается ли образ анемичного Иуды, умирающего от потери крови, с образом зубастого Иуды, чтобы заложить почву для обвинений евреев в иудейских ритуальных убийствах?
[157] Согласно историку Гевину Лангмуиру, «с 1150 по 1235 гг. обвинения евреев в ритуальных убийствах сводились к тому, что они ежегодно распинали христианских мальчиков для поругания Христа и для жертвоприношения. С 1235 г. зазвучали обвинения иного рода… евреям начали вменять в вину убийство христианских младенцев для употребления их крови в обрядах или для лечения» (Langmuir, 240).
[158] В одном печально известном случае убийца якобы заплатил матери жертвы три серебряных шиллинга — напоминающие о «тридцати сребрениках, уплаченных Иуде» (Cohen, 97). «Евреи и человеческие жертвоприношения» (1909 г.) Германа Штрака — возможно, первое исчерпывающее исследование на эту тему — разоблачало слухи о том, что за евреями тянется длинный шлейф ритуальных убийств, перечень которых приводил автор, и многие из которых провоцировали гонения на иудеев за их вероисповедание.
[159] «Кровавый навет», конечно же, никогда не имел под собой никаких оснований, поскольку библейским предписанием евреям воспрещалось отправлять человеческие жертвоприношения, а также употреблять кровь животных.
[160] Почему же тогда иудеев обвиняли в каннибализме — причем, не только в Средние века? «Если бы евреи не были людоедами, — заявлял гораздо позднее Вольтер, — то только этого и не хватало бы…, чтобы быть самым отвратительным народом на земле» (88).
Штрак предполагал, что «христиане, после того как христианская религия стала господствующей, обратили против других клевету, которую прежде обращали против них» (Strack, 283). Во втором и третьем столетиях «упоминание о вкушании Плоти и Крови Господней» приводило к преследованию христиан, как каннибалов, причастных к ритуальным жертвоприношениям, или — как говорил Тертуллиан в свою защиту против такого обвинения — к «тайной практике убийства и поедания детей» (Strack, 281, 283).
[161] Возможно, свою лепту в обвинения внесла и популярная иконография Иуды. Согласно Джеймсу Шапиро, в эпоху Тюдоров «ненасытный заимодавец часто уподоблялся «кусающемуся» ростовщику, и элизия евреев, как экономических эксплуататоров и фигуральных пожирателей христианской плоти, сложилась легко» (Shapiro, ПО). В эпоху быстрого движения от аграрной экономики к экономике торговой, основывавшейся на предпринимательстве, противоречившем многим постулатам учения Церкви, ростовщик зачастую уподоблялся губастой пиявке или зубастому зверю, сосущему кровь или глодающему плоть «хозяина». Иуда, грозивший украсть или укусить Евхаристию, олицетворял угрозу руке Того, Кто ее предлагал.
В этом смысле весьма примечательно, как упорно требует шекспировский Шейлок причитающуюся ему неустойку — «мяса фунт из тела» поручителя (после своих первых слов на сцене: «три тысячи дукатов», перекликающихся с ценой крови). И вымогает он ее по трем причинам: Шейлок — «злейшая собака» (I, iii, 106), его «желания / волчьи, кровавы, жадны и хищны» (IV. i. 137-138) и он «ненавидя, пожирает расточительных христиан» (IV, 1,394).
[162] Ненавидящий христиан и уподобляемый воплощению дьявола Шейлок расплачивается за свое упорство жизнью и здоровьем, поскольку законы страны запрещают пролитие христианской крови. Неудивительно, что «Венецианский купец» пользовался такой популярностью в нацистской Германии и оккупированной Франции. Укусы ребенка Иуды, уколы иудеев, пронзающих Иисуса на кресте, язвы ростовщичества: все эти раны, прямо или опосредованно, наносит Иуда «под лязг ужасных мечей» (слова Седулия). И все эти мотивы воспроизводятся в самых разнообразных иллюстрациях, обсуждаемых в следующей главе, изображающих иудеев в остроконечных шляпах и с копьями, грозящих обрезанием, кастрацией или разрубанием на куски Христу или его последователям.
[163]
Подобно тому, как божественность Иисуса не отрицает его человеческой природы, так же и демонизм Иуды не отрицает его человеческой сущности. После Первого Никейского собора (325 г.) и принятия нового определения соответствующего принципам вероучения, принятым на Халкидонском соборе (451 г.), Церковь утверждала ипостасное единство Иисуса: человека и Бога одновременно, а не получеловека или полубога, или то человека, то Бога, или только человека или только Бога. Резким контрастом Богочеловеку Иисусу предстает Дьявол-человек Иуда — наполовину человек, наполовину Сатана, либо то человек, то сатана, либо только человек или только сатана, но также человек и сатана в одном лице. И все же здесь — как и в случае с обвинением в каннибализме — христиане, возможно, отводили от себя обвинения, некогда выдвигавшиеся против них самих, а в данном случае и против Иисуса. Ведь в Новом Завете именно Иисуса фарисеи, книжники и простые иудеи обвиняют в одержимости нечистым духом. Дивящиеся люди, наблюдающие, как Иисус исцеляет больного, задаются вопросом, а не «силою» ли «веельзевула, князя бесовского», изгоняет Он бесов (Марк 3:22, Матф. 12:24,Лука И: 15); научение Иисуса в храме толпа сначала реагирует обвинением: «Не бес ли в Тебе?» (Иоанн 7:20), а затем вопросом: «не правду ли мы говорим, что Ты самарянин и что бес в Тебе?» (8: 48).
Не лучшим ли способом защитить вдохновение Иисуса, как богоданное, было заклеймить инспирацию Иуды как управляемую сатаной? Чудесное насыщение Иисусом (5000 человек) противопоставляется пролитию Иудой крови (его жертв) — преступлению, не так уж несоотносимым с тем, что Джеймс Шапиро называет «страдающим течью феминизированным мужским телом еврея», или его периодическими менструациями (Shakespeare, 108).
[164] Иисус дает — Иуда разрушает или опустошает; Иисус исцеляет, а Иуда ранит; вино Иисуса очищает, а кровь Иуды оскверняет; хлеб Иисуса спасает, а плоть Иуды заражает тленом.
Попытки утвердить подобную антитезу восходят к первому или второму веку, когда появились сочинения, авторы которых старались полностью отделить Иисуса от Иуды. Например, автор Сказания Иосифа Аримафейского писал, что Иуда
«не был апостолом Иисуса; но все иудеи хитро науськивали его следовать за Иисусом не для того, чтобы свидетельствовать чудеса, Им творимые, и не для того, чтобы он признал Его, но для того, чтобы он мог предать Его им» (Walter, 238, выделено автором). Тайный пособник иудеев, Иуда ответственен за разграбление Храмового святилища и сфабрикованные против Иисуса обвинения, измышленные с помощью священника Каиафы. Кроме того, по версии Иосифа, Иуда — сын брата Каиафы! За тридцать
монет золотом Иуда предает невинного человека «несправедливому судилищу» (239—240).
[165] Аналогично, в «Деяниях Фомы» змей, который искушает Еву, который «побуждает и подстрекает Каина убить своего брата» и который «ожесточает сердце Фараха» — тот же самый змей затем «подкупает и подстрекает Иуду предать Мессию смерти» (Elliott, 460). То, что змей затем раздувается и разрывается, побудило одного из исследователей провести параллель между ним и Иудой Папия (Harris, 509). В «Книге о Воскресении Иисуса Христа» апостола Варфоломея Иуда наказывается тридцатью грехами («явная, но не подчеркнутая связь с «ценой крови»), оборачивающимися змеями, пожирающими его (Cane, 146).
Разрывающийся, кровоточащий, кусающийся и торгующийся Иуда уже с античности являет собой мутирующий организм, человека-сатану, человека-зверя. И хотя некоторые отцы Церкви не отрицают возможности обращения иудеев и даже радеют за то, Иуда-антихрист не может быть обращен — напротив, с ним надлежит бороться, его следует искоренить, как чудовищную смесь разных видов, из рода человеческого. Вместилище крайних проявлений анальности и оральности, Иуда воплощает удел тех, кто отказывается признать доктрины Церкви, хотя он и помогает утвердиться организованному христианству. Джеффри Кан, изучающий роль Иуды во французских мистериях Страстей Христовых XIV—XV вв., описывает ряд версий, в которых бесы, сговорившись, начинают осаждать Иуду, подстрекая его повеситься, либо — в комедийных сценах — запихивают его душу в ведьминский котел (Kahn, 66). В других пьесах упорно и необъяснимо возмущающийся святостью Иисуса или жадно пререкающийся с иудеями за каждую монету, охваченный безумием, Иуда отчаивается из-за того, что продал душу дьяволу до того, как его хватают и сваривают в кипящем котле, чтобы сатана мог его съесть (95). Как поясняет Кан, «нравственная связь между изменником и Дьяволом четко обозначена» (97).
И потому не удивительно, что демонический Иуда ссудил свое имя инструменту для подчинения и наказания еретиков. Среди орудий, применявшихся для пыток людей во времена Инквизиции, было «кресло Иуды», которое в Италии называли «culla di Giuda», а в Германии — «Judaswiege» (Held, 50). Подозреваемого преступника раздевали донага, подвешивали на веревках или ремнях и опускали на наконечник пирамидального блока, закрепленного на скамье, возвышении или треноге. Этот блок помещался в задний проход или вагину либо под мошонкой или копчиком жертвы. При раскачивании или повторном опускании и поднятии обвиняемый испытывал страшную боль под тяжестью собственного тела. Именно ограбление /обестелеснение/ тела — вот что объединяет жертву «кресла Иуды» и самого Иуду в «Аду» Данте, хотя в первом случае подчеркивается анальность, а во втором — оральность процесса.
В конце умозрительного путешествия Данте по аду поэт в сопровождении Вергилия спускается в Джудекку, его самый низший, ледяной круг в центре Земли, названный по имени Иуды и иудеев. Среди грешников, вмерзших в лед в гротескных позах, Данте и его проводник обнаруживают в «anus mundi» («прямой кишке вселенной») недвижного, огромного Люцифера (примерно 817 футов высотой, по мнению одного из комментаторов).
[166] С шестью мощными крылами, напоминающими морские паруса или гигантские нетопырьи крылья, император Ада, «ушедший телом в льдину» по самую грудь, являет путешественникам три страшные лика: бело-желтый (символизирующий бессилие, импотенцию, а может быть, Азию), красный (символизирующий гнев или похотливую иудейскую «страсть к крови»?) и черный (олицетворяющий неприятие или отрицание, а возможно, Африку?):
«Шесть глаз точило слезы, и стекала
Из трех пастей кровавая слюна.
Они все три терзали, как трепала,
По грешнику; так, с каждой стороны
По одному, в них трое изнывало».
(XXXIV, 1. 53-57 — пер. Лозинского)
«Тот, наверху, страдающий всех хуже, — поясняет Вергилий, — Иуда Искарьот, / Внутрь головой и пятками наружу» (XXXIV, 1.62-63). И снова весь в крови — на сей раз Люцифера — Иуда только частично заглотан своим дьявольским прародителем в аллегорическом акте «антирождения». Хранящий молчание, наполовину заглотанный, наполовину торчащий из смертоносной пасти красного — фронтального и центрального — лика Сатаны, в двух других пастях корчатся два заговорщика против Юлия Цезаря, Иуда страдает и от зубов Люцифера, и от когтей, «сдирающих кожу со спины» (1.60).
«Чека» в троице злодеев-изменников, кусающийся охотник до человеческой плоти, сам оказывается «пищей». И в более раннем «Плавании Святого Брендана», написанном на латыни в Ирландии ок. 800 г. н.э. Иуда приговорен к аду, «пожирающем души нечестивых», хотя и получает передышку от мучений, временную отсрочку от участи «быть проглоченным бесами», поскольку, на воскресенья и в некоторые праздники, Иисус отводит ему «место отдохновения» на голом утесе, открытом свирепым ветрам и океанским волнам. Бесы возражают против прибавления Святым Бренданом нескольких часов к передышке Иуды от адских мучений, потому что божественный проводник «отнял у них их кусок» (58, 29). А на своде нефа Саутворкского собора XV в. вдруг появляется довольно «добродушный» дьявол, с явным удовольствием треплющий голову и туловище частично уже заглотанного им Иуды; из пасти Дьявола торчат л ишь Иудины ноги.
[167] Иуда, наполовину затянутый в зубастые жернова Люцифера; Иуда-обвиняемый, посаженный на остроконечное орудие пыток, пронзающее анус, вагину или мошонку: подобные наказания вполне соответствуют тем анальным и оральным преступлениям, что приписываются ему вплоть до Нового времени, да и впоследствии. В духе двенадцатого апостола действует людоед-убийца в написанном совсем недавно романе Томаса Харриса «Ганнибал» (1999 г.): Каннибал Лектер сначала рассказывает учащимся о том, что у удавившегося Иуды выпали внутренности, а у Данте его пожирает Люцифер, а затем подстраивает повешение преследующего его полицейского, и несчастный, умерев, вращается на веревке «с кишками, крутящимися поболее короткой, быстрой дуге…» (196, 197,203).
Образ демонического Иуды оказался очень живучим в западной литературе. Фейгин Чарльза Диккенса — с рыжими волосами и большими клыками — обирает христианских мальчиков, обученных им же самим воровству, а кровопийцу Мелмотта у Энтони Троллопа осознание чинимого им зла, собственной неискоренимой порочности, толкает на самоубийство. «Герои» этих, как и многих других произведений, сочетающие в себе присущие Иуде жадность, скупость и склонность к самоуничтожению, являют собой обобщенный образ еврея, прочно утвердившийся в свое время в английской литературе.
[168] И весьма показательно, что даже мельком видевшему главного героя викторианского романа Брема Стокера «Дракула» (1897 г.) свидетелю граф-иностранец запоминается «красным светом триумфа в его глазах и улыбкой, которой мог бы гордиться в аду Иуда» (72).
[169] Мужчина-демон, человек-нетопырь или человек-волк в одном лице, иностранный Граф в момент пресыщения, подобно «мерзкой пиявке», пускает тонкие струйки крови из уголков своего рта, съеживается в раболепном страхе перед распятием и не может пройти по земле с раскрошенной гостией (73). Построенный на тех же ассоциациях фильм Веса Кравена «Дракула 2000» (2000 г.) представляет зрителю трансильванского вампира, как реинкарнацию Иуды, чье отвращение к серебру, Библии и кресту объясняется его ролью в Драме Страстей Господних, и чьи клыкастые зубы вонзаются в человеческую плоть в укусе, так напоминающем смертоносный поцелуй предателя. В романе Джеймса Роллинса «Печать Иуды» (2007) вымышленный автором вирус, названный именем двенадцатого апостола, вызывает нездоровый аппетит, «плотоядную болезнь» каннибализма (James Rollins, «The Judas Strain», 293). И все же, если — подобно прислужникам Графа Дракулы или жертвам смертоносного вируса Роллинса — Иуда был поражен бесовскими силами, которые, в свою очередь, понуждали его уничтожать и заражать своей скверной других, то изменить свою участь этот больной бедолага, похоже, не мог.
Иуда в роли Эдипа
Изменившемуся Иуде — человеку-зверю или человеку-сатане, проявляющему свою порочную и тлетворную сущность анально и орально, — противостоит менее отвратительный Иуда с предопределенным от рождения уделом. Этот другой образ Иуды складывается в фольклоре одновременно с первым — в поисках ответов на целый ряд вопросов: кто были родители Иуды, откуда он был родом, какое дело избрал он для себя, когда стал взрослым, и как, в конечном итоге, он стал двенадцатым апостолом? Евангельские повествования о том умалчивают. Пробелы в «биографии» Иуды заполняют народные предания и баллады об Иуде, скроенные по образцу мифа об Эдипе, которые циркулируют с XI в. едва ли не во всех европейских странах и в которых Иуда, преодолев анальную и оральную стадии эволюции, вступает уже в фаллическую стадию своего развития.
[170] Описания родителей, происхождения, профессии и мотивации поступков делают любого персонажа более человечным. А в историях об Иуде такие подробности позволяли представить его жертвой. И постепенно Иуда «эдипового типа» начал сбрасывать свою демоническую личину, превращаясь в фигуру все еще ужасающую, но в то же время вызывающую сочувствие по причине своего злополучного предопределенного рока.
[171]
Поскольку Эдип, решающий искоренить чуму, поражающую его подданных, обычно ассоциируется с импульсивной щедростью, а Иуда с эгоистичной расчетливостью, идея соединения Иуды с Эдипом может показаться многим абсурдной. Однако подобное слияние мы наблюдаем уже в III в. Но когда Иуда оценивается сквозь призму трагедии, его судьба неминуемо поднимает две противоречивые идеи: идею о том, что человеку может быть предопределено совершить непредумышленно какое-либо злодеяние, и идею о том, что уничтожение такого индивидуума не избавляет общество от бедствий, олицетворением которых он представляется. И в легендах, пьесах и балладах, блистательно воссоздающих механизмы превращения человека в изгоя, Иуда становится тем, что Рене Жирар, пишущий об Эдипе, однажды назвал «хранилищем всех несчастий общества», «ярчайшим примером козла отпущения» (77). Новый Иуда, переживающий фаллическую стадию своего развития, обвиняемый и в отцеубийстве и в кровосмешении, изображающийся с ошеломляюще повышенной эрекцией в самый неподходящий момент — такой Иуда должен был бы казаться исчадием злодейства и порока. Но, как это часто случается с изменяющимся двенадцатым апостолом, Иуда «эдипового типа», убивающий своего отца и спящий со своей матерью, опровергает все ожидания, вопреки всякой логике вызывая даже некоторое сочувствие к себе, несмотря на все свои грехи.
Провести параллель между ним и Эдипом мыслителей побудил вопрос свободы воли или предопределения, поднимаемый историей Иуды. И первым это сделал Ориген в своем трактате «Против Цельса» (III в. н.э.).
[172] Философ-платоник Цельс яростно критиковал христианство, в защиту которого выступил Ориген, выделив утверждения своего оппонента-язычника в тексте курсивом, чтобы четко отделить их от своих собственных. К вопиющему ужасу Оригена Цельс указывал на то, что Иисус
«изрек …
свое пророчество, как Бог и потому вполне надлежало исполниться Его предсказанию. Следовательно, по своему Божеству Он привел своих учеников и пророков, с которыми вместе ел и пил, в такое положение, что они сделались безбожниками и нечестивцами» (84 [кн. 2, X]). Иными словами, по мнению скептика Цельса, христианство породило идею извращенного божества, поскольку
«Сам Бог злоумышляет против своих соучастников в столе и делает их предателями и нечестивцами» (84—85); подобную точку зрения позволяло аргументировать Евангелие от Иоанна, в котором Иисус передавал Иуде обмакнутый хлеб, позволяя дьяволу войти в Своего ученика. Чтобы разграничить пророчество и причинную связь — «пророчество — не причина будущих событий», — развенчать тезис о виновности Самого Иисуса и доказать свободу воли Иуды, Ориген, возражая Цельсу, цитирует ответ оракул а Лаю: «Нарождение детей семени не трать ты, когда боги на то согласия не дали. / Если сына и родишь ты, убийцей твоим будет твое порождение, / и кровью пролитой весь дом твой обагрит» (86). Предсказания греческого оракула и Иисуса — утверждают христианские теологи — не налагают на них ответственности за нечестивость и злобность Эдипа и Иуды. И все же, рецидивирующий в Иуде «эдипов комплекс» позволял предположить совершенно обратное: а именно, то, что Иуда — подобно Эдипу— оказался в тенетах безжалостного сценария, выстраиваемого всеми теми, с кем он вступает в контакт и противостоять кому он не может.
[173]
Мифы «эдипового типа» о жизни Иуды циркулировали по всей средневековой Европе едва ли не на всех языках; в качестве примера сочинения, включающего многие из наиболее часто разрабатываемых мотивов, я хочу привести «Золотую легенду» Иакова Ворагинского (167— 169).
[174] Составленное ок. 1260 г. архиепископом Генуи, это собрание христианских легенд и житий святых пользовалось такой популярностью, что к тому времени, когда начали выходить в свет его печатные переводные версии, сохранилось с тысячу рукописных копий! История, включенная в главу, посвященную Св. Матфею, получившему по жребию чин апостольства по смерти Иуды, рассказывает о рождении предателя у Рувима и Цибореи, после того как последней привиделся сон о том, что «они зачнут сына столь нечестивого, что будет он разрушителем рода Иудейского». Ужасавшиеся от одной мысли об убийстве новорожденного младенца родители положили его в корзину и предали морю, которое отнесло его к «острову, называемому Скариотом» и который дал ему имя «Искариот». Спасенного Иуду тайно вынянчила бездетная королева Скариота, притворившаяся беременной. «Когда время подошло, она солгала, объявив о рождении ею сына», и эта весть быстро распространилась по счастливому королевству. Впоследствии королева родила сына от своего супруга-короля, но законного наследника начал третировать его жестокий старший «брат». Когда же правда об Иуде всплыла наружу, он убил биологического сына королевы и бежал в Иерусалим, где поступил в услужение Пилату, губернатору Иудеи: «Пилату он пришелся по сердцу, и тот начал выказывать ему всяческое расположение, а потом и вовсе вверил ему свое владение; и слово Иуды было закон».
Без сомнения грешник, Иуда, тем не менее, предстает беспомощным супротив тех, кто грешит супротив него. Его родители, Рувим и Циборея, напоминают Лая и Иокасту — отца и мать, которые столь страшились своего ребенка, несущего разрушение, что также отказались от своего младенца. Хотя в книге Иакова Ворагинского родители не оставляют Иуду раненым на горе, а спускают, как Моисея, в корзине на воду. И если евреев по «кровавому навету» обвиняли в ритуальных детоубийствах, то Иуда из «Золотой легенды» сам предстает жертвой попытки детоубийства своими биологическими родителями. А когда младенец Иуда приплывает к острову Скариот, обретая таким образом свое родовое имя, нищий подкидыш получает шанс сделаться принцем благодаря фиктивному отцовству; поскольку только принцесса знает его истинное происхождение и историю его усыновления. Как и в «Арабском Евангелии детства Спасителя», мальчик очень скоро начинает проявлять свое злонравие, что ставит его в один ряд с братоубийцей Каином. Однако в предании содержится намек и на предательский сговор. Ведь на Скариоте его приемная мачеха, ради того, чтобы заиметь наследника престола, инсценирует ложную беременность, обманывая своего супруга и весь свой народ, да и самого мальчика Иуду относительно его происхождения.
К тому же, убийство Иудой истинного наследника влечет за собой не только его изгнание, как в случае с Каином, но и его возвращение в свой родной город, Иерусалим, и поступление на службу к человеку схожего темперамента: он становится «правой рукой» Пилата и (предсказуемо для некоторых читателей!) своего рода «законником». По логике сюжета затем должна была бы состояться встреча Иуды с Иисусом и Его апостолами. Но вместо того в версии Иакова Ворагинского, как и во многих других, следует отцеубийство и инцест, и оба эти феха, очевидно заслуживающие порицания, как ни странно, вызывают у читателя сочувствие, поскольку посыл к ним исходит от Пилата. Именно Пилат — намек на Еву, — заприметив запретный плод в саду рядом с его дворцом, поручает Иуде достать его: обуреваемый вожделением Пилат посылает Иуду в сад Рувима. Тот видит, как Иуда срывает яблоко; между ними завязывается перебранка, в которой Иуда убивает своего родного отца. Пилат также женит вдову Рувима на Иуде — мать на сыне. После того, как Пилат отдает всю собственность Рувима, включая его жену, Иуде, причитающая в смятении Циборея рассказывает новому мужу всю свою историю, из которой Иуда и узнает, что «взял в жены свою мать и убил своего отца». Иуда испытывает раскаяние, и именно в этот момент он обращается «к нашему Господу Иисусу Христу».
[175] Оказавшийся жертвой чужого манипулирования, мучающийся угрызениями совести Иуда не может не вызывать сострадания у читателей: прежде всего, он ищет прощения за чреду преступлений, на которые его обрекли те, кто имел над ним власть. Как и его мать-жена, Иуда — вернувшийся в Иерусалим, как «часть даннической платы» —дар или пошлина, если угодно, — выступает пассивным объектом обмена между власть предержащими. Таким образом, он — против своей воли и желания — оказался «предан» братоубийству, отцеубийству и кровосмесительному браку. Как бы там ни было, Иисус, без сомнения, простил Иуду — ведь Он взял его в ученики, зная о его отцеубийстве и инцесте.
И все же, отвратительные грехи кровосмешения и отцеубийства явно соотносятся — в ракурсе чудовищного преступления границ дозволенного — с цареубийством в государстве и богоубийством в христианстве. Человек, способный предать своего любимого учителя, преступен априори и способен на любые преступления все, включая убийство отца и женитьбу на матери — «“преступления” пятой, шестой и седьмой заповедей» (Archibald, 108—109). Поскольку сюжет «эдипового типа» отображает патологическое развитие фаллической активности — сын, не повинующийся отцу, испытывающий похоть к матери — он воскрешает в памяти образ Иуды из описания Папия, с его смущающими огромными интимными органами. Рогатый, волосатый, с нетопырьими крыльями и копытами дьявол из церкви Св. Себастьяна в Неваше доказывает, что демоническая, звериная, похоть очень часто сочетается с половой патологией и извращениями: обратите внимание на вторую пару глаз на уровне его нутра и вторую пасть в его промежности. В Эльзасской композиции так же исторгающаяся душа Иуды возбуждает вожделение у дьявола, совершающего некое действо, весьма напоминающее акт оральной стимуляции полового члена. И все же, насколько мне известно, есть только одна картина раннего периода Нового времени, которая недвусмысленно являет нам фаллического Иуду «эдиповою типа»: это «Тайная Вечеря» Йорга Ратгеба, являющаяся частью Херренбергского алтаря в Штутгарте (ок. 1519 г.).
Откровенное неповиновение, невоздержанность и нравственное оскудение — вот что характеризует Иуду Ратгеба. Торопясь съесть кусок хлеба, смоченный в вине, который ему протягивал Иисус, Иуда Ратгеба опрокидывает своей ногой кувшин с вином и даже сиденье. Херренбергский алтарь типичен в плане изображения Иуды с рыжими волосами и в желтом одеянии, которые указывают на него, как на единственного иудея, присутствующего за трапезой. Типично и его изолированное расположение за столом, тогда как все остальные апостолы как будто объединены парами, либо своей преданностью Иисусу, который в этой композиции, как и во многих других, обнимает Своего любимого спящего ученика. Типичны также и широко раскрытый рот Иуды, в котором видны зубы, в отличие от его глаз, настолько маленьких, что они практически не различимы, развернутое в профиль лицо — намек на его двуличность, — равно как и сама его лживая поза: всем своим видом Иуда демонстрирует угодничество и раболепство. Правда, на ногах у этого Иуды — в отличие от иных — надеты сандалии, намекающие на его непослушание и нарушение наставлений Иисуса (Матф. 10: 9—10 [«Не берите с собой в дорогу ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви…»]). Но вот, что сильнее всего отличает Иуду Ратгеба от других живописных образов, так это — эрекция, явно различимая под складками его одежд.
[176] Чтобы обратить внимание зрителя на столь непристойное возбуждение, Ратгеб включает в композицию игральные карты и кости, выпадающие из грудины Иуды — еще один намек на его распутство. Подобно капле-мухе у Мастера Домовой книги и червям на теле Иуды у Папия, насекомое чуть ниже гостии в композиции Ратгеба намекает на то, что Дьявол вселится в тело Иуды, дабы наказать его за грехи, не заслуживающие прощения. Все эти паразиты отражают отношение Иуды к своему Владыке.
За несколько веков до Ратгеба — но в полном соответствии с его картиной — Золотая легенда отрицает причинную подоплеку истории, которую она воспроизводит — «об этом лучше умолчать, чем повторять», декларируя заслуженность понесенного Иудой наказания. Смерть Иуды только усугубляет его вину, при том что «первая часть [прощение Иисуса] могла бы служить контрпримером, показывающим, что даже худший из грешников может быть прощен» (Ohly, 26). Хотя Иисус сделал Иуду Своим учеником и искренне его любил, тот, будучи казначеем, крал милостыни, и предал своего Господа «за тридцать сребреников, каждый из которых равнялся десяти пенсам, тем самым возместив три сотни пенсов, потраченных на масло». Раскаявшись в своих грехах, Иуда бросает деньги, вешается, а затем разрывается на части. Нагромождение мстительных репрессалий сигнализирует о том, насколько тесно все общество сплачивается в «неистовом единодушии» (Girard, 78), пытаясь преуменьшить свою собственную вину путем переноса ее на отдельного человека, превращаемого им для этого в чудовищное «вместилище» всех возможных пороков: Иуда ворует из денежного ящика, как в Евангелии у Иоанна, вешается, как у Матфея, и падает с выпадающими внутренностями, как у Луки. Преступления Рувима, Цибореи, королевы Скариота и Пилата блекнут пред таковыми Иуды, так как «суррогатная жертва» всецело предается бесам, выражаясь языком жираровского анализа «Эдипа» Софокла (79). Вина за невыносимо мучительную и несправедливую смерть Иисуса вменяется исключительно одному человеку, которого общество вычеркивает из своих членов и превращает в злобного и мерзкого изгоя.
И все же, если следовать обобщающей логике фрейдовского прочтения мифа об Эдипе, основанной на идее о том, что все мальчики вожделеют своих матерей и негодуют на своих отцов, — эта версия истории об Иуде может навести на кощунственную мысль о том, будто все приверженцы Иисуса скрывали потаенное желание стать отступниками и что сомнения и своекорыстие были не чужды всем посвященным. А если вспомнить страдания Иисуса на кресте — чувствующего Себя покинутым Отцом, обрекшим Его на смерть, — то можно даже допустить, что Иуда «эдипового типа», поддавшись сильному гневу, восстает против деспотичного отца. Сколь ни шокирующим на первый взгляд кажется подобный вывод — но не попытки ли не допустить подобные умозаключения обрекают Иуду на поношение? Бунт Иуды «эдипового типа» против отцовского приговора, которому подчиняется Иисус, — столетиями спустя соотнесение Иисуса и Иуды в таком ракурсе откроет путь к активному обсуждению их общности.
[177] Даже в композиции Ратгеба лихорадочная энергия, равно как и пылкое внимание к Иисусу, отличает Иуду от других, поглощенных собой, апостолов. Просматривается некая странная параллель между рыжебородым Иудой, поднимающим глаза к Богу на переднем плане композиции, и рыжебородым Иисусом, вглядывающимся в Бога на заднем плане.
А что насчет предположения в Золотой легенде о том, что Иуда «продал своего Господа за десятую долю истраченной на масло Суммы»? Идея о том, что Иуда высчитал свою законную или, по крайней мере, обычно причитавшуюся ему долю с общих денег, ограничивает его корыстолюбие.
[178] Именно это умаление алчности Иуды сближает легенду Иакова Ворагинского с более ранней английской балладой «Иуда», в которой у двенадцатого ученика появляется сестра-искусительница, выманивающая у него тридцать сребреников, данные Иуде Иисусом на покупку еды.
[179] В этой балладе Иуда, обретший «лживую» сестру, порицается за то, что сначала следует за «фальшивым пророком» в ее лице, а затем внимает ее соблазнительным поучениям в виде колыбельной песни: «клону прильни моему головой, тотчас же ты уснешь». Когда сон развеивается, Иуда испытывает шок из-за утраты денег:
«Так сильно рвал власы он на себе,
Что кровь ручьями по лицу текла.
Решили в Иерусалиме все,
Что он сошел с ума.
Богатый жид по имени Пилат,
Придя к нему, допытываться стал:
“Продашь ли мне ты своего Христа,
Кого Владыкой звал?”
“Ни за какие деньги, нет, о нет!
Учителя я не продам тебе!
Вот разве что — за тридцать те монет,
Что он доверил мне”.
“А коли злато дам — тогда продашь?
Ты мне Христа, владыку своего?”
“Нет, нет и нет… Вот если только дашь
Монеты, бывшие Его…”
(Пер. И.В. Павловой)
Текущая у Иуды кровь в этой балладе уже не знаменует проклятие или осквернение. Это — признак сильного гнева; вырванные с кровью волосы — следствие шока, испытанного Иудой из-за того, что вверенные ему его Учителем (Владыкой) деньги выкрала одна из тех женщин, которых принято называть «безжалостными красавицами» («belle dame sans merci») или «роковыми женщинами» («femme fatale»). Как и в Золотой легенде, в балладе «Иуда» вина возлагается не на звезды и не на самого Иуду, а на лживых людей. Виной всему — обман, в данном случае — обман дурной сестры, уговорившей его заснуть (не является ли здесь сон эвфемизмом полового акта?) и обокравшей его, толкнув тем самым на предательство, приведшее к гибели его любимого Учителя, но никак не связанное с корыстолюбием: Иуда не готов продать Иисуса «ни за какие деньги», он лишь хочет вернуть Иисусу те монеты, которые Ему принадлежали. А далее по сюжету действует уже Пилат, предстающий в балладе «богатым жидом». Это снимает бремя вины с Иуды, выглядящего скорее одураченным простофилей, нежели обреченной марионеткой рока — хотя вина все равно остается на евреях! Акцент баллады на введенном в заблуждение и запуганном предателе предвосхищает довольно сочувственное отношение к Иуде во многих английских мистериях.
[180]
В мистериях «Векфильдского цикла», сочиненных в XIV и XV вв. и ежегодно разыгрываемых на деревенских сценах этого региона Англии, Иуда предстает своего рода «учетчиком», «бухгалтером», высчитывающим с денег, растраченных на помазание Иисуса, свой «стандартный налог», десятину, поскольку тридцать монет составляют точно десятую долю той суммы:
«Лишь десятину я желал
Вернуть, и только, слово дам;
Всегда ведь долю получал
Я с денег, жертвуемых нам.
Раз о трехстах вопрос стоял,
Десятой частью — тридцать с них;
Его за столько и продал… [.]»
(339) (Пер. И.В. Павловой)
Иуда поднимает не только вопрос о причитающейся ему части денег, но и тему церковной десятины, а также наживы за счет процентов. Как указывает Ричард Экстон, «Связь между 300 пенсами и 30 пенсами оставалась не замеченной в Евангелиях, дожидаясь, пока ее не раскроют средневековые умы, которые любили ясность и которых также постоянно занимала проблема ростовщичества (Axton, 184). А в одной прованской мистерии Страстей Господних, продолжает Экстон, 30 пенсов, или десятую часть, Иуде обещает Иисус, как помощь на воспитание двух детей Иуды (189)! Даже в английской версии предательство объясняется тем, что Иуда посчитал несправедливым «распределение доходов»: «Я чрез Него лишился своей доли; / Теперь мы квиты…» (340). Более того, перед сценой распятия Иуда произносит свой (не полностью сохранившийся) монолог в духе терзаемого совестью Эдипа: «Увы, увы, чего уж боле! / я мерзким негодяем был; / убив отца, я после жил / с родною матерью, а вскоре / я предал, лживо изменил / Учителю, с Кем был дотоле» (390).
В еще одном, «Йоркском», цикле мистерий Иуда вновь предстает не столько алчным, сколько защищающим свое имущество. Он объясняет: «Это все обида из-за моей десятины». Только обида побудила его протестовать против нарда, стоившего 300 пенсов, а ему — 30 (191).
[181] И продает он Иисуса, потому что убежден в том, что Тот несправедливо лишил его причитавшихся ему денег. Не так давно один из исследователей, изучающих пьесы «Йоркского цикла», подметил, что они «представляют Иуду слугой, который ведет себя преступно, позорно, незаконно и алчно, как торгаш, действующий в своих собственных интересах, в ущерб более важным нуждам общины» (Раррапо, 320-321). Другими словами, стать торговцем — значит изменить Богу; обманывать хозяина — все равно, что предавать Иисуса.
[182] В пьесах, пытающихся разрешить местные экономические противоречия, Иуда наказывается, как спесивый слуга, с целью указать настоящим подмастерьям свое место. Парадоксально, впрочем, но через свое амбициозное желание поставить личную выгоду выше потребностей общины, Иуда выражал вполне понятные стремления некоторых поваров и пекарей, игравших его роль в инсценировках.
Необычная сцена «Раскаяния Иуды» в Йоркском цикле — когда Пилат и его когорта сговариваются предать Иисуса Ироду — содержит монолог Иуды, мучающегося угрызениями совести из-за той роли, что он сыграл в пленении Иисуса: «Позор мне, сам себя я обесчестил, / пособничая Его убийству» (251). Иуда решается спасти Иисуса, предлагая свою собственную жизнь в обмен на жизнь своего господина: «Молю Тебя, добрый господин, отпустить Его, / и взять меня в уплату за Него» (252). Предложив себя в качестве раба или наемного слуги ради спасения своего господина, Иуда проклинает себя, бросает деньги в Церкви и решает убить себя: «Я ненавижу всю свою жизнь, я и так живу слишком долго; / мое предательство меня терзает болью» (256). Рыночная экономика мало меняет характер Иуды, но его образ нередко используется в назидание тем слугам, которые считают, что могут вести двойную игру со своими господами; однако его самоубийство уже признается актом сознательного искупления вины за свои ошибки. То, что он сам говорит о крушении своих надежд и раскаянии, только делает его образ еще чуточку человечнее.
Попытки снять бремя вины Иуду (но не иудеев/евреев) можно найти даже в ранних текстах. Пространная поэма IX в. «Елена», к примеру, рассказывает о поездке матери императора Константина в Иудею, где она находит истинный крест с помощью некоего Иуды. Этот «опередивший свое время» Иуда не только раскрывает местонахождение креста, но и — по ходу действия — обращается в христианскую веру и принимает крещение под именем, означающим «открывать Спасителя», а затем и вовсе становится епископом, чтобы содействовать обращению иных иудеев (191).
[183] Еще более явная попытка оправдать библейского Иуду прослеживается в диалоге XV в. «Луций и Дубий», в котором сомневающийся Дубий видит в двенадцатом апостоле орудие провидения, посредника Божьего:
«Господь хотел, чтоб Сын Его Иисус
Был предан смерти ради человека:
Я ж знать хочу, чем плох Иуда был,
Который Его предал?
Господь хотел, чтоб Сын его погиб,
К тому стремился и Иуда,
За что ж его тогда винить?
Похоже, цель одна была,
И быть убийцей тот не может,
Кто исполнял Господню волю».
[184]
Можно ли орудие провидения осуждать, как убийцу? Хотя само имя героя (dubious в переводе с англ. означает «сомнительный / сомневающийся». —
Прим. пер,) намекает на сомнительность его позиции, оправдательная версия Дубиуса выглядит более убедительной, чем аллегорическое спасение Иуды в «Пьесе о таинстве причащения» Крокстона (Croxton: Play of the Sacrament).
Когда становится возможным представить христиан в роли Иуды, двенадцатому апостолу неизбежно открывается путь к спасению. В пьесе Крокстона, сочиненной предположительно в конце XV в., купец по имени Аристорий продает гостию пяти иудеям, оскверняющим ее. Аристорий предстает явной аллегорией Иуды, поскольку он берет взятку и передает, «предает» гостию иудеям, учиняющим с ней, по меткому замечанию исследовательницы Элен Маккей «вторую драму страстей», в процессе которой они убеждаются, что гостия на самом деле — Плоть и Кровь Иисуса.
[185] Как и в случаях с иудеями, оскверняющими воду и хлеб, «жестокость нацелена на самое Тело Божие» (Greenblatt, 100): «Иудеи неизбежно становятся виноватыми в таких историях [об осквернении гостии], потому что они не верят и в то же время должны вскрывать, воплощать собой, сомнения, посеянные в сердцах верующих христиан догматами о Евхаристии» (Greenblatt, 104). У «Пьесы о таинстве причащения», несколько напоминающей фарс, счастливый конец: иудеи обращаются в христианство,
а христианский «иуда» Аристорий отказывается от своего богатства, становясь к концу пьесы нищенствующим кающимся грешником. Впрочем, если христиане и смогли увековечить жестокость и эгоизм Иуды, его наказание и проклятие не решили проблемы человеческой греховности. И для Джорджа Герберта Иуда также олицетворяет предрасположенность всех людей без исключения впадать в грех корыстолюбия. В его «Самоосуждении» (1633 г.) грехи Иуды соотносятся с грехами евреев, но вместе с тем утверждается, что материальные интересы не чужды и христианам:
«Он, кто душою обвенчался с златом,
И истину попрал корысти ради,
Он сделал то, что сам негодным мыслит,
Ученью вняв;
Ведь продал он за деньги
Бесценного Владыку своего,
Он есть Иуда-жид». (150)
На заре Нового времени писатели, настаивая на том, что и христиане способны на преступление Иуды, а раскаявшийся Иуда способен постичь учение Иисуса, апеллируют к тем немногим мыслителям древности, которые видели в самоубийстве не грех отчаявшегося и не верящего в милосердие Бога, а отчаянный акт раскаяния и даже признак обретенной мудрости. Ориген, первым сравнивший Иуду с Эдипом, считал, что его «чувство раскаяния… является действием учения Иисуса, которого предатель не мог совершенно презреть и извергнуть» (76). Согласно Оригену, осудив сам себя, «этим своим поступком он сам над собой произнес приговор и в то же время показал, какую силу имело учение Иисуса над Иудой — этим грешником, вором и предателем, который все же не мог совершенно исторгнуть из своего сердца учение Иисуса, преподанное ему» (76—77). Подобно ему, толкователь IX в. по имени Пасхасий Радберт, предполагал, что к самоубийству Иуду, возможно, подтолкнула надежда на встречу с Иисусом в потустороннем мире, во время которой он мог бы испросить у Него и получить прощение (Murray 196, 363).
[186] Самоубийство, хоть и признаваемое преобладающим большинством людей грехом, некоторыми все же расценивалось, как раскаяние.
На гравюре 1611г. работы Якоба Ван Сваненбурга (по мотивам Абрахама Блумарта) Иуда, наделенный благородной внешностью, изображен и до, и после повешения. На переднем плане композиции Иуда, с брошенным кошелем, сидит у основания проклятого дерева, завязывая веревку вокруг своей шеи, а на заднем плане мы видим Иуду на расстоянии — уже висящим на дереве. По низу гравюры тянется надпись латынью, воспроизводящая слова Иуды, оплакивающего в растерянности свою тяжелую участь («Я…, сам того не желая, себя потерял»; «Что делать мне?») и заканчивающаяся словами о «тяжком грузе» тела, висящего «на ветвях».
[187] Не кошель, а тело висит на дереве. То, что серия, в которой появляется такая картина, — «Библейские грешники» — объединяет Иуду с такими фигурами, как царь Саул, Святой Петр и Святой Павел, указывает на то, что он уже больше не считается аномальным демоническим воплощением. Грешным, но покаянным Иуду видели и верующие более раннего времени. Историк Александр Мюррей цитирует меморандум конца IV в по поводу проповеди, произнесенной монахом-доминиканцем, неким Викентием Феррером (ум. 1419 г.). Согласно Ферреру, толпы людей не позволили Иуде подойти к Христу на Голгофе, и «тогда он сказал про себя: “Не могу я подойти к Христу своими ногами, но встречусь с Ним на Голгофе бестелесным и там смиреннейше испрошу у Него прощение”; и сделал он, как решил, повесившись в петле, и душа его полетела к Христу на Голгофу, и там умоляла о прощении,
которое Христос тут же ей даровая; а затем оттуда вознесся Иуда с Христом на Небо, где
душу его благословили иные избранные». (Murray, 361, выделено автором)
Отмечая оригинальность этого свидетельства, Мюррей убедительно доказывает, что «едва ли не все средневековые богословы» отказывались верить в то, что Иуда раскаялся (364). С точки зрения большинства древних и средневековых мыслителей, Иуда все же оставался «вместилищем зла».
И в древности, и в Средние века в разных странах и в разное время образ Иуды трансформировался не одинаково; вот почему я воздерживаюсь от воссоздания простой исторической траектории. И все же, за некоторыми исключениями, Иуда тогда безжалостно наказывался за свои анальные, оральные и фаллические отклонения — как, впрочем, будет он наказываться и в более поздние времена. В городах Чехии и Германии деревянного или соломенного Иуду сжигали на освященных кострах в канун Пасхи, в субботу перед Пасхальным воскресеньем. На вершинах гор или на церковных подворьях устраивались празднества с пением «Palfme Jida§e!» («Мы сжигаем Иуду!») — считалось, что они защищали общину и ее урожай от всякого зла и ущерба.
[188] И потому вполне понятно, что древние иудейские сочинители реагировали с некоторой горячностью на демонизацию Иуды — создавая портреты Иисуса, которые были столь же оскорбительны для христиан, какими были, вероятно, и христианские образы Иуды для иудеев. Одно из таких сочинений иудейских авторов, соперничавших с христианской мифологией — если не во влиянии и популярности, то, по крайней мере, в необычности, — датируется V или VI вв. В нем демонический и обреченный Иуда становится причиной утраты Иисусом духовного потенциала, подвергнувшись осквернению в воздушном полете.
Действительно, этот созданный иудеями Иуда, похоже, был гомосексуалистом. «Толедот Йешу» («Родословие Иисуса») — одна из тех легенд, что циркулировали в Средние века и особенно разъярили Лютера, — рассказывает историю о незаконнорожденном бастрюке по имени Йешу, который, изучив
[189] буквы Тайного имени Бога, обретает магические способности (в том числе к полету), объявляет себя мессией, исцеляет прокаженных, воскрешает мертвых, но этим только убеждает «мудрецов» в том, что занимается магией и сбивает всех с пути истинного.
[190] Иуда Искариото, спрятанный Мудрецами и являющийся своего рода «бесстрашным агентом» (Maccoby, 98), также, как и Йешу, постигает буквы Тайного Имени и, как и Йешу, получает возможность творить чудеса и летать. Когда Йешу в доказательство своего мессианского достоинства поднимается в воздух, иудейские Мудрецы посылают Искариото за ним вдогонку, наказав вернуть Его любой ценой. Взлетевший над Йешу Иуда оскверняет Его, из-за чего оба утрачивают свою силу и падают на Землю («потому что сбежали от них буквы»). «И о том христиане плачут в ночь на Рождество» (152).
[191] На веб-странице American Atheists Secure Online Shopping Иисус из этого текста называется «жертвой гомосексуальных домогательств летящего Иуды». В конечном итоге, Иуда сообщает Мудрецам, что Йешу можно найти в Храме и указывает им на него, склонившись или упав перед ним ниц.
Такой же обманщик, как и Йешу, а в некоторых версиях даже лучше, Иуда освобождает народ от софистики, а Мудрецы в конце сюжета, схватив Йешу, приговаривают Его к смерти через повешение. Но Йешу (с помощью букв Тайного имени Бога) удается заговорить все деревья, и они не принимают Его, и в итоге Мудрецы вешают Йешу на огромном капустном стволе, «так как было это растение больше дерева» (152). В этой легенде Иуда и Мудрецы побеждают, тогда как Иисус, наоборот, выставляется осужденным лжепророком, сбивающим людей с пути истинного. Такая необычная версия — Иуда, торжествующий над униженным Иисусом, — не могла существенно повлиять на господствовавшие представления об Иуде, а тем более изменить их. Но это не умаляет ее важности, как версии, выражавшей диаметрально противоположные воззрения, в то самое время, когда уже начинала складываться совершенно иная традиция — традиция, представлявшая Иисуса и Иуду не антагонистами, из которых один торжествует, а другой унижен, но Иисуса и Иуду сплоченных, а то и «повенчанных, узами дружбы или родства.
Глава 4.
ПЛЕНЯЮЩИЕ ПОЦЕЛУИ: ЭПОХА ВОЗМУЖАНИЯ
Целование сводит Иуду и Иисуса вместе. В Средневековье и в эпоху Ренессанса некоторые художники изображали предателя, как типичного африканского или семитского садиста. Тогда как многие другие мастера визуальных искусств представляли Иисуса и Иуду братьями, друзьями или даже любовниками. Подобные трактовки евангельского лобзания породили целый ряд образов зачастую сентиментального, зачастую чувственного Иуды, а также любовных сцен с его участием.
* * *
Что означает, что наиболее прочно закрепившийся в художественном сознании мотив целования двух обнимающихся мужчин восходит к акту предательства, совершенного Иудой? И почему Марк и Матфей, обычно употребляющие греческое слово «phileo» для описания лобзания, при воссоздании сцены подачи Иудой знака в Гефсиманском саду применяют более эмоционально окрашенный глагол «kataphileo», означающий в переводе «целовать тепло, страстно или пылко»?
[192] Расположение Иуды как можно дальше от Иисуса во многих композициях, иллюстрирующих Тайную Вечерю, представляется совершенно оправданным в ракурсе восприятия Иуды, как персонажа, оскверняющего своим зловонием, грязной порочностью и извращенностью. Тем более невозможно обойти невниманием его физическую близость к Иисусу в кульминационный момент евангельских повествований — и не только из-за поцелуя, упомянутого Марком и Матфеем, но и из-за того, что Иисус избрал Иуду в Свои ученики, научил его исцелять и проповедовать, приобщил его к таинству евхаристии или омовения ног, называл его «другом», обещал, что души ни одного из апостолов не будут погублены, и предсказал, что Иуда будет править с другими одиннадцатью учениками в грядущем Царстве.
Подобные новозаветные детали, а также свидетельства почитания Иуды гностиками породили в воображении некоторых ранних интерпретаторов образ близкого по духу Иисусу и даже нежно любимого Им двенадцатого апостола. В этом плане весьма показательно, что намеки на духовную близость Иуды и Иисуса угадываются уже в ранних витражных композициях и иллюстрациях Псалтырей. И потому на этом месте моего повествования имеет смысл замедлить темп художественной эволюции Иуды и допустить, что путь его трансформации из библейской аномалии в средневекового изгоя никогда не был прямолинейным и что затем, благодаря Просвещению, он вступил в XIX в героическим сотоварищем Иисуса, а, в конечном итоге, — в двадцатом столетии — выступил даже в роли спасителя Спасителя христианства. Иными словами, мне представляется вполне возможным временно прервать биографический вымысел о том, как Иуда рос и становился лучше. Поскольку его история на поверку оказывается гораздо более сложной и выходит за рамки традиционного теологического «bildungsroman».
[193]
В контексте всего сказанного в предыдущей главе предательский поцелуй Иуды буквально чадит лицемерием, что вполне ожидаемо от создания демонического. А какое иное существо могло бы жестом любви — ведь поцелуй подразумевает расположение, привязанность, преданность, единение, слияние — прикрыть свое чувство ненависти? В религиозном сознании, в сознании искренне верующих людей поцелуи преисполнены исключительно благочестивой святости, но никак не сопряжены со святотатством. В первые пять веков от Рождества Христова греко-римский обычай приветствовать друг друга при встрече целованием был возрожден христианскими «братьями» и «сестрами», целовавшими друг друга в знак любви и более тесного общения, «создания нового типа братства, общества, зиждившегося не только на основе биологического родства, но на родстве веры» (Perm, 37). И вплоть до наших дней, при отправлении Евхаристического таинства, верующие обмениваются «поцелуем мира» или «лобзанием любви» или рукопожатием, более лаконичным вариантом приветствия в христианской Библии: «Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе» (1-е Послание Петра 5: 14; в Послании к Римлянам сказано: «Приветствуйте друг друга с целованием святым» [16:16]).
[194] Во время субботнего богослужения ортодоксальные иудеи целуют талес — молитвенное покрывало, — чтобы соприкоснуться с Торой, а католики в Страстную Пятницу целуют распятие. Многочисленные иллюстрации к Новому Завету являют нам блудниц, благоговейно целующих ступни Иисуса или Марии, качающей в люльке свое любимое чадо или своего распятого Сына. В светской, особенно эротической, живописи подобными проявлениями ласки обмениваются, как правило, разнополые персонажи; достаточно вспомнить композиции, запечатлевшие восторженную страсть Купидона и Психеи или Марса и Венеры, либо причудливо
сплетенных в объятиях любовников Густава Климта.
[195]
Однако в акте целования Иудой Иисуса, в котором участвуют лица одного пола, за жестом верности и преданности (ученика — своему учителю, подданного — своему господину) скрывается преступный замысел. Приписываемая Иуде — и только Иуде — в Новом Завете идея использовать поцелуй с целью предания другого смерти не просто подчеркивает его лицемерие; она утверждает, доказывает его глубокую порочность и развращенность (почти театральная постановка самой неправдоподобной и сбивающей с толку сцены!). Иуды — эти «негодяи! Гнусные ехидны! Собаки, лижущие руку вора!» (пер. М. Донского), как о них говорят герои шекспировских пьес, — целуют своих учителей, восклицая «приветствуем» и подразумевая «ненавидим», «сказав “Привет” — и зло в душе тая».
[196] В наше время такой литературный «каламбур» ассоциируется с мафиозным «поцелуем смерти, когда вероломный поцелуй — не просто обман обреченной жертвы, а именно то, чего виновная сторона (допустим, Иуда по отношению к Богу-Отцу) заслуживает. Совсем иное дело — поцелуй в саду, который ужасает, потому что он — ставший возможным в силу прежних, доверительных, отношений — разрушает эту самую доверительную близость. Обиды, неумышленно причиняемые союзниками (своего рода «огонь по своим»), можно вынести; но
осознанное смертоносное объятие наносит смертельный удар: «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего» (из Книги Притчей Соломоновых 27:6). Эту строфу, часто относимую на счет Иуды, предваряет утверждение: «Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь» (27:5). Слова поистине загадочные, поскольку могут восприниматься, как ключ к изобличению во лжи — в ракурсе безмерного коварства Иудиного поцелуя, а могут навести на размышления совсем иного рода — иначе как возникли допущения, что его злобный поцелуй-знак мог быть мотивирован «скрытой любовью»?
Любопытно, что именно «скрытую любовь» Иуды предполагает Эмили Дикинсон в своем драматическом монологе, если его интерпретировать, как монолог Иуды.
[197] В стихотворении поэтессы самобичующий себя предатель молит о наказании Бога, который принимает Своего Сына, но отвергает говорящего, хотя его любовь не уступает по силе или даже превосходит любовь Иисуса. Метафоричный язык Дикинсон и здесь открывает широкие просторы для необычных и неоднозначных толкований. Но если монолог произносит Иуда, то в первой строфе он как будто бы пытается оправдать свои действия, мотивируя их любовью — возможно, к Иисусу, «Истинному», возможно, к Тому, к кому обращает он свою речь — Богу. При этом Иуда Дикинсон осознает и даже приемлет неотвратимость наказания:
Любовь — виной всему — не я,
О, накажи — меня молю —
Он, Лучший, умер за Тебя
(пер. Павловой И.В.)
Похоже, в начале Иуда пытается снять с себя бремя вины, допуская, что не его предательство, а любовь Самого Иисуса подвигла Его к жертве на кресте.
В не менее многоплановой второй строфе самообвинение Иуды усиливается, но при этом вина соотносится с всепоглощающей силой любви, как и с желанием Иуды быть в конечном итоге все же прощенным:
Вина — любви к Тебе — сильна!
И приговора жду последний!
Помилуй за нее меня —
Мотив, как и Иисуса, — вечный!
Дикинсон завершает свое короткое стихотворение тем, что Иуда подчеркивает свое сходство с Иисусом и выражает свою готовность понести наказание (как, впрочем, быть может, и воссоединиться с «Лучшим», или с «Ним», Богом):
Не погрешила б справедливость —
Мы двое — были так похожи,
Ну же, рази! — мне кара в милость.
-Ради любви! — быть с Ним дороже! (562)
Последние слова исполнены такой же эмоциональности, какая слышится и в сонете Джона Донна «Бей в мое сердце, трехликий Бог!» (пер. М.Л. Гаспарова). Страстной мольбой Донна движет любовь и желание открыться божественной любви: «Я Тебя люблю, — и Ты меня люби!».
[198] Иуда же Дикинсон чувствует себя как отверженным Богом, так и обойденным тем Истинным (Иисусом), Кто любит «Его» (Бога) столь же сильно, как любил Его и любит сам Иуда. Что за соперничество у этих троих?
Строка Эмили Дикинсон «Мы двое — были так похожи» устанавливает общность между братьями, чье сходство друг с другом навевает мысль об их возможном родстве. Возможно, отвергнутый Иуда пытался соперничать со своим братом Иисусом в проявлении любви к Богу, а, может быть, он боялся, что Бог любил Иисуса больше, чем его. Или же — как-то часто случается в любовных треугольниках — Иуда соперничает с Иисусом за любовь Бога, чтобы заглушить свою страсть к Иисусу. Метафорические строки Дикинсон не поддаются однозначной интерпретации, но перекличка фраз «Любовь виной» и «Ради любви» намекает на то, что — подобно тому, как Иисус любил Бога и хотел любить Его «сильнее» всех — точно так же любил Его Иуда. В таком случае — если Иуда виновен, то вина его в том, что он слишком сильно любил. Его предательство, как и жестокость Каина, может быть объяснено соперничеством двух братьев: желанием Каина или Иуды снискать отеческую благосклонность или ревностью к более любимому сыну. И рядом с Иисусом — тем, «Истинным», — презираемый и отвергаемый Иуда познает всю горечь того, что значит быть не лучшим и не первым, не любимым и не ценимым. И если Иисус вознесся на Небо, чтобы воссоединиться со Своим Создателем, покинутый и одинокий Иуда обречен быть прощен «последним», либо же молит осудить его «последним», с тем чтобы, в конце концов, снискать прощение.
Но что означает слово «мотив», появляющееся между фразами «Любовь — виной» и «Ради любви». Не означает ли оно, что любовь Иуды была настолько низменной и корыстной, насколько чистой и бескорыстной была любовь Иисуса (что станет обычным прочтением)? Или же оно подразумевает, что любовь Иуды, как и любовь Иисуса, была причиной всему случившемуся? Ведь «мотив» может быть низменный, корыстный или подлый, либо высокий, возвышенный и светлый. И вместе с тем, мотив — это причина, побудительный импульс к действию. Фраза «И приговора жду последний» также двусмысленна: не намек ли это на то, что сыну, осуждаемому последним, на самом деле, отец благоволит более всех? В последней строфе Иуда взывает к высшей Справедливости. Не пытается ли Иуда убедить Бога, что было бы несправедливо — заклеймить, как греховный, акт совершенной (хотя и нереализованной) любви. Жалкий Иуда Дикинсон стремится отвоевать принадлежащее ему по праву место рядом с «Ним» (Богом) и «Лучшим» (Иисусом) — место, которое он время от времени получает в истории европейского искусства!
История, поведанная в предыдущей главе об эволюции Иуды в послебиблейской литературе древности и Ренессанса, затмевает этот аспект мотивации любовью его «братского» соперничества с Иисусом: стихотворение Эмили Дикинсон являет собой попытку «изобличить» Иуду в «скрытой любви», поклонении Сыну Божьему и Богу. Знаменательно, но подобный ракурс видения, крайне редко находящий подкрепление в ранних сочинениях и богословских рассуждениях, обнаруживается в картинах средневековых художников, и в первую очередь в иллюстрациях сцены с предательским поцелуем. Почему тема любви Иуды появляется раньше и чаще в живописи, чем в письменных текстах, и что это может означать? Ради того, чтобы ответить на эти вопросы, я отступаю в данной главе от хронологического принципа подачи материала и отступаю на шаг назад, чтобы проследить историю иконографического мотива, связующего Иисуса и Иуду и развенчивающего огульное поношение Иуды во многих письменных источниках, хотя и не вытесняющего полностью его демонические образы.
Совершенно предсказуемым в этой истории было появление гиперболизированных, даже карикатурных, изображений демонического Иуды. Естественно, что некоторые художники продолжали развивать этот образ, декларируя извращенный садизм Иуды и трактуя его поцелуй, как проявление оральной агрессии со стороны нападающего противника африканской или семитской наружности. В результате заклейменный и очерненный предатель обретал ярко выраженные семитские и даже негроидные черты, становясь все «чернее», тогда как фигура Иисуса все более и более «светлела», что только усугубляло и без того дурную славу Иуды в средневековый период. Однако в данной главе основное внимание уделяется тем художникам — как более ранним, так и поздним — которые, проводя незримую границу между парой Иисуса и Иуды и окружавшими их фигурами, насыщали их объятие не только физическим, но и духовным пылом. Возможно сорвавшийся у Луки и вообще отсутствующий у Иоанна, предательский поцелуй, стал одним из ведущих мотивов в искусстве, получив распространение уже в IV в. и часто замещая, а то и вовсе вытесняя, мотив пленения Христа.
[199] И на иллюстрациях к рукописям, и на картинах поцелуй, послуживший знаком Иуды для пленения Иисуса, неизменно пленяет зрителя — приковывает его внимание, поражает, потрясает, захватывает, завораживает. И все эти определения отображают глубоко коэрцитивную силу эроса, скрытую и в самом выражении «Драма Страстей Господних». Слово «passion» в английском языке, по-русски «страсть», происходит от латинского «passio», в переводе означающего «страдание». Но в разговорном английском языке оно выражает «сильное увлечение, неистовый энтузиазм или полную самоотдачу» (Borg and Crossan, viii). Памятуя об этом, я разделила живописные «интерпретации» предательского поцелуя натри группы. В первую вошли изображения, в которых Иисус и Иуда выглядят, как близкие по духу или родные друг другу по крови люди; вторую группу составили композиции, в которых они предстают заклятыми врагами, вовлеченными в борьбу не на жизнь, а на смерть. На картинах третьей группы Иисус и Иуда — оказавшиеся в ловушке соучастники, жертвы несправедливости, жуткой судебной ошибки.
Связь между близкими по духу Иисусом и Иудой можно охарактеризовать греческим словом «phileo» («братская любовь», любовь, основанная на взаимных интересах и симпатии). Отношения между враждующими Иисусом и Иудой вызывают более противоречивые эмоции, навеивающие мысли о непримиримой борьбе страстей, что ассоциируется с греческими словами «eros» («любовь, основанная на физическом влечении») и «thanatos» («смерть»). А взаимоотношения между попавшими в ловушку соучастниками пробуждают в памяти греческое «agape» («преданная, самоотверженная, бескорыстная любовь, основанная на сострадании»). И все же — поскольку семантика греческих слов, обозначающих любовь, многопланова и не поддается четкому разграничению — мы должны учитывать и те варианты, когда все грани любви — привязанность, страсть и сострадание — соединяются воедино. Проводя анализ в таком ключе, мы в конечном итоге убедимся, что самые яркие иллюстрации поцелуя в искусстве — а именно: сцены, «подсмотренные» воображением Джотто и Дюрера, Караччи и Караваджо, — кристаллизуют в себе пугающую и в то же время потрясающую силу завораживающего, пленяющего столкновения лиц одного пола, венчаемого пленением одного из них.
Если в древних и средневековых легендах и пьесах Иуда при гибели разверзается от удара оземь или от некоей болезни (с выпадающими и свисающими по всему телу кишками), то в некоторых визуальных интерпретациях он разрывается от переполняющих его чувств, так как на объятие его толкает «скрытая любовь», утаиваемая от всех. Одних подобное предположение может шокировать, другим — показаться анахронизмом. Оно вроде бы противоречит постулатам тех «историй сексуальности», что навеяла философия Мишеля Фуко, датировавшего становление концепции гомосексуальности Новым временем, XIX в.
[200] Но ведь Фуко писал о категории, понятии «гомосексуальный»: до того акты привязанности, страсти и сострадательной любви между лицами одного пола, конечно же, случались, но люди, участвовавшие в них, не были, безусловно или онтологически, приверженцами однополой любви. Визуальные «трактовки» предательского поцелуя понуждают нас предполагать возможную гомоэротическую связь двух обнимающихся мужчин, которые никак не могут быть причислены к категории гомосексуалистов в современном ее понимании.
Это объятие между лицами одного пола не имеет под собой гомосексуальной основы: но что означает оно в религиозном и духовно-нравственном аспекте? И как этот мотив преломился в светских образах мужчин, заключающих друг друга в крепкие объятия при встрече «лицом-к-лицу»? Со времен Средневековья и до эпохи Ренессанса включительно, витражи, алтарные композиции, гравюры и картины маслом намекают, подобно Эмили Дикинсон, на то, что схожесть Иуды с Иисусом могла ввести в заблуждение евангельских авторов и даже Бога насчет того, кто же на самом деле был истинным, «лучшим» и самым любимым Сыном. А самая неясная строка Дикинсон: «Мы были так похожи» может побудить зрителей, смотрящих на обнимающихся Иисуса и Иуду, задаться вопросом: а кто же из них на самом деле покинут, и кем, и за что именно?
Братские поцелуи
Если поцелуй считать всего лишь просто поцелуем, то тогда понятно, почему нежное объятие Иисуса и Иуды заложило прочную основу для фольклорных поверий о том, будто Иуда родился 1 апреля («День дурака») или 14 февраля (День Св. Валентина — День всех влюбленных).
[201] Возможно, Иуда был просто тем глупцом, с которым любовь сыграла злую шутку? Однако в некоторых изобразительных композициях раннего Средневековья Иуда и Иисус сплетаются в поцелуе, напоминающем те лобзания, которыми обмениваются духовно близкие люди, родственные натуры, сродни святым «поцелуям мира» во время богослужения или чувственным и сладостным поцелуям из Песни Песней Соломона: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина» (1:1); «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим» (4:11); «Губы его — лилии, источают текучую мирру» (5:13); «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! Тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы» (8:1). Древние и средневековые богословы часто толковали Песню Песней Соломона, как аллегорию любви Бога к детям Израиля или любви Христа к Церкви, либо поклонения мистика Христу. И как бы необычно ни звучала эта мысль, но время от времени в живописном мотиве поцелуя Иуды — визуально противопоставляемом жестокому предательству — нет-нет, да и преломляются как будто размышления авторов о слиянии человеческого и мистического начал.
Пожалуй, лучше всего тема схожести Иуды и Иисуса, встречающийся уже в византийских мозаиках (одна из них описывается в Главе 2), обыгрывается в миниатюре «Поцелуй Иуды», иллюстрирующей Псалтырь Рейнау. Хотя в ней ступня Иисуса и изображена над ступней Иуды, чтобы подчеркнуть превосходство Христа (1250 г.). Между двумя центральными фигурами композиции проглядывают иудеи в островерхих шляпах, а на заднем плане просматриваются пламенеющие факелы и макушки кольев. Симметричной параллелью этим кольям выступает перевернутый острием вниз меч, что в своей правой руке держит Петр, вцепившийся левой рукой в волосы на голове коленопреклоненного Малха, у которого из отрезанного правого уха льется кровь. Жестокость Петра по отношению к Малху резко контрастирует с нежными объятиями Иисуса и Иуды. Одинакового роста, и Иисус, и Иуда оба изображены с длинными волосами и короткими бородками каштанового цвета. Рука Иуды обвивает Иисуса, а скрещенные руки Иисуса безмятежно покоятся на Его теле. Иуда показан в профиль, но его лик исполнен такого же благородства, как и Иисуса, и настроение обоих, похоже, созвучно. Иуда облачен не в традиционные желтые, а в зелено-розовые одежды, а Иисус — в красно-голубые. И, в отличие от всех иных фигур в композиции, у них обоих видны оголенные ступни. В то время как Петр смотрит на зрителя, а Малх опустил свои глаза долу, Иисус и Иуда пристально вглядываются друг в друга, и только друг в друга. Их спокойствие и сосредоточенность подчеркивает суматоха позади и вокруг них. Поцелуй уже случился? И не предвещает ли отрезанное ухо Малха кровавый конец Иисуса, после того как ушей Его коснулось вкрадчивое обращение Иуды («Равви»), а кустам Его прикоснулись губы Иуды? В свете факела, что поднимает вверх иудей на заднем плане, предающий и предаваемый соединяются.
Коль скоро руки Иуды обвивают Иисуса, то деликатная близость губ, мгновение назад встретившихся в поцелуе, может предполагать взаимность. Некоторые средневековые мыслители считали, что объятие в Гефсиманском саду увенчалось слиянием в поцелуе
двух пар губ. К примеру, Святой Бонавентура (1217-1274 гг.) настаивал, что в поцелуе слились уста и Иуды, и Иисуса: «в самый миг Своего предания / этот самый кроткий из всех Агнцев не отказался приложить / в сладостном поцелуе, / уста Свои, не способные на коварство, / к устам, зло источавшим, / чтоб дать изменнику возможность / излить упорство / своего упорствующего сердца» (141). Что поистине замечательно в Драме Страстей Господних, так это беспредельное милосердие, сострадание и доверие Иисуса, не взирая на то, заслуживают ли этого те, кому Он сострадает и доверяется. И хотя отдельные средневековые комментаторы считали, что Иуда прикоснулся в поцелуе «к ступне, руке или кромке одежд [Иисуса]» (Hughes, 231), многие верили в то, что губы Иуды были освящены (прикосновением к Устам Иисуса) и потому его испорченная душа могла покинуть умершее тело только через какой-нибудь иной выход. О том рассуждали и некоторые проповедники, цитируемые в последней главе. А на что указывает подобное предположение в контексте идеи, выдвинутой психоаналитиком Адамом Филлипсом? По его мнению, «поцелуй в уста может быть обоюдным, и тогда различие между целующим и целуемым стирается» (Phillips, 97). А в Коптском Евангелии от Фомы Сам Иисус говорит об этом: «Иисус сказал: Тот, кто напился из Моих уст, станет как Я. Я также, Я стану им, и тайное откроется ему» (Cartlidge and Dungan, 28).
В некоторых композициях XIII в. на тему предательского поцелуя, акцентирующих близость и взаимосвязь двух главных действующих лиц, Иуда запечатлен не в профиль! Напротив, головы Иисуса и Иуды повернуты друг к другу, так что щека Иисуса оказывается напротив щеки Иуды, а их уста — в самой непосредственной близости. Чтобы обратить внимание зрителя на близость их тел, художники прибегают к приему, которым гораздо позднее будут пользоваться театральные и кинорежиссеры: ставя любовные сцены, они заставляют актеров «смотреть друг другу в лицо и на зрителя» одновременно (Williams, 293). Например, в миниатюре «Предательство Иуды и взятие Христа под стражу» из Чичестерской Псалтыри, звероподобные Малх и воины, изображенные в нарочито темных тонах, противопоставляются совсем юному Иуде, над лицом которого склоняет Свое лицо Иисус (Манчестер, библиотека Джона Райлэндза, ок. 1250 г.). Глаза Иисуса и Иуды, их носы, уста и подбородки как будто сливаются в любовном союзе. Две пары губ словно объединяются и разговаривают друг с другом. Пристально всматриваясь в нас, зрителей, Иуда своей левой рукой обымает одеяние Иисуса. Хотя его правая рука, похоже, готова сжать руку другого персонажа — врага [Иисуса]. Впрочем, возможно, Иуда лишь хочет сдержать ближайшего нападающего.
«Предательство Иуды и взятие Христа под стражу» в церкви Св. Петра (головы Иуды и Иисуса, их глаза, носы и подбородки и здесь объединены расположением на одном уровне) также акцентирует их единение, равно как и их общность (WimpfeninTal, Германия, 1280-1290 гг.). Обе композиции — и в Чичестерской Псалтыри, и в церкви Св. Петра — подчеркивают превосходство Иисуса, его владение ситуацией и защитительную роль: в обоих сценах более высокий Иисус наклоняется к более низкому Иуде, которому приходится тянуться вверх, чтобы приблизиться губами к устам Иисуса.
[202]Как здесь не вспомнить Бонавентуру, воображавшего «Агнца» прикладывающим свои губы к губам предателя! Ведь эта разница в росте усложняет традиционное различение целующего и целуемого, побуждая, если не пересмотреть, то усомниться в общепринятом мнении, будто целовал Иуда Иисуса, а не наоборот. В этом смысле мастера визуальных искусств походят на более ранних христианских мыслителей, которые «восхищались тем, что Иисус, даже зная о планах Иуды предать Его, все же целовал того в последней попытке спасти его» (Penn, 65). В обеих композициях жестокость аккумулируется вокруг пары, но не в ней. Уста сливаются с устами, поцелуй, независимо от ареста Иисуса, явно означает то же, что и во многих других иконографических композициях: физическое, равно как и духовное взаимодействие.
На всех этих трех изображениях XIII в. Иисус и Иуда соприкасаются друг с другом также и телесно — словно сиамские близнецы, две страницы в открытой книге или лицо и его отражение в зеркале. Поскольку их уста закрыты, их близость выглядит целомудренной и в то же время явленной на всеобщее обозрение, публичной и в то же время личной, свидетельством их сплоченности.
[203] Задушевные друзья или близкие по духу люди, Иисус и Иуда приемлют как и то затруднительное положение, в котором они оказались волею сценариста, так и ту ужасную участь, которая им обоим отмерена. Не «я» и «Другой», но два «я», ничем не отличающиеся и не противопоставленные друг другу, словно сосуществуют в дружелюбном согласии. Здесь — как в описанной философом Эммануэлем Левинасом ситуации «лицом-к-лицу», где «Другой считается собеседником даже еще до того, как стал известен» — устанавливается «отношение морального равенства». «Человек смотрит на взгляд. Смотреть на взгляд — значит, смотреть на то, что не отдается, не дается, но
всматривается в вас [«vise»]: это значит смотреть
в лицо [«visage»]» (Levinas, 242). В паузе, возникшей по ходу действия перед предстоящим актом насилия, «Лик Другого, подвигаясь, говорит…: «Не убивай»: постигаемое лицо выявляет верховенство другого «я» и тем самым провозглашает этический запрет на убийство (243).
Необычное визуальное соотнесение Иуды и Иисуса вызывает в памяти концепции ранних гностиков, изложенные в трудах Епифания Кипрского, в которых он обвиняет некоторых из них за то, что они восхваляют Иуду и считают, что он пошел на предательство, потому что «был хорошим»,
по небесному знанию. Ибо архонты узнали, что если Христос будет предан распятию, то упразднится их слабая сила. Зная это, Иуда, по их словам, и поспешил все привести в движение, чтобы предать Его,
и тем сделал доброе дело нам во спасение. И вам должно хвалить его и воздавать ему похвалу, потому что
им устроено для вас крестное спасение и по силе сего основания — откровение… (134, выделено автором, Епифаний Кипрский, Панарион, Против каиан 3).
Если Иисус должен умереть, чтобы Он и его последователи обрели вечную жизнь, то Иуда присоединяется к Нему, чтобы быть «под рукой», как орудие для решения этой задачи, как, собственно, он и поступает в Коптском Евангелии от Иуды. И если принять за моральный критерий данное Джереми Бентамом утилитарное определение «блага», как величайшей пользы для подавляющего большинства людей, тогда продолжительное объятие Иуды, благоприятствующее свершению искупительной жертвы Иисуса, можно истолковать как объединение двух посвященных людей общностью цели.
[204]
В ряде неканонических Евангелий для акцентирования их общности обыгрывается присущее двойникам сходство Иисуса и Иуды. Уже в Коптском Евангелии от Фомы, которое некоторые ученые считают самым важным дополнением четвертого века к Новому Завету, персонаж по имени Иуда предстает двойником Иисуса. Сто четырнадцать изречений Иисуса, приводимых в Евангелии от Фомы, были записаны неким Дидимом Иудой Фомой. «Оба эти слова, и «Дидим», и «Фома», означают «близнец, двойник», — отмечает Барт Эрман, из чего следует, что «его истинное имя — Иуда». А в Деяниях Фомы «он — кровный сродственник Иисуса» (Ehrman, 72). Позднее, в навеянном исламской традицией Евангелии от Варнавы, которое могло иметь хождение среди итальянцев и испанцев в Средневековье и на заре Нового времени, Иуду и взаправду ошибочно принимают за Иисуса, приводят к Ироду, подвергают насмешкам и бичеванию и, в конце концов, распинают вместо Иисуса по причине его поразительного сходства с Иисусом.
В Евангелии от Варнавы Иуда — вероломно предающий Иисуса, который объявляет истинным Мессией Мухаммеда, — получает от фарисеев «тридцать золотых монет» (в рус. переводе — «тридцать сребреников». —
Прим. пер.) за передачу своего учителя в их руки (253), но Иисуса прячет Никодим, а затем Его возносят на небеса служащие Богу ангелы (262). Варнава пишет: Бог «действовал восхитительно. Своей речью и лицом Иуда стал настолько похож на Иисуса, что мы поверили в это и на самом деле приняли его за Учителя» (263). Пока Иисус пребывал на Небе, не только Первосвященники, но даже «все ученики» уверовали в то, что «Иуда был Иисусом» (264): «его голос, его лицо и образ так походили на Иисуса, что его ученики и верующие ему люди на самом деле были уверены, что это действительно был он» (268).
[205] Из-за того, что Иуда в Евангелии от Варнавы стал похожим на Иисуса, двенадцатого апостола действительно пригвоздили к кресту на Голгофе. Резким контрастом поучениям ортодоксального христианства выступает опровержение автором Евангелия от Варнавы свидетельства о том, что Иисус умер и снова воскрес. Вместо того читателям сообщается, что «те из учеников, кто не боялся Бога, ночью украли тело
Иуды, спрятали его и распространили слух, что Иисус, якобы, был воскрешен. Так возникла большая путаница» (269, выделено автором).
Допущения о схожести Иисуса и Иуды можно также обнаружить и в философии ортодоксального христианства, как ранней, так и поздней. В начале XVII в. Джон Донн произнес проповедь, в которой утверждал, что Иуда, подобно Пилату, возможно, и не выдавал Иисуса. Только невыразимая и непостижимая любовь Христа, Его «готовность, желание, предрасположенность пожертвовать собой ради великого мира и согласия между Богом и Человеком» — подвигли Его предать себя как «щедрый и чистый» дар (Donne, 122-123). Размышляя о слове «предание» («Tradidit»), которое так занимало мысли Блаженного Августина, Донн приписал предательство Самому Иисусу:
«Апостол здесь, говоря о предании Себя Христом, использует то же слово, что применяют
евангелисты к Иуде, описывая его предательство: то есть Христос не просто предался воле Отца ради спасения человечества, не только отдался во власть смерти в своей человеческой ипостаси, но Он предложил, раскрыл, разоблачил себя перед врагами, (мы можем сказать) предал Сам Себя врагам Своим, и то худшим из врагов; иудеям, распявшим Его затем; и то для нас, ибо распятие Владыки жизни нашей явило нам Воссоздание». [122-123]
По мнению Донна, Иисус Сам
предал себя, чтобы быть убитым, но не римлянами, настаивает Донн, а иудеями. В то время, как Донн намекает, что Иуде была приписана сила, которой обладал единственно Иисус, один из современных теологов обращает внимание на их сплоченность: «При всех различиях можно ли проглядеть некое подобие, при котором Иуда — единственный из всех апостолов — стоит лицом к лицу и бок о бок с Иисусом?» — задается вопросом Карл Барт (Barth, 479). Барт отмечает не только «близость Иуды Иисусу», но и «схожесть с Ним, которое он один осознает из всех апостолов» (480). Даже новаторский писатель двадцатого века, подчеркивавший чудовищную двуличность Иуды, противопоставлял обескураживающему бессилию Одиннадцати при аресте Иисуса смущающее читателя соучастие двенадцатого апостола. Вот что писал русский сочинитель Леонид Андреев в своем рассказе «Иуда Искариот» (1920): «И зажглась в его [Иуды] сердце смертельная скорбь, подобно той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужины росы не сронил бы с чистых лепестков». [103]
Товарищеское соучастие Иуды в ряде изобразительных композиций, предстающим «лицом к лицу и рядом с Иисусом» подчеркивает трогательная нежность их союза: физическая, но при этом глубоко духовная, она соединяет подобное с подобным, жизнь с жизнью, противопоставляя Иисуса и Иуду «другим», подобным зверям, угрожающим схватить их.
Подобный образ — двух мужчин с разными корнями и истоками и абсолютно разными перспективами, испытывающих сильную эмоциональную, равно как и духовную, привязанность — соответствует повествовательной традиции еврейской Библии. Ионафан полюбил врага своего отца, Давида, «как свою душу» (1-я Царств 18:3); и Давид оплакивал смерть Ионафана: «Скорблю о тебе, брат мой Ионафан: ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской» (2-я Царств 1:26). Но более важную роль, чем обе Книги Царств, сыграла в риторике христианского мистицизма, Песнь Песней Соломона, в толкованиях которой на раннем этапе Западной цивилизации часто акцентировалось страстное стремление одного мужчины к другому.
[206]
«Да лобзает он меня лобзанием уст своих!»: так начинается Книга Песни Песней Соломона, в которой подчас упрямые жители Израиля становятся восторженными невестами божественного и божественно мужественного Бога.
[207] В еврейской Библии мужчины, равно как и женщины, страстно желают быть в объятиях божественного супруга, тогда как Новый Завет ясно указывает, что «нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (К Галатам 3:28). Как показывает Стивен Д. Мур. Мудрецы ранней Церкви подчас интерпретировали Песню Песней, как аллегорию «взаимного тяготения двух мужчин» (S.D. Moore, 27). В подтверждение своих слов Мур цитирует «Толкование на Песню Песней» Бернара Клервоского (10917-1153 гг.), в котором тот выражает желание поцеловать Иисуса в уста, чтобы утолить свою страсть к духовному совершенствованию. Страсть удовлетворяется как обретаемым знанием, так и близостью лиц одного пола: «Что пользы мне в словесных излияниях пророков? Да лучше Тот, кто есть прекраснейший из сынов человеческих — да лобзает он меня лобзанием уст своих (Песня Песней 1:1). Даже самая красота ангелов может лишь ввергнуть меня в уныние. Ибо мой Иисус безусловно превосходит их в своем величии и благородстве. И потому я прошу Его о том, о чем не просил ни одного мужчину, как и ни одного ангела: да лобзает он меня лобзанием уст своих». (S. Moore, 23)
Желание невесты соединиться союзом со своим любимым женихом равносильно страстной мечте Бернара о поцелуе «прекраснейшего из сынов человеческих». Могли ли Бернар или Дионисий Картузианец (14027—1471), рассуждавший над тем же фрагментом в Песне Песней, видеть в Иудином объятии страстное стремление мистика поцеловать Иисуса? Конечно же нет! — ответит, скорее всего, историк! И все же, когда Дионисий вопрошает: «Не Он ли Сам создал меня, чтобы я снискал это благостное лобзание уст Его в земле Обетованной?» — он подсказывает нам путь иного прочтения иллюстраций, а не того, что диктует евангельское повествование, которому они служили примечаниями и одновременно толкованиями (S. Moore, 26). Иными словами, образы обнимающихся Иисуса и Иуды воспринимались бы совершенно по-иному, если бы служили иллюстрациями не к Евангелиям, а к «Книге Песни Песней Соломона». А ведь для подобного допущения есть оправдательная почва: единственный человек в Драме Страстей Господних, получивший то, чего так страстно желали мистики, был Иуда!
Эротические слова Хуана де ла Крус (1542-1591 гг.), в которые он облекает свое страстное стремление обрести союз с Богом, не имеют ничего общего с поцелуем предателя. Но они колоритно дополняют визуальные композиции, соотносящие Иисуса и Иуду: «Я буду зреть Тебя в Твоей красе, и Ты узришь меня в Своей красе, и буду зреть себя в Тебе в Твоей красе, и Ты узришь Себя во мне в Своей красе; так уподоблюсь я Тебе в Твоей красе, а Ты подобие меня найдешь в Своей красе, так красота моя Твоей красою станет, Твоя краса — моею красотой … И будем мы чрез то друг друга созерцать в Твоей красе». (S. Moore, 57)
«Ты» и «я» в песни Джона уравновешиваются ритмическим чередованием и конечным взаимным отождествлением. Если женственность невесты в Песне Песней могла служить прикрытием страстного стремления смертного мистика удостоиться лобзания бессмертного Иисуса, то, возможно, злодейство предателя маскировало «скрытую любовь» Иуды к Иисусу, либо служить некоторым художникам оправданием за «видение» в объятии и поцелуе союза любящих сердец. Подобные визуальные прочтения евангельской сцены напоминают о слове «друг», с которым Иисус обратился к Иуде, поторапливая его исполнить задуманное. Кроме того — отдели мы поцелуй Иуды от римских воинов и фарисеев, как это могут делать и делают в своем воображении художники — мы могли бы истолковать его как вариацию на тему «osculum pacis», или «поцелуи мира», как физического жеста, выражающего или отображающего духовное приятие Иисуса в душе просителя. Целование после крещения, целование на бракосочетании, как жест, скрепляющий союз врачующихся, целование во время праздничной Мессы или целование умершего — во всех этих случаях поцелуй в знак приветствия, обещания, мольбы, либо прощания выражает молчаливый обет дружбы, согласия и мира.
И все же, даже самые трогательные изображения Иудиного поцелуя содержат намек на предстоящую вражду. Фрагмент «Взятия Христа под стражу» Чимабуэ являет нам профиль исполненного благородства Иуды обок Христа с нимбом, чем подчеркивается их союз и осознание обоими всей серьезности своей цели (фрагмент фрески в Верхней церкви Св.Франциска, 1280 г.). Но Иисус Чимабуэ явно не полностью доверяется объятию, которое принимает. Кроме того, все эти иллюстрации XIII в. помещают Иисуса в правой части, обычно ассоциирующейся с счастьем, чистотой, святостью, а Иуду — в левой, символизирующей несчастье, порочность и нечестивость: слово «sinister» в английском языке происходит из латыни и означает как «левый», так и «злой, дурной, зловещий».
[208] Вдобавок ко всему, терпеливость Иисуса, проглядываемая в миниатюре из Псалтыри Рейнау и в композициях в церквах Св. Петра и Св. Франциска, может указывать не на молчаливое приятие объятия, а на покорное приятие Божьей воли и своей страшной участи на кресте.
В «Сценах из жизни Христа» Фра Анжелико (из Серебряной ризницы, ок. 1450-53 гг.) обособление более старшего Иуды и Иисуса от остальных участников сцены усиливается за счет того, что художник изображает иудейских старейшин и римских солдат павшими ниц — а именно так они поступают в Евангелии от Иоанна.
[209] Здесь Иуда изображен с нимбом, как и Иисус. И даже затемненный, этот нимб явно связывает Иуду с апостолами, стоящими справа от Иисуса, и обособляет его от фарисеев и воинов, распростершихся перед погруженным в раздумья, исполненным силы Иисусом, созерцающим все происходящее, скрестив на груди безвольные руки, свидетельствующие о его смирении. Примиренный Иисус Фра Анжелико напоминает нам о намеке Иоанна на то, что Он соучаствует в акте Иуды: после того, как Иисус Иоанна говорит Иуде: «что делаешь, делай скорее», евангелист добавляет: «Но никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал ему» (13:28) — никто, за исключением, конечно, Иуды и Иисуса.
Близость, тесная связь и спокойствие пары вызывают вопросы, но прямо не противоречат доминирующим письменным истолкованиям поцелуя, подобным тому, что мы находим в рассуждении четырнадцатого века, одно время приписывавшемуся Святому Бонавентуре. «Размышления о жизни Христа» поясняет: «Говорят, в обычае было у Господа нашего Иисуса приветствовать посланных им с заданием учеников по возвращении лобзанием. Выходит с того, что изменник Иуда своим поцелуем знак подал. Предварив остальных, он возвратился с поцелуем, как если бы хотел сказать: “Не пришел я с воинами этими, но, возвратившись, целую Тебя по обычаю Твоему и говорю: Славься, Равви! Спаси Тебя Господь, Учитель”. О, истинный изменник! Смотри и следуй Господу, ибо Он смиренно и милостиво принимает
изменнические объятия и поцелуи того негодного, чьи ноги омыл Он, не задолго до того, и кому дал Он божественной пищи. С каким смирением позволяет Он пленить Себя, связать, истязать и забить гвозди в Тело Свое, как если бы Сам Он был грешником и не имел силы Себя защитить!» (325, выделено автором).
Как будто не желающий изображать «изменнические объятия и поцелуй», Фра Анжелико пользуется намеком Иоанна и воздерживается от изображения собственно поцелуя. Трактуя лобзание, как «знак любви», Св. Амвросий (ок. 339—397 гг.) задается вопросом, а можно ли вообще считать акт ненависти Иуды поцелуем: «Что за поцелуй мог быть у иудеев, коли не знали любви они и не приняли мира от Христа, сказавшего: “Мир Мой несу вам”… И фарисеи не целовали, поцелуем приветствовал лишь вероломный изменник Иуда. Но и
то не был поцелуй, а то, что хотел он иудеям показать поцелуем, был знак предательства, и Господь сказал ему: “Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?” И тем подразумевал Он: целуешь ли ты, не ведая любви, сокрытой в поцелуе, целуешь ли ты,
не ведая таинства лобзания? … Поцелуй выражает силу любви. Когда же
нет любви, нет веры, нет близости, могут ли быть сладостными такие лобзания?» (цитируется по кн.: Perella, 28, выделено автором)
[210] «Поскольку иудеи не знают любви, — комментирует этот фрагмент из Амвросия Майкл Филипп Пени, — они не могут обмениваться знаками любви» (Penn, 62). Во многих ранних христианских комментариях, рассуждает Пени, ритуальное лобзание соотносилось с Иудой, поскольку «ритуальное лобзание могло уподобляться поцелую Иуды; лживый христианин мог, как Иуда, целовать своими устами, но не сердцем» (117). Августин и многие его последователи пытались обозначить различия между нечестивым и лживым поцелуем Иуды и сакральным лобзанием любви и примирения. Именно их попытка дифференцировать лобзания доказывает, что каждый из этих участников ситуации «уста к устам» неизбежно напоминает о идее Другого.
[211]
Боязнью иудиных «предательских объятий и поцелуев» или отвращением к ним вполне можно объяснить сомнения некоторых ранних католических мыслителей по поводу символичности литургического «поцелуя мира», равно как и то, почему ряд священнослужителей, поддержавших протестантскую Реформацию, поспешили искоренить практику обмена лобзаниями во время отправления богослужений и церковных обрядов. Поцелуй предателя нес в себе большой заряд ненависти, и поэтому — хотя ритуал взаимного приветствия перед причащением в Великий Четверги сохранился под названием «лобзание мира» — от целования во время него отказались. А в некоторых местах отказались и от обычая троекратного лобызания, «христосования», на Пасху. К концу XV в. «поцелуй мира» при встрече «лицом-к-лицу» часто заменяла т.н. «дощечка мира» — округлая или прямоугольная дощечка из дерева или драгоценного металла с образом Иисуса. Однако даже «дощечка мира» подверглась нападкам со стороны протестантских реформаторов, критиковавших идею о том, что тело и его движения и жесты могли отражать или выражать духовную трансформацию.
[212]По их мнению, те верующие, которые приветствовали друг друга целованием или прикладывались устами к «дощечке мира», рисковали последовать по стопам вероломного изменника. «Отвергая лобзание мира, ранние протестанты внушали мысль, что все поцелуи на самом деле — Иудины» (Koslofsky, 26).
Лживые уста
Поцелуй не близкого по духу или крови, но враждебного Иуды лжив и коварен, как обманчивы и коварны поцелуи его «предшественников» в еврейской Библии. Ветхозаветному Авессалому, к примеру, с помощью своих поцелуев удавалось завладевать сердцами израильтян: чтобы обеспечить поддержку своему бунту против отца, Давида, «когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою и обнимал его и целовал его» (2-я Царств 15:5). Исаака ввел в заблуждение поцелуй Иакова, обманом получившего его благословение; а военачальник Иоав, целуя Аммессая, поразил того своим мечом в живот (Бытие 27: 26-7; 2-я Царств 20: 9-10). Больше напоминающий Авессалома, Иуда прибегает к притворному поцелую, чтобы возбудить жестокость против своего Владыки. Художники, подчеркивающие садизм Иудиного поцелуя, как правило, используют два приема. Они разделяют Иисуса и Иуду по этнической принадлежности — наделяя Иуду африканскими или семитскими чертами, а Иисуса «обеляя». И они присоединяют Иуду к сонму агрессивных иудейских старейшин и римских воинов, идущих арестовать, связать, подвергнуть бичеванию и пригвоздить к распятию Иисуса.
[213] Эти два изобразительных решения преследуют целью передать всю омерзительность объятия, в которое заключает Иуда Иисуса, поскольку черно-белая, семитско-кавказская пара аллегорически воплощает расовое кровосмешение, равно как и жуткую коллизию любви и ненависти, мира и войны. Если в этой паре для одних зрителей бездейственность, пассивность и целомудренная добродетельность Иисуса выявляет гипертрофированную мужественность и гротескную агрессивность Иуды, тогда как для других решительность атлетически сложенного Иисуса оттеняет пародийную женственность «паразитирующего, слабого» Иуды. Но каким бы ни выглядел двенадцатый апостол — слишком гротескно мужественным или слишком женственным — его объятие демонстрирует чрезмерную чувственность. Обозначенное уже на заре Нового времени многими художниками — в частности, такими знаменитостями, как Джотто или Дюрер, — странное физическое столкновение между Иисусом и Иудой фиксирует неподобающую близость грешника к самому святому из всех.
Меняя свою «расовую принадлежность» в ряде визуальных композиций — витражах, алтарных росписях, фресках и гравюрах — на протяжении довольно долгого периода, с XIV по XVII вв. включительно, Иуда предстает то выходцем из Африки, то уроженцем Ближнего Востока, то неприятным созданием, чертами смахивающим на неандертальца. Изображаемый на фоне вооруженных мечами воинов, варварский и грубый Иуда, обнимающий мертвенно-бледного Иисуса, навеивает ассоциации с вражескими ордами, агрессивными
язычниками или азиатскими завоевателями, угрожающими Христианскому миру. В популярной эпической поэме Седулия «Пасхальная песнь» (ок. 425-450 гг.) святотатственная агрессия поцелуя двенадцатого апостола облекается в следующие слова:
«Сотрясая святотатственным лезвием меча и угрожая острием кола,
Ты прижимаешь губы свои к устам медовым и изливаешь яд свой,
За вкрадчивой лестью скрывая пред Владыкою истинный лик?
Что ты за друг и что за обман таит столь дружеское приветствие?
Ибо никогда добрая воля не пряталась за ужасные мечи,
А дикий волк не целовал невинного ягненка».
(Седулий, строки 63-68)[214]
Роковое тяготение Иуды к невинной жертве изливается ядом или удовлетворяется в «диком» укусе, придавая чувственность жестокости повзрослевшего ребенка Иуды из Арабского Евангелия о Детстве Спасителя. Несущие потенциальную угрозу режущего удара, обрезания или кастрации «святотатственные лезвия» и «ужасные мечи» множатся вокруг темного и терзаемого плотским вожделением «волка», чья пасть готова пожрать белоснежного и эфемерного «невинного агнца».
Порицая чреватое перерождением и даже вырождением перекрестное смешение видов, бессчетные поэты после Седулия проклинали вызывающий дрожь поцелуй изменника в строках, немногим отличающихся от тех, что опубликовал в 1841 г. Роберт Стивен Хокер:
«Учитель! Радуйся! — змий вероломный прошипел,
Подкравшись тайно, зуб свой ядовитый обнажив,
И ядом тем обжег щеку Мессии. С Ним хотел
В лобзанье слиться он — Себя позором заклеймив!»
Физическое соприкосновение Иуды, ядовитого змия, и Иисуса, божественного агнца, притягивает художников внезапной сменой чувств, но также и откровенным садизмом двенадцатого апостола, алчущего испытать удовольствие при виде причиняемой боли.
[215] Чтобы подчеркнуть весь ужас кровосмешения, Иуда-африканец, изображенный в профиль на оконном витраже в церкви в Вальборхе близ Хагенау (1451 г.) и в композиции Мартина Шонгауэра в церкви доминиканцев в Кольмаре (1480-1490 гг.), обладает нарочито грубыми чертами лица и темной кожей.
На фреске в церкви доминиканцев в Кольмаре страсть Иуды с толстыми губами и курчавыми, либо коротко подстриженными, волосами контрастирует со смирением бледного, погруженного в печальную задумчивость, обреченного Иисуса, отводящего глаза от нечестивого предателя. Как отмечают многочисленные исследователи, через «обеление» образа Иисуса белый цвет соотносится с добродетелью и красотой, оттеняемые в данной композиции связью предателя с людьми, наделенными типично африканскими чертами.
[216] Иуда-африканец придает смысл словам Отелло, сравнивающим себя с «иудеем», что выбросил жемчужину, особенно если вспомнить, что шекспировский мавр в конечном итоге убивает свою белокожую, невинную жену, целуя ее.
[217] И все же Отелло превращается в фигуру героическую, в чем отказано Иуде, предумышленная измена которого больше напоминает вероломство Яго. Ведь и предательство Яго также сопряжено с поцелуем — схожим целованием лица того же пола, которое он измышляет, чтобы подогреть подозрительность ревнивого Отелло к своей жене.
[218] Если в церкви в Вальборхе Иуда выглядит феминизированным паразитом, присосавшимся к Иисусу, то в кольмарской церкви он источает агрессивную мужественность. В воссозданной им сцене в бесплодном саду Мартин Шонгауэр изображает мерзких гонителей в гиперболизированной мелодраматической манере, а подавленного, безмолвного Иисуса в белом одеянии представляет пассивно сопротивляющимся и благочестиво женственным.
[219]
Попытки других художников сделать Иуду отталкивающе омерзительным возрождают к жизни стереотипного Иуду с крючковатым носом и рыжими волосами. Две композиции на тему предательства и ареста Христа: одна — кисти Иоганна Кёрбеке, из Мариенфельдского алтаря в Мюнстере (1457 г.), и другая — кисти Каспера Изенманна, в церкви Св. Мартина в Кольмаре (1462—1466 гг.) — являют нам карикатурный образ Иудыеврея. Цвет греха, тревоги, Сатаны и крови — красный, поэтому волосы на голове и борода Иуды рыжего цвета. Этот цвет связан одним из самых яростных сочинителей, писавших об Иуде, с именем «Искариот», которое Абрахам А Санта Клара толковал, как «ist gar rot», или «весь красный» (Dinzelbacher, 26). Стремящийся подавить бледного Иисуса, темный Иуда в превосходно организованной в композиционном плане сцене Кёрбеке выставляет свой крючковатый нос. Поскольку Иуда кажется на несколько десятков лет старше молодого Иисуса, его объятие выглядит как объятие педофила.
[220] Также изображенный в профиль, поскольку он — двуличный лицемер, и наделенный художником огромным крючковатым носом, Иуда Изенманна устремлен вперед, к смотрящему на него, побледневшему Иисусу, которому одновременно с другой стороны угрожает обезьяноподобный стражник или «начальник храма» (Лука 22:52), либо римский воин (Иоанн 18:3). Свет, исходящий от головы Иисуса в обеих композициях, освещает отсеченное ухо Малха, которое Иисус исцелил, вооружение воинов — все это акцентирует мученичество Иисуса, на которое Его обрекает союз Иуды, иудеев и властей императорского Рима.
В некоторых других работах Иуда меняется до неузнаваемости: он изображается либо плешивым, либо в туго натянутом шлеме, надвигающим свое лицо на лицо Иисуса.
[221]Время от времени рукопашная стычка при аресте Иисуса, опутанного веревками и окруженного вооруженными воинами, затмевает Иуду, отодвигает его на задний план. В «Предательстве Иуды и пленении Христа» из «Часослова Сфорца» вообще очень трудно догадаться, который из скалящих зубы, разинувших рты мучителей Иисуса является Иудой («Часослов Сфорца», Милан, ок. 1490 г.). Толстогубые и резко жестикулирующие темнокожие римские воины или служители храма на этой картине выглядят как зубоскалящие исполнители пародий на негритянские песни. При взгляде на то, как они связывают печального, безвольного светловолосого Иисуса, некоторым зрителям вполне может припомниться образ несчастной девицы из какой-нибудь мелодрамы, чью стойкость в добродетели испытывают омерзительные злодеи. Этот образ способен навеять также мысли о каннибализме в изображении сцены, следующей
за поцелуем, поскольку в верхнем правом углу можно разглядеть поцелуй Иуды, произошедший раньше. Сцена отсечения уха Малха на переднем плане играет важную роль в отображении греховного вероломства Иуды. Размещенная на фоне копий и ножей, она намекает на угрозу кастрации — отрезание любой части тела всегда навевает сомнения относительно самого жестокого обрезания из всех: но она также подразумевает и то, что в конечном итоге садистские издевательства над Иисусом будут отомщены, и таковым отмщением и вправду предстает столь спорная карикатура.
Знаменитая фреска Джотто «Поцелуй Иуды» лучше всего передает угрозу кастрации Иуды. Изображенный в профиль, без нимба, в желтых одеждах и с рыжими волосами, молодой Иуда смущен и растерян, а его одежды окутывают запечатленного в профиль, с нимбом, Иисуса (настенная роспись, Падуя, ок. 1305 г.). Параллелью Иисусу выступает Святой Петр, изображенный в левой части фрески также с нимбом. Фигура Иуды перекликается с фигурой Малха. Как и раб Малх, Иуда порабощен иудейскими властями, контролирующими его действия. Но, в то время как Петр отвечает на агрессию жестокостью, отрезая Малху ухо, Иисус у Джотто поворачивает свою щеку к зрителю, принимая оскорбление и одновременно пристально глядя в глаза Иуде, как будто вынуждая его признать свое преступление. Позади и вокруг двух центральных фигур теснятся воины, стражники и храмовые начальники, чьи горящие факелы, копья, дубинки и алебарды в ночном воздухе щетинятся, словно иглы гигантского дикобраза. Полное лицо Иуды, как и его дородное тело под складками одежды, предостерегают, что его поцелуй может сопровождаться укусом, способным ранить не меньше, чем ножи и копья сгрудившейся толпы.
На фреске Джотто Иуда кажется непомерно раздутым в своих ниспадающих одеждах, особенно в сравнении с прямым, стройным Иисусом. Борода Иисуса, как и его благородное чело, контрастирующие с безбородым лицом Иуды и его маленьким лбом, позволяют предположить, что Иуда принадлежит к иной, женоподобной, расе. Помимо Малха, двойником Иуды на этой фреске выступает некто в капюшоне, обернутый к зрителю спиной. Безымянный, но зловещий, потому что безликий, он зацепляется своей накидкой — в той же манере, что и Иуда, — за покрывало бегущего ученика, вероятнее всего, того юноши, что последовал за Иисусом с такой поспешностью, что не успел одеться и лишь завернулся в покрывало «по нагому телу» (Марк 14:51). Бегство ученика с места событий подчеркивает сохранение Иисусом присутствия духа, ведь он отказывается от бегства, предпочитая ему встречу «лицом-к-лицу» с многочисленными противниками: Иудой; первосвященником, обвиняющим Его с вытянутой в театральном жесте рукой; большой толпой, сгрудившейся вокруг, которой как будто тесны рамки композиции.
«Целование — это поедание без пожирания», — считает Адрианн Блу Но за губами Иуды таятся зубы закона (Blue, 140). Укусы закона и меча, как и ужасающее муками страдание Иисуса, проглядывают во всех шести циклах Альбрехта Дюрера, посвященных Драме Страстей Господних, в каждом из которых целование и отсечение соседствуют друг с другом. В своем подходе к Иуде три из них — самые популярные и оказавшие наибольшее влияние — особенно значимы. Это «Предательство Иуды» из «Малых Страстей» (гравюра на меди, 1508 г.), «Взятие Христа под стражу» из «Малых Страстей» (гравюра на дереве, 1509 г.) и «Предательство Иуды» из «Больших Страстей» (гравюра на дереве, 1510 г.). Все они были созданы после изгнания еврейской общины из Нюрнберга.
[222] Используя пространственную конфигурацию для толкования евангельского повествования, Дюрер неоднократно размещает сцену с поцелуем над образом Петра, отсекающего ухо Малху, с каждым разом усиливая акцент на беспомощности Иисуса. Помимо того, что на переднем плане в этих работах изображены Петр с мечом и раб первосвященника Малх, съежившийся в ужасе от угрожающего ему увечья, действие на всех них прерывается до того, как Иисус предписывает своему приверженцу: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матф. 26:52).
Библейская связь между Петром и Иудой была установлена Марком, у которого Иисус сначала выговаривает прекословящему Петру: «Отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (8: 29, 32— 33), а позднее предрекает его предательство: «прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от Меня» (14:30).
В древнейших греческих списках «Деяний Пилата» (вкл. в «Евангелие Никодима». —
Прим, пер.) терзаемый раскаянием Иуда возвращается домой взять веревку, но его жена глумится над мыслью о воскресении Иисуса, приводя в сравнение «того петуха, что жарится на углях», кукарекая. Но «только вымолвила она слова эти, как петух расправил свои крылья и трижды прокричал. От того Иуда только еще больше уверился, и сразу свил веревку в петлю и повесился» (James, 116). В «Деяниях апостолов», как мы уже отмечали, именно Петр заводит разговор об Иуде, низринувшемся в «Земле крови». Имя Иуд иного отца — Симон — еще больше сближает его с Петром.
Со времен Средневековья ночное отречение Петра и самоубийство Иуды на следующий день побуждали мыслителей противопоставлять раскаяние избранного Петра отчаянию отвергнутого Иуды.
[223] Злобный анти-Петр, непокаянный Иуда через свой поцелуй чинит оскорбление и несправедливость, который Дюрер уравновешивает с помощью фигуры справедливо негодующего, праведного апостола, впоследствии сыгравшего большую роль в учреждении Церкви. Быстрое, жестокое, но полностью оправданное, справедливое возмездие Петра: не предвещает ли оно и не воплощает ли оно собой будущее Церкви и триумфальную победу над жалкими злобными иудеями? Не попытка ли это рационалистически обосновать изгнание еврейской общины из Нюрнберга? У Дюрера Петр предстает главным врагом Иуды — не намек ли это на то, что Церковь, которую ему будет строить, утвердится и окрепнет через враждебность по отношению к народу, который воплощают Иуда, Малх и начальники храма, кому они служат. В результате поступка Петра слуга первосвященника, Малх (а это имя в переводе означает «царь»), станет столь же глух, сколь слепы, как принято считать, его иудейские властители.
На мрачной дюреровской гравюре 1508 г. упавший на землю, скрючившийся, Малх пытается своей дубинкой отвести удар апостольского меча. Изображенный над ними в профиль, с темным лицом, Иуда прижимается к Иисусу — Дюрер фиксирует самый момент поцелуя. И у зрителя почти создается впечатление, что давление толпы и мстящего Петра выталкивает Иуду к спокойной фигуре Иисуса. Алчущий Иуда, губы и глаза которого сосредоточены единственно на Иисусе, намекает на некий тип сексуальной извращенности, приписывавшейся Эдипу из предыдущей главы. На одной из цветных версий этой композиции 1508 г. темноволосый, смуглый Иуда прижимается к светловолосому, белокожему Иисусу.
[224] Несмотря на «суматоху», сопровождающую арест, Иисус видится Эрвину Пановски «не осознающим того, что на Его шее затягивается петля»: «Он склоняет Свою голову и закрывает глаза в ожидании поцелуя, как будто они с Иудой одни во Вселенной» (Panofsky, 146). За спинами Иуды и Иисуса у Дюрера, как и на фреске Джотто, топорщатся горящие факелы и остроконечные копья. Не только агрессивность римских воинов, но также и алчный взгляд целующего — явно смакующего при виде своей жертвы, жаждущего увидеть унижение и боль, причиной которых он стал, — придает всей сцене экспрессию вожделеющего боли садизма. Но, несмотря на превосходящее количество мучителей вокруг Себя, более старший по возрасту, белокурый Иисус, кажется, полностью контролирует ситуацию, разоблачая напускную храбрость Своего мучителя. В правой руке Иуды внимательный зритель может различить кошель со свисающими тесемками.
Вселяющая не меньший ужас запечатленной на ней жестокостью, гравюра на дереве 1509 г. тоже фиксирует точный момент поцелуя. На ней также на передний план вынесен Петр, замахивающийся мечом на уже упавшего на землю Малха. Арканы, мечи, копья и пламенеющие факелы также подчеркивают как физическую, так и душевную боль, которую испытывает Иисус в руках Иуды и тюремщиков. Изображенный на обеих гравюрах слева от Иуды, Иисус не выглядит женоподобным, но Его облик, тем не менее, подчеркивает чрезмерную мужественность Иуды, садизм и дьявольскую злобу, еще больше позорящие его. И в гравюре на дереве, и в гравюре на меди господствует асимметрия: Иисус не знает или не видит того, что знает или видит Иуда; Иисус один и уязвим, тогда как Иуда множится в злобных ликах превосходящей числом толпы, которой он руководит. Иуда держит кошель в руке, покоящейся на спине Иисуса — явный намек на корыстный мотив, который, правда, полностью не объясняет лихорадочное возбуждение, сквозящее во всем его облике. Дюреровские ситуации «лицом к лицу» шокируют, поскольку видение лица
не означает сакральной автономии Другого. Чудовищное воплощение жестокой и эгоистичной независимости — Иуда — пристально глядя прямо на Иисуса — отвергает веру, которую человечество принимает на веру. То есть, как подмечает Эммануэль Левинас, «убийство возможно, но оно возможно только, если один не смотрит Другому в лицо» (Levinas, 244).
В композиции гравюры на дереве из серии «Большие Страсти» 1510 г. мстящий Петр перемещается с переднего плана в правый угол картины; кроме того, в нее добавляется ряд готических элементов, усиливающих ужас, вселяемый происходящим. На этой гравюре Иисус, чье тело и шею обвивают веревки, выглядит особенно уязвимым, когда темное лицо Иуды придвигается к Его губам. Веревки, стесняющие Иисуса, притягивают Его к недоброжелателю, которому бы он сопротивлялся, если бы мог. Искривленные сучья дерева справа, трухлявый пень рядом с ним, диагональные мечи и копья, несчетное количество безымянных нападающих врагов, воин, связывающий руки Иисуса у Него за спиной: все эти детали усиливают напряжение ночного кошмара, от которого зрители на этот раз больше отстранены. На заднем плане различимы две крошечные бегущие фигурки — солдат, срывающий льняное покрывало с пытающегося скрыться приверженца Иисуса. И вновь предатель сверлит свою жертву дьявольским взглядом, как будто «Schadenfreude» («злорадство», «наслаждение страданиями других») поглощает Иуду. Но здесь Иисус пытается отстраниться, по крайней мере, мыслями или душой, вглядываясь в небеса в поисках поддержки. Распростершийся на земле Малх вызывает в памяти более ранние картины, о которых уже шла речь и на которых Иуда запечатлен ниже или под столом во время Тайной Вечери.
Все вместе гравюры Дюрера драматизируют дикую свирепость Иуды, на словах уверявшего Иисуса в преданности, но при этом сознательно утоляющего свою злобную жестокость, которой он дает полную волю. Поднимая вопрос о том, почему случается измена, Дюрер, как и Джотто, преувеличивает слияние духовной экзальтации и умерщвления плоти в вынужденном союзе Небес и Ада. В зависимости от того, как выглядит Иисус- женственным в Своем целомудренном сопротивлении обольщению или мужественным в Своем стойком сопротивлении агрессии — меняется и Иуда: он предстает либо гипертрофированно мужественным (безжалостный предводитель вооруженных солдат) или женственным слабым паразитом. Но в любом случае половая принадлежность Иуды подчеркивает ненормальность объятия между лицами одного пола, трактуемого в работах Шонгауэра, Кёрбеке и Изенманна как межрасовый контакт двух существ, принадлежащих к совершенно различным видам. Порочный Иуда, завлекающий в ловушку Иисуса, демонстрирует греховное или болезненное рвение, грозящее уничтожить всех сыновей рода человеческого.
Какое толкование Драмы Страстей Господних могло послужить основой для тех визуальных интерпретаций, что я собрала под заголовком «Неискренние словоизлияния» кровожадных, смертоносных губ? И можно ли мотив отвратительного, преисполненного ненависти поцелуя соотнести с искаженным или враждебным соперничеством между Иудой и Петром за любовь Иисуса? В романе Марио Брелиха «Труд предательства» (1975) странная, выказываемая только им, враждебность Иоанна по отношению к Иуде объясняется «романтическим треугольником между Иисусом, Иоанном и Иудой» (Brelich, The Work of Betrayal, 41). Исследователь Брелиха приписывает «клеветнические и вероломные измышления» в Евангелии от Иоанна «ревнивой душе Иоанна», почувствовавшей «тайные узы» между Иисусом и Иудой (42). Неумышленно Джордж Штейнер заложил фундамент для «вопиюще неправоверной» интерпретации Евангелий путем постулирования Иудиной ревности к Иоанну (Steiner, 415). Двенадцатый апостол «любит Назарянина всех неистовей, хоть и любовью, трещащей из-за своего избытка», но его неистовая любовь коробится при виде «любимого ученика, так откровенно предпочитаемого» на Тайной Вечере, в результате чего Иуда становится одержим «смертоносной ревностью» (415). Снедаемый острой болью, уязвленный неоспоримым превосходством Иоанна — он часто воспринимается как любимый ученик и изображается возлежащим рядом с Иисусом или на его руках за столом — Иуда Штейнера движим желанием причинить боль тому, кого любит.
[225] Скульптура в соборе Вольтерры и ряд изобразительных композиций на тему Тайной Вечери противопоставляют Иуду и любимого ученика. Но картины в этой главе намекают на то, что заслуживающее сравнения соперничество за Иисуса было и между избранным Петром и отвергнутым Иудой. Послужила ли враждебность Петра к Иуде и Малху основанием для его последующего строительства Церкви? Был ли Иуда доведен соперничеством с Петром до карательной или смертоносной страсти? И возможно ли допустить, что отрезание не разъединяет, а объединяет мстительный поступок Петра, явно не одобряемый его учителем, с вероломной изменой Иуды. Как и Иуда, Петр отрекается от Иисуса и нарушает Его заповедь: «взявшие меч, мечом погибнут» (Матф. 26:52).
[226] Размахивая своим мечом, Петр продолжает думать «не о том, что Божие, но что человеческое» (Марк 8:33), как сказал ему уже однажды Иисус в Своем порицании за прекословие. По иронии, справедливое мщение Петра могло бы помешать тому благу для человечества, которому суждено было свершиться в результате злобного объятия Иуды.
Рок
Усмотрев в предательском поцелуе судьбу, или рок, два итальянских художника создали на удивление провокационные интерпретации жестокости и сакрального, обе из которых преподносят зрителю сцену ареста Христа как судебную ошибку, сделанную гражданскими властями, на которых Иуда не имел никакого или лишь самое малое влияние. Лодовико Карраччи, один из ярчайших представителей Болонской школы XVI в., и его ныне даже более знаменитый, а тогда младший современник Караваджо отказались от стилизованных изображений сцен с поцелуем, традиционных в прошлом. Вместо этого они отдали предпочтение реализму, позволившему им создать иллюзию сильных человеческих тел в сценах, изобилующих участниками и кровью. Если более ранние художники устанавливали большую дистанцию между зрителем и Драмой, то Карраччи и Караваджо максимально приближают нас к событиям, разыгрывающимся на полотнах. Не задаваясь целью запечатлеть Иисуса и Иуду в полный рост, Карраччи и Караваджо изображают их до пояса, выдерживая естественные пропорции тел. Большие, горизонтально ориентированные, композиции «Поцелуй Иуды» Карраччи (ок. 1589—1590 гг.) и «Взятие Христа под стражу» Караваджо (1602 г.) фиксируют один и тот же момент огромного эмоционального напряжения. Оба эти изображения предательского поцелуя, утраченные было на две сотни лет, снискали в итоге заслуженную славу. И в обоих из них художники отказываются от любого повествования — на картинах нет ни Малха, ни Петра, ни иудейских старейшин и храмовых начальников — и сосредотачивают свое внимание на эротизме (Карраччи) или эстетичности (Караваджо) запечатлеваемой сцены. Неудивительно, что на подобных полотнах Иуда предстает характером сложным и многогранным — характером, который трудно оценить однозначно, но которому легче симпатизировать.
В «Поцелуе Иуды» кисти Лодовико Карраччи — возможно, самом потрясающем воссоздании сцены из Драмы Страстей — Иисус и Иуда заключены в кольцо рук. Тот же композиционный прием повторяет и более поздняя копия оригинальной картины (Принстон).
[227] На полотне, которое по замыслу художника должно было висеть над дверьми, Карраччи мастерски «затягивает петлю» вокруг двух своих центральных фигур, переключая внимание зрителя с руки Иуды в желтом одеянии, пальцев которой почти касается рука невидимого солдата слева, вверх — к руке, держащей факел, задающей дальнейшее движение глаз вверх. Затем взгляд зрителя немой волей мастера переводится на две руки, что держат свисающую веревку, служащую ни чем иным, как нимбом, в верхней части полотна. Далее направо — на две руки по обе стороны от воина в шлеме (также «обрезанного» рамками композиции) и, наконец, — вниз, в крайний правый угол, на безвольное, сжатое запястье Христа. Тела воинов, напоминающих роботов в своих металлических шлемах, радикальным решением мастера «обрублены», выведенные за пределы полотна. Именно по этой причине, когда я впервые увидела репродукцию «Поцелуя Иуды» Карраччи в одной из книг, я подумала, было, что передо мной лишь отдельный фрагмент картины. И только потом я поняла, что художник применил своего рода «зум-эффект» (прием в фотографии, когда на снимке выделяется небольшая область в центре кадра. —
Примеч. пер.), чтобы акцентировать внимание зрителя на открытых, оголенных руках? Но для чего он это делает? Греческое слово, которым обозначается поступок Иуды в саду, «paradidonai» («передать», «вручить») определяет Иуде одну-единственную задачу — передать Иисуса властям; однако Карраччи подчеркивает количество человеческих рук, причастных к кругу заговорщиков.
В центре полотна мы видим мертвенно-бледного, задумчиво-печального Иисуса и типичного для более ранних изображений Иуду-африканца полностью преображенными. С полными приоткрытыми губами Иисус Карраччи выглядит едва ли не ожидающим поцелуя. Его брови приподняты, а веки несколько опущены, так что видны розоватые тени, призванные подчеркнуть гладкую, жемчужную, текстуру Его обнаженного плеча. При более внимательном рассмотрении взгляд Его правого и левого глаз уже не кажется сфокусированным, как будто Он изумлен, одурманен, а возможно, испуган. Смуглый Иуда с блестящими черными волосами и длинным носом, кажущимся скорее орлиным, нежели крючковатым, смотрит вниз, на уста, к которым уже готовы прикоснуться его губы. Межрасовая пара, Иисус и Иуда, в своей близости кажутся перенесенными в кольцо жестокости, которое окружает их: Иисус — из-за Своего духовного рвения, Иуда — из-за своего плотского вожделения. Похоже, вовсе не стремящийся, как стражники на картине, схватить Христа, Иуда просто вытягивает свою левую руку, чтобы коснуться раскрытой ладонью того места, где веревка свисает вниз, на грудь Иисуса. Тело Иуды позади тела Иисуса нацелено вперед, поскольку он тянется приложить свои губы к устам Иисуса.
В композиции Карраччи на тему предательского поцелуя нет иудеев, по крайней мере, стереотипных. Да, Иуда облачен в традиционное желтое одеяние, но художник мастерски выписал роскошную текстуру и переливчатость ткани — свет факела отражается в ней даже сильнее, чем в обнаженном плече Иисуса. Мягкая складка золотистой ткани, подобно нежной и ранимой поверхности озаренной кожи Иисуса, контрастирует со зловещими отблесками на прочных головных уборах, что защищают и в то же время делают бесчеловечными стражников.
Веревки, хватающие руки теснящихся стражей, которым удается сорвать одежду Иисуса с его плеча, но в особенности освещение и сам поцелуй вызывают у зрителя содрогание, отчасти напоминающее то чувство, что некоторые испытывают, разглядывая гомоэротические фотографии Роберта Мэпплторпа. Нагрудник на стражнике справа, веревка вокруг вытянутой левой руки Иисуса в глубине картины справа, петля над Его головой и боевая униформа и сверкающие шлемы: все эти атрибуты сегодня мы могли бы воспринять — видя их воочию — как «принадлежности» садомазохиста. Также привносят атмосферу театральности, присущую садомазохистским сценариям, раскрытые рты стражей слева, безвольное запястье и тонкая, незащищенная шея Иисуса, и «растворение» Иуды среди свирепых вуайеристов, драматично озаряющих темную сцену Суматоха, царящая вокруг головы Иисуса, навела одного из исследователей на мысль о том, что источником «вдохновения» для написания картины Карраччи послужила дюреровская гравюра на меди 1508 г. (Fiore, 26). Однако Карраччи привносит эротизм в жестокость, тогда как Дюрер эту жестокость подчеркивает. Иисус Карраччи, с Его соблазнительной частичной наготой и томной позой, и его Иуда, с его напряженной сосредоточенностью, как будто преисполнены решимости высвободиться из рамок своей индивидуальности в попытке преступить некую черту, нарушить некий закон, и эта попытка для Жоржа Батая ассоциируется с эротизмом. «Что означает физический эротизм, — спрашивает Батай и сам отвечает: — как не нарушение самого существования его практикующих? Нарушение, граничащее со смертью, граничащее с убийством». (Bataille, 17).
Полностью одетый, Иуда отдается столь страстному поцелую, что его можно было бы интерпретировать, как прелюдию к дальнейшему физическому сближению.
[228] Каким бы анахронизмом это не звучало, следует иметь в виду, что гомосексуализм в Италии эпохи Ренессанса «был, возможно, не только обычной практикой, несмотря на его нелегальность, но и считался менее постыдным и порицался меньше, чем мы могли бы предположить» (Prose, 44). Следует вспомнить также и об основателях христианской теологии, о которых шла речь в предыдущей главе, в своих нападках на гностиков не раз причислявших Иуду к числу содомитов, а также средневековую легенду «Толедот Йешу» («Родословие Иисуса»), в которой Иуда Искариот физически оскверняет Йешу.
Столетия спустя Дэвид Лоуренс размышлял об отзвуках реализованного влечения Иуды к Иисусу через анализ стыдливого раздумья Иисуса о том, что он предложил «только тело» своей любви своим приверженцам: «Если бы я поцеловал Иуду с живой любовью, —раздумывает Иисус Лоуренса, — возможно, он никогда бы не поцеловал меня поцелуем смерти. Возможно, он любил меня во плоти, а я хотел, чтобы он любил меня бестелесного, труп любви» (D. H. Lawrence, 90). Также настроенный укрепить духовную связь физической близостью, откровенный гей Иуда в недавно поставленной скандальной пьесе Терренса Макнелли «Тело Христово» отвечает на признание Иисуса в любви: «Я любил тебя, ты знаешь», восклицанием: «Не так, как Я хотел!» (McNally 8). В Гефсиманском саду Иисус Макнелли отвечает на поцелуй Иуды: «ИЕШУА целует его тоже, крепко» (72).
Является ли «территория любви» в центре полотна Карраччи «Поцелуй Иуды» «территорией жестокости, преступления»? В «Visions of Excess» Батай утверждает, что любовная страсть потрясает самую сущность нашего существования, потому что она толкает нас из состояния личностной обособленности к растворению, открывающему путь для слияния или соединения двух прежде самодостаточных существ. Но что означает это соединение крайностей любви и смерти в контексте трактовки евангельской драмы Карраччи? Сила, глубина, с которой Иуда хочет схватить, стать одним целым с Ним, завладеть и удержать Сына Божьего, как своего единственного любимого — подобное высокомерие кажется самым потрясающим в картине. С одной стороны, это чувство воскрешает в памяти благородную дружбу между мужчинами водной из пьес Джона Драйдена, «Все за любовь»: «Я был его Душой», — возвещает Антоний Драйдена о своем сотоварище: «Он для меня жил: / Оба были мы больны одним недугом. / И оков таких не сыщешь, что нас сковали прочно» (Dryden All for Love III, i: 92-94). С другой стороны, оно превращает Иуду в мрачного байроновского типажа сродни цыгану Хитклиффу, этакого самонадеянного романтического любовника, преисполненного духа поэта сродни Шелли:
«Как солнце в сердце горного ключа,
Друг другу в унисон уже звуча,
Единый дух мы в двух телах — зачем
В двух! — образуем. Неужели нем
Пыл в близнецах сердцах, когда сведет
Два метеора сих один полет,
Когда различье преображено
И, значит, обе сферы заодно…»
(Пер. В. Микушевича)
2-й вариант:
«Как горный ключ искрящийся стремится
С другим таким же, торжествуя, слиться
Кристально-чистой страстью просветлен.
Единый дух наш будет заключен
В двух оболочках — но возможно ль это?
Растущей страстью зажжена комета
Неудержимо близится к другой,
И вот они становятся одной,
Преображаясь в радостном слиянье,
Сияя в несгораемом пыланье…»
(Пер. С. Сухарева)
(с. 572-579, выделено автором)
Агрессивное посягательство Иуды делает невозможным слияние двух в одном. Но также и знаменует аморальность превращения сакрального в сексуальное, подмены божественной любви, которую несет Христос, чувственностью. Вместо того чтобы направить свою физическую страсть в русло облагороженного духовного мистицизма, Иуда стремится к обладанию физическому, плотскому, эгоистичному, на свой лад и на своих собственных условиях — к обладанию Сыном Божьим, Который пришел принести любовь человечеству. Не благословенный святой и не демонический грешник, одержимый Иуда предает Иисуса в тот момент, когда он предается своим собственным чрезмерным и неосуществимым желаниям; он инициирует Драму Страстей Господних из-за своей собственной неодолимой страсти к Иисусу. Поддаваясь ей, он вручает себя смерти — ведь петля, свисающая над головой Иисуса, также намекает на веревку, на которой повесится и сам Иуда. Связь между чувственным возбуждением и смертью, которую постулирует Батайль, преломляется в картине Карраччи ассоциативным позиционированием пылкости союза и муки обособленности.
Но, конечно же, на полотне Карраччи можно «увидеть» и иные отступления от канонов, нарушающие табу на однополую любовь. Этот запрет — в наши дни, возможно, даже более строгий, чем во времена Караваджо — мог быть обойден с помощью фигуры гермафродита, чем подчас и пользовались художники, для которых гермафродитизм ассоциировался с «изнеженностью и, соответственно, бисексуальностью и гомосексуальностью» (Берсани и Дутойт, «Тайны Караваджо», 10—11/Bersani and Dutoit, Carrivaggio's Secrets, 10-11). He представляет ли в таком случае Карраччи Иисуса двуполым эфебом, чувственным юношей, стремительно утрачивающим в порыве чувств свою мужественность? Или же, напротив, подобно Мэплторпу, он насыщает гомосексуальную пару эффектной брутальной жестокостью? Рассматривая картину глазами современного зрителя, я испытала невольный соблазн истолковать размещенную в центре композиции пару мужчин не садомазохистами, а гермафродитами в окружении блюстителей нравов. Садомазохистская жестокость — не ее ли аллегорически представляют грубые воины? — скорее должна разделять, а не объединять любовников. И сплетенная в объятии пара явно противопоставлена разворачивающемуся на полотне театру бессердечия.
Действительно, правая рука Иуды придает картине ее исключительную пикантность: его пальцы с нежностью касаются шеи Иисуса, кончики пальцев Иуды едва касаются кожи Иисуса. Хотя самый авторитетный толкователь этой картины нашел объятие «отвратительным», а саму пару «неудачной» (Feigenbaum, 12), я лично заинтересована эффектной «томностью» эфеба, или гермафродита, и его увлеченного товарища. В своей непринужденности они настолько поглощены собой, что остаются безучастны, слепы и глухи к злобным крикам вокруг них. Не гетеросексуальные и не женоподобные, оба мужчины изображены бородатыми, молодыми, но охваченными восторженным (пусть каждый по-своему) предвкушением невоздержанности и уязвимыми перед муками, что их ожидают.
Караваджо, как и Карраччи, не видел необходимости демонизировать Иуду. Он также сократил дистанцию между зрителями и персонажами, вынеся воссоздаваемую сцену на передний план полотна. Однако его «Взятие Христа под стражу» привлекло внимание гораздо большего числа критиков, нежели толкование поцелуя Карраччи, потому что крайняя справа фигура, держащая факел, была воспринята как один из автопортретов Караваджо, а отчасти в силу поразительного драматизма картины и ее удивительного повторного обретения (Дублин).
[229] Сила воздействия этого сложного живописного произведения определила ту огромную роль, которую оно сыграло в эволюции образа Иуды. Менее сосредоточенный на эротизме и более — на этике своей собственной эстетики, Караваджо акцентирует вопросы соучастия человечества в предании Иисуса и общности с Иудой. Вместо того чтобы отпустить всем нам грех предательства, оправдывая, демонизируя или эротизируя Иуду, Караваджо драматизирует сопричастность, свою собственную и своих зрителей, придавая действу на полотне динамичное ускорение, которое отбрасывает всех его участников из правой части полотна в левую, как будто шторм сносит их из рая в устрашающее будущее.
Единственное лицо, выписанное анфас на этой картине, и то наполовину в тени, это лицо Иисуса. В отличие от Иисуса Карраччи Иисус Караваджо отстраняет Свою голову от Иуды с опущенными глазами. Крайним слева, соприкасающимся с Иисусом, изображен глубоко потрясенный человек, в ужасе широко раскрывший рот. Еще четыре человека окружают Иисуса справа. Ближе всех к Нему расположен Иуда, далее запечатлены два римских солдата, потом человек с факелом, ассоциирующийся с художником. Все эти четыре фигуры обращены в профиль. Безумное неистовство вокруг Иисуса подчеркивает Его неподвижность, как и его прикрытые глаза и сжатые руки, вытянутые, с переплетенными пальцами. Но энергичный импульс, задающий движение фигурам справа, грозит опрокинуть Иисуса, в то время как ужас широко раскрывшего рот мужчины слева не может обеспечить Ему устойчивости. Каждая из пяти изображенных в профиль фигур заслуживает более пристального рассмотрения. Поскольку распятие, согласно Караваджо, предопределено безжалостным сговором между последователями Иисуса и апостолами, блюстителями закона гражданского государства и выразителями эстетики, движущей художественным сознанием Запада, включая и его самого — Караваджо.
Если принять пребывающего в ужасе человека слева безымянным юным приверженцем Иисуса, страх которого при аресте в Гефсиманском саду побудил его бежать обнаженным, сбросив покрывало, прикрывавшее его наготу (Марк 14:51), тогда становится понятным его физическая близость к Иисусу (спина к спине, волосы, прикасающиеся к волосам). Ведь он — тот, кто в Него верит.
[230] И все же этот приверженец Христа, заменяющий привычную фигуру Малха, убегает от Иисуса, выталкиваемый инерционным движением композиции влево и за пределы воссоздаваемой сцены; в самом деле его левая рука и голова уже невидимы зрителю, сокрытые за рамкой картины. Как и в Евангелии от Марка, где все апостолы в страхе разбегаются, горькая ирония подчеркнута и у Караваджо: пораженный ужасом последователь не следует, а, наоборот, оборачивается спиной к Иисусу, обреченному примириться с неминуемой участью. Ниспадающее покрывало безымянного беглеца образует своего рода арку, или купол, из тканых драпировок над головами Иисуса и Иуды. Это навеевает в памяти обряд иудейского бракосочетания, когда невеста и жених становятся под сделанный из ткани или цветов балдахин, называемый «хуппа» и символизирующий их общий дом.
[231] Тентообразный, красный волнистый балдахин над головами Иисуса и Иуды объединяет их, как пару брачующихся.
Иуда не кажется здесь братским близнецом Иисуса. В то же время Караваджо и не демонизирует, и не эротизирует его. Вместо того, передняя часть головы Иуды намечена тревожными, словно травлеными, линиями; угадывается намек на ермолку, а возможно, у него выбрита тонзура
[232]; его левая рука мягко лежит на плече Иисуса. Один комментатор увидел в Иуде Караваджо с его «большим, коротким и толстым, красным носом и изборожденным морщинами лбом» «самое непривлекательное и самое грубое лицо во всей массе лиц» (Mormando, 182). Другой исследователь обращает внимание на то, как в картине Караваджо, подобно гравюре на дереве Дюрера 1509 г., «используется горизонтальный барьер, созданный перекрещенными руками Иуды и воина в доспехах» (Fiore, 24). Впрочем, испещренная прожилками рука и несколько утрированные черты лица Иуды могут отражать «усталость, исчерпание сил» человека, «видавшего виды», бывалого, не раз участвовавшего в уличных скандалах, каковым был его творец — Караваджо. Рука воина сдерживает как Иисуса, так и Иуду. Несомненно, ни традиционные рыжие волосы, ни крючковатый нос, ни кошель, появляющийся на полотне, не тянут Иуду, как и всех прочих, влево.
Учитывая силы, осаждающие Иисуса, рука Иуды может быть воспринята как поддерживающая Учителя. Иисус и Иуда примерно одного роста, одного возраста, хотя Иисус кажется изнуренным и встревоженным, а Иуда озабоченным и серьезным. Это и понятно, ведь они оба в тисках левой руки воина, закованного в доспехи, которая мерцает, словно гигантская лапа с когтями, хотя на картине это — безжизненная рука закона. Не случайно самый центр полотна занимает начищенный до блеска нагрудник воина. Металл угрожающе сверкает, когда римлянин хватает Иисуса и Иуду, жертв насилия со военной власти. Где почерпнул Караваджо идею замещения пыла Иуды римским доспехом?
Фрагмент «Предательства Иуды и взятия Христа под стражу» работы Яна Юста ван Калкара доказывает, что поцелуй и арест могут быть соединены в одной композиции не ради замещения, но с целью удвоения фигуры Иуды в образах римских или храмовых стражников. Зеркальность композиции здесь достигается точной симметрией (1505—1508 гг., церковь Св. Николая). Изображенного анфас, но удрученного, подавленного Иисуса хватают две гротескные фигуры, лица которых выписаны в профиль. Острый, как у ведьмака, подбородок Иуды в точности копирует заостренное забрало вооруженного воина; над рукой Иуды, сжимающей пояс Иисуса, появляется клешня бронированного закона. Иуда и римские воины, или храмовые стражники, действуют «в перчатках». Вспомните, насколько иначе трактует в своем «Взятии Христа» подобную группу Караваджо. Почти безликие стражи порядка на картине Караваджо инсценируют и проводят «очную ставку» между Иисусом и Иудой. При том что отдельные черты их лиц и тел скрывают стальные шлемы, забрала и нагрудники, прикрепленные с помощью кожаных полос и пряжек, они воплощают власть народа-государства. Не столько двойник Иуды, сколько захватчик его и Иисуса, римский солдат в центре картины зажимает шею Иисуса, но также угрожает Иуде.
[233]
Дублером Иуды в картине Караваджо является фигура мужчины в профиль с факелом: сам Караваджо. Иуда своим поцелуем помогает арестовывающим воинам опознать Иисуса. Лео Берсани и Улисс Дутойт указывают, что свидетель Караваджо всего лишь просто несет горящий факел: «быть свидетелем здесь означает выступать в роли осветителя сцены, аналогичной вероломной роли Иуды, как «осветителя» Иисуса, обвиненного в том, что он самозваный Мессия» (Bersani, Dutoit, «Beauty's Light», 17). Однако «факел, который он несет, светит только в его собственные глаза, а остальную часть сцены освещают иные источники» (Varriano, 202). Что же тогда означает это дублирование? Поскольку Караваджо освещает больше себя, чем сцену, встает вопрос о — так сказать — способности его, Караваджо, или любого иного художника пролить истинный свет на библейскую
Драму Страстей Господних. Римляне режиссируют постановку, а Караваджо восклицает: «Свет! Действие!», а точнее: «Кисть! Картина!» Художник, вглядывающийся пристально в сцену, намекает на свое соучастие не просто как стороннего наблюдателя, но как соучаствующего, взирающего на предательство невинности. Одержимо ли западное искусство мотивом причинения вреда, человеческого жертвоприношения, причиняющего боль предательства, которое увековечивают бесконечные попытки его творческого осмысления?
[234]
Более того, желаем ли мы как зрители уничтожения невинного? Хотим ли мы увидеть драму, разыгрываемую вновь и вновь, ради нашего собственного удовольствия? Возможно, Караваджо размышляет о неустойчивости Возвышенного, о том, как тайна несправедливо понесенного страдания вызывает чувство ужаса и благоговейный трепет, вселяющих замешательство по поводу нашей неспособности постичь аспекты нравственности и смерти этого опыта. Ужас и благоговение здесь соотносятся с возвышенным парадоксом самого распятия. Христиане верят, что они будут спасены через смерть Иисуса на кресте. Демонический Иуда, выполняющий задачу освобождения от грехов и страданий, принужден взять на себя все бремя вины за принесение в жертву человека, из которого выгоду извлекают все. Поэтому вину разделить должны были бы также все — позор за то, что духовная корысть всех верующих в Него, связана со страданиями и мучительной смертью Иисуса. Вместо того чтобы обвинять Иуду в бесовской одержимости, намекает Караваджо, его следует воспринимать как неотъемлемое звено гибельного человеческого жертвоприношения, свершающегося по общему сговору. Возражению, что подобное допущение едва ли равноценно глубокому нравственному прогрессу в виде отмены человеческих жертвоприношений вообще, картина Караваджо бросает язвительный вызов.
[235]
Поскольку тайна несправедливо понесенного страдания (ритуального или нет) намекает на то, что человеческое жертвоприношение не может быть искоренено. Чтобы подтвердить, что жертвоприношение не показано, Караваджо использует еще и другой прием. Жест неслышимого, но пронзительно кричащего убегающего последователя Иисуса также перекликается с автопортретом художника: и у изображенного в левом краю полотна перепуганного беглеца, и у запечатленного крайним справа художника освещена правая рука, вытянутая высоко вверх.
А это значит, что мы можем решить, будто дезертир убегает со сцены, оставляя ее за своей спиной. Но это можно истолковать и как то, что он смотрит за рамки полотна на какое-то другое пугающее действо, открывающееся его глазам, которое мы не можем видеть, но к которому все неминуемо движутся. Таким образом, картина предполагает, что подобно тому, как Караваджо наблюдает несчастье ареста Иисуса, Его напуганный последователь воздевает руки в ужасе от еще предстоящего несчастья, предотвратить которое он не в силах. Такое повторение намекает на то, что будет бесконечная череда свидетелей бесконечной череды катастроф, к которым движется человечество. С такой точки зрения предательство Иуды, навязанное невидимыми властями народа-государства, равно как и их физическими пешками, символизирует бедственную послебиблейскую историю.
Обобщим: две странности во «Взятии Христа под стражу» внедряют в сознание зрителя свое разрушительное послание. Первой предстает эксцентричность его драматического освещения, которым так славится Караваджо. В тридцать один год Караваджо изобразил себя держащим факел, функция которого «чисто композиционная, поскольку он не отбрасывает свет, истинный светоч находится высоко слева, за пределами изображенной сцены» (Benedetti, 738). Второй и размещенной в самом центре полотна выступает «отполированный до блеска, зеркальный рукав арестовывающего воина», «полузеркало… приглашающее его зрителей увидеть самих себя, отраженными в поведении Иуды и других мучителей Христа» (Mormando, 183). Эти две особенности картины действуют саморефлексивно. С одной стороны, художник (изображающий себя не проливающим свет на сцену, которую он пытается осветить) допускает неэффективность единственного средства в его распоряжении для обозрения страдания, увидеть которое он стремится. С другой стороны, подобно тому, как художник находит себе место в строю преступников, доспех-зеркало в центре картины призывает зрителей признать свое соучастие в предательстве. И когда в результате этих двух приемов Иуда становится прототипом каждого человека, нам тем самым показывается, что мы не можем выносить приговор его действиям.
Во «Взятии Христа под стражу» поцелуй не показан. Пространство между лицами Иисуса и Иуды на полотне Караваджо означает как то, что поцелуй вот-вот случится, так и то, что он только что случился. Или, возможно, как в Евангелиях от Луки и Иоанна, он был или будет предвосхищен. Из-за ужаса на лице Иуды, бегства юного последователя, вмешательства десницы закона и, в особенности, из-за отрешенной безучастности Иисуса — словно он сосредоточен не на действе или актерах, его разыгрывающих, а на том, чтобы удержать свои руки связанными и свои пальцы сплетенными, — из-за всего этого более вероятно, что художник зафиксировал момент после поцелуя, равно как и момент проясняющегося сознания Иуды, что он держит в руках невинного человека, осужденного на смерть. В связи с этим картина Караваджо воскресила в моей памяти прекрасную строку из ямбического пентаметра Джеймса Райта: «Я обнял пустоту». Вложенная в уста Иуды о жертве, не являющейся Христом, эта строка представляется странной для концовки стихотворения — в силу своей незаконченности, неконкретности. Ведь она может означать «Я обнял [не корысти ради]» или «Я обнял [без всякого скрытого мотива или повода], либо «Я обнял [человека, который был для меня никем и который так и остался бы для меня никем], а потому — «Я обнял пустоту».
Сонет Райта «Святой Иуда» (1959) начинается с того, что Иуда выходит на улицу, чтобы «свести с жизнью счеты», и становится свидетелем того, «как толпа громил беднягу истязает». Заканчивается сонет описанием реакции Иуды (от первого лица) на этот случайно увиденный случай уличной жестокости:
«Его увидел я, лишенный неба.
Избит, раздет, во прахе он лежал —
К нему, веревку бросив на ходу,
Я бросился, припомнив и вкус хлеба,
И поцелуй, что плоть мою пожрал, —
Лишен надежд, я обнял пустоту».
(Пер. Яна Пробштейна)
Поскольку Райт, как и Караваджо, воздерживается от дальнейшего приговора Иуды, он сопоставляет «хлеб», который съела его плоть, «поцелую», что плоть его пожрал. Фраза воскрешает в памяти утверждение Иисуса в Коптском Евангелии от Фомы: «Тот, кто напился из Моих уст, станет как Я. Я также, Я стану им, и тайное откроется ему». (Cartlidge and Dungan, 28).
Считая, что Иуда был удостоен поцелуя, подобно тому, как верующие удостаиваются евхаристии, Райт предполагает, что поцелуй мог оказать на Иуду глубокое преобразующее воздействие, в результате чего в его плоть проник Иисус, и предатель оказался вовлечен в ситуацию, когда он вынужден оказывать помощь «избитому, раздетому и во прахе» лежавшему, а через то приобщается к святости. Стихотворение Райта останавливается на моментах в жизни Иуды после поцелуя, познавшего тайное, что в свою очередь превратило его в копию того, кого он поцеловал. Возможно, «святой Иуда» намекает, что только человек, «лишенный неба» — осознавший, что он способен на предательство, повинен в нем и заслуживает за это порицания, — может достигнуть святости. Остальные из нас, негодующих праведников, быстро проходят мимо безымянных жертв нападок и оскорблений в нашем собственном окружении.
На сайте Google «Images» можно найти более современные изображения поцелуя из центральной сцены Драмы Страстей, но я отобрала те, что считала самыми важными и притягательными. Взращивали или отражали изобразительные интерпретации предательского поцелуя Иуды в Средние века и эпоху Возрождения ненависть к гомосексуальным отношениям или к любовным жестам или поцелуям между мужчинами? Иными словами: когда мы видим двух мужчин целующимися, думаем ли мы об Иуде и измене? Тот факт, что основной акт предательства регулярно представляется как поцелуй между лицами одного пола, может привести к поспешным, поверхностным выводам о навязчивой предубежденности против мужчин, любящих мужчин. Если гетеросексуальные поцелуи означают «логическое завершение гетеросексуального контакта, — поясняет Филлип Брайан Харпер, — то поцелуи между лицами одного пола и, в особенности, поцелуи между лицами одного пола
на публике действуют как «сигнал», говорящий об их сексуальной идентичности «в гораздо более обвиняющей манере» (Harper, 9,22). Возможно, своим поцелуем Иуда первым показал высокую степень социальной опасности, которую несет человек, превращающийся в результате откровенного объятия другого человека в опасного преступника. Или, может быть, это всего лишь ретроспективный взгляд в прошлое, на длительную и неприятную историю ненависти к гомосексуалам, высвечивающий ныне связь между мужчинами, любящими мужчин, и тем, что некоторые художники показывают как назойливое приставание Иуды.
Ввиду этого было бы трудно доказать, что поцелуй Иуды отражает гомофобию, учитывая немалое число гомофилических изображений, обсуждаемых в этой главе, даже несмотря на то, что слово «гомофилический» при этом не употребляется. То, что Стивен Д. Мур предлагает в связи с безусловно сомнительными интерпретациями «Песни Песней», представляется верным и для многих картин, изображающих поцелуй Иуды, а именно то, что они обнаруживают, в самом деле предполагает «отсутствие страха гомосексуальной паники» (Stephen D. Moore «The Song», 349). Разумеется, на фресках и гравюрах на дереве, которые подчеркивают садистского чужестранца или чужеземца, губящего Иисуса, Иуда мог разжечь опасные стереотипы гомосексуального хищника. И все же в странной, противоречащей непосредственному восприятию манере изображения предательского поцелуя Иуды — одухотворенного, как братская близость, или эротического, как страстное свидание — порождают размышления не о его злобной эксцентричности, а о волнующей неверности, всегда потенциально присутствующей в любом акте чувственной привязанности или любви. Подобные изображения дают современному зрителю возможность усомниться в предположениях о силе исторического воздействия ненависти к гомосексуалистам, и таким образом оспорить ее в настоящее время.
Адам Филипс, изучив взгляды Фрейда на природу страсти — «всегда превосходящей способность объекта удовлетворить ее», — попытался объяснить, почему Фрейд ассоциировал целование с «недоброжелательством в корне сексуальности»: всегда разочаровывающий и потому часто возвращаемый или повторяемый, «поцелуй», по мнению Филипса, «является символом предательства и пересмотров, которые предательство всегда порождает» (Phillips, 100). Иными словами, все поцелуи являются «иудиными». И сам Новый Завет подчеркивает подобную точку зрения, согласно Джеку Майлсу. Когда Иоанн Креститель характеризует Иисуса как «жениха» (Иоанн 3:29), он делает это, по мнению Майлса, чтобы развить тезис еврейской Библии о том, что «Бог, как жених земли Израилевой, суть преданный жених» (Miles 73). Хотя супруга Бога всегда вероломна, жених настаивает, что он останется верующим.
Даже когда Иуда предается кусающему поцелую, художники по большей части придают ему человеческий, а не демонический облик. То, что образы Иуды, явленные нам мастерами визуальных искусств, более очеловеченные и снисходительные, чем образы, созданные теологами или литераторами, возможно, объясняется не только центральным местом человеческих фигур в изобразительном искусстве, но и теми приемами, посредством которых изображения ограничивают сцену предательства, вырывая ее из канвы Драмы Страстей. Даже так называемые «повествовательные» картины как будто останавливают сюжет, ограничивают своими рамками определенный момент или несколько моментов, оставляя нас в сомнении относительно причин и последствий конфликтов, их начала и конца. Особенно когда Иуда и Иисус противопоставляются первосвященникам в визуальных сценах предательского поцелуя, они создают сцену для писателей, которые начинают наделять Иуду внутренней «начинкой». На полотнах Карраччи и Караваджо в особенности мы видим Иисуса, как и Иуду, подавляемых репрессивными методами социального контроля, что определяет обоих их как преступников, правонарушителей, отверженных, анафему морально падшим, но высоко эффективным полицейским властям гражданского государства.
Едва ли стоит оговаривать, что философы и авторы, жившие в более поздние века, в «светские» периоды истории, и живущие ныне, пользовались и пользуются большими свободами. Но с XIII и до XVII века мастера изобразительных жанров фокусировали свое внимание на знаке предательства любви, который ирландский поэт Брендан Кеннелли недавно описал с субъективной позиции Иуды:
«Я подхожу к нему
Я целую утомленные предания в его глазах
Я целую молящие оспинки на его лице
Я целую милость, источаемую чрез его кожу
Я целую его искреннее прощение греха
Я целую женщин, склоняющихся подле него
Я целую мужчин, продолжающих его дело
Я целую монеты, заработанные и брошенные ради него
Я целую убийц, нанятых его детьми
Я целую толпу, поклоняющуюся ему
Я целую предательство людей
Я целую память о нем
Я целую его забвение
Я целую его слова его молчание
Я целую его сердце
Я целую его участливую бесстрашную любовь
И мне кажется, он вновь ожил» (239).
По мнению одного из блестящих интерпретаторов Кеннелли, поцелуй в этом фрагменте является «актом зеркального отражения, копирования, моментом, в который Христос понуждается признать не свою исключительность, а то общее, что его связывает с падшим человечеством» (Roche, 93).
Снятый крупным планом кадр из фильма Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея» (1964), в котором хорошо видна шея Иуды, благодаря короткой щетине на подбородке, также акцентирует нашу схожесть с Иудой, равно как и схожесть Иуды с Иисусом: их взаимную связь.
[236] Трактуемые аллегорически, визуальные интерпретации отношения Христа к Иуде, христиан к иудеям отражают братскую любовь «phileo», непримиримую борьбу страстей «eros и thanatos» и сострадание «agape». Художники Средневековья и эпохи Ренессанса предвосхитили мыслителей Просвещения, высветив человечность Иуды, и более поздних поэтов и драматургов, продолживших писать героизм, питаемый дерзким заявлением Иуды: «Знание принадлежит одному, так будет всегда./Тому, кто отваживается признать, поцеловать и убить своего Бога» (Kennelly, 136).
Глава 5.
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМА ЖЕРТВЕННОСТИ
Реабилитации Иуды в эпоху Просвещения способствовали авторы, представлявшие его сначала поддающимся исправлению, небезнадежным, грешником, а затем и вовсе героическим повстанцем. Идеализированный Иуда подвиг писателей XIX — начала XX вв. отстаивать благожелательные намерения предателя. Даже когда этот мятежник лишен своих мотивов, несчастный Иуда вызывает симпатию, поскольку он страдает из-за ограниченности искупления и вопросов Божьей справедливости, равно как и от силы Сына Божьего.
* * *
Помимо того что Иуда Караваджо разделяет с Иисусом восприятие момента, который может не решить горестные повороты истории, его «Взятие Христа под стражу» может аллегорически знаменовать также вступление Иуды в пору зрелости, которую Иуда переживает с XVIII в. и далее, когда усилившаяся секуляризация ослабила культурную значимость евангельского повествования, как и веру в его истинность и реальность, даже несмотря на то, что способствовала утверждению героического образа Иуды. В эпоху Просвещения и после нее, в то время, как иудеи любого происхождения ассимилировались в европейском и американском сообществе, Иуда эволюционирует в воинственного бойца, радеющего об утверждении царства Христа и делающего это столь осознанно, что он готов сам поплатиться за это после мучительной смерти, потребовавшейся от Иисуса, вознагражденной воскресением. Этот двенадцатый апостол знает, что Иисус дал ему такие же способности и преимущества, как и другим одиннадцати ученикам, но время от времени он задается вопросом, может ли Иисус выполнить данное Им обещание спасти все души, вверенные Ему на попечение. И в самом деле, в подобных трактовках храбрый Иуда осознает, что он может помочь исполнению провиденциального Божьего замысла, только навсегда лишившись своего самого сокровенного друга и пожертвовав своей собственной жизнью, душой и добрым именем.
[237] В самом мрачном образе двенадцатый апостол выступает аллегорией сетования на неумолимые силы, порождающие ироническое сопоставление: с одной стороны, его служения орудием исполнения Божьего замысла, послушным инструментом Высшей воли, и его собственного проклятия, с другой.
Картина Питера Пауля Рубенса «Тайная Вечеря» предвещает трагический образ такого противоречивого, но благородного Иуды (Пинакотека ди Брера, Милан, ок. 1632 г.). Полотно Рубенса даже в большей степени, чем работа Даниэле Креспи, которую он напоминает, представляет Иуду беспокойным, преисполненным страха за то, кем его будут считать после содеянного. Некоторым зрителям Иуда Рубенса может показаться пристыженным или смущенным, каким и должен был бы выглядеть тот, кого считают походящим на жадного пса, глодающего кость подле своей лапы. Но, на мой взгляд, двенадцатый апостол выглядит полным страха и тревоги. И светлый нимб позади головы Иуды соотносится с нимбом свечи позади и вокруг его головы. В то время как все другие апостолы смотрят благоговейно вверх, на Иисуса, явно освящающего евхаристический хлеб и вино, пребывающий в созерцательной задумчивости Иуда Рубенса — едва ли самый непривлекательный за столом, без рыжих волос или крючковатого носа и без кошеля с деньгами — держит свою левую руку на столе, а правую у своего рта. Наряду с Петром по правую руку от Христа и Иоанном по Его левую руку, Иуда — единственный опознаваемый апостол на картине. Он и Иисус — главные действующие лица в повествовании. И именно этим объясняется, почему озаренный светом Иисус ликует с поднятыми горе очами, а печальный, задумчивый Иуда сердито смотрит в предчувствии ужасной перспективы — исполнить Божью волю.
Внутри темной, хоть и освещаемой свечами, походящей на пещерный свод комнаты тесно сплоченная группа апостолов не отдалена от Иисуса, поскольку они сидят за прямоугольным столом, как и на полотне Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря». Усаженный художником на приподнятое монументальное сиденье Иуда со своими свободно свисающими ступнями, словно ребенок, поставлен в положение, ему неподконтрольное. Соотнесение Иисуса и Иуды — не физическое, но нравственное, — кажется, уравновешивает твердую веру и мятущийся цинизм, спокойное самоотречение и раздраженное отстаивание своих притязаний. Означает ли рука Иуды над его ртом обет молчания, знак того, что его версия событий никогда не будет обнародована? Встревоженный персонаж Рубенса словно раздумывает, сердито глядя на зрителя, или — как предатель в «Убийце с ножом» Уильяма Рейнера (1969) — на «Бога в роли жестокого шутника». Как будто хочет спросить: «Если на то воля Бога — что же за Бог руководит поступками людей?» (William Rayner's The Knifeman, 151)? Все остальные, сидящие за столом вокруг Иисуса, кажутся поглощенными насущными заботами, не допуская в свой замкнутый, тайный, круг стороннего наблюдателя. Иуда же, напротив, будто сознательно приковывает к себе взгляд зрителя, поскольку он понимает и обдумывает цену своего будущего сговора с храмовыми начальниками. Не хочет ли Рубенс — через эту связь со зрителем — намекнуть нам, что у нас гораздо больше общего с Иудой, чем с любым другим персонажем Драмы Страстей Господних? В Евангелии от Иоанна Иуда один вкушает обмакнутый хлеб и становится одержимым дьяволом. Но у Рубенса Иуда сидит очень далеко от хлеба, и его рот закрыт, а губы сомкнуты. И рядом с ним изображен не дьявол, ни демон, ни дракон, ни упырь или насекомое, а всего лишь дружелюбный пес подле его кресла. А мотив вознаграждения вообще не предусмотрен фабулой картины.
Идея о том, что решительный Иуда становится соучастником Иисуса в тайной операции по спасению человечества, может восходить к самому Новому Завету и, в частности, к свидетельствам Иоанна об «Иуде, не Искариоте» и братьях Иисуса. Эти туманные и докучливые персонажи имеют много общего между собой и с двенадцатым апостолом. После омовения ног во время Тайной Вечери, после того, как Иуда уходит во тьму ночи, чтобы исполнить предписанную ему задачу, Иисус у Иоанна объясняет оставшимся одиннадцати ученикам, что Он вернется к тем, кто «имеет Его заповеди и соблюдает их», но «Иуда, не Искариот, говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? (14:21,22). Хайам Маккоби убедительно связывает «Иуду, не Искариота» с упоминаемыми Иоанном братьями Иисуса, которые ранее советуют Ему не скрываться в Галилее, а вместо того идти учительствовать в Иудею (148—149): «ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви Себя миру» (Иоанн 7:4). В Евангелиях от Марка (6:3) и Матфея (13:55) Иисус действительно имеет брата по имени Иуда. Подобно «Иуде, не Искариоту» и Иуде (брату Иисуса) энергичный Иуда Искариот часто выступает в Новое время рьяным товарищем Иисуса по оружию, убеждая Его разгласить тайну Своего мессианства, явить Себя миру.
Нельзя сказать, конечно, что демонизированный Иуда совсем исчезает в тот обширный промежуток времени, в который он, в моем видении, переживает свою «зрелость». Священники, педагоги и писатели продолжали бичевать бесплодность, жадность, испорченность и подлость Иуды, как и людей, которых он собой воплощал — еврейский народ.
[238]«Что сделал ты?» — вопрошал Иуду Алджернон Чарльз Суинберн и, прежде чем предать его «грязи и пламени … в пасти ада», отвечал: «Ты осквернил Землю и отвратил сладкое солнце,/смрадом крови, что истекает из твоей разлагающейся плоти» (Swinburne, 350). На рубеже XIX в. инсинуации по поводу вины Альфреда Дрейфуса, офицера еврейского происхождения во французской армии, обвиненного в сотрудничестве с немцами, породили целый поток антисемитских французских книг и статей, по-всякому склонявших имя Иуды.
[239] Но даже несмотря на то, что подобные клеветнические измышления неумолимо множились, Иуда продолжал эволюционировать из покаянного грешника в воинствующего революционера, отражая усложнявшееся в художественном сознании восприятие евангельской Драмы Страстей. Если, как на то намекают все евангелисты, воплощенный во плоти Сын не мог стать духовным мессией без Иуды, не заслуживает ли в таком случае двенадцатый апостол почитания, как ведущий актер, пожертвовавший своими собственными интересами и сам накинувший на свою шею петлю, чтобы послужить инструментом искупления грехов человечества? Возможно, Иуда получил обмакнутый кусок хлеба и ушел в ночь, чтобы исполнить Божью волю, чтобы «состоялась Драма Страстей и Воскресения его учителя, который иначе мог, в самый последний момент, уклониться от нестерпимой агонии, который мог бежать в Галилею» (Steiner, 415). Особенно в XIX—XX вв. необходимый Иуда противостоит двойным оковам любви к Человеку, которого он должен подвергнуть опасности, полностью осознавая свое собственное причиняющее боль несовершенство, и то как оно зеркально отражает таковое Иисуса, но отказываясь допустить, чтобы это помешало ему сыграть предназначенную роль в мире и для мира.
Мирские писатели, размышляя о роли Иуды, выдвигали различные предположения о его перспективе, как, например, Говард Немеров в своем стихотворении «Исторический Иуда» (1980):
«Не too has an eternal part to play,
What did he understand? that good has scope
Only from evil, flowering in filth?
Did he go smiling, kissing, to betray
Out of a fine conviction of his truth,
Or some original wreckage of our hope?»
«If merely mistaken, at any rate,
He had a talent for the grand mistake,
The necessary one, without which not,
And managed to incur eternal hate
For triggering what destiny had got
Arranged from the beginning, for our sake».
«Let us consider, then, if not forgive
This most distinguished of our fellow sinners,
Who sponsored our redemption with his sin,
And whose name, more than ours, shall surely live
To make our meanness look like justice in
All histories commissioned by the winners».
Реабилитация «известного» образа Иуды совпала по времени с появлением в огромном количестве исторических и литературных критических воззрений на прошлое, даже на отдаленное библейское прошлое. Особенно подогрели интерес к мифической или легендарной значимости евангельских сюжетов «Жизнь Иисуса» Давида Фридриха Штрауса (1835) и «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана (1863).
[240] Если биографические подробности жизни Иисуса исследовали ученые-библеисты и «раскапывали» археологи, их пробовали также воссоздать обладавшие завидным воображением сочинители, предлагавшие свои собственные интерпретации евангельского сюжета, которые сегодня принято называть «альтернативными версиями» — иногда кажущиеся вполне вероятными, иногда совершенно невероятными версии того, как могли бы развиваться события и что могло в действительности случиться.
[241] Взятые вместе, эти альтернативные истории современных писателей (и, по крайней мере, нескольких писательниц) пытаются разгадать заводящие в тупик вопросы, которые смущают Немерова. Что значит то, что цветение требует грязи, а грехом оплачивается искупление, задавались они вопросами. В этой главе рассматриваются два типа альтернативных версий. К первому относятся те, в которых новые интерпретации бросают вызов и изменяют общепринятые толкования Евангелий; к другому — те, в которых новаторские предположения порождают совершенно иные образы и сюжеты, которые бросают вызов и переиначивают факты, предлагаемые евангельскими историями. С помощью альтернативных версий обоих типов писатели Просвещения искусно реабилитируют Иуду в ходе процесса, который сначала смягчает наказание или по меньшей мере сокращает его обвинительный приговор, а затем защищает его нравственный активизм и в конечном итоге оплакивает горестный удел человека, жертвой которого достигнуто искупление.
Когда прощенный Иуда пытается победить грех, несправедливость и самую смерть в сотовариществе, требующем величайшей жертвы, он снова начинает походить и обликом, и речью на Иисуса. И все же, в то время как Иисус рискует своей плотью, Иуда подвергает опасности свою душу, ненависть, навлекаемая на себя двенадцатым апостолом, поднимает вопрос о том, кто пострадал от большей несправедливости в Драме Страстей? Действительно, при некоторых обстоятельствах Иуда, безжалостно отлученный от красоты, воплощает собой крушение надежды, испытанное последователями «Иуды не Искариота» — более известного, как святой Иуда, — поскольку он приходит, чтобы олицетворить собой те несчастные потерянные души, которые делают Иуду Фаддея своим святым покровителем.
[242] Особенно на этой стадии карьеры Иуды предательство и следующее за тем страдание Иуды поднимают волнующие вопросы по поводу справедливости Драмы Страстей Господних и пределов милосердия Христа. Чтобы подойти к этим сложным вопросам надлежащим образом, эта глава сначала обрисовывает Иуду как небезнадежного негодяя, а затем как храброго повстанца, в такой манере, чтобы ускорить движение к заключительным частям книги, где — в соответствии с его эволюцией — страшная «великая ошибка», которой становится современный Иуда, резонирует иногда в несколько преждевременных, иногда в несколько запоздалых трактовках, которые размышляют на тему того, что значит жить «лучше бы не рождавшемуся».
Негодяй, как и я
Восстановление Иуды в XVIII и XIX вв. в конце концов подчеркнуло его человеческую подверженность ошибкам и изумительное милосердие Иисуса. Присущая человеку подверженность ошибкам будет обыграна во многих альтернативных версиях, акцентирующих предрасположенность человечества к ужасным грехам и ошибочным поступкам или сильному чувству раскаяния, которое по их следам могло привести к искуплению вины, хотя в некоторых популярных историях Иуда сам оказывался преданным страстными чувственными желаниями, которые он не контролировал. Во всех этих случаях Иуда доказывает свою роль мессии, распространяя свое безграничное сочувствие на самых падших грешников. Однако процесс восстановления начался скорее не с оправдания Иуды, а — в большей степени — с колкой обличительной критики в адрес современных злодеев, погрязших в таком зле, что преступления Иуды померкли в сравнении с их бесчинствами.
Сатирики всегда получали удовольствие, подвергая суровой критике клириков и политиков, по их мнению, превзошедших Иуду в своем вероломстве и алчности. К примеру, в своем памфлете «Епископ Иуда» (1731 г.) Джонатан Свифт обличает лицемерные церковные власти, намекая, что в своей лжи и злоупотреблениях властью они приумножают лицемерный дух Иуды:
«Христа Иуда предал поцелуем:
Но те, кто Библию целуют сотни раз,
И клятву преступить готовы враз;
(То меньшее из всех их зол), увы —
Они при санах и избегнут петли.
Так из пеньки умело мастерица
Свивает нити, что под стать батисту».
(11. 10-16)[243]. (Пер. и.В. Павловой)
Не получая справедливого наказания, люди, которых Свифт называет «новым племенем Искариотов», снова и снова выходят сухими из воды за преступление, за которое Иуда расплатился своей жизнью. Даже еще более едкая по отношению к тем, кто мошенничает и обманывает, эпиграмма Чарльза Лэма «Сэру Джеймсу Макинтошу» (1801 г.) проклинает тот тип подлецов, что безнравственны, как Иуда, но лишены его мужества и даже кишок:
«Хоть ты, отступник злой, с Иудой схож,
Одним ты от него отличен всё ж:
Тот, взяв чрез грех презренный свой металл,
Пошел и мудро удавился сам.
Тебе бы — так, но сомневаюсь дюже,
Чтоб ты исторг свои кишки наружу!»
[244]
(Пер. И.В. Павловой)
В отличие от отвратительного, опустошенного современника Чарльза Лэма Иуда с его выпадающими внутренностями доказал всем, что он человечнее.
Нечестивые, гнусные деяния потомков Иуды превосходят стяжательскую алчность их прародителя, который прежде всего отказался от своего неправедного вознаграждения. «Более справедлив был
Иуда, продавший своего Спасителя, — поясняет Джон Драйден. — Святотатственная взятка, которую он не мог ни спокойно держать, ни спокойно повеситься, не вернув прежде золота» (Dryden 11.715—717,182). Противопоставляя странность одного предательства Иуды современной предрасположенности построения карьеры путем множества сомнительных дел, короткое стихотворение, опубликованное Катрин Джемма в 1766 г., уточняет цену сделки — Иуда получил монеты серебром, а не золотом, — и тем не менее соглашается с важной позицией Драйдена:
«Иуде нету равных в злой измене —
Продавшему Владыку иудеям;
Иуде ж торгашу дадим мы фору —
В том преуспели больше мы, без спору.
Он Бога смог единожды продать,
А наши сделки — разве сосчитать?
При том (к его стыду и нашей «славе»),
Не серебро — мы злато наживаем.
(Пер. И.В. Павловой)
Джемма поддерживает суровую критику Свифта в адрес «племени новых Искариотов», аппетиты которых намного превосходят аппетит Иуды в своей всеядной прожорливости (не серебром, но золотом), как и в своих приумножившихся деяниях — не единственная взятка, возвращенная назад, но постоянно повторяющееся стяжательство и растраты.
[245]
Подобные образы Иуды критикует поколение, пропитанное жаждой наживы, подобно тому, как это делал в своей диатрибе в XIII в. Уотер Уимборнский. И все же местоимение «мы» в последней строке стихотворения Катрин Джемма намекает на то, что если Иуда воплощает собой всех грешников, то подобно всем грешникам, он может быть «выкуплен» (искуплен) жертвой Христа. Нравственно превосходящий тех грешников, которые выходят сухими из воды, не понеся наказания за свои преступления, раскаявшийся Иуда может быть также прощен и спасен. Гимн Джона Уэсли «Вечная любовь» (1868 г.) обращается к Иисусу, как к «все искупающему Владыке», который несет милость (прощение, милосердие) даже падшим ниже всех:
«Ты не обманываешь род человеческий
Недостаточным милосердием;
Ты никого не лишаешь спасения,
Ты от крови Фараона свободен,
Ты однажды искупил вину всех —
Иуды, Исава, Каина и мою». (11. 37-48)
Если не держать в голове сколько раз имени Иуды предшествуют определения «вероломный», «подлый», «низкий» и «лживый» в средневековых и ренессансных пьесах, стихах, поэмах и проповедях, отождествление в последней строке Уэсли самого себя, нас [псалмопевцев] с Иудой не будет звучать столь уж поразительно.
Знаменитая картина Рембрандта «Иуда возвращает тридцать сребреников» (1629 г.) предвосхищает отождествление Уэсли с покаянным Иудой. В сцене, воспроизводимой художниками не так часто, как предательский поцелуй, Иуда испытывает ужасный стыд, во всяком случае о том говорят его ободранная в кровь голова, крепко сжатые руки, подгибающиеся колени, порванная одежда и отводимый в сторону взгляд. В противоположность облаченным в богатые одеяния священникам и старейшинам, скромно одетый Иуда — «лишенный сочувствия или помощи людей» — стенает в агонии (Durham, 92-93).
[246] Самым разительным предстает контраст между грузным сидящим священником, большой живот которого обвит золоченым поясом, и изнуренным Иудой, чей плетеный пояс свисает на подкашивающиеся ноги. Серебряные монеты на полу выглядят жалкими и поистине презренными в сравнении с золочеными одеждами и тюрбанами первосвященников, равно как и с ярко освещенной, но оставленной без внимания священной книгой. Семь первосвященников, некоторые из них в тени, избегают встречаться взглядом с тощим, раболепствующим кающимся грешником. А священник, сидящий в центре, поднимает свою руку, отворачивая при этом лицо, как будто хочет изгнать жалкого в своем унижении, презренного Иуду из погруженного во мрак храма и всего человеческого общества. Еврейские письмена на раскрытой книге можно прочитать только частично. Но один из историков искусства выдвинул два возможных толкования надписи: «осознай свою слепоту» или «осознай свой позор и бесчестие» (Durham, 94). Тогда как насмешливые первосвященники с презрением отвергают обесчещенного Иуду, Рембрандт помещает фигуру жалкого Иуды в самый центр своего полотна, подчеркивая, что его грех и в то же время его сожаление о ней повторяют состояние человечества.
И здесь уместно привести восемь строчек средневековой поэмы, подчеркивающие поворот в восприятии Иуды и эволюции его образа, заданный несчастным раскаявшимся грешником Рембрандта и заключительной строкой Уэсли:
«О, Иуда, и Каин также
И многие другие такие же грешники,
Которые из-за греха своего никогда
Не получают прощения
И не успокаиваются в своем отчаянии,
Они гибнут без оправдания.
Ибо нет человека, которому достало бы милосердия,
Который бы не просил и не молил о нем».
[247]
В более ранние времена Иуда и Каин олицетворяют собой отчаяние, которое не ищет милосердия и потому заслуживает порицания и проклятия, однако Уэсли воображает Иуду и Каина получающими снисходительность через достаточность милосердия Христа, точно так же, как картина Рембрандта выражает сочувствие жалкому раскаянию двенадцатого ученика. Если Иуда, повинный в худшем из возможных грехов, искренне искупил вину и получил прощение, он предлагает надежду всем людям.
Роберт Бьюкенен изобразил великодушную любовь Христа Уэсли, как любовь, охватывающую Иуду Искариота в поэме-«галлюцинации», навеянной «Старым моряком» Кольриджа и его заключительной строфой: «Блажен, кто молится за всех,/3а всю живую плоть,/Что сотворил и возлюбил/Великий наш Господь» (1. 616-617) (пер. И. Медведева, «Слово» № 46, 2005).
[248] Большую часть «Баллады об Иуде Искариоте» Бьюкенена (1874 г.) занимает описание того, как доведенный до отчаяния дух Иуды Искариота скитается по свету, таская на себе свое собственное мертвое тело в поисках места для его погребения. Свой «труп, холодный как лед», с зубами «в безгласном рту», стучащими «подобно игральным костям», горемычный Иудин дух приносит в самые разные негостеприимные места: на пустырь, пронизываемый холодным ветром «и вдоль и вширь», на «гнилой и заросший пруд», на холм с высоким крестом, на «берег кровавой реки» с водоворотом у моста, забрызгивающим его кровавой пеной (11). «Дни и ночи, гоним вперед касанием ледяным» (11), снедаемый горем и слезами, бродит по земле Иудин дух, пока, наконец, совсем измученный, не приходит к таинственному, освещенному лунным светом Чертогу, сквозь окна которого видны тени «гостей, что на свадьбу пришли». Его встречает Жених «в белоснежных одеждах» и «со свечой в руке» (14), которому Иудин дух — «печален, нищ и убог» — пытается объяснить свое появление тем, что света нигде больше нет: «Я дни и ночи шел наугад,/Сквозь тьму шагал без дорог». Узнав в нем дух Иуды Искариота, брачные гости яростно кричат: «Здесь не место ему!/Прочь прогони Иудин дух —/Пусть уходит во тьму!» (15).
Однако Иисус Бьюкенена («Жених») доказывает, что он есть Христос, отказываясь покарать душу Иуды. Вместо того, Он мановением рук Своих творит снежинки, которые, приближаясь к земле, превращаются в «белых голубков» и уносят Иудин труп «усилием тысяч крыл», а Иудин дух Он зовет в Чертог:
«Святая вечеря здесь у нас,
И жду Я тебя давно,
И свечи горят в ожиданье тебя,
И не разлито вино!»
Все свечи горят, и разлито вино,
Ждавшее до сих пор,
Иуда Господни ноги омыл
И волосами обтер. (16)
(Пер. С. Шоргина)
По-видимому, «святая вечеря» не была в действительности Тайной Вечерей; в сцене трапезы, описываемой в конце баллады Бьюкенена, искупленная душа Иуды в воскрешенном теле воссоединяется со своим любимым «Женихом». Аналогичное видение демонстрирует и памфлет У.Э. Дэрби (1846 г.), утверждающий, что «Иуда Искариот был спасен», в котором двенадцатый ученик предстает нам стоящим «в Церкви, ликующим (торжествующим), как высочайший монумент ПОЛНОТЫ МИЛОСЕРДИЯ КРЕСТА!» Комментарий теолога Энтони Кейна к памфлету Дарби так оценивает все подобные видения спасенного Иуды: «Для него не стоит вопрос о поражении Христа, и потому Иуда должен быть спасен» (144—145).
[249] Хотя и грешник, человек, который помог осуществить вечную жизнь, предложенную Христом, не должен быть ее лишен.
Общность Иуды с падшим, но небезнадежным человечеством может быть представлена не только через его конечное спасение, но также и через его присущие всем людям» недостатки. По этой причине выдвигавшие альтернативные версии авторы XX в. подробно разрабатывали тему падения Иуды и его способности к исправлению, сосредоточиваясь на его эротические затруднения. Возможно, предполагали они, измена Иуды была мотивирована его неспособностью соблюсти апостольский обет целибата. Прототип ученика в напыщенной, пространной поэме Т. Старджа Мура «Иуда» (1923 г.) остается убежден в том, что «Иисус в [Иуде] нашел то, что ни один другой не мог дать./Они были братьями, не из снисхождения… Но и схожие по природе» (46).
[250] И все же половая неудовлетворенность способствует обману, который подвиг его предать Иисуса: в юности Иуда «был уличен в подобие греха», что вызвало его «самоосквернение» из-за прегрешения мастурбации, за чем последовали «недели, прожитые в такой строгости/чтобы обрести святость» (40). В отличие от образов Иуды, исследуемых более подробно в этих главах, этот образ не находит подтверждения в новозаветных строфах, и именно поэтому я не считаю нужным уделять этой версии много внимания. Но поскольку истории о сексуальных «подвигах» Иуды продолжали множиться, следует указать, что в слишком многих посредственных, но популярных историях у предательства неизбежно появляется сексуальная подоплека. Гнусный Иуда частенько влюбляется или испытывает вожделение к Марии Магдалине или какой-либо иной достигшей брачного возраста красивой иудейской девушке, которая отчуждает его от его Учителя.
Жадные жены или любовные затруднительные положения (перипетии) способствуют любовной неразберихе, которая затемняет сонм патетических образов Иуды в романтических фильмах и художественной литературе. Например, немое кино Сесиля Б. Де Милля «Царь царей» (1927) начинается со сцены, в которой полуобнаженная Магдалина очаровывает двенадцатого апостола: она едет в щегольской, запряженной зеброй повозке упредить Иисуса об отступничестве Иуды, после чего сама становится новообращенной христианкой. Понятно, что треугольник между Иудой, Марией Магдалиной и Иисусом мог привести к тому, что Иуда обманет Иисуса просто для того, чтобы завоевать женщину. В повествовательной поэме Сибиллы Морли Иуда принимает тридцать сребреников, чтобы купить «одежду нежнейшего голубого цвета» для непостоянной девушки; Иуда Морли приспособляется ко времени и обстоятельствам: «чтобы купить ей одежду, я продал моего Господа» (57). Вплоть до 1970-х гг. романисты предполагали, что банальный (но не всегда корыстный) Иуда был искушаем соблазнительными невестами, девушками легкого поведения и искусительницами.
[251] Разрывающийся между
потребностями тела и духа, плотской невестой и духовным женихом, терзаемый муками грешник в замешанных на любовной подоплеке интерпретациях предательства, едва ли имеет шанс. Привычный, как и эротические прегрешения Иуды, он испытывает и через свое право на избрание доказывает милосердие Бога.
Даже художники, которые отказывались отступать так сильно от новозаветных свидетельств, могли наделять Иуду, особенно Иуду Матфея, покаянным сожалением. «Согрешил я, предав кровь невинную», — сокрушается Иуда в «Страстях по Матфею» Баха (1727 г.). Поскольку сольному голосу сразу же отвечают хоры женских и мужских голосов, энергично возражающие (парирующие) «Что нам до того? это уж твоя забота», оставшийся в изоляции Иуда вызывает сострадание — бас, озвучивающий его, называет себя «блудным сыном» и несколько раз умоляет: «Gebt mir meinem Jesum wieder!» («Иисуса мне верните!» № 42). В конце оратории бас (уже в устах Иосифа) звучит опять — в финальной сольной арии: «Сам Иисуса схороню я./Пусть отныне Он во мне/ впредь и впредь/Обретет успокоение» (№ 65). Предписание — «Иисус, войди!» — составляет последние слова, которые слушателям надлежит услышать и на которые им нужно обратить особое внимание перед заключительными речитативами и хорами (цитаты из либретто Пикандера).
[252] Именно отчаяние и раскаяние Иуды начинает отражать пугающее осознание многими людьми своих собственных грехов и проступков. В 1926 г. в поэме с говорящим названием
«Наши тридцать монет» (выделено автором), Гарри Кемп спрашивал: «кто не предавал и не знает,/Как Иуда испил безмерного горя / Разбитой любви, с одним самым злополучным поцелуем?» (И. 12-14).
В период между Бахом и Кемпом ряд поэтов воображали временную отсрочку наказания негодяя.
[253] «Ступни Иуды» (1895) афроамериканского поэта Джорджа Мариона Макклеллана, не просто смягчает наказание Иуды. Ведь Макклеллан начинает каждую из пяти своих строф строкой «Христос омыл ступни Иуды!», ею же и завершается все стихотворение, потому что «если мы когда-либо чувствовали несправедливость/растоптанные права касты, она не имеет значение./Что его душа чувствовала или переносила долго,/ О, сердце! Не должно быть забыто то, что/Христос омыл ноги Иуды!». Стихотворение навевает в памяти образ Иуды, созданный Бьюкененом, который «Господни ноги омыл/И волосами обтер», а также Иуду Мура, который верит, что он и Иисус — братья, не из снисхождения… Но по природе», и Иуду Баха, который умоляет: «Иисуса мне верните!» Все эти три фразы намекают на желанный и желательный союз между Иисусом и Иудой. Учитывая его преданность и раскаяние, мог ли Иуда сбиться с пути не алчностью или похотью, но хорошо разработанными планами во исполнение целей его Учителя? Иуда эволюционирует из объекта сожаления или прощения (жалкий, но любящий и любимый ученик) в образчик благородства и защитник Иисуса, когда они выступают как товарищи по оружию во вражеском окружении, словно заговорщики.
Воин за общее дело
Недавно несколько историков-библеистов выдвинули гипотезу о том, что Иисус был апокалипсическим иудейским вождем, проповедовавшим близкую кульминацию и исход истории человечества еще при Своей жизни.
[254] Подобные ученые следуют по стопам романтических и викторианских мыслителей, научные труды, трактаты и поэтические толкования которых представляют читателю именно такого радикального Иисуса, каким Его видит и какого поддерживает Иуда, столь же или даже еще более сильно преданный делу разрушения Храма, которое возвестит о Новой эре, когда верующий не будет страдать ни от смерти, ни от болезни, ни от нищеты и гнета, но, напротив, встретит и восславит пришествие Царства Божьего на Землю. Иуда, пытающийся содействовать революционному преобразованию своего общества, действует доблестно вместе с Иисусом, чтобы сбросить Храмовые власти и римских колонизаторов. Прежде клеймимый позором, Иуда в XIX веке обретает статус настоящего героя. Героизм, согласно социологу Филиппу Зимбардо, предполагает, что индивид вовлечен в добровольную, но рискованную деятельность, навлекая на себя возможное ранение или смерть, «поставлен на службу» другим людям или обществу «без второстепенной, несущественной корысти, без всяких мыслей о собственной выгоде и славе» (Zimbardo, 466).
В век, будоражимый отзвуками Французской и Американской революций, Иуда Искариот добровольно рискует собой ради смелой миссии Иисуса. И по такому сценарию в тех случаях, когда Иисус испытывает сомнения относительно Своей радикальной деятельности, воинственный Иуда подстрекает Его и делает это не только ради Иисуса, но и ради (во имя) мирного и справедливого «золотого века», который им предначертано сделать реальностью общими усилиями. Ключ к такому подходу к трактовке роли Иуды дает библейская фраза «Царство Божие», в которой можно усмотреть как религиозный смысл, так и политический подтекст. «В религиозном смысле это — царствие
Бога», — толкуют эту фразу Борг и Кроссан, прибегая к курсиву, — «в политическом смысле это
царствие Бога» (Borg and Crossan, 25). В текстах, построенных на коллизии противоречивых устремлений Иисуса к желанному духовному царству и Иуды к желанной политической власти, предательство означает верность Иуды более высокому нравственному идеалу, влекущую за собой его активный бунт против всего, что могло бы воспрепятствовать его достижению: воинственный Иуда пытается воспламенить осторожного, осмотрительного Иисуса. Некоторые англоязычные писатели приписывают Иуде понятный политический мотив и тем самым уподобляют его своевольным Адаму и Еве, нарушившим божественный запрет и попробовавшим плод с дерева в саду, поскольку их Иуда старается помочь Иисусу в его стремлении «быть, как Бог» (Бытие 3:5).
В духе прощения, сродни отпущению грехов в концовке гимна Уэсли и баллады Бьюкенена, Томас де Куинси напоминает читателям своего эссе «Иуда Искариот» (1857 г.), что «всегда должно быть важным вспоминать в пастве христианского прощения любого, кто долгое время был лишен человеческого милосердия и прозябал в могиле изгоя» (184). Целиком доверяя немецким мыслителям, де Куинси далее рассуждает об ошибочных толкованиях и интерпретациях Иуды, заявляя, что «следует не только пересмотреть или просто смягчить его приговор, но и полностью снять с него обвинение» (184). По мнению де Куинси, Иуду надлежит реабилитировать, поскольку он был еврейским патриотом, страстным и искренним революционером, нетерпящим «гнет (ярмо) Рима» (178), который верил, что «Христос стремился к установлению временного царства, то есть к реставрации трона Давидова» (179). То, чему он противостоял, это — нерешительный и сомневающийся характер Христа, напоминавшего «великое шекспировское творение, Принца Гамлета» (179). Иуда, виновный в самонадеянности, но не в предательстве или жадности, ошибочно полагает, что он постиг миссию Иисуса — низвергнуть римлян. Он смеет надеяться, что «арестованный иудейскими властями, Христос, наконец, больше не будет колебаться» (181). Таким образом, Иуда «пытался до конца исполнить волю своего учителя, но методами, противоречившими этой самой воле учителя» (194). Он ошибочно принял духовную миссию Христа по установлению нового миропорядка за политическую [борьбу].
[255]
Де Куинси обвиняет «дремоту переписчиков или их слепую глупость или необоснованную самонадеянность» за противоречивые свидетельства о смерти Иуды в Евангелиях от Матфея и Луки (195). Пытаясь разрешить вопрос о том, как все же умер Иуда, он прослеживает этимологию слова «кишки» или «внутренности» и приходит к выводу, что Иуда умер от разрыва сердца: «говоря, что «viscera» Искариота, или его «середина», лопнула и вывалилась из тела, тот, кто первым записал эту историю, имел в виду всего лишь, что разорвалось его сердце» (197). Под словом «низринулся», полагает де Куинси, имеется в виду не то, что Иуда сорвался с дерева, а то, что он впал в «жестокое отчаяние» из-за краха политического движения (197). Не удавка, не выпавшие внутренности, не испражнение, а простой суицид вследствие отчаяния и упадка духа — таков был конец Иуды. Таким образом, «глубокий и пламенный еврейский патриотизм» (184) подвиг Иуду «не мешать исполнению целей Христа, и тем более, предавать их, а, напротив, способствовать их осуществлению», пусть даже и «средствами, совершенно противоречащими их духу» (186). Де Куинси считает, что «никакой мотив, ни иной побудительный импульс, не был испорчен пошлым предательством, вменяемым ему в вину» (177). Помимо того что де Куинси отвергает неуместный фанатизм Иуды, его толкование вписывается в общее русло критики политического экстремизма ранних романтиков, которые поддерживали Французскую революцию; однако при всем при том его эссе «возвращает в лоно христианского прощения» того, кто «был изгоем» (184).
И до того и после того, как де Куинси опубликовал свое рассуждение, английские и американские поэты связывали нерешительного (колеблющегося) Иисуса с сагитированным и агитирующим Иудой и делали это, пытаясь «вывести мир из заблуждения насчет одного из его нелепых чудовищ», как выразился Ричард Генри Горн в предисловии к своей «библейской трагедии» — драме в стихах, озаглавленной «Иуда Искариот» (1848). Иуда Горна, пылко верящий в то, что Иисус «будет владеть всем миром» (120), приходите ярость из-за насмешек и лжи книжников и фарисеев, и в возбужденном монологе с пафосом осуждает пассивность Иисуса: «Почему Он не делает свое дело/Почему Он медлит? — беспокоится он. — «Почему Он ждет?» (124-125). Стремясь подвигнуть своего колеблющегося Иисуса к действию, Иуда решает помочь Каиафе не корысти ради, а, наоборот, чтобы «ускорить свет», чтобы увидеть Иисуса опрокидывающим развращенный Храм «и на его месте возводящим величественный Храм / Истинному Духу» (144). После ареста Иисуса, после того, как матерь Иисуса и Мария Магдалина упрекают Иуду, его финальный монолог в первом акте отражает его спутанный, но полный оптимизма апокалиптический план:
Почему я должен быть несчастным? Почему я должен
чувствовать себя
Столь плохо, настолько поверженным в уныние?
Слова, конечно, заслужили упреков, но они заслужат и похвалу
Когда мое дело оправдает себя
И Мессия разоблачит власть и террор,
И вспыхнут волосы на неправедных воинах. (154)[256]
Если Иисус в стихотворной драме Горна по большей части остается в тени, храня молчание, то Иуда твердо убежден, что «наш Господь, Христос, имеет два царства, одно на небе, и другое на земле» (166). Несмотря на свидетельства о бичевании, Иуда Горна остается верным заблуждению, что «То была не кровь! Не кровь ты видел — и не будет Христос распят» (168-169). Когда становится ясно, что Иисус не возвысится при жизни до того, чтобы стать Царем мира, Иуда приказывает «чудовищному Аду» «быть другом» и «поглотить его — с глаз неба» (174). Даже когда он решает умереть, Иуда подтверждает: «Я никогда не желал Ему смерти — / И не верил в нее — Я не мечтал ни о чем / Кроме преходящей славы власти» (189). Иуда в интерпретации Куинси Драмы Страстей Господних всегда любил Иисуса, но ошибочно полагал, что его Бог не может быть убит, а вместо того будет царствовать.
Драматический монолог «Иуда Искариот» (1897) Фредерика Уильяма Орда Уорда также читается, как толкование Евангелий в духе де Куинси. Когда Иуда действует, он пытается подвигнуть нерешительного Иисуса безотлагательно взяться за меч и освободить Иудею: «И вот — предатель я, хотя желал / помочь Тому, кому я доверял… Его подвигнуть нас освободить» (143—147). Иуда берет на себя роль предателя, чтобы создать условия для апокалипсического противостояния, в результате которого Иисуса бы стал царствовать, признанный Владыкой в бренном мире. Подобно Иудам де Куинси и Горна, Иуда Уорда представляет себя патриотом-повстанцем: «Для них я вор, но родину любя / Я ей и Богу посвятил себя» (179-180). Ни измена, ни своекорыстная выгода не были побудительными мотивами Иуды — «Себе не мыслил я служить» (187) — им двигал антиимпериалистический, повстанческий пыл:
Ни выгода, ни вероломная жадность
Не подтолкнут меня однажды на смелое дело
Настолько серьезно и вовсе без горечи;
Я думал, что армии Всемогущего Бога, иерархии Небес и
Космоса
Получат приказ, и бесчисленные войска Херувимов и
Серафимов
Падут на города, и в своем превосходстве
Завладеют храмами и крепостями и изгонят тиранов
Одним всепоглощающим ударом. (11. 195-204)
В заключительной сцене «Иуды Искариота», преданный и любящий персонаж Уорда видит Иисуса умирающим на кресте, читает в Его глазах свое прощение и все же восклицает: «Я без Христа теперь не проживу, / К нему я на свиданье поспешу» (11. 261-262). Моряк, умирающий без капитана, верный вассал, следующий за своим поверженным королем, Иуда приветствует смерть, как путь к воссоединению со своим любимым господином. И самоубийство в такой интерпретации знаменует собой исполнение присяги на верность.
Если история Иуды была придумана не людьми, которых Немеров называет «победителями», то есть христианами, а была измышлена, скажем, римлянами, мы бы совершенно иначе воспринимали этот образ. Так, во всяком случае, полагает Уильям Ветмор Стори. Его пространная поэма «Римский законнике Иерусалиме: первый век» (1870 г.) обобщает традиции, отстаивающие пророческого, храброго Иуду, единственного из всех апостолов, который
не предал Иисуса, но остался верным его служению.
[257] Пришедшим в сад арестовать Иисуса воинам преисполненный мечтаний Иуда объясняет, что он надеется открыть «врата славы его Владыки» (80). Однако сразу вслед за тем он избавляется от заблуждений и испытывает такой сильный шок, что в конвульсиях падает на землю и продолжает лежать на ней, подергиваясь в судорогах и противясь тому, что увидели его глаза:
«Вы не могли Его схватить — Он Бог и Царь!
Мне все это привиделось. Я знаю:
То невозможно — Ведь Он Бог и Господарь!
Вы живы. Значит, вас Он пощадил. Увы…
Где я? Случилось что здесь? Туча грозовая
Меня накрыла, лишь руками Его коснулись вы». (21)
Удар, случающийся с Иудой, как только воины хватают Иисуса, подчеркивает их близость — близость двойников. Подавленный и раздавленный, Иуда остается верным и преданным, несмотря на ужасающее крушение его надежд, и потому его вскоре находят повесившимся на кедровом дереве. Иуда, подогреваемый бескорыстными мечтами о земном апофеозе своего Владыки, довольно просто превращается в трагического героя: «опрометчивого, если хотите, но благородного» (29). Иуда воплощает самого пылкого, самого идеалистического и самого преданного, а может, даже и самого ранимого из всех верующих.
[258]
Когда доблестный повстанец Иуда изображается энергичным помощником колеблющегося Иисуса, центральная пара в Драме Страстей Господних побуждает мастеров слова к размышлению над противоречивыми определениями мессианского царства: царство Иуды политическое и достижимо в апостольские времена, царство Иисуса духовное и соотносится с будущим. Изображая помыслы Иуды, как хорошо обдуманные, но, по иронии сюжетной фабулы, нарушенные предопределенными событиями, де Куинси, Горн, Уорд и Стори придают ему облик других романтических героев — честолюбивых мечтателей-бунтарей типа Прометея, Манфреда, Каина и Фауста. И как бы не заблуждались эти мифические прототипы, они заряжены онтологической энергией, которая наделяет их нереальной, сверхчеловеческой энергией. Действительно, поэма Уорда заканчивается объяснением, что удел Ореста был счастливей Иудиного, поскольку «фурии были ублажены», тогда как «Иуда мук не снес и принял смерть,/оставшись не прощен, судим и грешен» (31). Искренний в своей преданности Иисусу, пламенный Иуда уверен, что действует ради и во благо Иисуса, но его имя несет на себе «печать бесчестья (позора),/проклятие грядущих поколений» (31).
Несмотря на то что два главных действующих лица — противники, при такой трактовке Драмы Страстей проявляют противоположные темпераменты, они составляют единое целое: Иуда, алчущее подсознание, и Иисус, победа над супер-эго, Иуда, эмоциональность, и Иисус, духовная самоуглубленность, Иуда, самоуверенное своенравие, и Иисус, бесстрашие и самообладание. Таким образом, Иуда и Иисус формируют единый, сложный и противоречивый характер, что объясняет, почему смерть одного из них неизбежно влечет за собой смерть другого. И потому — как поясняет в Евангелии от Иоанна Иисус одиннадцати ученикам после того, как Иуда уходит с вечери, «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (15:13) — во всех этих текстах самоубийство Иуды свидетельствует о том, что он больше всех любит Иисуса. И все же, оттого что Иисус и Иуда являются зеркальными отображениями друг друга, их характеристики могли быть перевернуты. Особенно в XX в., когда современные авторы приносили свое искусство на алтарь иконоборчества или ереси, два персонажа Драмы Страстей Господних могли менялись ролями. И тогда Иуда олицетворял сострадание к миру и преданность духовному царству, которое прежде ассоциировалось с Иисусом, а Иисус воплощал агрессию и приверженность царству политическому, прежде отождествляемому с Иудой. И миролюбивого Иисуса, подставляющего другую щеку, и апокалиптического Иисуса, призывающего детей восстать против родителей, можно найти в Евангелиях.
В отличие от де Куинси, Робинсон Джефферс изображает миролюбивого Иуду и воинственного мятежника Иисуса в своей стихотворной драме, которая продолжает оправдывать справедливость действий Иуды, равно как и чистоту его помыслов. В его пьесе «Дорогой Иуда» (1928— 1929 гг.), вызвавшей шквал протестов со стороны католической церкви, Иуда справедливо отвергает высокомерный и самоубийственный тезис «не мир, но меч» (24). В рамках мечтательной пьесы в стиле «Но», отчуждение Иуды от Иисуса проистекает из его исключительной чувствительности к страданию.
[259] Остро чувствующий боль других, настойчивый Иуда спорит со своим учителем, используя слова, созвучные тем, какими оперирует изображенный в традиционном духе Иисус: «Было бы спасением, — объясняет Иуда Джефферса, — думать, что я смог бы с готовностью снести страдание, если бы такое было возможно, за всех, кто живет, я один» (17). Он остается преданным Иисусу, который первоначально призывает к «бескровной» победе народа, восстающего против римского гнета; однако очень скоро Иуду начинает одолевать беспокойство, что как бы служение Иисуса не привело к «внезапному кровавому разрушению» (20). Как Иуда де Куинси, Иисус Джефферса упрям, своеволен и склонен к самообману.
С точки зрения Иуды, согласно Джефферсу, Иисус проповедует в Храме лишь одно: «Я разрушаю, Я разрушаю» (22). То, что Иисус восхвалил женщину, окропившую «Его волосы и одежды» драгоценным нардом, стоимости которого хватило бы, чтобы «спасти многих от нищеты», убеждает Иуду, что Иисус «и вправду изменился», тогда как нарастающее неистовство риторики Иисуса отражает не только его эгоизм, но и использование им «страшного ключа» к людским сердцам: Он проповедует разрушение, которого они страстно желают (23). Высокомерие этого анархического Иисуса, называющего Себя «Богом» (24), Его презрение к черствым священникам, лживым книжникам и насмехающейся толпе понуждают преисполненного благоговения Иуду остерегаться того, что он предвидит, а именно смерти Иисуса и крушения его мечты: «Если Иисус останется в Иерусалиме, проповедуя разрушение, волнуя уличную чернь, — беспокоится Иуда, — «Отмщение римлян» выльется в «подавление» (27). Опасающийся, что репрессии имперских властей только приумножат страдания его народа, Иуда решает пойти к первосвященникам и советует им ночью, без огласки, пленить Иисуса. Потому что он искренне полагает: «Какой вред могут учинить они Ему, кроме того, что продержат под стражей / Три-четыре дня спокойствия в городе, и они отпустят Его?» (27—28). Дав Иисусу «остыть», священники исцелят Его от разрушительных амбиций, помогут Ему обрести изначальное смирение. «И Он простит меня, — думает Иуда, — Он позволит мне следовать за Ним, и мы пойдем дальше вместе» (28). Иудой руководит желание спасти Иисуса от чрезмерной и опасной гордыни, которая грозит разрушить Его и его последователей.
И все же Джефферс усложняет свою нетрадиционную интерпретацию Драмы Страстей Господних, сея сомнения относительно происхождения Иисуса, оставляя читателя в неведении, был ли Иисус Сыном Бога или смертного человека.
[260] Последствия подобной неопределенности разные. С одной стороны, Мария уподобляется Иуде: «Не согреши я, — говорит она, — Иисус бы не родился, и не солги я, Он бы не восторжествовал бы» (39). В конце пьесы она добавляет: «Я не проклинаю тебя, Иуда, Я проклинаю себя. Я первая предала Его. Мы, матери, случается, так поступаем» (47). С другой стороны, Сам Иисус терзается вопросом: «Байстрюк ли Я иль Божий Сын?» (30). Чтобы развеять свои тревоги, Он отдается истовому служению Богу, как Своему Отцу, осознавая, что «лишь распяв/Бог может наполнить волчье нутро Рима», и только тогда «крест победит» (37). В самом конце пьесы Лазарь называет Иуду «орудием» Иисуса и заверяет, что его «имя будет повенчано» с именем Христа «на многие века». «Ты в царствие вступишь Его вместе с Ним», — обещает он Иуде (48). Учитывая его сочувствие ко всем страждущим, Иуда Джефферса воплощает собой то милосердие, сострадание, которое обычно приписывают Иисусу, в то время как Иисус Джефферса, с его противоречивым отношением к Богу, Который может быть, а может и не быть Его Отцом, олицетворяет гнев и поколебленную веру, обычно приписываемые Иуде.
Из авторов, пытающихся следовать более традиционному толкованию Драмы Страстей, стоит упомянуть Дороти Ли Сэйерс, которая также представляет Иуду радеющим о мире и потому опасающимся за Иисуса, несущего меч мщения. В ее «Человеке, рожденном на царство», цикле радио-пьес, заказанном и поставленном ВВС (1943 г.), миролюбивый Иуда следует за Иисусом, потому что «возложил Он на нас бремя печали и глумленья, муки и позора, нищеты и покоя» (134) (здесь и далее цитируется по переводу Н.Л. Трауберг. —
Примеч. пер.), а также потому, что «Он — Мессия, но не земного, а небесного Царства» (167). Вскоре, однако, он начинает подозревать, что Сын Божий с зелотами замыслил политический переворот, мятеж, который может обернуться жестокими репрессиями мстительного Рима, несущими погибель Израилю. И тогда Иуда Сэйерс начинает сомневаться в честности Иисуса: «Учитель, честен ли Ты? А вдруг Ты говоришь одно, а делаешь другое?» (189). В примечаниях к четвертой пьесе из цикла Сэйерс оговаривает, что Иуда «страстно, пылко искренен. Мало того, он видит истинный свет, но не прямо, а в зеркале своего разума», но в конечном итоге зеркало искривится и затуманит его разум, и потому «он мог бы стать самым великим в Божьем Царстве, а стал самым плохим — cormptio optimo passima [лучшее убивает хорошее]» (101). В конце концов «у Иуды есть разум и воображение» (254), и он начинает постигать, что его заговор, повлекший смерть Иисуса, был ошибкой. Намек на то, что он любит Иисуса, также содержится в комментариях Сэйерс, где она сравнивает Иуду не с лживым изменником Яго, а с легковерным любовником Отелло — «Как Отелло, он может поверить в невинность, только убив ее!» — предполагая, во-первых, что Иуда в конечном итоге поверил в невинность Иисуса, и, во-вторых, что Иуда страдает искренне, «как ревнивый муж, чьи подозрения только укрепляются, если жена убеждает его, что невиновна», и обожает человека, подозрениями к которому он терзается (175).
[261]
При всем различии их взглядов, писатели, представляющие Иуду как политического повстанца, и те, кто изображает Иуду одухотворенным миролюбцем, сходятся во мнении об ужасных потерях, которые он претерпел при жизни и после смерти, противопоставляя их триумфу мессианского воскресения Иисуса, а нередко и злодейству убийц Христа, иудейских правителей. Знак поцелуя в саду исходит не от демона или одержимого демоном, не от самотождественного иудея, не от вора или алчного пособника храмовых заговорщиков, а от близкого ученика, стремящегося всего лишь уберечь Иисуса или Его учение, любящего товарища, старающегося подвигнуть Иисуса провозгласить Себя Богом грядущего царства или защитить Его от опасностей, которыми чревато такое заявление. Все подобные Иуды, как и другие, менее подходящие, предаются утопическим мыслям, которыми делится рассказчик в «Дневнике Иуды Искариота» (1912 г.) Грегори Э. Пейджа: «Хоть я и сделал то, что мнится злом, зло это все же обернется благом; и люди меня благословят за то, что я был смел и не боялся, но шел вперед отважно и совершил его» (196). Герой-повстанец Иуда расценивает свое предательство как пособничество ради Самого Иисуса и потому нравственно благотворным, морально справедливым поступком.
[262]
Наряду с главным героем пьесы Гарри Кемпа «Иуда» (1913 г.) большинство образов двенадцатого апостола XIX — начала XX вв. выражают героические устремления, по иронии подточенные тем, что должно быть результатом: «Чего бы я не сделал/На что бы не отважился я/во славу Царства Божьего? Я мог бы бросить душу на весы ради него. А когда со всем будет покончено, грядущие века прославят меня за веру — мое имя будет жить во всех поколениях людей! Меня будут считать Правой Рукой Мессии — более важной, чем Петр, чем Иоанн, потому что я отважился!» (182)
* * *
Точно так же в «Евангелии Иуды Искариота» (1902 г.) Аарона Дуайта Болдуина двенадцатый апостол считает свою трудную задачу «делом и частью Божьего плана; средством для исполнения великого замысла Бога» (363). Иуда в этом повествовании знает, кем он приходится Иисусу: «Я, без сомненья, — его близкий друг» (365). На обвинения, которые ему предъявляют Петр и Иоанн, Иуда возражает, что Иисус избрал его, сделав одним из двенадцати, доверил ему деньги для нищих, наделил его способностью исцелять немощных и изгонять бесов, удостоил даров плоти и крови и омыл его ноги. Подобные знаки доверия на глазах у всех скрепляются, когда Иуда видит воскресшего Иисуса, обещающего их воссоединение.
Во время «самого антисемитского периода в американской истории» (Herman, 13), немой фильм Сесиля Де Милля «Царь царей» явил зрителю Иуду, получающего причитающиеся ему деньги от фарисеев, но затем, на Тайной Вечере, испытывающего отчаяние и боль, страдающим из-за своего неверия в то, что Иисусу удастся установить на земле свое царство. Убийство Бога, подстроенное Каиафой (в роли которого снялся еврейский актер Рудольф Шилдкраут), подогревает ненависть иудеев, поскольку он являет безнравственные и приписываемые семитам черты, чем Иуда (роль которого исполняет его сын, молодой и привлекательный Джозеф Шилдкраут, сыгравший позднее Отто Франка в киноверсии «Дневник Анны Франк»).
[263] Постоянно погруженный в мрачные раздумья Иуда Джозефа Шилдкраута сильно похож на харизматическую кинозвезду. Кинематографические повторы кадров агонии Иисуса и Иуды — Иуда вешается на той же веревке, которой был связан Иисус — подчеркивают их общность, равно как и истовое соучастие Иуды в судьбе Иисуса.
[264] К началу XX в. гламурный Иуда стал в моде. А с чего бы еще Сара Бернар стала учить главную роль в «Иуде» Джона де Кея, которую она сыграла в Нью-Йорке в 1910 г.?
[265] Иуда де Кея, решившего «дать миру вместо римской проповеди силы наше лучшее Евангелие доброты», и думать не думает о деньгах, а указывает на Иисуса только потому, что сильно любит Его и Марию Магдалину и к тому же полагает, что «никакого вреда не будет Назарею» (10, 25).
«Горе тому человеку»
Невзирая на доблестные намерения двенадцатого апостола, героический Иуда часто претерпевает сначала страшный крах своих ожиданий, затем смерть без прощения, а в конечном итоге — проклятия и поношение последующих поколений. Что бы мог означать такой удел для альтруистического (хоть и заблуждающегося) Иуды, стремящегося служить своему учителю и цели своего учителя? Столь же важно и то, что бы это значило, если бы Иуда стал повстанцем без цели — апокалипсиса или мироустроения? Говард Немеров, задающийся вопросом, а не предал ли Иуда «из ясного осознания своей правды», не исключает иной возможности: возможно, размышляет Немеров, измена проистекала из «некоего первоначального крушения нашей надежды». Если спасение человечества зависит от проклятия одного человека, это явно говорит о разрушенных надеждах этой единственной души. Образ, который я назвала «Иудой Незаметным», отражает осторожное опасение по поводу несправедливости, пристрастности, просматривающейся в повествовании о Драме Страстей Господних. Ведь наиболее точно выраженная воля Божья становится и одним из самых четко выраженных проклятий Божьих. «Горе Тому человеку» — эта фраза, встречающаяся в Евангелиях от Марка (14:21), Матфея (26:24) и Луки (22:22), соответствует неудаче Иуды. С одной стороны, эта фраза могла бы быть пророчеством, предупреждением: Иисус мог иметь в виду, говоря это, что «горе тому человеку» свершится в некоем будущем. С другой стороны, она может свидетельствовать об уже свершившемся факте, проклятии: Иисус мог иметь это в виду, выражаясь такими словами, что «горе тому человеку» уже случается. В любом случае полную фразу — «горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы тому человеку не родиться» (Марк 14:21, Матф. 26:24) — произносит Иисус, и слышат все ученики. Для двенадцатого апостола она не могла означать ничего иного, как приговор, лишающий жизни после смерти. После обещания Иисусом всем другим избрания, искупления и спасения, она завещает Иуде горестное преимущество исключительности.
А что если посмотреть и на «Иуду, возвращающего тридцать сребреников» с картины Рембрандта, как на Иуду сокрушенного, осознающего, что нет ему спасения? Под таким углом зрения картина художника освещает эволюцию Иуды в современное нам время — ведь такой Иуда мог бросить сребреники, а затем и убить себя в мучительном акте раскаяния, которым он (Иуда это осознает), увы, не заслужит прощения. Его раскаяние — раскаяние отвергнутого — отвергается. Обратите внимание на тень, что заполняет нижний левый угол полотна Рембрандта. Подобно тому, как сидящий в центре священник отворачивает свое лицо и поднимает руку, выказывая нерасположение к Иуде, сидящий на заднем плане старейшина поворачивается спиной к зрителю, заслоняя свет и — тем самым — отгораживаясь от того темного мира, которому принадлежит Иуда, как, впрочем, и мы. В результате зрители не разделяют общего отвращения к Иуде, а оказываются, как и он, изолированы. Иными словами, его крах означает нечто совершенно иное, если оценивать его не с точки зрения общества, как во многих изображениях до нового времени, а, напротив, с позиции сломленного, сокрушенного Иуды. К концу XIX в., когда нравственные и философские воззрения возобладали над религиозными или политическими подходами к Евангелиям, романисты и драматурги испытали затруднительное положение в связи с «горем» Иуды и его причиной.
Повинен ли в несчастном уделе Иуды диктат евангельского сюжета или виной всему его предательская натура? Если сюжет нуждается в предателе, Иуда страдает в ловушке предопределенности: чтобы обеспечить победу добра, он должен совершить зло, расплатой за которое станет вечное проклятие. Если причиной — его вероломный нрав, он все равно может страдать в ловушке предопределенности: принудительный психический импульс всецело завладевает им, обрекая на посмертное проклятие. Здесь, подробно останавливаясь на проблеме предопределения, мыслители вступают в сферу, в которой и природа, и человеческая натура предают доверяющее сердце. Действия Иуды, возможно, проистекали или влекли за собой противоречие — сильное изменение во вселенной, в которой искупление грехов и избавление от страданий всех людей требует его проклятия. Представляемый как инакомыслящий без какого-либо волевого посыла Иуда изображался несчастной жертвой жестокой экономики, которая ставит благополучие человечества в зависимость от несправедливости к нему, либо же он изображался как невротический несчастный тип, совершенно необъяснимо, но ожесточенно отвергающий милосердие. В Новое время демоническая одержимость Иуды, Луки и Иоанна превращается в роковую внешнюю или внутреннюю силу, которая располагает двенадцатого апостола к вероломству или принуждает его к предательству.
Некоторые художники пространно рассуждают на тему того, о чем, возможно, размышлял горемычный Иуда в короткий отрезок его жизни в Евангелии от Матфея — ночью в четверг после поцелуя и утром в пятницу, когда он видит Иисуса, обвиняемого священниками и старейшинами, возвращает монеты и решает покончить жизнь самоубийством.
Какими бы причинами — внешними или внутренними — не объяснялась его дилемма, во главу угла по прошествии Викторианской эпохи становится изоляция терзаемого муками Иуды. Когда он навлекает на себя внешнюю ненависть, это ничтожное создание побуждает некоторых современных писателей сомневаться в предусмотрительности или силе божественной милости. Иуда с его неуверенным исправлением, снедаемый внутренними терзаниями, становится страдающей душой, которая — принимая близко к сердцу суровое суждение Иисуса — пропускает через себя вердикт/впитывает, усваивает/«лучше бы было… не рождаться» (Марк 14:21, Матф. 26:24). Когда ненависть вливается обратно в ненавидящего самого себя, глубокая печаль от необходимости примириться с ошибочной жизнью оскорбила или отрекается, Иуда Незаметный испытывает дисфорию, депрессию, отчаяние от безнадежности, которое терзает и паству Святого Иуды, «Иуды не Искариота». Сокрушаемый неисцелимой болью, Иуда в своем состоянии «лишенного милости» предчувствует то или того, что есть анафема — то или того, кто покинут или отвергнут.
[266]
В необычном напевном стихотворении «Гандикап» («Помеха») (1966 г.) Энтони Хехт искусно выстраивает генеалогию, связывающую Иуду Искариота со Св. Иудой. Не рассеченная, как копыто у дьявола, нога, а искалеченное, рассеченное нёбо и озабоченный, нерешительный или незрелый, как у юнца, голос — вот что характеризует двенадцатого апостола Хехта:
«Суетливый
Иуда Искариот,
С рассеченным нёбом
И невнятным голосом,
Бормочущий и шепелявящий, был
Гипокористически
Известен своим друзьям, как
«Иуда, Непонятный».
Образованное от греческих слов «hypo» и «koristikos», слово «гипокористически» означает «называемый уменьшительно-ласкательными именами», хотя звучат почти совсем как «гипокритический» или «ипохондрический». Нечасто называемому ласкательными или выражающими нежность словами, близко знакомому Иуде мешают дефекты речи, вызванные физическими изъянами, и рамки, в которые его облекает двусмысленный дактильный стих (из-за двусмысленных дактилей его полного имени).
[267] По версии Хехта, испытывающего затруднения в речевом контакте Иуду следует считать реинкарнацией Иуды Фаддея, двоюродного брата Иисуса, который стал святым покровителем отчаявшихся, и Джуда Незаметного, героя последнего романа Томаса Харди.
[268]
Хехт связывает Иуду Искариота с Иудой Фаддеем с тем, чтобы обсуждать, кто имеет больше оснований, чем Иуда, считать себя отчаявшимся. Впутанный в сюжет, противоречащий его благополучию, Иуда — не подшучивает ли он над всеобщим благом, которое нельзя определять его собственными личными заблуждениями? И разве не было у него повода усомниться в великодушии такого блага? Какой бы притянутой не казалась попытка связать библейского Иуду и Джуда Фаули, главного героя романа Томаса Харди «Джуд Незаметный» (1895 г.), но Энтони Хехт настойчиво побуждает нас к этому, по-видимому, потому что Харди исследует отчаяние — отчаяние, которое охватывает человека, когда ожидание милости тянется, а милосердие задерживается непреодолимыми силами, что правят полным недостатков миром, лишенным своего личного или благожелательного Бога. «Джуд Незаметный» — единственное сочинение из всех обсуждаемых в этой книге, которое не содержит пространного толкования двенадцатого апостола или Драмы Страстей Господних. Я включаю его в канву своего повествования, потому что в романе Харди мы можем разглядеть логику, которая связывает Иуду Искариота не только с Иудой, Святым покровителем безнадежных дел, помогающим в безвыходных и запутанных ситуациях, но также и со страждущим праведником Иовом, который не ненавидел жизнь, невыносимую из-за капризного спора Бога со Своим врагом, сатаной. Интуитивное проникновение Харди в туманное сходство Иуды Искариота, Святого Иуды и Иова являет ракурс, который, как мы увидим, освещает ряд значимых по своему воздействию картин и стихотворений на тему Иуды и Драмы Страстей Господних.
В «Джуде Незаметном» силы, контролирующие мир Харди, периодически разрушают благополучие его жестоко преданного и предающего самого себя прототипа, чей сын, маленький Джуд, убивает себя и двух других детей в их семье, повергая отца, становящегося свидетелем преступного деяния, в шок: «За дверью были два крюка для того, чтобы вешать одежду, и от них тянулись веревки, обвитые вокруг шеи самых младших детей, они висели в нескольких ярдах от маленького Джуда, который повесился на гвозде. Около старшего мальчика лежал опрокинутый стул, его остекленевшие глаза смотрели в комнату; но глаза мальчика и девочки были закрыты» (404—405).
И убийство невинных, и смерть через повешение соотносят маленького Джуда с Иудой. Джуд Фарли понимает последовательность этого убийства своих детей, как «начало всеобщего нежелания жить» (406). Как в случае с веревкой, на которой вешается средневековый Иуда, веревки, обвитые вокруг шей двух детей, вызывают ассоциацию с пуповиной, удушающей плод. В период времени, ассоциируемый с провозглашением Ницше «смерти Бога», самоубийство и детоубийство, особенно убийство новорожденных, выражают тщетность безнадежных и доведенных до отчаяния случаев, обычно приписываемых зловредным жребиям, портящих мир Харди.
[269] Герои Харди страшно разочарованы миром материальной выгоды, безумия и зла, которые чинят препятствия любой духовной вере.
В сюжете Харди религиозные обряды и духовные порывы лишь причиняют боль человечеству, как причинила боль Иуде Драма Страстей Христовых в большинстве редакций. Так, мрачная эпитафия романа поддерживает допущения, что библейское «слово убивает». Конечно, учитывая критику Харди разрушавшихся социальных институтов, «Джуда Незаметного» не следует сводить только к трактовке Драмы Страстей Господних.
[270] И все же, в центре его повествования — изгой, у которого нет друзей и приятелей в Кристминстере, который он ассоциирует с небесным Иерусалимом. Когда главный герой Харди впервые слышит о существовании маленького Джуда и затем снова в конце своей жизни, Джуд Фаули повторяет горестное стенание Иова: «Погибни день, в который я родился» (330,488). Эти слова вторят последнему желанию маленького Джуда, что лучше бы он не рождался, а также страшному предостережению Иисуса о том, что «лучше было бы тому человеку не родиться» (Марк 14:21, Матф. 26:24). Подобно тому как Иуда Матфея терзался муками прежде, чем решил повеситься, так и Джуд Фаули и маленький Джуд беспокоятся, как тревожился и Иов, «Почему в жизни так легко дается лишь страдание и тяжесть и горечь в душе?» (488)
Отец и сын достигают пафоса печали, поскольку согрешившие против грешников никогда не будут вознаграждены за их страдания, как был вознагражден в конце концов Иов. Стенание Иова- «душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих./Опротивела мне жизнь» (7:15-16) — могло бы объяснить и помочь тем самым интерпретировать более ранние изображения Иудиного акта саморазрушения, в частности, одну из сцен цикла Вильяма Ван Шваненбурга.
[271]
Подобно тому как Иуда мог осознавать, что спасительное воскрешение Иисусом человечества могло гарантированно случиться только в результате его собственного проклятия, юный Джуд Фаули приходит к выводу, что «милость к одним созданиям может быть бессердечием к другим» (15). И точно так же смертельно бледный и похожий на привидение маленький Джуд — воплощение всего плохого — действует, руководствуясь постулатом о том, что жестокость по отношению к одним творениям означает милость по отношению к другим: он убивает себя и младших детей, чтобы избавить своих приемных родителей, отца и мать, от нужды. Антипровиденциальная сила, которая карает всех героев романа Харди, доказывает, что человеческое существование неизбежно сводится к предательству, из-за чего маленький Джуд и получает гипокористическое прозвище «Старичок». «Порабощенное и умаленное Божество», мальчике лицом восьмидесятилетнего старика предстает яркой аллегорией бренности, временности, всего сущего — разрушающей и саморазрушительной (232).
[272] Направленные против давлеющей враждебности сил, управляющих миром, разрушительные действия Отца Времени можно было бы интерпретировать, как ответные военные действия атакуемой стороны. Маленький Джуд не может победить или нанести ответный удар непреодолимым, значительно превосходящим его силам (незаконнорожденность, физические недостатки, бедность, неприятие обществом), но он может по меньшей мере положить конец этой борьбе, выйдя из нее.
[273] Не освобождение от грехов или воскресение, но бедствие определяет продолжительность жизни каждого индивидуума и каждой эпохи: в этом смысле роман Харди отмечен знаком Иуды, осужденного выстрадать весь ужас той роли, что отведена ему в Драме Страстей Господних. Предопределенное, счастливое возвышение Иисуса зависит от сопряженного с несчастьями падения Иуды, обрекающего его на страдания. Когда несчастный Иуда, как и страждущий Иов, испытывает недоступность и непостижимость Бога, он настойчиво утверждает — как то делал и Иов — бессмысленность своих физических и душевных страданий.
[274]
Вину за измену Харди возлагает на звезды или
злой жребий, управляющие человеческой судьбой. Категорически не согласный с подобным предположением, Уильям Батлер Йейтс подошел к главному предмету спора Драмы, утверждая, что причина вероломства кроется не в звездах, а в нас самих, упрямых субъективных силах, что правят человеческой психикой. Если Джуд и маленький Джуд у Харди действуют с благими намерениями, ужасно искореженными под воздействием подрывающей веру цепи событий, что превращает их в предателей, изменник Йейтса действует, движимый противоречивыми импульсами внутри него самого. В романе Харди человеческий протест поднимается против того, что воспринимается как испорченный, немилосердный мир, тогда как в короткой и сильно стилизованной пьесе Йейтса «Голгофа» (1920 г.) Иуда выражает добровольное неприятие милосердия. Но чем бы не объяснялось «изначальное крушение наших надежд» — действием сил внешних или внутренних, — Иуда Незаметный символизирует огромную пропасть между человечеством и Богом: безразличие божественного к человеческому благоденствию или необъяснимую, но непримиримую враждебность по отношению к божественному. Этот-то последний и трудный вопрос и исследуется Йейтсом, воображение которого занимает тема объективного одиночества Христа.
В «Голгофе» Йейтса Драма Страстей Господних разыгрывается с участием Христа, Лазаря, Иуды и трех римских солдат; и все они — в масках, как в драме «Но». Иуда в ней, как и Лазарь, и воины, воплощает народ, влачащий жизнь, крайне далекую от духовных устремлений Сына Божьего. Действительно, все три встречи подтверждают упрямую непокорность или безразличие человечества к провиденциальному замыслу Бога и, соответственно, к попытке Иисуса спасти мир, искупив его грехи. К примеру, Лазарь, который говорит о себе «Я есмь тот, кто умер, но воскрешен» (289) (здесь и далее — перевод С. Минакова. —
Прим. пер.), упрекает Иисуса за то, что Тот его «извлек на Божий свет»: «Так — кроликов из тайных нор мальцы,/несчастных, вырывают» (290). Христос заявляет, что Он победил смерть, но Лазарь чувствует себя не более чем жертвой чужой воли: «Я знал свободу лишь четыре дня» и продолжает желать смерти, но не «может обрести себе могилы, хоть обыскал все бездны» (291). Отчуждается от Иисуса и Иуда; не сомневаясь во Христе, он именно потому и выдает Его, что сознает Его силу и власть: «Я предал, потому что всемогущим Ты показался мне» (291). Доведенный до «исступления» мыслью о том, что все люди находятся во власти Христа, Иуда не может и не хочет смириться с тем, что и он, «словно пес,/Послушный посвисту хозяйскому, …должен/Был исполнять веления» Его (291).
Не желающий быть обращенным в подобие Бога, Иуда воспринимает мессианскую роль Иисуса как форму порабощения или внушения идеи. Иуда, упрямо цепляющийся за свою собственную индивидуальность, противится тому, чтобы им завладел Бог. Покоряясь логике повествования, в котором он должен фигурировать, Иуда отстаивает свое право на свой собственный путь, на свои собственные взгляды. Возражая Христу на то, что «измена Господу была/Предопределена еще в тот час,/Когда зачат, задуман был сей мир», Иуда говорит:
«Мне бы стоило об этом поразмыслить,
Не исполняя воли самому.
Я есмь Иуда — смертный, что рожден
В деревне — от родителей своих —
Не для того, чтоб в рубище пойти
К первосвященнику, злорадно усмехаясь,
И тридцать пересчитывать монет —
Не больше и не меньше, поцелуй
Твоей отдав щеке. И это сделал я,
Иуда, а не кто иной. Теперь
И Ты, Христос, спасти меня не в силах!» (292)
Эллиптическая пьеса Йейтса только намекает на то, что кто-то остается равнодушным к Страстям Христовым. Недаром в ней участвуют три римских воина. В чем смысл подобного безразличия или нежелания воскреснуть, родиться вновь?
В начале пьесы Йейтса трижды повторяется рефрен: «Бог не распят — для белой цапли». В конце пьесы рефрен звучит по-иному: «Господь не явлен — для пернатых».
[275] Некоторые люди, ища свободы птиц, как символов субъективной жизни, существ, не служащих ни Богу, ни кесарю, не сомневаются во власти Христа, и тем не менее противятся ей. В самом деле, когда Иуда размышлял о предательстве, «только цапля,/И кроме — ни одной живой души,/Стояла возле, столь погружена/В саму себя, что сделалось мне страшно» (292). Иуда решает не следовать за Иисусом; вместо того он выбирает субъективное одиночество, свое собственное отдельное бытие. Под таким углом зрения Иуда Йейтса олицетворяет собой человечество, наше неизбежное и облеченное в материальную форму отчуждение от духовного совершенства, которое могло бы нивелировать наши уникальные или эксцентричные субъективные характеры. Таким образом, Йейтс освещает поставленный Кьеркегором диагноз отчаяния, названный им «болезнью к смерти» и определенный, как невозможность «желать быть тем, чем ты на самом деле являешься — открытый вызов» (98), неповиновение: под давлением этого вызова он «сам хочет в отчаянии насладиться в полной мере постижением себя, развитием в себе того, что возможно, своей самостью». (101). Неспасшийся, Иуда в пьесе Йейтса тем не менее упорствует в желании сохранить сознание своего ненарушенного бытия и обретения таким образом свободы цапли. Он действует, движимый допущением того, что «тот освободится от плена, ига», кто предаст Христа (292) — освободится, то есть останется самим собой, тем, кого спасти нельзя.
Чтобы разрешить загадку Иуды, как воплощения духовной непокорности, теолог Карл Барт в каком-то смысле считал отношения между Иисусом и Иудой «преувеличенной формой ситуации между Иисусом и
всеми другими людьми — между избранием Богом человека и его необходимого отказа» (476, выделено автором). Барт здесь сосредоточивает внимание не на Иуде и иудеях, а, наоборот, на смущающей загадке человеческой жизни, а именно «враждебности [каждого] человека по отношению к Богу», в своем непослушании.
Ему, принудительной враждебности к тому, что «совершенно непоколебимо» (477). Поскольку враждебность Иуды «доказывает» безграничную любовь Иисуса, «не стоило бы утверждать безоговорочно, что нет прощения грехам Иуды» или что Иисус «умер напрасно, тщетно» (475). Кьеркегор и Барт подходят к проблеме человеческого протеста и отчаяния в ракурсе теологии. Конечно, предпринимались и попытки дать ей психологическую интерпретацию — художниками, стремившимися постичь чувство принуждения и стыда, сопровождающие неправедные деяния и вину.
«Голгофа» оставляет мотивы Иуды туманными. После того как Иисус Йейтса объясняет, что Его «Отец все судьбы вверил воле рук» Его, Иуда отвечает: «Всего лишь помысел об этом
доводит меня до исступленья» (291, выделено автором). И этот ответ поднимает вопросы о его здравомыслии, психическом здоровье. И, правда, разве Иуда, воображающий, как он идет к первосвященнику, «злорадно усмехаясь», как то обычно делают люди, лишь когда их никто не видит, — разве не напоминает такой Иуда сумасшедших безумцев из рассказов Эдгара Алана По и более всего — душевнобольного заключенного, от лица которого ведется повествование в «Бесе противоречия» (1845).
[276] Этот убийца считает противоречивость, или упрямство, изначальным, врожденным двигателем человеческих действий. Парадоксальное нечто — «побудительная причина без мотива», или «мотив, не мотивированный» — именно непобедимая сила упорствующего противоречия, сознание вреда или ошибочности того или иного действия, по мнению сидящего в тюрьме рассказчика По, вынуждает нас совершать вредные или ошибочные — вербальные или психические — действия, противоречащие нашим интересам. «Мы поступаем так именно потому, что так поступать не должны» (пер. В. Рогова. —
Прим. пер.), и проистекает «наше стремление упорствовать в поступках именно от сознания того, что мы в них упорствовать
не должны» (1221). Воспринимаемый как воплощение «беса противоречия» Иуда Йейтса — скованный собственным сознанием — действует в манере, противоречащей его собственному стремлению к конечному благосостоянию. Пренебрегая полезной целесообразностью или последствиями своих поступков, он упорно продолжает делать то, что он делает, именно потому, что осознает, что не должен делать того, что он делает.
«Горе» Иуды Незаметного — движимого ли внешними или внутренними мотивами — отражает растерянность человека, оказавшегося в сложной, затруднительной ситуации, непостижимой для его сознания, ситуации, предопределенной Драмой, — избранный учеником, он затем становится одержим злыми силами; называемый вором, он тем не менее распоряжается «денежным ящиком»; одержимый сатаной, он, несмотря на это, несет личную ответственность за свои поступки; ему обещается престол в Царстве Божьем, но вместо того он изобличается, как «сын погибели»; и ему предначертано совершить освободительный акт, который рикошетом бьет по нему самому. Размышляя над упорствующим в совершении зла и ролью Иуды, некоторые новаторские писатели напоминают теологов, беспокоящихся о том, что «роль Иуды в акте искупления умаляет роль Иисуса», и которые рассуждают о неподатливости нравственного зла, «сопротивляющегося любой попытке (даже Бога во Христе) преодолеть его» (Cane, 76).
Лучше бы не рождаться
Как Симона Вейль, Иуда Незаметный символизирует тех, кто олицетворяет себя с бесплодным фиговым деревом: «Я не могу читать историю о бесплодном фиговом дереве без трепета, — однажды поведала Вейль. — Мне думается, что это мой портрет. В нем так же природа была бессильна, и все же оно не было прощено. Христос проклял его» (52). Основанный, как и этот обвиненный и лучше бы не рождавшийся Иуда, на библейских фрагментах, этот единственный пример в Библии, предположительно узаконивающий прерывание беременности, не может быть исключительным плодом воображения модернистских писателей. Всплывая на поверхность в их труде, он дает ключ к гораздо более ранним и более поздним изобразительным и стихотворным произведениям о двенадцатом апостоле, рассуждающим о вызывающей отвращение дисфории отвращения к самому себе. Иуда без мотива или с утраченным мотивом испытывает неприязнь или отвращение к самому себе — жертве сил, неподвластных ему. Для некоторых художников и писателей современности, как, впрочем, и более раннего времени, мотив «лучше бы не рождавшегося Иуды» говорит в пользу его преследования и тем самым высвечивает затуманивание вины или ответственности. Сам преданный, он предает, но разве он мог не предать? Помимо этого, Иуда «лучше бы не рождавшийся» показывает недостаточность категорий, которыми я оперирую, — особенно четкое разграничение между чудовищем и злодеем, — поскольку Иуда Незаметный является чудовищем в силу того, что сам он ощущает, что был
создан стать злодеем. Другими словами, изменение в перспективе представляет изменившееся понимание образа социального изгнанника.
Терзаемый муками Джуд Харди и непокорный Иуда Йейтса таинственным и роковым образом возвращают нас к самым ранним изображениям Тайной Вечери. Один неизвестный художник из древнего Регенсберга, к примеру, разместил всех апостолов и Иисуса с нимбами за дальней стороной стола, тогда как Иуда у него ест в одиночестве на переднем плане. Как и на многих других изображениях, его рот открыт, а над куском хлеба витает черная птица, предзнаменование или символ демонической одержимости, которой он вот-вот заразится (ок. 1030-1040 гг.). Напоминая зрителю о вхождении сатаны в Иуду (Лука 22:3) и наставлении Иисуса «что делаешь, делай скорее» (Иоанн 13:27), спокойные, безмятежные лица Иисуса и одиннадцати учеников намекают на то, что они получают удовлетворение, свидетельствуя грядущее событие, как исполнение предопределенного Божьего промысла. Однако — особенно потому, что Иуда здесь выглядит так, как будто он пытается заставить себя рыгать — что могло бы означать для Иуды то, что он один должен принять в себя зло, чтобы совершить низкий поступок, на которое оно его обрекает? Если безразличные или зловредные всемогущие силы побуждают или принуждают Иуду взять на себя грех, Харди мог бы спросить нас, почему мы тогда возлагаем всю ответственность на него? Если Иуда — необъяснимо и вопреки своим интересам — не может воспрепятствовать необходимости или страстному желанию взять на себя грех, Йейтс спросил бы нас менее убедительно, можем ли мы считать его ответственным за то?
Даже частично антисемитские изображения Иуды могут быть истолкованы с точки зрения заманенного в ловушку или непостижимо чувствующего отвращение и вызывающего отвращение Иуды Незаметного. Примером тому — «Тайная Вечеря» Ганса Гольбейна Младшего (1524—1525 гг.). Со своим крючковатым носом, горбатой спиной, торчащими рыжими волосами, желтым одеянием и сандалиями, — притом что все остальные не носят обуви, следуя заповеди Иисуса, — Иуда Гольбейна выглядит неандертальцем, уродливым безнравственным существом. Низкого роста, с грубыми, крупными чертами и непропорциональными конечностями, он являет собой удачный образчик для изучения кретинизма (гипотироидизма). Одной рукой сжимая лавку, на которой он сидит, а другой свой подбородок, отдаленный от яркого голубого неба снаружи, он вполне мог бы напомнить затаившего злобу искалеченного человека, пришедшегося не к месту, которому не рады на празднике. Подобно маленькому «Старичку» Харди, он напоминает «старость, маскирующуюся под юность», или «порабощенное и умаленное божество» (332). Те, кто не является избранником, не участвуют в обществе и не имеют друзей среди верующих. Напряженный Иуда Гольбейна, поглощенный своими собственными мыслями, страдает от унижения достоинства сморщенного калеки, настолько деформированного, что никто из расслабленных и веселых апостолов не может смотреть на него. Точно также его страдание лишает его свободы смотреть на любого из тех, в обществе кого он находится.
Подобно писавшим Тайную Вечерю художникам, упомянутым в третьей главе, Гольбейн подчеркивает изоляцию, одиночество Иуды, противопоставленного восьми апостолам, поглощенными общением с Учителем или друг с другом. Включение мною его картины в контекст размышлений на тему Иуды Незаметного оправдывается очевидным горем, которое испытывает его Иуда, без каких-либо явных указаний на то, что оно им заслужено (на картине Гольбейна нет кошеля, зубов или демона, нет намеков на самоубийство или съедание Иудой хлеба).
[277] Совсем как покинутый Богом истец из Псалма 21 чувствует себя, как «червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе» (7), злодей Гольбейна, возможно, ощущает то же: «все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей./Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной» (15—16). То, что это горестное стенание мы читаем в псалме, начинающемся со знаменитых слов «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил меня?», намекает на то, что страждущий Иуда Незаметный парадоксально разделяет участь обвиненного в преступлениях, подвергнутого остракизму и в конечном итоге принесенного в жертву Христа.
Не чувствование, но отвращение или безразличие разжигает сильное несчастье, наш страх или ужас неисцелимого. Пригвожденный к кресту самого себя, с точки зрения Кьергарда, Иуда испытывает причиняющее страдания воплощение, которое вызывает страх среди благополучных восьми апостолов Гольбейна, которые мирятся с его присутствием, и все же избегают любого потенциально заразного или оскверняющего контакта.
[278] С прикрытыми глазами, Иисус кажется ушедшим в себя, тогда как другие апостолы заняты друг другом. По крайней мере, для зрителя XXI в. образ Иуды-изгоя качнулся в сторону образа исключительного чудовища отчасти из-за необъяснимого, но резкого контраста между его обликом и обликом всех остальных, отчасти из-за его очевидного подавленного настроения. Более ранние интерпретаторы образа Иуды подчеркивали, что его муки были заслужены и в действительности оправданы: Джон Кальвин, например, считал Иуду прототипом грешников, «привязанных к своим злым, нечистым желаниям, которые гниют в мучении, которого они не могут избежать. Таким образом… Бог мстит за их упрямство» (175).
[279] Если для Кальвина неисправимый Иуда оправдывает отношение Бога к человеку, и в особенности к грешному человеку, соответственно «лишенного милости Божьей» (175), то в эпоху секуляризации неисправимый Иуда страдает от отсутствия надежды на исправление или от нарушения Божьего завета.
Особенно после так называемого исчезновения Бога в конце XIX в., а затем — вновь — после Освинцима, несчастье уже не могло больше трактоваться ни как необходимо заслуженное (как для Иуды-изгоя), ни как неизбежно облагораживающее (как для героического Иуды). Таким образом, Иуда Незаметный подсказывает вопросы о неумышленном соучастии Иисуса в измене Иуды, на чем в 1850-е гг. заострил внимание философ Поль Тили. Поскольку Иисус призвал Иуду в свой избранный круг особо приближенных учеников, обосновывает свою точку зрения Тили-, «невинный [Иисус] становится трагически виновным в отношении того самого [Иуды], который способствовал его смерти на кресте» (133). «Экзистенциальная отчужденность в «двусмысленности жизни, которой не может избежать ни одно человеческое существо — и даже человек, являющийся одновременно Богом, — означает, что «Иисус был вовлечен в трагический элемент вины настолько, чтобы сделать своих врагов неизбежно виновными»: «Он становится трагически ответственным за вину тех, кто убил Его», — был убежден Тилли (133). Апостол, осужденный на «вечную смерть, смерть без надежды на воскресение», будучи до того использован как «важное орудие в руках Бога»: такая фигуpa пробуждает справедливое негодование проповедующих кальвинистов, но вместе с тем и трагические размышления современных художников, таких, как Марио Брелих, Джефф Тодд и Фрэнк Бидарт, анализом трудов которых я и хочу завершить эту главу.
[280]
Проклятие необходимого помощника: так примерно можно кратко выразить сложный вывод «Дела о предательстве» Марио Брелиха (1975 г.), философско-умозрительного романа, написанного изначально на итальянском языке. Брелих эксгумирует выдающегося вымышленного эксперта — заимствованного у Эдгара Алана По детектива Огюста Дюпена, доказавшего свою сверхъестественную проницательность раскрытием убийства на улице Морг, тайны смерти Мари Роже и, конечно же, нашумевшего дела об исчезновении похищенного письма. Как и многие мыслители, упомянутые в этой «культурной биографии» Иуды, Брелих пытается объяснить «поведение Иуды, остающееся окутанным туманом»; он вовлекает непревзойденного сыщика Эдгара По в расследование, основанное на допущении, что «действительная роль [Иуды] в аресте и обвинениях, выдвинутых против Иисуса… никогда не получала правдоподобного, подкрепленного фактами объяснения» (16). Тайну путаного и загадочного «дела Иуды» мог раскрыть только тот, чье необычное логическое мышление могло объяснить теологические толкования того, что Новый Завет оставил нераскрытым: «Святое Писание не содержит элементы, требующие осветить ни то «почему», ни то «как» случилась измена нечестивого апостола» (17, 15).
Сначала путем ряда изощренных философских допущений Дюпен доказывает, что Иуда «прямо и просто отождествлялся со Злом, он сам был Зло» (136). И все же позднее детектив заявляет, что Иисус приблизил надвигавшееся предательство, допустив свою непреодолимую потребность в двенадцатом апостоле, равно как и чувство вины за использование Иуды в качестве средства для спасения Себя Самого и человечества: зависимый Иисус Дюпена в конечном итоге реагирует на опасное ощущение Иудой виновности, говоря предателю: «Я ли прощаю тебя? Это Я должен задать тебе этот вопрос» (236). В ходе своего расследования Дюпен разрабатывает, но быстро отбрасывает идею о «макиавеллиевском или «иезуитствующем» Иисусе, для которого величественный конец оправдывает жестокие средства» использования сделанного жертвой Иуды, обманутого ради исполнения намеченной цели (33). Иисус был вынужден утвердить одного из Своих апостолов на роль предателя, «приняв во внимание преступные наклонности ученика»; однако Дюпен отвергает подобную версию в силу «всеобщего отвращения», которое она могла вызвать у тех, кто с благоговением почитает Сына Божьего (34—35). Чтобы не чернить Иисуса, Дюпен подчеркивает «Его человеческий облик»: Иисус не осознал бы Своей божественной природы, если бы она не открылась Ему для доказательства» (53).
В результате целого ряда хитроумных допущений Дюпен представляет Иуду, исполняющим роль вероломного врага по любви к Иисусу и вере в Его божественность, которую надлежало бы явить миру во всей силе и величии. «Дело о предательстве» полностью объясняет ловушку, в которую попался двенадцатый апостол. Желая раскрыть призвание своего Учителя, горемычный Иуда — «несчастнейший из всех смертных» (217) — оказывается в «Ловушке 22»: если он пойдет к храмовым начальникам, он будет проклят за убийство Иисуса; но если он не пойдет к храмовым властям, он будет проклят потому, что
«все будут прокляты» (234). В таком случае неудивительно, что мятущийся и встревоженный Иисус не может просто простить Иуду после Своего последнего и тщетного раскаяния из-за «непрощаемого греха» в саду, а вместо того должен просить прощения у своего ученика. И вновь нам представляется уместным одно из рассуждений Симоны Вейль: «Окажись я на месте человека, который знает, что, повинуясь Божьей воли, он обрекает себя на проклятие, а ослушиваясь Бога, он себя спасает, — высказывает догадку Вейль, — я бы все же выбрала путь послушания» (6).
Допуская возможность того, что кто-то мог бы послушаться Бога и обречь себя тем на проклятие, портреты Иуды Незаметного намекают на то, что жертвоприношение Иисуса было несовершенным, поскольку оно делало причастным Бога или Сына Божьего к прегрешению двенадцатого апостола и его последующему осуждению и поношению.
С образами, проклятыми внешним давлением или внутренним принуждением, никто из авторов Иуды Незаметного не соглашается под идеей, что всемогущее
и безгранично доброе божество создало или правит миром. Один современный художник передает необъяснимое чувство одиночества и боль Иуды Незаметного, когда он олицетворяет тех, на кого не распространяется божественная справедливость и милость. Крушение надежды характеризует отвергнутого всеми Иуду Джеоффа Тодда. В его «Предательстве» (1995 г.) проливающие слезы, кровоточащие и полные сострадания глаза Иуды напоминают Эдипа Софокла или Глукестера Шекспира, слепых, хотя и зрячих. Аскетический Иуда Долоросо уничтожает буквы своего имени, возможно, выражая свой протест или протестуя против самого себя, а, возможно, также и из более обобщенного принципа уничтожения, живущего в человеческой душе. В серо-черной палитре образ Иуды у Тодда подчеркивает вину, раскаяние, убеждение в своей собственной никчемности. Не демон, а скорее монах или нищий, Иуда, искупающий вину в одиночестве и тишине, ясно показывает, каково это — быть Иоанновым «сыном погибели» (17:12), анафемой.
Что значит решиться на жертву и не заставить другое человеческое создание взять на себя грех предательства или соучастия? Современный поэт Фрэнк Бидарт отвечает на этот трудный вопрос без колебаний. Бидарт начинает и завершает свое стихотворение «Жертва» с предписания, что Иуда, сочиняющий «историю ОДИНОЧЕСТВА», должен указать смерть персонажа, которому он пишет элегию: Мэри Кенвуд. Подобно тому, как Харди поступает с маленьким Джудом, название стихотворения, ставшее названием поэтического сборника Бидарта, изданного в 1983 г., навевает в памяти образы Иуды-Джуда-Иова, чтобы высветить то, что могло бы быть богатой добычей для бульварных газет, а именно судьбу некоей «Мисс Мэри Кенвуд; которая без чьей-либо помощи, одна, надела на голову полиэтиленовый пакет и затем заперлась в рефрижераторе» (75). Бидарт предполагает, что, как и «Старичок» Харди, Мэри Кенвуд покончила с несправедливым страданием путем самоубийства, нанеся своего рода «ответный удар» в борьбе с разрушительным воздействием болезни (в данном случае). Во второй строфе элегии сцена, возвращающая читателя в события прошлого, объясняет, почему могла случиться ее шокирующая смерть. Не только что Мэри оказалась свидетельницей болезненной кончины своей матери шестью месяцами раньше, но осознание того, что ее мать «хочет умереть», дало Мэри осознание своей невиновности в беспомощности, но и вселило в нее чувство глубочайшей вины за свою неспособность помочь.
Третья часть «Жертвы» связывает кончину Мэри с ее толкованием Драмы Страстей Господних:
«Христос знал тайну. Предательство
Необходимо; и горе тому, кто предает.
Решение, Мэри понимает, наконец,
Должно быть вынесено ею самой.
Смывая наши грехи, Христос обагрил кровью нас Своей;
Но, в жертву принести Себя решив, грехом предательства
Иуду запятнал, и лишь потом ВЗЯЛ НА СЕБЯ ВИНУ ЛЮДЕЙ;
…О, дай мне мужество в Иуде не нуждаться». (75-76)
Христианка, умирающая, следуя примеру Иуды Матфея, Мэри Кенвуд, прибегает к такому ужасному самоубийству, чтобы исполнить миссию, которую она почерпнула из Евангелий — необходимость стать предательницей самой себя. По мнению Мэри Кенвуд, жертвенная кровь Христа не всякого очищает или спасает: Иисус в Новом Завете признает, что Его ученики «чисты, но не все» (Иоанн 13:10); Иисус в стихотворении Бидарта приносит «горе тому, кто предает». Оправдывая свое имя, Мэри Кенвуд решается не привлекать соучастника, чтобы не запятнать его своей кровью, Подобно Тиллиху и Брелиху, Бидарт размышляет над тем, что для Иисуса значило, что Иуде, содействовавшему его самопожертвованию, был принесен только вред.
И все же, разве полиэтиленового пакета было недостаточно Мэри, чтобы покончить с собой наверняка? Зачем ей нужно было еще и закрыть над собой дверь рефрижератора? Подобно тому, как мать в этом стихотворении должна была бороться со своим неистовым желанием умереть, страдая от невыносимой боли, так и она, возможно, должна была преодолеть свое истовое желание жить, выстрадав мучительную смерть. Вопрос вины здесь очень усложнен. Не потому ли Мэри лишает себя жизни, что возлагает на себя ответственность за желание ее матери умереть и обвиняет себя в смерти своей матери? Или Мэри Кенвуд виновата в том, что предала свою мать страданиям, не избавив ее от боли, не убив ее? Чувствуя себя неспособной на преданность, доброту или верное поведение, терзаемая муками Мэри Кенвуд наблюдала гротескное страдание плотского воплощения, материального тела своей матери со всеми его болезнями, и не могла совладать со всеми противоречивыми моральными обязательствами, которые это возлагало на нее. Любое мыслимое вмешательство или невмешательство могло ощущаться ею как предательство. Стихотворение Бидарта побуждает нас задаться вопросом — а есть ли такие драматические ситуации, когда убийственные действия оборачиваются актами милости, милосердия, актами убийств из сострадания?
В «Жертве» Иуда становится воплощением неискупленного человеческого страдания. Бидарт завершает его утверждением, что «другу, который открыл/рефрижератор, показалось,/будто смерть побеждена: еще до смерти» (76). Эту последнюю строку можно было прочитать и по-другому: «жизнь побеждена; еще до жизни». Но, возможно, Мэри Кенвуд каким-то образом победила смерть или свой страх смерти не потому, что приняла близко к сердцу горе апостола, она предпочла самостоятельное лишение себя жизни мучительному существованию, обремененному чувством вины. Другой толкователь этого стихотворения воспринимает его так: «Мэри знала даже еще большую тайну, чем Христос: смерть можно таинственно победить, не проливая свою кровь на других и не обременяя их чувством вины, умирая» (Dyer, 10). Выдавая эту тайну, Бидарт подступает к волнующей теме, а именно: был ли двенадцатый апостол использован таким бессовестным образом? Должен ли был сострадательный Спаситель или всемогущий Мессия дозволить своему приверженцу принять столь горестный удел?
[281] Известное этическое правило, моральный принцип Эммануила Канта — относись к другим так, как ты хотел бы, чтоб к тебе относились другие — был ли нарушен он Богом или Сыном Божьим, когда Иуда подверг опасности свою душу, чтобы послужить орудием или средством для свершения распятия и воскресения?
[282]
Двенадцатый Иуда апостол позволяет писателям и художникам подвергать сомнению справедливость сил, что распоряжаются человеческими судьбами.
Глава 6.
СМЕРТИ И ВОСКРЕШЕНИЯ XX ВЕКА: ЧТО ДЕЛАТЬ ИУДЕ?
Использование двенадцатого апостола нацистами и арианизация Христа ускорили кризис в Христианском мире, поставивший еврейского изгоя вне закона. Повсеместное признание предательства еврейского народа во время Холокоста лишило стереотипных черт Иуду, трансформировавшегося в спасителя — правда, все равно двуликого: воплощающего бесконечное, но уязвимое добро, либо всемогущее зло.
* * *
Вопросы, которые всегда поднимает Иуда, — почему существует зло? Почему Бог дозволяет злу существовать? — подвигли Хорхе Луиса Борхеса написать рассказ-эссе «Три версии предательства Иуды» (1944 г.). Теологические рассуждения главного героя Борхеса, Нильса Рунеберга, вызвали поначалу опровержения ученых мужей, затем обвинения в ереси, а в конечном итоге обрекли его на безвестность, сумасшествие и смерть. За один год до освобождения узников из концентрационных лагерей Борхес проследил трансформацию образа Иуды, подведя итог его эволюционного пути в XIX столетии и начале XX в. и, вместе с тем, мистическим образом предсказав его причудливое преображение после Холокоста.
Опираясь на образ доблестного зелота, рожденного воображением де Куинси, Рунеберг в своем первом издании «Христа и Иуды» утверждает, что двенадцатый апостол единственный из всех учеников «угадал тайную божественность Иисуса» (здесь и далее — цитируется по пер. Евг. Михайлова. —
Прим. пер.) и сыграл в конечном счете искупительную роль доносчика с тем, чтобы вынудить Христа «объявить о Своей божественности и разжечь народное восстание против гнета Рима» (164). Этот благородный герой, описанный нами в предыдущей главе, предает Иисуса только для того, чтобы побудить своего нерешительного товарища установить на Земле Свое царствие. Затем, однако, Рунеберг отказывается от этой версии и пересматривает доводы в ее пользу. Он выдвигает предположение о том, что Иуда воплощал собой «гипертрофированный, почти безграничный аскетизм». Он отрекся, ради вящей славы Божией, «от чести, от добра, от покоя, от царства небесного» и избрал «грехи, не просветленные ни единой добродетелью: злоупотребление доверием (Иоанн 12:6) и донос» (165). Вторая гипотеза Рунеберга навевает в памяти образ Иуды Незаметного из предыдущей главы, воплощение злосчастья и одиночества, что преследуют любую душу, лишенную божественной милости. Грехам иногда сопутствуют добродетели: убийству — храбрость, прелюбодеянию — нежность и самоотверженность. Но ненавидящий самого себя доносчик в любом случае считает себя «недостойным быть добрым» (164). Аскетический Иуда умерщвляет не только свою плоть, но и свой дух, упорствуя в своей враждебности по отношению к божественному: он отвергает «царство небесное» (165).
[283]
Одержимый Рунеберг Борхеса в конечном итоге выдвигает третью, скандальную, версию — идею о том, что Бог «снизошел до того, чтобы стать человеком ради спасения рода человеческого» — тем, кто способен согрешить и «обречь себя на проклятие», идею о том, что Бог «избрал самую презренную судьбу: Он стал Иудой» (166). Из-за подобного вывода — об Иуде, как воплощенной в человеческом обличье ипостаси Бога — читатели эссе Борхеса могут усомниться в здравомыслии его героя. Поскольку имя «Нильс» в переводе означает «ноль» или «ничто», а «руна» (англ. «rune») — это древний буквенный знак или амулет (а также омоним слова «ruin» — «гибель, крушение»), кому-то может даже показаться, что Нильс Рунеберг сбился с пути истинного и нашел себе погибель в головокружительных стремнинах древней загадки Иуды. Не скрою, я и сама подчас тревожусь, как бы не постигла и меня его несчастная участь, когда мой разум застят неожиданные мутации Иуды. Как смел Борхес или его персонаж вообразить себе, будто Бог мог выбрать «презренную судьбу» Иуды, особенно после того, как двенадцатый апостол, а с ним и все евреи, вновь стали изгоями и мишенью для истребления нацистами?
Во время Холокоста демонический Иуда, явившийся из веков, что предшествовали Новому времени, вооружил нацистских идеологов целым арсеналом черт и особенностей для нагнетания антисемитской пропаганды, что я и постараюсь продемонстрировать в данной главе. Но в то время, как на евреев систематически устраивались облавы по всей Европе и по всей Европе их преследовали и убивали, еврейство Иисуса систематически отвергалось многими немецкими теологами. Эти печальные и ужасные факты — возрождение еврейского Иуды-изгоя и превращение Иисуса в арийца — вызвали у здравомыслящих людей глубокий скептицизм относительно силы нравственного воздействия утвердившихся в мире религий. А питали и поддерживали этот скептицизм в самый кровопролитный за всю историю человечества век все те злоупотребления, в угоду которым использовались эти религии в тоталитарных и националистических режимах (которых было слишком много, чтобы их здесь перечислять). Но почему и как подобный феномен мог привести и привел к апофеозу Иуды после войны, когда принципиальные авторитеты послевоенной церкви, наконец, признали христианский антисемитизм неприемлемым, а тем самым и еврея-изгоя Иуду «незаконным»? Иудей-изгой Иуда — предательски обреченный служить олицетворением предательства евреев, — вынужден был уйти со сцены. Да здравствует Иуда превознесенный!
Вместо того чтобы умереть, двенадцатый апостол после войны ожил в новых ипостасях — став воплощением бесконечного, но уязвимого добра, либо воплощением всемогущего зла. К лучшему или худшему, но Иуда в последней четверти XX в. вновь обрел силу, сбросив оковы семитских стереотипов, по крайней мере, в высоком искусстве. Бесконечное добро: жертвенный Иуда присоединяется к Иисусу, и вместе они предвещают грозящую Драме Страстей опасность оказаться преданной историей варварских зверств. Всемогущее зло: олицетворяющий всеобщий принцип предательства Иуда, напротив, воплощает собой те враждебные силы, что сотворили историю варварских зверств. Таким образом, в результате сложной цепи перевоплощений, трансформировавшийся Иуда утверждает свою верховную власть — либо как преданный и верный апостол, единственный разделяющий и даже превосходящий величием духа Иисуса, либо как олицетворение стяжательного материализма и лживости, что ставят под угрозу этическое учение Иисуса. И с позиций христиан, и с позиций иудеев после Второй мировой войны тот факт, что имел место Холокост, что его вершили нацисты, но весь мир это стерпел, означал, что многих христиан можно было обвинить в отречении от своего Мессии, равно как и от его уроков любви. По этой причине Драма Страстей Господних превратилась в средство декларации способности человечества к предательству и ответственности за последствия этого предательства. Иуда, наряду с Иисусом, стал воплощать состояние человека в обществах, позволивших случиться Холокосту. «Именно то, что было совершенно немыслимо прежде, — писал поэт Эдмон Жабес, — именно это практически всеобщее безразличие немцев и союзнических народов» сделало возможным Освенцим, в результате которого «ныне доверие сопряжено с огульным недоверием» (Jabe, 7). И по мере того как недоверие возрастает, положение Иуды упрочивается.
В конечном итоге Иуда-еврей не больше и не меньше, чем Иисус, стал достойным восхваления, но жалостливо беззащитным спасителем спасителя или заслуживающим обвинения, но правящим бал идолом жадности, лицемерия и вероломства — пороков, что характеризуют сегодня частную и публичную жизнь, увы, многих и многих людей. Проще говоря, обретший вес Иуда раздвоился, являя миру, с одной стороны, добродетель предаваемых жертв и, с другой стороны, злодейство предающих преступников в ряду катастроф, символом которых стал Холокост (Шоа). На фоне множащихся бедствий Иуда оказался на высоте положения. И впрямь, стоит отдать ему должное: усиление его образа дало возможность писателям из самых разных стран и обществ рассмотреть беспрецедентные, немыслимые дотоле, политические и социальные перевороты. Все больше писателей в XX в. заговорили о состоянии человечества, отстаивая субъективный характер Иуды. И в этой главе будет показано, что возвращение двенадцатого апостола в свое более раннее положение изгоя во времена Третьего рейха парадоксальным образом ускорило его эволюцию и обретение того образа, в котором он предстает уже в начале XXI в.
С точки зрения его биографа, Иуда, изгой у нацистов, менее интересен, чем ипостаси двенадцатого апостола из этой главы в силу своей предсказуемости и шаблонности, хотя он, как и в прошлом, без сомнения, несет в себе самый разрушительный заряд. Более любопытен, пусть и не оказывающий такого воздействия, новоявленный Иуда с нимбом, который подобно Янусу — греческому божеству входов и выходов, а также начала и конца, имеет две личины и смотрит в противоположные стороны. Один его лик выражает блаженство, другой искажен злобной гримасой порочности. Какую бы свою сущность — благожелательную или недоброжелательную — не проявлял этот двуличный Спаситель и каким бы ни было его влияние на род человеческий, он позволяет писателям, упоминаемым в этой главе, дополнить «концепцию Сына, представлявшуюся исчерпанной, сложными вопросами пагубности и зла» (Borges, 157). Таким образом, несмотря на смертельный приговор нацистов, Иуда не умер вместе с шестью миллионами человек, убитых в Шоа. Вопреки этому приговору и в результате ужасной гибели несчастных жертв он был воскрешен как царящий дух гибельной эпохи.
Земля крови
Когда нацисты решили изничтожить евреев, стереть их с лица земли, не вдохновляли ли их тлетворные стереотипы Иуды, распространенные в древности? Демонические черты образа Иуды, создаваемого до Нового времени, — низость, слепота, упрямство, лживость заговорщика, алчность, граничащая с животной похотливостью чувственность, нечистая кровь и жестокость предателя, вонзающего нож в спину, — безусловно, сплелись с нацистскими стереотипами евреев, которых надлежало истребить, чтобы защитить чистоту, национальную безопасность и духовную силу народа, племенного союза людей. «Образ Иуды сделал возможными преступления Гитлера, оплодотворил Землю крови, с которой Гитлер собрал свой урожай. Гитлер явился всего лишь катализатором неизбежной кристаллизации христианской ненависти»: таков вывод, сделанный Хайямом Маккоби и процитированный в интервью Роном Розенбаумом (Maccoby, 334). «Есть прямая линия, “прямая связь”, — считал Маккоби, — между Иудой и Гитлером. Между вселяющим ненависть портретом вероломного предателя Господа… и кульминацией внушения идеи ненависти к евреям» (322). Джордж Штайнер соглашается: «Окончательное решение… это совершенно логический, аксиоматический результат отождествления Иуды с евреями… Этот полный мрак, эта темнота в ночи, в которую отправляется Иуда, движимый указанием действовать «быстрее», то уже мрак печей смерти» (Steiner, 417). Даже при всей противоречивости и непоследовательности воззрений национал-социалистов на христианство, как и на многие другие вопросы, их призыв к геноциду, считают Маккоби и Штайнер, объясняется их смертельной ненавистью к Иуде. И все же, учитывая стремление нацистов поставить «деструктивное приспособленчество христианства» на службу «политической религии», зачастую расходящейся с традиционным учением католиков и протестантов (Burrin, 335), — не стоит ли с осторожностью воспринимать слишком поспешную привязку нацистского антисемитизма к христианской доктрине?
Образы Иуды-изгоя подгоняются под пагубные нацистские стереотипы евреев, но об Иуде нельзя сказать, что именно он задал импульс или спровоцировал Холокост. До середины XX века образ Иуды постоянно переосмысливался. И множество его личин явно затрудняет попытки обвинить двенадцатого апостола в развязывании Холокоста. После публикации в 1748 г. «Мессии» Фридриха Гогглиба Клопсто-ка многие немецкие авторы стали изображать Иуду благородным персонажем, наподобие искреннего повстанца Де Куинси.
[284] Примечательно, что даже в либретто Рихарда Вагнера и в пьесе молодого Геббельса портрет Иуды вызывает симпатию.
[285] Конечно, глубоко антисемитские образы Иуды продолжали циркулировать и в XX в. в Англии, Америке и Франции, а также в Германии. Но у прихожан католических церквей всего мира, молившихся во время богослужения на Страстную Пятницу за «вероломных иудеев» («perfidi Judaei» и «judaica perfidia»), была вполне конкретная мишень для обвинений. И потому особой нужды в фигуре Иуды не было никакой. Несмотря на высокую процентную долю членов нацистской партии, участвовавших в ставившихся в 1934 г. в Обераммергау мистериях «Страстей Господних», в которых Иуда просит и получает свою заслуженную смерть, актер, игравший персонажа Иуды, придерживался твердых антинацистских убеждений (Shapiro, 149).
Здесь уместно также добавить, что после того, как Ханна Арендт опубликовала свое «Бремя нашего времени» (1951), многие политологи заговорили об опасности слияния современного антисемитизма с более ранними формами фанатизма. Фашисты XX века использовали образ Иуды как «культурный символ» современности и освобождения, эмансипации, на борьбу с которыми и была направлена их агрессивная программа национализма, антимодернизма, империалистической экспансии и ностальгии по моральному кодексу до-индустриальных времен (основанному на
Volk — народности) (Волков, 25, 34, 45). Немногие ученые с мировым именем анализируют токсичный яд нацистской пропаганды геноцида, избегая частых ссылок или вообще не касаясь христианства в целом и Иуды в частности. Вместо того, они приписывают Третьему рейху параноидную
идеологию всемирного еврейского заговора, грозящего колонизацией и уничтожением в конечном итоге немецкого народа и его сообщества, если только еврейство не вырвать с корнем и не изничтожить.
[286] Можно, конечно, устанавливать связь между Гитлером и христианскими представлениями о евреях — нашедшими отражение в католических и протестантских проповедях, обвинявших евреев в том, что они распяли Иисуса, и потому были прокляты Богом.
[287] Но даже при таком подходе очевидно несоответствие между восприятием библейских иудеев, как заслуживших Божьего гнева, с одной стороны, и, с другой стороны, их активным обращением в свою веру для привлечения к гражданским работам, что внушало мысль о вымирании их потомков двадцатью веками спустя. Впрочем, при желании, можно найти и в поддержку мнений Маккоби и Штейнера и исторические, и художественные подтверждения влияния Иуды. Но подобных доказательных письменных текстов немного, и некоторые из них довольно оригинальны.
[288]
Не причина «окончательного решения», Иуда тем не менее был «завербован» для пособничества германскому геноциду. В январе 1939 г. по немецкому радио нацистский историк Вальтер Франк провозгласил, что: «Еврейство являет собой один из величайших негативных принципов мировой истории, и потому его следует считать паразитом в теле противоположного положительного принципа. Как невозможно воспринять Иуду Искариота с его тридцатью сребрениками … без Бога, чье общество он глумливо предал…, эта темная сторона истории, называемая еврейством, не может быть понята в отрыве от всего исторического процесса, в котором Боги сатана, Творение и Разрушение, противостоят друг другу в вечной борьбе» (Wistrich, 1).
* * *
Франк сталкивает отрицательного, глумливого, паразитирующего Иуду, еврейство, сатану и Разрушение, с одной стороны, и Иисуса, его Христианское сообщество, Бога и Творение, с другой стороны, в борьбе, победа в которой будет достигнута, лишь когда одна сторона восторжествует и превзойдет другую. Другим шагом к разжиганию антисемитизма и в том же 1939 г., стали снимки президента Рузвельта на страницах одной германской газеты под заголовком «Judaslohn» («Иудина награда»), намекавшим на получение Рузвельтом премии за вклад в отношения иудеев и христиан.
[289] Один из ранних приверженцев Гитлера сочинил стихотворение, названное «Германия, проснись!», в котором он предостерегал о том, что «Иуда идет — победить рейх… Горе народу», который двенадцатый апостол обречет на невообразимые страдания.
[290]
Более значимым, чем относительно немногочисленные упоминания об Иуде в нацистских речах и политических меморандумах, оказывается антисемитский образ Иуды-изгоя с типичными семитскими чертами во влиятельной киноиндустрии. За два года до Ванзейской конференции, на которой было принято «окончательное решение», на экраны вышли два фильма — «Еврей Зюсс» (1940 г.) и «Вечный жид» (1940 г.), проповедовавшие изгнание или искоренение еврейства с помощью иконографии Иуды с древних времен. «Еврей Зюсс», снятый Вейтом Харланом, стал кассовым хитом; «Вечный жид», снятый Фрицем Хиппером и иногда называемый «Удивительный жид», потерпел фиаско. Целиком измышленный кинорассказ об историческом персонаже, «Еврей Зюсс», выиграл за счет богатых костюмов и сексуальных сцен, тогда как подкрепленный документальными свидетельствами «Вечный жид» пострадал от тенденциозных разглагольствований повествователя за кадром, а также из-за плохого качества отснятого материала. И все же оба режиссера после войны были привлечены к суду, пусть и не признавшего за ними вину: слишком многие люди посчитали, что их фильмы способствовали нагнетанию антисемитизма в Германии. Такое впечатление у зрителей сложилось не случайно, так как оба фильма рисовали зловещую экономическую угрозу арийцам со стороны евреев, угрозу, которую несет дьявольский казначей из Евангелия Иоанна, наделенный лицемерием Иуды от Матфея.
Главные роли в пропагандистских фильмах нацистов Иуда получал не потому, что он предал Иисуса, а потому, что, совершив предательство, он на протяжении многих столетий изображался в европейском искусстве с чертами, ставшими разменной монетой в спекуляциях антисемитизмом. Деньги в кошеле вора Иоанна, лживые губы Иуды Матфея: подобное сочетание формирует «характер» и еврея Харлана, и вечного жида Хиппера. Завидные навыки лицемерия, обмана и ловкачества, которые уже договорившийся о плате с первосвященниками Иуда Матфея проявляет на пасхальной трапезе, заявляя о невинности своих помыслов и нежелании навредить Иисусу («Не я ли, Равви?» [26: 25]), оба фильма приписывают повально всем евреям. Притворство, лицемерие, двуличность в сочетании с корыстью — именно эти качества отличают кинематографического Иуду, олицетворяющего неверие и неверность. Ведущим способом подачи вероломного безбожника становится кинематографическая техника «наплыва».
[291]
Самый популярный из всех антисемитских фильмов, снятых по заказу Третьего рейха, историческая драма Вейта Харлана, «Еврей Зюсс» показывает лживого еврея-Иуду, вымышленного Йозефа Зюсса Оппенгеймера, который манипулирует разоряющимся герцогом Вюртембургским в 1730-е гг. посредством займов. Власть над герцогом обеспечивает еврею контроль над казной и горожанами, грозящий им обременительными налогами и инфляцией. Эту поставленную по заказу нацистов костюмированную драму, актеров для которой отбирал лично Геббельс, посмотрели около девятнадцати или двадцати миллионов зрителей в Европе, и отнюдь не немногие из них покидали кинотеатр, горя желанием обрушиться с нападками на евреев.
[292]
Переосмысленный «Отелло» — «злой советник ведет военного к его погибели, при всем том разыгрывая подобострастную дружбу» — «Еврей Зюсс», успешно разжигал «антипатии к евреям». Особенно показательна одна сцена: фрагмент, в котором Яго-подобному еврею-советнику удается получить разрешение на проживание грязных евреев в прежде «свободном от евреев» городе (Culbert, 146—147). Если припомнить, что именно в этот период времени порицаемый Иуда уподоблялся чаще Отелло (Дороти Сэйерс), а не Яго, то его регресс в немецкой культуре того периода очевиден.
Еврей Зюсс напоминает Иуду во многих отношениях. Во-первых, в фильме несколько раз повторяются снятые крупным планом кадры, в которых он открывает свой кошель и высыпает на стол монеты — денежные суммы для герцога, ставящие его в зависимость и подчинение еврею. Далее еврей Зюсс является не только казначеем герцога, но и образцовым лицемером, заискивающим перед герцогом и одновременно продумывающим различные способы, чтобы одурачить и обмануть его. Еврей Зюсс шпионит за герцогом через дыру («иудин глаз») в барельефе потолка, и эта дыра уж больно напоминает разинутую пасть демонической горгульи. Сбитый с толку («друг ли он мне?») герцог тревожится, что для его помощника, которому он больше всех доверяет, «нет ничего святого» («только нажива»), но еще долго остается во власти своего казначея — режиссер неоднократно показывает крупным планом кадры с евреем, украдкой нашептывающим что-то на ухо своего наперсника, действиями которого он руководит. Наконец, даже ловко дурачимый и эгоистичный герцог начинает подозревать еврея в хищениях; он признается в этом своему советнику: «Мне любопытно, что ты есть на самом деле» и просит того: «сбрось свою маску». Творческим произволом режиссера в еврее Зюссе гипертрофируются способность Иуды Матфея использовать свой язык не для разоблачения, а для сокрытия своих бесчестных помыслов, и злодейская сущность Иуды Иоанна, «сына погибели» (17:12). В манере, созвучной Иуде Матфея, фальшивый в речах еврей Зюсс в последнем кадре фильма показан молча раскачивающимся на удавке. Его ступни свисают с упавшей двери в глубине железной клети, в которой он был повешен праведным гневом объединившейся христианской общины. И все же история Иуды, пожалуй, не объясняет ряд мелодраматических особенностей фильма Харлана. Актер, не еврей, Фердинанд Мариан, исполнивший роль еврея Зюсса, очаровал зрителей своей грозной, но магнетической харизмой. А его магнетизм даже еще более усилила сцена изнасилования — кульминационная в сюжете фильма, — в которой казначей герцога задумывает соблазнить арийскую девушку Доротею в точно такой же манере, какой пугает гитлеровский «Майн кампф».
[293] Еврей Зюсс замышляет совратить девушку в непосредственной близости от истязаемого мужа непорочной Доротеи, арестованного по приказу Зюсса, с тем, чтобы его крики боли принудили ее уступить сексуальным домогательствам еврея. Быстро сменяющиеся кадры после этой сцены — скоропалительное решение Доротеи покончить с собой; ее труп, напоминающий труп Офелии, который вылавливает из воды, куда бросилась девушка, ее конюх; толпа разгневанных горожан — «Еврей должен умереть!» — все это навеивает в памяти не столько традиционную версию об Иуде, сколько первый киношедевр в Соединенных Штатах, фильм Д. У. Гриффита «Рождение нации» (1915); в этом фильме будущий рэпер Газ (в роли которого снялся белый актер, загримированный под негра) преследует невинную белую девушку Флору. Та, спасаясь от позора, бросается с вершины скалы. После того как тело несчастной находят, за ее смерть мстит могущественный «Ку-клукс-клан». Белые рыцари с факелами мстят похотливому чернокожему осквернителю нордической крови.
Как и «темнокожие Иуды» в истории живописи, нацистское «Рождение нации» высвечивает связь между антисемитской иконографией и иконографией расовой нетерпимости. Похоже, и создателей «Еврея Зюсса» вдохновляли как американская пропаганда расизма, так и мифы об Иуде. Особенно примечательны в этом смысле подручный главного героя, его помощник Леви, и другие второстепенные еврейские персонажи. Со своими жидкими волосами и жалкой бородкой, с крючковатым носом, ермолкой, математической сноровкой в подсчете пошлин и налогов, вымогаемых с работающих не покладая рук кузнецов и мельников Вюртембурга, секретарь Леви воплощает собой того, кем был бы еврей Зюсс, сбрось он свою маску. Секретарь Леви олицетворяет собой еще не ассимилировавшегося, облаченного в халат еврея до того, как он замаскировался под придворного финансиста, еврея Зюсса.
[294] Бородатые патриархи, причитающие в жалобных литургиях синагоги, мясник гетто, размахивающий своим кровавым ножом, и раввин Лоэв, потворствующий герцогу (в обмен за обещание еврея Зюсса прибыли для Израиля): эти евреи никого не напоминают так сильно, как Иуду-изгоя. В таком ракурсе привлекательная личина еврея Зюсса — это обман, скрывающий порочную сущность — такую же, как у отталкивающего секретаря, мясника и раввина.
Кинематографическая техника «наплыва» позволила Харлану показать всю «эволюцию» своего центрального персонажа. Из простого, «старомодного» ростовщика-еврея, с бородкой и в халате, в самом начале фильма он превращается в полностью адаптировавшегося придворного финансиста, сумевшего поселиться в прежде «свободном от евреев» городе, а затем, в конце фильма, на судилище, снова трансформируется из маскировавшегося под арийца придворного советника в бородатого еврея в халате. По мнению одного из критиков, «техника наплыва применена с тем, чтобы вскрыть обманчивую сущность евреев и показать зрителям творимые ими обманным путем делишки» (King, 29). В случае с Иудой техника «наплыва» идеально отвечает задаче режиссера, позволяя раскрыть характер героя, который (под любой своей личиной) остается посредником, притворщиком и приспособленцем.
[295] Вращаясь между истовых, благочестивых христиан и храмовниками, еврей Зюсс столь же двуличен, как и Иуда: близкий друг и одновременно враг. Пожалуй, еврей Зюсс более других напоминает Иуду как раз тем, что он враг внутренний, враг в кругу доверенных лиц: подстрекатель-изменник, еврей, выглядящий как ариец — с него нужно сорвать маску и принудить показать свое истинное лицо.
По рождению «чужой», придворный еврей становится «своим», но поскольку он приводит с собой в общество целую «толпу грязных евреев», его и всех евреев вместе с ним надлежит снова изгнать. С его верностью мести по принципу «око за око» он воплощает собой древний, варварский народ. Свое право на землю, данную ему во владение, он, к примеру, реализует путем сноса половины дома честного и открытого горожанина; в итоге имение выглядит словно после бомбежки. Потому его надо разоблачить, иначе его притворство грозит разрушить семейный очаг, равно как и совратить всех арийских девушек на земле. Помимо того что еврей Зюсс хорош и соблазнителен собой, его финансовые и любовные интриги подрывают строгую дисциплину, которой должны подчиняться добропорядочные и благочестивые члены общества. По мнению целого ряда кинокритиков (причем некоторые из них оговариваются, что и Гитлер называл евреев «кровопийцами»), привлекательный еврей Зюсс напоминает Дракулу, как, впрочем, напоминает его и Иуда на протяжении всей своей долгой истории.
[296] Его многообразные метаморфозы и те страстные желания, которые он воплощает, тлетворны, непристойны, пагубны и опасны для общества. Неверный, еврей Зюсс подает повод для обвинений в распущенности и супружеской неверности, предъявляемых ему: любитель адюльтера, он предает своего лучшего друга, совращает жен других людей, а также повергает в соблазн или оскверняет чистоту крови христианского общества. Законы, запрещающие браки между людьми разных национальностей, принимаемые в конце фильма праведными жителями Вюртембурга XVIII в., оправдывают законы Третьего рейха против родственных или кровосмесительных браков. Потребность в подобном законодательстве обосновывается исключительной способностью евреев-Иуд к мимикрии — ловко маскируясь, они и дальше могут продолжать загрязнять чистоту крови высшей расы.
[297]
Образ Иуды в финансировавшемся нацистами «Вечном жиде» Фрица Хипплера далеко не простой; однако этот документальный фильм намекает на тот же стереотип, что сложился на основании или соответствует отведенной Иуде роли в Новом Завете. Используя материалы, отснятые в польских гетто, хроники и киножурналы Германского Министерства пропаганды, карты, статистические таблицы, фотомонтаж и клипы голливудских фильмов, «Вечный жид» пытается убедить своих зрителей в том, что они видят объективную картину так называемой «еврейской проблемы». Но этот «слоеный пирог», смонтированный из различных материалов и кадров и с тяжело воспринимаемым звуковым оркестровым сопровождением, явно пытается опорочить еврейских мужчин, женщин и детей и представить еврейский народ расой Иуд-изгоев. Некоторые фрагменты в фильме Хипплера подробно останавливаются на угрозе мимикрии евреев, искусных притворщиков. Евреи-Иуды Хипплера явно напоминают не изгоняющего нечистых духов двенадцатого апостола из Синоптических Евангелий, а нечистого ученика и его народ из Евангелия от Иоанна, порожденных «отцом лжи» и поклоняющихся своему «отцу лжи» (8:44).
Как и «Еврей Зюсс», «Вечный жид» использует технику наплыва, чтобы подчеркнуть еврейскую двуличность, в частности, с кадрами до и после.
[298] Еще не замаскировавшиеся и не ассимилировавшиеся, поясняет голос за кадром, представители еврейства засняты «в опровержение либеральных теорий» относительно равенства всех созданий с человеческим обликом. Поляки, носящие ермолки, халаты и игривые бородки, растворяются среди точно таких же людей в европейских платьях и шляпах, только чисто выбритых. Голос за кадром извещает нас, что «всем евреям свойственно стараться скрыть свое происхождение всегда, когда он оказывается среди неевреев». Но о поляках говорится, что они меньше «свыклись» с ассимиляцией, чем, например, берлинские евреи, очень быстро «уподобившиеся приютившему их народу» («народу-хозяину»). Зрителей предостерегают, что эта предрасположенность к обезличиванию во имя самосохранения представляет большую опасность для нордических граждан, поскольку она позволяет «гротескно порочным» еврейским ученым, политикам, предпринимателям, а в особенности театральным постановщикам и киноактерам загрязнить чистоту и благородство нордической культуры, способствуя ее «вырождению и очернению».
[299] В древности евреи «скрывали свою разрушительную сущность, поскольку их толкователи Талмуда внушали им, что нужно «всегда лукавить», «ненавидеть хозяина и никогда не говорить правду» и что «религия вменяет обман и ростовщичество в обязанности — нараспев произносит повествователь за кадром.
[300]
Обвинению в том, что евреи стремятся уподобиться «народу-хозяину», в «Вечном жиде» сопутствует другое утверждение, восходящее к средневековым временам: евреи — это «паразиты без роду, без племени», глодающие и ослабляющие оскверняемого ими «хозяина» — но в этом случае не святую Евхаристическую гостию, а мирской благословенный народ. Уличные сцены в польских гетто, повторяющиеся кадры, в которых еврейские мужчины, женщины и дети пересчитывают деньги, призваны, по замыслу создателей, вероятно, доказывать, что богатые евреи, «накопившие» свои состояния, «ютятся в кишащих клопами жилищах», потому что они соответствуют их «природным наклонностям». Повествователь апеллирует к девизу Рихарда Вагнера: «Евреи — это гибкий демон упадка человечества». «Восточная смесь с негритянской примесью», евреи мигрировали из Палестины, расселившись по всему миру (на картах направления их расселения напоминают щупальца осьминогов или паутинные сети), подобно крысам (показанным на других картах, для сравнения). Затем на экране появляется картина снующих крыс, а голос за кадром рассказывает об их особенностях: хитрые, коварные, трусливые, жестокие и подлые, евреи якобы загрязняют государство, распространяя болезни и чуму, как то делал Иуда в средневековых легендах.
Подобно акценту на лживость, воровство и паразитическое вторжение, контраст между заразными крысами и благородными существами, приносимыми в жертву в кульминационной сцене «Вечного жида», использует Драму Страстей для создания ложного представления о евреях и предъявления им необоснованных, фальсифицированных обвинений. Пока зрители смотрят, как евреи связывают и держат бычка и овцу, вонзают им нож в горло и предают мучительной смерти, голос за кадром описывает «жестокие муки беззащитных животных», обреченных законами кашрута, отмененными фюрером в 1933 г. Кровопускание животным должно было «напомнить зрителям о схожем клеветническом обвинении евреев в принесении в жертву христианских детей» (Clinefelter, 146).
[301] Невинные животные, которых евреи ранят, обескровливают и приносят в жертву, вызывают в памяти предательское пособничество Иуды первосвященникам против Агнца Божьего.
[302] Об иудаизме и иудеях, чей Бог якобы обещал евреям владычество и разорение небес, рассказчик за кадром решительно заявляет: «Это не религия; это заговор против арийских народов». Слово «заговор», конечно, также указывает и на сговор Иуды с иудеями против основателя христианства.
Предположение о том, что Евангелия в целом и Иуда в частности инспирируют нацистскую пропаганду, конечно, не может быть применено для обвинения католиков и протестантов в бесчестных и откровенно антихристианских целях, согласно которым Новый Завет был искажен. Однако можно предположить, что Драма Страстей заложила основу, удобную для манипуляций антисемитов вплоть до XX в. Говоря словами Джона Т. Павликовского, католического теолога, активно участвующего в современных иудейско-христианс-ких дискуссиях, «Холокост явился плодом мирских, глубоко анти-христианскихсил и отнюдь не последней главой в долгой истории христианского антисемитизма», и все же «традиционный христианский антисемитизм, вне всякого сомнения, создал необходимую почву для успешного насаждения нацистского «окончательного решения» (Pawlikowski, 137). Проще говоря: утверждения о иудейском богоубийстве и пособничестве Иуды были использованы для оправдания геноцида. Учитывая сложное переплетение экономических и политических факторов, приведших к Третьему рейху, ни Иуду, ни Евангелия нельзя считать причиной Холокоста, но те образы, которые они породили, особенно в преддверии Нового времени, могли быть использованы для поддержки светских идеологий и технологий разрушения.
Уничтожение Христа
Под влиянием усиливавшихся фашистских настроений многие немецкие теологи только способствовали разжиганию антисемитизма, противопоставляя Иисуса и христианство Иуде и иудаизму. Со временем они узаконили геноцид — иногда сознательно и в союзе с целями национал-социалистов, иногда сами того не желая и невзирая на неприятие этих целей. Чтобы понять, как Холокост ускорил кризис в христианстве, повлиявший на дальнейшую эволюцию образа Иуды в культуре, стоит вспомнить теологическое становление Дитриха Бонхоффера. Лидер протестантского движения сопротивления в Германии, Бонхоффер в конечном итоге пришел к рассуждениям об умирающем Боге и постулированию «безрелигиозного христианства» (Bonhoeffer, Letters and Papers, 280). Однако в начале 1930-х гг., всего за несколько лет до того, как он примкнул к заговорщикам, планировавшим покушение на Гитлера, лютеранский пастор распространял идеи об иудаизме, которые ослабили или препятствовали его проиудейской деятельности.
[303]
Когда Бонхоффер отозвался на государственный бойкот еврейских предприятий 1 апреля 1933 г., его обсуждение «Церкви до еврейского вопроса» критиковало рейх и оговаривало, что карательные меры, принимаемые государством против еврейства, воспринимаются Церковью «в некотором совершенно особом контексте»: «Церковь Христова никогда не забывала о том, что «избранный народ», пригвоздивший Искупителя мира к кресту, обречен нести на себе проклятие за свое деяние в долгой истории страдания» (49). Бонхоффер приглашает обращенных в христианство иудеев или крещеных евреев в лоно Церкви, поскольку «обращение Израиля» означает «конец временам страдания этого народа» (50).
[304] Однако необращенные в христианство иудеи, отягощенные «проклятием», обречены страдать.
[305] В своей оппозиции национал-социалистам забота Бонхоффера о крещеных иудеях («неарийцах») была открытым неповиновением нацистским клирикам, изгонявшим евреев из церквей, потому что иудаизм был определен как раса, а не как вероисповедание, и это делало обращение в христианство фактически невозможным.
Если Бонхоффер надеялся на обращение Израиля к Христу, другие немецкие теологи стремились отсечь христианство от его иудейских корней. И делали они это, возвращаясь к отрицанию Хьюстона Стюарта Чемберлена на рубеже веков еврейства Христа «на основании того, что Галилею населяли языческие, неиудейские племена» (Mosse, 94).
[306]
В 1939 г. Мартин Дибелиус ставил под сомнение еврейское происхождение Иисуса, а в 1940 г. Вальтер Грундманн попытался доказать, что галилейское происхождение Иисуса делало его неиудеем (Klein, 12, 11). Поскольку все иудеи обязательно были порочны и порочили все и вся, Иисус не мог быть ни коим образом иудеем — так считали проповедники т.н. германского христианства, использовавшие всю силу своего красноречия, чтобы внушить своим прихожанам мысль о том, что «Мы, христиане Германии, находимся на передовой национал-социализма… Жить, бороться и умереть за Адольфа Гитлера означает говорить «вступить на Путь Христа» (Littell 53).
[307] Когда же гитлеровская армия «вступила на путь Христа», евреи, в силу своего отрицания Иисуса, как Мессии, стали «Unheilsgeschichte» — это непереводимое выражение, подразумевающее … отказ Бога евреям в спасении до скончания веков» (Meeks, 529).
Антинацисты протестанты, возможно, не явно отделяли Иисуса от иудаизма, но они обвиняли Иуду в проклятии евреев. К 1937 г., когда гонения на евреев усилились, Бонхоффер задался вопросом «Кто есть Иуда?» и затем соединил двенадцатого апостола с евреями — почти как Карл Барт несколькими годами спустя. Бонхоффер ответил на свой вопрос о национальной принадлежности Иуды вопросом: «Иуда, разве не представляет он здесь сильно разрозненный народ, из которого вышел Иисус, избранный народ, получивший обещание Мессии и тем не менее отвергший его? Народ Иудеи, который любил Мессию и все же не мог любить Его так?» (412).
[308] Соединение Бонхоффером Иуды с народом, который «не мог любить» Сына Божьего, обрекает евреев быть упрямыми и несговорчивыми. Иуда и иудеи упорно отвергают дар спасения, предлагаемый им Иисусом. Действительно, Бонхоффер утверждает, что «христианство снова и снова видело в Иуде мрачную тайну отрицания Бога и вечного проклятия» (412).
Барт даже еще более решительно провозглашал «вечное проклятие» Иуды и евреев. Две цитаты из одного фрагмента анализа Барта доказывают это мнение: «Иуда… в своем сосредоточенном нападении на израильского мессию делает лишь то, что избранный народ Израиля всегда делал по отношению к своему Богу, тем самым проявляя себя в своем единодушном желании быть отверженными Богом»; «такой Иуда должен был умереть, как он и умер; и такой Иерусалим должен был быть разрушен, как он и был разрушен. Право Израиля на существование уничтожено, и потому его существование может быть только уничтожено» (Barth, 505).
[309] Логика, питающая рассуждения Бонхоффера и Барта и называемая «теорией замещения», допускает, что христианство восходит к иудаизму, но утверждает, что тем самым христианство исполнило обещание, данное иудаизмом, и таким образом полностью заменило устаревшую, легалистскую веру лучшей, более востребованной верой. Как поддерживавшие, так и выступавшие против Гитлера теологи представляли евреев несущественной силой в истории, утверждая, что они уже сыграли свою роль. Бонхоффер и Барт предполагают, что инкарнация сделала иудейскую религию бессильной и что Новый Завет отменил так называемый Ветхий Завет. Представляющий теперь отживших свое иудеев, а Иуда удостоился стать персонажем, пострадавшим незаслуженно. Несмотря на геройский образ, который он обрел ранее, христианские противники и приверженцы Третьего рейха словно сговорились в своих попытках отделить Иуду от других апостолов и Иисуса и присоединить его к фарисеям и первосвященникам, которых теперь стали считать не частью общины среды, в которой сформировался Иисус, и к которым Он обращался, но исключительно за Его убийц.
И все же, практически сразу после того, как Бонхоффер заявил, что «христианство снова и снова видит в Иуде …вечное проклятие», он подтвердил, что «оно никогда не смотрело на него с гордостью и превосходством, а скорее, с трепетом и
с осознанием своих собственных грехов: Бедный, бедный Иуда! Что же ты наделал!» (412-413, выделено автором).
[310]И после поджогов и разграбления синагог и погромов магазинов, учиненных в «Хрустальную ночь» («Kristallnacht» — «Ночь разбитых витрин») с 9 на 10 ноября 1938 г., Бонхоффер посвятил себя целиком и полностью чрезвычайно опасной деятельности по защите подвергаемых опасности евреев, как крещеных, так и не обращенных. В 1943 г. он был арестован за содействие евреям, пытавшимся бежать в Швейцарию, а в 1945 г., когда стало известно о его роли в заговоре с целью покушения на Гитлера, Бонхоффер был повешен в концентрационном лагере Флоссенбург, как будто он был Иудой для немецкого народа. Поскольку предательство национал-социализма трактуется не просто как нравственно оправдываемый, но и как праведный акт, многие люди считают Бонхоффера благородным «христианским мучеником» (Klein, 118). Таким образом, пример Бонхоффера показывает, как в некоторых совершенно особых контекстах акт предательства может являть собой мужественный, высоконравственный поступок, и как осужденный (в данном случае — христианин) Иуда может выглядеть в глазах многих самим Христом.
Переосмысление Бонхоффером своих воззрений показывает также, почему и как Холокост усугубил кризис внутри христианства. Один из ученых, изучая поздние письма Бонхоффера, натолкнулся на утверждение: «За изгнанием евреев с Запада может последовать изгнание Христа, поскольку Иисус Христос был евреем». Развивая эту мысль, другой ученый приходит к иному умозаключению: «Если изгнание евреев означает [для христиан] изгнание Христа с Запада, что же тогда означает истребление евреев [которое началось как политическая мера несколькими месяцами позднее]?»
[311] Не означает ли то, что христиане, убивая евреев или тайно сговариваясь с убийцами евреев, что они убивали своего Христа? Именно идеей о том, что Иисус был уничтожен в Освенциме, похоже, руководствовался Марк Шагал, создавая свое «Желтое распятие» (1943 г.), на котором распятый еврейский мученик запечатлен на фоне горящих городов, потрясенных жертв, тонущих лодок с эмигрантами, оставшихся в живых, но искалеченных на всю оставшуюся жизнь? В этом иконографическом сюжете, к которому Шагал обращался не раз, Иисус изображен в набедренной повязке, с филактерией на голове, молитвенными повязками на руке и зеленой свисающей Торой, «освящен свечой, которую держит ангел, дующий в шофар» (Amishai-Maisels, 86).
[312] В беспорядочном хаосе, в котором смешались земля, воздух и вода, ангельский звук похожего на трубу горна призван пробудить осознание необходимости в искуплении человечеством своей вины.
Шагал предполагает, что христиане, соучаствуя фашизму, взяли на себя роль предателя, отрицая происхождение своего мессии и уничтожая Его народ. Историк искусств Зива Амишай-Майзелс об образе, вызывающем острую полемику в рядах еврейских критиков, говорит так: «самый священный христианский визуальный символ, Распятие, был использован для того, чтобы предъявить обвинение христианству, а образ, бывший анафемой для евреев, стал символом их мученичества» (Amishai-Maisels, 104). Неспособный защитить свою паству или победить ее врагов, обезоруженный Сын Божий Шагала был пригвожден к кресту теми же людьми, что поджигали деревни, пытали кричащих от боли людей и преследовали бегущих матерей с пеленатыми младенцами. Картина воплощает вездесущий принцип предательства, обрекающий евреев на страдания и Иисуса на муки, здесь соединившиеся.
[313] Не обещая воскресения, картина Шагала навевает в памяти рассказ Эли Визеля о мальчике, повешенном эсэсовцами перед тысячами заключенных в Буне, один из которых спросил, стоя за спиной Визеля: «Где же Бог? Где Он?» — вопрос, на который юный Визель про себя ответил: «Где Бог? Вот Он — висит на перекладине…» (Wiesel, 62).
Визель, вспоминая первую ночь по своем прибытии в концентрационный лагерь, клянется, что никогда не забудет «те моменты, что убивали моего Бога и мою душу и обращали мои мысли во прах» (32). В своем размышлении 1944 г., затрагивающем картину Шагала и выстраданную книгу «Ночь» Визеля (1960 г.), заключенный Бонхоффер размышляет о том, как ранимый и слабый «Христос [мог] стать Богом атеистов» (Letters and Papers, 280): «Бог, пребывающий с нами, это Бог, который нас оставляет (Марк 15:34). Бог/который допускает, чтобы мы жили в мире без рабочей гипотезы о Боге, это Бог, с которым мы сталкиваемся постоянно. Пред Богом и с Богом мы живем без Бога. Бог допускает, чтобы Его самого изгнали из мира, распяв на кресте. Он слаб и бессилен в мире, и только в таком виде он может пребывать с нами и помогать нам». (360)
[314]
* * *
Бог, который признал свое бессилие в мире, не искупает ни грехи христиан, ни творит чудеса, а страдает, как часть еврейского народа.
[315] Один современный христианский мыслитель, пытаясь преодолеть зло христианского антисемитизма, сравнивает геноцид с кремацией Иисуса и евреев: «Когда Тело Христа найдут в Освенциме, Его достанут из сонма жертв, а не обнаружат сокрытым среди католических и протестантских и православных охранников и начальников» (Littell, 131).
[316]
До и после того, как Шагал создал свое полотно, художники сравнивали Иисуса с убиенными евреями, протестуя против мученичества человечества в годы Третьего рейха. Пособничая нацистам или выказывая безразличие к страданиям евреев, разве не подменили христиане крест свастикой? В 1930-е гг. один немецкий и один американский фотограф вовлекли христианство в несчастье национал-социализма, включив распятие в эмблемы Третьего рейха. «Как в Средние века, так и в Третьей империи» (1934 г.) Джона Хартфилда и «Скелет или Свастика» (1936) Пола Стренда осуждали христианство за причастность к мучению европейских евреев. Истощенная или скелетообразная, принесенная в жертву форма становится фигурой любого и всякого, чью плоть обрекало на разрушение или уничтожение слово Гитлера. За какие бы идеалы не умер Иисус — любовь-доброта, милость к угнетенным, воплощение божественного в человечестве, обещание вечной жизни, — все они омертвели в пророческих предвоенных фотокомпозициях.
Более поздний «Поцелуй Иуды» (1994 г.) Иржи Андерле, напоминающий раскрытый старинный фолиант, размышляет о кризисе в Христианском мире, который высветил Холокост: На его левой странице показано орудие пыток, возможно, копье, которым был пронзен распятый Иисус, возможно, камера и цапля; справа— лицо, столь замазанное, что хорошо различим лишь терновый венец.
[317] Среди грозных орудий слева — три креста на Голгофе с двумя женскими фигурами у основания одного из них, с центральной фигурой. Справа — несколько пар глаз под колючим терновым венцом. Возможно, «Поцелуй Иуды» Андерле намекает на другой аспект, который выявил Холокост, а именно то, что технологии войны действуют как поцелуй Иуды, пугая нас порабощающими инструментами силы, делая бессмысленным служение Христа.
[318] В любом случае, когда Иисус переживает ужасные страдания на кресте Шагала или напоминающем граффити рисунке Андерли, нам сообщают о том, что катастрофические события XX столетия подрывают любые духовные институты, которые мы сделали обителью нашей веры. Как и искусства и науки, религии после Освенцима предстают варварскими.
Учитывая название Андерле, делающее неясным, кому же принадлежит центральное лицо — Иисусу или Иуде, а также вид реликвии (некоторые считают, что это — Тюрингская плащаница, или плат Вероники), его «Поцелуй Иуды» наводит нас на размышления о катастрофическом слиянии Иисуса и Иуды, несостоятельности божественного, сложном переплетении божественной милости и бесчестия, обрекающего на немилость. Таким же образом Иуда завладевает полотном Шагала. Обратите внимание на слияние у Шагала страдающего Сына Божьего с иудеями, но также и с Иудой. Подобно тому, как мученичество, что претерпел Бонхоффер, обвиненный в измене, свидетельствует в пользу слияния Иисуса и Иуды, точно так же всеобщность предательства могла предвещать хрупкость всех действующих лиц Драмы Страстей Господних, равно как и спасения, которое они стремились принести человечеству Запечатлев желтое распятие на фоне еврейского опустошения, Шагал намекает на традиционный цвет Иуды, золото, которое тот якобы воровал, и знаки, которыми нацисты наделяли евреев. Еврейский Иисус, воплощающий здесь распятие без воскресения, навевает в памяти единственного из апостолов, долгое время представлявшегося лишенным спасения, и берет на себя печальную невыполнимую миссию — отделить добро от горя или вины в эпоху после Холокоста. Если, как выразился один иезуит, «евреи являются не только народом Христа, но Христом всех народов», то Иуда — особенно после Холокоста — мог бы считаться Христом апостолов».
[319] В синяках и кровоподтеках, снова и снова вынуждаемый пойти на ужасную смерть, Иуда, как и Иисус, «к злодеям причтен был» (Исайя 53:12) и был использован для причисления всех евреев к заслуживающим осуждения и порицания злодеям.
[320]
После 1945 г. мученическая фигура напоминает Иуду, распятого на кресте предательства, которое он якобы спланировал и совершил. Когда принесенный в жертву Сын Божий Шагала предстает таким же уязвимым и оставленным Богом, как его чернимый двенадцатый апостол, эти двое вместе выражают то самое немыслимое на первый взгляд единение, ту самую сопричастность, на которую намекал в древности Блаженный Августин: «предал на смерть Сын, предал на смерть Иуда» (Tractates, 222-223). Иисус и Иуда, предающие себя, как представители ослабевшего Бога или те, кем сначала манипулировало, и от кого затем отказалось предумышленно могущественное божество, могут свидетельствовать только о беспомощности человечества. Но для кого? Когда Сын Божий и его народ умирают, несчастье грозит произойти незаметно. Хрупкие умерщвленные человеческие создания должны возвыситься до абстрактных сверхчеловеческих, идеалистических.
В предыдущей главе я отмечала, что Иуда Незаметный напоминает Иова утверждением бессмысленности своей злой доли. На полотне Шагала, где страдания Иисуса также показаны бессмысленными, где Сын Божий предстает оставленным Богом, Иисус неожиданно подтверждает пережитое Иудой бессилие.
[321] Крайность катастрофы оказывает огромное давление на историю Драмы Страстей Господних; по крайней мере, такое предположение выдвигается в остальной части этой главы: мы увидим в ней сострадательного Иисуса нерешительным и слабым, поскольку Он и Иуда сближаются и вместе осознают непрочность веры в искупление, которую они стремятся утвердить. Соединяя Иисуса с еврейским народом и Иудой, художники после Второй мировой войны дают отпор попыткам нацистских протестантов отсечь Иисуса от иудаизма и связать иудаизм с Иудой. В противовес нацистскому разделению арийского Иисуса и еврейского Иуды, логика не простительной бойни невинных приводит Шагала и Андерле к ошеломляющему предположению: о том, что, наряду с Иисусом, именно еврейский народ и апостол, долгое время его олицетворявший, подвергался мучениям, будучи обречен стать символами изменничества в повествовании Драмы Страстей. Распятие Шагала резко критикует тайное пособничество христианства геноциду евреев и делает это во имя — и от имени — Христа осажденного.
В конечном итоге осуждение нацистами евреев, как Иудиного народа, привело к послевоенным попыткам христиан искоренить или, по меньшей мере, отогнать идеи об Иуде-изгое. Жесткие послевоенные настроения, столь ярко проявленные на полотне Шагала, побудила ряд теологов, а в конце концов, и Второй Ватиканский собор установить моральную заповедь: то, что произошло во время крестных мук Иисуса, «не может быть обвинением всем евреям, ни жившим тогда, ни живущим сейчас», и что «евреи не должны быть представлены, как отвергнутые или проклятые Богом» («Nostra Aetate» — Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям). В 1959 г. Римский Папа Иоанн XXIII устранил фразы о «нечестивых евреях» из литургии на Страстную Пятницу, a «Nostra Aetate», провозглашенная в 1965 г. Папой Павлом VI, утверждала, что «Церковь, принимая во внимание наследие, которое она разделяет с евреями, и движимая не политическими соображениями, а любовью в духе Евангелия, осуждает ненависть, гонения, проявления антисемитизма, когда-либо и кем-либо направленные против евреев».
[322] Стоит ли говорить о том, что подобные взгляды окрасили и без того неоднозначную жизнь Иуды во второй половине XX в. Еврейского Иуду-изгоя нельзя было вычеркнуть из сознания людей, хотя он и стал незаконным.
Впервые за всю историю Церковь определила, что евреев не следует обвинять. По крайней мере, в так называемой «высокой культуре» Иуда начал превращаться в «религиозно неопределенного» двенадцатого апостола. Но если вину за предательство нельзя возложить на иудейский сговор, что или кто мог послужить причиной или движущей силой распятия? Независимо от того, как писатели конца XX в. отвечают на этот вопрос, они изображают Иуду близким по духу Иисусу, которого он пытается спасти — не еврейским Иудой, а Иудой, чей духовный опыт демонстрирует такое же непостоянство, как и опыт Иисуса и других одиннадцати апостолов. Для начала, прощение не отождествляемого с каким-либо вероисповеданием Иуды в некотором смысле перекрывает его прежнее оправдание, связанное с претенциозными романами о его не допускающей исключений и совершенной нравственности.
Спаситель Иисуса
Выступая против использования образа Иуды в целях геноцида, послевоенные писатели опирались на образ героического Иуды, сложившийся в девятнадцатом веке. Но после Второй мировой войны уже больше не обманутый приверженец, двенадцатый апостол теперь становится хорошо осведомленным соратником Иисуса: он действует не только ради, но также и вместе с Иисусом и по Его указанию. Как в случае с Бонхоффером, акт предательства теперь трактуется как требующий мужества нравственный поступок. Когда Иуда становится спасителем своего спасителя, он неоднократно заявляет, что его действия мотивированы «не враждебностью, не эгоизмом», а предписанием Самого Иисуса: «Он призвал меня сделать это, чтобы искупление свершилось», — поясняет Иуда из Кериота Филиппа Роберта Диллона (57). В этот кульминационный момент истории Иуды в искусстве, двенадцатый апостол оставляет все эгоистичные или неправедные помыслы, содействуя Иисусу принять смерть, к которой Тот стремится. Важность событий XX в. подвигла двух исключительно одаренных писателей — Никоса Казан-дзакиса и Хосе Сарамаго — к исследованию ужаса человеческого страдания в ракурсе союза Иисуса и Иуды. Но если один из них представляет Иуду победоносным вместе с Иисусом и человечеством, то другой горюет над поражением Иуды, Иисуса и человечества, всех парадоксально подавленных разрушенной и разрушительной религиозной экономикой, известной под названием христианства.
Писатели, возвышающие двенадцатого апостола, делают это в манере, созвучной с ролью Иуды, как орудия божественного промысла, в Гностическом Евангелии от Иуды — ведь в этом древнем тексте Иисус говорит Иуде: «Ты будешь проклят другими поколениями — и придешь править ими» (33).
Действительно, Иисус гностиков сообщает Иуде, что тот «превзойдет» всех других апостолов, потому что «Ибо в жертву принесешь человека, в которого Я облачен» (43). В Евангелии от Иуды двенадцатый апостол нужен Иисусу, чтобы помочь Ему сбросить смертную оболочку и заручается его поддержкой, чтобы стать бессмертным. Даже, несмотря на то, что поэты и прозаики XX в. едва ли могли испытывать влияние Коптской рукописи, утерянной на 1700 лет, некоторые из них рассказывают схожую историю, в которой Иуда предан Иисусу и действует под его руководством. Этот двенадцатый апостол понимает, что Иисус сам возвестил в Новом Завете: «Я знаю, которых избрал. Но да сбудется Писание» (Иоанн 13:18). Ища также ключ к интерпретации случившегося в предписании Иисуса, который у Иоанна побуждал Иуду: «Что делаешь, делай скорее» (13:27), они подкрепляют обещание Иисуса в Гностическом Евангелии, обращенное к Иуде: «Подними глаза и ты увидишь облако, и свет в нем, и звезды вокруг него. Путеводная звезда и есть твоя звезда». (44). Стихотворение Каунти Куллена и теологически обоснованная вымышленная автобиография Альберта Л евитта могут завершить традицию, которая была разрушена (подорвана) Казандзакисом, а затем, даже еще смелее, Сарамаго, чтобы прославить главного (звездного) спасителя Иуды.
В балладе Каунти Куллена «Иуда Искариот» (1925 г.), повествующей о рождении, смерти и воскресении Иуды, двенадцатый апостол становится «правой рукой» Иисуса и Бога. Сын любящей матери и друг детства Сына Марии, Иуда оказывается в состоянии услышать «мечту» Иисуса, наблюдает Его чудеса и посвящает себя служению Ему, даже когда приближается «смертный час»:
«В горячем порыве Иуда сказал:
“Исполню я все, что Ты будешь просить”.
И пылко на то Иисус отвечал:
“Коль так — то, Иуда, ты должен убить
Того, кого любишь, Того, кем любим,
Как Господа Сын никого не любил.
И сможешь спасти ты поступком своим
Весь род человека, что Бог сотворил”». (295)
Иуда Куллена, предупрежденный о том, что он будет проклят за свой великодушный поступок, приемлет «несчастный удел», отводимый ему Иисусом: «Лобзание сердце разбило его, / Но то не узнал и не слышал никто».
[323] В конце баллады после смерти двенадцатого апостола Куллена ждет справедливое вознаграждение за его преданность и за спасение человечества на Тайной Вечере, напоминающей окончание баллады Роберта Бьюканена.
В книге «Иуда Искариот: увлекательная автобиография» Альберта Левита (1961 г.) Иуда также изображен изливающим «всю свою любовь» на Иисуса; тем самым ответственность за предательство перекладывается непосредственно на Иисуса. Иуда Левита рассказывает историю, которую автор предлагает в своем Предисловии — о том, что Иуда хранил в тайне истинную сущность Иисуса до тех пор, пока Сам Иисус не повелел ему открыть эту тайну» (vii). Верный товарищ, Иуда защищает Иисуса от всех, кто хочет схватить Его, пока Сам Иисус не возвещает: «Час пробил»: «И ты, Иуда, должен открыть врата, за которыми лежит путь, коим Я должен пройти», — объясняет Иисус Левита, добавляя: «Я знаю, что ты веришь в Меня; Я знаю, что ты любишь Меня. Прости за то, что Я возлагаю все бремя Моей плотской смерти на тебя» (52). Самые последние слова, уже на кресте, Иисус Левита также обращает Иуде: «Иуда, Иуда, все кончено», — оставляя двенадцатого апостола ошеломленным, сбитым с толку смыслом этих слов и решающим покончить с собой в надежде на то, что самоубийство откроет ему «врата», через которые он воссоединится в духовном союзе со своим чтимым Мессией (64).
И «Последнее искушение Христа» Никоса Казандзакиса (1960 г.) и «Евангелие от Иисуса» Хосе Сарамаго (1991 г.) — оба эти произведения поддерживают версию древних гностиков, равно как и выдвинутое недавно Славоем Жижеком предположение о том, что «предательство было частью плана, Христос повелел Иуде предать Его», и потому «поступок Иуды был проявлением высочайшей жертвенности, безграничной преданности» (Puppet, 17). В чем Казандзакис и Сарамаго не сходятся во мнении, так это — в вопросе о том, спасает ли Бог человечество или проклинает его, искупают ли крестные муки Христа грехи человечества или обрекают его на погибель. Если Казандзакис рисует Иуду, как и Иисуса, успешно исполняющим благую Божью волю, то Сарамаго оплакивает Иуду и Иисуса, уничтоженных злой волей промысла. В процессе оправдания двенадцатого апостола эти авторы отвечают на вопрос «кто кого предал?» диаметрально противоположным образом. Казандзакис намекает, что Сын Божий почти предал дело Господне, тогда как Сарамаго отваживается возложить вину за предательство на Бога-Отца, отводя ему мрачную роль, прежде игравшуюся Иудой. При всем при том обоих писателей сближает версия о том, что именно Иисус попросил двенадцатого апостола пожертвовать Им во благо Самого Иисуса и того, что — как надеялись и Иисус, и Иуда — должно обернуться благом для всего человечества.
В «Последнем искушении Христа» Казандзакис привносит в почерпнутый из XIX в. образ Иуды-повстанца идею о том, что Иуда был нужен Иисусу, который действительно просил Иуду помочь выдержать предопределенное Ему тяжелое испытание. С самого начала этой романической интерпретации жизни Иисуса, зелот Иуда часто посещает Иисуса.
[324] Кузнец-мятежник, рыжебородый, со свирепым лицом, Иуда изучает Иисуса, делающего кресты для римлян, и начинает верить в призвание плотника (9). Хотя поучение Иисуса о любящем братстве вызывает у Иуды сомнения: «Не все мы братья, — размышляет он. — Израильтяне и римляне не братья друг другу, как не братья друг другу израильтяне» (178). Когда Иисус наконец решается начать проповедовать и обращается к людям с призывом «Возлюбите друг друга!» (185), Иуда лишь усмехается: «Стало быть, мы должны возлюбить римлян? Подставить им горло, как ты подставляешь щеку, да еще сказать при этом: «Зарежь меня, брат?» (186)
Иуда Казандзакиса имеет два лика — но не из-за двуличности, а из-за его противоречивости и неуверенности в характере Иисуса и его миссии. Радеющего о защите Израиля от «нечестивых римлян» (163), Иуду терзают сомнения в Иисусе, сотрудничающем с колонизаторами, и в такие моменты его лицо также раздваивается: «Одна его половина смеялась, другая угрожала, одна испытывала мучения, другая оставалась неподвижной, словно была вырезана из дерева» (162). Следуя по стопам двенадцатого апостола де Куинси, нетерпеливый Иуда Казандзакиса остается безразличным к «Царству Небесному», радея о «царстве земном», причем даже «не всемирном царстве, но только земле Израиля, состоящей из камня и людей», тогда как Иисус проповедует, что «Царство Небесное пребывает не в воздушных пространствах, но внутри нас, в сердцах наших»: «Преобрази сердце свое, и обнимутся небо и земля, обнимутся израильтяне и римляне, все станет единым» (196). Иуда верит в бытие плоти, здесь и сейчас, тогда как Иисус верит в вечное существование души. Но обоих сближает потребность узнать, действительно ли Иисус — Бог Израильский?
После возвращения Иисуса из пустыни Иуда, видя в Его руке «топор Крестителя», ощущает ликование и приподнятость духа, воодушевленный тем, что Иисус нашел Себя и теперь воспринимает Себя не «женихом», приглашающим апостолов на свадьбу, а «дровосеком», призывающим их к войне (298-299). Другие одиннадцать напуганы, но страх не ведом бескомпромиссному Иуде, которым владеет одно лишь желание, и которому будет только в радость пожертвовать собой ради крестных мук (300). И хотя Иуда продолжает не доверять Иисусу и его преданности «топору», эти двое достигают понимания. С «Иудой-овчаркой» (279) Иисус прибывает в Иерусалим. И именно Иуде Иисус поверяет свою «страшную тайну»: «Ты самый сильный из всех товарищей. Думаю, ты один сможешь выдержать ее тяжесть» (386). «Страшная тайна» объединяет Иуду и Иисуса, отдаляя их от других учеников и утверждая необходимость [участия] Иуды в Драме (392). Опираясь о «тяжелую руку» рыжебородого (410), Иисус уверяет Иуду в том, что тот избран разделить с Ним тайну мессианства: «Ты самый сильный. Другим не выдержать…» (411). Иисус велит Иуде устроить встречу в саду и убеждает своего помощника: «Мужайся, брат мой Иуда! Я тоже стараюсь быть мужественным» (411). Слушая уверение Иисуса, что он воскреснет вновь, Иуда признается: «Ты говоришь мне, чтобы успокоить, чтобы заставить меня предать Тебя и сердце мое не разрывалось при этом. Ты говоришь, что я способен выдержать, чтобы придать мне мужество, но чем ближе ужасный мин, тем труднее это. Нет, я не выдержу, Учитель!» (420-421). Однако Иисус настаивает: «Выдержишь, брат мой Иуда.
Бог даст тебе силу, которой тебе недостает, потому что так нужно. Нужно, чтобы Я погиб, а ты предал меня —
мы вдвоем должны спасти мир, помоги же мне!» (421, выделено автором). На вопрос Иуды, смогли предать своего учителя Сам Иисус, Тот отвечает: «Нет. Думаю, что Я бы не смог. Потому
Бог сжалился надо Мною и определил Мне более легкий долг —
быть распятым» (421, выделено автором).
[325]
Утверждающие героизм Иуды как основного посредника Бога главы с 30 по 33 «Последнего искушения Христа» посвящены последнему искушению на кресте: в видениях Иисусу предстает Его жизнь
после 33 лет и то, что Он принимает за
кошмар распятия. Ангел-хранитель переносит Его на Его свадьбу с Марией Магдалиной и дорогой смертных к бессмертию, через убиение ее плоти. После смерти Магдалины ангел (теперь уже воплощенный в арапчонке) воссоединяет Иисуса с Его сестрами Марией и Марфой, побуждая Иисуса взять себе новое имя — Лазаря. Порождение и происхождение приходятся по душе Иисусу-Лазарю, как и арапчонок, молящийся Богу эфиопскому, который «не бранится» и «исполняет все, что он ни пожелает» (464), и последователи которого обретают Царство Небесное на Земле. Несмотря на сонм детей и внуков, ряд знаков предостерегают Иисуса-Лазаря о том, что означает его уклонение от распятия. Показательнее всего возвращение дряхлых апостолов, которые выговаривают ему за свою испорченную жизнь и указывают на единственного, кто оказался стойким, «колосса, который стоял на пороге как иссохшее, обугленное дерево. Но корни его волос и бороды все еще были рыжими»: «Иуда! Он — единственный, кто до сих пор еще держится прямо» (488).
Иисус-Лазарь, защищаясь, оправдывает свою безмятежную жизнь с пахотными землями и женщинами как форму победы над смертностью, но Иуда справедливо обвиняет его беспощадными словами: «“Изменник! Отступник!” — рычал он. “Твое место было на кресте. Там Бог Израильский положил Тебе сражаться. Но ты струсил, и когда смерть подняла свою голову, ты не нашел в себе силы достойно ее встретить. Ты бежал и укрылся под юбками Марфы и Марии. Трус! Ты даже изменил свой облик и свое имя, назвавшись Лазарем, лишь бы спастись!”» (491)
Иуда оскорблен тем, что Иисус-Лазарь его «убеждал — помнишь ли ты об этом? — и умолял: «Предай меня, предай меня»: «Я так любил Тебя, я так Тебе доверял, что сказал Тебе «Да» и пошел и предал Тебя» (492). Именно Иуда видит в ангеле-хранителе Иисуса-Лазаря сатану. Иисус-Лазарь просит о прощении, бросаясь к рыжебородому; но Иуда избегает объятий человека, разбившего его сердце. Наделяя Иисуса оскорбительными для него эпитетами «Трус! Отступник! Изменник», он чувствует распятым себя и завершает свою обличительную речь криком «Лама Сабахтхани» (495), за которым могло бы последовать торжествующее «Свершилось», поскольку он «не был трусом, отступником, изменником. Нет, он был пригвожден к кресту» (496).
Иуда спасает Иисуса от последнего искушения — искушения предать своего предателя, избежав распятия, и делает он это для того, чтобы обеспечить человечеству духовное бессмертие. Но как и почему Иуда Казандзакиса, изначально радевший за бренное бытие и политическое царство на Земле, стал ратовать за трансцендентальное будущее души и грядущее царствие духа, реализовать которые ему в конечном итоге удается вынудить Иисуса? Трансформация Иуды — его отречение от дровосека и объятий жениха — не описывается в «Последнем искушении Христа». Тем не менее бесчестное поведение, традиционно приписываемое Иуде — трусу, отступнику и изменнику, здесь его демонстрирует Иисус, прежде чем соглашается стать Христом. В измышленной версии Казандзакиса, к сожалению, преображение Иисуса, а в конечном итоге и Иуды в нематериальные субстанции сопряжено с поношением женщин и чернокожих, ассоциируемых с материальным миром. Искушение плотью, предлагаемое обеими Мариями, Марфой и арапчонком с его африканским Богом резко противопоставляется героическому Иуде, подстрекающему колеблющегося Иисуса отказаться от своего воплощения в качестве биологически зачатого сына человека ради возрождения крылатой души, осуществляемого одухотворенным Сыном Божьим.
Иуду из романа Казандзакиса сближает с библейским патриархом Авраамом глубокое осознание необходимости покориться и смириться с принесением в жертву любимого сына. Несмотря на жаркую полемику, критику и споры, которые он вызвал, роман Казандзакиса, он снимает бремя вины с Иуды, не затрагивая вопроса роли Бога в Драме Страстей Христовых.
[326] Чего нельзя сказать о трактовке Драмы Страстей Господних, предложенной Жозе Сарамаго в «Евангелии от Иисуса» — сочинении, защищающем и оправдывающем Иуду и одновременно чернящем Бога-тирана, развращаемого жаждой абсолютной власти. Сарамаго, обреченный на ссылку после того, как португальское правительство вместе с Католической церковью запретили номинировать его роман на главную литературную награду, винит во всем происшедшем нравственность не предателя и не преданного, а власти, дозволившие кровавую бойню, которую их история впоследствии оправдывает. По версии самого еретического мыслителя, его добродетельный Иуда вместе с Иисусом отважно сопротивлялись тому, чтобы стать орудиями промысла Бога, чье понуждение их к жертвованию собой трактуется писателем не только как нравственно сомнительным, но и просто отвратительным. Сарамаго серьезно воспринимает важность другой элизии, которую Августин сформулировал как риторический вопрос, представляющийся на первый взгляд совершенно бессмысленным, если не кощунственным: если предание Христа было совершено Богом, как и Иудой, «является ли в таком случае Бог-Отец также изменником?» (Tractate, 222). Сарамаго пытается уклониться от утвердительного ответа, предполагающего, что вся вина за распятие Христа лежит исключительно на Боге-Отце.
И снова, в который уже раз, Иуда здесь предстает «правой рукой» Иисуса, его другом и сподвижником. Один Иуда Галилеянин, зелот, мстит римским угнетателям, но его нельзя спутать с апостолом Иудой Искариотом, который играет такую малую роль в этом романе, что оправданием его включения в биографию Иуды может послужить лишь тот факт, что она обозначила переворот в подходе к толкованиям Драмы Страстей после того, как несчастья и бедствия ознаменовали вторую половину XX в. Иисус-Лазарь Казандзакиса в момент временного эскапизма и иллюзий объясняет, что его бы следовало считать «сыном человеческим, говорю вам, не Сыном Божьим» (476). У Сарамаго смелость Иуде, равно как и Иисусу, придают именно совместные усилия представить Иисуса только «сыном человеческим», «не Сыном Божьим», хотя они оба и терпят в том неудачу.
В столь «внушительном труде» воображения, который несравненный Гарольд Блум находит «заметно превосходящим любое другое жизнеописание Иисуса, включая четыре канонических Евангелия» (Bloom, «The One» [«Один»], 155), Сарамаго дерзко воссоздал альтернативную историю жизни Иисуса, повторяющего путь своего обвиненного и распятого отца, Иосифа, Иисуса, обретающего рай на земле в объятиях блудницы Марии Магдалины из Бетхани и слушающего ее совета и воздерживающегося от воскрешения Лазаря из мертвых, потому как Мария предостерегает: «Никто на свете не согрешил столь тяжко, чтобы умереть дважды» (362). Но жестокий и честолюбивый Бог Сарамаго гораздо больше смущает читателей, особенно в сцене Его Благовествования, когда творец мира в лодке в Галилейском море с Иисусом и Дьяволом (в романе иронично названном Пастырем) объясняет причины, по которым он хочет, чтобы Иисус был распят. Один фрагмент в особенности заслуживает быть процитированным здесь полностью, поскольку он передает необычный подход Сарамаго к Богу: «Вот уж четыре тысячи четыре года, как я стал богом иудеев, а народ этот по природе своей сложный, вздорный, беспокойный, но мы с ним достигли некоего равновесия в наших отношениях, поскольку он принимает меня и будет принимать, насколько способен я провидеть будущее, всерьез. — Стало быть, ты доволен? — спросил Иисус. — Как сказать: и доволен и нет, а вернее, был бы доволен, если бы не это свойство неуемной моей души, твердящей мне ежедневно: Да уж, отлично ты устроился, после четырех тысячелетий забот и трудов, которые не вознаградить никакими, даже самыми щедрыми и разнообразными жертвами,
оставшись богом крошечного народца, живущего в уголке мира, сотворенного тобой со всем, что есть в нем и на нем, — и скажи-ка ты мне, сын мой,
могу ли я быть доволен, постоянно имея перед глазами это мучительное противоречие? — Не знаю, отвечал Иисус, я мир не сотворял, оценить не могу. — Оценить не можешь, а помочь — вполне. — В чем и чем? — Помочь мне распространить и расширить мое влияние,
помочь мне стать богом многих и многих иных. — Не понимаю. — Если ты справишься с той ролью, что отведена тебе по моему замыслу, я совершенно уверен, что лет через пятьсот-шестьсот я, одолев с твоей помощью множество препятствий, стану богом не только иудеев, но и тех, кого назовут на греческий манер католиками. — А что же это за роль? — Роль мученика, сын мой, роль жертвы, ибо ничем лучше нельзя возжечь пламень веры и распространить верование.
Медовыми устами произнес Бог слова «мученик» и «жертва», но ледяной холод внезапно пронизал все тело Иисуса, а Дьявол смотрел на него с загадочным выражением, чем-то средним между интересом естествоиспытателя и невольной жалостью». (311—312, выделено автором)
Потрясение, которое испытывает Иисус, внимая словам алчущего власти Бога, только усиливается после того, как он слушает читаемый Богом синодик верующих, которые умрут — «не из-за, но за Него» — «тактично» перечисляя их «в алфавитном порядке, чтобы не обвинили в том, что он одного назвал прежде другого», монотонно излагая «нескончаемую историю, писанную железом и кровью, пламенем и пеплом», полную «океанов слез и бескрайних морей страданий», которая разыграется вслед за распятием и победой Бога «над другими богами» в борьбе людей во имя Бога и во имя его сына (320—321). Даже Дьявола, Пастора, настолько ужасает рисуемая Богом картина бесконечных войн и мученической гибели людей ради его победы — когда «земля будет полниться страдальческим воплем и воем, предсмертным хрипом, и дым сожженных закроет солнце», что он делает Богу тщетное предложение: «Ты позволишь мне вернуться на небо, простишь мне зло, содеянное в прошлом, ради того, какое не будет совершено в будущем, ты обретешь и будешь хранить мою покорность», тогда «сыну твоему не надо будет умирать на кресте» (331). К сожалению, Бог не хочет принять и простить Пастора: «ты нужен мне таким, каков ты сейчас есть и даже еще хуже, если только это возможно… Потому что Добро, воплощенное во мне, не могло бы существовать без тебя, воплощенного Зла» (331). Бог, а не Иуда, предает Иисуса. Сарамаго развивает критику божественной несправедливости, начатую авторами Иуды Незаметного, поскольку в его романе именно Иисуса бессовестно использует Бог.
[327]
И какая разница, откуда появляется Иуда Искариот, вступающий в эту «игру» очень поздно, чтобы расстроить планы этого злого божества. В стихотворении, цитируемом в начале предыдущей главы, Говард Немеров представляет Иуду «необходимым», тем, кто «привел в движение то, что «было суждено изначально». Сарамаго оспаривает следующую фразу Немерова: «Ради нас». По мнению Сарамаго, жертва выгодна лишь безжалостно амбициозному и занятому самим собой Богу
[328] В «Евангелии от Иисуса» Иуда пытается помешать жертвоприношению, которое только узаконит и сохранит навсегда практику жертвоприношений, но, как и Иисус, он оказывается обманутым. К концу романа, после того, как Иоанна Крестителя обезглавливает Ирод, Иуда — крещенный Крестителем — приходит в ярость: «Как такое может быть… Как же может быть, — восклицал он, — что, если Бог послал Иоанна возвестить пришествие Мессии, а я не сомневаюсь, что это Бог, потому хотя бы, что без Божьего соизволения ничего на свете не сделается» (366). Вопрос побуждает Иисуса поведать ученикам не только о своей мученической смерти, но и об их участи в будущем: о том, что умрут на кресте «и Андрей, и Филипп, что с Варфоломея сдерут кожу заживо, а Матфея убьют варвары, что Иакову Зеведееву отрубят голову» и об участи других апостолов: «Тут раздался голос кого-то из учеников, только непонятно было, кого именно: — Стало быть, мы умрем за тебя? — Не за меня, а за Бога, — отвечал Иисус. — А чего же Он, в конце концов, хочет? — спросил Иоанн. — Он хочет владеть всем миром»
[329]. (368)
Восстающий против такого империалистического Бога Иисус решает заменить Сына Божьего на кресте человеком, именующим себя царем Иудейским, с тем чтобы побудить народ изгнать римлян из Израиля. Чтобы расстроить кровавый замысел Бога, Иисус хочет умереть, как вождь мирян (Сын Человеческий), а не как божество (Сын Божий).
Несмотря на яростное противодействие других апостолов, Иуда предлагает пойти в Храм, и Иисус, «поцеловав его в обе щеки», посылает Иуду в ночь. Плененный, опутанный веревками Иисус проходит мимо бездыханного, но еще теплого тела Иуды Искариота, который «загодя взобравшись на смоковницу, привязал веревку к ветви ее, сунул голову в петлю и принялся терпеливо ждать, когда вдалеке из-за поворота дороги покажется Иисус, чтобы в тот же миг со спокойной совестью, ибо выполнил он все, что надо, и так, как надо, кинуться вниз» (371). Поскольку Иисус знает, что в прошлом Он управлял ветрами, исцелял болезни и насыщал многих, Ему приходит в голову идея воскресить Иуду, но «воскрешать людей по силам только Сыну Божьему, а никак не Царю Иудейскому, чей дух безмолвствует, а руки и ноги связаны» (371). Стражники, обшарив тело Иуды, не находят «ни гроша» (372), и процессия движется дальше. На слова Иоанна «Оставим его, он не из наших», возражает «другой Иуда, Иуда Фаддей»: «Хотим мы того или нет, но он всегда будет из наших, другое дело, что мы не будем знать, что с ним делать, но это не важно — он наш» (372). Иисус продолжает уверять, что он — не Сын Божий, а всего лишь Сын Человеческий, Царь Иудейский. И все же, в тот самый момент, когда жизнь уже уходит из него, Он понимает, что «Его обманом привели» на крест, что «от начала начал расчислено было, что жизнь Его оборвется именно так» — в тот самый момент Иисус произносит Свои последние слова: «Простите Ему [Богу], люди, ибо не ведает Он, что творит» (377).
По мнению Гарольда Блума, последнее восклицание Иисуса у Сарамаго «свидетельствует как о смягчении Иисуса, так и об эстетически контролируемой ярости Сарамаго» (163). Эту ярость питает скандальный вывод рассуждающего Августина, от которого он отрекся: «Предал на смерть Отец» (Tractates, 222—223). Читатель, симпатизирующий Иисусу и Иуде, задумывается над грешным Богом, который заручился поддержкой евангелистов, чтобы установить господство христианства на всем земном шаре — господство, обретенное ценой ужасного пожертвования Богом Своим собственным Сыном, равно как и ценой ужасных гонений и пролития крови Его миссионеров. Заимствуя термины Немерова для толкования романа Сарамаго, можно было бы сказать, что Новозаветные Евангелия были сложены на заказ, созданы ради признания недействительным, лишенным законной силы более раннего Евангелия от Иисуса.
[330] По версии Сарамаго, не только Иуда, но и Иисус, оказался замешан в историю, заказанную победителем. Смертные нравственны, тогда как бессмертный предстает безнравственным в романе Сарамаго, который выдвигает резкое и скандальное обвинение против божественной справедливости. И преданный Иисус, и предатель Иуда принуждены играть свои роли в истории, которая выльется в религиозные войны — совершенно ненужные, поистине разрушительные, угрожающие благосостоянию человечества, отвечающие единственной цели жаждущего славы божества — обрести «еще большую власть» любой ценой.
Как и фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа», романы Казандзакиса и Сарамаго стремятся развенчать любые интерпретации Драмы Страстей, возлагающие вину за убийство Иисуса на евреев или на еврея Иуду.
[331] Когда Сарамаго приписывает «нескончаемую историю, писанную железом и кровью, пламенем и пеплом» победе Бога «над другими богами» (320—321), когда он представляет Бога утверждающегося ценой «страдальческих воплей и воя, предсмертных хрипов, и дыма сожженных» (331), трудно не воспринимать «Евангелие от Иисуса» в контексте ссоры с Богом, — на идише, «kvetchen zikh mit got» — которую Холокост неизбежно порождал во многих евреях, как и в некоторых христианах, верующих общинах, доведенных бедствиями до состояния богохульных молящихся, ругающих непоправимое зло расторгнутого договора с Богом.
[332] Почитаемый Иуда искажает сюжет драмы до спасения (в романе Казандзакиса) или противодействия (в романе Сарамаго) крушению веры во время и после «сожжения» в Освенциме.
Но как Иуда, как спаситель Иисуса, соотносится с предположением Борхеса о том, что Бог «избрал самую презренную судьбу: он стал Иудой» (166)? Лживое Божество Сарамаго дает одно четкое рациональное обоснование подобной точки зрения; однако ученый Борхеса определенно утверждает, что Бог «снизошел до того, чтобы стать
человеком ради спасения рода человеческого» (166, выделено автором). Оправдание подобному утверждению кроется в логике сочинений Куллена, Левитта и Казандзакиса — логике, зависящей от скандального, голословного утверждения об измене Сына Божьего. Поскольку такие кажущиеся позитивными повествования делают Иисуса замешанным в преступление, традиционно приписываемое Иуде. Когда Иуда становится «привлеченным» спасителем своего спасителя, Сын Божий, — теряющий доверие, о чем негодует Иуда Казандзакиса («Изменник! Отступник!») — может воплощать собой идею предательства. Мученик Иуда — сознающий свою невинность, как Иуда Незаметный сознавал свою вину, — в таком случае может считать себя принесенным в жертву своим другом ради пользы человечества.
Поскольку проявления сожаления или акты воздаяния обычно следуют за предательством доверия, заслуживающий порицания Иисус должен исправляться. В результате зачастую по такому сценарию Иисус должен, если не вознаграждать, то, по меньшей мере, извиняться перед доверявшим Ему апостолом, вынужденным пойти на самопожертвование (физическое, но и также нравственное) ради свершения Драмы Страстей. Иисус Куллена осознает необходимость вознаградить Своего апостола за приятие отведенного ему «несчастного удела» (295). Точно так же чувство вины звучит и в голосе Иисуса Левитта, когда Он обращается к Иуде: «Прости за то, что Я возлагаю все бремя Моей плотской смерти на тебя» (52). В таком ракурсе Иуда предстает принимающим страдания за другого. Иисус Казандзакиса, как мы уже отмечали, признает, что Он не смог бы сделать того, на что Он просит пойти ради Него Иуду. Используя Иуду, Иисус идет на нравственный компромисс, будучи вынужден предать сокровенные интересы своего самого любимого ученика.
[333]
Подобную версию — о мученике Иуде и изменяющем Иисусе — мы находим в целом ряде смущающих и временами кричаще безвкусных книг. К примеру, герой написанного на древнееврейском языке романа «Иуда» Игала Моссин-сона [I. Mossinsohn, Judas] (1963) осуждает тайный сговор Иисуса и Вараввы, предавший двенадцатого апостола жестокой участи.
[334] Более исторически обоснованная интерпретация Драмы Страстей Господних, «Сюжет Еврейской Пасхи» Хью Дж. Шонфельда [Н. J. Schonfield, The Passover Plot] (1965 г.), развивает тему предательства предателя, показывая, что Иисус решил доказать свое мессианство, воплотив в жизнь пророчества Писания и таким образом Сам «запустил» сценарий Драмы. Шонфельд отводит Иисусу роль Дьявола из Евангелия от Луки, указывая, что «искуситель [Иуды] явился под личиной его Учителя» (136).
[335] Даже когда Иуда сознательно и по собственному желанию становится помощником Иисуса — как в герметическом романе Армандо Косани «Полет крылатого змея» [A. Cosani, The Flight of the Feathered Serpent] (1953) и в книге «Время для Иуды» Морли Каллагана [М. Callaghan, A Time for Judas] (1984) — авторы порочат репутацию Сына Божьего, намекая на то, что Иисус обманул Своего двенадцатого апостола, которым Он на самом деле ловко манипулировал. Когда Иуда Косани слышит, как Сатана говорит ему: «Забудь тот свет, что был» (203), у читателя создается впечатление, будто демон действует с одобрения Мессии. Когда Иисус Каллагана подтверждает: «Кто-то, да должен предать Меня. Того требует история» (125), Иуда, связанный тайной, осознает: «Я был использован. Использован Сыном Божьим, избран стать жертвой» (131).
[336]
Подобные истории об Иуде, как «привлеченном» спасителе своего Спасителя, возможно, питает воинственный характер Иисуса из Евангелия Иоанна, который побуждает и поощряет неправедные деяния своего апостола, когда говорит: «Не двенадцать ли вас избрал Я? Но один из вас Диавол» (6:70), или когда дает Иуде обмакнутый кусок хлеба, позволяя дьяволу войти в Иуду, а затем наставляет своего одержимого ученика действовать «скорее» (13:27). «Потерянное Евангелие от Иуды Искариота» Майкла Дикинсона (1994) [Dickinson The Lost Testament of Judas Iscariot] рисует читателю преданного Иуду, так объясняющего выбор своего Учителя: «Ему нужно было иметь Своего предателя, чтобы Его кто-то предал, и Он выбрал меня» (94). В этой альтернативной версии Драмы — в которой вместо Иисуса и на Его кресте распинают другого последователя — Иисус хочет инсценировать Свое воскресение самым реалистичным образом, и Иуда Ему нужен, для того чтобы вбить гвозди во время страшной казни.
[337] Традиция, делающая виновным Сына Божьего, представляет Иисуса использующим в Своих интересах любимую душу, непоправимо разрушенную гротескными целями, орудием в достижении которых она становится.
Все эти сюжеты, по глубокому счету, не противоречат версиям авторов, писавших об Иуде Незаметном, которые считали, что Иисус непредумышленно пользовался помощью Иуды. В более непочтительном подходе к Иуде, выбранном Иисусом для содействия, подневольное соучастие превращается в очевидную виновность, поскольку Сын Божий осмотрительно озвучивает свою потребность в Иуде-мученике. В подобных пересказах Драмы Страстей Иисус полностью сознает психологические, социальные и духовные последствия для Иуды, но решает, что Его личное благо и добро, которое Он несет в жизнь людям, оправдывает то подлое орудие, в которое Он должен обратить благородного, жертвенного ученика. И потому образы замученного изменника конца XX в вызывают сомнения в честности, сострадании и искупительном жертвовании Иисуса. Иуда, идущий на муки ради Иисуса, с Ним или по Его велению, подрывает всеобъемлющую любовь Иисуса, заставляя усомниться в Его способности исполнить Свои мессианские обещания.
Еще один рассказ Борхеса, «Секта тридцати» (1975), усиливает мрачный подтекст интерпретаторов Драмы Страстей Господних конца XX в., снимающих вину с Иуды исключительно с целью засыпать упреками космические силы, что вершат человеческие судьбы. Облекая свой рассказ в форму некоего найденного, якобы старинного, документа, Борхес описывает странную секту в земле Кариота, изначально называвшуюся «Тридцать сребреников». Члены ее верили, что «в трагедии Распятия… были свои добровольные и подневольные исполнители» (445) [здесь и далее цитируется по пер. Б.Дубина], те, что действовали осознанно, и те, что действовали, не отдавая себе ясного отчета в происходящем. Подневольны были первосвященники, иерусалимская чернь и римские солдаты; а вот Иуда и Иисус таковыми не были: «Добровольных было лишь двое: Искупитель и Иуда. Последний выбросил тридцать монет, ставших ценой спасения человеческих душ, и тут же повесился. Ему, как и Сыну Человеческому, исполнилось тридцать три года. Секта одинаково чтит обоих и прощает остальным» (445).
Повествователь Борхеса с пониманием относится к утопическим воззрениям сектантов, их отказу сотворить изгоя или «козла отпущения»: «Никто не виновен; каждый, осознанно или нет, исполняет план, предначертанный милостью Всевышнего. И потом Слава принадлежит всем» (445).
[338] Таким образом, в очередной раз в этой истории Борхес представляет Иуду заслуживающим почитания.
И все же, подобно тому, как ранние христиане осуждали идею Бога гностиков, рассказчик Борхеса энергично порицает Секту — в данном случае из-за ее главного ритуала, пугающего своей «мерзостью»: «Достигнув означенного возраста, приверженцы Секты переносят надругательства и подвергаются распятию на вершине холма, чтобы последовать примеру своих учителей» (445). Ради искупления через любовь, согласно такой «мерзостной ереси» (444), все обрекаются на раннюю, ничем не оправданную и мучительную смерть. Иносказательный рассказ Борхеса облечен в форму фрагмента рукописи четвертого века, которая могла бы быть переводом более раннего греческого текста. Но его размышления по поводу культа быстрого исчезновения предвещают резкое послание, подобающее тому периоду времени, когда как Иисус, так и Бог в умах некоторых людей начали замещать Иуду, как причина упадка человечества: без предателя можно обойтись, только когда предаваемы все — такова мысль Борхеса. «Слава», принадлежащая всему человечеству, обагрена кровью.
Владыка Иуда
Смертный приговор нацистов евреям, равно как и осуждение Ватиканом христианского антисемитизма, привели к значимым переменам в художественном сознании: реабилитации Иуды, с одной стороны, и осуждению высших сил, которым он служил, с другой. Это можно было бы считать маленьким шажком в сторону от святотатственной клеветы на Бога или Сына Божьего к хоровому превознесению изменчивого божества Иуды, царя царей и владыки владык, если бы нелепость такого пагубного обожествления и тон богохульного насмехательства, выбранный самым ярким из авторов, поддерживающих такую позицию, не настораживали гораздо сильнее. Когда предательство представляется силой, правящей миром, в котором еврей Иисус и его народ претерпевают бессмысленные муки и страдания, пояснял Бонхоффер, «фигура Иуды, столь непостижимая прежде, уже больше не чужда нам. Да весь воздух, которым мы дышим, отравлен недоверием, от которого мы только что не гибнем» (Bonhoeffer Letters and Papers, 11). Именно такая точка зрения наделяет враждебностью и злобностью «иудоподобного» Бога и богоподобного Иуду, завладевающих культурным сознанием в конце XX в.
Если Бог мог предать (на смерть) Своего собственного Сына, если Сын Божий мог обманом подвигнуть Своего невинного приверженца на нечестивый поступок, то почему же Иуда не может надеть на себя личину божества? Божественный Иуда горделиво шествует по своему призрачному царству, ввергая своих вечно неугомонных протеже в прегрешения и злодейства. Ужасная вездесущность предательства побудила Брендана Кеннелли сочинить свой пространный цикл стихотворений — «Книгу Иуды» (1991 г.) — бестселлер, опубликованный в Ирландии. В полном соответствии с парадоксами, что всегда множатся вокруг фигуры двенадцатого апостола, Иуда восславляется благодаря своей порочности, и нравственная трагедия, по Кеннелли, знаменует триумф и взлет в «карьере» Иуды. Изгой в полиэстере, больше ирландский католик, чем иудей, хотя и космополит по складу ума, Иуда у Кеннелли прибегает к телепроповедям, чтобы проповедовать кредо жадности и солипсизма, что отражает его стремление быть апофеозом нашего времени. Хотя еврейский Иуда-изгой был объявлен вне закона, убить легендарный фантом труднее, чем убить существо во плоти и крови.
[339] Демонический Иуда пробивает свой модный межрелигиозный путь на центральную сцену, потому что он считает себя, если не спасителем человечества, то, без сомнения, фигурой, самой почитаемой на рубеже XX в. Некоторые персонажи Кеннелли понимают, что Иуда верховодит в нашем опутанном проводами и роковом мире.
Когда Иуда-телезвезда просит гостью своей студии назвать лучшего ведущего шоу в истории телевидения, она в восторге восклицает: «Ты, Иуда, ты один, ты — Бог!» (24). «Книга Иуды» доказывает ее правоту, оценивает предательство Иуды, как основополагающий принцип, формирующий сегодня едва ли не все социализированные институты и даже сознание художников, которые их критикуют. Блестящий пиарщик, распространяющий «Иудин яд» (337), двенадцатый апостол пропитывает своей отравой тела многих и многих людей и самые основы политики. Если — и это если следовало бы написать заглавными буквами: ЕСЛИ, в контексте истории — Иуду можно отделить от евреев, Кеннелли предпринимает такую попытку, рисуя ряд сцен из прошлого и настоящего, в которых различные персонажи энергично выполняют волю Иуды или страдают от его всепроникающего влияния. В некоторых стихах в книге Иуда выступает от своего имени, в иных — его взгляды часто выражают другие персонажи, большинство из которых определяют свою линию поведения, задаваясь вопросом — радостно или виновато, — а что бы сделал на их месте Иуда?
«Книга Иуды» Кеннеди прекрасно передает его искреннее, глубоко прочувствованное убеждение в том, что идеологии и оппозиционные им идеологии, соперничающие сегодня за господство над умами людей, способствуют тому, что все больше и больше жителей современных европейских обществ оказываются во власти материального, страдают от одиночества, испытывают параноидное ощущение нереальности всего происходящего вокруг них и постепенно саморазрушаются. Не Иисус, завещавший надеяться и верить в Воскресение, но современный Иуда с его догмой отчаяния и разрушения является «святым покровителем» нашего страшного времени и наших путей. Таким образом, согласно Кеннелли, наша жизнь, наши поступки и наше сознание определяется Иудой. В манере, созвучной марксистскому мыслителю Луи Альтюссеру, ирландский поэт прослеживает влияние «иудоизма» на религию, образование, семью, закон, экономику и коммуникационное общение.
[340] Эти идеологические аппараты определяют человеческое взаимодействие за счет нравственного и физического благосостояния каждого гражданина, почему Иуда Кеннели и «улыбается, поскольку число новообращенных в “иудоизм” с каждым часом множится» (197).
Религию в «Книге Иуды» представляет Церковь Иуды, которая предает как своих прихожан, так и божества, которым они молятся. Критикующий засилье мужчин, Кеннел-ли подчеркивает жадную покупку и продажу Драмы Страстей как мирянами, так и духовными лицами.
[341] При распятии «Группа экспертов» из числа международных репортеров «отличной идеей нашли / взять интервью у Иисуса на кресте / Но силы Христа покинули / Это был трагический журналистский промах» (107). После распятия ищущий увеселения Иуда отправляется в отпуск с Церковью, воплощенной в женщине, считающей, что у них нет ничего общего, на что Иуда уверенно возражает: «Мы вместе предали невинного человека» (141). Как такое могло быть, объясняется в «Денежных мешках». Это стихотворение Кеннелли строит на контрастной антитезе — гнев Иисуса на ростовщиков в храме отзывается «звоном монет, / бросаемых в мешки / С которыми обходят прихожан самые религиозные из всех верующих» на ежедневной Мессе (178). По поводу предпринимательства Церкви Иуда придерживается мнения, что «денежные мешки указывают на деньги в самом ее сердце» (178). По Кеннелли, Церковь только наживается на самых страшных бедствиях западных стран: «Вдали от обрушившихся городов/произведения искусства украшают стены Ватикана» (377).
В своем анализе системы образования, контролируемой религией, запустившей в обращение денежный мешок Иуды, «Книга Иуды» изображает учителей, заполонивших Иудины школы. Стихотворение «Чудеса», к примеру, освещает педагогику боли при помощи сардонического студента-оратора, выставляемого «перед Первым Приходским Классом» Национальным Учителем, который «сначала спускает мне штаны, затем мои модные /трусы, стегает мою задницу, пока я пронзительно кричу, / разбивает приход. Чудеса, да и только!» (118-119) Опирающееся на публичное унижение и поголовное (антиминс) наказание, спонсируемое отступнической Церковью образование или сексуальные домогательства, возможно, побудили некоего Кристи Ханнити поверить, что «было бы всем в радость, / Если бы он отрезал шары (яйца) у всех епископов / Ирландии, потому что кастрированные епископы были бы / менее склонны к отвратительным соблазнам любви» (329). По мнению Кеннелли, любовь и обучение, регулирующиеся репрессивными, постыдными методами, выливаются в садизм и извращения, что только еще больше разъединяет людей. Иудина Церковь и Иудины школы развращают детей во многих стихах, рассказывающих о надругательствах над детьми и педерастии. Так, в стихотворении «Когда мне было три года» говорится об одном отце, который «читал вечернюю молитву / И исповедывался в грехах Господу», а затем шел в спальню к своему трехлетнему сыну. Мальчик в ужасе вспоминает: он «палец в попу мне вставлял. / Рот понуждал открыть, и в поцелуе мерзком / он языком своим язык мой обвивал, / А его палец шарил мне меж бедер дерзко, / Из ночи в ночь так было — я молчал….» (48).
Неспособный плакать, мальчик, от лица которого идет рассказ в этом стихотворении, принимает за свои слезы дождь, оплакивающий его незавидную долю вместо его глаз, которые уже не могут оплакивать его мучения в семье Иуды.
Когда Кеннелли обсуждает правовую, политическую и экономическую систему, поставленные на службу глобальному корпоративному капитализму, Иуда объявляет: «Я получил Премию Года, как лучший бизнесмен» (189) или «Я часто бываю в доме Парламента» (275). Он поступает так, дабы поднять темы Иудиного закона, Иудиной политики и Иудиного предпринимательства. Появляющиеся время от времени Понтий Пилат и Ирод олицетворяют сеющих смерть политиков, которые приводят героя Кеннелли «к личному, но
искреннему убеждению, / Что они более привлекательны мертвыми, нежели живыми» (332). Это мнение подкрепляют жертвы политиков, те классы и сословия бездомных или доведенных до крайней нужды людей, которые пополняют статистические списки безработных, и всеми ими движет Иудино отчаяние: «У нас сотни тысяч безработных, / потенциальных самоубийц в нашем мире слез» (335). Пинстрип Пигу Кеннелли смакует и продает свои газы, заполонив ими мировой рынок, а Иуда не брезгует участием в низких интригах заодно с подлыми и трусливыми националистами и их своекорыстными осведомителями. В разделе «Болтовня» ряд стихов-писем, адресованных «Сэру», написаны анонимным информатором, который маскируется под «скромного клерка, и ничего более»; который подобострастно выслуживается перед своим работодателем («о всех моих встречах, Сэр, вы будете знать»); который ведет неусыпное наблюдение и протесты которого против выдвигаемых ему обвинений звучат очень фальшиво («Я — жертва измены, / Я не помогал, не подстрекал и / Не содействовал…» [90, 91, 94]). Пишущий письма шпион сообщает об участниках некоего мятежа, в ряды которых он проникает, чтобы заманить их в ловушку, обещая: «Если у стен есть тайны, я выведаю их все» (100). Ирландские имена и места указывают на то, что Кеннелли в сатирической форме обличает механизм управления ирландским населением; но местное явление служит также микрокосмом глобального надзора, манипулирования косвенными уликами и политического шантажа со стороны разведывательных служб различных стран.
Сквозь всю «Книгу Иуды» проходит идея о том, что средства связи и коммуникаций сеют «семена иудоизма» (150) путем трансляции по телевидению и радио нечестных спортивных состязаний, пугающих бомбардировок, террористических атак, казней заложников, убийств ни в чем не повинных покупателей в супермаркетах и освещения в печати кризиса веры под рэп пьяных или находящихся в состоянии наркотического опьянения отбросов общества. Иуда так уверенно заселяет мир своими двойниками, что в конце «Книги Иуды» его «соучастник, Брендан Кеннелли, больной человек», страдает от «истощения и иудоусталос-ти, благодаря чему Иуда обретает всю полноту властных полномочий (323). Из великого множества предателей Иуда обретает своего рода «величие», потому что он знает, кто он и что он:
«Игрокам нужен герой
Кто-то кто играет с большим презрением чем остальные
Образец модель пример,
Не просто адольф сталин наполеон нерон
Но кто-то безупречный совершенный и хитрый
Могу ли я быть им? Мгмм. Я думаю, могу». (22)
Призванный олицетворять скаредное страдание и тайный грех, Иуда, тем не менее, утверждает: «Я не /символ чего-либо, Я безвестен, неслышим, неосязаем, невидим / Никем, кроме меня самого в моей /тюрьме из плоти и костей, / Еще один обычный плохой человек» (168). Вот что говорит о персонаже Кеннелли Энтони Роше: «нет ни одной частички его, которая бы не проникла в мир и не поразила его. А, поскольку он из тех, кто порицаем, ему абсолютно не свойственно порицать других…» (107—108)
Упоминание «адольфа Сталина наполеона нерона» указывает на ряд стихотворений в конце «Книги Иуды», в которых Кеннелли исследует роль Иуды в Холокосте. Фюрер, наученный своим другом Иудой, проявляет себя не лучше и не хуже всех остальных проходимцев спекулянтов:
«Гитлер говорит мне, что кожа покрывает много площади,
И снять ее можно только тщательным ощипыванием.
Чтобы добраться до мяса, крови, костей. А потом что?
Пустота, познанная мною
В теплый вечер, на спине, в траве, глядя на небо,
Безупречное, глубокое, бесконечное, как совершенная ложь». (231)
За фразой «А потом что?» следует «Пустота», высказанная Иудой, лежащим на лугу или на пастбище или уставшим, но также явно соотносящаяся с «плотью, кровью, костями» из газовых камер и концентрационных лагерей.
«Ничего», анатомируемое Гитлером и Кеннелли, отзывается во всей книге, в которой ничего проистекает из ничего, кроме как пустого разглагольствования ни о чем: суть дела — дыра в человеческом сердце. Иуда стал «первым глашатаем пустоты, которую он видит в моем сердце и в ваших» (354). Это «в ваших [сердцах]» подразумевает, наряду с христианами, и евреев-антисемитов. После периода, когда «Адольф посчитал необходимым / Стереть мое племя с лица земли» (321), Кеннелли представляет нам еврея-автора мистерии Страстей, озаглавленной «Потребность в Газе», главный герой которой, жадный Шейлокявно заслуживает отравления газом, продукта, осуждаемого другими евреями, которые теперь вовлечены в акт эстетического истребления, результатом которого явится то, что «иудоизм» пропитает еврейское общество, расколотое на ненавидящих себя ненавистников и их злейших врагов. Неискупленные, евреи и христиане Кеннелли страдают «во имя Иуды / И из-за Иуды», который «был в начале, / Есть сейчас / И будет всегда» (240).
Независимо от того, нацистский Иуда или еврейский, люди в «Книге Иуды» предстают такими же нереальными, иллюзорными, как и материальные предметы, подобные «тридцати сребреникам» в нескольких стихотворениях — «говорящими» о своей неспособности говорить. Одна из этих монет, в частности, заявляет: «Говорят, деньги звучат. Это не так. Я молчу. Я даже / не осознаю себя. Все чужие мысли / Просачиваются в мое не-осознание» (185). Другими словами, все персонажи Кеннелли напоминают сконструированных роботов, автоматы или гуманоидов из фильмов, наподобие «Blade Runner» и «Invasion of the Body Snatchers». Говоря языком теоретика Славоя Жижека, каждый натурализовавшийся «обитатель» современной цивилизации страдает «парадоксом “субъекта, знающего, что он — всего лишь копия”», уверенностью в том, что «я есть не что иное, как артефакт — не только мое тело, мои глаза, но даже самая моя память и самые сокровенные мои фантазии» (Tarrying, 40). Не осознавая, не будучи в состоянии постичь самих себя, герои Кеннелли вырождаются в безличностные подобия, пропитанные покорным и лицемерным «иудоизмом». Кассандра в мужском теле в век безнравственности, говорливый Иуда остается не услышанным — никто не слушает— хотя поэт и твердит упрямо: «Лучший способ соответствовать времени — предать его» (17).
Посвященная идее, что в наши смутные времена никто не может доверять даже словам, слетающим с их собственных языков, «Книга Иуды» Кеннелли развивает темы канонических евангелий Нового Завета, потому что измена, борьба с самим собой и отчаяние остаются неотъемлемыми проблемами в человеческой жизни, равно как и в институтах и идеологиях технологически развитых обществ. Таким образом, книга стихов Кеннелли кардинально переосмысливает слова Иисуса об Иуде из неканонического Гностического евангелия от Иуды: «Ты будешь проклят другими поколениями — и ты придешь править ими» (33). Не преданность учению Иисуса, а измена ради своей выгоды становится главным побудительным мотивом. Потому-то Иуда Кеннелли и продолжает править поколениями, как заправлял он «контрабандистами, антикварными дельцами, религиоведами, бесчестными партнерами и алчными предпринимателями» — всеми теми, кто в угоду своей выгоде пренебрегал сохранностью Коптского Евангелия от Иуды на протяжение нескольких десятилетий, с момента его обнаружения в 1970-е гг. до публикации «National Geographic» в 2006 г. (Robinson, 156). Не случайно, один из его редакторов, Рудольф Кассер заявил без обиняков: «бесценный, но подвергавшийся варварскому обращению» папирусный кодекс был «жертвой алчности и амбиций» (Kasser, 47). Какое-то время запертый в банковском хранилище в Хиксвилле (Лонг-Айленд), какое-то время замерзавший в холодильной камере, манускрипт, конечно же, не мог сохраниться целиком. Фрагменты его были утеряны навсегда. Испытавшее предательское отношение на себе, потерянное Евангелие от Иуды, по иронии, продолжило ту самую историю — историю предательства, ради пересмотра которой оно, быть может, создавалось.
В тот же самый период и, по всей вероятности, ничего не знавший об археологической находке, Кеннели добавил в свою «Маленькую книгу Иуды» (Little Book of Judas, 2002) новые стихи, доказывая, что его апостольский антигерой не уйдет по доброй воле в темную ночь души, которую он собой воплощает. Последняя строка последнего из новых стихотворений, «Все заново», постулирует универсальную безвременность этого ученика признанием предателя: «Я — ваш человек», за которым после пустой строки следует лаконичное: «Пусть сказывается предание» (224). Среди этнических чисток, сексуального насилия, происков националистов, зверств фундаменталистов и преумножающихся растрат и хищений, Иуда триумфальный пропитывает, заполоняет и поражает порочный мир, который он собою воплощает и в котором обитает в лице нас, его клонов. И на фоне этой какофонии, молчание Бога — жизнь Его Сына, возможно, была «подготовкой /К тому, что никогда не случится» (64) — разочаровывает поэта или персонифицируемого им Иуду, признающегося: «Если бы я создал такой мир, я бы тоже помалкивал, / А менее всего, если бы я создал себя, я думаю, / мне бы хотелось общаться со мной» (167).
Глава 7.
ИИСУС В «ЗЛОВЕСТВОВАНИИ» ИУДЫ: ОН ДА БУДЕТ ВОССЛАВЛЕН
«Антиевангелие», или «зловествование», которое несет людям Иуда-скептик, затрагивает и Иисуса, с которым он взаимодействует, — на сей раз, ставя под сомнение Его мессианскую миссию. Как и на протяжении всей истории, Иисус и Иуда продолжают зеркально отображать друг друга — только теперь они образуют антитезу, высвечивающую противоположное отношение к доверию, ответственности и состоянию человека.
* * *
Писатели нашего времени нередко отводят двенадцатому апостолу роль злого глашатая, несущего в мир недобрые вести. Как невозможно согласовать несогласуемые события и факты из его жизни в различных евангельских версиях, точно так же невозможно выпрямить кривое, а неровные пути сделать гладкими: именно в таком ракурсе оценивает Иуда перспективы паствы Иисуса в начале XXI в. Нельзя изменить порочную природу падшего человечества, а потому ни исторический Иисус, ни распятый Христос не может воплотить в жизнь мессианский век — именно такую идею пытается внушить нам — пусть и намеками — проклятый Иуда Кеннелли. «Книга Иуды», с ее пугающими выводами, конечно, не отображает всю траекторию эволюции Иуды в течение двух тысячелетий, но она высвечивает одну существенную особенность в его истории. Если Марк, Матфей, Лука и Иоанн воссоздают земную жизнь Мессии в «благовествованиях», или «Евангелиях», то творцы иных образов двенадцатого апостола более позднего времени нередко создают «антиевангелия»: недобрые вести Иуды выражают недоверие к пророчествам о пришествии царства всеобщей радости и благоденствия.
Иуда в «Полете крылатого Змея» Косани так лаконично определяет свое «зловествование» человечеству: «Ты для людей “да”, — объясняет он Иисусу, — я же для них “нет”» (188).
[342] Роман Косани, подобно стихам Кеннелли и многим другим версиям, появившимся после Второй мировой войны, подчеркивает, что предателя не следует отождествлять с еврейским народом. Однако на протяжении всей своей долгой эволюции Иуда может быть соотносим со всеми теми людьми, которые (по целому ряду причин) однажды, по крайней мере, в определенные моменты своей жизни, пренебрегают верой ради своих интересов — теми, кому лучше бы было не рождаться и кому лучше бы не рождаться в будущем. Иудеи, конфуцианцы, мусульмане, даосы, агностики и атеисты — любые из них, конечно же, могли оказаться в числе вероотступников, но таковыми могли стать и некоторые христиане.
[343] Уважая религиозность в целом, Иуда отрекается от своей веры не единожды, но даже дважды или по подсчету Матфея трижды: в первый раз — когда он отказывается от традиционного иудаизма, который он исповедовал прежде, ради следования за Иисусом; во второй раз — когда он оставляет круг приближенных Иисуса ради пособничества первосвященникам, и, наконец, в третий раз — по некоторым версиям, — когда он раскаивается и вновь заявляет о своей верности Иисусу.
Скептический, но далеко не всегда и не обязательно циничный, Иуда в современных версиях своей истории, хочет, но находит для себя очень трудным, а то и вовсе невозможным, сохранять свою веру или соблюдать обязательства, наложенные ее приятием. Он начинает воплощать собой «обращенного необращенца», морально деградирующую душу.
Неуверенность, нерешительность или непостоянство, порождаемые и питаемые его преследованием своих интересов, в том числе и обманным путем, сомнениями, замешательством, отчаянием, а то и вовсе упадком духа характеризуют Иуду на раннем этапе его «культурной» эволюции. В определенные моменты он выказывает пыл, стойкость и твердость воли. Но даже геройскому Иуде не достает веры, чтобы превозмочь разочарование из-за не оправдавшихся ожиданий и надежд. И естественно, что во многих своих альтернативных образах он проявляет разные степени недоверия к самому себе, другим участникам Драмы Страстей Господних и Самому Богу. Сильно отличающийся от вызывающего почтение спасителя Казандзакиса или Сарамаго или наводящего ужас властелина мира из шестой главы книги Кеннелли, скептический Иуда на последующих страницах этой биографии возвращается к своим скромным аномальным истокам. Но теперь уже возвеличенный персонаж, приковывающий внимание не своим предательством, а, наоборот, своим недоверием, Иуда-скептик подрывает веру в любой ее ортодоксальной форме, поскольку его собственные неоднозначные текстовые истоки завлекают его в сеть несвязных психологических, социальных и религиозных перипетий.
Именно вдумчивость Иуды продолжает делать его притягательным для его учителя и для читателей. Создатели образа Иуды-скептика нередко подчеркивают, что он сыграл положительную роль по отношению к Иисусу, послужив своего рода резонатором либо честным, искренним собеседником, — ведь «любить без оглядки, значит, быть предаваемым», как однажды обмолвилась Джуна Варне (Barnes, 79). Для многих наших современников совершенно очевидно, что рассчитывать бедным на богатство, а несчастным и больным — на счастье и здоровье не стоит, пока род человеческий пребывает во мраке вечной несправедливости и страдания. И потому мне представляется вполне уместным начать эту заключительную главу с анализа нескольких, появившихся совсем недавно, трактовок скептического «зловествования» Иуды. С их помощью мы сможем разглядеть истинный иудаизм в Иуде и найти еще одно правдоподобное оправдание его действиям. Затем, в средней части этой главы, я постараюсь бегло осветить, как на протяжении долгого эволюционного пути Иуды, охватывающего целых двадцать веков, менялись восприятие образа Иисуса, подход к предательству и его моральная оценка. Наконец, завершается эта биография уточнением непреходящей значимости Иуды для людей самых разных слоев и обществ.
Дружественный скептик
Веками образ Иуды проникал из высокой в массовую культуру, «санкционируя» разгульные, буйные празднества в самых различных общинах. Сам свободный от оков веры и всех сопутствующих ей нравственных требований, фольклорный Иуда позволял и другим людям «отдыхать» от ортодоксальности, предаваясь анархии в обрядовых действах, сохранявшихся вплоть до XX в. Разноцветные Иуды из папье-маше — начинявшиеся порохом, проносимые участниками ритуальных процессий и взрываемые во время Пасхальных празднеств — «едва ли напоминали библейского Иуду с огненно-рыжими волосами; скорее, они пародировали каких-нибудь местных бюрократов, своенравных клириков, напыщенных фатов или набобов с задранным носом» (Beezley, 4). На мексиканских празднествах на Иудин день, в субботу после Страстной Пятницы, чучела многочисленных чиновников вышучивали, вешали и пороли; с карикатурами на кричаще разодетых богатеев и аристократов обращались как с пиньятами. Шуты, ряженные Иудами, пиротехнические фигурки Иуд, смахивающие на американских президентов, иуды-койоты и иуды-скелеты множились, отражая, вероятно, пренебрежительное отношение населения к угнетающим политическим силам, а также к смерти, последней предательницы жизни.
[344] Иудин день подтверждает тот факт, что, несмотря на Пасху или перед Пасхой следующего дня мир еще не искуплен. В опьяняющем чаду и буйной анархии карнавалов, восходящих к театрализованным мистериям Средневековья, чучело Иуды начиняли наполненным кровью пузырем зарезанного поросенка, а затем в него стреляли, чтобы «внутренности» Иуды вывалились наружу.
[345]
Иуда — часто изображаемый сидящим за бутылкой пива или виски — предоставляет простым людям временную передышку от честности, воздержания, трезвости, доктрин воздаяний по заслугам и подставления другой щеки. Фольклорная ипостась святого, зовущегося по-испански Сан-Симон, а на диалектах майя Максимой, Иуда в селениях Гватемалы — «святой покровитель предпринимателей, двигатель торговли и защитник доходов» — обеспечивает связь с могущественными, но не всегда милостивыми сверхъестественными силами (Pieper, 29). Пронеся его изображение через всю деревню к церкви, сельчане подвешивают Иуду на веревке на деревянной плахе до следующего дня, когда он вновь возвращается в ипостась Максимона (Сан-Симона), «почитающегося 28 октября — в день почитания Святого Симеона и Иуды Фаддея, также называемого Святым Иудой» (Pieper, 29). Просьбы, записываемые на кусочках бумаги и вкладываемые в карманы гротескных кукол, изображающих Иуду, выражают далеко не благочестивые желания или запросы, свидетельствуют о всеобщей одержимости грехом, порочностью, соперничеством и стяжательством. В карманах одной фигурки были найдены записки просителей, умоляющих Иуду, чтобы «другая женщина оставила Хулио … в покое» или чтобы «вскоре произошел несчастный случай» (Pieper, 163).
Зато в высокой культуре павший Иуда обычно не предается недозволенным удовольствиям, а пожинает плоды болезненных угрызений совести, растерянности и сомнений в своей правоте. На протяжении всех двадцати веков Иуда гораздо больше, чем Фома, подвержен сомнениям, опасениям и подозрениям, которые невозможно разрешить, но которые постоянно повергают в смущение и беспокойство тех, кто желает верить.
[346] И если Фома в конечном итоге уверовал — после того и потому что ему представилась возможность увидеть и коснуться воскресшего Христа, то Иуда, видевший Иисуса, а не воскресшего Христа, продолжает не верить и потому — не блажен. Ведь Христос называл блаженными тех, кто «не видел, но уверовал» (Иоанн 20:29). В этом смысле Фома воплощает всех остальных апостолов, для которых подтверждением мессианской природы Иисуса послужило Его Воскресение, только укрепившее их веру. В пьесе Стивена Эдли-Гуиргиса «Последние дни Иуды Искариота» (2006) Святой Фома признает, что Иисус одарил его тем, в чем отказал Иуде: «Он представил мне доказательство. Я не верил, и Он дал мне Веру, не требуя ничего взамен. Я не знаю, почему мои сомнения обернулись мне во благо, а Иуде его — на пользу не пошли» (78).
В одной из сцен, ближе к концу пьесы Гуиргиса, Иуда впадает в
«замороженное состояние кататонии» (102). Смотрящему ему прямо в лицо любящему Иисусу, чувствующий себя покинутым Иуда выкрикивает упреки: «когда я … нуждался в Тебе, где был Ты?!» (104). Надломленный, не в состоянии взять себя в руки, двенадцатый апостол укоряет Иисуса, мотивы которого остаются недоступными его пониманию: «Почему… Ты не сделал меня достаточно хорошим, чтобы Ты мог любить меня?» (105,106). В конце пьесы Иисус, неспособный пробиться сквозь шизофрению, поразившую Иуду, до его психики, методично омывает ступни Иуды, который, в отличие от Фомы, так и не получил визуального доказательства Воскресения до своего предательства или тех ужасных последствий, которыми оно обернулось для него. Сожаление — вот что, скорее всего, выносит из общей для них с Иудой истории здесь Иисус. Иуде же она, похоже, приносит жуткие мучения. Его душа разрушается в гневе из-за жертвы — не только Иисуса, но и его собственной — принесенной ради Пасхи, от которой он оказывается отлучен. Но причиной его отлучения, как и не удающейся попытке Иисуса спасти его через исправление — один лишь стойкий скептицизм Иуды.
В отличие от других одиннадцати учеников в Евангелиях, Иуда вешается, низвергается или исчезает до распятия, оставаясь в неведении о том, что Иисус сдержал свое обещание о Воскресении. Лишенный доказательств, Иуда не доживает до того момента, чтобы увидеть Иисуса воскресшим из мертвых. «Весь Новый Завет единодушен в том, — комментирует католический теолог Ханс Урс фон Бальтазар, — что Крест и погребение Христа имеют значимость только в свете события Пасхи, без которой нет христианской веры» (Balthasar, 189). Размышляя о последствиях исчезновения Иуды перед Пасхой, один христианский ученый называет его «последним человеком, умершим при Старом порядке, до восхода Эры Милосердия» (Ohly, 29). Любопытно, что идею о странном выборе времени для самоубийства высказал еще в древности Лев Великий (ок. 395-461 гг.): «Если бы ты подождал свершать свое преступление до тех пор, пока не пролилась кровь Христа за всех грешников, не пришлось бы тебе принять столь ужасную смерть через повешение» (234). По мнению Льва Великого, Иуда грешен тем, что «считал Иисуса не Богом, Сыном Божьим, а всего лишь человеком нашего роду человеческого» (230). Если бы двенадцатому апостолу представилась возможность лицезреть Воскресение, его изначальная вера — а он ведь был, прежде всего, последователем — в конце концов, должна была бы укорениться на благодатной почве подтверждения.
[347]
А каким может сомневающийся Иуда видеться тем, кто не согласен с постулатом о том, будто Иисус отменил заветы их книг, сделав их «Ветхими» или устаревшими и возвестив о пришествии «Эры Милосердия»? С точки зрения иудея, для которого Иисус «не Бог, Сын Божий, а всего лишь человек нашего роду человеческого», хотя и исключительно благочестивый человек, Иуда мог всего-навсего служить закону. Если буйные народные обряды нарушали или отвергали местные законы, то теологический скептицизм Иуды мог, напротив, побудить его отстаивать законы земли Израильской. И коль скоро вся вина его сводилась к тому, что сомневался он в божественности Иисуса, Иуда вполне мог не отвергать нравственные устои, а, наоборот, защищать их, встревоженный подозрительными вестями восходящей «Эры Милосердия». Именно такое предположение выдвигает еврейский историк Иосиф Клауснер в своей книге о Драме Страстей Господних, написанной на еврейском языке для еврейского читателя. И быть может, отказ Иуды признать значение новой эпохи проистекал именно из его приверженности древнему, проверенному временем и истинному порядку, который (возможно, он действительно верил в это!) не нужно было и не следовало заменять или отменять.
[348]
Автор «Иисуса из Назарета», опубликованного в Иерусалиме в 1922 г. и заложившего почву для современных трактовок образа двенадцатого апостола, подчеркивает кратковременность служения Иисуса, а также приверженность Торе. По версии Клауснера, Иисус был «скромным и набожным фарисеем, который преступил границы иудаизма» (Heschel, 236). Сюзанна Хешель находит подтверждение сионизму автора в его утверждении: «отвергнуть иудаизм, значит, закончить так, как Иисус-христианин» (236). Иуда Клауснера движим не сатанинской одержимостью или алчностью, либо лицемерием, а склонностью сомневаться в могуществе и полномочиях Иисуса: «Постепенно он убеждался в том, что Иисусу не всегда удается исцелить больного, что Иисус страшится своих врагов и преследователей и старается скрыться или избежать встречи с ними; что в учении Иисуса были явные противоречия» (324). Более того, «этот Мессия не хотел или не мог освободить свой народ, и все же дерзко претендовал на роль «Сына Человеческого» (324). Несоответствие между тем, кем провозглашал Себя Иисус, и тем, что Он мог делать или делал, убедило образованного иудея Клауснера в том, что Иисус был лжемессией или лжепророком, а не восславленным владыкой, о котором пророчествовали Даниил (7:11-14) и Иезекииль (34:23-24).
Двенадцатый апостол, верный еврейской Библии, следовал закону, требовавшему убить любого, кто сбивает народ с пути истинного. В подтверждение этой версии Клауснер цитирует Второзаконие (13:2—12), где сказано: «А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа», и спрашивает: «Не было ли в таком случае “религиозным долгом” предать властям такого “обманщика” и тем самым исполнить закон: “и так истреби зло из среды себя”?» (324). Цитируемая Клауснером глава Второзакония начинается с предостережения о нравственной необходимости служить одному единственному, истинному Богу: «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо… то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь» (13:1,3). Благонадежный гражданин, пусть и не внушающий такую любовь, как другие, Иуда чувствует потребность разоблачить самозванца перед властями.
[349]Щепетильность — вот, что движет образованным, но «холодным и расчетливым» иудеем, одним из тех, кто «привык критиковать и тщательно все исследовать» (325). Слепо не замечающий многие достоинства Иисуса, Иуда празднует еврейскую Пасху 13 нисана вместе с другими апостолами и поет Галель,
[350] после чего Иисус отправляется в Гефсиманский сад, где Он испытывает не божественное предвидение, а трагические намеки о смертности, совершенно необъяснимые, учитывая силу его врагов.
«Иуда не имел ничего против его сотоварищей-учеников, которых он считал сбитыми с пути истинного Иисусом, и чтобы никого из них не арестовали вместо Иисуса, он сам сопровождал иудейских стражей и их старейшин» (336). Евангельский поцелуй, по мнению Клауснера, — лишь одно из целого ряда «измышленных дополнений», подобно свидетельствам о противлении Пилата распятию Иисуса (335, 348). Ни фарисеи, ни саддукеи не могли бы осудить Иисуса на смерть, поскольку «не было в действительности никакого богохульства» и «не могли они усмотреть в Его словах ничего иного, кроме буйной фантазии» (343). Чтобы спасти общину от «жестокой мести Пилата», первосвященники выдали подозрительного человека римлянам (345). Клауснер приходит к выводу, что «евреи, как народ, были куда как менее виновны в смерти Иисуса, чем греки, как народ, были виновны в смерти Сократа; но кто нынче думает об отмщении за кровь Сократа Грека и порицании его соотечественников, современного греческого народа?» (348).
Желая усилить тональность истории, но, тем не менее, придерживаясь перспективы Клауснера, популярный афро-американский романист Фрэнк Йерби прибегает к художественному вымыслу, чтобы переписать самую Драму Страстей Господних. Его исторический роман «Иуда, мой брат» (1968 г.) развенчивает правдивость евангельских свидетельств, которые были, как заявляет повествователь, «плодами ужасного невежества вкупе со столь же ужасной злобой» (474). А ведет повествование в романе тринадцатый ученик — юноша, поспешно убегающий нагим с места ареста Иисуса, бросив свое льняное покрывало. Двенадцатый апостол изображается в нем отчаявшимся, проклинающим Иисуса за то, что Тот «так сильно обнадежил его, а затем так обманул его надежды»: «Я желал царя, — восклицает разочарованный Иуда, — а не блеющего жертвенного козла!» (433). Мессия, который обманывает или вводит в заблуждение, неминуемо «ведет по ложному пути» людей, побуждая его врагов действовать по Закону. А «Закон требует [его] убить без сожаления или сострадания или прощения» (434). Что до действий Иуды во время и после ареста, больше обмана «в священных книгах, каждое слово в которых ложно» (437), «потому что евангелисты, несомненно, были безумцами, людьми, не способными даже убедить в своей лжи, из-за того, что в их пустых головах не было места памяти» (440). Поцелуй, деньги, повешение и выпадение внутренностей лишь отражают то, «что [как уповали их авторы] должно было случиться с Иудой, их болезненную, выдающую бессилие месть, реализующуюся через пустые слова» (505).
В стихотворениях, пьесах и романах об Иисусе, сочиненных как евреями, так и неевреями, которые продолжают появляться на рубеже этого нового столетия, Иуда часто изображается таким, каким он представлялся Клауснеру: апостолом, приверженным ценностям, что придает его образу достоверности. Очень часто в высокой культуре Иуда ратует за мирские ценности — материальное равенство, социальную справедливость — что расходится с духовными приоритетами Иисуса. К примеру, он на какой-то момент превращается в марксистского агитатора против римлян в тусклом «Евангелии от Сына Божия» Норманна Мейлера (Mailer, The Gospel According to the Son, 1997). По версии Мейлера ненависть Иуды к богачам — «Они всех нас отравляют. Они тщеславны, недостойны, они только расточают надежды тем, кто ниже их. Они лгут беднякам, вся их жизнь проходит во лжи» (138)— превосходит его восхищение Иешуа, раздающего беднякам радужные посулы; и растраченное масло оказывается просто последней каплей. Но Сын Божий у Мейлера продолжает относиться с таким состраданием к своему ученику, движимому, в принципе, добрыми намерениями, что двенадцатый апостол превращается в «Иуду Жалкого». Иисус не испытывает ничего, кроме жалости к ученику, лишенному демонической или побудительной энергии и обреченному на жалкий удел.
[351]
Как и Мейлер, Нино Риччи и Кнут Одегард возрождают уже знакомый образ Иуды — мятежного зелота. В романе Нино Риччи «Завет, или странник из Галилеи» (2002 г.) Иуда осознает, что царство Иисуса «совершенно аполитично, это скорее философское, нежели физическое государство, для установления которого не требуется революции», и это осознание вселяет в двенадцатого апостола недовольство: «это всего лишь бальзам, чтобы сделать более сносным иго угнетателей» (47).
[352] Не является ли религия всего лишь опиумом для народа, тревожится активист Иуда у Риччи. В цикле стихов, переведенных на английский язык в 2005 г., норвежский поэт Кнут Одегард также подчеркивает отчуждение Иуды от Иисуса, спровоцированное помазанием:
«Моим глазам было больно, моя голова
была, словно осиное гнездо, но кто-то должен был остановить
это безумие и я крикнул в отчаянии,
что предел наступил, все зашло слишком далеко,
эти капли чересчур дороги,
они стоят не меньше трехсот динариев; Почему? Ну почему
было — о, суета тщеславия! — это масло не продать,
а деньги не отдать верующим из племени иудейского?» (61)
Специфический иудейский Иуда, извлеченный на свет Клауснером, предстает более суровым в замечательном лжеевангелии, сочиненном популярным беллетристом Джеффри Арчером в соавторстве с ученым-библеистом Фрэнсисом Дж. Молони и озаглавленном «Евангелие от Иуды, записанное Бенджамином Искариотом» (2007 г.). В этом Евангелии, повествование в котором ведется от лица его сына, сам Иуда изображен глубоко набожным человеком, хорошо усвоившим строфы Даниила, Иезикииля и Исайи. Иуда Арчера и Молони надеется, что Иисус станет «ожидаемым Сыном Давидовым, Мессией и Царем Израильским» (46), но обеспокоен тем, что некоторые практики и пророчества его обожаемого учителя противоречат Пятикнижию Моисея: «Иуда искал, как и должен был искать, но так и не мог найти ни одной строфы в Торе, в которой бы проводилась связь между страданием, смертью и исполнением мессианских надежд Израиля» (40). А после того как Петр становится свидетелем Преображения и сообщает об этом, встревоженный Иуда вообще начинает сомневаться в том, что Иисус — Мессия, поскольку ничего не было «написано или сказано в еврейской традиции», что бы указывало на смерть и Воскресение Мессии Давидова, Царя Израильского» (50). В результате, по версии Арчера и Молони, встревоженный Иуда пытается спасти Иисуса в Иерусалиме, но сам оказывается дважды предан — сначала двойным агентом Книжником, а затем одержимым чувством вины Петром, которому здесь адресуется ключевая фраза: «Лучше было бы тебе не рождаться» (76).
[353] Двенадцатый апостол проводит остаток жизни в изгнании, веря, «что Иисус был святым человеком, даже пророком, который следовал традиции Иеремии, Исайи и Иезикииля. Но Иуда больше не признавал, что Иисус был избранным, предназначенным освободить иудеев от угнетателей» (83). Не самоубийство и не воровство, но освобождение от иллюзий ознаменовывает конец жизни вдумчивого иудея.
К.К. Стед подробно разрабатывает версию иудея Иуды, обеспокоенного — вполне объяснимо и даже предсказуемо — миссией Иисуса, в романе «Меня звали Иудой» (2006 г.). Стед делает Иуду центральным персонажем вымышленной автобиографии намеренно: чтобы показать темперамент Иуды. В его романе скептичный Иуда утрачивает веру в Иисуса, а в конечном итоге и в Бога. В отличие от свидетельства о самоубийстве Иуды у Матфея и его страшной гибели у Луки, у Стеда рассказывающий о себе, уже пожилой Иуда из Кериота сохраняет достаточно трезвый ум и ясную память, чтобы поведать историю того, что он пережил со своим другом детства Иисусом в годы апостольского служения и после распятия Иисуса, когда Иуда вынужден был бежать в Палестину и скрываться там под вымышленным именем Идаса Сидонского. Видевший своими глазами и описывающий на бумаге страшную смерть Иисуса, Иуда скорбит по своему утраченному другу, оставаясь не убежденным в Его мессианской природе или предназначении. Таким образом, как и книга Арчера и Молони, роман Стеда демонстрирует несогласие с доводом, впервые выдвинутым Львом Великим, — если бы Иуда прожил дольше, он бы уверовал.
[354]
Внимая множащимся слухам об осаде римлянами Иерусалима в 70 г. н.э., выдающий себя за грека Идаса Сидонского семидесятилетний Иуда вспоминает счастливое время детства и молодости — как он учился вместе с необыкновенно одаренным мальчиком, а повзрослев, жадно внимал уже учению своего товарища, ставшего вождем, чей ораторский талант творил чудеса с людьми, страстно желавшими быть убежденными в том, что слепые прозреют, калеки начнут ходить, бедные разбогатеют, а мертвые воскреснут. По свидетельству Идаса Сидонского — рассудительного человека и заслуживающего доверия рассказчика — поэтические пророчества Иисуса могли умиротворить безумных, облегчить боль страждущих. Однако Иуда, самый большой рационалист из всех апостолов, задается вопросом — а были ли те деяния Иисуса действительно чудесами? И его материалистические объяснения кажутся вполне правдоподобными — отчасти в силу того, что в своем недоверии, в своих сомнениях, он не одинок: «Вера — вот чего [Иисус] требовал от нас, но именно верой мы все были слабы, время от времени разочаровывая Его. Мы делали все, что могли, кто-то лучше других. По натуре скептик, я, естественно, был первым среди неверующих» (113).
Сомнения по поводу служения Иисуса со временем все больше одолевают Иуду. Не только обещания свободы и мира после смерти, даваемые Иисусом, звучат «как пустые обещания и угрозы, что отвлекают внимание от тех ужасов, что творят люди в реальном мире» (144). Иисус требует внимания и низкопоклонства, и Иуда начинает опасаться за рассудок своего Учителя и за его безопасность. Не потому ли Иисус требовал веры или нуждался в ней, что «Сам Он с трудом верил в историю, даже когда Он возвещал ее, даже когда вершил ее» (152)? Растущий скептицизм Иуды — вот причина его предательства: «Мое “предательство” состояло лишь в моем отказе утверждать то, во что я не мог верить» (171). Когда миролюбивый Иисус (агнец) превращается в воинствующего Иисуса (льва), Иуда только еще сильнее обеспокоивается тем, что «наш вождь страдает временным умопомешательством» (175). Даже мирное послание надежды и доверия ввергает Иуду в беспокойство — ведь он убежден, что «те, кто просит, не обрящут, те, кто ищут, не найдут» (184).
Иуда в храме, опасающийся не только репрессий мстительных римлян, но и чрезмерно возбужденной речами ораторствующего учителя толпы, со страхом наблюдает, как опрокидываются столы менял и жертвенных животных, всей душой желая «вывести Иисуса оттуда и спасти его от ареста» (205). Будучи не в силах убедить Иисуса вернуться домой, казначей учеников тратит тридцать монет из денежного ящика, чтобы снять комнату на верхнем этаже иерусалимской таверны для празднования еврейской Пасхи. Хотя он сомневается в мессианской природе Иисуса, Иуда остается преданным своему другу детства. Он, не задумываясь, прерывает Его моление в Гефсиманском саду — «то, что Он делает, это самоубийство» — лишь бы успеть упредить Иисуса о приближении храмовых стражей. Увы, тщетно. В конце своего рассказа Иуда терзается муками, но не виной, поскольку он никогда не продавал и не выдавал Иисуса:
«Я чувствовал гнев, гнев от крушения надежд и отчаяния. Как Он мог учинить такое с собой? Как могли мы, Его друзья, допустить это? Свой гнев я мог обратить только на себя — ведь я видел, что происходит, но оказался слишком слаб, чтоб противостоять ему. Я не смог спасти Его от Самого Себя или, если вам угодно, от всемогущего садиста, создателя неба и земли, чьим сыном Он себя воображал» (229).
Занимающий срединную позицию в подходе к Драме Страстей Господних между позициями Робертсона Джефферса и Жозе Сарамаго, Стеда в своем романе «Меня звали Иуда» ставит дружбу в самый центр истории. Храмовым начальникам не удается подкупить Иуду; он не целует и не предает Иисуса; он — один из всего лишь двух апостолов, которые до конца остаются стойкими и непоколебимыми (второй — Петр Симон). В одном из фрагментов романа, когда Иисус сравнивает себя с Иаковом, Иуда чувствует беспокойство — ведь «Иаков имел брата, и брат его Исав, жадный негодник, продал свою половину их общего наследства за чашу похлебки». И вот Иуда спрашивает: «А кто Твой Исав?» Стед вкладывает в уста Иисуса ответ, выражающий главную идею его романа: «Исава нет» (106). Позднее, когда Иуда станет свидетелем того, как Иисус обращается к Каиафе: «ты увидишь Сына Человеческого, что восседает по правую десницу Господа, как сходит сквозь облака небесные», он искренне удивится — а верит ли или нет Сам Иисус в то, что Он — Сын Человеческий: «Мое сердце сильно забилось, слыша столь отважную речь. Как было бы замечательно, окажись это правдой! Как прекрасно, если Он знал, что это не так, и все же сказал эти слова!» (220)
Последний крик распятого Иисуса о том, что Бог оставил Его, превращает скептицизм Иуды в атеизм: «Так я узнал, что Бога нет» (231). Не мог же любящий и всеведущий, всемогущий создатель допустить страдание невинного. Не верящий евангелистам, утверждающим, будто видели они воскресшего Иисуса, Иуда истолковывает собственные видения — «Я видел Его на улице… слышал Его голос, доносящийся из открытого окна» — только как последствия своего сильного потрясения: «Наши мертвые всегда с нами. Но они мертвы» (235). На протяжении всего романа Иуда Стеда демонстрирует смятение, растерянность, колебания, духовную преданность человека, глубоко сочувствующего, но все же не доверяющего ни традиционной вере свои родителей, ни новой вере своего лучшего друга. По версии Стеда, Иуда олицетворяет многих людей, которые поначалу с энтузиазмом поддерживают дело и любимого сотоварища, но затем обнаруживают, что внешние обстоятельства и их собственные внутренние убеждения предательски побуждают их отступиться — покинуть или обмануть надежды союзника. «Сожаление» — такое прозвище мог бы иметь такой вот дружественный, но скептичный Иуда.
Даже когда авторы, рисующие образ скептичного Иуды, представляют его впадающим в атеизм, они оправдывают его сомнения в мессианском служении Иисуса уважением к Торе. В подобных случаях они изображают не стереотипного иудея Иуду, а Иуду, с одной стороны, проявляющего по отношению к Иисусу почтительность, традиционно питаемую иудеями к своему духовному учителю, а, с другой стороны, подверженного традиционным для иудеев сомнениям в том, что Иисус — Сын Божий. Поскольку в библейские времена мессия представлялся как Богом избранный смертный царь, который будет помазан на царствие в Израиле, провозглашение Иисусом Себя Сыном Божьим могло вызывать недоумение у слушателей. Мессиями или пророками, избранными Богом править людьми, были такие фигуры, как Саул и Давид. Стюарт Э. Розенберг в связи с этим отмечает: «Всегда — и тому подтверждением любой пример из Библии — “помазанным” был
человек, а не божественное лицо» (S. E. Rosenberg, 34, выделено автором). Барт Д. Эрман напоминает нам, что «до христианства
иудейская традиция просто не допускала идеи Мессии, который может умереть, а затем воскреснуть из мертвых» (В. D. Ehrman, Lost Gospel [«Потерянное евангелие], 159, выделено автором). Иными словами, преобладающее большинство людей, живших в библейские времена, и предположить не могли, что Мессия может быть распят. Не умирающего и воскрешающего, не творящего чудеса Мессию ждали они, а Мессию, который бы возглавил Божий народ. В 1-м Послании Коринфянам (1: 23) «Павел признает, что когда он благовествовал среди иудеев, ужасный факт распятия Иисуса являлся почти непреодолимым препятствием для любого, кто слышал о нем; среди же язычников его слова о свершенном преступлении звучали безумием» (Pagels and King, 13).
Уже сам факт того, что Иисус предсказал Свою смерть, возможно, вызывал и множил сомнения в его мессианском предназначении. Знал или нет Иуда, что предание Иисуса приведет к Его распятию, но двенадцатый апостол — как и поколения иудеев после него — колебался между почтительностью к вдохновенному и вдохновляющему учителю, с одной стороны, и неизбежной и естественной для иудея того времени подозрительностью или даже неприятием заявлений Иисуса о своей божественной природе. До того как он стал подвергаться неминуемому поношению, его сторонники уже разделились. Иудей Иуда, строго соблюдающий заповеди еврейской Библии и отважно отстаивающий свои убеждения, оказывается перед печальной необходимостью нравственного выбора, продиктованного противодействующими моральными кодексами: либо он предает свою общину, либо — своего друга. Страшащийся нового порядка и не готовый окончательно порвать со старым, он не верит в основательность или истинность обещанной революции. Резким контрастом радикальной деятельности неустрашимого повстанца девятнадцатого века предстает выбор Иуды-скептика — суровый в своей консервативности. Но то, что такой скептический Иуда часто появляется на
сцене начала двадцать первого века, свидетельствует о том, «иудейский» подход к Драме Страстей Господних начинает завоевывать все большее доверие. Подобный конец необычайно сложной, запутанной «творческой» истории двенадцатого апостола вновь доказывает, что он мог вызывать как злобу и затаенную враждебность, так и восхищение, но всегда оставался притягательным для исследователей и художников, стремящихся преодолеть потаенные препоны взаимоотношений христианства и иудаизма.
Пугающая симметрия
В конце романа «Меня звали Иуда», через многие годы после распятия, верный герой Стеда открывается другому апостолу только для того, чтобы его заклеймили дьяволом и прокляли. На эту клевету умудренный прожитыми годами Иуда отвечает: «Это была новая теология, и она придала мне определенный статус — гораздо ниже, чем Иисуса, конечно, но важного действующего лица в метафизической драме. В любом случае меня почтили» (241).
[355] В предыдущих главах я старалась следовать правилу любого биографа: подчеркивать значимость своего персонажа, апеллируя к тем версиям, в которых — даже чернимый — этот второстепенный персонаж признавался «важным действующим лицом в метафизической драме». Но что же характеризует эволюцию нашего переменчивого Иуды в целом, с самого начала и до конца его пути, и как его трансформация отражала изменявшееся отношение к Иисусу?
Рискуя затенить некоторые грани фигур Иисуса и Иуды, я обобщу ответы на эти вопросы, воспользовавшись ключом, который в романе Стеда несут слова Самого Иисуса, произнесенные во время Его служения: «Иуда — мое зеркало» (174).
[356] Этой фразой Стед намекает на то, что даже тогда, когда Иуда не выступает явным двойником Иисуса, двенадцатый апостол, тем не менее, является «отражением» своего учителя. Соотнесение Иисуса и Иуды сопровождает эволюцию Иуды на протяжении всей его послебиблейской истории. А сейчас мы уже можем обобщить все его последовательные перевоплощения. Хотя в самом раннем Евангелии от Марка мы обнаруживаем образ Иуды-аномалии, в послебиблейском искусстве прочно утверждается образ Иуды-изгоя; затем его сменяют образы Иуды-любовника, Иуды-героя и Иуды-спасителя, а в наши дни на сцену выступает аномальный Иуда-скептик. Я постаралась показать, что в любой исторический период, на протяжении всей своей «жизни после смерти», Иуда страдает множественностью личности, выступая одновременно в разных этих ролях: изгоя, любовника, героя, спасителя, аномалии. Но в каждый определенный период истории литературы и искусства за двадцать минувших столетий какая-то из его ролей неизбежно становится главной, тогда как остальные отступают на второй план. В древности превалирует амплуа изгоя; в эпоху Средневековья и Ренессанса главной становится роль любовника; в эпоху Просвещения утверждается Иуда-герой, в XX в. — спаситель, в наши дни — «аномалия». И стечением времени, несмотря на многократные повторы и отступления, Иуда эволюционирует из персонажа бесславного в персонажа, достойного почитания. И при этом он всегда сопровождает Иисуса, традиционно олицетворяющего доверие.
Является ли доверие чувством или верой, оно всегда присуще Иисусу и отражает Его уязвимость, приятие Им риска — ведь доверие неизменно предполагает потенциальную возможность вредного и пагубного предательства. И первый вопрос об Иисусе вызывает именно присутствие Иуды в Его приближенном кругу: как мог Иисус избрать и призвать к апостольскому служению Иуду? На этот веками мучающий людей вопрос авторы самых разных работ, многие из которых обходятся без Дьявола, как вероятного посредника, отвечают примерно одинаково. Поскольку доверие предполагает межличностные отношения, в которых заложена возможность или вероятность недоверия, лишь некоторые повествователи допускают, что Иисус мог действовать, руководствуясь принципом, который сегодня принято называть «терапевтическим доверием»: доверие — оказываемое даже потенциально не внушающему доверие лицу — ребенку, наркоману, заключенному — должно повлечь оправдание этого доверия.
[357] По мнению некоторых библеистов, «древнее значение слова “верить” тесно связано с понятиями доверия и приверженности», и потому предписание «верить в благовествование» подразумевает доверие и приверженность ему (Borg and Crossan, 25).
Иисус, преподающий уроки доверия, стремится видеть и сделать Своих последователей хорошими, лучше, чем они есть. Подобное отношение в древности посчитали бы смелым и решительным шагом. Однако доверие Иисуса вовсе не подразумевает его уверенности в том, что все Его ученики оправдают Его доверие, выкажут Ему свою приверженность. Как бы там ни было, но едва ли не в каждой творческой версии Драмы Страстей доверие, оказанное Иуде, позволяет ему физически приблизиться почти вплотную к беззащитному Иисусу, познающему в результате предательство Своего доверия. Эта тема звучит во многих интерпретациях Нового Завета, обсуждаемых в этой книге. Хотя самый смысл предательства доверия сильно усложняют противоречивые подходы к толкованию образа и роли Иуды — ведь в них он не всегда предает своего учителя или не всегда считает, что предает; а в некоторых случаях вовсе даже не Иуда оказывается не заслуживающим или не оправдывающим доверия, а Иисус или Бог. Чтобы подчеркнуть значимость сложной эволюции, прослеживаемой в этой культурной биографии, вскрыть менявшийся подход к вопросам доверия и предательства, я в следующих нескольких абзацах попытаюсь бегло обрисовать трансформацию образов Иисуса и Иуды в ракурсе их зеркального отображения друг друга — в каком они виделись и видятся многим художникам слова и кисти.
Проще говоря, Иуда-изгой отражает изгоя, каким подчас оказывается Иисус; Иуда-любовник и Иуда-герой выдвигает на первый план любовника и героя Иисуса; Иуда-спаситель сопровождает Иисуса-Спасителя; Иуда-аномалия подчеркивает аномальность служения Иисуса. Иногда скрытая, иногда явная общность отличает Иисуса и Иуду в их отношениях. Поскольку многие художники и писатели, упоминаемые в этой книге, видят и в учителе, и в его ученике либо социальную угрозу (изгои), либо преданных посвященных (любовники), либо амбициозных или противоречивых страдальцев (герои), либо уязвимых сподвижников (спасители), либо сомневающихся скитальцев (аномалии). Только и здесь не следует забывать, что любой ракурс восприятия Иисуса и Иуды основывается лишь на нескольких определенных деталях противоречивых свидетельств Нового Завета. Когда меняется образ Иисуса, переоценивается и нравственная ответственность Иуды, и их действия, и их последствия. Путь Иисуса и Иуды, отображенный на последующих страницах, лишь подтверждает бытующее мнение о том, что «сомнение гораздо коварней, нежели уверенность, а недоверие к другому может вызывать недоверие к себе» (Gambetta, 234). Ведь трансформация, которую Иуда претерпевает со временем, подчас вселяет тревожащие подозрения в способности к предательству Самого искупителя или Бога.
Иисус, жертвенный агнец, добровольная жертва, страдающая за все человечество, сопоставляется с Иудой-изгоем, готовым на эгоистичный обман. Обвиненный в богохульстве и якобы представляющий социальную опасность, отверженный и подвергнутый остракизму Иисус претерпевает насмешки, бичевание и муки на кресте. Не упоминая вовсе Иуду, критик Нортроп Фрай, размышляя о пророческой деятельности Иисуса, приходит к выводу, что «Его истинная значимость в том, что Он был единственной фигурой в истории, с которой ни одно организованное человеческое общество примириться бы не смогло»; «общество, отвергнувшее Его, воплощает все общества: за Его смерть несут ответственность не римляне или иудеи или все те, кому довелось быть рядом в тот момент, но все человечество, включая нас и всех, кто будет после нас» (122-123). Принимая мученическую смерть, обиженный и оскорбленный Иисус подчиняется осознанию того, что Он может освободить мир от грехов только утратив свою человеческую сущность, низведен до статуса преступного субъекта или жертвенного животного. Иисус избавляет от грехов человечество, смертью Своей демонстрируя, насколько грешен этот мир.
Не просто противники или соперники, изгои Иисус и Иуда в конце «Книги Иуды» Кеннелли воплощают собой противоположные, враждующие принципы, как и в самом начале становления традиции, в Евангелии от Луки. Если Иисус олицетворяет пророческую вневременность за пределами истории, то Иуда воплощает бренное историческое время. Если Иисус посвящает Себя служению вечным, нематериальным ценностям Духа, воздержания и чистоты, то не оправдывающий доверие Иуда декларирует мирское стяжательство и агрессию, соотносимые с плотскими желаниями, похотливым вожделением и жадностью. Безмятежность и искренность характеризуют Иисуса, страдающего от лживости Иуды. И в таком ракурсе роль Иуды в Драме Страстей Господних отражает стандартную модель ответственности: ответственность возлагается на Иуду, потому что он намеревался причинить вред Иисусу, либо его враждебность вредит Иисусу, за что он и должен быть осужден. Злобный умысел движет Иудой, который становится эмблемой неискоренимой предрасположенности человечества к развращающему пороку. Сознание, обремененное чувством вины, отчуждает грешное или больное существо от тех, кого оно проклинает, праведных и спасенных из некоего иного, ему не доступного мира. И все же, по странной иронии, Иисус и Иуда напоминают друг друга. Иисус переживает удел изгнанника во всех организованных обществах точно так же, как Иуда переживает участь изгоя в вечности. Иисус был отчужден от общества, в котором Он родился. Иуда чужд миру христианскому.
Другой, отображающий альтернативный и неортодоксальный подход, образ Иисуса — образ харизматического любовника — намекает на таинственные возможности абсолютного согласия между Ним и Иудой. Без сомнения, заслуживающий и оправдывающий доверие, Жених исполняет Свои щедрые посулы, обнимая своего близкого поверенного, Иуду — так, по крайней мере, могут быть истолкованы отношения Иисуса и Иуды, на которые намекают несколько новозаветных строк в самом начале традиции; картины, запечатлевшие обнимающуюся пару и созданные уже, когда эта традиция прочно утвердилась, а также сочинения гностиков, о гностиках, либо навеянные идеями гностиков. В ночь предательства Иисус молится за всех Своих последователей: «Да будут
все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Иоанн 17:21, выделено автором). Великое благословение нисходит, и когда в момент смерти Иисуса на кресте в Евангелии от Марка завеса в храме разрывается пополам сверху до низа, символизируя, что святость теперь пребывает не только в отдельной части храма, но повсюду и, значит, доступна всем людям — даже тем, кто совершает плохие поступки. Преисполненный эротической и святой любви, мистический союз Иисуса, который общается с Иудой — и во время, и после предательства, — доказывает, что Иисус с радостью вознаграждает любую, даже самую заблудшую душу.
Сострадательный Иисус Матфея возвестил в Нагорной проповеди: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах; так гнали и пророков, бывших прежде вас» (5:11-12).
[358] За свою роль в Драме Страстей Господних Иуда подвергается поношению и гонению; но тот факт, что он вкусил трапезы на Тайной Вечере или удостоился омовения ног, только подкрепляет утверждение Павла о том, что не отвергнет «Бог народа Своего, который Он наперед знал», «ибо дары и призвание Бо-жие непреложны» (К Римлянам 11:1-2, 29). Принцип «Tout compendre, c'est tout pardoner» применим и к роли Иуды в Драме Страстей: понять все, значит, все простить. Коль скоро Иисус был казнен, как преступник, но оказался не только невиновным, но и Сыном Божьим, точно так же и любой другой преступник может на поверку оказаться невинным, и — если не Богом, то все же человеком, богоподобным, сыном Человеческим. Ведь
«всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:21, выделено автором). Мы видим, что удивительное милосердие Иисуса распространяется и на Иуду, несчастного, раскаивающегося грешника. Разве не следует тогда и нам простить Иуду, — задаются вопросом Уэсли и Бьюканен, — раз его совесть приводит его к раскаянию и покаянию? Сознание, обремененное чувством вины, в конечном итоге вновь познает во всей полноте человечное и божественное.
А вот героический мистик Иисус может воплотить в жизнь Царствие Божье, только обрекая на разочарование и смерть своего не менее героического апостола. Доблестный, храбрый Иуда и сам оказывается предан — собственными ложными, хоть и похвальными намерениями. И потому он неумышленно подвергает опасности Иисуса, как, впрочем, и самого себя. Взаимодоверие двух «товарищей по оружию» дает трещину, когда они обнаруживают, что по-разному видят свою цель или способы ее достижения. И хотя их конфликт (относительно средств и результатов) выявляет их общее радение о Грядущем царствии, товарищество Иуды и Иисуса терпит поражение, и это поражение Иуда оплачивает ценой своей жизни. В данном случае к Иуде вполне применим принцип строгой ответственности, и оборачивается этот принцип трагедией: подобно невинным, но заслуживающим порицания трагическим героям, двенадцатый апостол не чинит намеренного вреда, но его действия причиняют вред, и на него возлагается вся ответственность за причиненный вред.
[359] И вновь сознание, обремененное чувством вины, не допускает перекладывания вины на другого. Принимая на себя ответственность за то, чего не сделать он не мог, героический Иуда выигрывает в благородстве. Вот только его вера, похоже, пошатывается.
Стоит лишь одной ниточке доверия к Иисусу спутаться — вся ткань веры начинает распускаться, и на сцену выходит несчастный Иуда Незаметный.
[360] Как показано в главе пятой, Иуда — отлученный от милосердия — воплощает собой растущее отчуждение людей от самих себя, от других людей, от божественного и божества. Недоверие Иуды Незаметного знаменует то, что Аннет Байер называет (в другом контексте) «наихудшей патологией доверия» — болезнь «отравления жизнью», характеризующуюся тревогой и паранойей (Baier, 129). Сначала Иуда поддается болезненным предчувствиям дурного, а затем и образ Иисуса начинает тускнеть — ведь он выигрывает в результате воскресения, тогда как его «подручный» апостол терпит одни потери. Далекий Иисус оказывается в сети двусмысленной морали и нравственности человечества, тогда как горестный Иуда страдает от дозированного высшего милосердия.
В XX в., с его немыслимыми жестокостями и зверствами, когда нить доверия к Богу и вовсе запутывается, а то и обрывается, Иисус и Иуда только подтверждают уязвимость человеческого состояния. Иисус, «уполномоченный» спаситель человечества, позволяет Себе усомниться в Боге; Иуда, «завербованный» спаситель Иисуса, терзается сомнениями насчет Сына Божьего. Глава шестая продемонстрировала, что принужденный к служению и обуреваемый противоречиями мессия — чья сила ограничена, чья жертва может оказаться неэффективной — выступает сообщником Иуды, завербованного, но принужденного к служению и также обуреваемого противоречиями спасителя Иисуса. Иисус — осторожный в силу тяжелого испытания, с которым ему предстоит столкнуться, чтобы освободить мир от грехов — страшится Своей близкой жертвы, однако взаимодействуете Иудой, который вынашивает идеи справедливости, но делает это только себе во вред. На этом этапе Иуда и Иисус — не враги, не любовники или герои, а сообщники. Подобный подход определяет тезис, выраженный Иисусом в Евангелии от Иоанна: Он знает, кого Он избрал, чтобы сбылось Писание (13:18).
Нуждающийся Иисус просит Иуду пожертвовать собой во благо человечества: предательство здесь, как это ни парадоксально, являет собой акт преданности. Схожесть Иисуса и Иуды в таком сценарии приводит к тому, что невинность и вина меняются местами.
[361] Даже один тоненький человеческий волосок, выпавший из спутанной паутины доверия, указывает на ограниченность сострадания Бога или Сына Человеческого. Иисус, или Бог, показывает Себя слабым или вероломным, тогда как Иуда доказывает, что он заслуживает доверия, именно своим актом предательства. Мы живем в мире, предающем доверие. И пишущие после Второй мировой войны авторы, как будто, хотят сказать: Сын Божий или Бог, становящийся бессильным, либо равнодушным к человечеству, или даже противодействующим его благополучию, должен быть признан, в конце концов, ответственным за страдания и несправедливость. Освобожденный от любой ответственности, двенадцатый апостол принимает образ достославного мученика, тогда как Иисус может превратиться творческим произволом в преднамеренного предателя своего безмерно доверчивого апостола или злобного Бога.
Наконец, в венчающей традицию книге «Меня звали Иуда», — как и в обозначившем ее истоки Евангелии от Марка- аномальный Иисус снова предстает странствующим проповедником. Только теперь рядом с Ним — Иуда-скептик, вскрывающий исключительность и радикальные цели миссии Иисуса. Бросая вызов традиционным представлениям о том, каким надлежит быть мессии и что он должен делать, Иисус проповедует доктрины, расходящиеся, хотя бы отчасти, с идеями Торы. И потому Он может быть как основателем иудейской секты, так и отступником, заблудшим иудеем. В условиях неопределенности Иуда и Иисус выступают скорее сочувствующими противниками, нежели соучастниками. Под таким углом зрения неверие Иуды воплощает собой всеобщий скептицизм, с которым Иисус готов был столкнуться и столкнулся на самом деле в Иерусалиме — явив Собою нетрадиционного Мессию, Мессию «нового типа»: страдающего Сына Божьего. Потому и сомнения Иуды по поводу пришествия мессианского века в таком контексте кажутся вполне правдоподобными, даже заслуживающими доверия. А смелость Иисуса, с какой он исцеляет страждущих и проповедует свои откровения, может быть оценена по достоинству. Хотя твердость духа, с которой Иисус поддерживает убежденность в Своей мессианской миссии, стороннему человеку может показаться лишь попыткой со стороны Иисуса убедить Самого Себя и Своих последователей в том, в чем Он — возможно, совершенно обоснованно — время от времени, сомневается Сам.
Скептику, продолжающему страдать от не искупаемой боли и бедности, слова Иисуса кажутся в лучшем случае донкихотством, в худшем — плодом возбужденного рассудка.
[362]В таком сценарии Иуда вовсе не стремится осознанно предать или навредить своему бесстрашному учителю, но понимает или чувствует (и даже страшится), что это необходимо сделать. Пользующийся доверием близкий друг, Иуда наделяется дискреционной силой сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить успех Иисусу. Но по своему разумению, в силу своих способностей и представлений, Иуда оценивает ситуацию в духе, не согласующемся с тем, как видит ее Его обожаемый друг. И в данном случае для оценки роли Иуды в Драме Страстей Господних применим принцип прямой причинности, не сопряженной с нравственной ответственностью: возможно, двенадцатый апостол был виновен в неумышленном причинении вреда; но Иуда не продумывал или не осознавал полностью всех последствий своих действий. Справедливы или ошибочны его постоянные сомнения, но сознание, обремененное тлетворным знанием, страдает, пребывая в безрадостном состоянии постижения своей противоречивой линии поведения, но не видит выхода. В этом смысле Иуда-аномалия напоминает Иисуса, с которым он связан и который часто проявляет нерешительность и колебания по поводу той миссии, что Ему надлежит исполнить.
Подобная историческая траектория не только отображает нарастающую неопределенность в воззрениях на добро и всемогущество Бога и Сына Божьего, но и высвечивает растущую универсальность Иуды. Писатели все чаще обращаются к его воображаемому субъективному характеру для постижения человеческого состояния. Противоречивые портреты множатся. Двигаясь по своей траектории от бесславия к признанию, Иуда выступает то в роли виновного преследователя жертвы, то в роли невинной жертвы; то в роли любовника, то в роли человека ненавидимого; то в роли радикального борца, то в роли традиционного консерватора; то в роли проницательного, вдумчивого, сомневающегося, скептика, то пылкого, истового верующего. Но на всем своем пути он периодически, вновь и вновь, соотносится с Иисусом. Так как чрез такое соотнесение творческое сознание пытается разрешить вопрос о зле вреда. Но как в истории об измене противоположные друг другу Иисус и Иуда могут отражать друг друга? И что подобное соотнесение двух действующих лиц Драмы Страстей Господних говорит нам о зле или вреде?
[363]
Зеркальное отражение позволяет вскрыть общность двух антагонистов и таким образом препятствует строгому разграничению категорий доверия (Иисус) и предательства (Иуда), как препятствует ему и тот факт, что вина и невиновность могут меняться местами с развертыванием исторической траектории. Сопоставление Иисуса и Иуды в Драме Страстей питается их схожестью, которую невозможно замолчать, их симметрией — пугающей, но явно подходящей для истории, в которой благо спасения проистекает из зла распятия. Бесчисленные переосмысления Драмы свидетельствуют о настоятельной и не проходящей потребности обвинить кого-нибудь, любого, за распятие Иисуса или за неискупленное состояние человечества — смерть, страдание, несправедливость, — о потребности найти преступника и подвергнуть его или ее жестокой критике. Этот «разыскиваемый преступник» есть «самый востребованный преступник».
[364] Но на любом этапе исторической эволюции, выводящей Иуду из бесславия, соотнесение его с Иисусом доказывает, что возложить
неопровержимое бремя вины на кого-либо, увы, невозможно. Даже самые необычные образы Иисуса и Иуды подтверждают потребность человеческого сознания закрепить за кем-то ответственность за распятие или за смертность, страдание, несправедливость и… невозможность сделать это. Иными словами, соотнесение понуждает прервать цикл поиска козла отпущения.
[365]
Поскольку по мере развертывания исторической траектории соотнесение высвечивает контекстуальные неясности, допускающие различные толкования, и взаимосвязанность Иисуса и Иуды, а также переменчивость моральных оценок предательства доверия. Кроме того, оно акцентирует двойственную предрасположенность людей к доверию и недоверию или предательству доверия, взаимодействие или взаимозависимость того, кто преисполнен милосердия, и того, кто его лишен, их способность и готовность действовать ради другого или вместе с другим, и через это — зависимость добра от зла, а зла от добра. Предпочитая соотнесение Иисуса и Иуды их противоположению, мастера искусств, упомянутые в этой книге, делают акцент на конфликтах внутри каждого из них — как Иисус, так и Иуда со временем обретают все более противоречивые характеры. Зеркальное двоение Иисуса и Иуды, как и субъективные противоречия внутри каждого из них, препятствуют открытому чернению двенадцатого апостола, а то и вовсе делают его невозможным. Подобная тенденция наблюдается не только в живописи и литературе, но и в обрядности: «Иуда Пасхальный» — так называется седьмой или средний подсвечник в церквах, который поднимается почти до свода и на который в Пасхальную неделю водружается восковая Пасхальная свеча. Симметрией также объясняется и то, почему английское сленговое выражение или восклицание удивления «Judas Priest!» («Черт возьми!») является эвфемизмом Иисуса Христа. Возможно, Иуда игнорировался из-за того, что ученые страдали тяжелой формой катоптрофобии — боязни зеркал, — что объясняет суеверия, связанные с разбитыми зеркалами, которые иногда завладевали и мной.
[366]
Примечательно, что Иуда может быть полностью реабилитирован только в версиях, в которых вина за неискупленное состояние человечества возлагается на Бога или Сына Божьего. Вина измены просто перелагается на другого агента. Такой сюжет получил распространение в XX в. А не так давно его вытеснил сценарий, акцентирующий аномальность персонажей, стремящийся разрешить нерешенные дилеммы, но избегающий искать виновных! Впрочем, общая тенденция все же такова: кто-то, да должен ответить за случившееся — если не Иуда, то Иисус; если не Иисус, то Бог. И все же соотнесение Иуды и Иисуса даже в самых изобличительных сценариях, например сюжет с изгоем, делает невозможным простое указание пальцем. Исторически — по мере того, как Иуда проходит свой путь от бесславия к признанию, — Иисус избегает обратной метаморфозы: Он не становится бесславным. Вместо того, Он утрачивает Свою силу, влияние. Иисус и то доверие, которое Он Собой воплощает, становятся все более слабыми, уязвимыми, все более подтачиваются чуждыми Иисусу и отчуждающими Его от людей силами, всячески препятствующими спасению, которое Он хочет принести людям.
Пренебрегая траекторией эволюции Иуды, которую я стараюсь исследовать, мыслители и художники, о которых шла речь на страницах этой книги, пытались логически, доказательно объяснить акт предательства. Это и понятно: последователь, предающий своего вождя, — хрестоматийный пример для исследования критериев оценки того или иного поступка, хорошего или плохого, благого или пагубного. Но нередко мотивация, предлагаемая романистами, художниками, драматургами, поэтами и богословами опирается на мотивацию философов морали и нравственности, три различных подхода которых к этике проясняют, почему Иуда продолжает оставаться для нас загадкой. Любые попытки разгадать головоломку Иуды исходя из этических критериев неизбежно порождают противоположные и противоречивые суждения о его виновности и целесообразности оправдания. Приговоры разнятся в зависимости от того, основываются ли они на последствиях, на принципе или на характере.
[367]
Рассмотрим сначала выводы тех, кто исходит из последствий, определяя правомочное деяние, как благое, добро с благотворным результатом. Ссылаясь на то, что древнее Евангелие от Иуды, как и некоторые современные сочинения, согласуется с толкованием Драмы Страстей Господних гностиками, они защищают версию о том, будто Иуда помог Иисусу обрести божественность. А при оценке его действий ставят во главу угла важность конечного результата. Не принимая во внимание весь ужас распятия, которому придал ход Иуда, они рассматривают конечный результат распятия: благо искупления. И исходя из этого конечного результата — величайшее благо для огромного количества людей, — они считают действия Иуды добродетельными безотносительно к тому, какими он сам их считал. Предательство было необходимо для спасения человечества через смерть и Воскресение Иисуса. На «необходимом, без которого было не обойтись», выражаясь словами Немерова, лежит «felix culpa» («счастливая вина»), как на Адаме и Еве, чье грехопадение имело последствием появление Спасителя, поскольку без предательства Иуды не могло реализоваться обещание вечной жизни.
Но данная биография сосредотачивается на поведении, приоритет которому отдают многие другие философы морали и нравственности. В отличие от тех, для кого важен результат, этики и моралисты, придающие особое значение максимам и правилам правильного поведения, скорее всего, расценят поведение Иуды как непозволительное, недопустимое, а его решения и поступки — как безнравственные. Первый пункт их приговора гласит: нарушение обещания или доверия. Роль апостола, поручившегося в верности своему учителю, налагала на Иуду особые обязательства — а разве не отказался Иуда от исполнения своих обязанностей или не разорвал свое соглашение с Иисусом и тем самым уклонился от уплаты своего долга благодарности? Вождю или учителю подобает выказывать преданность, и любые переговоры с его противниками (в нашем случае — переговоры Иуды с врагами Иисуса) недопустимы. Второй пункт приговора — ложь: разве Иуда не нарушает права Иисуса и не наносит Ему обиду своей лживой доверительностью на Тайной Вечере? Третий пункт: несоблюдение долга, обязанностей перед самим собой — разве, лишая себя жизни, Иуда не нарушает законы бытия? Категоричный императив Канта требует соблюдения долга; каждый человек должен поступать так, чтобы принципы его поведения могли стать всеобщими законами. Но если все будут поступать так, как Иуда, — что с нами будет?
Наконец, если руководствоваться не принципами поведения, а особенностями характера, то значимыми становятся такие факторы, как знание, идейность, личные качества и темперамент. И эти факторы могут служить «смягчающими обстоятельствами» при вынесении приговора моральному агенту.
[368] В таком ключе защита Иуды получает дополнительные козыри. Двенадцатому апостолу приписываются благонамеренность, поиск справедливости или верность не поведенческому, постороннему принципу. Поступки Иуды трактуются совершенно по-другому: он действовал именно так, а не иначе, потому что руководствовался неким мотивом или идеей. В различных интерпретациях библейского сюжета честность, раскаяние, любовь и храбрость могут объяснять также и решение Иуды покончить жизнь самоубийством. Более утонченную линию защиты Иуды выстраивают те художники, которые представляют его действующим в тенетах ложных верований или просчетов. Не стремящийся полностью оправдать, но все же преследующий целью защитить Иуду, этот третий подход в оценке действий Иуды акцентирует его неуправляемый темперамент, предрасположенность к чему-либо, либо отдельные особенности характера. Нетерпеливый или заблуждающийся, одержимый или подавленный, Иуда не мог действовать иначе, поскольку был движим космическими или психологическими силами, над которыми, как он чувствовал, он был не властен. Акрасия (от греч. «слабоволие», «несдержанность»), подразумевающая совершение — в силу недостатка или отсутствия самоконтроля — поступка вопреки лучшему варианту, вполне могла бы характеризовать Иуду, предающего по причинам, которые он сам не считает оправдывающими.
[369]
Различные психологические подходы также порождают бессчетные суждения об Иуде; но всегда он выступает фигурой предостерегающей, — фигурой, доказывающей, насколько трудно вынести единое суждение по поводу предательства. Те, сознанием кого владеют идеи Ницше, едко клеймящего иудео-христианство, как религию
неприязни (мораль и возвеличивание слабых, как отражение их враждебности по отношению к сильным), весьма специфически оценивают мотивацию хулы, возводимой на Иуду традиционными толкователями Драмы Страстей Господних.
[370] Подобные интерпретаторы, утверждают они, явно, по крайней мере, время от времени наслаждаются наказанием и страданиями Иуды — вопреки призыву Иисуса к состраданию; и, по сути, за их осуждением Иуды таится плохо скрываемая неприязнь, если не месть, христианина по отношению к сильному противнику, придерживающемуся иных взглядов. Фрейдовские концепции мазохизма и садизма служат основой для анализа иного рода. Те, кто увлечен идеями Фрейда, рассуждают о притягательности страдания олицетворенного Иисусом и заслуженном страдании (воплощением которого предстает Иуда). Эти аспекты смерти толкают человечество к несуществованию, неорганическому прошлому, из которого возникли все организмы, безжизненности, небытию, в царство Таната.
[371] На исторической карте эволюции Иуды вместе с Иисусом, которую я прослеживаю в этой книге, ницшеанские и фрейдовские подходы воплощают два рецидивирующих феномена: отказ от поношения и соотнесение двух главных персонажей Драмы Страстей Господних.
Преломление образа Иуды в художественном сознании с течением времени отражает тенденцию к ослаблению или опровержению более суровых вердиктов древности и периода до Нового времени. Посредством соотнесения Иисуса и Иуды многие художники вскрывают эволюцию отношений христиан к иудаизму, по крайней мере, в искусстве и гуманитарных науках — от энергичных попыток христианства отречься от иудейских корней до не менее энергичных попыток признать или защитить иудаизм, равно как и глубокую историческую, текстуальную и теологическую связь христианства с ним. Более того, возрастающая со временем значимость Иуды свидетельствует о формировании межрелигиозного сознания и межрелигиозных союзов и их крепнущей силе. Примечательно, правда, что в процессе оправдания и избавления Иуды от наказания, в его образе что-то теряется. Несмотря на гнев современных иудейских комментаторов по поводу антисемитских образов Иуды и дискомфорт современных христианских комментаторов, самые ранние евангельские свидетельства — при всей их противоречивости — заложили почву для того, чтобы двенадцатый апостол оставался фигурой решающего и — я утверждаю — непреходящего этического и психологического значения.
Несовершенство человечества
Несмотря на все разногласия и споры, порождаемые различными интерпретациями образа и характера Иуды, одна постоянная константа может помочь нам выявить то общее, что присуще всем его перевоплощениям. Логика повествования требовала, чтобы кто-то предал Иисуса в руки Его врагов в Храме. И этот кто-то мог вполне быть тайным служителем самого Храма — фигурой типа Каиафы. Вместо этого
предатель приходит из круга приближенных — почему в таком случае в этой роли не мог выступить, скажем, Петр? Однако эти два кандидата, с которыми Иуду часто сопоставляют и которые могли бы быть его «дублерами», четко закреплены сценарием за «своими лагерями» — один при Храме, другой в кругу апостолов. Перейди тот или другой в «противоположный лагерь», и Каиафа, и Петр тоже бы стал персонажем типа Иуды, перебежчиком или изменником. Через предание Иисуса
от апостолов Храму предающий неизбежно оказывался связанным как с последователями Иисуса, так и с Его противниками, становился связующим звеном — таков Иуда. В этом смысле Иуда — необходимый персонаж сюжета, как-то верно подмечали многие комментаторы. Тогда почему это побочное следствие предательства так часто переосмысливается в последующие века?
Функцию, аналогичную роли Иуды, в архитектуре играет пазуха свода.
[372] Английский термин «spandrel», использующийся для обозначения этого понятия, представляет собой уменьшительное производное от слова «span» («пядь» — расстояние между вытянутым большим пальцем и мизинцем; а также расстояние между опорами). Термин этот употребляется в архитектуре применительно к непредусмотренной планом конструкции, сооружаемой при необходимости соединить две арки или арочную дугу и прямолинейный карниз. Эта конструкция является побочным следствием других (главных) архитектурных решений. Но она может быть декорирована, а ее пространство, как внутреннее, так и внешнее, может использоваться в практических целях. Если условно уподобить первосвященников и апостолов двум аркам, то связующей конструкцией между ними выступает как раз Иуда. Сравнение Иуды с пазухой свода помогает нам понять воплощаемую им связь между иудеями, последователями Иисуса, и иудеями, хранящими верность Храму. Пазуха свода не выполняет никакой иной функции, кроме поддержания арки, и часто украшается лепниной или мозаикой либо служит неким хранилищем. Второстепенную роль играет и Иуда. О нем так мало говорится в Евангелии от Марка именно потому, что он — всего лишь необходимый инструмент для развития сюжета, играющий в Драме Страстей Господних лишь второстепенную роль. Однако его туманный образ, приспособляемый под практические цели, со временем обретает множество личин.
И все же почему по евангельскому сценарию
предатель, передающий Иисуса от апостолов Храму, должен быть из близкого круга Иисуса! Разве не проще было бы передать эту роль имперским римлянам, арестовывающим Иисуса при подавлении какого-нибудь мятежа, к примеру? В кругу Пилата наверняка бы нашелся подходящий претендент. Но корни и вера Иисуса были иудейские, и потому ранние христиане могли утвердить свою «индивидуальность», только дистанцировавшись от своих иудейских истоков.
[373] Чужеземный оккупант сам по себе уже был чужд; и не было надобности отчуждаться от него, как от Храма, и потому языческому Риму не придавалось такого значения, как Храму. Для передачи Иисуса не Риму, но Храму, нужен был не римлянин, но иудей. И конечно же, только иудея можно было использовать для резонирующего соотнесения с Иисусом, которое мы прослеживаем на страницах этой книги, — соотнесения, отображающего попытки христианства отделиться от иудаизма, не отвергая при этом своих иудейских корней. Веками — и мы в этом убедились — Иуда олицетворял иудеев.
На протяжении почти всей истории Иуда выступает как типичный подозреваемый во всех мыслимых и немыслимых грехах, виновник всех бед и несчастий — этакий яркий образчик отрицательного героя, олицетворение зла и бесчестия, приписываемых иудеям. И описанный в предыдущей части этой главы сложный сценарий послебиблейского пути Иуды, соотносимого с Иисусом, нередко подменял более простые сюжеты. В таких незамысловатых историях, которые также замалчивали многие евангельские противоречия, люди стремятся определить проблему, причину, по которой их жизнь не такая, какой должна была бы быть, и преодолеть грубые, животные инстинкты, чтобы улучшить свое положение. И в начале послебиблейской «жизни» Иуды, и в конце нее, а тем более в ее середине, писатели и художники следуют за ранними отцами Церкви, отводя двенадцатому апостолу роль «козла отпущения»: символа для взращивания враждебности, мишени, на которую можно было бы излить весь свой гнев, всю свою неприязнь. Помимо того, что его обвиняют в нечестивых поступках — воровстве, лжи и убийстве, Иуда часто воплощает собой губительные для человека смертные грехи, разрушающие его душу. Более того, он может олицетворять и отчаяние, и лицемерие, и даже «Schadenfreude»: постыдную, извращенную радость при виде боли, испытываемой другими.
Для антисемитов евреи — люди продажные, корыстные, несущие самоуничтожение и все оскверняющие. Но, как и Иуду, евреев можно также представить важными орудиями для достижения мессианских целей, имеющими благие намерения, но связанными тенетами ложных верований, слишком слабовольными, слишком упрямыми, а то и просто садистами. К сожалению, по моему мнению, в версиях, подчеркивающих порочность и нечестивость Иуды, часто делается упор на его еврейство. Иуда-аномалия, героический Иуда или Иуда-спаситель чаще воплощается в облике палестинского чудака или израильского зелота, тогда как Иуда-изгой олицетворяет иудаизм. Почему на раннем этапе строительства Церкви Иуда —
единственный из всех апостолов — начинает отождествляться с иудеем-евреем? Самое простое тому объяснение кроется в механизмах проецирования вины, беспокойства и опасений: иудеи-христиане, вероломно пренебрегшие своими корнями и ставшие отступниками и изменниками в глазах тех, кто хранил верность иудейским традициям, в которых они и их семьи родились и выросли, облегчали свое чувство вины, возлагая вину за предательство на иудейского Иуду; обращенные евреи могли дифференцировать принятое ими христианство, отрицая его иудейские истоки и тесную связь с предательским «иудоизмом».
Подобно тому, как ребенок, взрослея, отчуждается от своего родителя, но затем начинает ценить отчий дом, христианство дифференцировало себя, сначала отвергая, затем признавая, а позднее даже благочестиво почитая свои иудейские корни.
[374] Патриархальный в своей сути иудаизм, однако, часто демонстрировал довольно противоречивые реакции, присущие обычно матери — характеру, который Джамайка Кинкайд однажды назвала «Миссис Иуда» (130).
[375] В раннем искусстве отвергнутый иудаизм, или Храм Иерусалимский, персонифицировался в женской фигуре
Синагоги: слепой, или теряющей свою корону, рыжеволосой, облаченной в желтые одежды, одержимой сатаной, в обществе Евы или противопоставляемой Марии.
[376] В противовес
Экклесии — Церкви, также часто воплощаемой в женском облике,
Синагога напоминает женоподобного Иуду. Когда Иуда отражает то, как христиане представляли иудеев и храм — как двойников, сообщников или альтернативу Иисусу и Церкви, — двенадцатый апостол олицетворяет феминизацию мужского начала иудеев.
[377]
Если Иисус выступает новым Адамом, то Иуда, который иногда ест перед тем, как искусить соблазном других, и часто изображается обок с рептилиями, выступает мужеским аналогом Евы.
[378] Иуда может уподобляться и Каину, и Исаву, и Иуде (брату Иосифа), и Ахитофелу, вероломному подданному царя Давида, покончившему жизнь самоубийством, и Ироду Агриппе, пожираемому червями, и Иову, претерпевающему страдания по воле Божьей, но более всего — Еве, принесшей в мир грех, смертность, боль, стыд и необходимость постоянно трудиться.
[379] Полагаемые недостатки Евы — «ее любопытство, тщеславие, неуверенность, легковерность, алчность и отсутствие нравственной силы и опыта» — все применимы и к Иуде, равно как и присущие Еве «чрезмерно развитые воображение, чувственность и скрытность» (J. Phillips, 62). Особенно явно плотские пороки потомков Евы проявляются в Иуде — с его кровавыми выделениями и греховной похотью — в период до Нового времени, когда евреи, наряду с еретиками, блудницами и прокаженными, отождествляются с заразными осквернителями. И поцелуй Иуды, и его донос, и жадное пожирание хлеба приносят ему такое же оральное наслаждение, как вкушение запретного плода — Еве. Не враг, но лелеющий надежды близкий человек и поверенный наперсник, Иуда напоминает Еву своим нарушением доверия, делающим любимого им человека уязвимым, и особенно уязвимым перед смертью. Еву сатана искушает, Иуда одержим сатаной, и эта одержимость наделяет его силой, которой невозможно легко противостоять. И, как и Ева, Иуда — отдающий Иисуса или обнимающий Его — может быть противопоставлен Марии.
Однако же Ева разделяет свои страдания с Адамом, тогда как Иуда не переживает муки Иисуса, так указано в большинстве источников. Кроме того, многие из нас подозревают, что могли бы испытать искушение вкусить сладкого плода в райском саду и обрести мудрость, но мало кто из нас допускает, что способен заманить в ловушку любимого друга или почитаемого учителя. Некоторые из нас испытали боль деторождения, но лишь немногие из нас, я надеюсь, готовы по доброй воле отдать свое тело во власть демонов. Многие писатели готовы даже оправдать Еву, перекладывая ответственность за их грехопадение на Адама, с его первенством в акте творения: в любом случае он не должен был внимать ее совету
[380] И, конечно же, Иуда, за исключением разве что комического мира Монти Пайтона, — всегда мужчина. Так что же эта генеалогия Евы означает для мужского персонажа?
Женское тело Евы наилучшим образом символизирует ненавистную отличность, которая выделяет и Иуду. Эту отличность в Иуде — не только человеке, но и апостоле — нужно было только еще больше подчеркнуть: через карающие духовные и физические расстройства, страдать которыми и воплощать которые он обрекается. Чем серьезнее преступления и чем суровее наказание, тем рельефнее обозначается то «отличное», «иное», в мужской особи любого живого вида, что отвратительно и ненавистно для всех остальных. Карой двенадцатому апостолу, уподобляемому мертворожденному или родившемуся до срока, недоразвитому уродцу, служат множественные отклонения и болезни. В эпикризе Иуды — слепота, булимия, колики, кретинизм, дизентерия, слоновая болезнь, нарушенная эрекция, проказа, корь, полнота, гниение плоти, бешенство, синдром беспокойных ног, шизофрения, одержимость и сыпь. Подобные патологии часто сопровождают его самые злодейские образы, а все его перевоплощения, взятые вместе, отражают расстройства личности, ее противоречивость, предопределенную множественными несоответствиями всех Евангелий.
Помимо того, что Иуда олицетворяет изменника или перебежчика — человека, кажущегося не тем, кем он есть на самом деле, — он отражает и предвзятость по отношению к запрещенным или подвергаемым остракизму группам (не только иудеям) и страх перед ними. Ева в мужском платье, Иуда — отвергающий или принимающий, утверждающий или умаляющий власть и могущество Иисуса — занимает совершенно особое место в воображении европейцев. Апостол в строго мужском кругу, ассоциирующийся с анальностью и выдачей секретов, Иуда сохраняет свою мужественность, но не всегда мужеподобен — отчасти из-за своей схожести с Евой, но также и из-за своего отступления от порядка, установленного предками. Не наследник, но и не биологический прародитель (в большинстве трактовок), он видит самыми важными для себя отношения с Иисусом, своим другом или врагом. Иногда воплощающий давлеющую чувственную похоть, испытывающий запретное вожделение к лицу своего пола Иуда обретает даже гламурный образ л ибо ужас, внушаемый такими наклонностями, подкрепляет его дурную репутацию.
[381] Но в иных случаях и в разных контекстах Иуда олицетворяет множество самых разных и по-разному чернимых и клеймимых групп населения — еретиков, чужестранцев, африканцев, инакомыслящих, физически ущербных, самоубийц, сумасшедших, неизлечимо больных, агностиков. Членов этих групп — чужих и чуждых для остальных — также можно было заклеймить «изменниками» или «перебежчиками». Потенциально обращаемые, все эти отверженные, возможно, подозревались в использовании разных маскировочных техник для проникания, скрывания, ассимиляции в обществе — то есть в изменническом обмане. Либо допускалось, что они испытали настоящее обращение, пока очередной рецидив не доказывал обратное.
Таким образом, в разные моменты своей «творческой» истории, Иуда отражает одновременное притяжение и отталкивание, амбивалентность всех тех, кто не подпадает под нормативные категории. Он возвращается вновь и вновь потому, что — о том без конца толкуют нам многочисленные психоаналитики — все, что подавляется, всегда возвращается. Воплощая людей, преданных анафеме, Иуда знаменует двойственную сущность перебежчика, нерешительность и колебания доносчика. При ближайшем рассмотрении его двойственная верность объясняется противоречивой, неясной, смешанной натурой: помесь, или «mischling», он поддерживает другого репрессированного, а именно — ту взрощенную на местной почве чуждую смесь, что зовется иудео-христианством, двойное наследство одного из величайших и одного из самых малочисленных народов мира.
[382] В наше время Иуда представляет группы, порабощенные системами верований, которые они не могут полностью разделять и безоговорочно принимать. И таких людей не так уж мало. В одни моменты своей эволюции Иуда становится демоном, низкой духовной силой зла, а в другие моменты — даймоном, возвышенной духовной силой добра. И это наглядно отображает различное отношение общества к своим отверженным избирателям — в частности, к гомосексуалистам или душевнобольным — в разные времена считавшимся либо страдающими раздвоением личности, либо гибридными помесями, либо колеблющимися, либо одержимыми сатаной, либо блаженными.
В таком ракурсе Иуда развенчивает попытки заменить «я» снимающим с себя ответственность «ты», противопоставить себя другому, обелить себя за счет другого. В данном случае я придерживаюсь несколько иной точки зрения, нежели воззрение на Драму Страстей Джорджа Штайнера. По мнению Штайнера, под «лучащимися императивами» заповедей Иисуса, декларирующего «полный альтруизм, всеобщую любовь и сострадание, готовность к совершенствованию», мы осознаем нашу собственную слабость, неспособность к «подражанию, [которое] оказывается слишком трудным», и «обращаем ненависть и отвращение, испытываемые к себе, на тех, кого мы не способны превзойти и чьи требования нас изобличают» (Steiner, 398). Но, по крайней мере с исторической перспективы, большинство людей западной цивилизации восстают не против лица совершенного, но против лица несовершенного, то есть против того, кто олицетворяет все «слишком человеческие» недостатки, препятствующие совершенствованию. Ненавидимый, вызывающий отвращение Иуда — отвергаемое «ты» — отображает перспективу той истории, которую делали те, кто стремился отделить себя от всего, что считалось отвратительным или постыдным. Однако самые великие художники осознали, что к такому персонажу — будь то еврей или гомосексуалист, африканец или еретик, физически ущербный или душевнобольной — невозможно относиться, как к «иному», не такому, как ты сам. Противопоставление «я» «ты» лишь высвечивает попытки людей снять с себя ответственность за свои собственные недостатки и пороки, признать, что «я» подчас немногим лучше, чем «ты». И все же это не главное. Гораздо важнее то, что — независимо оттого, как часто Иуда обретал стереотипные семитские или африканские черты или становился душевнобольным, — толкователи, верные фундаментальным текстам, должны были включать его в число двенадцати, тем самым признавая, что
предание Иисуса тем, кто был вне круга его последователей, совершил тот, кто был внутри его.
Транснациональный и многоязычный, исключительно несовершенный ученик нередко утверждается за счет живучести порока или постоянства мучительной боли независимо оттого, по каким географическим маршрутам он кочует. То, что Стэд — известный новозеландский писатель, Кнут Одегард — норвежский, а Риччи — канадский, подчеркивает космополитический характер путешествия, совершенного Иудой на этих страницах. Рожденный на Среднем Востоке, Иуда появляется в итальянских и английских легендах и пьесах, на австралийских и немецких холстах, в греческих, португальских и французских романах, а также в фольклоре и поэзии Северной и Южной Америки. Он эволюционирует в художественной традиции, формируемой не исключительно, но преимущественно христианскими мастерами, притом мужеского пола.
[383] Самые новаторские художники, поэты и романисты, участвовавшие в создании его «творческой» истории, жили в католических странах, с клерикальными, насквозь пропитанными религиозными постулатами, культурами. Их воображение питали Евангелия. И они лишь развивали ту или иную деталь об Иуде, которую находили в свидетельствах Марка, Матфея, Луки и Иоанна, пренебрегая евангельскими противоречиями.
[384] Но предательство оказывается крайне сложной этической категорией, а Иуда сравним с пазухой свода, занимая нишу, отделяющую «нас» от «них», друзей от врагов, круг приближенных от всех, кто в него не входит. И потому мы вполне можем представить его потерянным учеником — потерянным для спасения; исключенным из числа апостолов; потерянным, как падшим морально и обреченным на гибель; но встречающимся вновь и вновь в любой исторический период в любом языковом сообществе. Для гностиков он был тринадцатым апостолом, а вследствие его замены Матфием в «Деяниях Апостолов», он становится тринадцатым апостолом после распятия Иисуса и в Новом Завете: несчастливое число, отображающее странную притягательность персонажа потерянного, но не исчезнувшего.
Поразительная трансформация Иуды подчеркивает древнееврейскую этимологию его имени. Ироничным контрфорсом в свете традиционных толкований образа Иуды предстает значение его имени на древнееврейском языке: «он, да будет восславлен».
[385] Возможно, именно в силу своей неоднозначной роли, Иуде заслуживает поклонения, как существо необходимое. Ведь он постоянно — с библейских времен — внушает беспокоящее сомнение: «Не я ли?» (Марк 14: 19) или «Не я ли, Равви?» (Матфей 26:22). Не дезавуированное, снимающее ответственность «ты», а исполненное страха и тревоги «я ли?», как будто это «я» отчаянно отрицает, отвергает то, о чем свидетельствуют Марк и Матфей. Эта горестная реплика откликается тому, кто ее произносит, постоянным унижением от бесконечных обвинений в предрасположенности к предательству, заблуждениям и ошибкам, прегрешениям, пагубным желаниям и инстинктам, воплощенным не в других, но в компромиссном «себе».
[386] Тяжесть приговора Иуде зато обосновывает милосердие Иисуса. «Дело» Иуды отражает тревогу по поводу способности человечества страдать и грешить. Помимо того, что двенадцатый апостол олицетворяет всех тех, кто заклеймен бесчестием, он также генерирует историю, высвечивающую не только страдание или грехи других, но и осознание своего собственного страдания или своих собственных прегрешений, способное вызвать в человеке тошнотворное ощущение собственной грязи и боль.
[387]
Симптом отвращения к самому себе или омерзительности самому себе — тошнота, которая часто мучает Иуду. И тошнота эта является следствием болезни, от которой так часто умирает Иуда и которую медики зовут «извращенным аппетитом». Будучи не в силах справиться с соблазном попробовать все — даже то, что несъедобно, а то и вовсе вредно, двенадцатый апостол заглатывает или извергает с рвотой монеты, насекомых, птиц. И ему, и народу, который он воплощает, молва нередко приписывает пристрастие к гомотофагии (питью крови) или урофагии (питью мочи). То, что не должно попасть внутрь, исторгается наружу — иногда орально, иногда анально — с рвотой или испражнениями. Тот же «механизм» действует и при его исключении из круга апостолов: то, что не приживается, отторгается; тот, кто не достоин быть в узком кругу избранных, изгоняется. Хотя библейские свидетельства об одержимости Иуды дьяволом могут показаться фольклорными влияниями, почему и толковались многими более поздними художниками в психологическом ракурсе, они прекрасно отображают состояние ума человека, чувствующего, что его изнутри, предательски, обуревают силы, от которых надлежит очиститься. Испытывающий отвращение к тому, что у него внутри, и сам вызывающий отвращение у многих хронистов, Иуда страдает всеми ментальными и психическими болезнями, которые только может унаследовать плоть. Поскольку, занимая нишу между «нами»/«ними», друзьями/врагами, внутренним кругом/внешним кругом, он носит в себе все, чего в себе не следует копить: идеи, чувства, желания, побуждения, пагубные для него самого и отталкивающие других. То, что Иуда олицетворяет собой самое жалкое состояние, в котором только может пребывать человек, означает, что наше восприятие его высвечивает не только наши страхи за свои собственные грехи и наши страдания, но и этическую категорию несправедливости и психологическое состояние отчаяния.
«Творческая» история Иуды играет ключевую роль в истории этики, поскольку именно он воплощает то «ощущение человеческого несчастья», которое Симона Вейль считает «предпосылкой или непременным условием справедливости и любви» (S. Weil «Iliad», 34). Иудейский мыслитель, почитавшая Иисуса Христа, но оставшаяся невоцерковленной, Вейль оперировала понятиями, применимыми и к тому, что отображает собой эволюция Иуды: «Тот, кто не осознает, до какой степени переменчивая судьба и необходимость удерживают в подчинении любой человеческий дух, не может ни считать дружественными себе, ни любить, как самого себя, тех, кого случай разделил с ним пропастью» («Iliad» 34—35). Не так давно в работе, не касающейся библейских вопросов, Ева Кософски Сэдгвик подробно описала те психологические затруднения, которые испытывает человек, ощущающий себя не приспособленным к окружающим условиям, неуместным в них, изолированным от других волею переменчивого случая или необходимости. Эта ситуация вполне применима к Иуде. По мнению Сэдгвик, «предпосылкой» «депрессивного состояния» является «именно трудность осознания того, что добро и зло неразделимы на любом уровне» (Sedgwick, 637). Состояние подавленности может проявляться «в формах угрызений совести, раскаяния, стыда, полного замешательства, лишающего способности думать, депрессии как таковой, сожаления об утраченном идеале и — зачастую более уместного — парализующего осознания неумолимых законов непредвиденных последствий» (637). Эмиссар подавленности, Иуда намекает, что добро и зло неразделимы, они соседствуют и сопутствуют друг другу. И наши действия, как и действия наших ближайших товарищей, могут нанести и подчас наносят вред и обиду.
Не важно, в какой именно форме проявляется подавленность Иуды. Важно, что возникает она вследствие вызывающего отвращение осознания факта своей измены (способности к ней) либо своей уязвимости перед непредвиденными последствиями. Подобное осознание, постижение самого себя не гарантирует отказа от действий, могущих причинить вред. В поэме Анны Секстон, «Легенда об одноглазом человеке», в названии которой содержится намек на персонажа, часто изображающегося двуликим, есть ключевая фраза: «история его жизни — это история обо мне».
[388] Предатель среди своих необходим потому, что
предатель всегда находится среди своих. Долгая история Иуды в искусстве развивается по Марку и Матфею: евангельское повествование требует использования местоимений «я» и «меня, «мы», и «нас». Мы предали Иисуса; мы предаем самих себя. Вот истинная причина, по которой роль предателя отводится апостолу. Иисусу причиняют боль те самые люди, которых Он пришел спасти. В «Деяниях» даже апостол, которого часто рассматривали, как анти-Иуду, Петр, свидетельствует об Иуде: «Он был сопричислен к
нам и получил жребий служения сего» (1: 17, выделено автором).
Не важно, насколько сильно Иуда может быть изолирован от остальных апостолов на полотнах, изображающих Тайную Вечерю. Не важно и то, насколько покорно он сгибается, раболепствует или извивается. Важно другое: невзирая ни на что, двенадцатый апостол
участвует в Тайной Вечере как приглашенный — пусть даже и не желанный, но гость в кругу Иисуса: чужак, но и сосед, местный чужестранец. И разве случайно этот местный информатор часто оказывается к нам, зрителям, всех ближе — как на полотнах таких художников, как Креспи и Ратгеб, Мастер Домовой книги и Мастер Бертран, Рубенс и Гольбейн, интуитивно предвосхитивших вердикт Сарамаго: «Он всегда будет один из нас, мы можем не знать, что с ним делать, но он будет оставаться одним из нас» (40)? Иуда и его роль в драме Страстей заслуживают признания за его жуткое служение: напоминая толкователям и комментаторам Евангелий (любой религиозной принадлежности) о нашей неспособности постичь принципы, управляющие человеческой природой — нашей собственной и таковой других.
Кроме того, двенадцатый апостол не так уж и подходит для тех разнородных целей, которые многочисленные толкователи приписывали Богу в связи с творением, и тем самым он затрудняет поверхностные рассуждения о предназначении мира, который мы населяем. По этой причине религиозный философ Дональд М. Маккиннон однажды заявил: «Совершенно бессмысленно говорить о христианской религии, как о религии, предлагающей решение проблемы зла. Нет в Евангелиях и решения загадки Иуды, благодаря действиям которого Сын Человеческий проходит предначертанный Ему путь. Проблема обозначена; она остается нерешенной, но нам предложен образ того, кто нес свое непосильное бремя и пронес его до конца, отвергнув бескровную победу, к которой побуждали Его на самом деле глумливые безбожники, призывавшие Его сойти с креста» [92—93].
По мнению Маккиннона, «то, что Евангелия предлагают нам», есть не «решение», а, скорее, «рассказ о терпении: «Христианство берет историю Иисуса и побуждает верующего обрести, терпеливо снося противоречия человеческого существования, являющиеся его сутью, уверенность, что в худшем из того, что может постичь Его создания, созидательное Слово пребывает с теми, кого Он призвал» (93).
К этому я бы только добавила, что отказ христианства предложить решение загадки Иуды — «проблема обозначена; она остается нерешенной» — лишь придает значимости апостолу, который также нес свое «непосильное бремя» зла и «пронес его до конца».
[389] Иуда терпеливо сносит «худшее из того, что может постичь» Божье создание, и делает это,
несмотря на то что «созидательное Слово» не пребывает с ним. В Драме Страстей один и только один апостол претерпевает, как Иисус, смерть во спасение — в случае с Иудой это смерть с возможностью быстрого понимания тех, кто пытается преодолеть отверженность и одиночество. «И разве Иуда, на своем месте и по-своему не выдающийся апостол?», — задается вопросом Карл Барт, тем самым доказывая, что его пристальное внимание к Евангелиям может отступать от тех антисемитских идей, во служение которым он столь часто ими оперирует: «Разве не есть он святой среди них — святой в старом понимании этого слова, тот, кто мечен, заклеймен, осужден, тот, кто несет бремя божественного проклятия и отвергнут всеми, тот, кто тем самым наиболее приближен к Самому Иисусу?» (479).
[390] И здесь опять — как и всегда в случае с Иудой — всплывает парадокс: не сумев разрешить проблему зла, обозначенную Иудой, христианство, тем не менее, постулирует ее, признавая не решаемой. Нерешенная загадка всегда будет оставаться актуальной и провокационной, всегда будет побуждать умы к поиску ответов. Не лишая веры, парадоксы волнуют разум верующего — ведь они открывают «опытные пути познания духовных истин, которые невозможно передать ни словесно, ни образно» (Madden and Hare, 66).
[391]
Как и другие ученики и как многие жители древней Палестины, Иуда в самом начале своей истории вроде бы совершенно сознательно принимает служение ради Мессии, который предрешит конец истории человечества во Славу величия Господа:
«Ибо от Сиона выйдет Закон,
и слово Господне — из Иерусалима.
И будет Он судить народы,
и обличит многие племена;
и перекуют мечи свои на орала,
и копья свои — на серпы;
не поднимет народ на народ меча,
и не будут более учиться воевать». (2: 3—4)
«И падет величие человеческое,
и высокое людское унизится;
и один Господь будет высок в тот день.
И идолы совсем исчезнут.
И войдут люди в расселины скал
и в пропасти земли,
от страха Господа
и от славы величия Его,
когда Он восстанет сокрушить землю». (2: 17—19)
Иисус Сам в различных пророчествах, как позднее и Павел, похоже, верил, что Мессии удастся быстро установить мессианский век мира и справедливости, когда все ложные ценности и грубые проявления силы будут сокрушены.
[392] Иуда же, разделявший поначалу столь радужные надежды, в определенный момент своей жизни усомнился, что такое время может наступить скоро. Независимо оттого, верит ли кто-то в возможность своего собственного искупления или нет, Иуда постулирует упрямый факт, что такой мир, каким мы его знаем, останется неискупленным, хотя и не лишенным надежды на искупительное спасение. В «Синае и Голгофе» Джон Т. Павликовски признается от лица католиков и протестантов: «Мы все еще ожидаем — вместе с иудеями — наступления Мессианского века» (124). В конце книги он цитирует раввина Ирвинга Гриберга, призывающего протестантских, католических и иудейских верующих «подождать, пока не явится Мессия. Тогда мы спросим Его, первое ли то пришествие Его или второе» (228).
Став для Иисуса иудеем, Иуда освободился от иллюзий, возможно, обеспокоенный судьбой колонизированной иудейской земли, возможно, нетерпеливый или опасающийся способности Иисуса установить земное или духовное царство, возможно, обезоруженный или удрученный, возможно, упрямо, хоть и необъяснимо, сопротивляющийся милости, возможно, вновь увлеченный словами еврейской Библии и первосвященниками. Либо по имевшему меньший резонанс сценарию Иуда помог реализоваться замыслу Иисуса слишком дорогой для себя ценой. Хотя и в этом случае он пострадал несправедливо и тем самым подтверждает, пусть и не очевидный, неуспех дела. В большей степени, чем любой другой персонаж в Драме Страстей, и в силу своей подверженности ошибкам Иуда олицетворяет собой всю трудность для человека следовать призыву Иисуса: «будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный» (Матф. 5:48).
Мастера изобразительных искусств и словесности, упомянутые на страницах этой книги, породили на свет целый сонм всевозможных версий, акцентируя те или иные моменты в жизни Иуды: реже — его призвание в апостолы и служение для Иисуса и вместе с Ним; гораздо чаще — его сотрудничество с первосвященниками и старейшинами, его участие в Тайной Вечере, поцелуй в Гефсиманском саду, раскаяние, возвращение сребреников или приобретение поля горшечника и, наконец, смерть. Последовательность этих сцен в совокупности отображает направление развития западной культуры сквозь призму нашего сознания, расстающегося с идеалами при постижении того, что все ненавистное, пагубное или вредное присуще в той или иной степени всем и вся; сквозь призму личности, которой мог быть или опасается стать любой; сквозь призму души, обреченной сценарием. История Иуды развенчивает вред: он причинил вред и вред был причинен ему; при наказании Иуды вред был нанесен другим: пострадали невиновные.
[393] Не только несчастья, причиной которых явился двенадцатый апостол, но и те ужасные бедствия, что претерпели невинные люди, разделившие с Иудой наказание за причиненное им зло, — все эти несправедливости лишь подтверждают, что мы немногим отличаемся от него. Исключение, оказывающееся правилом, — Иуда занимает прочное место в западной культуре, олицетворяя ложь или непостоянство, заблуждения или сомнения в своей правоте, не демонстрируемые другими, но присущие каждому. Иуда — зеркало нас.
Двоеверие Иуды, его приверженность одновременно и Иисусу, и Храму свидетельствует лишь о его сильном желании увидеть надменность усмиренной, спесь — обузданной законом, а идолов — поверженными, как, впрочем, и о глубокой убежденности в том, что такое случится не скоро. Служение Иуды, как и служение остальных одиннадцати, подчеркивает стойкое стремление многих приблизить то время, когда люди «не будут более учиться воевать». Но его визуальные перевоплощения и воскресения на страницах книг только питают огорчительное подозрение в том, что мир, который мы построили, ставит под сомнение подобный исход.
* * *
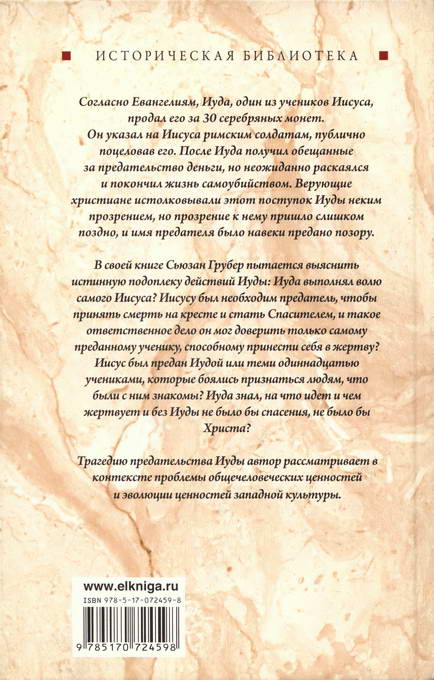
Примечания
1
Это ставшее афоризмом изречение мы находим в статье «The Butterfly's Boswell», а затем Уайльд перефразирует его в работе «Истинная задача и значение критики» и в эссе «Критик как художник».
(обратно)
2
Как справедливо подметил Парк, в книжных магазинах и библиотеках биографии частенько делят полку с автобиографиями, а книготорговцы нередко включают их в один каталог, словно авторы каким-то образом отождествляются со своими персонажами, прожившими жизнь, описанную на страницах их книг.
(обратно)
3
О художественных особенностях и проблеме вымысла в автобиографическом жанре, предполагающем фактическую достоверность излагаемого материала, рассуждает Нэнси К. Миллер.
(обратно)
4
См. анализ Бекшейдера книги Майлса «Бог: биография» (166-167).
(обратно)
5
С того момента, как начал складываться известный стереотип «вечного жида», убийство Каином Авеля не раз использовалось для закрепления за евреями их «статуса» рассеянного по земле, вечно скитающегося и вечно гонимого народа. В Новое время некоторые авторы — например, Дан Пагис в различных своих стихотворениях — обращались к этому библейскому мотиву при исследовании причин жестокого геноцида, что учинили над евреями нацисты. В XIX в. Каин, особенно отмеченный печатью Божьего знамения, время от времени обретал африканские или афроамериканские черты. Именно таким он виделся тем комментаторам, которые считали «каинову печать» признаком злого дурного начала, хотя Бог отметил Каина, чтобы защитить его от убийства.
(обратно)
6
В 1935 г. Карл Барт «лишился кафедры в Боннском университете из-за своей открытой оппозиции нацизму и переехал в родную Швейцарию. Чувствуя себя в безопасности в Базельском университете, он призывал всех христиан противостоять Гитлеру, как исчадию зла» (Ericksen, 177). И все же в письме 1967 г. Барт признается в своей «аллергии на евреев»: «Увы, я ни в коем разе не филосемит, и в личном общении с евреями (даже евреями-христианами) мне всегда — сколько себя помню — приходилось подавлять совершенно необъяснимое к ним отвращение; и, как ни старался я подавить его, борясь со своей предубежденностью и тщательно скрывая ее в своих высказываниях, мне так до конца и не удалось ни подавить, ни изжить в себе это чувство» (Letters, 262). О гораздо более неоднозначном подходе Барта к Иуде мы узнаем в последующих главах. Для более углубленного изучения воззрений Барта на Иуду см. работы Макглассона и Кейна (Сапе, 59-70). О слепоте, часто приписываемой евреям в средневековой Европе, см.: Kruger (94), а также рассуждения Папия в Главе 3.
(обратно)
7
Ночь, в которую Иисус в Евангелии от Иоанна отсылает Иуду, по мнению Джорджа Штейнера, является «тем самым моментом… в который ненависть к евреям проросла корнями в самое сердце христианства» (Steiner, 417).
(обратно)
8
В духовной автобиографии «Изобильное милосердие, изливающееся на главного грешника» (166) Джон Баньян описывает, как он, подобно Иуде, испытывал искушение продать Иисуса и чувствовал себя отвергнутым и лишенным милосердия Божьего, пока наконец не познал на себе всю милость Всевышнего. См.: Ohly (122—124).
(обратно)
9
О кадрах из фильма Де Милля см. Главу 5. Де Милль позаимствовал идеи Брюса Бартона, но смягчил образ Иуды, созданный Бартоном в его известном бестселлере «Человек, которого никто не знает» (1925): в популярной книге Бартона двенадцатый апостол предстает «маленьким докучливым предпринимателем», желающим докопаться до истины (Barton, 83).
(обратно)
10
Иуда разрывается между двумя лидерами антиримского движения — пацифистом Иисусом, Мессией мира, и мятежником Вараввой, Мессией войны (Humphries-Brooks, 26— 28). Точно так же Иуда в «Иисусе из Назарета» Франко Дзеффирелли (1977), может быть, и обманывается, и заблуждается, и «совершает ошибки», но это лишь делает его образ «более человечным»; ведь в этом зрители «могут быть уподоблены ему, в чем уподобить себя Иисусу мы не можем» (Humphries-Brooks, 75).
(обратно)
11
Об Иисусе в кинематографе см.: Walsch; Humphries-Brooks; Reinhartz.
(обратно)
12
Я в неоплатном долгу за предоставленный мне доступ к электронной почте Дейва Макколла.
(обратно)
13
Динцельбахер продолжает: «Едва ли мне известны какие-либо источники, в которых бы поступок [Иуды] представлялся как поступок типичного еврея» (Dinzelbacher, 80— 81). Я выражаю свою признательность Джеймсу Расмуссену за перевод.
(обратно)
14
Иуду игнорируют даже теологи, признающие, что христианские проповеди могли содействовать нацистскому геноциду. Например, Павликовский в работе «Христос в свете иудейско-христианских диалогов» (см.: Pawlikowski, Christ in the Light of Jewish-Christian Dialogues) обсуждает позиции таких известных богословов, как Схиллебекс, Панненберг, Молтманн, Кюнг, Собрино и Гутиеррез, не касаясь Иуды вовсе. Не упоминается Иуда и в замечательной книге «Иисус, иудаизм и христианский антисемитизм: прочтение Нового Завета после Холокоста», изданной под редакцией Фридриксен и Рейнгарца. См.: Jesus, Judaism, and Christian Anti-Semitism: Reading the New Testament after the Holocaust, ed. by Fredriksen and Reinhartz.
(обратно)
15
Карен Армстронг считает, что ученики Иисуса «верили, что он скоро вернется, чтобы установить мессианское Царство Божье, и поскольку в таких представлениях не было ничего противного иудаизму, секту христиан признавали многие правоверные иудеи, в том числе и такие авторитеты, как раввин Гамлиил, внук Гиллеля» (Karen Armstrong, 79). Армстронг утверждает, что «последователи Иисуса, как все богобоязненные евреи, ежедневно бывали в Храме» вплоть до того самого дня, когда идея «Нового Израиля… стала новой языческой верой» (80).
(обратно)
16
Сегал также пишет, что «иудаизм и христианство — две религии- близнецы. Это поразительный факт, что религии, которые мы сегодня называем иудаизмом и христианством, зародились в одно и то же время и формировались в одной среде» (Segal, 1).
(обратно)
17
В трактате «Граница» Даниэль Боярин убедительно доказывает, что «иудаизм не является и не являлся, начиная с раннехристианской эпохи, «религией», если понимать ее как ортодоксию, по отношению к которой гетеродоксальные взгляды, или даже просто странные мнения, делали человека аутсайдером» (Boyarin: Border Lines,
(обратно)
18
В своей основанной на личностных переживаниях книге на тему суицида Саари касается и образа Иуды в Синоптических Евангелиях. В конце этой главы я подробно останавливаюсь на целом сонме книг об Иуде, что появились на свет после публикации Коптского «Евангелия от Иуды». Кейн исследует «противоречие между провидением и трагедией» с позиции теолога, задавшись целью определить «место Иуды Искариота в Христологии» (Сапе, 12).
(обратно)
19
Помимо книг об Иуде, упоминаемых здесь, я привлекаю в своей работе великое множество статей различных ученых; все они перечислены в списке литературы, прилагаемом в конце книги. Кроме того, я использую недавние публикации об Иисусе, помогающие в постижении образа и характера Его антагониста. Не будучи специалистом, я опираюсь также в своих изысканиях на новое, переработанное издание The HarperCollins Study Bible (ed. by Wayne A. Meeks et. al. London: HarperCollins Publisher, 1993).
(обратно)
20
«Источник Q» — гипотетический сборник изречений Христа, который авторы Евангелий от Матфея и Луки, независимо друг от друга, использовали в качестве источника наряду с Евангелием от Марка. Реконструированное на основании тех добавлений, что привнесли Матфей и Лука в Евангелие от Марка, Евангелие Q не содержит «никаких ссылок на Иуду» (Robinson, 5).
(обратно)
21
Согласно Гольдштейну, в оригинальных текстах таннаитского периода, «мы читаем, что был человек по имени Иешуа, Иешу, Иешу Га-Ноцри или Иешу бен Пандера, который занимался магией и исцелял людей, но в том усмотрели колдовство, и за то, что смущал он людей соблазнами и сбивал их с пути истинного, был он повешен в канун еврейской Пасхи», а также о том, что «у него было пять учеников: Маттай, Наккай, Нецер, Буни, Тода» (Goldstein, 96). Шафер не согласен с теми, кто отрицает подлинность таннаитских текстов об Иисусе; однако при этом он утверждает, что «исторический Иисус не упоминается в наших раввинистических источниках» (Schäfer, 8). См. также анализ средневековой иудейской легенды об Иисусе и Иуде в конце этой главы.
(обратно)
22
Маккоби утверждает, что «вся история предательства была измышлена не ранее чем через 30 лет после смерти Иисуса» (Maccoby, 25). В книге «От Иисуса ко Христу» Пола Фредриксен соглашается, что «целью повествователей Драмы Страстей Христовых» было противопоставить Рим и христианство иудеям (Fredriksen, 105): «созданный евангелистами образ Иисуса, постоянно преследуемого и подвергающегося нападкам со стороны враждебных фарисеев, в большей мере отражал те условия, в которых жили они сами, нежели время, на которое пришлось служение Иисуса в Палестине» (Fredriksen, 106).
(обратно)
23
Кермод предполагает, что «в самый ранний период» Иуда «не участвовал в сцене Тайной Вечери. Он был включен в нее позднее, когда ему отвели роль предателя и он стал той движущей силой Драмы, благодаря которой за первым актом действа последовал второй» (keimode, 84).
(обратно)
24
В «Иисусе» Эрман обсуждает эти критерии в присущей ему лаконичной, но яркой манере (Ehrman, 87—95).
(обратно)
25
Большинство ученых ныне сходятся во мнении, что Евангелие от Марка было создано в 68—70 гг. н.э., Евангелие от Матфея — в 80—85 гг. н.э., Евангелие от Луки было написано в 80—85 гг. н.э. (а его «Деяния святых апостолов» в 100 г. н.э.), а Евангелие от Иоанна — в 90—95 гг. н.э. Я благодарна всем лингвистам, историкам, теологам и литературным комментаторам за богатый кладезь материалов по евангельской тематике. Подобно им, я называю Марка, Матфея, Луку и Иоанна авторами Евангелий, хотя это продиктовано исключительно удобством подачи излагаемого материала. Первые три Евангелия называются «Синоптическими», и их принято отделять от последнего Евангелия. Едва ли стоит оговаривать, что в последующей главе моей книге я тщательно исследую разночтения, обнаруживаемые в четырех Евангелиях, но касающиеся только Иуды.
(обратно)
26
Здесь Саари следует за Классеном, хотя и убежден в том, что Иуда — целиком вымышленный персонаж, введенный в евангельский сюжет Марком в качестве «инструмента» для критики двенадцати учеников. Макглассон находит доводы о возможности различного толкования глагола «предать» у Барта (143—144). Кейн, анализируя 1-е Послание Павла к Коринфянам, также указывает на то, что «из греческого текста не ясно, идет ли речь об Иуде, либо о Пилате, либо о первосвященниках, либо и вовсе о Боге» (Сапе, 21). Поскольку новозаветные авторы предпочитают многозначный глагол, основным значением которого является «передать, вручить», когда могли бы использовать недвусмысленный глагол «предать», Кейн считает, что таким образом «они языковыми средствами устанавливают параллель между действиями Иуды, иных участников и Бога (24). Кейн также обсуждает различные варианты перевода глаголов «предать» и «передать» или «вручить» в последующих библейских изданиях, комментариях и толкованиях. (113—126).
(обратно)
27
В этом смысле показателен и русский глагол «предать», который также имеет несколько значений: «изменить, выдать» и «передать, отдать, вручить», ср.: «предать друга» и «предать огласке»; «предаться воле Божьей» —
Прим. пер.
(обратно)
28
Джон Шелби Спонг считает, что это свидетельство только доказывает сомнительность версий об историчности Иуды: «вся история Иуды уж больно походит на вымысел» (203).
(обратно)
29
Классен (Klassen, 30) перечисляет семь других новозаветных персонажей с именем Иуда; это — сын патриарха Иакова (Матфей 2:6); Иуда в родословии Иисуса (Лука 3:30); Иуда, брат Иисуса (Матфей 13:55, Марк 6:3); Иуда Галилеянин (Деяния 5:37); Иуда Варсава (Деяния 15:22,27,32) и Иуда из Дамаска (Деяния 9:11).
(обратно)
30
В энциклопедии «The Anchor Bible Dictionary» приводится исчерпывающее описание версий о возможных значениях имени «Искариот», которое исследователи возводят к арамейскому «иш кария» — «лживый», еврейскому корню со значением «передавать, отдавать» или названию поселения, города или пригорода, откуда родом мог происходить Иуда. Однако ни одна из версий до сих пор не признана единственно верной (III 1091 — 1092). См. также: Brown: Appendix IV on Judas (1411-1418); Meier (210); Cane (16-18).
(обратно)
31
По мнению Брауна, «сопоставление всех свидетельств подкрепляет тезис о том. что один из двенадцати, по имени Иуда, предал Иисуса властям, которые устроили его казнь» (1396). См. также: Nickle (29); Klassen (74). Кроссан пишет: «Я готов признать Иуду историческим последователем Иисуса, предавшим Его. Но я не считаю, что он входил в число двенадцати, потому что эта символическая группа двенадцати новых патриархов, призванная заменить двенадцать древнееврейских патриархов, оформилась только после смерти Иисуса (Crossan, 75). Пейджелс и Кинг допускают: «вполне возможно, что кто-то в движении предал Иисуса», усматривая в том, что Иисуса сдал властям один из его ближайших сподвижников, «невероятное унижение» (30). Конечно, с этим согласны не все: «Теория предательства учениками не доказана. Все, что угодно, могло случиться с Иудой после его ухода с Тайной Вечери и до его появления в Гефсиманском саду» (Wilson 200). Тот факт, что Павел не называет имени Иуды, побудил Дж.М. Робертсона в книге «Иисус и Иуда» (1927) считать Иуду персонажем вымышленным (см.: J. M. Robertson, Jesus and Judas, 1927).
(обратно)
32
В своей книге «Иисус и Яхве» Гарольд Блум пишет, что чувствует себя «несчастным, когда отец Мейер доказывает историчность Иуды Искариота, который представляется мне, да и всем прочим — евреям и неевреям — явно злобным вымыслом, помогающим оправдывать убийство евреев на протяжении двух тысяч лет» (24). В своем отзыве на книгу Блума Кермод выговаривает: «как истинный гностик, [Блум] предпочитает верить, что Иисус избежал казни и, в конце концов, оказался в Северной Индии. Блум, считающий эту версию фактом, отвергает Иуду, как вымысел. Я думаю, это верно, но, принимая во внимание переменчивое отношение Блума к вымыслу и факту, большой разницы в том, кем он был, нет. Блум может верить в то, во что ему удобно верить» (41).
(обратно)
33
Штраус, указывающий на невозможность увязать воедино свидетельства о Земле крови у Матфея и Луки, приходит к выводу, что «у нас нет оснований сомневаться в существовании Земли крови», но вот, «ее отношение к предателю Иисуса вызывает большие сомнения» (Strauss, 665). Бенуи анализирует противоречия в свидетельствах Матфея, приписывающего покупку земли первосвященникам, и «Деяний», в которых эта земля называется собственностью Иуды, приобретенной им на деньги, вырученные от предательства Иисуса (Benoit, 196), и предпринимает попытки воссоздать на основании этих свидетельств логичную картину. Помимо этого, он подчеркивает, что «традиция всегда помещала Хакелдаму в определенный квартал Иерусалима: а именно, юго-западный район окрест Бир-Аюба, у подножия Силоама, где встречаются три долины…» (200). Звавшееся «землей черепков» или «землей горшечников», это было «хорошее место для ремесленников, которые находили там воду, необходимую им для обработки своей глины» (201).
(обратно)
34
Кроссан «почти уверен, что Иуда был схвачен, как один из соучастников Иисуса, во время акции в Храме и, в конце концов, рассказал им,
кто это совершил, а не только
где он был» (Crossan, 81). В «Потерянном Евангелии от Иуды Искариота» Эрман выдвигает предположение о том, что Иуда разглашает сокровенные признания Иисуса о его будущей роли Царя в Царстве, которые могли быть затем использованы фарисеями и первосвященниками, чтобы обвинить Иисуса в провозглашении Себя Царем Иудейским (Ehrman, 165).
(обратно)
35
Немногосложные свидетельства об Иуде мы находим у Папия (ок. 130 г.), Иринея Лионского (ок. 130—200 гг.) и Епифания Саламийского (ок. 310—403 гг.), упоминающего о «Евангелии об Иуде». Упоминают Иуду и Ориген (ок. 185— 254 гг.), и Кирилл Сирийский (ок. 279-303 гг.) и Феофилакт (XI в.). В распоряжении исследователей имеется также эпическая поэма «Пасхальная песнь», написанная Седулием в Vb., и Арабское Евангелие Детства Спасителя, датируемое V или VI вв. Но все эти источники, большинство из которых я обсуждаю в третьей и четвертой главах этой книги, старше Евангелий.
(обратно)
36
См.: Taylor.
(обратно)
37
Во
введении к книге об Иуде одного немецкого автора (Ohly, xiii-xiv) Джордж Штейнер отмечает довлеющее действие того факта, что Иуда был связан с постоянно возобновляемыми гонениями на евреев: «Это из-за предательства Иуды и богоубийства, которое оно повлекло за собой, евреев безжалостно травили до смерти с тех самых времен, когда Иуда появился в христианской литературе и иконографии. Бессчетное количество еврейских мужчин, женщин и детей были преданы остракизму и обречены на мучения из-за злой доли Иуды, какой ее объявили и вообразили себе христиане».
(обратно)
38
В фильме «Шоа» (Shoah) — название переводится как «Холокост» — столпившиеся перед церковью люди рассказывают, как евреи в их общине были согнаны в церковь, а затем помещены в газовые камеры и уничтожены. Из толпы вперед выступает мужчина, желающий объяснить, что все эти люди за его спиной верят в то, что раввин общины сам сказал жертвам, что «около 2000 лет тому назад иудеи осудили невинного Христа на смерть», и вот «пришло время» им безропотно принять участь, предписанную у Матфея. Перед тем как прибегнуть к религиозному оправданию убийства евреев, некоторые в толпе упоминают о том, что в чемоданах евреев видели золото, взятое ими в церкви.
(обратно)
39
См. полный англоязычный перевод «Мистерий Страстей» под ред. Стеда (The Passion Play, ed. Stead), а также «Об-раммергау» Шапиро (Shapiro, Oberammergau).
(обратно)
40
Наглядным примером враждебной антисемитской риторики без упоминания Иуды могут послужить «Проповеди против иудействующих христиан» («Восемь слов против евреев») святого Иоанна Златоуста (IV в.), называвшего евреев не только убийцами Христа, но и пьяницами, зверями, демонами и больными извращенцами: «Человек, недостаточно любящий Христа, не сможет отстоять Его пред теми, кто Христа ненавидит» (177). Эти проповеди Златоуста обращены к тем, кто называет себя христианином, но при этом бежит в синагогу, кто, «говоря о себе, что поклоняется Христу, влечет кого-нибудь в вертепы иудеев, распявших Его» (238). Проповедник стремится доказать диаметральную противоположность христианства иудаизму, чтобы укрепить веру своей общины: «Для чего смешиваете вы то, что смешивать не должно? Они распяли Христа, которому вы поклоняетесь, как Богу. Разве не видите вы, сколь велика разница между вами? Тогда зачем бежите вы к тем, кто убил Христа, но говорите, что почитаете Его, Кого они распяли?» (78—79). In Ruether's overview chapter on the adversos Judaeos tradition from the second to the sixth century (117—182), she never mentions Judas because the tradition attacks Jews without any need for him to play a central rhetorical role.
(обратно)
41
По мнению Лакера, иудеям жилось «гораздо лучше» под властью мусульман, чем в раннехристианской Европе (Laqueur, 192). Разумеется, поясняет Лакер, можно найти «цитаты, в которых говорится, что джихад (священная война) — это священный долг каждого мусульманина, что иудеев и христиан нужно убивать и что эту борьбу следует вести до тех пор, пока исламская религия не останется единственной в мире» (Сура 8:39); однако «в Коране также говорится, что у Мухаммеда были друзья иудеи, и в нем даже имеется строфа, которую можно истолковать как свидетельство о том, что Аллах обещал иудеям Иерусалим. Можно найти в нем и строки, провозглашающие терпимость: «в религии нет принуждения» (Сура 2:256); и Моисей, и Иисус были истинными пророками; иудеи и христиане — это ахль аль-Китаб («люди Писания»), и с ними следует обходиться в исламских обществах лучше, чем с язычниками» (192). В книге «Под полумесяцем и крестом» Коэн обсуждает «миф об исламско-иудейской межрелигиозной утопии» (Cohen: Under Crescent and Cross, 5), особое внимание уделяя периоду Средневековья. Что до Иуды, влияние мусульманской традиции просматривается в Евангелии от Варнавы, обсуждаемом в Главе 4.
(обратно)
42
Дэвид Бракке обращает внимание, что «злая весть» или «dysangelion» («контревангелие») — это всего лишь искусственный, теоретический термин, и даже глаголы и прилагательные, образованные от этих слов, встречаются крайне редко.
(обратно)
43
Преследуя иные цели, Барт подробно обсуждает различные акты «передачи» или «предания» (Barth 483—489) и приходит к выводу, что «Иуда — лишь первое звено в цепи» (460) рук, передавших Иисуса первосвященникам. Кейн указывает на то, что «и Августин, и Ориген достаточно восприимчивы, чтобы подметить языковую параллель между «преданием», совершенным Богом, и «преданием, совершенным Иудой» (Сапе, 120).
(обратно)
44
Эти строки появляются в антивоенной песне Дилана «С Богом на нашей стороне».
(обратно)
45
Об этом и других фильмах об Иисусе и Иуде см.: Tatum; Reinhartz.
(обратно)
46
В числе современных песен, так или иначе касающихся Иуды, — «Amarok — Zorn Des Lammes III» в исполнении «Nagaroth», «At Least I Know I'm a Sinner» в исполнении «Atreyu», «The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest» в исполнении Боба Дилана (эта композиция навеяла название группы «Judas Priest»), «It was as if the Dead Man Stood upon the Air» в исполнении Нормы Джин, «Judas» в исполнении «Depeche Mode», «Judas Iscariot» в исполнении Rick\\&keman, «The Man's Too Strong» в исполнении Dire Straits, «Masters of War» в исполнении Боба Дилана, «Omerta» в исполнении «Lamb of God», «Pride» («In the Name of Love») в исполнении U2, «Truly, Truly this is the End» в исполнении «Zao», «Until the End of the World» в исполнении U2, «Brainsaw» в исполнении «Therapy», «Judas My Heart» в исполнении «Belly», «Judas» в исполнении «Helloween», «Kiss of Judas» в исполнении «Stratovarius», «Judas be My Guide» в исполнении «Iron Maiden», «Age of False Innocence» в исполнении «Blind Guardian», «Behold Judas» в исполнении «Hate Eternal» и «Don't You Grieve» в исполнении Роя Харпера. Помимо этого, «Smashing Pumpkins'» выпустили два B-side альбома: «Pisces Iscariot» и «Judas О».
(обратно)
47
Рейнхарц отмечает, что «трансформация еврейских детей в демонов — это явно плод виновного и извращенного ума Иуды», но затем связывает его с «вековым тропом иудеев, как детей Дьявола» (194).
(обратно)
48
То, что древние гностики сохранили Евангелие от Иуды не в числе 46 апокрифических текстов, обнаруженных в 1945 г. близ Наг-Хаммаги (Верхний Египет), стало ясно только тогда, когда потрепанные папирусы появились на рынке. Во многих статьях о знаменательной находке цитировались слова известных представителей Католической церкви о том, что реабилитация Иуды могла бы решить «проблему не выказанного Иисусом милосердия по отношению к одному из своих ближайших сподвижников» (Owen, 3). Оуэн ссылается на Монсеньора Вальтера Брандмюллера, председателя Папского комитета по историческим наукам, и Витторио Мессори, известного католического писателя, приближенного Римского Папы Бенедикта XVI, а позднее Иоанна Павла II. Робинсон подробно останавливается на опровержении Брандмюллером выдвинутых в его адрес газетчиками обвинений в том, что он возглавил кампанию по реабилитации Иуды, и в доказательство приводит официальное заявление Монсеньора: «Никакой кампании, никакого движения по реабилитации изменника Иуды нет» (Robinson, 180).
(обратно)
49
Обзор воззрений на спорного апостола и других учеников, а также Марию Магдалину, предлагает Акокелла (см.: Acocella). История обнаружения Евангелия от Иуды описана в статье Дарта и книге Кросни.
(обратно)
50
Пайпер обсуждает «Евангелие от Иуды» Генрика Па-наса (Henryk P&nas, The Gospel according to Judas), «Утраченное Евангелие Иуды Искариота» Майкла Дикинсона (Michael Dickinson, The Lost Testament of Judas Iscariot), «Евангелие от Иуды» Эрнеста С. Бейтса (Ernest Sutherland Bates, The Gospel of Judas), «Евангелие Иуды» Даниэля Ис-терманаа (Daniel Easterman, The Judas Testament}, «Иуду!» Питера Ван Гринэвэя (Petervan Greenaway, Judas!) и «Евангелие согласно Иуде» Сесиля Левиса (Cecil Lewis, The Gospel according to Judas) — все, написанные до обнаружения Коптского Евангелия от Иуды, как и эссе самого Пайпера.
(обратно)
51
В «Утерянном Евангелии от Иуды» Эрман утверждает, что «христианская традиция последовательно изображала Иуду в невыгодном свете, причем все больше сгущая краски» (138) — точка зрения, которую я оспариваю на последующих страницах.
(обратно)
52
См. к примеру, книгу Барта Д. Эрмана о Коптском Евангелии, а также работы Элайн Пейджелс и Карен Д. Кинг. Робинсон здесь исключение.
(обратно)
53
Прекрасными образчиками очерняющих Иуду ученых трудов могут служить трактаты Абрахама-а-Санкта-Клары (Иоганна Ульриха Мегерле), мыслителя XVII в., и сочинения Карла Дауба, писателя XIX в. Оба они представляли Иуду омерзительным исчадием зла.
(обратно)
54
Кладезем сведений о различных источниках, авторстве, историческом фоне, богословских комментариях и взаимосвязи Евангелий от Марка, Матфея и Луки, является труд Никла (см.: Nickle). О Евангелии от Иоанна см. Kysar.
(обратно)
55
Усилившееся после Иудейской войны размежевание иудеев и христиан прекрасно обрисовывает Фредриксен. Ее сборник, подготовленный к печати совместное Рейнхарцем, включает замечательные эссе на темы антииудаизма в Новом Завете, хотя и не фокусируются на фигуре Иуды.
(обратно)
56
Иными словами, я не задаюсь целью разрешить дилемму: следует ли трактовать Евангелия, как «исторические свидетельства» или как «облеченные в форму исторических свидетельств пророчества». Определения в кавычках почерпнуты из книги Кроссана «Кто убил Иисуса» (Crossan, Who Killed Jesus, 159); полемику между Кроссаном и Раймондом Брауном по поводу «статуса» Евангелий комментирует Коен (Cohen, 23-25).
(обратно)
57
Согласно МакГлассону, такого же мнения придерживается и Барт. Для него также «абсолютная слепота, абсолютное непонимание, абсолютное заблуждение, абсолютно ошибочные идеи, абсолютное отречение — такова картина апостольства» (108).
(обратно)
58
Борг и Кроссан поясняют, что это «изумление вполне понятно. Иосиф сообщает, что самые большие камни были 21 м длиной, 3 м высотой и 2,5 м шириной» (Borg and Crossan, 75); однако они также считают, что Евангелие от Марка — это повествование о «неудавшемся апостольстве» (91). Поэтому предательство Иуды является «просто худшим примером того, как наиболее приближенные к Иисусу люди изменили Ему в Иерусалиме» (107). Логика другого их аргумента: «Марк свидетельствует, что Иисус послав
двух учеников сделать тайные приготовления к пасхальной трапезе, Он утаил от Иуды место ее проведения, так что Иуда не мог рассказать властям, где найти Иисуса во время трапезы»
(411) — кажется более шаткой.
(обратно)
59
Борг и Кроссан остроумно называют женщину с нардовым маслом «первой верующей» в Иисуса и «вождя», потому что она первой поверила в его пророчества и «сделала очевидный вывод» (Borg and Crossan, 104—105).
(обратно)
60
Об иудейских истоках революционных идей Иисуса в целом и идеи «Сына Человеческого», в частности, восходящих к Книге Пророка Даниила (7:13), см.: Segal (68—80).
(обратно)
61
В своих комментариях к Евангелию от Луки, Фитцмайер убеждает: «Даже несмотря на то, что установить историчность поцелуя Иуды трудно, эпизод ареста должен быть признан историческим» (Fitzmyer II, 1449).
(обратно)
62
Брискин проводит параллель между евангельской сценой целования и эпизодом из 2-й Книги Царств, в котором военачальник Давида, Иоав, приветствует вероломного Амессая словом «брат», а затем берет его правой рукой за бороду, якобы для того, «чтобы поцеловать его», и мечом поражает Амессая в живот (2-я Царств 20:9), а также со строками из Книги Притчей Соломоновых (27:6): «Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи ненавидящего» (Briskin, 192). Робинсон указывает на то, что в Евангелии от Матфея (23:8) Иисус предостерегает против употребления слова «Равви» — «А вы не называйтесь учителями...», значит, Иуда — единственный, который это обращение употребляет — является недостойным учеником, ослушавшимся Учителя (Robinson, 18—19).
(обратно)
63
Именно этот вопрос поднял Отец раннехристианской Церкви Тертуллиан (ок. 155-230 гг. н.э.): «Зачем же нужен был изменник, когда Того, Кто открыто предлагал себя людям, власти могли легко схватить и без измены?» На свой вопрос Тертуллиан отвечает, что предательство было необходимо, потому что Христос был «Тем, Кто исполнял пророчества. Ибо сказано: продают правого за серебро» (351). Серебро, о котором свидетельствует Матфей, упоминается в Книге Пророка Амоса (2:6).
(обратно)
64
Швейцер пишет: «Вопрос, почему Иуда предал своего учителя, обсуждается историками вот уже 150 лет. Но то, что главным вопросом в этой истории было, что именно он предал, подозревали лишь немногие...» (Schweitzer, 353). Сам Швейцер считает, что Иуда выдал тайну мессианства Иисуса.
(обратно)
65
Сандерс, разрабатывая тему исторического Иисуса, указывает на то, что обвинение в богохульстве «выглядит христианским домыслом» — «некоторые из ранних христиан хотели с Его смертью соотнести христологию церкви. Христология отделила новое движение от его матери, и, естественно, они хотели свои собственные различные воззрения возвести к Иисусу. Титулы же играют настолько маловажную роль в синоптических Евангелиях, что есть все основания сомневаться в том, что именно они были действительным предметом обсуждения на судилище» (Sanders, 270—271). Фридриксен в книге «Иисус из Назарета, Царь Иудейский» указывает, что большинство ученых считают описание Марком суда менее ценным свидетельством с точки зрения истории, чем фрагмент описания Иоанна. (Fredriksen, in Jesus of Nazareth, King of the Jews, 221-225). Борги Кроссан утверждают, что греческую фразу можно перевести двояко: и как «Я» и как «Я ли?» (24, 130).
(обратно)
66
Эрман пишет: «Что именно выдал Иуда властям? Это учение Иисуса. Вот почему они смогли предъявить Ему обвинения в том, что Он называл Себя Мессией, Царем Израиля. Он, конечно же, говорил в иносказательном смысле. Они толковали Его слова буквально. Но Он не мог отказаться от Своих слов. Ведь
так Он понимал Себя, и двенадцать учеников Его, все знали это» (Ehrman, 218).
(обратно)
67
В книге «Утерянное Евангелие Иуды» Эрман указывает, что эту строку можно перевести, как будто Иуда просит власти, чтобы Иисуса увели «под охраной». Он утверждает, что Иуда, возможно, «не хотел, чтобы Иисусу или Его ученикам причинили боль, нанеся увечья» (Ehrman: The Lost Gospel of Judas Iscariot, 166). Кейн согласен, что слово можно перевести как «под охраной» или «в безопасности», «в сохранности», и задается вопросом: «Беспокоится ли Иуда о безопасности Иисуса или о том, чтобы у Того не было возможности бежать? Или и о том, и о другом?» (Сапе, 47).
(обратно)
68
О еврейском антисемитизме пишет Гилман. О «еврействе» Матфея см. главу «Иисус, еврейский Мессия: Евангелие от Матфея» в книге Эрмана «Новый Завет» (Ehrman: The New Testament (92—111). Многие комментаторы видят в Иисусе у Матфея нового Моисея: Он приходит из Египта; Он произносит пять главных речей (ср. Пять Книг Моисеевых), он проповедует на горах (ср. Синай), он является не отменить, но исполнить закон.
(обратно)
69
«Одной из самых характерных особенностей Евангелия от Матфея является яростная антииудейская направленность, что, возможно, объясняется изначальными задачами евангелиста. Элементы полемики встречаются уже у Марка и в «источнике Q», но Матфей значительно обострил и расширил эту традицию... Пожалуй, самым правдоподобным объяснением усилившейся антииудейской полемики Матфея является то, что общины Матфея только недавно расстались с иудаизмом после долгого периода вражды» (Stanton, 75).
(обратно)
70
Кроме того, как указывают некоторые исследователи, в определенных фрагментах Евангелия от Матфея содержатся строки из Библии, не включенные в еврейскую Библию.
(обратно)
71
Расхождения в Евангелиях от Матфея и Марка некоторые исследователи объясняют тем, что Матфей использовал гипотетический «источник Q» (получивший название от немецкого слова «Quelle» - «источник»). В отличие от той роли, которую отводит Петру Марк, у Матфея Петр, по словам Иисуса, — «камень»: «Ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (16:18).
(обратно)
72
В русском переводе Библии — «тридцать сребреников» —
Прим. пер.
(обратно)
73
Пожалуй, самую неожиданную (и неосознанно антисемитскую) версию о 30 сребрениках выдвигает, по мнению Ханса-Джозефа Клаука, Кьеркегор, который сомневается в исторической реальности еврея Иуды именно потому, «что он был настолько равнодушен к деньгам» (Klauck, 26)! Подобная трактовка появляется в книге Кьеркегора: Kierkegaard: The Moment and Late Writings (44—45).
(обратно)
74
На эти и иные параллели в еврейской Библии указывает, в частности, Брискин (см.: Briskin).
(обратно)
75
В притчах Иисус у Матфея также использует слово «hetairos» — «друг» (20:13, 22:12).
(обратно)
76
В следующей строфе (27: 9-10) Матфей высказывает мнение, что с покупкой первосвященниками земли на возвращенные Иудой деньги сбылось пророчество Иеремии: «Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который говорит: “и взяли тридцать сребреников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их на землю горшечника”». Эту параллель обсуждает Паффенрот (Pkffenroth, 117). В «Утерянном Евангелии от Иуды» Эрман подмечает: «Исследователи долго ломали голову над тем, почему Матфей говорит, что пророчество принадлежит Иеремии, хотя на самом деле его изрек Захария» (Ehrman: The Lost Gospel of Judas Iscariot, 28). Затем он выдвигает предположение о смешении различных источников. В некоторых списках Евангелия Иуда характеризуется не как «раскаявшийся», а как «мучимый угрызениями совести» или «испытывающий сожаление». Богословы спорят о том, было или нет раскаяние Иуды искренним и неподдельным, поскольку используемое слово можно перевести также, как «передумавший» (Сапе, 48). Саари считает, что в приводимых Матфеем словах Иисуса, сказанных о вине на Тайной Вечере («сие есть Кровь Моя..., за многих изливаемая во оставление грехов», 25:28), фраза «во оставление грехов» намекает на то, что Иуда прощен (Saari, 90).
(обратно)
77
Гартнер проводит обширный анализ общности типологии Иуды и Ахитофела (Gartner, 30—39).
(обратно)
78
Первым обратил внимание на то, что именно Иуда доказал силу учения Иисуса, и потому он не может служить примером совершенного отступничества, Ориген (ок. 185— 254 гг.) в своем труде «Против Цельса» (2,11). Греческое слово «metamele{10}theis», означающее «угрызения совести» или «сожаление» и употребляемое для определения Иуды, предполагает «осознанное решение, принимаемое со временем» (Saari, 92). Некоторые исследователи (об этом речь идет в следующей главе) на основании этого предполагают, что Иуда не раскаялся; однако «их суждение не подкрепляется текстом... Согласно Матфею, самоубийство Иуды явилось следствием его раскаяния» (Droge and Tabor, 114). По мнению Кейна, тот факт, что для описания раскаяния используется не «обычное слово», может указывать на то, что Иуда просто «передумал» (Сапе, 48).
(обратно)
79
«Павел опровергает этот довод, помещая его вниз строфы», тем самым соотнося иудейский закон с «проклятием», тогда как «Христос, повешенный на дереве, взял на Себя проклятие закона» — так примерно интерпретирует строки 3:10-14 из «Послания к Галатам» (Ruether, 101).
(обратно)
80
«Неужели Он убьет Сам Себя?» — этот вопрос, которым задаются иудеи, когда Иисус объясняет: «Я отхожу» (Иоанн 8: 21—22). В «Христе» Майлс упоминает оправдание Джоном Донном самоубийства, «в котором Иисус Сам являет первый пример в числе всех самоубийств прошлого» (169), а также теологический труд Пьера-Эммануэля Дозо «Самоубийство Христа» /Pierre-Emmanuel Dauzat, Le Suicide du Christ/, идея которого восходит к Евангелию от Иоанна.
(обратно)
81
«Только с VI в. добровольный уход из жизни стал осуждаться, как противозаконный, и единственную во всем Писании поддержку запрета мы находим только в шестой заповеди: “Не убий”» (Saari, 72).
(обратно)
82
Маккоби связывает поле горшечника с пророчеством Иеремии (19), в котором тот предсказывает о том, что будет сокрушен «горшечников сосуд» и Тофет превратится в долину убиения, где будут хоронить людей (Maccoby, 46), и таким образом намекает на переосмысление евангелистами строф из еврейской Библии (47). Саари поясняет, почему «связь между полем горшечника, Землей крови и пророчеством Иеремии сложна для понимания» (Saari, 96).
(обратно)
83
«Любовь Марка к историческому настоящему» не разделяли его последователи: «Если Матфей сохраняет настоящее время лишь в 21 из 150 случаев, в которых его употребляет Марк, то Лука говорит в настоящем времени лишь единожды» (Nickle, 142).
(обратно)
84
О придании Лукой особого значения Духу Святому и языческой церкви см. книгу Фридриксен «От Иисуса ко Христу» (Fredriksen, From Jesus to Christ, 27—36).
(обратно)
85
В Деяниях Сатаной одержим Анания (5:3).
(обратно)
86
В электронном письме Давид Бракке расшифровал надпись с нечитаемыми пропусками: «etenim homo pacis meae in q[uo speravi] qui edebat panes meos ma[gnificavit] super me subplantationem» и предложил следующий ее перевод: «Даже мой близкий друг, которому я доверял, который вкушал хлеба моего, поднял пяту на меня» (41:9).
(обратно)
87
Первым из комментаторов, предпринявшим в XI в. попытку согласовать Евангелия от Матфея и Луки, был Феофилакт, который описывает Иуду, страдающего водянкой; под весом его разбухшего тела дерево якобы согнулось, и Иуда продолжал жить, пока его не разорвало на части (см.: Harris). Харрис, проводя параллели между рассказом Луки и смертью Надана в истории об Ахикаре, великом визире Синнахериба, считает свидетельство Луки ненадежным, а свидетельство Матфея вообще исторически невероятным.
(обратно)
88
Брискин цитирует 2-ю Книгу Паралипоменон, а именно письмо от Илии Иорамау (2-я Пар. 21:14—15): «Господь поразит... тебя же самого - болезнию сильною, болезнию внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои...» (Briskin, 194).
(обратно)
89
См.: Fitzmyer, The Acts of the Apostles (220). По свидетельству Кроссана, в сирийских, армянских и арабских версиях об участи изменника Надина содержатся слова «раздулся» или «распух», «лопнул и рассеялся» (Crossan, 74). Саари цитирует «Книгу Притчей Соломоновых» (4:19), где сказано: «Путь же беззаконных — как тьма: они не знают, обо что споткнутся» (Saari, 114).
(обратно)
90
По мнению Кана, псалмы постоянно цитируются применительно к Иуде из Евангелия от Луки, чтобы акцентировать «тему исполнения и провидения» (Сапе, 54): смерть Иуды «не трагическая, а — в таком контексте - происходит в полном «соответствии с Писанием, а, значит, и замыслом Божьим» (54). Вторая цитата восходит к Псалму (109:8) и была использована Лютером (обсуждается в Главе 3).
(обратно)
91
См.: Деяния 3:12-15, 7:52, 2:23, 4:10, 5:30, 13:27.
(обратно)
92
Как и Стэнтон (Stanton, 115), многие ученые-библеисты считают, что «иудеев» Иоанна нельзя считать ни религиозной, ни этнической группой, а следует отождествлять с религиозными властями, противившимися распространению христианского учения. Поэтому они считают позицию Иоанна антииудейской, но не антисемитской; однако Иоанн часто упоминает не первосвященников или фарисеев, а просто «иудеев», и делает он это гораздо большее число раз, чем Марк, Матфей или Лука.
(обратно)
93
Поскольку эта сцена появляется после того, как Иисус объяснил Своим ученикам, что они должны вкусить Плоти и выпить Крови Его, Пейджелс и Кинг усматривают в ней возможную параллель с Евангелием от Иуды, автор которого солидарен с Иисусом у Иоанна во мнении о том, что дух, а не плоть, дает жизнь (Pagels and King, 52—53). Исходя из этого своего допущения, они интерпретируют Евангелие от Иуды, как обличение тех «людей, которые подобно Двенадцати практикуют обряды евхаристии и жертвоприношения и вдохновляют прочих следовать их примеру» в мученичестве, лишь приумножающем страдания (65).
(обратно)
94
Майлс излагает это так: «Выбор, перед которым Рим поставил [вождей], был классическим для угнетателя: либо вы поддерживаете порядок, либо мы его обеспечиваем силой. Оправдывая свой сговор, Каиафа приводит классический довод коллаборациониста: людей погибнет меньше, если убивать будем мы» (Miles 193).
(обратно)
95
Сандерс считает, что в действительности «Иисус был опасен, поскольку мог спровоцировать мятеж, который римские войска подавили бы ценой бесчисленных жизней», и поэтому он находит изображение Иоанном Каиафы «полностью соответствующим» (Sanders, 272) историческому контексту. То есть Каиафа «бездействовал не из-за теологических разногласий, а из-за своей принципиальной политической и моральной ответственности: чтобы сохранить мир и предотвратить мятежи и кровопролитие» (273). В книге «От Иисуса к Христу» Фридриксен показывает, что сценарий Иоанна «предлагает более достоверное «нападение» Иисуса, так и более прямую связь между Его нападением и Его казнью» (Fredriksen, 109).
(обратно)
96
Гартнер указывает, что только в этих двух местах в Новом Завете употребляется выражение «человек греха» или «сын погибели» (26).
(обратно)
97
Шеффер объясняет «сильную антииудейскую предубежденность» Иоанна «борьбой между уже утвердившимися и только еще формировавшимися иудейскими и христианскими общинами, борьбой, которую обе стороны вели грубо и бесцеремонно» (Schäfer, 128).
(обратно)
98
Штайнер указывает на несоответствие со строкой 6:70, где Иуда называется «диаволом», и считает, что оно «изобличает внутреннее противоречие, неразрешенный страх перед тем, что некоторые комментаторы имели честность называть «сатанинским причастием» или « сатанинским знаком» (Steiner, 416). Стэнтон указывает на «разрывы в повествовании», которые привели к появлению теорий о том, что Иоанн использовал при написании своего Евангелия несколько разных источников» (Stanton, 104—105), а также на «неловкие переходы», которые могут являться результатом «более поздних вставок в Евангелие» (106).
(обратно)
99
Переписка по E-mail (июнь, 2006). 144
(обратно)
100
Важность этого персонажа в Евангелии от Иоанна (14:22) обсуждается в Главе 5.
(обратно)
101
В 1946 г. Халас уверял, что «Матфей и Иоанн были очевидцами событий, случившихся на Тайной Вечере. Марк почерпнул информацию от Св. Петра, который не мог не присутствовать при утверждении Евхаристии. Лука не был апостолом, но общался с Павлом, который лично Христа не знал (Гал. 1:23). И Марк, и Лука, скорее всего, опирались в своих сочинениях на традицию и сведения, собранные ими в результате подробных расспросов свидетелей» (127-128). Сегодня ученые сходятся во мнении, что авторы Евангелий не были свидетелями описываемых ими событий.
(обратно)
102
Кейн пытается дать «полное представление об общей картине и деталях евангельских свидетельств о Христе» с учетом роли Иуды, но при этом он не ограничивается фактами, предоставляемыми Новым Заветом. В частности, он прибегает к теологическому домыслу о «сошествии умершего Христа», несущего «надежду Иуде, как и всему еврейскому народу» (Сапе, 185).
(обратно)
103
По мнению Рутера, «современные историки обычно объясняют это особенностями миссионерства среди язычников. Поскольку христиане теперь проповедовали язычникам, они хотели предупредить любую враждебность со стороны языческих вождей» (Ruether, 88).
(обратно)
104
«По мере того, как мы последовательно переходим от версии Марка к свидетельствам Матфея, Луки, и, наконец, Иоанна, — поясняют Борг и Кроссан, — изначальный акцент на влияние иудейской толпы, в сравнении с авторитетом иудейского священства, заметно ослабляется» (Boig and Crossan, 90).
(обратно)
105
Об отношении Павла к Иуде см.: Barth (501—503) и комментарии Кейна к Барту (Сапе, 65—66).
(обратно)
106
В книге «Иисус в свете христианско-иудейского диалога» Павликовский доказывает, что споры и разногласия были не только между этими группами, но и внутри каждой из них (Pawlikowski, Christ in the Light of the Christian-Jewish Dialogue, 76-107). Павликовский подчеркивает тесные связи Иисуса с фарисейским движением. О книге Павликовского «Синай и Голгофа» (Pawlikowski: Sinai and Calvary) см. также Главы 7, 8.
(обратно)
107
Браун считает, что «ни в одном из Евангелий не содержится конкретного описания того, как Иуда получает хлеб (Тело) или вино (Кровь)» (Brown, 1398); однако сцены в Синоптических Евангелиях позволяют предположить, что на Тайной Вечере присутствовали все двенадцать апостолов. Когда именно Иуда покинул трапезу — этот вопрос занимал умы теологов во все века.
(обратно)
108
См.: Barasch (160-161).
(обратно)
109
Дербс и Сандона (Derbes and Sandona) также опираются на книгу Бараша.
(обратно)
110
Пьеса Джефферса обсуждается в Главе 5.
(обратно)
111
То, что в эпоху до Нового времени (а так условно я вынуждена называть огромный временной интервал) пришлась не только «юность», но и «зрелость» Иуды, и подчас и «юный Иуда», и «Иуда зрелый» сосуществовали в те времена, читателю станет ясно из следующей главы. Иными словами, объединяя античность и Средневековье термином «эпоха до Нового времени», я отнюдь не хочу умалить значение каждого из этих периодов в истории и культуре, представив их, как просто предшествовавшие Новому времени. При том что большинство историков отмечают нагнетание антисемитских настроений в двенадцатом веке и часто оперируют такими терминами, как «Раннее Средневековье», «Высокое Средневековье» и «Позднее Средневековье», датируя обычно его окончание 1520 г., не пропадавший интерес к образу Иуды и потребность охватить в своем повествовании так много столетий его эволюционного пути, побудили меня отступить от традиционной периодизации.
(обратно)
112
Едва ли стоит оговаривать, что эта строка — которую мы находим в поэме Роберта Браунинга («Роланд до Черного замка дошел», строка 84 — в пер. В. Давиденковой) — была написана гораздо позднее обсуждаемого в этой главе периода.
(обратно)
113
Снятие вины с Бога путем переложения ее на Иуду мы наблюдаем даже в блестящих трудах современных ученых-библеистов. А вот Борг и Кроссан свой отрицательный ответ на вопрос «Была ли смерть Иисуса волей Божьей?» обосновывают тем, что «Иуда, возможно, не предавал Иисуса». (Borg andCrossan, 161).
(обратно)
114
Кейн цитирует выдвинутое Фомой Аквинским в его «The Summa Theologica» («Сумма теологии») схожее предположение о том, что Бог предал Христа смерти из любви, тогда как Иуда предал Его смерти из алчности: «Из любви предал Христа Отец, а Христос Сам Себя предал смерти; и по причине этой Обоих Их восхваляем. Иуда же предал Его на смерть из корыстолюбия, иудеи — из зависти, а Пилат — из-за страха, который испытывал он пред цезарем; вот почему имена их обесславлены» (Cane, 123). Кейн также указывает на то, что ранние теологи в большинстве своем придерживались той точки зрения, что Иуда не принимал участия Евхаристическом таинстве или омовении ног на Тайной Вечере (см. его Гл. 3). Вопрос: «Участвовал ли Иуда Искариот в обряде Евхаристии вместе с другими апостолами?», поднимаете 1946 г. и Галас, подмечая: «Современные теологи и исследователи Писания высказываются за отсутствие Иуды» (Halas, 104).
(обратно)
115
См.: Forsyth and Egan (142).
(обратно)
116
Сложная тема христианских ересей не освещается в этой книге; однако интересующиеся ей читатели могут почерпнуть сведения в книгах Уэйкфилда и Эванса, а также Ламберта.
(обратно)
117
У Иринея, Отца Церкви конца II в., находим еще одну цитату из Папия, в которой тот рассказывает историю об изобилии, обещанном Иисусом на Земле: «А предатель Иуда… не верил, но спросил: “Разве может Учитель произвести такое изобилие?” Тогда ответил Учитель: “Те, кому жить во времена оные, увидят”» (цитируется в книге Эрмана «Утерянное Евангелие от Иуды»; см.: Ehrman, The Lost Gospel of Judas Iscariot, 45). Хотя я лично сомневаюсь, что фрагментарные тексты Папия и прочих древних сочинителей об Иуде могли оказать непосредственное воздействие на художников Средневековья и Ренессанса, но апелляция к ним современных им авторов помогает объяснить стереотипность многих изображений Иуды, созданных в эти периоды.
(обратно)
118
Др., неполный, вариант цитаты из Папия приводится в книге: Брюс М. Мецгер «Канон Нового Завета»: «Его тело разбухло до такой степени, что там, где пройдет повозка, оно бы застряло, даже одна голова не прошла бы. Рассказывают, что его веки, например, разбухли так, что он не мог видеть света, а какой-нибудь врач не смог бы увидеть его глаз, даже с помощью инструмента… Претерпев боль и наказание, он наконец отошел, как говорят, в свое место. Из-за зловония эта земля оставалась пустынной и незаселенной до сего дня, да и сегодня никто не может пройти мимо того места, не прикрывая носа, так силен был запах от его тела и так далеко он расходился». —
Прим. пер.
(обратно)
119
Этот диагноз поставил Фаррар в 1874 г. (Farrar, 587).
(обратно)
120
Иными словами, Иуда воплощал страх перед утратой чистоты, аутентичности своих культур в обществах переходного периода, когда утверждались новые границы, а вместе с ними росли опасения по поводу возможного растворения их культур, в нашем случае — ортодоксии, утвержденных Церковью. Об этом, в частности, пишет Мэри Дуглас в работе «Чистота и опасность» (см.: Douglas, «Purity and Danger»), к которой апеллирует Мур в своем труде о гонениях на еретиков, евреев, прокаженных и гомосексуалистов (Мооге, 100—123).
(обратно)
121
Различные объяснения того, как Иуда мог и повеситься и лопнуть, приводит Харрис. Например, Феофилакт Охридский (Болгарский) в VII в. предполагал, что Иуда удавился, чтобы попасть в ад раньше Иисуса и умолить Его о спасении, но дерево нагнулось, и он оставался жив, пока не лопнул, раздувшись из-за водянки.
(обратно)
122
Греческое слово «suspensus», используемое Иеронимом, обсуждает Мюррей (см.: Murray, II, 338); в той части своей книги, что посвящена средневековому Иуде, Мюррей подробно анализирует менявшиеся взгляды на самоубийство.
(обратно)
123
Лучше всех раскрывает тему самоубийства из вины, затрагивая случай Иуды, в своей книге Саари (Saari).
(обратно)
124
Шнайдер цитирует Фому Аквинского: «Иуда действительно испытывал страх и сожаление, потому что раскаивался в грехе своем; но он не надеялся. И потому то было раскаяние Дьявола». Шнайдер добавляет, что «Кальвин видит в Иуде пример нечестивца, которого, возможно, и одолевали ужас и угрызения совести, но который на самом деле не способен был возненавидеть свой грех и покориться. Иуда служит зловещим напоминанием о том, что милосердие доступно всем, но отчаяние может помешать исправлению; спасение не является автоматическим» (Snaider, 34). Оули объясняет симметричную полярность греховного грешника Иуды и святого грешника Григория: «“Desperado” и “poenitentia”, раскаяние и отчаяние, стоят рядом» (Ohly, 16). Он также анализирует сочинение Матильды Магдебургской «Поток Божественного света», в котором Люцифер и Адам закладывают краеугольные камни ада, а Иуда добавляет в его фундамент еще четыре блока-греха: «ложь, измену, отчаяние и самоубийство» (37).
(обратно)
125
Иезуит-экзегет Корнелий Лапид (1567-1637 гг.) связывает второе имя Иуды с его жадностью: «Искариот означает на древнееврейском языке «корыстный», поскольку «sachar» переводится, как «торговля/ торговать». И это определение точно подходит Иуде, торговавшему Христом» (цитируется у Мормондо; см.: Mormondo, 181).
(обратно)
126
Я выражаю признательность Д. Элиот за e-mail от 15 сент. 2006 г.
(обратно)
127
Брасуэлл обсуждает образ Иуды в «Рассказе продавца индульгенций» Чосера [«Кентерберийские рассказы»]. Бернар Клервосский, к примеру, признавал: «Мы знаем многих, подпавших под власть дьявола в этом смысле — утопившихся или повесившихся» (Murray I, 364). Поэтому, как указывает Мюррей, «Если даже Иуда, бывший виновным, усугубил свой грех, покончив с собой, то насколько сильнее грех самоубийства для невинного человека?» (Murray, 114).
(обратно)
128
Согласно Тейлору, в фольклорных преданиях встречаются также дуб и тамаринд.
(обратно)
129
Рутер цитирует слова поэта IV в. Пруденция: «С места на место скитался бездомный, вечно гонимый, жид с того самого времени, как отлучен был от земли отцов своих и обречен на страдания в наказание за убийство, что обагрило руки его кровью Христа, им отвергнутого…» (Ruether, 134). По мнению некоторых Отцов Церкви, евреи произошли не от Авраама, а от Каина.
(обратно)
130
В переводе Паффенрота не кровь, а гной вытекает из тела Иуды (Paffenroth, 23). Галас также переводит: «черви смешались с гнойной кровью, вытекающей из всего тела» (Halas, 154).
(обратно)
131
Зловоние богохульника, чье тело кишит червями и разлагается заживо, описывает историк церкви четвертого века Евсевий в своем сообщении об участи императора Галерия и обсуждает Эрман в «Утерянном Евангелии от Иуды» (Ehrman: «The Lost Gospel of Judas Iscariot», 46).
(обратно)
132
«Живший в XIII в. монах Цезарий из Гейстербаха феминизировал евреев — которых в период Высокого Средневековья называли уже не иначе, как «дьявольскими» — утверждая, что у еврейских мужчин случалось кровотечение на Страстную Пятницу», пишет Д. Элиот (D. Elliott: «Fallen Bodies», 7). Галас проводит параллель между раздувшимся чревом Иуды у Папия и испытанием, которому в древности подвергалась жена, заподозренная в неверности мужу (Halas: Numbers 5:21, 22,27): она должна была выпить специально приготовленную смесь, в результате чего — если она и в самом деле была неверна — «опухало чрево ее и опадало бедро ее» (155—156).
(обратно)
133
Эту пустынную землю напоминает ландшафт, позднее описанный Т. С. Элиот в «Суини»: «Крысы под опорой. / Еврей — под человечеством…» (Т. S. Eliot, «Sweeney»).
(обратно)
134
Салливан списывает отсутствие семитских черт и каких бы то ни было намеков на алчность в этом образе на «экономические и политические условия, явившиеся последствиями рьяного иконоборчества радикальных реформаторов в 1520-е гг. (Sullivan, 98).
(обратно)
135
Согласно Д. Эллиот, инквизитор Стефан Бурбонский, утверждавший, будто горящие еретики «источают отвратительное зловоние», также считал, что они умирают «с глазами, опущенными вниз в сожалении» (D. Elliott, «Proving W^men», 62).
(обратно)
136
Подобную точку зрения о дьяволе, как творце Иудиной души, отстаивал Бонигрино Веронский, еретик (катар), на суде инквизиции в конце XIII в. «Если Иудина душа
была злом, то ее сотворил дьявол» (Lansing, 89).
(обратно)
137
Мотив рождения Антихриста через кесарево сечение обсуждает Блуменфелд-Косински (Blumenfeld-Kosinski, 138— 142).
(обратно)
138
Согласно Отису, именно «евреи составляли ту социальную группу, что более прочих ассоциировалась с продажностью» в Средние века (Otis, 69). Мелинкофф указывает на бытовавшее мнение о том, что продажные женщины носили светлые парики или желтые повязки на голове. (Mellinkoff, 44). Крюгер поясняет, что «евреев часто уподобляли блудницам, а общество и тех и других считали для себя оскверняющим» (Kruger, 83).
(обратно)
139
Об исследователях, освещающих историю ростовщичества, см: Derbes and Sandona.
(обратно)
140
В эссе «Характер и анальный эротизм» Фрейд связывает жадность и мстительность с анальной стадией развития и указывает на длительное «отождествление золота с испражнениями» в мифологии (Freud: Character and Anal Eroticism, 174).
(обратно)
141
Фрагмент в переводе Бонни Эрвин, звучит так:
«The traitor lives again who betrayed Christ,
The seller lives again who sold Jesus,
Everywhere the truth of goodwill is lost.
Alas, wretched Judas, through whom it thus has come to pass!
The traitor lives again who on account of reward
Summons again the old crime of purchasing;
The greedy one resumes that wretchedness
Which, when it rustles, causes the entrails to burst forth.
Having been cut off, the offspring of Judas are removed,
Who pollute the household of the church and the king;
For a long time the law has been announced, and justice has been maintained,
But Judas returns, who murders the law».
Негативное отношение к евреям, торговцам и ростовщикам, в Средние века описывает Марк Коэн (Cohen, 79-88).
(обратно)
142
В пер. М. Яснова: «Сидят за столом / Ничего не едят / И тарелки взлетают над их головами / И освещают их посиделки». —
Прим. пер.
(обратно)
143
Стереотипный портрет двуликого, часто изображающегося художниками в профиль — намек на двуличность, Иуды блестяще воссоздает Андреев: «Двоилось также и лицо Иуды: одна сторона его с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-бледная — гладкая, плоская и застывшая, и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза» (50).
Оули переводит ряд стихов IX в., в которых Иуда возвращается, чтобы уничтожить верующих: «Смотрите! Иуда возвращается, вот — нечестивый — он идет» (Ohly, 96).
(обратно)
144
Строфа в англ. переводе Ниренберга (Nirenberg, 62).
(обратно)
145
Второе имя Иуды здесь указывает на то, что этот памфлет Лютера явился отчасти его реакцией на иудейскую средневековую легенду об Иуде (Толедох Йешу» — Прим. пер.), которая обсуждается в конце этой главы. В «Проповедях на Евангелия» Лютер говорит об Иуде: «Поскольку он тем самым дал место греху, его плотский залог в конечном итоге завел его столь далеко, что дьявол полностью овладел им и подтолкнул к осуществлению возмутительного намерения предать своего дорогого Владыку и Учителя за пятнадцать флоринов» (Luther, «Sermons on the Gospels», 47). По мнению Лютера, католическая церковь, ее епископы и священники, предают Христа: «посмотрите, например, на попа; у него на шее висит такой же кошель, как у Иуды, и он так же любит деньги и собственность, что готов выменять их на Евангелие, которое он предает и продает, и с которым он поступает так же, как евреи поступили с Господом нашим Иисусом прежде Каиафы и Пилата!» (49).
(обратно)
146
Вероятная датировка этих неканонических Евангелий — конец первого или начало II в. н.э.
(обратно)
147
Наряду с другими, Иуда, стремясь постичь новое учение и обрести просветление, задает различные, связанные с верой, вопросы. Так, например, однажды Иуда спросил: «Господи, скажи нам, что было […] прежде чем небо и земля существовали». А, услышав ответ, Иуда «поклонился, и он […], и он предложил восхвалить Господа» (Schneemelcher, 305, 306). В этом апокрифическом коптском кодексе «Иуда поднял глаза и узрел чрезвычайно высокое место, и он увидел бездну внизу» (307), и ему (наряду с Матфеем и Марией) разъясняется миссия Иисуса на Земле.
(обратно)
148
В «Деяниях Андрея и Павла» Сатана решает прибрать себе его душу; однако «Иисус также наказал Михаилу забрать душу Иуды, и сатанинская гордыня была попрана» (302). Поскольку Иуда «сам себя лишил надежды, поклоняясь сатане и покончив с собой», он «был отослан до Судного дня» (Elliott, 302).
(обратно)
149
«Одни говорят, что Христос предан был Иудою за то, что был зол, хотел ниспровергнуть постановления Закона. Эти похваляют, как сказал я, Каина и Иуду и говорят: “за то предал Его, что Он хотел разрушить добрые учения”» (Епифаний Кипрский, 134)/Панарион, Против каиан (3)/. Прочие рассуждения Епифания цитируются и обсуждаются в Главе 4. О каианах см.: Эрман, «Утерянное Евангелие» (Ehrman, The Lost Gospel, 62-65).
(обратно)
150
Согласно Д. Эллиот, в своем труде «Формикариус» Жан Нидер (XV в.) подробно разбирает различные формы одержимости. Хотя некоторые одержимые люди невинны, одержимость других может быть наказанием за грех. В качестве примера последних Нидер приводит Иуду.
(обратно)
151
По мнению Динцельбахера, «Ворующий рыбу Иуда практически типизирует сам себя» (Dinzelbacher, 30).
(обратно)
152
См.: Shachar. Отвратительный в своей непристойности мотив, помещавшийся на дверях и вратах церквей,
Judensau изобличал скотство, слепоту, скатологию и обжорство, которые Иуда олицетворял в античности и Средние века. Иудеи, которым их Библия запрещала потреблять в пищу свинину, становятся сосунками свиноматки; похотливые иудеи, с вожделением смотрящие на ее соски, представлены антиподами христиан, поклоняющихся Агнцу Божьему. Согласно Каролине Уолкер Байнам, на заре Нового времени
Judensau не просто утверждал, «что евреи не желанны, а даже служил своего рода талисманом, отвращающим их присутствие или возвращение из изгнания» (Caroline Walker Bynum, 14).
(обратно)
153
И в самом деле, пишет Лютер, когда христиане столь терпимы к порочности евреев, «каким великим святым изменник Иуда предстает в сравнении с нами!» (Luther, 273).
(обратно)
154
«Ориген (185—255 гг.) утверждает, что кусок хлеба, который Христос обмакнул в вино и подал Иуде, был в действительности освященной Евхаристией»; «Св. Лев Великий (ок. 400-461 гг.) отождествляет кусочек dismissal с гостией» (Halas, 109, 113).
(обратно)
155
Иуда, замаранный пометом птиц и мух, червями, кровью или собственными фекалиями, возможно, способствовал распространению средневековых поверий о том, что евреи отравляют колодцы: на одной из фресок кисти Пьеро Делла Франческо («Легенда об истинном кресте», 1450-е гг.) повешенного Иуду вытаскивают из колодца. Цветная фотография и диаграмма фресок включены в «Историю итальянского Ренессанса» Харрта и Уилкинса (Harrt, Wilkins: History of Italian Renaissance, 315—316). Пространный обзор средневековых поверий об осквернении евреями гостии дан у Рубина.
(обратно)
156
Антисемитскую направленность сочинения Абрахама А. Санта- Клары «Judas the Arch-Rogue» исследует Клаук, 18). Следует отметить, что во многих случаях осквернения евхаристии, осуждаемых Санта-Кларой, были повинны христиане, которым было отказано в причащении.
(обратно)
157
В литературе описание ритуального убийства, восходящее к скатологической иконографии, ассоциируемой с Иудой, мы находим в «Рассказе настоятельницы» из цикла «Кентерберийские рассказы» Чосера (ок. 1400 г.). Монахиня в нем превозносит набожного христианского мальчика, убитого евреями, которые перерезали ему горло (потому что его молитва к Богородице привела их в ярость). Действия евреев, наживающихся ростовщичеством, ненавистным Христу (11. 4—5, с.160), получают дополнительный резонанс, когда они бросают исполосованную жертву в отхожее место:
«Когда мальчик проходил мимо,
Этот проклятый еврей схватил его и крепко стиснул,
Потом перерезал ему горло и сбросил в яму.
Я говорю, что его бросили в уборную,
Когда евреи, наевшиеся до отвала, приходили облегчиться.
О проклятый народ, о новый Ирод!
(11. 570-574, с. 162) [цитируется по кн. Л. Полякова: «История антисемитизма»]
Кровь мальчика, брошенного в яму, служившую отхожим местом для евреев, вопиет о дьявольском злодеянии «дьявольского народа» (11. 581, 576, с. 163). Тем самым рассказ демонстрирует, что «змей сатана, наш первый враг, /… свил осиные гнезда в сердцах евреев (11. 558-559, с. 162). Рассказчица Чосера вспоминает об убийстве мальчика вослед сообщениям о распятии некоего Хьюго Линкольна. Как показывает Крюгер, тексты Средней Англии противопоставляли «тело христианина, подвергшееся нападению, но сохранившееся, и тело иудея, грязное, оскверняющее невинность, справедливо разрушенное» (Krüger, 306).
(обратно)
158
Навет 1235 г., отмечает Лангмур, обвинял «евреев в Германии… в ритуальном убийстве, но не распятии. Обвинение предъявлялось в ритуальном каннибализме, учиненном на Рождество, а не на христианскую или еврейскую Пасху» (Langmuir, 268). Лангмур пишет: «в каждом случае, когда мы имеем честное свидетельство [о ритуальном убийстве], все выглядит так, будто евреи не при чем, а совершил это кто-то другой» (296). См. также: Felsenstein (38).
(обратно)
159
Штрак, христианин, стал мишенью для многих критиков, утверждавших, что он увековечивает преступления иудеев, потому что сам — иудей. О средневековых гравюрах по дереву и иллюстрациях к рукописям, изображавших ритуальные убийства, осквернение гостии или икон — см.: Zafran.
(обратно)
160
«Только крови не ешьте; на землю выливайте ее, как воду» (Второзаконие 12:16).
(обратно)
161
Если иудеев обвиняли в том, что они пили кровь и поедали плоть на свою Пасху, то в синоптических Евангелиях именно на еврейскую Пасху Иисус ввел Евхаристию, призвав их есть Плоть Его и пить Кровь Его. В отрывке из Евангелия от Иоанна, способным навеять мысли о каннибализме, Иисус подробно разъясняет: «Истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни; / Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; / Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. / Ядущий Мою Плоть и пиющий мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (6:53—56).
После этих слов апостолы испытывают шок: «Какие странные слова! Кто может это слушать? (6:60), и Сам Иисус спрашивает: «Это ли соблазняет вас?» (6:61). Случаи обвинения в каннибализме, как иудеев, так и христиан в древности приводит Шёфер (Schäfer 100—102).
(обратно)
162
«Если Иуда, в каком-то смысле, служит Яго, он, несомненно, порождает Шилока» (Steiner, 416). Анализдр. пьес Шекспира, в которых упоминается Иуда, проводит Паффенpoт (Paffenroth, 79-82).
(обратно)
163
Гилман обсуждает щекотливую разницу между обрезанием и кастрацией в контексте анатомических особенностей евреев (См.: Gilman, Jew's Body, 119, 127). Об остроконечных шляпах см.: Lipton (15-21).
(обратно)
164
С первого обвинения иудеев в ритуальном убийстве в 1130 г. в Англии и до 1650-х гг., когда амстердамский раввин Менассех Бен Израиль счел нужным опровергнуть «навет», чтобы евреям вновь разрешили обосновываться в Англии, иудеев не переставали обвинять в кровопускании. См.: Шапиро: «Шекспир и евреи» (Shapiro, Shakespeare and the Jews, 89-111) и обе работы Лангмуира.
(обратно)
165
В статье «Тридцать сребреников» Гилл переводит свидетельство Готфрида из Витербо, умершего в 1191 г., в сочинении которого «Пантеон» фигурируют монеты, данные Волхвами, забытые Марией, найденные пастухами, возвращенные Иисусу, переданные Иуде, как казначею, брошенные им и использованные для покупки земли горшечника. «Быть может, ты подумал, читатель, что слова мои не верны, раз написал я, что монеты были золотыми… Но истину я говорю, ибо у древних в обычае было называть золото разными именами, а иные различные металлы называть серебром» (Hill, 93). В средневековом «Житии Иуды», опубликованном Оули, тридцать пенсов — это те же «тридцать пенсов, за которые Иосиф был продан своими братьями, сыновьями Иакова, в плен египетский, и которые затем, как свое наследство, хранили многие тысячи лет иудеи, купившие за те же пенсы Господа нашего у Иуды, и это монеты Исмаила, и каждая из них равна десяти обычным пенсам» (Ohly, 149).
(обратно)
166
Я использую перевод Холландера и его комментарии (Hollander, 486-488).
(обратно)
167
Кейн указывает, что «сатана и Иуда тесно связаны друг с другом в своем противлении замыслам Божьим… Люцифер приводит в исполнение приговор, вынесенный Богом Иуде, а тот, в свою очередь, затыкает Люцифера» (Cane, 168). Скалящееся лицо также интерпретировалось, как более обобщенный образ мифологического зверя, поедающего людей. Как аллегорический зев ада, сатана, конечно же, мог перемолоть любую проклятую душу.
(обратно)
168
Более обширный анализ антисемитизма (без ссылок на Иуду) в романе Диккенса «Приключения Оливера Твиста» и в книге Троллопа «Как мы теперь живем» проводят Коэн и Геллер (см.: Cohen and Heller).
(обратно)
169
Как отмечает один исследователь, «чувственная похоть, вампиризм,… питье крови вкупе с заразностью, ненормальной сексуальностью и жаждой крови» его героя ассоциировались с опасениями по поводу наплыва еврейских эмигрантов в Англию в конце XIX в. (Malchow, 153). См. также: Zanger.
(обратно)
170
Согласно Кану, Иуда «эдипового типа» является также героем «Драмы Страстей Господних» Арно Гребана, сочиненной в период между 1450 и 1455 гг., а также «Драмы Страстей Господних» Жана Мишеля, изданной ок. 1490 г.
(обратно)
171
Средневековая идея о том, что обманчивый «Бог сеет зло и грех» и потому винить отдельного человека не следует, обсуждается Д. Эллиот в «Доказывающей женщине» [D. Elliott, Proving Wbman], в которой писательница рассказывает, как номинальный президент Парижского университета продвигал идею о том, что «евреи, увидевшие в Христе разрушителя Закона, согрешили бы больше, не распяв Его» (246—247).
(обратно)
172
Анализ Иуды у Оригена см.: Laeuchli.
(обратно)
173
Паффенрот указывает на то, как много общего у легенды об Иуде-Эдипе с житиями Св. Георгия, Св. Андрея и Св. Альбана (Paftenroth, 73—75). Оули приводит отрывок из «Неопубликованной “Жизни Иуды” из собрания библейских текстов Шаффхаузена», датируемой 1330 г.
(обратно)
174
Исчерпывающую историю хождения этой «эдиповой» версии жизни Иуды в средневековых легендах воссоздает Баум (см.: Baum). См. также: Edmunds and Archibald (107— 110) и Ohly (особенно 33). По поводу «Золотой легенды» Эрман пишет: «До протестантской Реформации это была самая читаемая книга в Христианском мире, служившая для многих людей основным источником «знаний» о раннесредневековой церкви» (Ehrman: The Lost Gospel, 48).
(обратно)
175
И все же демонический и обреченный Иуды сосуществовали не только с античности до Нового времени, но и позднее, и даже в двадцатом столетии. И «Персиковое дерево» Денизы Левертов (в части «На процессе Эйхмана»), и «Легенда об одноглазом человеке» Энн Секстон развивают мотивы «Золотой легенды».
(обратно)
176
«Мотив эрекции» обсуждает Штайнберг (Steinbeig, 91).
(обратно)
177
Роман Сарамаго обсуждается в Главе 6. В различных версиях «Золотой легенды» содержатся разные сцены или детали, свидетельствующие о некотором снисхождении к Иуде. В собрании проповедей Джона Мирка (ок. 1403 г.), например, «дьявол, которому не удается достать душу Иуду из его рта, недавно целовавшего уста Сына Божьего», разрывает «живот Иуды» и утаскивает его душу в ад; однако Святой Брендан позднее встречает Иуду на море, где тот — получая передышку от мучений в адском пламени — оказывается благодаря «Божьей снисходительности» каждое воскресенье «с середины зимы до двенадцатого дня», и на Сретение (79— 80).
(обратно)
178
Такие теологи, как Фома Аквинский, первыми выдвинули концепцию «справедливой цены», которая придала выгоде и даже ростовщичеству налет «приличия». См.: Little, Religious Poverty and the Profit Motive.
(обратно)
179
Текст баллады в переводе Бонни Эрвин напечатан в изданной Экстоном книге «Interpretations of Judas in Middle English Literature». Рукопись с балладой хранится в Кембриджском Колледже Троицы (Trinity College, Cambridge, В. 14.39 /folio 34 recto/). Анализируя эту балладу, Баум сравнивает ее с вендской народной песней, в которой Иуда сначала проигрывает свои деньги в карты, а затем продает своего учителя, но Господь Бог дарует ему прощение. По мнению Баума, сюжет баллады восходит к одному из самых древних апокрифических текстов, сохранившемуся фрагментарно коптскому «Евангелию Двенадцати Апостолов», в котором «именно жена Иуды оказывается причиной всех его злодеяний» (Baum, 185). В двух коптских фрагментах предательство находящегося под каблуком у жены Иуды объясняется пагубным влиянием на него его подобной Еве жены (Elliott, 163).
(обратно)
180
О немецких мистериях Страстей Господних пишет Оули. См.: Ohly (72-102). Он считает, что «горестные стенания Иуды перекликаются с сетованиями Фауста. Иуда понимает, что, предав Христа, он продался дьяволу, подобно тому, как Фауст продался дьяволу, когда предал Бога и заключил договор с сатаной» (74).
(обратно)
181
Йоркские пьесы-мистерии о Теле Христовом разыгрывались с 1376 г. ежегодно вплоть до конца 1500-х гг. Подробнее об этом цикле, как «религиозном театре», см.: Beckwith.
(обратно)
182
Аналогично в своем Treatise upon the Passion (1534) сэр Томас Мур использовал слово «монополия» для описания жадности торгашей, идущих по стопам Иуды (78). Об этом фрагменте см.: Sacks (265).
(обратно)
183
Артур подмечает о «Елене»: «даже Сатана видит, что, хоть он однажды и одержал победу через действия другого Иуды, этот Иуда теперь лишь содействует его поражению (Arthur, 119).
(обратно)
184
Цитируется Экстоном (Axton, 181), перевод Бонни Эрвин.
(обратно)
185
Я выражаю свою признательность Элен Маккей за этот анализ пьесы, найти который можно в
Coldewey. Согласно Артуру, «“Пьеса о таинстве причащения” спровоцировала антиеврейские бунты и погромы» (Arthur, 127).
(обратно)
186
Мюррей цитирует Феофилакта Болгарского (теолога, толкователя Писания, ок. 1200 г.): «Теперьже, увидев, что Он /Иисус/ осужден и приговорен к смерти, раскаялся, потому что дело вышло не так, как он предполагал. По той причине будто бы удавился, чтоб предворить Иисуса во аде и умолив Его, получить спасение» (Murray, 363 /по Толкованию Священного Писания Блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского; Евангелие от Матфея, гл. 27/).
(обратно)
187
В переводе Д. Эллиот надпись внизу этой гравюры звучит так: «Между тем раскаялся он в том, что взял монеты и предал Бога/Увы! Но? Меня вынудили/Я продал Бога, и, сам того не желая, потерял себя, увы! / Что делать мне? Как искупить вину? что грузом мне на шее. / Сказал он и набросил? узел себе на горло / И тяжкий груз повесил свой Иуда на ветвях».
(обратно)
188
Любопытно, что на веб-сайте под названием myCzechRepublic появилась фраза «Иуда перестал гореть в Аду в начале прошлого века».
(обратно)
189
По одной из версий: похитив из Храма. —
Прим. пер.
(обратно)
190
См. также: Schonfield (42—43). Коэн описывает версию, в которой некий «Гиса» кланяется «Йешу Нечестивому», и мудрецы хватают его и убивают в канун еврейской Пасхи (Cohen, 146-147). Как поясняет Коэн, легенда «изображает Иисуса и его последователей подстрекателями к восстанию в еврейской общине и подрывающими ее религиозный закон, порядок и единство. Таким образом, она оправдывает Его казнь» (147). Анализируя поздние талмудические свидетельства об Иисусе, Шёффер обращает внимание на то презрение, неуважение, выказываемое к Иисусу авторами альтернативных версий, которые не снимают ответственности с иудеев за смерть Иисуса, но «не видят причины стыдиться этого, потому что мы по справедливости казнили богохульника и идолопоклонника. Иисус заслужил смерть, и Он получил то, что заслужил» (Schäfer, 9).
(обратно)
191
Иуда «действовал грязно и осквернил Иисуса, из-за чего Он стал нечистым и упал на землю, и Иуда вместе с Ним» (Schonfield, 45). Некоторые исследователи заходят в своих толкованиях этого эпизода еще дальше, считая, что Иуда извергнул на Иисуса свое семя или испражнился.
(обратно)
192
См.: Brown (I, 252); Mormando (183).
(обратно)
193
Романа о взрослении, раскрывающего духовное развитие героя по мере накопления жизненного опыта. —
Прим. пер.
(обратно)
194
A standard Pauline letter closing, the phrase appears in 1 Cor 16:20; 2 Cor 13:12; 1 Thess5:26.
(обратно)
195
Исключением являются изображения Юпитера, обнимающего или целующего Ганимеда, а также Ионафана и Давида, Дамона и Пития.
(обратно)
196
Первая цитата взята из драмы «Ричард II» (3, 2., 129), вторая — из 3-й части «Генриха VI» (5, 7, 34).
(обратно)
197
Первым допустил, что речь в стихотворении Дикинсон ведется от лица Иуды, Бернард Франк, хотя другие исследователи — и в том числе Моссберг (см.: Mossberg, 132— 133) — предлагают иные толкования этого текста (не включенного в классическое собрание Джонсона, но вошедшего ныне в собрание Франклина).
(обратно)
198
Донн, строка 9.
(обратно)
199
На это указывает Гертруда Шиллер (G. Schiller II: 52).
(обратно)
200
Хотя Фуко утверждал, что гомосексуальность появилась в XIX в., он имел в виду определяющую категорию, используемую для исправления и наказания определенного сословия людей. Многие мыслители античности и Средневековья (на мнения и труды которых опираюсь я) обсуждали однополую любовь в древние времена. В своей работе «Забыть Фуко» Гальперин поясняет, что «каноническое прочтение известного фрагмента «Истории Сексуальности» (том 1) и вывод, следующий из него — а именно, что до Нового времени сексуальные отклонения оценивались только по поступкам, а не по людям или идентичности. — свидетельствует… о невнимании к тексту Фуко, как и небрежении к европейской истории (Halperin, Forgetting Foucault, 29).
(обратно)
201
В своем «Словаре слов и идиом, связанных с Иудой Искариотом» Хэнд в статье «День рождения» (Hand, 1-8) отмечает, что в фольклоре день рождения нередко толкуется как день несчастья. Впрочем, я отношусь к подобным свидетельствам с недоверием.
(обратно)
202
Согласно Мормандо (Mormando, 182), «В своих оказавших большое влияние “Откровениях” Святая Бригитта Шведская огласила явленное ей Самой Пресвятой Богородицей откровение о том, что Иуда был маленького роста, потому Иисусу пришлось наклониться, чтобы отреагировать на его поцелуй».
(обратно)
203
О многообразии типов поцелуев и смысле, вкладываемом в них, рассуждает Кейт Томас. См.: Keith Thomas.
(обратно)
204
«Вплоть до конца V и VI столетия Христианского мира, — писал Джордж Штайнер (до обнаружения Коптской рукописи), — Иуду в некоторых религиозных общинах почитали за его самопожертвование, за неизбежную святость его поступка» (G. Steiner, 415).
(обратно)
205
Сочиненное в конце позднего Средневековья или на заре Нового времени, в оригинале на испанском или итальянском языке, и впервые переведенное на английский язык в 1908 г., Евангелие от Варнавы представляет собой компилированную версию новозаветных преданий из 222 глав. Иисус в нем — не сын Божий, и предсказывает он пришествие мессии, Мухаммеда! Многие исламские исследователи признают его подлинность, хотя большинство западных ученых придерживаются иного мнения. Об историческом фоне см.: Leirvik. Лейрвик трактует Евангелие от Варнавы «как часть исламской литературы сопротивления “снизу”, направленной против христианских империй и миссионеров» (Leirvik, 20). До сцены распятия Иуды двенадцатый апостол изображается в Евангелии от Варнавы изменником, неверующим, лицемером и вором. Но после того как Иисуса забирают на Небо, Иуде не удается никого убедить в том, что он обрел облик Учителя в результате магических действий Иисуса. Его распинают вместо Иисуса, несмотря на все попытки доказать, что он и есть настоящий предатель Иисуса.
(обратно)
206
Я в долгу перед Ст. Д. Муром за анализ толкований отцами Церкви «Песни Песней» (S.D. Moore, 21-89). Я не уверена, что художники, чьи произведения обсуждаются в этой книге, черпали вдохновение в строках «Книги Песни Песней Соломоновых», но на их полотнах сплетенные в объятиях пары мужчин обладают мощным эротическим и духовным зарядом.
(обратно)
207
По мнению Даниэля Боярина, для равви Акивы [еврейский законоучитель] «весь многострадальный народ Израилев» представляется «невестами Бога — женскими, вожделеющими подданными, которые передают свое желание в графическом описании тела вожделенного божественного мужчины» (Boyarin, 111).
(обратно)
208
См.: Batille (124).
(обратно)
209
По верху своей композиции предательства Фра Анжелико воспроизвел строки из строфы 10 Псалма 40 (в которой упоминается человек, «который ел хлеб мой», но «поднял на меня пяту»), а по низу — строку из Матфея (содержащую описание Иуды, подходящего к Христу и приветствующего его словом «Равви» [26:49]).
(обратно)
210
В «Утерянном Евангелии» Эрман цитирует Амвросия, епископа Миланского: «[Иуда] поцеловал Господа … губами; так целуют евреи, и потому сказано было: “они славят Меня своими губами, но сердцем своим далеки от Меня”» (Ehrman: The Lost Gospel, 50).
(обратно)
211
Мормандо приводит исторические свидетельства, доказывающие, что и «поцелуй мира», и поцелуй Иуды представлялись поцелуями в губы (Mormando, 184—186). Пени цитирует Августина: «Лобзание любви есть великое таинство. Как целуешь ты, так ты и любишь. Не уподобляйся Иуде. Изменник Иуда поцеловал Христа своими устами, держа зло против Него в своем сердце. И пусть кто-то испытывает к тебе неприязнь, и ты не можешь переубедить или увещевать его [простить]. Прояви терпимость. Не отвечай на его зло злом в сердце своем. Он ненавидит. Ты любишь и, спокойный, целуешь [его]». (Perm, 116)
Пени также цитирует Оригена: «[Павел] первый учит, что лобзания, которыми обмениваются в церкви, исполнены целомудрия. Ныне нет никого, кто сравниться бы мог с Иудой, поцеловавшим устами, но допустившим измену в сердце своем. Только искренний поцелуй мы можем считать целомудренным». (117)
(обратно)
212
См.: Koslofsky.
(обратно)
213
Антисемитские намеки угадываются во втором респонсории третьего ноктюрна на Великую Пятницу из Требника: «lesum tradidit impius summis principibus sacerdotum et sorioribuspopuli» (Злодей предал Иисуса первосвященникам и старейшинам народа), а также во втором респонсории второго ноктюрна на Великую Пятницу: «Tenebrae factae sunt, dum crucifixissent lesum Judaei» («И пала тьма, когда распяли иудеи Иисуса»). Первая строка контрастирует со второй строкой, в которой антисемитизм звучит сильнее, а также со вторым респонсорием второго ноктюрна на Великий Четверг Остеррейхера: «Denariorum numero Christum Iudaeis tradidit» («За пригоршню монет он предал Христа иудеям») (29).
(обратно)
214
Я глубоко признательная Бонни Эрвин за этот перевод Седулия с латинского языка.
(обратно)
215
«О невинный Агнец Божий, почему пожрал тебя волк?» — восклицает немецкий аббат Экберт из Шёнау, автор «Stimulus amoris» («Укол любви»), рассуждая о «жаждущем крови звере, приближающемся, чтобы коснуться поцелуем уст [Иисуса]» (цитируется у Коэна; см.: Cohen, 126).
(обратно)
216
На это, помимо других, указывает Дайер (Dyer, 17). Еще один темнокожий Иуда, обнимающий белокожего Иисуса, появляется в композиции «Поцелуй Иуды» Жана Бурдишона (конец XV в.), увидеть которую можно на сайте Бриджменской художественной библиотеки (Bridgeman Art Library).
(обратно)
217
Паффенрот указывает, что в тексте «фолио» Отелло сравнивает себя не с «индейцем» или «индусом», а с иудеем, и этим сравнением связывается не только смертоносный поцелуй мавра, но и последовавшее за тем его самоубийство, с поцелуем и самоубийством Иуды (Paffenroth, 80). Впрочем, возможно, это был намек не на Иуду, а на Иудею.
(обратно)
218
Яго описывает поцелуй, который он получил, ночуя у Кассио. Яго рассказывает: предавшийся во сне мечтаньям Кассио — воображая, будто разделяет постель с Дездемоной, — «стал меня так крепко целовать,/Как будто поцелуи с губ моих/Рвал с корнем; а потом засунул ногу/Мне на бедро, вздыхал, ласкал и вскрикнул:/Проклятый рок, тебя отдавший Мавру!» (3.3.424-428; пер. М. Розинского).
(обратно)
219
Брукс обсуждает огороженный сад, сцену (часто немую) добродетели признанной и одобренной, резкий контраст между спасением и проклятием в мелодрамах более позднего времени.
(обратно)
220
Уильям Блейк подчеркивает разницу в возрасте, противопоставляя молодого и энергичного Иисуса старому и выглядящему закостенелым Иуде, в своем эскизе «Иуда предает Его» (ок. 1803-1805 гг.; карандаш и тушь), хранящемся в галерее «Тейт».
(обратно)
221
Вспомните «Предательство Иуды и взятие Христа под стражу» Йорга Бреу Старшего из Мелкского алтаря или «Предательство Иуды и взятие Христа под стражу» нюрнбергского художника (1400-1410 гг.), или композицию на ту же тему из «Сцен Страстей» Рюланда Фрюауфа Старшего в Регенс-бурге (1440-1507 гг.). В версии Питера Поурбуса (1548) перед поцелуем Иуда с денежным ящиком убегает с Тайной вечери и попадает в цепкие объятия скелета-дьявола; поджидающий Иуду скелет-демон выглядит женоподобным (в девичьем головном уборе и чулках), но имеет очень мускулистые конечности, с руками и ступнями, напоминающими когти.
(обратно)
222
Об антисемитизме и различных интерпретациях Драмы Страстей Дюрером см.: Price (169—193).
(обратно)
223
В проповедях на Евангелия Лютер описывает позорное грехопадение Петра и затем вопрошает: «Почему Петр не повесился, как Иуда?» Ответ таков: «Петр, без сомнения, помнил Слово Господа Нашего Иисуса; это спасло его» (Luther, Sermons on the Gospels, 108). О средневековых писателях пишет Оули (Ohly, 32). Он же цитирует Франсуа Мориака: «Немногое бы потребовалось, чтобы слезы Иуды слились в памяти человечества со слезами Петра» (32). Джон Кальвин считал, что «один [Петр] вновь обрел благоволение Бога, а другой [Иуда] вновь был отринут, но первый силой веры своей в того, от кого отрекся, сохранил милость Божью; а другой хотел веры, но утратил надежду на доброту и милость Божью…» (Сапе 141). И сегодня Иуду, случается, сравнивают с Петром. Например, «Евангелие от Иуды» Рея Андерсона было написано потому, что «Иисус нашел Петра прежде, чем он смог утопить себя в своем раскаянии и печали»: «Давайте мысленно вообразим, что беседа состоялась между Иудой и воскресшим Христом» (Ray Anderson, Gospel According to Judas, 4).
(обратно)
224
Темнокожий Иуда, светловолосый и белокожий Иисус — так выглядит цветная версия гравюры Дюрера 1508 г., увидеть которую можно на сайте Art Resources.
(обратно)
225
«Что до точного расположения апостолов, то мы знаем, что св. Иоанн всегда сидел рядом с Иисусом, возлежа у Его груди (Иоанн 13:23)», — комментирует Галас (Halas, 96). Мур цитирует «Проповеди на Песнь Песней» Бернара Клервоского: «Душа [Иоанна] была приятной Господу, равно достойная и имени, и приданого невесты, достойная объятий Жениха, достойная возлежать у груди Иисуса. Иоанн впитал из сердца единственного Сына Божьего то, что Тот в свой черед впитал от Отца» (342). Современный историк гомосексуализма в библейском мире Ниссинен указывает, что «публичные проявления гомосексуальности расценивались как животные, идолопоклоннические и непристойные» во времена Иисуса и поясняет, что «отношения между Иисусом и любимым апостолом с недавнего времени стали трактоваться, как отношения учителя и ученика в духе идеала, выраженного Платоном в «Государстве». В то же время он подчеркивает, что «суждения о гомоэротическом или педерастическом характере их отношений могут быть сильно искажены из-за ограниченности материала» (Nissinen 118, 121-122). Любопытную идею выдвинул в конце XIX в. К.С. Гриффин, обозначив ее в заглавии своей книги: «Иуда Искариот, автор четвертого Евангелия» (1892) [С. S. Griffin, Judas Iscariot, the Author of the Fourth Gospel]. В поэме XX в. об Иоанне, уснувшем «на груди Учителя», Иоанн видит себя «с лицом Иуды» и чувствует «тяжесть кошеля в своей руке» (см.: Tadeusz Rozewicz). В «Потерянном Евангелии от Иуды Искариота» Дикинсона (1994) Иуда более близок к Петру и ревнует Иоанна: «Я не мог понять, почему Учитель выказывал ему наибольшее благоволение из всех нас. Почему за трапезой он всегда сидел по Его правую руку и Иисус Сам кормил его/получал свой кусок хлеба с Его руки/» (Dickinson: The Lost Testament of Judas Iscariot, 41—42).
(обратно)
226
Барт предполагает, что возмещение убытка Иудой является более искренним покаянием, чем раскаяние Петра (Barth, 466) и цитирует К. Старка: «Петр, ты брат Иуды» (475). Имя отца Иуды — Симон — носит и Петр (Симон).
(обратно)
227
Картина в Принстоне считается поздним списком с оригинала (в настоящее время хранящегося в частном собрании в Генуе).
(обратно)
228
Поскольку он стоит, наклонившись вперед, но позади Иисуса, это может напомнить акт содомии, запечатленный некоторыми современниками Карраччи. «Показывая, как ни одно другое оральное действие, мощную связь, в воображении и физиологии, между губами и гениталиями, поцелуй является по сути «смягченным намеком» на сексуальный акт» (Phillips, 97). «Канонические законники XIII века в своем систематичном насаждении законов сексуального поведения часто уподобляли целование блуду (половым сношениям между неженатыми мужчиной и женщиной) и даже более серьезному преступлению, прелюбодеянию» (Camille, 152). Берсани и Дутойт объясняют, что «гетеросексуальному художнику — такому, как Аннибал Карраччи — не стоило труда живописать откровенную гомосексуальную сцену (например, две небольшие гомосексуальные сценки запечатлены на своде Фарне-зе). См.: Bersani and Dutoit, Caravaggio's Secrets [«Тайны Караваджо»] (10—11). Об истории содомии см.: Jordan.
(обратно)
229
В своей статье «Свет красоты» Берсани и Дутойт утверждают, что версия, высказанная в 1960 г. Роберто Лонги, о том, что образ этого свидетеля является одним из автопортретов Караваджо, «стала общепринятой» (Bersanit and Dutoit, «Beauty's Light», 20). См. эту статью, а также их книгу о Караваджо. Захватывающую историю о том, как это давно утерянное полотно было найдено и восстановлено, рассказывает Харр (Нагг).
(обратно)
230
Некоторые комментаторы считают до ужаса напуганного человека за спиной Христа Иоанном-евангелистом.
(обратно)
231
Под хуппой раввин совершает освящение брака, скрепляет союз новобрачных, а те обмениваются кольцами. —
Примеч. пер.
(обратно)
232
Выбритое место на макушке у католического духовенства, символ отречения от мирских интересов. —
Примеч. пер.
(обратно)
233
В «Предательстве Иуды» Гуэрчино (ок. 1621 г.) идея разделения Иуды и солдат реализуется через образ вооруженного римлянина, который — обвивая шею Иисуса своими одеждами — как бы отстраняет Иуду от Иисуса.
(обратно)
234
О «Consuming Trauma» см.: Yaeger.
(обратно)
235
Эту идею Маккоби выдвигает, основываясь не на живописных произведениях, а на Священном Писании. Маккоби считает иудаизм лучше христианства, поскольку он воспрещает человеческие жертвоприношения, «не сохраняя их даже в мифах, как то делает христианство» (Maccoby, 95).
(обратно)
236
Валш, считающий фильм Пазолини интерпретацией Матфея в марксистском духе, указывает, что этот фильм усиливает «вероломство» Иуды, но при этом добавляет, что «в трактовке Пазолини мы не можем смотреть на крест Матфея, не думая о повешенном Иуде» (Walsch, 114). Рейнхарц отмечает: «учитывая гомосексуальность самого Пазолини, его намеки на гомоэротический характер этих отношений [между Иисусом и Иудой] неудивительны» (Reinhartz, 168). Роль Иуды исполняет Отелло Сестили, роль Иисуса— Энрике Ирацоки.
(обратно)
237
Из-за того что Иуда, как и Иисус, которому он предан, становится патриотом на этом этапе своей «карьеры», иудейские первосвященники и Каиафа не перестают выступать в роли подлых убийц Христа.
(обратно)
238
О таких деятелях, как американский лектор Телемах Томас Тимаенис (1853—1918 гг.), предложивший переселить евреев в Нью-Мехико, или шотландский писатель-романист Эрик Линклатер (1899-1974 гг.), упоминает Паффенрот (См.: Pafienroth).
(обратно)
239
Коэн включает иллюстрацию из «La libre parole» (10 ноября 1894 г.) с подписью «A propos de Judas Dreyfus» (Kohen, 139); Маккоби анализирует «Во времена Иуды» («In the Time of Judas») и «The Spectacle of Judas» (Maccoby, 120).
(обратно)
240
Штраус не считает, что Иудой двигала жадность, а, анализируя противоречивые евангельские свидетельства о смерти Иуды, приходит к выводу: «об Иуде нам наверняка известно только то, что смерть его была ужасной и безвременной» (668). Отвергая алчность как мотив, Ренан считает, что поношение и «проклятия, обрушенные на Иуду, несколько не справедливы. Его поступок был скорее необдуманным, чем греховным» (Renan, 194).
(обратно)
241
Термин «альтернативная история» подразумевает признание историчности евангельских повествований. Я называю этим термином те версии Драмы Страстей, что основаны на Новозаветных преданиях, но противоречат свидетельствам Марка, Матфея, Луки и Иоанна или дополняют их новыми сведениями, не утверждая при этом бесспорность фактической достоверности Евангелий. Исследования в этом «транснациональном» направлении выявляют различные формальные характеристики, служащие мне фоном для обозначения контуров эволюционного пути Иуды, который никогда не был прямолинейным и соблюсти хронологический принцип при описании которого невозможно.
(обратно)
242
Согласно Толковой Библии, под упоминаемым Иоанном (14:22) Иудой (не Искариотом), возможно, имеется в виду Иуда Фаддей.
(обратно)
243
С «Иудой» перекликается и другая эпиграмма
Свифта — «На ирландских епископов», в которой он восклицает: «Вот бы мы повеселились, кабы клириков-расстриг,/Разорвало, как Иуду, на куски в единый миг?» (Swift 11. 39—40).
(обратно)
244
Враждебность Лэма, возможно, была вызвана пересмотром Макинтошем своего отношения к Французской революции, которую он прежде поддерживал, либо слухами о его выгодном назначении в Индии, а возможно, и непримиримой враждой между Макинтошем и Кольриджем.
(обратно)
245
В другом сочинении XVIII в. об Иуде Джон Бонар пытается доказать, что «этот отступник Иуда, не опроверг христианское учение, а, наоборот, только утвердил его» (Вопаг, 4). По мнению Бонара, Иуда, «человек разумный и способный», «был твердо убежден, что Иисус был невиновным и истинным Мессией» (36—37). Более того, «Был Иисус Мессией или нет, но Он — единственный, кого предает человек, выдававший себя за Его друга: ничто не может сравниться с этим, и любого это могло бы вывести из себя, и каждому ведомо, какому позору предаются, притом заслуженно, такие изменники. — Однако Иисус, будучи выше всех искушений, встречает это ужасное вероломство с героической стойкостью и силой духа» (37).
(обратно)
246
Об истории создания этой картины читайте также у М. Холландер и Шварца.
(обратно)
247
Эти строки из поэмы XIV в. «Странник мира» в переводе Бонни Эрвин цитирует в своей книге Паттерсон (Patterson, 415).
(обратно)
248
2-й вариант в переводе Н. Гумилева: «Тот молится, кто любит все — /Создание и тварь,/3атем, что любящий их Бог/Над этой тварью царь»/. —
Примеч. пер.
(обратно)
249
Кейн также обсуждает «Вечного жида» Бьюкенена (Buchanan, The Wandering Jew) применительно к Иуде, который объясняет, почему он умер: «я знал, что Человек, убитый мной, не был Мессией» (с. 151). Подобное предположение о причине самоубийства Иуды, развиваемое современными авторами, я анализирую в последней главе этой книги.
(обратно)
250
Стремясь стать столь же совершенным, как его Учитель, Иуда Мура слышит «Замечательные слова, нет, даже новые притчи/Достойные Иисуса, которые рождаются в его мыслях» (20). Иуда действительно соглашается показать путь к Иисусу в Гефсиманском саду, но только потому, что он по ошибке надеется спасти Иисуса (49). В саду не он целует Иисуса, а наоборот. Двенадцатый апостол объясняет: «Бог указывает путь,/Его час наступил, наконец! Я надеялся на это/Он поцеловал меня, и тогда знал, что мы были потеряны» (50). Паффенрот указывает на то, что в стихотворении Мура «совершенство и духовность Иуды и Иисуса противопоставлены примитивному варварству иудаизма» (54).
(обратно)
251
См.: Paffenroth(101—110), атакже книги: «Иуда Искариот» Эрнеста Темпла Тарстона (1929 г.) [Е. T. Thurston, Judas Iscariot], «Иуда Искариот» Джеймса Левиса Миллигана (1929 г.) [J. L. Milligan, Judas Iscariot] и «Иуда, поэма» Сибиллы Морли (1923 г.) [S. Morley's Judas, A Poem]. У Тарстона Иуда оставляет свою возлюбленную, чтобы последовать за Иисусом. А когда та умирает, пытается воскресить ее, потому что Иисус «дал нам силу воскрешать мертвых и изгонять бесов» (Thurston, 99); однако, к несчастью, его попытка заканчивается неудачей. В пьесе Миллигана предать Иисуса Иуду подстрекает искусительница Шикона, затем оплакивающая его кончину: «Кто был Тот Человек, что занял мое место,/заставил от любви тебя отречься и смерть принять такую?» (Milligan, 31). В книге «Я, Иуда» Тейлора Колдуэлла и Джесс Стерн (1977) [Т. Caldwell, J. Stearn: I, Judas] Йегуда ради того, чтобы последовать за Иисусом, решается оставить, будучи уже обручен, свою соблазнительную Рахель. Именно тогда его мать впервые использует греческую версию его имени (101). В конце романа она сообщает сыну о том, что носившая незаконного ребенка Йегуды Рахель покончила с собой, не в силах вынести стыда. Магдалина также называет его Иудой — разгневанная за то, что он сравнивает ее с блудницей (248). А Иисус в этом романе признает: «трудно тебе, Иуда, хранить обет безбрачия» (246).
(обратно)
252
Более полный музыкальный анализ проводит Паф-фенрот в своей статье «Характер Иуды в “Страстях по Матфею” Баха» (см.: Paffenroth, «The Character of Judas in Bach's St. Matthew Passion»).
(обратно)
253
«Святой Брендан» Мэтью Арнольда (1860 г.) — Иуда один раз в году получает «освобождение» из ада, чтобы «охладить льдом мою горящую грудь», это единственный акт милосердия по отношению к Иуде (1. 28, 69). Томас Харди в своем стихотворении «Хоровая матросская песня» (1892 г.) представляет Бога в Судный День, собирающегося «убрать море», но души моряков, рабов, апостола Павла, а также душа Иуды умоляют его: «Боже, Ты забыл наше соглашение?/Лишь один раз в год я иду/Чтобы охладить свою пылающую грудь на льдине/Но Ты лишишь меня этого милосердия, если уберешь море» (11. 12—15).
(обратно)
254
См., к примеру: Ehrman, «Jesus». Эрман считает Альберта Швейцера (1906 г.) основателем традиции восприятия Иисуса в духе иудейской традиции пророков Апокалипсиса (Ehrman, The Lost Gospel, 149).
(обратно)
255
В 1751 г. Джон Бонар привел этот довод в статье «Замечания по поводу поведения и характера Иуды Искариота» (J. Bonar, Observations on the Conduct and Character of Judas Iscariot).
(обратно)
256
В романе Колдуэлла и Стерн «Я, Иуда» патриотичный двенадцатый апостол верит, что Иисус будет «судим и освобожден» (Caldwell, Stearn: I, Judas, 271), как и в то, что Иисус «может победить самую смерть» (272). Именно поэтому он действует дальше: «я хотел увидеть, как Иисуса схватят, и тогда Он покажет Свою силу римлянам и восторжествует над ними; я вовсе не хотел стать предателем, даже неумышленно» (278-279). Но на суде Пилата он испытывает сильное вожделение к девственнице и силой овладевает ей, что неопровержимо свидетельствует о его порочности.
(обратно)
257
Из романических версий в духе этой традиции внимания заслуживает «Дневник Иуды Искариота, или Евангелие от Иуды» (1912) [G.A. Page, The Diary of Judas Iscariot or the Gospel according to Judas]. В «Царе Иисусе» Роберта Грейвса (1946) [R. Graves, King Jesus], Иисус наставляет Иуду «купить меч и убить им своего Учителя». Преданный Иуда терзается, «как мог он отнять жизнь у человека, которого любил больше всех?» и предполагает, что Иисус выбрал его, потому что он «единственный, постиг» учение, которое Тот проповедовал (309). Хотя Иуда исполняет приказание Иисуса, он все же предпринимает попытку изменить «сценарий» и спасти Иисуса, однако терпит неудачу.
(обратно)
258
В драматическом монологе Стори взгляд римского повествователя может быть истолкован, как скрытый намек автора на языческую темноту. Мы все — и по мнению Стори, и по мнению Де Куинси, Хорна и Уарда — пребываем в темноте неведения относительно возможной перспективы Иисуса, будь новозаветное повествование продолжено. И едва ли стоит говорить, что оправдание Иуды в этой традиции сопряжено с поношением иудейских первосвященников, обвиняемых в сговоре и продажности.
(обратно)
259
Иуда Джефферса принимает близко к сердцу боль птицы и истязаемых рабов, и подвергаемых пыткам преступников, и мучительную смерть невинных. «Кто может вынести это? Разве никто,/И даже наш Господь не чувствует этого, а только я один?» (Jeffers, 17). О влиянии пьес «но» на сложную временную структуру пьесы Джефферса рассуждает Вогн.
(обратно)
260
Джефферс также намекает на то, что Иисус точно знает, что делает и на что идет, когда проповедует; Он понимает, что это неизбежно приведет к его аресту и распятию на кресте, как бунтовщика, смутьяна и подстрекателя. Более всего Джефферс подчеркивает предвидение и приятие Иисусом Своей судьбы. Лейтмотивом всей пьесы служит метафора «сети» (рыбацкой или Божьего промысла), подчеркивающая, что все действующие лица без исключения связаны тенетами «сценария», придуманного, увы, не ими.
(обратно)
261
По мнению одного из критиков Сэйерс, Иуда — объясняющий, что он никому не доверяет, и верит только в то, что может сам увидеть, представляет собой тип «реформатора», это «своего рода гуманист, который перешагнет через что угодно, через любое количество людей в достижении той цели, которую он считает благородной», это более «современный характер» (Кеппеу, 238).
(обратно)
262
Даже более противоречивые образы Иуды, один из которых представлен в романе Эрнеста Сазерленда Бэйтса к концу «Евангелия от Иуды» (1929 г.), находили оправдание своих действий с точки зрения морали: «Я любил своего Учителя, которого я убил, при этом я не предавал Его, просто еще больше, чем Его, я люблю правду» (226). Пайпер упоминает роман Бэйтса, который изображает гностика Иуду — поборника правды, преданного первосвященниками (113).
(обратно)
263
См.: Herman (16). Херман указывает, что активисты протестовали не только против того, чтобы Сесиль де Миль (сам признающий себя полуевреем) снимал этот фильм, способный разжечь антисемитизм, но и против того, что «Рудольф (Каиафа) и Йозеф (Иуда) Шилдкраут — оба истинные евреи — не извинились за свои съемки в фильме, и их участие было встречено с большим сарказмом» (Herman, 18). Хамприс-Брукс считает, что Иуда де Милля — богатый и использующий Иисуса в собственных интересах — вместе с Ка-иафой ассоциируется с еврейским народом, деньгами и предательством. (Хамприс-Брукс, 14, 16, 17).
(обратно)
264
См.: Reinhartz(167).
(обратно)
265
Инцидент упомянут Верней (261) и кажется особенно важным с точки зрения антисемитских стереотипов, часто связываемых с изображением Бернара и исследованных Окманом и Сильвером (36—43).
(обратно)
266
Симона Вейль объясняла свое решение остаться вне церкви из-за «использования двух слов “предать анафеме”»: «Я остаюсь “на стороне всего того”, что не может быть принято в лоно церкви» (33). Она связывает эти два слова с церковью, как учреждением», являющим собой «вид тоталитаризма в Европе в XIII в.» (37). Камерон пишет, что Вейль приходилось ощущать себя изгоем или «испытывать nheloyjcnb с ассимиляцией» (130).
(обратно)
267
Дактилическая стопа содержит один ударный и два безударных слога; имя «Иуда Искариот» ложится на два дактиля, как и имя «Иисус из Назарета». В двойном дактилическом стихе «все строки, кроме рифмующих, которые усечены, сложены в две дактилические стопы» (так Хехт и Холландер объясняют эту строгую форму во введении к Jiggery-Pokery/См.: Hecht and Hollander Jiggery-Pokery, 27).
(обратно)
268
Едва ли стоит говорить, что молящиеся Св. Иуде лелеяли надежду спасти кого-нибудь из отчаянной, кажущейся безнадежной ситуации. Парадоксально, но само по себе почитание Св. Иуды стало «безнадежным делом», когда его имя было запятнано схожестью с именем Иуды Искариота. Орси объясняет, что дурная слава Иуды Искариота исторически затмила Святого апостола Иуду, последователи которого старались поэтому подчеркнуть их разные характеры: «Иуда Искариот был изменником и интриганом, Св. Иуда был верным, надежным и честным» (Orsi, 99-100); однако эти две фигуры «неразделимы». Святой покровитель безнадежных дел — это Иуда Искариот наоборот» (100). В недавно вышедшем романе о «Тайной Вечере» Леонардо да Винчи Хавьер Сьерра являет образ художника-гностика, рисующего себя «как Святого Иуду, «хорошего» Иуду, спиной повернутым к Иисусу (201), тогда как нож на полотне держит Петр (а не Иуда Искариот). Паффенрот озаглавил первую главу своей книги о двенадцатом апостоле «Иуда Незаметный», чтобы подчеркнуть «молчание или двусмысленность» ранних толкований Иуды.
(обратно)
269
Предсмертная записка маленького Джуда часто интерпретировалась с точки зрения мальтузианской теории народонаселения и с точки зрения ее возмутительности, так это объясняет Мэц (529-532).
(обратно)
270
Большинство читателей расценили книгу, как атаку на институты высшего образования, недоступные для бедных, и на несостоятельность института брака.
(обратно)
271
Возможно, образ покаянного Иуды Рембрандта был навеян образами Вильяма фон Сваненбурга. Шварц утверждает, что «из более ранних работ наиболее близка этой редкой теме одна из гравюр в цикле кающихся грешников Вильяма фон Сваненбурга по мотивам Авраама Блумерта… Поза Иуды напоминает позу Св. Петра из того же цикла» (Schwartz, 75).
(обратно)
272
Как метко подметил О'Мэлли, «Время — убийца и мститель, но время разрушает со временем и самое себя» (O’Malley, 663).
(обратно)
273
Самоубийства исламских заключенных в тюрьме Гуантанамо в 2006 г. были квалифицированы как «аномальная война». Эта ситуация напоминает «Писца Бартлби» Мелвилла, здесь предпочтение также отдано смерти, как способу избежать подчинения чужой воле, не участвовать в ситуациях, которые кажутся неприемлемыми. История Германа Мелвилла «Писец Бартлби» (1853 г.) о клерке с Уолл-стрит, не готовом выполнять чужие указания (независимо от того, насколько доброжелательно ему отданы распоряжения) и в конечном счете решившем умереть, а не участвовать в ситуациях, которыми управляют другие. Это создает проблемы его работодателю, от лица которого ведется рассказ. Об отношении Мелвилла к По см. Fleissner.
(обратно)
274
См. Жижек. Кукла и карлик (125).
(обратно)
275
Анализ создания Йейтсом «Голгофы» в форме мистических видений, см. Хасвелл.
(обратно)
276
Прекрасный анализ этого предания предлагает Элмер (См.: Elmer, 130-137).
(обратно)
277
В Средние века, как это доказывается в Главе 3, самоубийство осуждалось, как признак демонической одержимости. Кошель фигурирует во многих картинах, иллюстрации которых приводятся в Главе 3. Появляется он и в картине Лукаса Кранаха Младшего «Эпитафия Иоахиму Анхельско-му»(1565 г.), на которой Иуда утаивает не только кошель, но и нож.
(обратно)
278
Я признательна Эндрю Г. Миллеру за толкование «Болезни к смерти» Кьеркегора [Kierkegaard, Sickness unto Death].
(обратно)
279
Кэлвин продолжает утверждать, что взгляд на Иуду, переданного «сатане для мучений без надежды на прощение», ошибочно, что доказывает католицизм: «Священники проповедают раскаяние и право получить прощение Господа для всего человечества, однако в случае с Иудой все иначе. Он лишен Божьей милости из-за упорства в грехе. Мы можем выбрать раскаяние сердцем, высказать признания в своих дурных деяниях. Но тогда отсюда следует, что священники уделяют внимание только внешним моментам и опускают главное: если человек
предал Бога и
предался Злу, мучения, позор и страх заслуженны грешником и справедливы. Грешник лишается милости Божьей» (175).
(обратно)
280
Слова в кавычках взяты из проповеди 1827 г. кальвиниста Натаниэля Эммонса, которую цитирует Кейн (Cane, 158).
(обратно)
281
Совершенно другое и написанное гораздо раньше стихотворение также противопоставляет горестную участь Иуды обещанному Иисусом безграничному. В балладе Кейла Янга Раиса «Жена Иуды Искариота» (1912) [Cale Young Rice: «The Wife of Judas Iscariot»] вдова Иуды испытывает ужас оттого, что Спаситель человечества мог воспользоваться и злоупотребить доверием к Нему ее мужа. Шокированная женщина в этой «антиистории» горестно плачет над мертвым телом своего мужа, восклицая: «Иуда! Иуда! Что Он наделал,/Христос, которому ты так верил!» Затем она вопрошает: «А был ли Он Христом?» Тайна роли ее мужа или его истинного лица остается нераскрытой; на нее намекает лишь неясная фраза: «Никому в мире не суждено узнать/О твоих сомнениях на Его счет, кроме меня!» Жена Иуды не только единственная догадывается, что Иудой двигали его подозрения, но и она единственная осознает, что его участь, возможно, подтверждает, что его опасения/предчувствия дурного/были небеспочвенны.
(обратно)
282
«Введение в критику чистого разума» И. Канта интерпретировано Марией Барон (10-13).
(обратно)
283
Риччи, интерпретирующий эту легенду, утверждает, что «в древнееврейском языке лишь одна-единственная буква — “daleth” — отличает имя Иуды от магических букв, “Tetragrammaton” — Пятикнижия, — которые нельзя ни произнести, ни написать» (Ricci, 18). На основании этого он делает вывод, что «имя Иуда отражает введение новой системы письма» (24).
(обратно)
284
Созданный Клоптоком образ Иуды и в особенности его «попытки заставить Иисуса взять на себя роль мессианского вождя, чему Тот противится», анализирует Клаук (Klauck, 24).
(обратно)
285
См.: Oppermann.
(обратно)
286
Гитлер использовал и католических, и протестантских церковных лидеров, но, судя по некоторым из его речей, он считал, что «все религии одинаковы… У них нет будущего». В той речи, где появляется это высказывание, Гитлер отвергает попытки увидеть в Христе арийца: «Будь то Ветхий, будь то Новый Завет, или просто изречения Иисуса согласно Хьюстону Стюарту Чэмберлену — это все старый еврейский обман. Он не принесет нам свободы» (цитируется Хэдом; см.: Head, 68). Недавно изданная книга Джеффри Херфа являет собой прекрасный образец аналитического исследования пропагандистских газет, книг, плакатов, речей и законодательных актов в контексте нацистского мифа о международном еврейском заговоре — мифа, не зиждившегося на христианской иконографии. Отнюдь не немногие нацистсткие лидеры напоминали Мартина Бормана, утверждая превосходство национал-социализма над христианством, опороченного в их глазах своими иудейскими истоками.
(обратно)
287
Клейн обсуждает эту теологическую тему в Германии до, во время и после Холокоста (Klein, 92-126).
(обратно)
288
Намек на Иуду содержит послевоенный роман Ежи Косинского «Раскрашенная птица» (1965) [J. Kosiński, The Painted Bird], в которой описываются страдания мальчика, брошенного во время Холокоста, а затем подвергающегося истязаниям садиста-фермера и его грозного пса по кличке Иуда. «Образцовая жертва», десятилетний ребенок, подвешенный на двух крюках, закрепленных в потолочных балках фермерского дома, испытывает неимоверный ужас, чувствуя себя добычей для злобного Иуды: «Почему он подвесил меня? Неужели он и вправду думал, что пес убьет меня, хотя ему самому не удавалось это сделать столько раз?» (134). Мальчик оказывается жертвой крестьянина и его пса, кличка которого намекает на сюрреалистическое перевоплощение предателя.
(обратно)
289
Декманн описывает газету «Voelkische Beobachter» (Dieckmann, 16).
(обратно)
290
Цитирующий поэму Декманн указывает, что в ней появление Иуды и победа в Германии соотносится с сжиганием, мучениями и убийствами людей (Dieckmann, 17), ужасной угрозе которых надлежит противостоять.
(обратно)
291
Плавный переход одной сцены в фильме в изображение следующей сцены, при котором яркость изображения постепенно снижается и одновременно высветляется, как бы «наплывает», следующая сцена. —
Прим. пер.
(обратно)
292
Судя по отчетам и другим свидетельствам, этот фильм был показан эссесовцам до того, как те предприняли различные кампании по геноциду, а местному оккупированному населению до того, как начались нацистские «акции» против евреев. Дискуссии об этом фильме приводятся в Schulte-Sasse (47-91), а также у Фридмана (Friedman, 120) и Клоца (Klotz, 97). Вейнштайн видит в «Еврее Зюссе» иллюстрацию концепции антисемитизма.
(обратно)
293
Гитлер продолжает свое предостережение: «С сатанинской радостью на лице, черноволосый еврейский юноша поджидает в засаде ничего не подозревающую девушку, которую он оскверняет своей кровью», уподобляя сексуальных еврейских хищников черным насильникам: «Именно евреи и никто иной приводили негров на землю Рейна, всегда с одним тайным умыслом и ясной целью уничтожить ненавистную белую расу, наплодив бастрюков-полукровок, низвергнув ее с культурных и политических высот и подняв себя до хозяина» (325).
(обратно)
294
Фридманн видит в Леви «неассимилировавшего двойника в его естественном состоянии», считая «замаскировавшегося еврея» аллегориями «двух стадий социальной интеграции» (Friedman, 123).
(обратно)
295
Клер Сиско Кинг указывает, что «в отличие от такого приема, как быстрая смена кадров, наплыв не означает “полный разрыв”, а, напротив, воплощает то, что [Юлия] Крис-тева называет “промежуточным, двусмысленным тоном”» (King, 24).
(обратно)
296
«Вампиризм» евреев обсуждает Клоц (Klotz, 100). См. также: Schulte-Sasse (62); King (27).
(обратно)
297
Как в антисемитской пропаганде, например, в злополучной подделке, известной под названием «Протоколы сионских мудрецов» (опубликованной в 1903 и 1905 гг. и переизданной, как «один из священных текстов национал-социализма»), еврей Зюсс действует, исходя из допущения, что для евреев в целом необходимо «подмывать веру, вырвать из умов GOYIM — самый принцип божества и духа — и заменить его арифметическими вычислениями и материальными потребностями» (Bernstein x, 307-308).
(обратно)
298
Использование приема «наплыва» в «Вечном жиде» подробно описывают Кинг (King, 32-34), а также Клайнфелтер (Clinefelter, 138).
(обратно)
299
На протяжении всего фильма «Вечный жид» евреи сравниваются с африканцами и афроамериканцами: джазовые музыканты и африканские влияния на искусство называются «негроизованными», «побочными продуктами», демонстрирующими, что «не имеющие корней евреи не имеют представления о чистоте и чистоплотности» немецкой культуры. Подчеркивается в нем и «дегенеративная» еврейская порнография и трансвестизм, для иллюстрации демонстрировались кадры исполнителей, находящихся под воздействием алкоголя и наркотиков.
(обратно)
300
Вставляя клип из американского художественного фильма о семействе Ротшильда, режиссер мог использовать «Ротшильдов» (1934 г.) для доказательства того, как богатые евреи могут притворяться бедными, чтобы уклониться от уплаты налогов. Каждый из сыновей Ротшильдов в этом «фильме в фильме» ассимилируется в какой-либо европейской культуре; один из них становится французом, другой — итальянцем, один — англичанином, другой — австрийцем. Так что карта их ассимиляции служит аллегорией «паутины» глобальной экономической сети. Поддерживающие постоянное обвинение в том, что евреи не трудятся, как честные рабочие, а ведут нечестную игру и воруют, эти секвенции свидетельствуют о мошенничестве жаждущих прибыли евреев и их двурушничестве. Польские евреи, о которых говорится, что для них «ценность имеет лишь одна вещь — деньги», показаны начинающими свою «карьеру» с мусора и подносов; затем они встают за стойки и становятся владельцами маленьких магазинчиков, а в конечном итоге «самые беспринципные из них владеют огромными магазинами и банками».
(обратно)
301
Наряду с этим, в «Вечном жиде» о празднике Пурим говорится, что он увековечивает резню 75 000 персов, а о длинном клипе с Петером Лорре, сыгравшим роль детоубийцы в фильме Фрица Ланга «М», со сценой убийства ребенка, что он оправдывает убийство.
(обратно)
302
Этот фрагмент заканчивается заверением Гитлера в том, что, если евреи спровоцируют еще одну мировую войну, он «уничтожит всех евреев в Европе», после чего, под оркестровую музыку, следуют кадры с толпами людей, возбужденных своими «Sieg Heils!», и солдатами, ратующими о сохранении чистоты немецкой расы под флагами со свастикой.
(обратно)
303
Получивший часть образования в США, где он научился ценить афроамериканские формы духовности, Бонхоффер критиковал расизм, сквозивший в нацистской пропаганде, а в 1939 г. примкнул к заговору против Гитлера. Бонхоффер верил, что Церковь «с надеждой смотрит на тех из народа Израильского, кто вернулся в ее лоно, тех, кто уверовал в единственно истинного бога во Христе» (Bonhoeffer, 50). Но борьбу с антисемитизмом он повел слишком поздно. Едва ли стоит оговаривать, что я никоим образом не хочу умалить значение его жертвенной жизни. Биограф Бонхоффера, Бетдж, описывает, как он «мучился» после того, как отказался от отпевания еврея (Bethge, 275). Бетдж также считал, что Бонхоффер ясно понимал, что его реакция на все происходившее вокруг него была слишком запоздалой (830). Варне занимает срединное положение между теми из современных ученых, кто представляет Бонхоффера мужественным моралистом, и теми, кто считает его «лучшим из плохих людей» (Barnes, 110-111). Барановски утверждает, что «пример Бонхоффера являет Церкви образец открытой, принципиальной оппозиции в Третьем рейхе, сопряженной с недостатком решительности» (Baranowski, 127).
(обратно)
304
Я благодарна Джеймсу Расмуссену за этот и другие переводы с немецкого. Анализирующий тот же самый фрагмент, Лителл сравнивает Бонхоффера, мужественного диссидента, и Бонхоффера-мыслителя: «Человек, чья человечность и понятия о приличиях побуждали его рисковать ради евреев и выступать против антисемитизма на практике, был лучше, чем плохая теология, заложившая основы для христианского антисемитизма» (Litell, 51).
(обратно)
305
Факенхейм приводит свидетельство Ирвинга Гринберга о словацком раввине, просившем архиепископа Каметко спасти словацких евреев от депортации. Каметко ответил: «Дело не в самой депортации. Вы не умрете там от голода и болезней. Они убьют всех вас, старых и молодых, женщин и детей — и это наказание за смерть нашего Господа и Искупителя, Иисуса Христа. У вас только один выход. Перейти в нашу веру, и я постараюсь добиться аннуляции этого постановления» (Fackenheim, 11). В 1933 г., согласно Барнсу, «Арийский Параграф стал официальной политикой в Прусской церкви», призванной исключить неарийцев из клира (Barnes, 113). В конце 1930-х гг. многие члены Конфессиальной церкви присягнули на верность Гитлеру, к великому сожалению Бонхоффера (Barnes, 122).
(обратно)
306
Книга Чэмберлена, родившегося в Англии, но женившегося на дочери Вагнера и принявшего германское гражданство, «за десять лет была переиздана восемь раз; а всего было продано 60 000 экземпляров» (Head, 64). «Согласно пророкам немецкого христианства, — поясняет Джордж Л. Моше, — у евреев не было ни души, ни достоинств, ни нравственных ценностей по той причине, что иудаизм являлся остаточным легализмом» (Mosse 129).
(обратно)
307
Лителл цитирует «Deutsche Christen», поясняя, что «специальное издание четырех Евангелий было опубликовано без еврейского влияния» (Littell, 53). Хешель приходит к выводу о том, что «пример арийского Иисуса являет собой важный феномен в истории теологии в силу того огромного влияния, что он оказал на германскую протестантскую библеистику вплоть до наших дней» (Heschel, 84). После прихода Гитлера к власти даже такой протестантский теолог, как Герхард Китель, прежде отстаивавший иудаизм и центральное место Ветхого Завета в Новом, отделил библейских иудеев от вырождающегося современного еврейства (Ericksen, 61, 68).
(обратно)
308
Бонхоффер в этом абзаце повторяет слова апостолов: «Не я ли?», чтобы подчеркнуть их растерянность и тревогу в связи с тем, что им следовало бы отождествить себя с грешниками. Немёллер также замечает по поводу Иуды: «Безучастная ненависть иудейских первосвященников вызывает у нас ужас, беспочвенность и необъяснимость измены Иуды заставляет нас содрогнуться» (Niemo{12}ller, 141); но затем он утверждает, что «Пилат, тем не менее, становится палачом Человека, чью жизнь он пытался спасти» (143).
(обратно)
309
Барт постоянно оскорбляет Иуду и иудеев. «Оба [и Матфея, и Луки] свидетельства о возмездии, постигшем Иуду, подтверждают тот факт, что ни у Иуды, ни у иудея — Иуды, как олицетворения иудеев, и иудея, воплощенного в Иуде, — в действительности нет будущего как такового, и, в частности, нет будущего для каждого из них»; «Этот иудей и Иерусалим может только погибнуть и исчезнуть, чтобы освободить дорогу другому» (Barth, 469, 470). Подобное мнение могут разделять и еврейские мыслители. Роберт Коулс цитирует Симону Вейль — «Яхве обещал Иерусалиму то же, что Дьявол обещал Христу» — и затем поясняет, что «ее знание истории и ум отказывались даже на мгновение рассматривать отношение иудеев к Иисусу — раскол в среде иудеев, сложности необычайно смутного исторического момента. Симона Вейль совершенно не принимает в расчет тех евреев, которые следовали за Иисусом, учеников и авторов Евангелий» (Coles, 60—61).
(обратно)
310
Это строка из хвалебного гимна «Laus tibi, Chrste, qui pateris» («Хвала Тебе, Иисус, познавший страдание»), часто исполняемого на немецком языке: «Oh Du armer Judas, vas hastugethon» («Увы, несчастный Иуда, что ты наделал!»). Хотя в стихах «сквозит сочувствие к Иуде. Но для Иуды это ничего не значит: он потерян» (Ohly, 78), годом спустя (после сжигания синагог и погромов еврейских магазинов в «Хрустальную ночь» [9 ноября 1938 г.]), Бонхоффер предостерегал своих семинаристов: «Сегодня горят синагоги, а завтра запылают церкви» (Barnes, 123).
(обратно)
311
Обе точки зрения обсуждает Факенхейм (Fackenheim, 13). Первым ученым был Эберхард Бетдж, цитируемый по «Этике» Бонхоффера, которую он редактировал и которую также анализирует Варне (Barnes, 126); вторым был Уильям Пек.
(обратно)
312
О том, как «еврейство Иисуса послужило центральным тропом» для евреев, равно как и христиан в Германии (11), см. в книге Хешеля «Абрам Гейгер и еврейский Иисус» (Heschel, Abraham Geiger and the Jewish Jesus).
(обратно)
313
Идею сакральной смерти, когда непорочный и посвященный человек добровольно приносит свою жизнь в жертву в подтверждение своей веры, затмевают бесчисленные жертвы, обреченные на погибель нацистами. Сравните Иисуса Шагала с высказанным Бонхоффером в 1944 г. мнением о том, что «церковь стоит не на границах, где иссякают силы человеческие, но посередине деревни». Насколько далеко Бонхоффер отошел от суперсессионизма: «Как будто она остается в Ветхом Завете, и в этом смысле наше прочтение Нового Завета до сих пор освещает Ветхий Завет» (Bonhoeffer, 282). Те же идеи звучат и в заявлении Бонхоффера о том, что христианин «должен испить земную чашу до дна, и только когда он пьет ее, с ним пребывает распятый и воскресший Господь, а он, распятый и воскрешенный, пребывает с Христом»: «Этот мир не должен быть уничтожен преждевременно; в этом Ветхий и Новый Завет единодушны» (337).
(обратно)
314
По мнению Бонхоффера, церковь, ратующая исключительно о своем самосохранении, не может нести спасения: «христианское мировоззрение, мышление и организацию должно возродить» «молитвами и праведными деяниями людей» (Bonhoeffer, 300). В этом он отражает мнение теологов освобождения.
(обратно)
315
Шагал кардинально пересматривает импрессионистическое видение «Желтого Христа» Гогена (1889), где пасторальные поля окружают Иисуса, которого посещают три безмятежно спокойные женщины в крестьянских чепчиках и передниках.
(обратно)
316
Это соотносится, но и несколько разнится с мнением Штайнера: «За газовыми печами стоит Крест, — считал он, — в силу идейно-исторической преемственности, что связывает христианский антисемитизм, старый, как Евангелия и Отцы Церкви, с его временной вспышкой в сердце христианской Европы» (Steiner, 395).
(обратно)
317
Цветные иллюстрации двух других работ Андерле, его «Иуды» (1995 г.) и его «Вариации на “Поцелуй Иуды” Джотто» (1993 г.) воспроизведены в книге: Machalichy, Jofi Anderle (266-267).
(обратно)
318
Рисунок во многом напоминает другую работу Андерле, где «брутальность одерживает верх над пониманием, агрессия над смирением, глупость над знанием» (Machalichy{7}, 14).
(обратно)
319
Джозефа Бонсирвена цитирует Амишай-Мозелс (Amishai-Maisels, 102).
(обратно)
320
В сочиненном еще до Нового времени Евангелии от Варнавы, отмеченном явным исламским влиянием, Иисус и Иуда также смешиваются: «Я Иуда», отчаянно протестует апостол Варнавы перед тем, как быть распятым вместо Иисуса (217:5).
(обратно)
321
Подобное воззрение на Иова опирается на версию Жижека в «Марионетке и карлике» (Zizek, The Puppet and the Dwarf, 126). Комментарием к Христу Шагала может служить и утверждение Джека Майлса: «не иудеи покинули его, но он покинул иудеев» (Miles, 180). Различие между убитым Богом Майлса и убитым Богом Шагала состоит в том, что первый обещает своим последователям вечную жизнь. Прослеживающий в своем «Христе», как меняется характер Бога от еврейской Библии к Новому Завету, Майлс утверждает, что Бог «знал, что Его избранному народу грозит геноцид, и ничего не предпринял для того, чтобы предотвратить его. Единственное, на что Он смог решиться, став иудеем, это — прервать свое молчание по поводу собственного скандального бездействия» (109). Таким образом, Майлс считает победу римлян над иудеями и разрушение ими храма [Иерусалимского] таким же геноцидом, как и геноцид нацистов (110). «Военная непобедимость» (177) еврейского Бога исчезает в Евангелиях, где Бог превращается из воина, ратующего за Израиль против других народов, в принесенного в жертву спасителя, «избранного для избавления всего человечества от смерти» (207).
(обратно)
322
См.: Oesterreicher(1-136). Остеррейхер поясняет, что «со времен христианской античности и до Второго Ватиканского собора взгляды Церкви на иудаизм практически не менялись» (39), хотя широкая полемика велась по таким вопросам, как Евхаристия, Триединый Бог и т.п. Кохен подробно освещает дебаты на Втором Ватиканском соборе о взаимоотношениях Церкви и иудеев (Cohen, 171-182).
(обратно)
323
Любопытно, что в этом произведении афроамериканского поэта чудовищно тяжелые сребреники в ладони Иуды описываются, как «тридцать
белых монет» (выделено автором). Не означает ли это, что Куллен представляет Иуду рабом Иисуса,
вынужденным, при сложившихся обстоятельствах, продать своего Учителя?
(обратно)
324
«Иуда отражает собственную демоническую сущность Иисуса. Это подразумевается во всех видениях и снах в романе; это становится очевидным в тот момент, когда Иисус, слыша голос Иуды, признает его потаенным голосом его собственного потаенного “я”» (Bien, 71).
(обратно)
325
На Седер у Казандзакиса, Иисус наполняет чашу Иуды соленой водой, переливающейся через края, и Свою собственную, «до краев» (423). И хотя все остальные присутствующие делают только по несколько глотков, Иисус и Иуда осушают свои чаши до дна. Когда Иисус чувствует, что начинает падать духом, Иуда и Иисус соединяют свои чаши — «один неумолимый и безжалостный, другой молящий и страдающий. Всего доля секунды — и Иисус тряхнул своей головой, горько улыбнулся Иуде» (426). Тогда как другие апостолы за столом отчаиваются из-за неизбежности распятия, Иисус кивает головой Иуде, который хватает свой кривой посох и бросается вон. В Саду Иисус приветствует солдат и Левита: «Привет посланникам Моего Бога» (433) — ни о присутствии Иуды, ни о поцелуе речи не идет.
(обратно)
326
Греческая православная церковь отлучила от церкви Казандзакиса, Католическая церковь запретила книгу, а Епископальная церковь осудила фильм, как бесчестивший Иисуса, прежде всего, показывая Его слабовольным: Коэн показывает, что эта атака отразилась на еврейских кинорежиссерах (Cohen, 243).
(обратно)
327
Дупин Брелиха также постулирует империалистического Бога, который схоже размышляет об Израиле: «Какое значение имело безмерное разочарование маленького народа в сравнении с огромной выгодой, которую стяжал Он? К чему было беспокоиться о евреях, когда при посредничестве умело направляемых полицейских сил, Он мог победить и завоевать [народ]
проклятый миллионами» (105). (Brelich, 105). Дупин также считает, что в Драме Страстей Господних Иисус «был послан скорее затем, чтобы спасти Отца, нежели человечество» (107).
(обратно)
328
Какой бы обескураживающей и кощунственной не казалась идея жестокого Бога, она восходит к древним гностикам, которые видели в библейском Боге не истинное божество, а невежественного, кровожадного глупца, повинного во всех несчастьях и бедах людей. И хотя Казандзакис и Сарамаго по-разному трактуют Драму Страстей, греческий писатель также использует идеи гностиков, когда изображает Иуду помогающим Иисусу освободиться от физического тела, не позволяющего Тому слиться с божествен-ным духом. Идеи гностиков о божественном излагает Мейер в своем эссе «Связь Иуды и гностиков» (The Gospel of Judas, 137-169).
(обратно)
329
Осуждение Сарамаго жаждущего крови Бога напоминает атаку Евангелия от Иуды на лжерелигию одиннадцатого апостола, основанную не на учении Иисуса, которое понимает единственно Иуда, а на требовании Богом человеческой жертвы. Пейджелс и Кинг видят в «Евангелии от Иуды» яростную атаку на тех христиан, которые утверждали этику мученичества и самопожертвования.
(обратно)
330
Казандзакис также подвергает сомнению достоверность Евангелия от Матфея, живописуя в своем романе, как Иисус, читая свидетельства Матфея о Своих деяниях и словах, только восклицает: «Ложь! Ложь! Ложь!» (Kazantzakis, 391).
(обратно)
331
Возможно, оправдание Иуды в «Последнем искушении Христа» отражает широко распространенное мнение о связи изгоя Иуды и «окончательного решения», а также последовавших за тем акций геноцида, религиозных войн и этнических конфликтов, хотя еврейский президент МСА, Лев Вассерман, был подвергнут суровой критике за «разжигание антиеврейских настроений разрешением показа фильма Скорсезе» (Tatum, 181).
(обратно)
332
Фелстинер обсуждает этот феномен на примере стихотворения Поля Келана; я же прослеживаю его, анализируя стихи современных поэтов, пишущих на английском языке (227-240).
(обратно)
333
В «Деле о предательстве» Брелиха Дупин отвергает подобное предположение о манипулирующем Иисусе, как порочащее Его имя: самая мысль о том, что Иисус мог «изменить, изуродовать человеческое существо в личных целях, обрекши его на вечное проклятие и презрение последующих поколений» ставит под сомнение нравственность Иисуса (Brelich, 129). Подобные святотатственные утверждения не высказываются прямо и в «Последнем искушении Христа»; Казандзакис нивелирует их, акцентируя активную роль Иуды и опасения Иисуса.
(обратно)
334
Иуда Моссинсона поясняет: «Иисус отказался сообщать, кому выпал несчастный удел выдать Его. Он просил Варавву не раскрывать истинной правды доносчику. Если бы я знал, что Иисус желал быть распятым, чтобы послужить импульсом к восстанию, к началу мятежа, и его замученное тело должно было послужить топливом для разжигания огня, я бы отказался исполнять приказ» (Mossinsohn, 189). В любопытной и противоречивой «альтернативной истории» Моссинсона уцелевший Иуда упорно твердит своим близким, что он — предатель. Однако большинство из них продолжают считать, что «Иуда Искариот — Каин» (201). Когда же Иуда встречает Павла и просит его «Зови меня Иудой», тот лишь
называет его безумцем, потому что Иуда «уже покончил с собой в Иерусалиме» (285). Ощущение свершения преступления, сопровождающее предательство, обсуждает Джексон.
(обратно)
335
Шонфельд более уважительно трактует намерения Иуды. Ведь при помазании Иисус пошел на «хитрость, чтобы оказать давление в критический момент и заставить изменника действовать» (Schonfield, 135). Эпизод помазания убедил Иуду — не раз слышавшего, как Иисус говорил о том, что предательство и смерть Его неизбежны — в том, что «Иисус ждет, чтобы Его предали» (135).
(обратно)
336
Двенадцатый апостол, огорченный тем, что он согласился с той ролью, что отвел ему повествователь «Времени для Иуды», убивает себя, потому что он поддался искушению разгласить истинную историю, которую надлежало предать «забвению и тайне» (185). По иронии, Иуда Каллигана вешается из-за того, что «рассказал правду» (Callaghan, 196).
(обратно)
337
В романе Дикинсона Иуда признается: Иисус «хотел, чтобы Я пошел к первосвященникам и предложил им предать Его им» (Dickinson, 92). План Иисуса состоит в том, чтобы оказаться арестованным, а затем освобожденным в результате «свободного выбора» людей на пасхальную амнистию (93); однако распятию в этой причудливой фантазии предается другой последователь, и тогда Иуда побуждает Иисуса «совершить последнее чудо за свое служение», инсценировав свое собственное воскресение (142). Иуда, от лица которого ведется повествование в романе Дикинсона, так описывает эту сцену: «Собрав все свои силы, я опустил молоток на гвоздь, и он пронзил Его руку, вогнанный в дерево. Учитель пронзительно вскрикнул, и кровь брызнула с руки мне налицо и рубаху. У меня началась истерика, и, рыдая и всхлипывая, я умолял Его простить меня за эту боль, что я Ему причинил, но Он с горячностью потребовал, чтобы я быстро вытащил гвоздь и вонзил в другую руку, и я повиновался Ему, обезумевший от горя, видя, как проливается Его бесценная кровь и, слыша Его пронзительный крик от боли» (144).
(обратно)
338
Кейн видит «уникальность» истории в том, что «она не равняет Иуду и Иисуса, как заслуживающих равной благодарности, так как Иуда один достоин восхваления», поскольку «в своем саморазрушении Иуда предстает, под определенным углом зрения, единственным “погибшим за грехи человечества”» (Cane, 162).
(обратно)
339
Один исследователь, разглядевший на его страницах ад Данте и Иеронима Босха, признал в Кеннелли «современное сознание, сражающееся со средневековыми демонами», и, прежде всего, конечно, с демоническим Иудой. Рецензия Августина Мартина в «Irish Independent» цитируется на задней обложке «Маленькой книги Иуды».
(обратно)
340
Ставший ныне классическим перечень Альцюссера «аппаратов государственной идеологии» (или АГИ), созданный в 1969 г., по-видимому, не оказал никакого воздействия на Кеннелли, который прослеживает влияние Иуды на каждое из учреждений, названных Альцюссером, а именно:
— религиозные АГИ (система различных Церквей),
— образовательные АГИ (система различных государственных и частных «школ»),
— семейные АГИ,
— правовые АГИ,
— политические АГИ (политическая система, включающая различные партии),
— профсоюзные АГИ,
— АГИ средств массовой информации (печать, радио и телевидение и т.п.)
— культурные АГИ (литература, искусства, спорт и т.п.)
Критический анализ «Книги Иуды» проводят Макдонаг, Персон, Седмейр. Прекрасное эссе о книге Кеннелли принадлежит перу Роше. См.: Roche, McDonagh, Persson, Sedlmayr.
(обратно)
341
Учитывая важную роль женских характеров в Драме Страстей Господних, как и центральное место женщин в истории христианства, засилье мужчин в Католической церкви оборачивается самой очевидной социальной несправедливостью, теме которой Кеннелли посвящает целый ряд стихотворений, и одному из них он дает название, навевающее ассоциацию с хористами: «The Twelve Apostlettes» (137).
(обратно)
342
Пайпер делает такой же вывод о «романистах, которые защищают Иуду», апостола, олицетворяющего «правду смерти» (Pyper, 119). Аналогично и Барт высказывается « “за” Иисуса, сильного Своим милосердии, и “против” Иуды, слабого своей злобностью (Barth, 477).
(обратно)
343
Воплощая связь между Иудой и евреями, иудеи (как группа, упомянутая в этом перечне) изображены в Новом Завете как отказывающиеся обращаться в религию, им предлагаемую.
(обратно)
344
Это предположение обсуждают Ламадрид и Томас, поместившие в своей книге иллюстрации таких мексиканских фигурок Иуды. «Горящие Иуды» запечатлены на фреске Диего Ривера в Мехико.
(обратно)
345
Примечательно, что празднества на День Иуды, устраивались после того, как всю святую Страстную неделю молчали священные колокола соборов и церквей. Гулянья в честь Иуды сопровождали трещотки, скрежет которых навеивал ассоциации со скрежетом костей неискупленного апостола. Ритуал с поросенком описывает Бизли (Beezley, 120); у него находим и описание пекарей, начиняющих фигурки Иуды булочками, мыловаров — кладущих в них мыло, мясников, наполняющих их кусочками мяса и бесплатно раздающих их толпам гуляющих. По мнению таких исследователей, как Бахтин и Натали Земон Дэвис, Бизли считает дни Иуды увеселительными фестивалями (108).
(обратно)
346
Библеисты Борг и Кроссан поясняют: «когда мы росли, единственное, что могло быть хуже, чем быть «Фомой неверующим», было — быть Иудой. Хотя в истории [рассказанной Иоанном] Фома не осуждается» (Borg and Crossan, 203). На склонности сомневаться во всем, приписывавшейся евреям, основывалось и обвинение их в осквернении гостии, о чем рассказывается в Главе 3. В вымышленной биографии Иуды, вышедшей из-под пера Кена Смита, Иуда «испытывал глубокую печаль от того, что не видел — как другие — Иисуса воскресшим, хотя и признавал, что не имел права видеть Его» (Smith, 433). Иуда Смита сговаривается с Иаковом и Симоном предать Иисуса на суд Синедриона, ошибочно полагая: тогда Иисус «получит возможность раскрыть миру богословов то, что знаем о Нем мы» (382). В «Евангелии от Иуды» Рея Андерсона Иуда также свидетельствует: «Другие одиннадцать учеников, бывших моих сотоварищей, все видели Иисуса после воскресения» (R.Anderson, Gospel According to Judas, 143).
(обратно)
347
На том же постулате строятся и сопоставление Бартом Иуды с Павлом; Барт считает, что «Иуда говорит Нет, Павел говорит Да» именно потому, что первый не был свидетелем смерти Иисуса, а второй был: «Со смертью Иисуса Иуда в Павле умирает, и Павел очищается и освобождается от своего прошлого, становясь больше неспособен к тому, что Иуда учиняет Иисусу» (Barth, 501).
(обратно)
348
По мнению Кейна, Иуда из «Вечного жида» Роберта Бьюканена был убежден в том, что человек, которого он убил, «не был Мессией» (Сапе, 151).
(обратно)
349
Именно потому, что Иуда был «незаурядным человеком», — считает Клауснер, Иисус принял его; «до последнего момента Иисус не видел в нем натуру низменную, способную к измене» (Klausner, 285).
(обратно)
350
Галель (hallel) — праздничная молитва, выражающая хваление и благодарность Богу, состоящая из благодарственных псалмов —
Прим. пер.
(обратно)
351
Йешуа Мейлора понимает: «если Иуда предаст Меня, его страдания превзойдут Мои» (Mailer, 200). А поцелуй в саду убеждает Йешуа: Иуда «понял, что он также любил Меня, и даже сильнее, чем он думал». При известии о самоубийстве Иуды Иешуа не может произнести ни слова, и только плачет (218).
(обратно)
352
В романе Нино Риччи «Завет» (N. Ricci, «Testament») Иуда скован тем, что не знает, как одновременно остаться верным и антиримским повстанцам, и сохранить преданность Иисусу. Более образованный, чем другие апостолы, Иуда Риччи сознает, «сколь мало вещей ценится в этом мире, насколько лживы и низменны люди, готовые проповедовать вам самые возвышенные идеалы и тут же отрекаться от них» (121). И тем не менее он находит «новый взгляд на вещи» Иисуса заслуживающим того, чтобы отречься от всех своих старых обетов и рискнуть жизнью, чтобы предостеречь Иисуса о грозящей Ему опасности в Иерусалиме. Губернатор предъявляет Иисусу обвинение в измене, вменяя Ему в вину также связь с Иудой, «подозрительным мятежником» (432).
(обратно)
353
В «Евангелии от Иуды, записанном Бенджамином Искариотом» («The Gospel According to Judas by Benjamin Iscariot») книжник обманом убеждает Иуду в том, что Иисуса отпустят, и только тогда тот выдает Иисуса Каиафе. Петр отказывается помочь Иуде и выступить в защиту Иисуса.
(обратно)
354
Версия о том, что Иуда прожил дольше, находит отклики в среде библеистов и сегодня. Так, Борг и Кроссан оговаривают: «что Иуда не убил себя и не умер скоропостижной смертью, мы вполне можем допустить...» (Borg and Crossan, 126)
(обратно)
355
Основной причиной подобной близорукости является изобилие книг об Иисусе, в которых Он предстает в самых различных образах — посвященного пастыря, царя царей, принца мира или освободителя — в сравнении с ограниченностью подходов к Иуде, Его главному антагонисту. См., в частности: Pelikan, «The Illustrated Jesus Through the Centuries».
(обратно)
356
В том же духе Иисус Стивена Эдли-Гуиргиса говорит Иуде: «Ты был моим сердцем?» (S.A.Guirgis, 103). Гуиргис вкладывает в уста Марии Магдалины монолог, в котором она заявляет: «Я думаю, Иисус любил его тоже... Иуда был почти alter ego Иисуса - он был тенью света Иисуса». В «Евангелии от Иуды» Хенрика Панаса (изданном в Польше 1973 г.) Иисус признается Иуде: «Ты — как зеркало, как судия, взвешивающий каждое Мое слово, каждое Мое действие» (Н. Panas, «The Gospel According to Judas», 188-189). Этот скептический Иуда оставляет Иисуса до тех событий, что приводят к его смерти. В «Полете крылатого змея» Косани Иуда подкрепляет свое заявление о том, что он — «нет», а Иисус - «да», обещанием: «Я буду твоим зеркалом» (Cosani, «The Flight of the Feathered Serpent», 188). В первой и пятой главах своей книги Бартш развивает идею педагогического зеркала — когда пристальный взгляд обращается на самого себя с тем, чтобы созерцаемого образа могло высветить или коснуться объективное «я», его созерцающее - назад, к Сенеке.
(обратно)
357
Эта идея в работе Маклеода на тему доверия приписывается Г. Дж.Н. Хорсбургу.
(обратно)
358
В «Деяниях» также сказано: «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (14:22).
(обратно)
359
В первой главе Сандра Макферсон обсуждает категорию ответственности, высвечивающую связь между трагедией, в которой герои признают свою ответственность, не терзаясь тем, и возникновением романа.
(обратно)
360
Согласно Байеру, «доверие - что ткань: стоит одной нити оборваться, и ткань разлезается» (Baier, 134). Траектория взаимоотношений Иисуса и Иуды показывает, что даже одна спутавшаяся нить доверия может привести к роспуску ткани, если только другой нитью не поправить зацепку.
(обратно)
361
На эту взаимозаменяемость добра и зла намекает версия Драмы Страстей Господних, предложенная Мелвиллом, — «Билли Бадд, формарсовый матрос», о чем подробно пишет Барбара Джонсон в своем эссе, прочтение которого помогло мне глубже понять проблему зла не только меллвиловского Клаггарта, но и Иуды.
(обратно)
362
Иуда-скептик мог также видеть в Иисусе и циничного идеалиста. Состояние «циничного идеализма», проявляющегося, когда люди сомневаются в правоте и необходимости своих действий, но скрывают свои сомнения под маской «хрупкой бравады идеалистического энтузиазма», описывает Линда Чарнс (Charnes, 2). Эту концепцию обсуждает в своей работе «Критика циничного рассудка» («A Critique of Cynical Reason») философ Петер Слотердайк.
(обратно)
363
Противоречивое, как и многочисленные воззрения на Драму Страстей Господних, зло чаще всего не ситуационно: безотносительно к тому, какой подход превалирует в том или ином толковании или на какие противоречия в Новом Завете этот подход опирается, решение или желание причинить вред редко трактуется как побочный результат антигуманных или авторитарных социальных систем, подобных тем, что описывает Стэнли Милгрим в своих угоднических статьях или Филипп Зимбардо в «Эффекте Люцифера». Несмотря на оккупацию римлянами Иерусалима, в истории Драмы Страстей редки суждения о том, что плохие поступки люди совершают под влиянием затруднительных обстоятельств или по принуждению (в условиях военной бюрократии или тюрьмы). В разных толкованиях причины зла называются разные: в одних — это личная предрасположенность к злу, объясненная психологией, в других они космические, значит, являются следствием сил, управляющих миром, в третьих — социально-этические, как результат столкновения разных систем ценностей. Не будучи побочным результатом, зло или причинение вреда обычно является средством, способом — человеческим или божественным — достижения некоего результата.
(обратно)
364
В стихотворении Кеннелли «Зона» Иуда сознает: «Я — один из тех, кто востребован больше всех», и хотя враги пытаются установить пограничную зону, «отделяя меня от моего искупителя, узы, / связующие нас будут крепки всегда, / невзирая на церковь, государство, истории о предательстве и убийство» (Kennelly 109).
(обратно)
365
Жирар расценивал воскресение невинного «козла отпущения», Христа, как прерывание цикла жестокости, выражающей сущность механизма преследования «козлов отпущения».
(обратно)
366
Двоение объясняет, почему история Иуды изобилует вампирами, куклами и животными. Катоптрофобию и «раздвоение» «духов, вампиров, оборотней» и пр. анализирует Роджерс (Rogers, 8-9). Как в Древнем мире, «зеркало служит инструментом разделения смотрящегося в него на видящего и видимого, отделения “я” от “меня”» (Bartsch, 23). Бартш добавляет по поводу зеркального отражения «себя»: «ни один из этих источников не предполагает, что кратковременное смещение тождественности объекта и субъекта в сознании приведет к постоянному самонаблюдению или самоосуждению» (23).
(обратно)
367
Я в долгу у Керан Сетии, чьи идеи оказали влияние на эту часть главы. Противопоставления подходов к трактовке роли и характера Иуды, приводимые в последующих трех параграфах, опираются на современную классификацию теорий морали и нравственности, разделяющую их на причинно-следственные, деонтологические и ценностно-этические. См. Kagan.
(обратно)
368
Подобно тому, как для партикуляристского философа, ставящего во главу угла частности, не существует двух совершенно одинаковых случаев, разнообразные последователи Марка, Матфея, Луки и Иоанна в своих сочинениях или визуальных портретах уделяют внимание разным подробностям и деталям. Каган считает партикуляризм «философски неинтересным» (Kagan, 185). Но что не интересно философу — избегание обобщений, определяющих благие и неправедные деяния, — обретает смысл и значение при рассмотрении проблемы в ракурсе нравственности и морали.
(обратно)
369
Более утонченные формулировки категорий этики ценностей предлагает Сетия (Setiya, 38, 67 и 70).
(обратно)
370
Взгляды Ницше на иудео-христианство в сжатой форме излагает Дроуолл (Drawall, 184-186). В ракурсе по существу еретической концепции Ницше Иуду, подчиняющегося не закону, но исключительно своей воле, можно трактовать как независимую личность.
(обратно)
371
Современную точку зрения на вопросы, затронутые Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия», предлагает Фолкнер. См.: Faulkner.
(обратно)
372
Стивен Джей Голд и Ричард Левонтин применяют понятие «пазухи свода» в описании побочных следствий мозговых изменений. Гоулд отстаивает этот довод в «The Exaptive Excellence of Spandrels as a Term and Prototype».
(обратно)
373
Розенберг описывает этот случай в первой части своей книги. По поводу иудео-христианских отношений в средневековой Европе Крюгер отмечает: «христианская инкар-национная реорганизация истории с целью оправдать прошлое и тем самым предупредить прерывание инкарнации пытается похоронить иудаизм, искоренить его, по крайней мере, но и не только, умозрительно, и расчистить путь новому христианскому порядку» (Kruger, 3). И все же, «несмотря на все стремление отмежеваться от иудаизма, а фактически его искоренить, христианство также испытывает определенную потребность в сохранении иудеев» (5).
(обратно)
374
Появление евангелических и просионистских мега-церквей в США в начале XXI в. отображает уступчивость христиан по отношению к иудаизму и Израилю. По мнению одного христианского исследователя, «еврейский народ может обозначить свое место и значение в истории без христианства: христиане же не могут утвердить свою самотождественность вне взаимоотношений с иудеями/евреями — как в прошлом, так и в настоящем; и сколько бы христиане ни пытались сделать это, они всегда впадают в ересь и грех» (Littell, 66).
(обратно)
375
Таким образом, я не согласна с формулировкой Боярина, цитируемой во введении, о том, что «Иудаизм - не «матерь» христианства» (Boyarin, 5). Шёфер, пожалуй, уподобляет иудаизм «матери» ненамеренно: «Иудейская секта, запущенная Иисусом в Палестине, в конечном итоге превратилась в самостоятельную религию, религию, попирающую ту, что претендовала на роль ее материнской религии...» (Schafer, 2).
(обратно)
376
См.: Pinson(150, 162).
(обратно)
377
Хешель указывает, что еврейский мыслитель Лео Баэк пытался представить христианство «женоподобным» в сравнении с несущим моральную ответственность и в силу того мужеподобным иудаизмом (Heschel, 236).
(обратно)
378
Длительную христианскую традицию сравнения Адама и Христа Бруннер суммировал так: «Как чрез Иисуса Христа всем даруется спасение, так чрез Адама все впадают во грехи» (Brunner, 97); в «Адаме» все - грешники; во Христе все обретают спасение» (99).
(обратно)
379
Иуда, напоминающий Еву, иллюстрирует замечание, высказанное Джеком Майлсом в его книге «Христос»: «Новый Завет подобен коже, на каждом дюйме которой татуирован Ветхий Завет» (J. Miles, «Christ», 65).
(обратно)
380
Блестящий анализ феминистских подходов к истории Евы проводит Беллис. См.: Bellis.
(обратно)
381
Связь между Иудой и гомосексуальностью подкрепляет мнение Босуэлла: «судьбы евреев и гомосексуалистов почти идентичны на протяжении всей европейской истории, с враждебного отношения ранних христиан до их уничтожения в концентрационных лагерях» (Boswell, 14). Сокрытие сексуальности или сексуальной ориентации, анатомически менее очевидной, чем половая принадлежность, явно присуще Иуде. Когда Иуда воплощает связь между евреями и гомосексуалистами и эта связь возводится к первой женщине, еврейские мужчины и гомосексуалисты начинают восприниматься как женоподобные, изнеженные, неверные, неискренние и разрушающие самих себя. В нацистский период Иуда напоминает Яго, злодея, которому также нередко приписывается подавляемая гомосексуальность. См.: Adelman (134).
(обратно)
382
Как иудео-христианин, Иуда навевает ассоциации с сектой назареев, изобличаемой Иеронимом: «они верят в Христа, Сына Божьего, рожденного Девой Марией, и они говорят, что Он, кто пострадал при Понтии Пилате и воскрес, есть тот же самый, в кого они верят. Но поскольку они хотят быть и иудеями, и христианами, они не являются на самом деле ни теми, ни другими» (цитируется по кн. Д. Боярина «Граница» [Boyarin, Border Lines], 209).
(обратно)
383
Версия Нормана Мейлера довольно необычна при всей слабости его романа.
(обратно)
384
В этой книге я не преследовала цель подвести историческую базу под художественные решения или разрешить теологические споры по поводу различных интерпретаций характера и роли Иуды и их влияния на системы верований. Изобилие исторических сведений и богословских рассуждений только бы затруднило восприятие общих и частных тенденций в эволюции образа Иуды на протяжении двадцати веков. Краткий обзор изменения воззрений на Библию в литературе, занимающей срединное положение между историей и теологией, делает Майлс в приложении П к своему «Христу» (Miles: «Christ», Appendix II, 265—289).
(обратно)
385
Халас указывает, что имя Иуда «является отглагольным существительным, производным от формы страдательного залога», и потому означает «тот, кто восславлен, превознесен, восхвален» (Halas, 1). На древнееврейскую этимологию имени “Иуда”, возможно, опирается и упомянутое в главе 6 любопытное утверждение Бонхоффера о том, что имя двенадцатого апостола «означает “спасибо” в переводе на немецкий язык».
(обратно)
386
В своем немецкоязычном труде об Иуде Клаук приходит к аналогичному выводу. Заявив о том, что «ненависть к Иуде должна быть искоренена, дабы не питала она больше ненависть к иудаизму», Клаук подмечает: «Посредством всем известного механизма выбора «козла отпущения» мы перенесли на Иуду всю ту агрессию, ту склонность убивать, ту жадность и то неверие, что сокрыты в нас самих» (Klauck, 144, 146).
(обратно)
387
Термины, употребляемые здесь, заимствованы мной у Симоны Вейль, которая поясняет: «Это присутствие зла в нас. Это уродство в нас. Чем больше мы ощущаем его, тем больше оно наполняет нас ужасом. Душа извергает его точно так же, как мы — рвоту» (S.Wfeil, «Waiting for God, 123).
(обратно)
388
Филиппинский поэт Эммануэль Лакаба выражает похожую убежденность: «Названный Иудой, Рожденный Иисусом, названный Иисусом, рожденный Иудой, /Я не тот, каким кажусь, я тот - каким я не кажусь» (Е. Lacaba, 372). В том же ключе обращается к читателю и «Пугало Христос» Рикаредо Деметрильо: «Разве ты не Иуда этого пугала Христа?» (R. Demetrillo, 410). Редакторы антологии, в которую было включено его стихотворение, предварили его комментарием: «Отождествления себя или героев и с Иисусом, и с Иудой одновременно... - сквозной мотив современной филиппинской поэзии о Христе» (410).
(обратно)
389
Бальтасар, похоже, поддерживает тезис о непостижимой сути человеческого предательства, когда говорит о том, что «взаимодействие между Богом, предающим на смерть, и грешниками, которые, передавая, предают, весьма парадоксально само по себе» (Balthasar, 110), и когда далее утверждает, что «предание Иисуса в Драме Страстей остается тайной» (110) или что «самое противоречие между человеческой изменой и любовью Бога, проявляющейся в отдании Своего Сына, можно увязать с противоречием Креста, и тем оно разрешается» (112).
(обратно)
390
Из ранее приведенных цитат из Барта явствует, что он считает, что Иуда не заслуживает почитания и постоянно связывает его поругание с поношением евреев. Тогда как некоторые философы, также не чуждые антисемитской риторики, более тонко трактуют сложный образ двенадцатого апостола.
(обратно)
391
Мэдден и Хэйр приписывают подобное воззрение на парадокс Полю Тиллиху: «Для верующего, утверждает Тиллих, существование беспричинного зла не является основанием для отказа от своей веры в Бога, но предстает лишь одной из тайн религии» (Madden and Hare, 66).
(обратно)
392
Кейн поддерживает сравнение Бартом Иуды и Павла, указывая на то, что Павел, как гонитель, напоминал Иуду, и он же исполнил Иудину работу, «выполнив то, от чего Иуда постарался уклониться — правоверное предание Иисуса язычникам» (Сапе, 64). Иудеям Павел — обращенный — вполне может представляться изменником, сродни Иуде: «Становясь Апостолом для язычников, Павел становился также «первейшим отступником» для иудеев» (Rosenberg, 45).
(обратно)
393
Иуда не только — меньшее зло, чем те, кто клеймил его. Он вписывается и в более широкую концепцию, выдвигаемую Фрэнкфартером: «Настоящие зверства истории, похоже, случаются не при отправлении извращенных ритуалов в некоторых культурах зла, а в ходе стирания этих культов с лица земли. Истинное зло случается, когда люди говорят о зле» (Frankfurter, 12).
(обратно)
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава 1.
ВВЕДЕНИЕ.
Иуда: правда или вымысел?
Исторический Иуда
Вымышленный Иуда
Вездесущий Иуда
Глава 2.
ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ: ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ИСТОКИ
Заблудший апостол у Марка
Раскаивающийся грешник у Матфея
Одержимый Сатаной изменник у Луки
Дьявол-казначей у Иоанна
Краткий обзор несоответствий
Иудейско-христианская интермедия
Глава 3.
ПРОКЛЯТОЕ КРОВОСМЕШЕНИЕ: ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ И ПОЗДНЕЕ
Грязные дела
Кусающие пасти
Иуда в роли Эдипа
Глава 4.
ПЛЕНЯЮЩИЕ ПОЦЕЛУИ: ЭПОХА ВОЗМУЖАНИЯ
Братские поцелуи
Лживые уста
Рок
Глава 5.
СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОСТИ: ПРОБЛЕМА ЖЕРТВЕННОСТИ
Негодяй, как и я
Воин за общее дело
«Горе тому человеку»
Лучше бы не рождаться
Глава 6.
СМЕРТИ И ВОСКРЕШЕНИЯ XX ВЕКА: ЧТО ДЕЛАТЬ ИУДЕ?
Земля крови
Уничтожение Христа
Спаситель Иисуса
Владыка Иуда
Глава 7.
ИИСУС В «ЗЛОВЕСТВОВАНИИ» ИУДЫ: ОН ДА БУДЕТ ВОССЛАВЛЕН
Дружественный скептик
Пугающая симметрия
Несовершенство человечества
*** Примечания ***