Анатолий Иванов
Алкины песни
РАДУГА

Кажется, на земле ничего уже не осталось, кроме воды. Даже воздух стал таким густым и тяжелым, что трудно было дышать.
А дождь лил и лил вторые сутки подряд. Упругие струи бешено хлестали по жидкой коричневой грязи, под которой теперь трудно было угадать дорогу, по красной железной крыше библиотеки, с резким звуком разбивались об оконные стекла.
Женя целый час стояла у окна, хотя сквозь мокрые стекла ничего не было видно. Рядом на столике лежала небольшая стопка книг и газет, завернутая в прозрачный целлофан и крепко перевязанная шпагатом. И книги, и газеты ей нужно было отнести во вторую полеводческую, где их уже давно ждут. А как нести в такую погоду?
Собственно, как нести — это Женя знала. Но как перейти Сухие овраги? Женя чуть нахмурила узенькие, почти незаметные брови, отчего ее лицо сделалось еще более детским и беспомощным.
Женя закрыла глаза. И тотчас же ей представилось, как по дну оврага с диким ревом несутся потоки мутной дождевой воды. В прошлом году в такую же непогоду в овраг забрел теленок кузнеца Домакова, Гришиного отца. Через несколько дней теленка нашли мертвым в нескольких километрах от деревни.
А книги и газеты нужно все же доставить в бригаду. Это ее обязанность. Пусть не такая уж серьезная и важная, как Гриши… Что ж, всему свое время. И пусть Гришка не смеется. На следующий год она вот поедет в ту же школу механизации сельского хозяйства, которую окончил он, и потом… потом и ее работа будет не менее важной, чем Гришина. А сейчас, конечно, нельзя сравнивать работу тракториста и книгоноши, но…
Однако, что «но» — Женя пока не знала и принялась чертить пальцем по мутному от дождя стеклу. Маленькое лицо ее стало особенно грустным. При вспышках молнии ее светлые волосы, которых не хватало даже на две тоненьких, совсем светлых косички, едва заметно отсвечивали в полумраке комнаты.
«А Гришка какой-то странный, неразговорчивый, — опять подумала Женя, продолжая водить пальцем по стеклу. — Девчонки говорят, что они таких не любят. Ну и пусть! А вот она, Женя, могла бы полюбить Гришу. Назло девчонкам. Только он не смотрит на нее. Ну что ж!.. Она вот закончит школу, будет работать, может быть, в той же бригаде, что и Гриша. Вот тогда посмотрим… Хорошо, что организовали такие школы для подготовки механизаторов…»
Женя подошла к столу, достала из верхнего ящика книгу. Между листов был заложен вырезанный из газеты портрет Григория Домакова. Выражение лица у него на портрете было какое-то недовольное, даже сердитое, точно его силой поставили под фотоаппарат.
Он и в самом деле сердился тогда. Фотокорреспондент приехал в бригаду утром, когда все уже были в поле. Он заявил, что нужно сфотографировать тракториста Домакова в газету.
— Не хочу, — отрезал Григорий, когда Женя, запыхавшись, подбежала к трактору и сообщила ему об этом.
— Да ведь в газету, Гриша!
— Делать им нечего, вот и ездят тут… Работать мешают. А я в фотографию могу сходить, — так мрачно проговорил тракторист, что Женя вскипела:
— Ах, какой ты… не понимаешь ты ничего, даже вот столечко не понимаешь!
— Ну и ладно. Подумаешь! Мне план выполнять надо, некогда ездить до твоего фотографа.
Григорий говорил спокойно и с таким непонятным упорством, что Женин гнев мгновенно дошел до высшей точки.
А потом сразу все прошло. Она знала — грубостью с ним ничего не сделаешь. Его надо убедить.
И Женя стала думать, как это сделать. Но сказать ничего не успела. Из бригады к трактору ехал Илья Петрович, бригадир, вместе с фотокорреспондентом.
…Женя положила портрет обратно в книгу и прислушалась: дождь не переставал. Он с такой же силой хлестал по оконным стеклам, по крыше. Временами оглушительно и внезапно гремел гром, и Жене становилось страшно.
А идти нужно было. Пусть Гриша и не думает, что она боится…
Девушка накинула на себя голубенький плащ, подаренный в прошлом году воспитательницей Марьей Ивановной, когда Женя покидала детский дом, взяла сверток с книгами и газетами, прижала его к груди и вышла на улицу. В лицо ударило водяной пылью, дождь забарабанил по плащу. Женя старалась спрятать лицо от воды, но скоро убедилась, что это бесполезно.
Идти было трудно: ноги вязли и разъезжались в жидкой глине. Скоро она почувствовала, что ее старенькие, еще детдомовские, боты пропускают воду. Хорошо бы, конечно, купить новые, но Женя приберегала деньги для учебы.
Женя старалась не думать ни о дожде, ни о пропускающих воду ботах, ни о том, что идти становилось все труднее и труднее. Вот подружки из детдома говорят, что, когда трудно, надо думать о чем-нибудь хорошем и приятном. А что у нее самое хорошее в жизни? Гриша… Вот скоро уеду и стану ему каждый день писать письма. Только они не нужны ему, наверное. А я все равно буду писать и каждый день относить на почту, пусть не отвечает. Или хотя нет, не буду их отправлять, а потом, когда вернусь, отдам все сразу. Пусть узнает, что я о нем думала каждый день… А его портрет возьму с собой…
Дождь налетал теперь порывами, хлестал прямо в лицо. Плащ стал промокать, и холодные струйки стекали по шее, груди, спине. Но Женя не замечала всего этого. Размечтавшись, она шла и шла, прижимая к груди обеими руками сверток книг и газет.
Вот так же, с бьющимся от радости сердцем, спешила она в бригаду и в тот день, когда в газете был напечатан портрет Гриши. И, едва добежав, закричала:
— Гриша, поздравляю! Вот… — и протянула ему газету.
Он, немного растерянный, стоял среди возбужденных, рвавших из рук друг друга газеты колхозников. Протянутую ему газету Гриша не взял, только как-то по-другому, не как обычно, посмотрел не Женю. И Женя вдруг тоже смутилась, не зная, что делать с зажатой в руке газетой.
Но это было мгновение. Потом он опустил глаза, а когда снова посмотрел на Женю, они были такие же холодные, как всегда. Так и не взяв газету, он повернулся и хотел уйти.
— Да ты хоть посмотри, посмотри на себя в газете, — зашумели колхозники, обступая тракториста.
— Небось, душа на седьмом небе от радости!
— А как же не радоваться?! Без малого на четверть газеты нарисовали.
— Да и подпись — «Лучший тракторист района»! Не только ему, нам радостно — ведь колхозу честь.
— На всю область, Гришуха, прославился…
Григорий Домаков смущенно мял в руках замасленную кепку и краснел.
— Ну вот, прославился… Не надо мне никакой славы. Подумаешь… — тихо проговорил Григорий и пошел в поле. На стане стало тихо. Все смотрели ему вслед и молчали.
— Н-да, характер! А молодец Гришуха!
Женя с благодарностью посмотрела на бригадира, на колхозников. И с радостным чувством ушла обратно в село.
Пожалуй, этот день был самым счастливым в ее жизни.
Женя жила в отдельной комнате при библиотеке. Вечером кто-то постучал в окно. Женя привыкла к этому: ее часто так вызывали подруги, а по утрам будила уборщица. Она вышла во двор и не поверила: перед ней стоял Гриша.
— Ты, Женя, извини. Я на минутку, прямо из бригады… У тебя есть эта газета?
— Есть, — прошептала Женя.
— Дай мне одну, даже две, если можно… Понимаешь, растерялся я как-то там. Все смотрят, хвалят, будто я чудо какое совершил.
Не помня себя, Женя сбегала в библиотеку.
— Вот, Гриша, возьми…
— Спасибо. Теперь пойду. С рассвета целину, что за Сухим оврагом, знаешь, начинаю…
Женя сказала «знаю», хотя она сейчас ничего не знала. Не заметила она и того, как они вместе вышли со двора и очутились в поле. Опомнилась, когда он сказал:
— Вон как далеко ушли, не видать почти деревни.
Потом он замолчал и стал смотреть в сторону.
— Рассвет скоро. Люди скажут: вот, гуляют в такое время… да. Ты не думай, что мне газеты надо. Батя просил посмотреть.
Еще помолчали.
— Ну, а погуляем потом, когда-нибудь… Вот управимся с пахотой…
Григорий хотел сказать еще что-то, но только махнул рукой и быстро скрылся в темноте.
Это была ее единственная прогулка с ним. Сейчас, ступая по скользкой, как мыло, грязи, Женя вспоминала каждую подробность этой встречи и с грустью думала, что он не сдержал слова. А может, он и не ее имел в виду, когда говорил: «Погуляем». Может быть, он и гулял с кем-нибудь. Ну и пусть, что же…
У Сухого оврага она в нерешительности остановилась. Там, внизу, мутная вода с ревом подмывала берега, уносила с собой целые глыбы глины.
Но здесь Жене не было уже так страшно, как там, в библиотеке. Смотря под ноги, чтобы не упасть, она начала спускаться на дно оврага. «Найду узкое место и переброшу книжки, а сама пойду вброд», — соображала она на ходу.
Но ни перебрасывать книжки, ни переходить вброд через овраг ей не пришлось. В следующий миг она услышала:
— Сюда иди, тут мельче.
У самой воды стоял человек и тыкал шестом в воду. Женя растерялась и выронила сверток.
— Гриша!.. Ты?
— Ну, я, чего испугалась? Держи крепче книжки.
И не успела она опомниться, как он обхватил ее сильной рукой, поднял в воздух и шагнул в воду.
— Ноги подожми, замочишь, — услышала она уже на середине. И хотя ноги и без того были мокрые, покорно и безропотно выполнила приказание.
Григорий шел медленно, опираясь свободной рукой на шест. Вода доходила ему чуть выше колен, но так ревела и пенилась, что Жене опять стало страшно.
Она успокоилась только на другом берегу. Григорий сидел на мокром камне и выливал из сапога воду:
— Мне казалось, ты упадешь. Тяжело ведь, — проговорила она.
— Ну да, что я, в первый раз перехожу здесь?
— А ты как здесь?.. Ждал меня? — спросила она и сразу почувствовала, что ее сердце гулко забилось от неосторожного вопроса.
— Вот еще… выдумывай! Шел просто мимо. Трактор у меня здесь недалеко. Вижу, человек. Думаю — не перейдет через овраг в такую погоду, помочь надо. А это ты оказалась…
Григорий говорил как-то сбивчиво и не смотрел на нее. Шест валялся рядом, на траве, и Женю вдруг обожгло: она вспомнила, где видела такие шесты.
— Шест-то из бригады. Я возле скирды такие видела.
— Ну, ладно! Видела, видела, — вдруг рассердился Григорий. — Мало таких шестов, что ли. Иди, а мне еще в одно место надо… — И он пошел по оврагу не оглядываясь, все время ускоряя шаг.
…В бригаде Женю встретили весело и шумно. Едва она переступила порог, ее окружили колхозники, засуетились, стали помогать раздеваться. А там, в углу, уже кто-то развязывал сверток, и по комнате зашуршали разворачиваемые газеты.
— Ай, Женя, молодец! А то мы совсем заскучали без газет, — сказал бригадир Илья Петрович.
— Ой, и книг сколько! — обрадованно воскликнул женский голос. Но Женя не разобрала, кто, это говорил. Она стояла посреди комнаты, и вода ручьями стекала с нее на деревянный пол.
Из кухни вышла бабушка Дарья, повариха, и всплеснула руками:
— Батюшки! Да как ты, доченька, в такую погоду? Через проклятые овраги-то как?
— Что ж, значит сумела перейти и овраги, — как-то хитро улыбнулся Илья Петрович и посмотрел в окно. Женя невольно посмотрела туда же: за мутной пеленой дождя в окно виднелся край почерневшей соломенной скирды, обставленной одинаковыми, недавно выструганными шестами. Они стояли ровным веером, на одинаковом расстоянии друг от друга. Только с правой стороны расстояние было больше — значит один шест кто-то взял. Женя испуганно взглянула на бригадира, но Илья Петрович ничего не сказал и стал читать газету.
Вскоре Женя переоделась в чье-то сухое белье, бабушка Дарья напоила ее горячим чаем и уложила на кухне. Женя сразу же согрелась, но уснуть долго не могла. «Значит, он ждал меня там, под дождем, специально пришел встречать!» — радостно и в то же время с каким-то испугом думала Женя. Но она никак не могла разобраться в событиях сегодняшнего дня и решить окончательно, так это или не так.
Дождь за стеной все шумел и шумел, глухо стучал по оконным стеклам, по крыше. Но теперь ей было приятно слушать этот убаюкивающий шум и, засыпая, думать, что она все-таки будет отсылать Грише из школы механизации все письма.
Ей снилось, что дождь давно кончился, а над степью всеми красками горит радуга. Она захватила полнеба, полыхает и переливается так ярко, что больно глазам. Один конец ее был где-то далеко, под самыми горами, а другой упирался в Сухие овраги.
— Смотри, смотри, Гриша, радуга воду пьет, — крикнула Женя, как бывало в детстве.
— Ну да, пьет! Все это бабкины сказки, — ответил откуда-то Гриша. — А я тебя всегда буду ждать у оврага, когда дождь…

ВАРВАРА КРУТОЯРОВА

— Ну что ж, товарищи-сограждане, значит нет больше желающих выступить? — спросил председательствующий Аким Михеев, первый кузнец в назаровском колхозе, и тряхнул рыжей бородой, хранившей, казалось, жар кузнечного горна.
— Значит одно предложение — предупредить бригадира Федора Крутоярова за нехозяйское расходование кормов? — спросил он, немного помедлив.
— Пропивал он корма-то, — послышался несмелый голос конюха Ивана Прядухина, на редкость тихого и неразговорчивого человека. Только в исключительных случаях он говорил одно-два слова.
Обычно на собраниях старик Прядухин сидел с полузакрытыми глазами, и было непонятно — спит он или бодрствует. Время от времени, заинтересовавшись чем-то, конюх быстро открывал глаза и делал движение, будто сбрасывал с себя сон, а потом медленно погружался в свое обычное состояние.
— Я ведь сам надысь видел: экий возище навалил с колхозной скирды кому-то из райцентра… — добавил Прядухин после продолжительной паузы.
— Это еще доказать надо. До-ка-зать! — вскакивая со своего места, крикнул Семен Вершин, весь вечер рьяно защищавший Крутоярова. — Что его слушать, ну что его слушать? — выкидывал он в сторону Прядухина руку с зажатой в кулаке мохнатой лисьей шапкой и сильно задирал вверх острое рябоватое лицо.
— Пропивал! А ты, коли видел, чего раньше молчал?.. Наговоры это. Крутояров ему для личного покоса не тот участок отвел, какой хотел Прядухин…
— Покос, верно, плохой отвел, — тихо сказал Прядухин, что-то сосредоточенно рассматривая на полу между ног. — Да я не за покос говорю…
— Молчал бы уж, чем говорить, — покрыл Вершин басом робкий голос конюха. Непонятно было, как маленький щуплый человек мог издавать такие звуки. — Молчит весь год, а потом скажет, как в лужу…
— Но, но! Без выражениев тут, — строго постучал кузнец Михеев огрызком карандаша по столу и сердито тряхнул бородой. — Уймись, Вершин, говори дело. У тебя не язык — чисто пропеллер, аж в ушах колет. Ты, Прядухин, какое предложение вносишь?
Прядухин испуганно заморгал глазами и посмотрел вокруг.
— А я что? Я как все, Аким Спиридонович. А только сено он…
— Наветы это, говорю… Пустые слова! Доказать надо…
По рядам колхозников вновь заметался приглушенный говор. До истины было добраться невозможно.
Аким Михеев снова постучал карандашом по столу.
— Я, товарищи-сограждане, так думаю: совести надо совсем лишиться, чтобы колхозное сено на водку менять. Этот факт под сомнением. Потом правление должно разобраться. А пока запишем в решении — предупредить Крутоярова. Еще будут предложения?
— Будут! — вырвался вдруг из задних рядов женский голос.
Бритая голова сидящего в первом ряду Федора Крутоярова качнулась, он тяжело повернулся на заскрипевшем стуле и медленно поднял густые, начинающие седеть брови. В его мутных глазах мелькнул испуг, губы дернулись в нервной усмешке.
Варвара Крутоярова, жена Федора, бросив за спину конец тяжелого шелкового полушалка и нагнув голову, шла к столу под удивленными и недоумевающими взглядами колхозников.
— Варвара, сядь! — глухо проговорил Федор, хватая ее за полу расстегнутого полушубка, опушенного по бортам белой мерлушкой. Крутоярова резко повернулась к мужу:
— Пусти! Аль боишься?
Федор разжал пальцы, медленно опустил голову. На его туго обтянутых кожей широких скулах перекатились желваки.
— Будут у меня еще предложения, — тихо сказала Варвара. Она крепко ухватилась за край стола. Полушалок упал на плечи. Гладко зачесанные назад и собранные на затылке в большой узел волосы отливали синевой, Красивое лицо ее осунулось и похудело, глаза лихорадочно блестели.
— Что ж, открывайте свои прения, Варвара Ильинишна, — вежливо сказал Михеев и растерянно погладил подпаленную у кузнечного горна бороду.
— Послушаем, товарищи-сограждане, нашего животновода.
И опять установилась томительная тишина.
— Придется, — хихикнул наконец Семен Вершин и посмотрел по сторонам. — Послушаем… оратора в юбке…
— А ты не егози, — крикнула вдруг ему Варвара Крутоярова и подалась вперед. — Придется уж послушать, о тебе речь поведу. Ну, чего озираешься, чай, не углей тебе на стул насыпали…
Аким Михеев, выполняя обязанности председателя собрания, тотчас постучал карандашом.
— Полегче, Варвара Ильинишна. То есть без выражениев.
— Уж как могу, не обессудьте. Он, Семка Вершин, запутал Федора. Как уж холодный вокруг вился. Мягко стлал, да каково лежать…
Семен Вершин втянул голову в плечи и стал похож на нахохлившегося ястреба. Отвернувшись, он закинул ногу на ногу, положив зачем-то между колен свою лисью шапку.
— Так, значит, Семен Вершин виноват, а не Федор… Ну-ну, давай дальше…
— И дальше скажу, товарищи колхозники. Это верно, корма мы нынче растранжирили в бригаде. Зиме еще конца не видно, а мы уже одонки подскребаем. Я сейчас захожу в коровник — и сердце кровью обливается. Были коровки — на загляденье всему району, а остались — кожа да кости. Сейчас столько внимания животноводству уделяется… Правительство во всем навстречу идет: вот вам, дорогие колхознички, все условия для развития животноводства, не ленитесь только… А мы?.. Ты, конечно, не животновод, Вершин, тебе все равно. Да и неизвестно, кто ты вообще у нас.
— Что ты на меня? Что ты на меня? Ты про Федора скажи, — озлился вдруг Вершин и быстро перекинул ноги одну на другую. Лисья шапка упала на пол. Вершин нагнулся и ударился лбом о спинку стула. Но никто не засмеялся. Вершин пересилил себя и даже не потер ушибленное место.
— Про Федора что сказать? Каждый видит, как он хозяйничает в бригаде. Неспособный он к бригадирству — и все тут. Снимать его надо…
Федор Крутояров поднял голову и непонимающе посмотрел на жену, будто увидел ее впервые.
— Не смотри на меня так, Федор Тихоныч, — дрогнувшим голосом проговорила Варвара. — Сердце у меня изболелось глядучи, как ты хозяйничаешь, бригаду губишь. Али это не мой колхоз? С кормами ясно — не вывезли вовремя, скоту стравили осенью… Тут много говорили об этом. А возьмем полеводство. Вечно мы затягиваем то сев, то уборку. Время подошло хлеба косить, а у нас только ток расчищают, брички принимаются ремонтировать, сбрую починять. Да убираем-то как? Зерно в амбар, а пять на полосе оставляем. Дисциплина есть у нас? Чтоб людей на работы отправить, Федор встает пораньше да бегает по дворам: «Фекла Антоновна — на работу!», «Анфиса Ивановна — на току вас ждут…» А Фекла Антоновна да Анфиса Ивановна позавтракали не спеша — и на личный огород. Вот вам и дисциплина. Прибегает Федор домой, падает на стул: «Уф, запарился! Вот чертова работка! Давай позавтракать…» А не поймет — не в том бригадирова работа, чтобы по дворам бегать да людей на работы приглашать…
Варвара перевела дух, вытерла вспотевший лоб и закончила:
— В общем, нету у моего Федора организаторских талантов.
Аким Михеев встал со своего места, зачем-то постучал карандашом о графин, хотя в этом не было никакой надобности: зал, еще не пришедший в себя, не шевелился.
— Вот так, значит, товарищи-сограждане… — хрипло произнес кузнец тоже неизвестно для чего. — У вас кончилась речь, Варвара Ильинишна?
— Пусть скажет — пропивал ли Федор сено? — все так же несмело подал голос Иван Прядухин. — Она знает об этом.
— И про Вершина сказывай.
— Выкладывай без утайки…
Черные усталые глаза Варвары смотрели в зал, отыскивая того, кто задавал вопросы.
— Мне что таить? — горько усмехнулась она. — Не за тем вышла. Это правда, пропивал Федор колхозное сено.
Как от удара, Федор Крутояров ниже уронил голову, зябко повел плечами. И тотчас же загудели колхозники:
— Вона, что начальство делает…
— А скот с голоду подыхает…
— Долой с бригадиров Крутоярова. Записывай, Аким, предложение…
— Под суд такого. Там разберут…
Михеев безуспешно пытался восстановить тишину.
— Их вместе разбирать надо, — крикнула вдруг Варвара, и шум моментально стих. — Чего ты хоронишься за людей, Вершин? Всю жизнь за чужие спины прячешься.
Варвара нервно теребила конец цветастого полушалка. Голос ее вдруг зазвенел.
— Укажите мне любого колхозника, я скажу: этот полевод, тот конюх, а вот доярка. А спросите, кто такой Семен Вершин? Что он делает в колхозе? Его то в поле, то на ферме видишь. Все ищет, где полегче, где попрохладней… Так, болтается под ногами и людям мешает.
Семен Вершин крутился на своем месте, растерянно моргал глазами. Лисья шапка опять очутилась на полу.
— Ишь кроет… Ты кончай прению… Слышали мы таких орателей… Ты докажи, докажи, — бормотал Вершин, ища глазами сочувствия у сидящих вокруг колхозников. Но они отворачивались от его бегающих глаз.
Варвара опять усмехнулась:
— Докажу. Голос потерял ты, защищая сегодня Федора. А с чего бы это? У кого повети от сена прогибаются? У него, Вершина. Мы потом на лугах исходили, а он на рыбалке прохлаждался. Распил с Федором литр водки и начал колхозное сено бричками на повети сметывать. Али не так говорю, Федор Тихоныч?
Крутояров вздрогнул, но головы не поднял. Несколько секунд помолчала Варвара, а потом продолжала:
— Молчишь? А я еще скажу! Федор Крутояров всех родственников Вершина в райцентре колхозным сеном обеспечил. Купили они его лестью да водкой проклятой. Чуть что — прибегает Вершин к нам: «Сродственник в гости приехал. Ты уж, Федор Тихоныч, приди, уважь. Жена пива трехведерный бочонок наварила». А родственник-то не в гости приехал, а насчет сена… с Федором. Вот так… Хоть верьте, хоть нет…
И Варвара, опустив голову, выбежала из клуба, где проходило собрание, придерживая обеими руками распахнувшиеся полы полушубка.
* * *
Всю ночь Варвара проплакала тихими слезами. Стенные часы громко тикали в темноте. Этот звук тупой болью отзывался в голове. Она встала, остановила маятник и снова упала на неразобранную кровать.
Что будет дальше — Варвара не знала. Ощущение чего-то тяжелого и непоправимого не покидало ее после собрания до самого утра. И в то же время она испытывала облегчение, точно до сих пор была заперта в какой-то тесной и душной комнате, а теперь вдруг выпустили ее, и она может свободно ходить, дышать полной грудью. Она ясно ощущала в себе эту двойственность, но не могла понять ее происхождения…
Мимо окна в темноте проходили какие-то люди, и мерзлый снег долго скрипел у них под ногами. Варвара вздрагивала, испуганно прислушивалась к удаляющимся шагам: не Федор. К горлу подкатывался тяжелый соленый ком. Варвара мучительно глотала его и снова начинала плакать.
Она не боялась возвращения мужа. Нет, еще тогда, на собрании, когда вставала со своего места и шла к слишком ярко освещенной трибуне, в голове, среди множества других мыслей, пронеслось: «Придет Федя с собрания… что скажу… как в глаза посмотрю ему? Ведь столько лет жили…». Варвара только ниже нагнула голову: «Ну что же, и скажу. Все скажу тебе, Федя…». И твердо взошла на трибуну.
А все-таки… все-таки страшно было думать о том, что муж сейчас придет и надо будет что-то говорить, надо будет смотреть ему в глаза.
Теплые слезы еще сильнее мочили подушку.
Федор Крутояров в эту ночь не пришел домой. Когда в окна стал просачиваться неторопливый зимний рассвет, Варвара поняла, что муж не придет и днем.
Начинающийся день немного успокоил Варвару. Она вздохнула, встала с кровати и только теперь обнаружила, что так и не сняла с себя ни полушубка, ни полушалка.
Раздевшись, Варвара подошла к зеркалу и стала поправлять растрепавшиеся за бессонную ночь волосы. В полумраке комнаты полные, оголенные выше локтей руки казались бледными. В зеркале на нее смотрело чье-то чужое, измученное лицо с глубоко ввалившимися черными глазами.
Приготавливая завтрак, Варвара слышала, как в другой комнате сынишка, собираясь в школу, искал что-то на столе и отдавал последние приказания Трезору. Пес заискивающе скулил, и Варвара даже слышала, как он в избытке собачьей преданности ползал у ног Витьки и подметал хвостом крашеный пол. Но все это было где-то далеко, не в ее доме. Она вернулась к действительности, когда сынишка ловко влез на высокую табуретку, подвинул к себе тарелку с лапшой и спросил:
— А папка где? Опять на работу людей собирает? Варвара вздрогнула у печки, проговорила:
— Папашка-то?.. Ну да… Молотить ведь сегодня пшеницу, что в скирдах, собрались. Ты ешь, Витенька.
Витька почему-то многозначительно промычал и, выбрав момент, сунул в карман ломоть хлеба — Трезору.
Проводив сына в школу, Варвара пошла на скотный двор.
Но все ее коровы были убраны, стайки тщательно вычищены. Животным кто-то задал уже скудную норму черноватого сена. Сильно отощавшие коровы поедали его с жадностью, с хрустом пережевывая толстые будылья.
Варвара несколько минут молча смотрела на животных.
— И дожились-то мы, Варварушка, до чего! — услышала она скрипучий голос доярки Харитины Антипьевны. — Положь-ка руку на спину — и ладонь об мосол разрежешь.
В своем обычном клетчатом пальто, натянутом поверх старенького полушубка, Антипьевна стояла у стайки, опираясь на вилы-тройчатки. Ей было лет шестьдесят. Но на ногах она держалась бодро. Несмотря на уговоры, Антипьевна не бросала своих коров, заявляя всем, в том числе и председателю колхоза:
— И как твои глаза-то на меня глядят, прости господи. Я, почитай, тридцатый годок за коровками хожу. А тут с какой стати тебя послушаюсь? Иди-ка ты, мил дружок, своей дорогой…
— Это ты, Антипьевна, моих коров прибрала? — спросила Варвара.
— Может и я, Варварушка. Да ты не сердись. Кто б ни ухаживал, а молочка коровка всем даст.
— Как муженек-то твой? Лютует, поди? — спросила тихо и участливо одна из доярок, и Варваре вдруг тепло стало от этих простых слов.
— Не знаю, не приходил домой, — так же тихо и печально ответила Варвара.
— Да ведь стыдно, поди. Доведись до меня — глаза бы полопались на людей смотреть. Так ему и надо, — строгим голосом произнесла Антипьевна, но, взглянув на Варвару, осеклась. — Прости ты меня, Варварушка, на грешном слове. — И, помолчав, добавила: — А ты иди… Не до коров тебе нынче, однако.
— Иди, иди, мы поглядим тут… — поддержали ее доярки.
Конюх Прядухин провел мимо лошадей на водопой. Увидев Варвару, он остановился, снял зачем-то шапку. Молча постоял, потом произнес:
— Под чистую Федора… Хорошая твоя прения была, Варвара, да… — и потянул за повод упирающихся коней. У Варвары кольнуло сердце.
— Иван, постой! Иван!.. Как ты сказал?
Прядухин хотел было остановиться, потом передумал, махнул рукой и потащил своих коней дальше.
— Что Ванька Прядухин хочет сказать — одному богу ведомо, — протянул неизвестно откуда взявшийся Семен Вершин. — Так, что ли, бабка Харитина? Я могу разъяснить мычание Ваньки. Под чистую, значит, Федора Тихоныча уволили из колхоза… Так решила бригада. — Ну, а правление супротив не пойдет… Н-да… Исключили! Так сказать, благодаря нежнейшей супруге…
— Уйди… с дороги, — прохрипела вдруг Варвара и пошла прямо на Семена. Вершин, испугавшись выражения ее глаз, попятился, повернулся и, придерживая рукой лисью шапку, перемахнул через изгородь.
Медленно шла по улице Варвара Крутоярова к своему дому. Она и не соображала, куда шла, зачем шла. Все, что угодно, думала Варвара, но только не это. Пусть бы сияли Федора с работы и поставили рядовым колхозником, пусть бы взыскали за разбазаренное сено. Вместе с ним она приготовилась пережить позор. А теперь… Теперь… Как же это?
Встречавшиеся колхозники останавливались, долго смотрели вслед Варваре. Одни смотрели с теплотой и сочувствием, другие — с удивлением и неприязнью.
Не было еще такого, чтобы жена выступила свидетелем против мужа.
…Федор Крутояров пришел домой через несколько дней, небритый, с опухшим от водки лицом. Варвара обеими руками схватилась за сердце и так застыла, стоя у разведенной квашни.
Федор молча прошелся по комнате. Под его ногами тяжело поскрипывали половицы. Знакомый и привычный скрип причинял Варваре острую щемящую боль, точно кто проводил ножом по самому сердцу. Она, не смея еще что-либо сказать, только плотнее стиснула зубы.
Заросшая щетиной дряблая щека Федора дрогнула, он рассмеялся горько, нехорошо:
— Ухожу я… к брату в город. Сапожником на углу работать буду… ха-ха-ха…
Федор смеялся долго, неведомо чему. И Варвара поняла, что муж мертвецки пьян и держится на ногах только благодаря каким-то неимоверным усилиям.
— Федя!.. — Крутояров качнулся, медленно повернул к жене посиневшее лицо с воспаленными глазами.
— Молчи! — крикнул он и сжал кулаки. Покачиваясь, он долго стоял посредине комнаты, презрительно смотрел на жену.
— Молчи… на колхозном собрании скажешь.
Так же медленно отвернувшись, Федор пошел к двери. В глазах у Варвары плеснулся ужас. Она догнала мужа и, маленькая, обезумевшая, повисла у него на плече.
— Федя!.. Феденька!.. Куда же ты? Прости, Федя, переживем… Ведь думала — как лучше…
Федор шел медленно и ровно, словно не ощущая тяжести жены. У дверей он повел плечом, и Варвара, обессиленная, сломанная, осела возле порога. Не посмотрев на жену, Федор вышел из квартиры и прямо через огороды, лесом пошел к железнодорожной станции, оставляя на рыхлом снегу черные следы.
В распахнутую дверь комнаты клубами врывался морозный воздух.
Очнулась Варвара в районном селе Назаровке, где начинала свою колхозную жизнь.
Она медленно открыла глаза и первое, что увидела, была огромная медная, потемневшая от времени люстра. Где-то она уже видела эту люстру, но где и когда — припомнить не могла. Варвара долго вспоминала, закрыв глаза.
Режущая боль в сердце заставила вскрикнуть:
— Федя!..
Давно-давно, когда в Назаровке раскулачивали последнего богача, Федя, ее Федя, тогда еще семнадцатилетний паренек, приволок люстру из кулацкого дома в только что открытый на селе клуб.
— Ископаемая штука! — показывая на люстру, заявил Федя. — Вот клеймо — при царице Екатерине сделана. Тяжелющая чертяка. Пусть теперь освещает нашу веселую жизнь…
Варваре было тогда пятнадцать лет. Она обошла вокруг лежащей в пыли люстры и стала зачем-то протирать ее тряпочкой.
Люстру повесили в клубе. Позже в селе отстроили новый клуб, настоящий, с двумя зрительными залами, а в этом доме разместилась больница. Люстру оставили на прежнем месте. Только вместо свечей кузнец Михеев смастерил невысокие трубочки из белой жести, в которые можно было ввинчивать небольшие электрические лампочки.
Вспомнив все это, Варвара поняла, что находится в больнице. Как попала сюда — она еще не знала. Попытки восстановить в памяти происшедшее ни к чему не приводили. Каждый раз воспоминания обрывались на том месте, когда Федор, сбросив ее со своего плеча, толкнул ногой дверь и огородами пошел к лесу. Варвара начинала тяжело и беззвучно плакать.
— А вот плакать-то, волноваться в вашем положении и нельзя, — строго сказал ей молодой врач, недавно назначенный в районную больницу. Подчиняясь его голосу, Варвара краем простыни вытерла слезы.
Вскоре она начала поправляться. Повернув голову к окну, целыми часами смотрела на постаревшие, уже начинающие оседать сугробы, на чернеющий не по-зимнему лес. Иногда после обеда за окном звенела апрельская капель.
Однажды в больницу пришла Антипьевна, долго раскладывала на тумбочке какие-то банки, пирожки, крендели.
— Не пускают в палаты-то, — ворчала старуха, опрастывая сумку, — эти, как их? С крестами на лбах…
— Санитарки, — подсказала Варвара.
— Во-во, они. Уже на четвертый раз насилу пробилась к тебе. Это вот Михеева баба тебе гостинец послала, это Ваньки Прядухина старуха пирог испекла…
Опорожнив сумку, Антипьевна привычным жестом откинула полу больничного халата и села на краешек кровати.
— Ну как ты, Варварушка?
— Поправляюсь, Харитина Антипьевна, спасибо.
Старушка пожевала губами, снова оправила полу халата.
— Как там Витька мой?
— У вас баба Ваньки Прядухина живет. Ничего, смотрит, обстирывает. Он, Витька-то, перепужал всех до смерти. Прямо в контору прибег: мамка, грит, умерла. Народ кинулся, а ты лежишь, сердешная, и двери настежь… Врач сказывает, потрясение нервов какое-то и простуда. Легкое, говорит, застудила.
— За коровами моими кто ходит?
— Да я и хожу. Комолая отелилась. И первотелки тоже. Ты уж имей спокойствие…
Антипьевна ушла, а Варвара долго еще лежала не шевелясь и смотрела в окно. В ее темных глазах появился тот еле заметный блеск, по которому опытный врач безошибочно определяет, что больной начинает выздоравливать.
Выписалась Варвара из больницы, когда по всему селу играли ручьи, а возле скворешен суетились их возвратившиеся неугомонные жильцы. Витька бежал впереди матери, звонко шлепая сапогами по распустившимся лужам. Большая отцовская шапка то и дело сползала ему на глаза, и Витька поминутно поправлял ее. Варваре вдруг захотелось поднять сына на руки, поцеловать, прижать его к груди и нести до самого дома. Но Витька был уже почти у крыльца.
* * *
Что-то новое, задумчивое появилось в характере Варвары. Иногда, вечерами, она долго и печально смотрела на склонившегося над книжкой или тетрадкой сына, изредка вздыхала.
— Что ты, мама, так смотришь на меня? — спросил однажды Витька, быстро подняв голову.
Варвара вздрогнула, опустила глаза.
— Так, Витенька. На отца ты похож…
— Ну да… Ребята говорят: он сено колхозное пропил.
— А ты не слушай болтунов… — строго сказала Варвара и, словно побитая, ушла в другую комнату.
В эту ночь она не могла уснуть. «Дернуло меня за язык, — думала Варвара, ворочаясь с боку на бок. — Надо было как-то доказать Витьке, что это не так, что его товарищи ошибаются. Да как докажешь? Не маленький, все уже понимает…»
Ночами Варвара часто плакала. Но ее слез никто не видел. А днем, на работе она сторонилась людей, прятала от них глаза.
— Неразговорчивая ты стала какая-то, — сказала однажды Антипьевна, когда они с Варварой, почистив в стайках, присели отдохнуть на кучу почерневшей соломы.
— Не могу, Антипьевна, людям в глаза смотреть. Отдам я колхозу все сено, которое Федор пропил. Нынче вот получу на трудодни, сама накошу — и отдам.
— Да с тебя ведь никто и не просит. А может, Варварушка… — понизила голос Антипьевна, — ты уж прости на грешном слове… Может, тебе уйти из колхоза… к нему? А?
Варвара медленно покачала головой.
— Нет, Антипьевна. Некуда мне идти. Я тут родилась. Тут все кругом… родное.
Харитина Антипьевна расправляла старческой узловатой рукой на коленях полу своего клетчатого пальто, думала о чем-то и вздыхала.
— Я вот тоже не могу бросить коровушек. А вот уберу их — и спину разламывает… Не молодые годы-то…
Помолчав, Антипьевна тихо сказала:
— На селе-то разное болтают. Кто говорит: Варвара душой за колхоз болеет, потому сказала против Федора. А иные — съела, мол, мужа родного…
Глухо, смотря в сгущающуюся весеннюю темноту, Варвара проговорила:
— Где им понять? Федор — муж ведь, отец… Люблю его, проклятого. А жалею, что раньше не рассказала всего…
Крупные весенние звезды одна за другой загорались над притихшим селом. Иногда из леса тянул ветерок и приносил с собой запах распускающихся почек и перепрелых трав.
— Думала — поправить Федора. Переживем все, поймет он — и будем жить, как другие. А оно вон как вышло, — после долгого молчания проговорила Варвара, разламывая пальцами толстый полынный стебель.
Однажды Варвара подошла к зеркалу и увидела на голове седую прядь. Долго, словно в недоумении, она рассматривала неожиданно появившуюся седину.
— Мама, письмо! — звонко крикнул с порога Витька и вбежал в комнату. — Письмоноска меня сейчас встретила. На, говорит, отдай матери…
Варвара взяла письмо обеими руками, тихо охнула и, побледнев, прижала его к груди.
Это было первое письмо от Федора.
«Здравствуй, Варвара Ильинишна и сынок Витя, — писал Федор. — Вы, наверное, уже забыли меня, а я все думаю о вас. Ты извини, Варвара Ильинишна, что я тогда, в последний раз, пришел к тебе сильно пьяным. Эта водка чуть до тюрьмы меня не довела. Хотя оно, может, и лучше было бы, чем… Выкинули меня, как щенка за забор; ищи, мол, там свое счастье… А разве найдешь его здесь, коль потеряно оно в другом месте…
Сейчас я устроился на работу в городе на заводе. Дали мне квартиру, и вообще живу неплохо. Прошу тебя, Варвара, продай дом и приезжай ко мне. Держать тебя в колхозе никто не будет, потому как муж не колхозник…
Твой муж, Федор Крутояров».
Варвара несколько раз перечитала коротенькое письмо. От него веяло чем-то грустным и недосказанным.
Много раз она садилась за Витькин столик, чтобы написать ответ. Обмакнув ручку в чернила, крупными буквами писала: «Здравствуй, Федор Тихонович…» и задумывалась. Что писать дальше — она не знала.
Прошло две недели, а письмо дальше этих трех слов не подвигалось. Ночами Варвара снова плакала.
Пошли теплые весенние дни. Как-то Варвара вернулась со скотного двора, вымокшая до нитки, озябшая, и сразу же легла в постель.
Согревшись, она долго слушала, как крупные капли дождя барабанят по железной крыше, смотрела, не мигая, в темноту и думала… Думала о том, что несколько лет назад она точно так же лежала на этой кровати, так же смотрела ночами в темноту… Тогда ей не нужно было ничего писать Федору — он лежал рядом, и Варвара чувствовала его тугое и теплое плечо. Нужно было просто сказать мужу несколько слов. Но сказать их было не легко…
Тогда они с Федором только-только начали совместную жизнь. Молодой, недавно созданный колхоз, в который они вступили, был на краю гибели. Несколько лет подряд стояла засуха. Но беда, как говорят, не ходит одна. От неизвестной причины стал падать общественный скот. Заволновался народ, зашумели на сходах бородатые мужики.
— Дожились! Хватим с колхозом голодухи.
— Людей можно в колхоз согнать, а скотина — она не выдержит… Вся передохнет…
— Кто в колхоз, — тот против бога. Сейчас скотина — а там и люди дохнуть начнут… Бог — он не простит…
— Кулачье проклятое пропаганду пущает, — мрачно говорил Федор, приходя со сходов. — Всю скотину перетравили, а теперь на бога сваливают, сволочи…
— А что в народе-то говорят? — несмело спрашивал Варвара. — Не все же кулацкие песни перепевают.
— То и говорят… Поддержать колхоз надо, без скота ведь остались. Да кто же согласится последнюю корову отдать? Голодуха-то за спиной, кажись…
Помолчав, Федор внимательно смотрел на Варвару и произносил:
— А без скота колхозу сейчас труба… Это ясно.
Варвара догадывалась, куда клонит муж, но ничего не отвечала. Ночами перебирала в голове невеселые мысли.
Однажды утром встала, молча ушла доить корову. Когда вернулась в комнату, Федор, сидя на кровати, натягивал сапоги. Варвара отвернулась к печке, едва слышно произнесла:
— Отведи, Федя… чего уж.
Федор долго смотрел на ссутулившуюся у печки жену, потом подошел, крепко сжал ее плечи, но сказать ничего не мог. Да и что было говорить? Как отказывали себе во всем, сбивая деньги на корову, как продавали последнее Варварино пальтишко? Или о том, как после покупки коровы остались в избе голые стены? Обо всем было молча думано-передумано, и все сказано этими четырьмя словами, мучительно произнесенными Варварой почти шепотом.
Молча вышел Федор из дому, отвязал в сараюшке корову и пошел на колхозный двор. Варвара, не шелохнувшись, стояла у печки, боясь выглянуть на улицу…
В ту же ночь кто-то бросил увесистый булыжник им в окно. Федор выскочил с топором на улицу, но возле дома никого уже не было.
Сейчас, лежа в темноте, Варвара все отчетливей вспоминала далекое прошлое. И по мере того, как в памяти всплывали давно забытые подробности, ей становилось легче. Было такое чувство, точно воспоминания о старом, давно пережитом, унесли с собой всё тревоги, всю печаль с ее души. Она встала, накинула на плечи теплый вязаный платок и снова села за Витъкин столик.
«Мы получили твое письмо, — писала она Федору. — Мы тебя не забыли, думаем о тебе каждый день, а я так вся изошла слезами. Ты, может быть, обижаешься, Федор Тихоныч, что я так выступила на собрании. Да и в селе говорят, что я выжила мужа из колхоза.
А я, Федор Тихоныч, тебе добра желала. Ведь колхоз-то — наш, родной. Я недавно люстру в больнице увидела, которую ты принес от кулака, и у меня сердце облилось кровью. Ты сказал тогда: пусть она освещает нашу веселую жизнь. А сам же этой жизни стал врагом, может, и несознательным. Бригаду при тебе растаскивали по кусочкам, не мог ты бригадирить. А тут еще с Семкой Вершиным связался и стали пропивать с ним колхозное добро. Я все хотела это обсказать на собрании, чтоб тебя сняли с бригадиров, а поставили кого-нибудь способного. Нам же было бы с тобой лучше. А оно вон как вышло.
А к тебе в город я не поеду. Колхоз-то вырос на нашем поте. Вспомни, Федя, сколько пережили мы, пока колхоз не поднялся. Вспомни, как в трудный год отдали колхозу последнюю корову. Никто не просил, а отдали… и колхоз отблагодарил нас за это не один раз. Куда я со своего двора? А тебе скажу так: приезжай ты, Федор Тихоныч, обратно, повинись перед колхозниками, и они простят. Мы загладим свою вину и убыток колхозу восполним. Может, придется продать дом. Что ж, наживем еще…
Сынок тебе низко кланяется и тоже просит: приезжай.
Остаюсь твоя жена Варвара Крутоярова».
Примерно через год в Назаровке на общем колхозном собрании снова решался вопрос о Федоре Крутоярове. Собрание вела доярка Мария Степановна Антипова, женщина в годах, с твердым характером.
Председатель колхоза Захар Григорьевич прочитал заявление бывшего члена артели Федора Крутоярова о приеме его в колхоз.
В зале послышались голоса:
— Исключаем да принимаем — только делов у нас…
— В городе, чай, не понравилось, на колхозные хлеба потянуло…
— Опять добро колхозное мытарить будет…
— Заслушать его надо, пусть скажет народу…
Федор Крутояров,
сгорбленный, постаревший, поднялся на трибуну. На нем был новый темно-синий шерстяной костюм, шея замотана клетчатым шарфом. Голову Федор давно не брил, и даже при электрическом свете в волосах была заметна обильная седина.
Колхозники молчали. Сотни глаз осуждающе смотрели на Федора. И он не мог вынести этих взглядов, съежился и опустил голову.
— Говори, — властно раздался в тишине голос Акима Михеева и словно пригвоздил Крутоярова к трибуне. Если бы не этот голос, Федор, может быть, оставил бы трибуну и ушел… Куда? Все равно, только бы не видеть устремленных на него, насквозь прожигающих взглядов односельчан.
— Что ж, вот я перед вами… — глухо сказал Федор.
— Видим, — насмешливо отозвался чей-то голос, и тотчас же тонко звякнул графин. Федор не увидел, а скорее почувствовал, как Мария Степановна пригрозила кому-то пальцем.
— Вот я перед вами, — повторил Федор, не поднимая глаз. На этот раз в зале царило молчание. — Не потому, что в городе туго пришлось, жил там хорошо. А душа тут жила, в колхозе. Звал жену в письме в город — и все боялся, что приедет. Когда получил ответ, чтоб не ждал ее, — гора с плеч свалилась. Вот… не знаю, кто как поймет…
Федор замолчал, медленно, тяжело поднял глаза. Колхозники сидели не шевелясь, только Семен Вершин часто моргал глазами и мял в кулаке свою лисью шапку. Варвара сидела в заднем ряду и смотрела себе под ноги. Лицо ее было бледно, тонкие ноздри чуть вздрагивали.
— Насчет Семена Вершина что скажу? — опять начал Крутояров, обводя всех глазами. — Он, как сорока: садится на хребет обессиленной скотине и рвет мясо клочьями. А так сорока вроде и безобидная птица. У меня с работой промашки выходили… Не справлялся, понял теперь… Уходить с работы не хотелось: гордость дурацкая — что, мол, неужели не могу? Выходило, что не могу. Да чего бригаду довел — людям стыдно было в глаза смотреть… А Вершин тут как тут: «Ты у нас, Федор Тихоныч, правильный бригадир. А что люди болтают — плюнь и разотри, всем не угодишь. Пойдем ко мне с устатку пропустим по чарке…» Ну и шел, пил… А там до сена разговор доходил…
Колхозники заволновались, зал зашевелился. Кто-то уже встал и начал что-то говорить. Но Федор, качнувшись, громко продолжал, покрывая своим голосом возникший шум:
— Чего греха таить, что было, то было: будто и не видел потом, как родственники Вершина возами колхозное сено возили…
Колхозники сразу умолкли, пораженные не столько словами, сколько громким, твердым голосом Федора. А он, секунду помедлив, продолжал уже тише:
— Тогда на собрании кто-то говорил: судить, мол, Федора надо… С радостью принял бы это как должное. А вы… вы страшнее определили — выгнали из колхоза.
Голос Федора дрогнул, голова как-то неестественно дернулась, и он опустил повлажневшие глаза. Несколько минут длилось молчание.
— Эк, стелит… — визгливо хихикнул вдруг Вершин, глуповато моргая белесыми глазами. — Ему бы тюрьма-де лучше… И Вершина во всем обвинил: мол, сено он самовольно…
Со всех сторон колхозники зашикали на Семена Вершина:
— А ты молчи… Прокурор выискался…
— Тогда защитником был…
— Истинно — сорока, как Федор гутарит… Стервятник…
— Его бы из колхоза-то турнуть…
— Дайте сказать человеку…
— Говори, Федор…
— Что тут долго говорить? — продолжал Федор, когда шум немного утих. — Все уже сказал. Как получил письмо от Варвары — свет другим показался. Решил: прикоплю денег от зарплаты, внесу в колхозную кассу за убыток… за сено. А вам… и жене… спасибо за науку. На всю жизнь отметка теперь. А только нету у меня пути из колхоза…
Федор замолк и опустил голову, точно ожидая приговора.
Варвара в углу кусала край цветастого полушалка.
В зале долго стояла тишина.
— Кто, товарищи, желает высказаться? — спросила Мария Степановна.
— Как правление решило?
— Правление само собой, а как ваше мнение…
Сердце Федора тяжело отсчитывало удары. Там, в углу, так же гулко стучало другое, женское, сердце. И им обоим казалось, что этот стук слышат все, сидящие в клубном зале.
Федор смотрел куда-то в одну точку и думал, что молчание длится уже много часов, а он стоит… и ждет… И неизвестно еще, что будет, когда молчание кончится…
— Ну что ж, разрешите мне пару слов сказать, — послышалось, наконец, с середины зала…
С собрания расходились за полночь. К Федору кто-то подходил, что-то говорил, но он никого не видел, ничего не соображал. Пошатываясь, как пьяный, он спускался с высокого клубного крыльца, так и забыв надеть шапку. Где-то: еще в зале, или уже на крыльце — Федор не помнил — мелькнуло красное, кисло улыбающееся лицо Семена Вершина и растворилось в черной мгле. Скорее всего это было уже на улице.
Из Назаровки возвращались поздно. Мерзлый снег поскрипывал под ногами. Федор широко, по-хозяйски, шагал по узкой, протоптанной в снегу тропинке и с удовольствием прислушивался к звуку шагов. Так радостно и весело скрипеть под ногами снег мог только в родной деревне.
Вдруг Федор обернулся, сильно обхватил за плечи Варвару и прижался лицом к ее холодной, густо заиндевевшей на морозе щеке. Иней тотчас же растаял от прикосновения Федора, и он ощутил теплую приятную мокроту на лице жены. А может быть, Варвара плакала…
— Федя!.. Ты чего? Люди сзади идут…
Федор поцеловал жену в твердые морозные губы.
— Ничего, Варюшка, теперь заживем!
Дверь им открыл заспанный Витька. В сенях Федор взял сына на руки и внес в комнату.
Варвара включила электрический свет. Витька, еще совсем не соображая, кто его держит на руках, со сна тер кулаками глаза. Федор поднял его почти к самой лампочке, поцеловал в русые, спутанные волосы, проговорил:
— Ну, здравствуй, сынок!
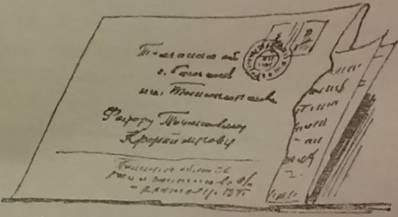
НОВОЕ СЧАСТЬЕ

1
Павлу определенно не везло с самого утра. Перед началом работы Ваське Сиротину выдали наряд на изготовление сложной детали ротора турбины для одной из гидростанций, а ему, Павлу, пришлось обтачивать какие-то болванки. Хотя, если говорить честно, не болванки, а тоже очень важные части для той же турбины. Но их мог изготовить и начинающий токарь. А он, Павел, справился бы с работой и посложнее, и не хуже Васьки.
В глубине души Павел считал мастера Федора Михеевича, распределявшего наряды, несправедливым. Однако выбирать ему не приходилось.
Обточив несколько деталей, Павел покосился на запасные резцы. Среди них лежал один, несколько иной конструкции, придуманной самим Павлом. По его расчетам, этот резец был намного прочнее обычных, им можно работать на повышенных скоростях. Павел много ночей тайком просидел над своими несложными чертежами.
Вот уже пять дней, как резец готов, а испытать его он не решался.
Павел взглянул на Сиротина. Тот работал спокойно и сосредоточенно. И тогда Павлу захотелось удивить всех, показать, что он умеет работать не хуже Сиротина. Почти бессознательно он вставил новый резец и пустил станок. Сердце его замерло.
Резец мягко чертил по металлу, снимая ровную стружку. Павел в волнении закусил губу и прибавил оборотов.
И вдруг станок задрожал, в привычный шум работающего цеха врезался пронзительный скрежет, от которого сразу зашлись зубы.
— Что вы делаете? Деталь испортили!
Павел остановил станок и резко обернулся. Позади стояла незнакомая девушка в синем халате с почти такими же синими глазами и осуждающе смотрела на Павла.
Пораженная бледностью его лица и метнувшимся испугом в глазах, она невольно отступила.
— Что же вы? Деталь… — повторила она тихим, немного жалобным голосом, но Павел не дал ей закончить.
— Знаете что? Уходите отсюда, — еле сдерживая себя, тяжелым шепотом угрожающе произнес Павел. — А то я могу… настроение вам испортить…
Крепко сжатые губы Павла тоже побелели. Девушка быстро повернулась и, громко стуча каблуками туфель по цементному полу, выбежала из цеха.
На другой день, придя на работу, Павел прочитал приказ директора завода, в котором ему объявлялся выговор за самовольное применение резца неизвестной конструкции и грубое отношение к практикантке З. В. Сиротиной.
— Как же ты, брат Павел? — спросил Васька.
— Да вот так… Кто же знал, что она… практикант? — машинально ответил Павел и тут же почувствовал, что говорит глупость.
— Все надо знать, — поучающе заметил Васька. — Могу сообщить вам следующее: ее имя, отчество — Зинаида Владимировна, ленинградка, студентка четвертого курса, проходит практику у нас на заводе. Моя однофамилица, — добавил он таким тоном, точно именно это было самым важным из всего сказанного им сейчас. — Год рождения, согласно анкетным данным… Хотите знать ее полную биографию?
— Не хочу, — отрезал Павел и ушел в цех.
В течение всего дня Павел не мог успокоиться. Мысли его то и дело возвращались к практикантке, которой он нагрубил вчера. Было стыдно за свое поведение, за выговор. О взыскании теперь знали все рабочие и обязательно будут говорить о нем на ближайшем комсомольском собрании. И потом — испорченная деталь! Брак! Вчера он один и допустил брак во всем цехе. Он, Павел, о ком поговаривали, что скоро, видимо, переходящий флажок «Лучшему токарю цеха» перекочует от Васьки на его станок. В ушах еще сейчас звучали укоризненные слова Федора Михеича: «Эх ты… рационализатор. Не ожидал такого самовольства от тебя, Павел. Уж от кого бы другого…»
Практикантка Сиротина исполняла обязанности сменного инженера. В этот день она не подходила к Павлу. Не отрываясь от работы, он знал, в каком конце цеха она находится, что делает. Когда ее каблуки стучали за его спиной, Павел краснел и еще внимательнее следил за обрабатываемой деталью.
2
Следующий день был воскресный. Павел решил идти на рыбалку. С вечера он подготовил свой спиннинг, заточил несколько якорьков. По дороге с работы зашел в магазин «Динамо» и купил две новые блесны. А утром вдруг раздумал. Надев полотняную косоворотку с расшитым воротником, отправился бродить по городу.
До обеда Павел просидел в парке, наблюдая за игрой городошников. Потом направился на почтамт перевести деньги матери в далекую деревню под Комсомольском.
На душе у него было неспокойно. Мрачно поглядывая на пестрые вереницы текущих по тротуарам людей, он думал о маленькой деревушке, где прошло его детство. Тогда все было хорошо, все на своих местах. Вспомнился подернутый синеватой дымкой Амур, длинные вечера на реке, неотвязчивые тучи выводивших из терпения комаров. Ночью в реке играла рыба и горели крупные звезды.
Смотря на эти звезды в воде, Павел любил мечтать о своем будущем. За какое дело взяться ему после окончания десятилетки? Павел любил механику, математические науки. Может быть, поступить в какой-нибудь технический вуз? Но учеба в институте будет продолжаться пять лет, а кто же в это время станет помогать матери? Она стара, ей давно уж пора бросить работу уборщицы. Но мать все-таки трудится, чтобы дать возможность Павлу закончить десятый класс. Может быть, после школы поступить куда-нибудь на работу? Например, на завод. А как же дальнейшая учеба?
Наконец получен аттестат зрелости, а Павел так и не решил, что ему делать дальше. Мать сердцем поняла состояние сына и однажды робко, участливо спросила:
— Ну вот, сынок, ты закончил школу. Что теперь будешь делать?
— Не знаю, мама. Устроюсь на работу куда-нибудь.
Мать несколько дней печально посматривала на Павла. Зайдя как-то утром в его комнатушку, она положила на стол большой сверток и сказала:
— Вот, примерь.
Павел развернул сверток: в нем был новый шерстяной костюм.
— Костюм? Где ты, мама, взяла столько денег?
— Откладывала из зарплаты помаленьку. В чем же в институт поедешь?
— В какой институт? Я не собираюсь, мама…
— Ладно, примеривай. Знаю я твои думки, сынок. Разве от материнского сердца скроешь их?
И Павел поехал в тот самый институт, о котором столько думал, сидя вечерами над Амуром.
Но здесь его постигла неудача. Павел не выдержал конкурса и не попал в институт. Подвела литература, по которой он получил оценку «три».
Все мечты рушились. Теплым августовским вечером он вышел из студенческого общежития и медленно отправился на вокзал, даже не сообразив, что у него нет денег на обратную дорогу. Вспомнив об этом на полпути, он остановился и растерянно посмотрел вокруг. На ближайшей скамейке сидел старик с выцветшими усами, дымил трубкой. Павел подошел к нему и сел рядом.
— Дайте закурить, папаша.
Старик удивленно поднял брови, промычал что-то и насыпал на ладонь табаку. Павел долго и неумело свертывал папиросу, закурил и закашлялся.
— Давно куришь? — спросил старик.
— Первый раз в жизни.
— Так, так, — промолвил старик и замолчал.
— А ты, папаша, денег не дашь? А то костюм купи. Новый, шерстяной.
Старик растерянно заморгал, крякнул и отодвинулся, Но Павел не стал дожидаться ответа, бросил папиросу и сказал:
— В институт я не прошел по конкурсу.
— Как же ты так?
— Так вот. Литература. Ну, прощай, папаша.
— Постой, постой, — задержал его старик. — Тебе деньги-то зачем понадобились?
…Они долго сидели еще на скамейке — незнакомый старик, которого звали Федор Михеевич, и Павел. Говорил больше старик, а Павел молчал и слушал.
— Токарь — это все равно, что профессор твой, понял? — горячо доказывал старик, пуская в темноту табачный дым. — Дают тебе, к примеру, болванку, кусок железа, а ты вещь из нее делаешь. Да такую вещь, что люди застывают в удивлении. Вон Васька Сиротин у нас… Шельмец, не хвалю, а на правильном пути человек.
Методы убеждения старика были несколько необычны, но Павел слушал внимательно. И ему казалось, что он давно знаком с этим человеком…
— Так поступай на наш завод, Павло. Приходи завтра утром и спроси в проходной мастера Михеича, меня, стало быть. Я перед директором слово замолвлю, чтоб в мой цех тебя…
— Я ведь, Федор Михеич, инженером хотел стать, — задумчиво произнес Павел.
— Да кто тебе мешает? — рассердился старик, со зла выколотил недокуренную трубку о край скамейки и снова набил ее табаком.
— Ты пойми: одно дело инженер институтский, не нюхавший металла, а другое — на заводе выросший, прямо у станка. Учиться и заочно можно. А ты уж крылья опустил, домой собрался…
Согласиться с мнением Федора Михеича, что «заводской» инженер лучше «институтского» Павел не мог, несмотря на многочисленные примеры, приведенные стариком. Однако и опровергнуть это он сейчас был не в состоянии. Опустив голову, Павел молчал.
— Ну, так как же? Решил?
— Нет еще.
— Тогда пойдем ко мне на квартиру, там решишь. Тут недалеко. Да пойдем же, не на улице ведь ночевать собираешься.
Федор Михеич поднялся и зашагал не оглядываясь. Павел посмотрел ему вслед, взял с земли чемодан и медленно пошел за стариком.
Об этой встрече со старым мастером Павел думал, пока наблюдал в парке за игрой городошников. Видимо, так уж устроена жизнь, что в трудную минуту обязательно встретишься с хорошим человеком.
Вспомнились также первые месяцы работы на заводе. Овладеть мастерством токаря оказалось не так-то просто. Порой Павел отчаивался и с горечью думал, что ему, видимо, не только институт, но и специальность токаря не по плечу. Несколько раз он хотел все бросить и уехать обратно на Дальний Восток. И, может быть, уехал бы, если бы не поддержали его Федор Михеич и Васька.
— Железо можно умом только победить и терпением, сердито шевеля усами, говорил мастер. — Ум у тебя вроде есть, а терпения не вижу.
— Молодо — горячо, — снисходительно усмехался Васька, хотя сам был даже на полгода младше Павла. Но тут же Сиротин гасил эту нотку превосходства профессионала перед новичком, подходил к Павлу вплотную и тихо говорил:
— Не так, Павел. Держи себя свободнее, будто у стола стоишь и картошку чистишь. Смотри, как я…
Со временем Павел научился «картошку чистить» не хуже Васьки.
Свою профессию Павел считал очень интересной и гордился ею. Он прикидывал в уме дальнейшие планы: надо попросить у администрации завода квартиру и перевезти к себе мать, купить учебники и помаленьку готовиться к приемным экзаменам в институт на заочное отделение…
Да, все, решительно все было хорошо до этого случая с выговором. А теперь, ему казалось, снова, как два года назад, когда он не сумел поступить в институт, рушились все мечты, все планы. Павел до сих пор недоумевал: «Как же так? У него — выговор?» Было обидно и стыдно. «Ведь если подумать, она во всем виновата, Сиротина. А почему, собственно, она? Выговор разве из-за нее? Кто виноват, что он самовольно применил новый резец. Новый! Какой он, к черту, новый! Вообразил невесть что. А оказалось — дрянь.
Нет, нет, все перепуталось.
Павел вспомнил, как Сиротина стояла перед ним и испуганно смотрела ему в глаза, затем резко повернулась и выбежала. Все случилось в несколько секунд. Гнев его сразу прошел. Он долго провожал ее взглядом и мучительно думал, откуда взялась она в цехе.
Подходя к почте, он до малейших подробностей припомнил всю эту сцену и подумал, что Сиротина с ним теперь никогда уж не заговорит. «Ну и не беда. И не нужно. А вот брак в работе — это хуже». Перед глазами встало осуждающее лицо Федора Михеича.
С такими мыслями Павел потянул к себе тяжелую дверь почтамта. У окна, где принимались денежные переводы и телеграммы, он вздрогнул и попятился. Но отступать было поздно.
— Пашка, привет! — громко, на весь почтамт, как показалось Павлу, закричал Васька Сиротин. — Удивительный случай! Можно сказать, первый за нынешнее лето. Знаменитый спиннингист нашего завода в воскресенье — и не на реке!
Последние слова Васька говорил, повернувшись к той самой практикантке Сиротиной.
Зина стояла у самого окна с телеграфным бланком в руке и улыбалась синими глазами. На ней была легкая кофточка из бледно-розового шелка и голубенькая юбка. Павел покраснел и вдруг подумал, что в цехе, в синем халате, она выглядела намного старше и красивее…
— Ну что ж, знакомьтесь, — небрежно сказал Васька и, чуть помедлив, добавил: — Так сказать, в более мирной обстановке.
Зина посмотрела на Сиротина, и в глазах ее на мгновение промелькнуло выражение досады, чуть заметного недовольства. Потом она снова подняла глаза на Павла и произнесла:
— Здравствуйте, Павлик! Вы на меня не сердитесь?
— Ну, что вы… Я… видите, мне нужно… Я зашел деньги перевести матери, — окончательно смешался Павел.
«Дернул черт меня именно сейчас сюда зайти, — думал он, заполняя переводный бланк. — Тоже встреча! А Васька уж в кавалеры успел записаться… Павлик! Что я ей, ребенок?»
Его больше всего смутило это — Павлик! Он помнил: так в детстве звала его мать. Но тогда он действительно был маленьким. А сейчас… Сейчас Павел считал, что давно вырос из того возраста, когда его имели право называть Павликом.
Он нарочно, как можно медленнее заполнял переводной бланк и пропустил вперед себя к окошечку вне очереди несколько человек в надежде, что Зина и Васька уйдут. Потом подошел к прилавку, где продавали газеты и книжки, долго смотрел в витрине журнал «Крокодил». А когда вышел на улицу, снова увидел их: возле киоска Васька настойчиво угощал Зину мороженым.
— Ну, вот он, примерный сын, пожалуйста, — недовольно буркнул Васька.
— А мы вас ждали, Павлик, — улыбнулась Зина. — Мы с Василием осматриваем город. Вернее, я осматриваю, а он мой проводник. Идемте вместе.
Павлу ничего не оставалось, как согласиться.
Они медленно шли по направлению к реке. Зина поминутно спрашивала о чем-то, отвечал ей Васька. Павел от самого почтамта не проронил ни слова, чувствуя, что положение его становится уже смешным. Надо было что-то говорить, нельзя же всю дорогу идти молча. Но что сказать — не знал.
Над рекой стоял гомон сотен людей, который можно слышать в жаркий день на любом большом пляже. От пестроты купальных костюмов рябило в глазах.
— Жарко. Вы не хотите искупаться? — спросила вдруг Зина.
— Я не любитель полоскаться в этой грязной луже, — сказал Васька, показывая на пляж. — Идемте лучше в парк.
— А у меня лодка есть, хотите покататься? — неожиданно проговорил Павел и сам испугался своего голоса.
— У вас лодка? — не поняла Зина.
— Ну да, лодка. Моторная. Только мотор сейчас в общежитии, так мы на веслах.
— Да, конечно, хочу, Павлик! Идемте, — нетерпеливо воскликнула Зина и, смутившись чего-то, виновато посмотрела вокруг.
Мало-помалу Павел приходил в себя. Сидя рядом с Васькой и работая левым веслом, он смотрел на Зину и думал, что она, в сущности, очень простая и общительная девушка. Казалось, что там, в цехе, была вовсе и не она, а кто-то другой. И как он мог нагрубить ей — уж не представлял. Все это казалось сейчас досадным, непростительным…
Несколько минут плыли молча. Зина сидела на корме, поджав под себя ноги в белых босоножках.
— Ну, вы как знаете, а я искупаюсь, — неожиданно для самого себя заявил Павел. Быстро скинув рубашку и брюки, он прыгнул в воду. Последнее, что он заметил, удивленный, немного встревоженный взгляд Зины, ее крик, когда он, прыгая, чуть не опрокинул лодку.
Вынырнув, Павел не оглядываясь, поплыл в сторону. Повернувшись, чтобы плыть обратно, он почти рядом с собой увидел в воде Зину.
— Я вас чуть не догнала, — засмеялась она, тоже поворачивая обратно.
— Теперь вы попробуйте…
— Тогда держитесь…
Однако догнать ее было невозможно. Он едва проплыл половину пути, а Зина была уже в лодке.
— Да, здесь ты слаб, Павло, — протянул Васька, когда все снова были в лодке. — Опозорился, так сказать.
Выжимая волосы, Зина улыбнулась:
— Ничего особенного. У меня первый разряд по плаванию.
Васька даже присвистнул. Павел только посмотрел на Зину, но вдруг смутился, неловко схватил консервную банку и стал старательно вычерпывать воду со дна лодки.
А все-таки это был чудесный день!
Вечером Павел долго ходил по пустынным улицам возле заводского общежития, думая о чем-то очень неясном и далеком. Сквозь разросшиеся тополи просвечивало темно-зеленое небо. В холодной вышине устало мерцали бледные звезды.
В общежитии Павел быстро разделся и лег в постель. Ребята, с которыми он жил, куда-то ушли. Сверху, из читального зала, доносился девичий смех и звуки аккордеона: там молодежь устроила танцы. Один бас аккордеона западал, и Павел определил, что это играет Васька на своем инструменте.
Павел лежал на спине, заложив руки под голову, слушал льющийся сверху жизнерадостный смех и долго смотрел в потолок.
3
Каждое утро Зина, проходя по цеху, на несколько секунд останавливалась возле Павла и говорила: «Здравствуй, Павлик». Павел отвечал: «Здравствуйте», и продолжал готовить станок к работе.
В синих глазах Зины вспыхивал колючий огонек, она поворачивалась и шла дальше. Васька Сиротин краем глаза следил за этой сценой, повторяющейся ежедневно, и ухмылялся.
— «И злобу в сердце затая, он отвечал ей лишь презреньем», — продекламировал однажды Васька, когда они с Павлом выходили вечером из ворот завода:
— Ты к чему это? — не понял Павел.
— К тому. Дурак ты, Павел, дуешься, сам не зная на что. Честное слово, Зинаида Владимировна этого не заслуживает.
— А я-то при чем?
— При том… Ну, привет, спешу я. Будешь постарше — поймешь.
И Васька свернул в переулок, что-то насвистывая под нос.
Разговор с Сиротиным оставил в душе Павла какое-то раздвоенное чувство. В голосе и словах Васьки Павел уловил что-то вроде участия и в то же время едва заметную насмешку, какие-то нотки превосходства. У Павла испортилось настроение. «Будешь постарше — поймешь…» Что же в конце концов хотел сказать Васька?» — думал он, шагая к общежитию.
С Зиной Павел решил больше не встречаться. Да и зачем? Скоро она уедет с завода. У нее будет своя жизнь, свои интересы. А у него, Павла, свои, маленькие, как ему казалось. Во всяком случае, не такие, как у Зины. Правда, он тоже скоро поступит в институт. Но это еще когда будет… Больше они не встретятся. Мало ли к ним приезжало на завод студенток на практику? И ни одну из них он больше не видел. Да и вообще, стоило ли думать обо всем этом.
Но Павел, однако, думал, не отдавая себе отчета — почему.
Встретиться Павлу с Зиной все-таки пришлось. Это произошло примерно через месяц, снова на реке.
Однажды в выходной день Павел встал очень рано, перекинул через плечо полевую сумку с принадлежностями спиннингиста, взял чехольчик с бамбуковым удилищем и, захватив в мешке небольшой двигатель для моторной лодки, направился к реке. Солнца еще не было. Город только просыпался. Пустынная река чуть позванивала ленивыми волнами о прибрежные голыши. В его лодке, подперев обеими руками подбородок, сидела Зина и, не шевелясь, смотрела на реку. Она не обернулась даже на шум его шагов.
— Зинаида Владимировна?.. Это вы? Что вы здесь делаете? — удивленно спросил Павел.
— Смотри, Павлик, какая красота! — медленно сказала Зина. — Река отдыхает после вчерашнего дня. Пройдет еще полчаса, она проснется. Люди ее разбудят. И она обрадуется, заплещет волной… Ничего на свете нет чище и красивее, чем рассвет над рекой. Как ты думаешь, почему люди так любят реки?
— Я не знаю… Я никогда не думал об этом.
— Знаешь, Павлик, наверное, каждый у реки чувствует себя лучше, чем он есть на самом деле. Да, лучше и… может быть, красивее…
Зина умолкла, продолжая смотреть на воду. Павел смущенно топтался возле лодки.
Потом Зина встала, посмотрела на него и улыбнулась.
— Я знала, что ты сегодня поедешь ловить рыбу. Возьми меня с собой. Ведь скоро я покидаю ваш город…
Зина говорила неправду. Она совсем не знала, поедет ли он сегодня рыбачить. Уже третье воскресенье она приходила утрами к реке, садилась в лодку и ждала его. Но он не приходил. Когда солнце поднималось высоко, Зина уходила в город. Павел пришел только сегодня.
Почему она делала это, Зина, пожалуй, и сама не знала. Временами ей казалось, что Павел получил выговор только из-за нее. Надо же было тогда расплакаться в кабинете директора и все рассказать ему. Позднее она поняла, что молодой токарь очень виноват. Без ведома дирекции он стал испытывать какой-то новый резец. Но странно — у нее было ощущение, точно и она в чем-то провинилась перед ним. Ей хотелось помириться с Павлом, познакомиться поближе. Но получилось обратное. Он ее не замечал. При встречах молчал и при первой же возможности старался уйти. Может быть это больше всего и задевало Зину.
«Уеду, он будет плохо думать обо мне. Надо помириться с ним», — все чаще думала она. Но как — не знала. Однажды она случайно увидела его в магазине покупающим рыболовные крючки. Зина вспомнила слова Васьки Сиротина о том, что каждое воскресенье Павел пропадает на рыбалке. И ей пришла в голову мысль, от которой она загадочно улыбнулась: ведь ничего нет проще, как придти утром к лодке и ждать его. Только удобно ли это? А впрочем…
Зина с насмешкой относилась ко всяким условностям. Понятия «прилично» или «неприлично» она оценивала весьма своеобразно: прилично то, что ей необходимо, что делается всегда честно и открыто.
Дважды она приходила на реку напрасно. В первый раз, сидя в лодке и поеживаясь от утреннего холодка, она думала, что в Ленинград уже, наверное, возвратились с практики все ее однокурсники. Подруги каждый день наведываются к ее матери: не приехала ли Зина. Мать говорит, что нет, не приехала еще, и тяжело вздыхает.
С тех пор, как папа погиб во время войны при бомбежке завода, мама всегда вздыхает. Когда утром или вечером раздаются заводские гудки, мама чуть вздрагивает и говорит:
— Слышишь, Зиночка, папин завод загудел.
— Да что ты, мама! Они все одинаково гудят. Разве поймешь, какой папин?
— Нет, доченька, у этого завода особенный голос…
Смешная мама!.. Папин завод, папина улица, по которой он ездил на работу, папина библиотека…
— Вот отец даст тебе за беспорядок, — строго говорила мама, когда Зина рылась в книжном шкафу. Так и говорила, будто папа куда-то отлучился и скоро придет. Для мамы он всегда был жив, всегда рядом, — так ей, видимо, было легче. Когда Зина делала какой-нибудь маленький проступок, мать смотрела на нее спокойными, немного усталыми глазами и говорила:
— Зиночка, папа за это не похвалит, ты же знаешь…
В технический вуз Зина поступила тоже потому, что так хотел папа. И, откровенно говоря, институт ей сначала не понравился. Но только сначала. Проучившись год, она ясно представила себе, что такое инженер, и удивлялась тому, что когда-то мечтала стать учительницей русского языка и литературы, как мама. Эта профессия казалась ей теперь скучной, а главное — очень легкой. А Зина хотела быть там, где труднее. Учительница и инженер!.. Второе слово даже звучит как-то более гордо и… И хорошо, что так хотел папа, — замыкался круг ее мыслей.
Встряхнув головой, Зина смотрела на трепещущие в реке солнечные блики и снова начинала думать о маме. Она уже ждет телеграммы о выезде Зины и по нескольку раз в день заглядывает в почтовый ящик, приколоченный к двери. А я вот сижу здесь и жду кого-то… Мама бы обязательно спросила: «Зиночка, а как на это посмотрит папа?» И в самом деле, что бы он сказал о Павлике?
Зина вздрогнула от такой мысли, а потом рассмеялась. До чего не додумаешься, сидя в одиночестве у реки! При чем тут Павлик? Вернее, при чем папа? Или нет, почему папа? А может быть…
Разобраться, кто при чем, Зина так и не могла и с досады стукнула кулаком по краю лодки. От ее движения лодка качнулась, и Зина испуганно соскочила на берег. И только тут обнаружила, что солнце поднялось довольно высоко, а Павлика нет.
Днем Зина приходила на реку искупаться. А может быть не только искупаться, но и взглянуть, здесь ли лодка. Лодка покачивалась на зеленоватых волнах, привязанная к коряге. Это почему-то раздражало Зину, и она думала: «Все равно дождусь, хоть и практика закончится…»
Через неделю снова была утром у лодки. Устроившись поудобнее, она насмешливо смотрела куда-то вдаль, на другой берег, дрожащий в синеватом предутреннем тумане. В душе она смеялась над собой. «Зачем пришла, дура? Ну и сиди вот здесь, как пень»… Что-то поднималось у нее внутри непокорное, гордое и вместе с тем беспокойное, щемяще-тоскливое. И все-таки она знала, что будет сидеть здесь и ждать.
Зина привыкла глубоко осмысливать происходящее вокруг, добираться до сути каждого явления и оценивать его беспристрастно, даже если при этом страдает ее гордость и самолюбие. Но сейчас впервые в жизни она не могла разобраться в происходящем, дать правильную оценку своим действиям и поступкам. Ну, в самом деле, что ее заставляет сидеть здесь и ждать его? Любовь?
«Глупости. Любовь не может начаться так вот, ни с того, ни с сего, — думала Зина. — Да и уеду скоро. Но и уехать, не выяснив чего-то… Но чего?»
Мысль ее не находила дальше опоры, блуждала где-то в темноте и возвращалась к исходному — почему?
Встречая нового человека, Зина сразу и почти безошибочно определяла его характер. «Бирюк и… и грубиян, кажется», — подумала она о Павле.
Однако через день на реке убедилась, что он совсем не похож на грубияна, да и, пожалуй, на бирюка. Просто в его характере была некоторая замкнутость и большое упрямство, что иногда принимают за грубость. Этот человек, видимо, медленно и нехотя открывался людям. А Зине всегда хотелось сделать то, что недоступно другим…
Сейчас, сидя на носу лодки, она поглядывала на молчаливого Павла. Зина видела, что он был недоволен. «Интересно, что он думает обо мне?» Она рассмеялась и спросила:
— Павлик, скажи честно, что ты думаешь обо мне?
— Я? — Павел поднял на нее глаза и смутился. — Я ничего не думаю. То есть я думаю, но… — и замолчал.
Лодка быстро скользила по воде. Павел неожиданно направил ее в заросший ветлам и заливчик, заглушил мотор и поспешно схватил спиннинг.
— Щуки здесь попадаются огромные… Сейчас попробуем…
Он размахнулся удилищем. Катушка разматывалась с легким жужжанием, и блесна упала далеко от лодки. Выждав несколько секунд, Павел начал подматывать леску.
Зина и раньше видела, как рыбачат спиннингом, и без всякого интереса наблюдала за действиями Павла, думая о том, что он так и не ответил на ее вопрос, да и вообще вряд ли ответит когда-нибудь.
Павел усиленно хлестал по заливчику спиннингом, но рыба не попадалась. Но он все же продолжал забросы, лишь бы не остаться без дела. Тогда она опять что-нибудь спросит, а что отвечать — он не знал.
— Здесь и рыбы-то, наверное, нет, — заметила Зина, опуская в воду руку. — Поедем в другое место. Ой!..
Лодка чуть не перевернулась от резкого толчка: Павел слишком неосторожно сделал подсечку.
— Села! — крикнул он, задыхаясь от волнения. — Огромная, дьявол. Только бы не сошла. А ты говоришь — нету рыбы! — возбужденно сказал Павел, не замечая в охватившем его спортивном азарте, что говорит Зине «ты». Не заметила этого и сама Зина. Она только поняла, что на крючок поймалась большая рыба. Туго натянутая леска со звоном рассекала воду с правой стороны лодки. Потом леска вдруг сразу ослабла, и сердце у Зины заколотилось.
— Ой! Ушла, сорвалась!
— Не сошла, погоди… — бросил ей Павел, торопливо вращая катушку.
Леска снова натянулась. И в это же время из желтоватой глубины, согнувшись дугой, показалась огромная рыба. Сверкнув белесым брюхом, она снова исчезла в глубине.
— Ушла, Павлик, ушла!..
— Да не ушла, говорю тебе, — сердито крикнул Павел. — Сейчас мы ее выудим.
Зина притихла и как-то испуганно и вместе с тем восхищенно смотрела на Павла. От его недавней неловкости не осталось и следа.
Рыба несколько раз уходила в глубину и снова показывалась на поверхности. Наконец Павел подвел ее к самому борту лодки. Огромная обессилевшая щука лежала кверху брюхом неподвижно, словно мертвая. Схватив багорик — стальной крючок, привязанный к палке, Павел резким движением подцепил щуку и бросил в лодку. И здесь она вдруг забилась, звонко шлепая хвостом по мокрому днищу, забрызгав Зину. Павел ударил рыбу по голове железным ключом. Она вытянулась, мелко задрожала хвостом и затихла. Зина с осуждением посмотрела на ключ, который Павел все еще держал в руках. Он виновато сказал:
— А как же? Не оглушить — она выпрыгнет из лодки…
— Все равно. Это жестоко, Павлик.
— Ну вот, жестоко… Тогда и ловить не стоило, — ответил Павел, отцепляя якорек. Зина удивилась: как это щука, не разобравшись, хватает железо.
— Хищная рыба. Она все хватает, что блестит и двигается, — пояснил Павел. — А вообще, конечно, глупая…
В заливчике они еще поймали несколько щук и двух окуней. Каждый раз, когда Павел делал подсечку, Зина громко вскрикивала и все боялась, что рыба уйдет. Потом даже сама пробовала рыбачить, но у нее ничего не получилось. Первый урок закончился тем, что она глубоко разрезала якорьком палец.
— Пустяки. У меня на такой случай йод есть. Бывает так, поранишь руку о рыбьи зубы, потом месяц болит. А это быстро заживет, — тихо говорил Павел, перевязывая ей палец. Они сидели рядом. Зина доверчиво протянула ему руку и случайно коснулась его плечом. Павел поспешно отодвинулся.
На небольшом островке, густо заросшем ветлами и черемухой, пообедали. Пока Павел варил уху, Зина обошла весь остров и вернулась с огромным букетом из кипрея и подмаренников.
— Удивительно, какие цветы на этом островке, — сказала она, усаживаясь на песке.
— Ничего особенного, — ответил Павел, подкладывая хворост под котелок. — Я читал где-то, что кипрей и подмаренник растут на заливных лугах. А этот островок весной затопляют полые воды. У нас много здесь таких цветов.
Зина посмотрела на Павла, но ничего не сказала и задумалась.
Уха была необыкновенно вкусной. Она пахла немного дымом. После обеда они купались, а потом долго лежали на горячем песке.
— Ты так и не ответил мне, Павлик, что же все-таки думаешь обо мне, — тихо спросила Зина, пропуская сквозь пальцы горсть мелкого тяжелого песка.
— Как что думаю?
— Ну, вот что я… пришла сегодня утром к лодке.
— Не знаю, Зина… Может и не надо было… А вообще хорошо это.
Павел первый раз назвал ее просто по имени и сразу почувствовал, что щеки его горят.
— Хорошо?
— А может, плохо. Ты ведь уедешь…
— Уеду, — вздохнула Зина. И, помедлив, спросила еще тише: — Скучать будешь?
Павел усмехнулся, и Зине послышалось в его смехе что-то холодное, искусственное.
— Нынче в институт поступаю, на заочное, — сказал вдруг Павел.
Зина обиженно молчала, смотрела прямо перед собой в песок и думала, что теперь он опять замкнется в себе. Его душа понемножку, очень робко раскрывалась перед ней, — и вот, все испорчено одной фразой. «Надо было задавать этот глупый вопрос!..»
— А вот ты обязательно будешь скучать, — неожиданно произнес Павел.
— Я? Почему?
Павел кивнул в сторону видневшегося завода, убежденно сказал:
— По нему нельзя не скучать. — И, помедлив, добавил:
— Иначе не стоило тебе и на инженера учиться.
— Смешной ты, Павлик. Неужели ваш завод такой уж хороший? Ведь есть и другие, еще лучше.
— Есть, — неожиданно согласился Павел. — Но этот — первый, где тебе пришлось поработать.
Павел опять долго молчал, обдумывая что-то. Не глядя на Зину, еле слышно заговорил:
— Знаешь, бывает иногда… встретишь девушку и… Ну, как там… Понравится она тебе… А потом еще много девушек будешь встречать. Может, лучше, красивее. А все не то, не то. Лучше-то все равно уж не найдешь. А кто ищет, — глупый, по-моему, человек…
— Завод, девушка… Смешной ты, Павлик, — повторила Зина, чувствуя, что голос ее звучит тоже неестественно.
Из кустов вылетела бабочка-крапивница и села на мокрый песок. Зина, наблюдая за ней, думала, что действительно скоро уедет и, кажется, будет скучать по заводу. А Павлик, неловкий, чуть грубоватый, так и не понятый до конца, Павлик, может быть, еще много раз будет отдыхать на этом островке и, может быть, снова увидит здесь такую же бабочку…
4
Уезжала Зина ранним августовским утром. На вокзал провожать ее пришли несколько незнакомых Павлу девушек из конструкторского, Васька Сиротин и почему-то старый мастер Федор Михеевич. Васька Сиротин что-то говорил девушкам, они беспрестанно смеялись и колотили его по спине кулаками. Павел подумал, что все это время он ждал чего-то радостного, значительного, а ничего не случилось. С Зиной после рыбалки так и не пришлось поговорить. Правда, они несколько раз ходили в кино и раз на концерт заводской самодеятельности. Но возле Зины всегда был Васька Сиротин и какие-то девчата. А теперь вот она уезжает и, конечно, забудет все: и завод, и город, и…
Поезд должен отойти через полчаса. Васька ушел за билетом для Зины, а девчата разбежались по вокзалу купить что-нибудь ей в дорогу. С Зиной остались только Федор Михеевич и Павел.
— Так вы, голубушка Зинаида Владимировна, не забывайте нас, — проговорил Федор Михеевич и вытащил из кармана свою почерневшую трубку. — Вот скажете — зачем старый дурак на вокзал притащился…
— Ну, что вы, Федор Михеич! — воскликнула Зина, беря его под руку.
— Ну-с, не скажете, не скажете, хорошо. Я так, к слову. А ведь я, Зинаида Владимировна, пятый десяток на этом заводе. Да-с, пятый. Сам строил его. Был каменщиком, плотником. Вся моя жизнь тут прошла…
Старый мастер долго набивал табаком трубку.
— За всю-то жизнь сколько молодежи через мои руки прошло!.. Многие сейчас уже мастера да инженеры. Кое-кто и выше пошел. Василий Семенович Береговой, слышали, конечно? Директор завода на Урале. По его книжкам учитесь. А пришел ко мне пятнадцатилетним пареньком: «Хочу токарем стать…» Вот так всю жизнь я с молодежью. Люблю вас, беспокойных. Самому-то бог не дал сына или дочку… Павел, сбегай-ка за спичками. Забыл по старости, вот оказия…
Павел ушел покупать спички. Когда вернулся, Федор Михеевич дымил трубкой на весь перрон, а девчата щебетали возле вагона.
— Ну вот, Павлик, и расстаемся. А я так полюбила ваш город, — сказала Зина, впервые обращаясь к нему в то утро. Павел заметил в ней какую-то перемену, пока бегал за спичками. Синие глаза ее были грустны. Зина помолчала и добавила: — И реку тоже полюбила…
— Да, река у нас хорошая, — только и нашел что сказать Павел.
— Хорошая, — еле слышно повторила Зина. — Все это я никогда не забуду. Возьми от меня на память, — она протянула ему только что купленный томик стихов Лермонтова и, не глядя на Павла, вскочила на подножку вагона.
Весь этот день Павел работал, чувствуя какую-то пустоту в цехе.
Вечером, после ужина, сразу же лег в постель, долго лежал, смотря в темное окно, ни о чем не думая. Затем взял с тумбочки подаренную книжку. На первой странице был написан адрес и приписка: «Если вспомнишь когда-нибудь две наши прогулки по реке, — напиши мне, Павлик».
Павел захлопнул книжку и сунул ее под подушку. Потом вынул, положил в чемодан и запер зачем-то его на ключ. Кто-то из жильцов вошел в комнату и, укладываясь спать, стал рассказывать о только что просмотренной кинокартине. Павел так и не мог понять, кто это и о чем рассказывает. Быстро одевшись, он выскочил на улицу…
5
Каждый вечер, возвращаясь с работы, Павел теперь подходил к швейцару Марье Васильевне и спрашивал, нет ли ему письма. Чаще всего старушка отвечала, не прекращая своего вязанья, что нет.
— Да и писем-то сегодня было всего пять-шесть, — добавляла обычно она. — Завтра, должно быть, придет тебе, Пашенька.
Однажды, в начале декабря, Марья Васильевна вручила ему сразу письмо и телеграмму. Павел, взглянув на ленинградский штемпель на письме, убежал в комнату.
Вскрыл сначала телеграмму: «Встречай четвертого Зина», — прочитал он, ничего не понимая. «Как же так? Значит, она едет к нам? А учеба?»
В комнату вошел Васька Сиротин. Павел протянул ему телеграмму.
— Ну и что? — спокойно спросил Васька, прочитав.
— Как что? Зина едет!
— Ну, допустим, это я понял. А дальше?
— А я не понял? Что она, бросает учиться?
— Возможно. Любовь требует жертв. Чтобы расшифровать таинственную телеграмму, нам остается одно — прочитать письмо.
Тут только Павел вспомнил о письме.
«Здравствуй, Павлик, — писала Зина. — Скоро еду к вам на завод, на преддипломную практику. Снова встречусь с тобой, с Федором Михеичем, с Васей Сиротиным… Признаться, я еще летом, когда ездила на рыбалку, решила преддипломную практику провести у вас. Но окончательное решение
приняла недавно. Пробуду у вас месяца два-три, вернусь в институт защищать диплом, а потом… потом приеду на работу на ваш завод. Все-таки уговорил меня Федор Михеевич.
Ты помнишь, Павлик, как бегал за спичками для Федора Михеевича? Мне кажется, он нарочно отослал тебя. А сам принялся уговаривать меня приехать после учебы на работу к вам. Я обещала подумать… Но старик не оставлял меня в покое. Он часто писал мне (между прочим, чаще, чем ты) и все время звал на завод. В конце концов я дала ему слово, что приеду. Не знаю уж, как получилось.
Теперь о резце, из-за которого ты испортил деталь, из-за которого, в сущности, мы и познакомились. В твоих расчетах я нашла ошибку. Показала чертеж одному нашему профессору, он заинтересовался. Мы изготовили по исправленным чертежам новый резец, испытали его в институтской мастерской. Результаты превзошли все ожидания. Посылаю тебе новый чертеж. Испытай резец сначала сам в производственных условиях (только не тайком, как тогда, а с ведома дирекции). Мне кажется, что скоро твоим резцом будут работать все токари вашего, вернее, мне надо говорить теперь уже — нашего завода.
Вот пока все. При встрече поговорим подробно. Я уже готовлюсь к отъезду. Не дождусь того дня, когда сяду в поезд…»
Павел прочитал письмо залпом, потом, немного успокоившись, прочитал еще раз, уже медленнее. Затем, как и телеграмму, протянул его Ваське.
— Да-а! Что я скажу? Везет тебе, Павлуха, вот что, — заключил Васька, закончив чтение.
— Как везет?
— А так… Думаешь, Михеич ее уговорил? Черта с два… Это девичий маневр. Хитрость…
— Болтаешь ты, сам не знаешь что, — перебил его Павел, пряча письмо. Однако, может быть впервые, он не почувствовал раздражения от Васькиных слов.
— А знаешь, о чем я думаю? — спросил Васька помолчав. — Что-то ты меня всегда обходишь, в дураках оставляешь.
— Не пойму тебя…
— Поясняю, — спокойно продолжал Васька. — Кем ты был, когда пришел на завод? Кто тебе помог в работе? Я помог. А ты не постеснялся, обогнал меня и флажок отобрал.
— Ну, так, — проговорил Павел, еще не понимая, куда клонит Васька.
— Пойдем дальше. Кто первый познакомился с Зиной? Я. Наконец, чья она однофамилица? Моя. А кому письма она шлет? Тебе. Кого она… В общем, ясно, — и тут ты меня обошел.
— Ну, и что? — хрипло спросил Павел.
— А ничего, — весело и искренне ответил Васька. — Я ведь, Пашка, признаться, завидую тебе. Но я не обижаюсь. Значит, чем-то ты…
Васька не договорил. Улыбка как-то сразу сошла с его лица, он осекся на полуслове, махнул рукой и выбежал из комнаты.
Павел пожал плечами, взял с тумбочки книгу, сел на стул, принялся машинально листать ее. В эту минуту он думал о том, что на земле много прекрасного, много хороших и красивых людей. В каждом человеке есть что-то свое — красивое и хорошее. А люди иногда проходят мимо друг друга, даже работают вместе и не замечают этой красоты…
6
Зину встречали, кроме Павла, Федор Михеевич, Васька и те же девушки из конструкторского, которые провожали ее. Федор Михеевич поминутно спрашивал у сердитого дежурного по вокзалу, не опаздывает ли поезд, а Васька зачем-то беспрерывно выскакивал на перрон. Когда по радио сообщили, что поезд вышел с соседней станции, у Павла сильно заколотилось сердце.
Поезд устало подкатил к перрону и, облегченно вздохнув, остановился. Зина вышла из вагона с маленьким чемоданчиком в руках, вскрикнула и подбежала к Федору Михеевичу. Потом обрадованно запищали девчата и кинулись ее обнимать.
— Вот оно ведь как, заждались тебя, голубушка, право, заждались, — басил Федор Михеич, улыбаясь слезящимися от ветра глазами.
После всех Зина подошла к Павлу.
— Ну, вот и опять… Здравствуй, Павлик, — и Зина замолчала, не зная, что сказать дальше. Павел долго держал ее холодную руку, потом, заметив это, смутился. Он молча взял ее чемоданчик и пошел к выходу в город.
Все произошло обычно, как-то серо и обыденно. Но, придя потом на завод, Павел до конца рабочего дня был возбужден и немного рассеян.
Вечером они с Зиной пошли за город на лыжах. Ветер стих, и улицы медленно тонули в синеватом тумане. Первые звезды робко проглядывали в холодном небе.
— Я так рада, Павлик, что снова приехала к вам, — сказала она, остановившись на высоком берегу реки. Река лежала внизу, закованная льдом, залитая голубоватым мерцанием. Выбившиеся из-под вязаной шапочки Зинины волосы заиндевели. Освещенная неярким светом луны, Зина, как тогда, на лодке, казалась очень маленькой, красивой и далекой.
— А ты? — помолчав, спросила она. — Ты рад?
— Я? Конечно. Я очень… Мы все очень тебя ждали, Зина.
— Все? — переспросила она, поворачиваясь к нему. Потом так же резко отвернулась, скрипнула палками и скользнула вниз.
Возвращались они поздно. Город спал, только кое-где в окнах горели огни. Скрип снега под лыжными палками гулко раздавался в морозном воздухе.
— А ты редко писал мне, Павлик, очень редко, — сказала Зина, останавливаясь возле квартиры Федора Михеича, где теперь жила.
— Боялся надоесть своими письмами.
— Ой, какой ты!.. — воскликнула Зина, стукнула лыжной палкой по утоптанной дороге и отвернулась. Потом тихо и печально сказала: — Я так ждала твоих писем!
— Зина! — Павел схватил ее за плечи и повернул к себе. Влажные глаза ее при лунном свете блестели, казались черными. Она не опустила их, смотрела на Павла доверчиво и немного печально.
— Это правда? — спросил он еще раз почти шепотом. — Ты ждала?
— Очень ждала, Павлик, — просто сказала Зина и опустила голову.
Вернувшись в общежитие, Павел, как и тогда, летом, долго не мог уснуть. Сердце до боли сжималось. Этой щемящей боли летом не было. Было только непонятное легкое волнение, хотелось просто лежать и думать о чем-то радостном, светлом… Сейчас ничего не хотелось.
…На следующий день Павел испытывал в производственных условиях свой новый резец. К концу рабочего дня в цехе появился директор завода. Подойдя к станку Павла, он остановился и стал наблюдать за его работой.
— Ну как? — спросил директор.
— Хорош, товарищ директор, — сказал Павел, обернулся и смутился. Рядом с директором стоял парторг завода, Федор Михеич, Зина и несколько токарей.
— Хорошо, — улыбнулся директор. — Что ж, Федор Михеич, вооружим пока этим резцом токарей вашего цеха. А потом, может быть, и весь завод. Как вы думаете?
Павел стоял взволнованный и счастливый. После, когда все разошлись, Зина подошла к нему.
— Молодец, Павлик, какой ты молодец! — почти прошептала она и скрылась за дверью конструкторского бюро. Павел смутился, опять ощутил щемящую тяжесть в сердце, а вместе с этим неожиданное облегчение.
Перед самым новым годом директор завода издал приказ, в котором благодарил Павла за ценное рационализаторское предложение и награждал деньгами. Первым поздравил Павла Васька Сиротин.
— Опять ты меня обошел! У тебя не голова, а чемодан с мозгами.
Васька колотил его ладонью по спине и улыбался.
Только Федор Михеич был необычайно суров и строго поглядывал на токарей.
— Поздравляю тебя, рад я. Да смотри, нос не задирай, — недовольным голосом проговорил Федор Михеич. Но все видели, что глаза старика светятся теплотой и радостью.
— А ты вот что, Павел, — сказал вечером, выходя из цеха, Федор Михеич, — приходи-ка сегодня ко мне. И ты, Василий, приходи. Не грех и порадоваться сегодня, право…
Квартира старого мастера пахла табаком и яблоками. Яблоки Федор Михеич разводил у себя в саду, отдавая им все свободное время. За столом он настойчиво угощал молодежь румяным апортом.
— Ну, спасибо, что пришли, — говорил старик, поблескивая глазами. — Нам ведь с Зинушкой скучно тут. А без нее у меня и совсем живым не пахло.
Зина то и дело бегала на кухню, приносила и уносила тарелки. Глядя на нее, Павел почему-то подумал, что летом на речных островах снова расцветет кипрей и подмаренник и что им надо будет обязательно побывать там.
После ужина танцевали под радиолу и под Васькин аккордеон с западающим басом. Федор Михеич посмеивался и говорил Ваське:
— Вот и праздничек у меня. Я, пожалуй, в душе-то не старше вас сегодня, а?
Васька печально кивал головой и соглашался. Весь вечер он думал о чем-то своем и мало разговаривал.
От Федора Михеича расходились поздно. Зина хотела проводить Павла только за калитку, но незаметно они дошли почти до самого общежития.
— Ты не замерзла? — спросил Павел, когда повернули назад. Зина не отвечала.
— А я, знаешь, Зина… не могу больше без тебя, — сказал вдруг Павел после долгого молчания и почувствовал, что сердце его холодеет.
Зина остановилась и удивленно, испуганно подняла глаза. Павел никогда не забудет этот взгляд… Ресницы ее тихо дрогнули, она выдернула свою руку и отвернулась.
— Скоро Новый год, Зина, — как-то виновато произнес Павел. Он проговорил это единственно с тем, чтобы что-то сказать, нарушить установившееся неловкое молчание.
— Да, — прошептала она.
— В клубе будет новогодний бал.
— Да, — еще тише промолвила Зина и подняла на него глаза, полные слез.
— Зина, что с тобой? Ты плачешь?
— Нет… Я приду в клуб. Я приду и… все скажу тебе. Ты жди меня…
Она повернулась и убежала. Павел, словно в недоумении, смотрел на оставленную открытой калитку и чернеющие в саду Федора Михеича яблони.
Он стоял так долго, не замечая, что начался тихий, обильный снегопад. Потом повернулся и медленно побрел по тротуару, не замечая редких встречных пешеходов.
Возле общежития Павел остановился. Все три этажа ослепительно горели окнами. Павел долго о чем-то думал, что-то вспоминал. Длинное трехэтажное общежитие с горящими в темноте окнами напоминало что-то. Но что? Ах, да… Амур. Ну да, тихую ночь над Амуром. Черная зеркальная поверхность реки отражала огни большого пассажирского парохода. А сам пароход с ярко освещенными окнами во всех этажах похож на такое вот общежитие.
Возле подъезда Павел долго отряхивал с себя снег. Комната оказалась запертой — ребята куда-то ушли. Он вернулся к швейцару, молча взял ключ. Зайдя в комнату, разделся и долго шагал из угла в угол. Потом остановился и посмотрел в окно: снегопад все еще продолжался.
В полутора метрах от окна лежали высокие сугробы, отсвечивая голубыми искорками. Их было много-много… Завтра рано утром дворник разметет сугробы, и Павел пожалел, что никто, кроме него, не увидит этой красоты.
Неведомо откуда сразу нахлынуло великое множество мыслей, в которых он никак не мог разобраться. Еще не совсем ясно и отчетливо он представлял себе, что же произошло, но уже чувствовал, что теперь все будет по-другому, лучше и красивее.
Павел несколько раз прошелся по комнате и остановился у стола. Он взял лист бумаги, осторожно обмакнул перо в чернильницу и стал писать.
Ему шел двадцать первый год. Он писал первые стихи в своей жизни.
За окном падал и падал снег. Огромные тяжелые хлопья медленно кружились в ярких полосах света. Они радостно вспыхивали тонкими золотыми искрами и, словно боясь нарушить его вдохновение, бесшумно ложились на землю.
 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Оглавление
РАДУГА
ВАРВАРА КРУТОЯРОВА
НОВОЕ СЧАСТЬЕ
1
2
3
4
5
6




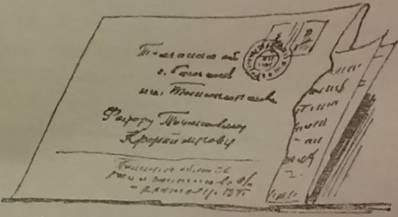

 Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.