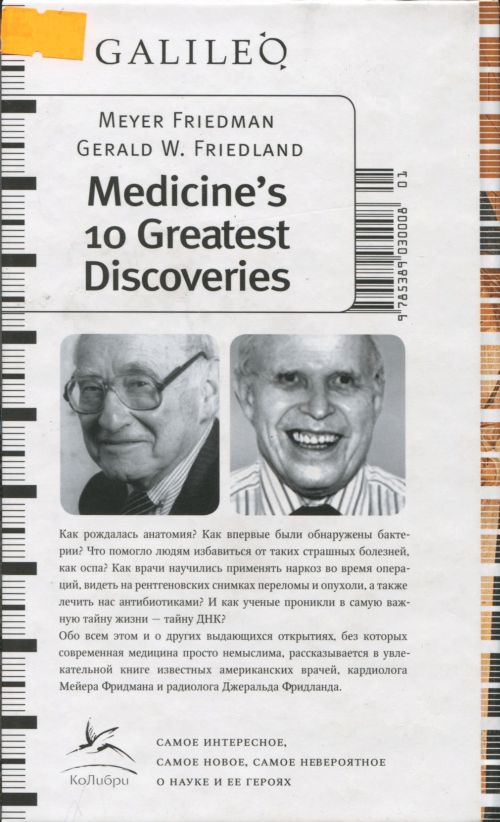Мейер Фридман, Джеральд Фридланд
ДЕСЯТЬ ВЕЛИЧАЙШИХ ОТКРЫТИЙ В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
Посвящается нашим женам-врачам Мейсии Кэмпбел Фридман (ныне покойной) и Мириам Фридланд
Предисловие
Книга, которую вы держите в руках, — не история западной медицины. Этой теме уже посвящено много замечательных работ. В нашей книге мы описали десять наиболее значимых, на наш взгляд, открытий в области медицины, которые были сделаны после выхода в 1543 году великого труда Андреаса Везалия «О строении человеческого тела». Эти открытия — те краеугольные камни, без которых современная медицина была бы невозможна.
В названии каждой главы — имя человека, стоявшего у истоков того или иного открытия. Однако мы упоминаем и о других ученых, внесших существенный вклад в дело. Так, в главе, посвященной бактериям, мы не только представляем Антони Левенгука, но пишем также о замечательных работах Роберта Коха, Луи Пастера и других. Аналогичным образом в названии главы, где рассказывается об открытии антибиотиков, стоит имя Александра Флеминга, но мы не забыли и о выдающихся ученых Говарде Флори и Эрнсте Чейне.
Для кого мы писали эту книгу? Мы надеемся, что любой достаточно интеллигентный и в меру образованный человек сочтет ее интересной. Наверняка она будет полезна для студентов и учащихся старших классов, увлекающихся наукой и медициной. Врачи, безусловно, найдут в ней кое-что новое. Мы мечтаем, чтобы студенты-медики, интерны и ординаторы внимательно изучили ее — если это случится, они не подумают, что потратили время зря. А если наши читатели испытают хотя бы частицу той радости и того восхищения, которые испытали мы, работая над книгой, значит, наш труд был не напрасен.
Один из нас посвятил сорок шесть, а другой — шестьдесят шесть лет изучению, практике и преподаванию медицины. Мы оба многие десятилетия занимались научными исследованиями и опубликовали в общей сложности более пятисот статей и полдюжины книг. Таким образом, наш суммарный стаж в медицине составляет сто двенадцать лет, и мы уверены, что хорошо знаем историю медицины и способны выбрать десять наиболее значимых открытий в этой науке.
Что касается критериев, согласно которым выбирались эти десять основополагающих открытий, то мы прежде всего рассматривали три составные части медицинской науки: науку о структуре и функциях человеческого тела и разума, науку о диагностике болезней и ран, науку о лечении болезней. Мы поставили перед собой вопрос: какие десять из тысяч сделанных открытий в этих трех областях превосходят по значению все остальные?
Из более чем пяти тысяч открытий, сделанных в западной медицине, нам относительно легко удалось выбрать сотню наиболее, на наш взгляд, значимых. Когда мы попытались сузить это число до двадцати пяти, задача усложнилась. Например, выявление роли хирургической антисептики и асептики в предотвращении бактериального инфицирования хирургических ран, безусловно, имело огромное значение, но меньшее, чем открытие Коха, установившего, что причиной инфекции являются бактерии. Опять-таки в предварительный список из ста достижений вошли открытия инсулина и кортизона (авторы которых получили Нобелевские премии); но при всей значимости этих открытий обнаружение существования бактерий и развитие анестезии сыграли куда большую роль.
И наконец, после того как мы выбрали десять самых важнейших, эпохальных открытий, мы показали их список трем букинистам, специализирующимся на продаже старинных книг по медицине. Коммерческий успех их деятельности зависит от того, могут ли они провести сравнительную оценку значимости тех или иных достижений в области медицины. Например, эти букинисты прекрасно разбираются в работах таких неизвестных большинству современных врачей ученых прошлого, как итальянец Фракасторо, австриец Ауэнбруггер и испанец Сервет, — не хуже, чем в английском алфавите. Более того, они хорошо знают и о том, что оттиск первой статьи о кортизоне является не меньшей редкостью, чем оттиск первой статьи о структуре ДНК. Но при этом за оттиск статьи о кортизоне они заплатят только несколько сотен долларов, а за оттиск статьи о ДНК — более двадцати пяти тысяч, и эта разница в стоимости будет продиктована исключительно значимостью открытия.
Список десяти открытий был показан и четырем хорошо информированным врачам, страстным коллекционерам редких и важных медицинских публикаций, к числу которых относятся и первые издания опубликованных описаний большинства открытий, упоминаемых в этой книге. Все они согласились с тем, что мы выбрали десять действительно наиболее выдающихся открытий в истории западной медицины.
После этого предварительного отбора мы опросили тридцать врачей из Стэнфордского университета и Медицинской школы Калифорнийского университета. Мы спрашивали их, знают ли они имена ученых, сделавших те десять открытий, которые мы отобрали. Все смогли вспомнить Андреаса Везалия, Уильяма Гарвея, Эдварда Дженнера, Вильгельма Рентгена, Александра Флеминга, Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика. Большинство также помнили что-то об Антони Левенгуке, как об изобретателе микроскопа, но не как о человеке, открывшем существование бактерий. Ни один из этих врачей, преподающих студентам, интернам и аспирантам, не слышал о Россе Гаррисоне, Николае Аничкове или Морисе Уилкинсе. Только двое смогли вспомнить Кроуфорда Лонга. Однако, когда мы перечислили десять открытий, которые считали наиболее важными, и привели обоснования нашего выбора, с нами согласились все врачи, кроме одного. Тем не менее нас удивило, что многие из опрошенных нами медиков так мало знали о жизни и достижениях своих великих предшественников.
Интересно также, что, когда мы спросили президентов Университета Джона Хопкинса и Йельского университета, есть ли в их учебных заведениях мемориальные доски в память об изобретении способа выращивания культуры тканей, сделанном Россом Харрисоном, они не смогли вспомнить, кто он такой. А ведь Харрисон опубликовал предварительное сообщение о придуманной им методике в 1907 году, когда еще работал в Университете Хопкинса, а окончательный, полный вариант статьи вышел в свет в 1910 году, когда он уже перешел в Йель. (Позже президент Йельского университета написал нам, что в университете была создана профессорская кафедра, носящая имя Харрисона, а президент Университета Джона Хопкинса сообщил, что теперь фотография ученого висит в вестибюле университетской клиники.)
В трех из одиннадцати глав этой книги речь идет об открытиях, относящихся к структуре и функциям человеческого организма и мозга. В шести главах описаны достижения, имеющие отношение к лечению тех или иных заболеваний. В оставшейся главе рассказывается о случайном открытии важнейшего диагностического инструмента, рентгеновского излучения, об изобретении рентгеновского аппарата и о том, как был создан сканер для компьютерной томографии (КТ).
В заключительной, одиннадцатой, главе мы описываем то, что считаем наивысшей точкой всех открытий в сфере медицины. Тут читатели смогут сделать свой выбор, определить собственное «самое-самое важное открытие». Мы приглашаем их сравнить этот выбор с тем, который сделали мы, — о нем мы и расскажем в главе 11.
Наша книга не могла бы появиться без информации, любезно предоставленной нам рядом выдающихся ученых, и мы выражаем свою благодарность: нобелевским лауреатам Годфри Хаунсфилду и Алану Кормаку, а также доктору Джеймсу Амброузу, ответившим на наши вопросы при написании главы 6;
профессорам Леонарду Хефлику, Сергею Федорову и Ричарду Хэмму, докторам Джорджу Фареллу, Донне Пил, Роберту Стивенсону и Элизабет Харрисон (девяностовосьмилетней дочери Росса Харрисона), любезно сообщившим нам исторические факты при написании главы 7;
нобелевским лауреатам Фрэнсису Крику, сэру Аарону Клугу, сэру Питеру Медавару, Джеймсу Уотсону и Морису Уилкинсу и профессорам Эрвину Чаргаффу и Реймонду Гослингу, а также Джейн Кэлландер (бывшей сотруднице Би-би-си), давшим нам многочисленные интервью, без которых мы не смогли бы выстроить главу 10.
Мы особенно благодарны Роберту Шиндлеру, председателю отделения отоларингологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, помогавшему нам при составлении предварительного списка ста величайших открытий, который мы впоследствии сократили до десяти.
Мы выражаем благодарность Рэнни Райли — она первой предположила, что книга такого рода могла бы стать интересной для широкого круга читателей.
Мы чувствуем себя в долгу перед Линдой Болл, Кевином Мэрфи, Дианой Ремиллард и Джин Чен, которые отвечали за набор текста и обработку фотографий.
И наконец, мы благодарны Джеймсу К. Нельсону, доктору Бартону Спарагону и профессору Бартону Терберу за их неустанные советы, а также Вивиан Б. Уиллер за помощь, оказанную при издании книги.
Глава 1
Андреас Везалий и современная анатомия человека

Андреас Везалий
(1514–1564)
Первое великое открытие в истории западной медицины принадлежит Андреасу Везалию, которому мы и воздаем должное в этой главе, однако у Везалия были предшественники, и мы не можем их не вспомнить.
Хотя Гиппократ и Аристотель имели кое-какое представление о некоторых костях и мышцах человека, ни тот ни другой не производили вскрытия человеческого тела. Их скудные сведения о человеческих органах основывались на результатах вскрытия животных. Однако в IV веке до нашей эры некий Герофилус из Александрии уже вскрыл несколько трупов. К несчастью, записи о результатах его наблюдений погибли при пожаре, что породило невероятную путаницу, царившую в анатомии на протяжении девятнадцати веков, до эпохи Везалия. Впрочем, утрата анатомических наблюдений Герофилуса была лишь одной из причин, затормозившей развитие анатомии. Вторая важная причина заключалась в трудах Галена, греческого врача, жившего во II веке. В течение многих сотен лет его анатомические наблюдения почитались как святыни, а любая критика в их адрес рассматривалась как опасная ересь, при этом усомнившийся в трудах Галена мог и лишиться жизни. Однако многие из приводимых великим греком описаний человеческих органов на самом деле основывались на изучении анатомии собак и обезьян, чего сам Гален и не скрывал. Судя по всему, в Древнем Риме вскрытие человеческого тела не разрешалось никому.
Во времена Средневековья вскрытие трупов было строго запрещено, анатомией никто не занимался, как, впрочем, и другими науками. Шли столетия, и только в монастырях еще теплилась какая-то интеллектуальная жизнь. Все изменилось в эпоху Возрождения. В некоторых итальянских городах-государствах (в частности, в Болонье, Падуе и Павии) стали ежегодно разрешать вскрытия нескольких казненных преступников — именно эти мертвые преступники, собственно, и сделали возможным рождение современной анатомии.
Первым, кто выполнил и описал вскрытие человеческого тела, стал Мондино де Луцци из Болоньи — его трактат «Anothomia» был написан в 1316 году, хотя увидел свет только в 1478-м. «Священные», хотя и ошибочные, анатомические наблюдения Галена настолько ослепили Мондино, что он не смог увидеть того, что бросалось в глаза. Как и Гален более чем за тысячу лет до него, Мондино дал неправильное описание селезенки как органа, опорожняющегося в желудок, печень счел пятидольной, нашел три желудочка в сердце и несколько сегментов в матке. Некоторые из его описаний справедливы для органов собаки, но никак не мужчины или женщины. И все же «Anothomia» де Луцци, выдержавшая более шестидесяти переизданий, в течение двухсот лет служила основным источником сведений об анатомическом строении человеческого тела.
В 1521 году Беренгарио да Карпи, возглавлявший кафедру хирургии и анатомии в Болонье, проведя, по имеющимся данным, более ста вскрытий, опубликовал свои «Комментарии» к «Anothomia». Эта книга, насчитывающая более тысячи страниц, впервые содержала анатомические иллюстрации, хотя и больше похожие на грубые схемы. Однако куда более важно то, что да Карпи стал первым ученым Средневековья и раннего Возрождения, решившимся поправить некоторые наиболее вопиющие анатомические заблуждения Галена. Вопреки ошибочным суждениям, сохранявшимся в течение четырнадцати веков, сердце больше не считалось трехжелудочковым, а матка — многосегментарным органом. Так рождалась наука анатомия.
Мы знаем, когда и где родился Везалий (в 1514 году в Брюсселе), в каких университетах он учился (в Лувене, Париже и Падуе), когда и где получил медицинскую степень (в 1537 году в Падуе). Мы даже знаем, на ком и когда он женился (на Анне ван Хамме в 1544 году) и что у него была одна дочь (Анна). Мы знаем, что в 1546 году он стал придворным врачом при императоре Священной Римской империи Карле V и оставался у него на службе до отречения Карла в 1556 году, после чего пользовал Филиппа II, короля Испании. Он служил при дворе вплоть до своей кончины в 1564 году, после возвращения из паломничества в Иерусалим.
Но вот почему Везалий отправился в это опасное путешествие — никто точно не знает. Может быть, во искупление какой-то ужасной ошибки? Существует версия о том, что он начал вскрывать тело якобы умершего дворянина, и оказалось, что у того еще бьется сердце. За эту страшную оплошность инквизиция приговорила врача к смерти, но король Филипп добился замены казни паломничеством. Какой бы ни была его истинная причина, очевидно, что Везалий отправился на Святую землю отнюдь не по собственным духовным устремлениям.
Все эти довольно скудные сведения о жизни Везалия остались бы неизвестными, если бы в 1543 году он не опубликовал книгу, которую отец американской медицины Уильям Ослер назвал «самой великой книгой в истории медицины». Прежде чем приступить к оценке этого революционного и по-настоящему изящного труда, остановимся подробнее на личности автора, Андреаса Везалия, врача эпохи позднего Возрождения. Определенное представление о его характере можно получить, читая его книгу. В возрасте тридцати двух лет он, вспоминая юность, описал некоторые занятия, которым предавался, но которые более не хотел продолжать
[1].
Теперь я уже не стал бы охотно проводить долгие часы на парижском «Кладбище невинных», разбирая кости, как не стал бы ездить в Монфокон, чтобы их искать, — однажды, отправившись туда с товарищем, я подвергся нападению своры диких собак. И теперь меня уже не беспокоило бы, что меня могут выгнать из [Университета] Лувена и я не сумею ночью, один, унести кости, чтобы сложить из них скелет. Не стал бы я и осыпать прошениями судей, чтобы они отсрочили казнь преступника до того дня, когда мне будет удобно провести вскрытие, и не стал бы я советовать студентам-медикам следить за тем, где хоронят того или иного человека, или настаивать, чтобы они замечали, кого лечат их учителя, с тем чтобы потом перехватить тело умершего больного. Я бы не держал неделями в своей спальне трупы, вырытые из могил, или выданные мне после публичных казней, и не стал бы мириться со скверными характерами скульпторов и художников, которые заставляли меня чувствовать себя хуже, чем тела, которые я вскрывал. Однако тогда, будучи слишком молодым, чтобы зарабатывать на искусстве, я, желая углубить наши общие познания, с готовностью и радостью делал все это.
Этот устрашающий отчет о том, чем занимался Везалий, будучи студентом медицинской школы в Париже, а потом — анатомом в Падуе, показывает нам молодого человека, жаждущего любой ценой познать секреты человеческого тела. Он расчленял трупы, чтобы изъять из них кости, и дрался за них с дикими собаками. Что можно сказать о человеке, подбивающем своих студентов записывать имена больных, которых лечат их преподаватели, дабы потом, когда эти больные умрут, похитить их тела? Что это за человек, который может ночь за ночью спать в комнате с разлагающимися трупами? А какие требования он предъявлял скульпторам и художникам, добиваясь, чтобы они изобразили ткани или органы точно такими, какими он видел их на анатомическом столе! Да, Везалия никак нельзя признать ни добрым, ни способным к состраданию человеком. Прежде всего он был хладнокровным, упрямым и невероятно целеустремленным.
Когда в 1533 году он приехал в Париж, чтобы продолжить изучение медицины, ему было всего девятнадцать лет, но он уже твердо решил добиться таких успехов в анатомии и хирургии, чтобы император Карл V назначил его одним из своих лейб-медиков. В конце концов, его дед и отец (кстати, Андреас был незаконнорожденным) состояли на службе у императора!
Обуреваемый честолюбием, молодой фламандец вскоре наловчился так вскрывать трупы животных, что на него обратили внимание два самых известных анатома Европы — Якоб Сильвий и Джон Гунтер, преподававшие в Парижском университете. Сильвий научил Везалия правильно вскрывать собак, а Гунтер сделал его своим ассистентом на вскрытиях человеческих тел. Именно в эти годы Везалий по собственной инициативе ходил на парижские кладбища выкапывать трупы.
В 1536 году Везалию как фламандцу и верноподданному Карла V пришлось покинуть Париж, поскольку солдаты Священной Римской империи собирались захватить город. Вернувшись в Брюссель, Везалий продолжил медицинскую карьеру в Лувенском университете. В это время он уже тайно производил вскрытия человеческих трупов.
В 1539 году он уехал из Лувена в Падуанский университет, где, спустя несколько месяцев, получил степень доктора медицины. Он с таким умением и тщанием занимался анатомированием трупов, что уже через несколько недель после получения степени, совсем молодым — ему исполнилось тогда всего двадцать три года! — был назначен главой кафедры хирургии и анатомии Падуанского университета. Но Везалий не прекращал своих штудий и продолжал вскрывать трупы животных и казненных преступников, а тайком и другие трупы, похищенные с кладбищ.
Некоторое время Везалий, подобно всем анатомам, практиковавшим до него, продолжал воспринимать человеческое тело таким, каким его описал Гален, а не таким, каким видел своими глазами. Но в 1538 году он опубликовал «Шесть анатомических таблиц»
[2], где впервые осмелился указать на некоторые ошибки, допущенные Галеном. Это были заведомо незначительные ошибки, но на протяжении четырнадцати столетий ни один анатом не решился их исправить. Еще один поразительный факт. Известно, что к этому времени медицинские сочинения в письменном виде распространялись уже в течение пяти веков, но именно в книге Везалия впервые содержались иллюстрации, представлявшие собой не грубые схемы, а художественно оформленные, реалистические изображения костей и мышц человеческого тела.
Три последние иллюстрации в «Таблицах» выполнил ученик Тициана Ян Стефан ван Калькар. Более того, этот художник оплатил печатание книги и получил всю прибыль от ее продажи. Правда, что явилось причиной такого странного денежного соглашения, осталось тайной.
Везалий сильно отличался от своих предшественников и современников. Обычно они сидели в кресле где-то над телом, которое вскрывал какой-нибудь цирюльник, зачитывали студентам тексты Галена и не обращали ни малейшего внимания на органы и ткани анатомируемого тела. В отличие от них Везалий сам вскрывал трупы, пачкая руки и одежду кровью, копаясь в часто инфицированных и гниющих органах. Он свято верил, что только так можно познать истину — строение человеческого тела, — и неустанно внушал это своим студентам и коллегам-врачам, посещавшим его публичные вскрытия.
А ведь в XVI веке, когда на его руки, а возможно, и лицо попадали частицы зараженных тканей, не существовало ни защитных перчаток, ни средств антисептики. Хуже того, никто и не подозревал о существовании бактерий или вирусов и о том, какие смертельные болезни они могут вызывать. Везалий и трое его самых одаренных студентов (Коломбо, Евстахий и Фаллопий), собственными руками копавшиеся в тканях инфицированных трупов и делавшие это с неменьшим рвением, чем сам Везалий, умерли, не дожив до пятидесяти пяти лет! Вспомним четырех художников — Микеланджело, Леонардо, Тициана и Челлини, — живших в то же самое время и в тех же самых городах: все они прожили больше шестидесяти пяти, а двое из них — Микеланджело и Тициан — даже больше восьмидесяти пяти лет! Судя по всему, в то время резать человеческое тело было куда опаснее, чем его рисовать или ваять.
После издания «Таблиц» и до 1543 года Везалий не написал ничего особо выдающегося. Он продолжал вскрывать трупы и учить студентов в Падуе, недолгое время работал в Болонье. К двадцати девяти годам — к моменту издания трактата «О строении тела»
[3] — молодой ученый уже пользовался уважением в Италии, Париже и Брюсселе как анатом, с невероятным умением производящий вскрытие человеческого тела.
В 1544 году, через год после выхода своего знаменитого труда, Везалий оставляет Падуанский университет и становится одним из придворных врачей императора Карла V. Некоторые историки медицины выражали удивление по поводу столь резкого прекращения научной карьеры Везалия, пытаясь понять причины такого поворота в его судьбе. Однако, как мы уже отмечали, амбициозный и весьма прагматичный Везалий всегда стремился служить при императорском дворе. Никто и никогда не замечал за ним чрезмерной преданности какому-либо университету или медицинской школе. Человеку, готовому вырывать полуодетые трупы темной ночью на кладбище из пасти голодных собак, способному спокойно, хладнокровно проводить вивисекцию, несмотря на душераздирающие вопли животных, подобная щепетильность была несвойственна.
Мы уже упоминали, что в 1544 году Везалий женился на Анне ван Хамме из Брюсселя, и на следующий год она подарила ему дочь, также Анну. О жене и дочери его больше ничего не известно, за исключением того, что обе они вышли замуж через год после смерти великого анатома. Есть подозрения, что отношения супругов не отличались особой нежностью.
Итак, всю жизнь обуревавшее Везалия стремление поступить на службу врачом при императорском дворе наконец осуществилось. После этого он полностью прекратил занятия наукой. Тем не менее в Европе его по-прежнему почитали как одного из самых выдающихся врачей того времени. В 1559 году, когда король Франции Генрих II был тяжело ранен на рыцарском турнире, Везалия вызвали из Брюсселя в Париж. Генрих II (чье имя вспоминают главным образом в связи с его невероятно обворожительной фавориткой Дианой де Пуатье и со столь же невероятно мужественной и коварной супругой Екатериной Медичи) получил удар в голову и глаз обломком копья, пробившим его шлем. До приезда Везалия врачи Генриха не смогли точно установить, насколько глубоко в голову вошли обломки древка. Они взяли вторую часть копья и с силой вбивали ее в отрубленные головы четырех преступников, казненных накануне. После этого врачи вскрывали каждую голову, чтобы определить, затронут ли мозг. Этот удивительный эксперимент не принес никакой пользы.
Осмотрев раненого короля, Везалий сразу все понял и объявил, что рана смертельна. Несмотря на неоднократные кровопускания и клизмы, левая часть тела короля оставалась парализованной, тогда как правую сотрясали конвульсии. Через десять дней он умер. Везалий присутствовал на вскрытии, показавшем тяжелое повреждение мозга и субдуральную гематому с правой стороны черепа.
В 1562 году, когда после серьезной травмы тяжело заболел наследный принц Испании дон Карлос и король Филипп II поручил Везалию наблюдать за работой пяти врачей, уже лечивших принца, это стало еще одним подтверждением признания его авторитета.
Дон Карлос — низкорослый, жестокий и упрямый — с первых дней жизни создавал проблемы своему отцу Филиппу II. Он родился с зубами и, будучи младенцем, так яростно жевал соски кормилицы, что ее истерзанная грудь воспалилась. В двенадцатилетнем возрасте он получал удовольствие от жизни, заживо поджаривая животных и соблазняя хорошеньких девушек.
Именно второе увлечение и стало причиной травмы. Принцу тогда было восемнадцать лет. Поджидая гулявшую в саду дочку сторожа (в которую принц был безумно влюблен), он так стремительно побежал вниз по лестнице ей навстречу, что споткнулся и упал, перекувырнувшись, при этом сильно ударившись головой о ручку двери внизу у лестницы. Принц довольно скоро пришел в себя, но три придворных врача нашли у него сзади на шее рану размером с ноготь. Рану тщательно обработали различными мазями и настоями. По обычаям того времени были сделаны несколько кровопусканий и клизм.
Возможно, повязки, наложенные на рану, не были стерильными, и она загноилась. У принца началась сильная лихорадка. Встревоженный Филипп II отправил на помощь трем врачам, уже пользовавшим дона Карлоса, двух своих лейб-медиков. Затем, поскольку состояние сына продолжало ухудшаться, он послал за Везалием.
Шесть врачей провели пятьдесят совещаний, длившихся от двух до четырех часов, на десяти из которых присутствовал сам король. Он терпеливо слушал, как каждый эскулап высказывал свое мнение и предлагал свой метод лечения. Но в течение апреля и мая, несмотря на эти консилиумы, дону Карлосу становилось все хуже.
Тем временем в Толедо три тысячи испанцев, раздевшись до пояса, хлестали друг друга плетьми, надеясь, что это бичевание спасет жизнь принцу, а жители Алькалы (города, где боролся со смертью дон Карлос) принесли забальзамированный труп фра Диего, монаха-францисканца, умершего несколько веков назад, к постели лежавшего без сознания принца и уложили рядом с ним.
Однако улучшения не последовало, никакого медицинского чуда не произошло. Но время шло, и принц потихоньку начал поправляться. Его воспаленное лицо, изуродованное кровотечениями и нагноениями, постепенно приняло нормальный вид. Через три месяца после несчастного случая он даже смог присутствовать на бое быков.
Филипп II всегда считал, что исцелением сына обязан чудодейственной мумии фра Диего. В 1568 году он способствовал причислению монаха к лику святых. При всем своем желании мы не можем утверждать, что Филипп II был прав. Но мы
можем быть уверены, что все опасные осложнения, последовавшие за простым ушибом дона Карлоса, имели ятрогенное происхождение, то есть были связаны с ошибками в действиях лечивших принца врачей.
Участие в двух медицинских консилиумах у одра особ королевского происхождения — это единственные упоминаемые в исторических источниках свидетельства деятельности Везалия во время его придворной службы, если не считать написанного им «Послания о китайском корне» (оно было издано его младшим братом в 1546 году), второго издания «О строении тела» в 1555 году и датированных 1561 годом комментариев («Examen») к «анатомическим наблюдениям» его бывшего ученика Фаллопия. Ни одно из этих сочинений не представляло результатов новых исследований. И опять-таки нам остается только гадать, почему после написания книги «О строении человеческого тела», чье содержание практически дало начало современной научной медицине, этот молодой, двадцатидевятилетний, мужчина вообще прекратил заниматься научными или медицинскими исследованиями.
Сам он в 1546 году, через три года после выхода в свет своей великой книги, написал, что она вызвала столько необоснованной критики, «истерзавшей его душу», что он укрылся при императорском дворе, где находил удовольствие в жизни, «далекой от сладкой праздности науки…». Он признавался: «Теперь я уже не помышлял издавать что-то новое, даже если бы мне этого очень захотелось или если бы мое тщеславие повелело бы мне это сделать»
[4].
С самого начала своей карьеры Везалий надеялся, что император пригласит его присоединиться к группе своих придворных врачей, и придумывал, как этого добиться. В 1537 году, в возрасте всего лишь двадцати трех лет, он планировал написать и издать книгу, не только революционную по содержанию, но и отличающуюся особым изяществом печати, качеством бумаги и иллюстраций, размером и красотой переплета. Он рассчитывал, что лично преподнесет свой труд, снабженный соответствующим посвящением, императору и тот, даже не разбираясь в медицине, должен будет признать его книгу самым потрясающим изданием медицинского содержания, которое когда-либо появлялось или появится на свете.
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что Везалий, как он сам писал, не обремененный женой, детьми или домашними заботами, в течение примерно пяти лет вскрыл десятки трупов животных и людей — и все ради того, чтобы накопить энциклопедические познания, необходимые для написания книги. Ему пришлось также искать художников, которые захотели бы потратить долгие часы на зарисовки органов и тканей разлагающихся трупов. Его трактату «О строении человеческого тела» предстояло стать первой в истории медицинской книгой, содержащей более двух сотен поразительных иллюстраций.
Везалий осмелился даже отправить свою рукопись через Альпы, в Базель. Он знал, что Иоганн Опоринус, выдающийся ученый и, что еще важнее, известный книгоиздатель, сможет выпустить его труд на самой лучшей бумаге и с высочайшим качеством печати. И прежде всего Везалий был уверен, что Опоринус достаточно профессионален, чтобы напечатать его бесценные гравюры по дереву с необходимой точностью, без малейших искажений. Везалий не удовольствовался тем, чтобы просто писать Опоринусу письма с подробными инструкциями, — он сам поехал в Базель и оставался там, пока печатали книгу.
В конце лета 1543 года Везалий преподнес свой шедевр Карлу V. Книга действительно была настоящим шедевром: ее высота составляла 16,5 дюйма, ширина — 11 дюймов, переплет изготовили из царственного пурпурного панбархата, передний и задний форзацы — из пергамента, а все
семьсот страниц были напечатаны самым изящным шрифтом, когда-либо использовавшимся в медицинских изданиях. Самой потрясающей деталью этого подарочного экземпляра были
раскрашенные вручную иллюстрации. (Ни в одном из примерно ста дошедших до нас экземпляров книги цветных иллюстраций нет.) Судя по всему, это произвело огромное впечатление на императора. Неудивительно, что спустя несколько месяцев, несмотря на завистливую критику со стороны других врачей, состоявших при дворе, Везалий получил приглашение на придворную службу. Его юношеские мечты исполнились!
Теперь самое время обратить наше внимание на сам бессмертный шедевр: «О строении человеческого тела, в семи книгах» («De humani corpus fabrica, libri septum») — для краткости эту книгу обычно называют «Фабрика».
Хотя ученые-медики могут высказывать сомнения относительно того, что это описание человеческой анатомии в семи книгах (о чем сообщает латинское название) является наиболее важным открытием в западной медицине, все, безусловно, согласятся с Уильямом Ослером, что «Фабрика» была самой грандиозной из когда-либо изданных книг по медицине.
Мы уже указывали, что Везалий намеревался посвятить, а затем и преподнести Карлу V книгу, которая ошеломила бы его своим великолепием и красотой. Наверное, так и произошло, хотя король вряд ли мог понять или вполне оценить её содержание. Но Везалий совершил гораздо более значимое деяние — его «Фабрика» пробудила медицину от четырнадцативекового глубокого сна.
Первой реакцией врачей на появление «Фабрики» стало удивление. Никогда раньше медицинские книги не отличались такими размерами. Никогда раньше в медицинских книгах не было иллюстраций, отличавшихся такой художественной красотой и анатомической точностью, и никогда раньше (и никогда после этого) медицинские книги не набирались таким изящным типографским шрифтом.
Современники Везалия были изумлены невероятным вкусом и роскошью издания, однако куда более их потряс, а многих просто привел в бешенство текст, содержавшийся в семи томах. Среди наиболее разъярившихся был и Якоб Сильвий, ведущий анатом Европы, некогда учивший Везалия анатомии. В открытом письме императору он писал: «Я молю Его Императорское Величество воздать суровое и заслуженное наказание чудовищу, которое он взрастил и выкормил в своем собственном доме, этому худшему образцу невежества, неблагодарности, дерзости и богохульства, сделать так, чтобы он не мог более отравлять остальную Европу своим тлетворным дыханием».
Злоба Сильвия была вызвана тем, что Везалий осмелился указать на неоднократные ошибки Галена при описании некоторых деталей человеческой анатомии, возникшие прежде всего потому, что Гален вскрывал трупы обезьян и собак и, следовательно, описывал ткани и органы этих животных, а не человека.
Реакцию Силовия объяснить трудно, ведь на излете Средневековья вскрытие человеческих тел уже доказало нелепость некоторых утверждений Галена, например, что печень является источником крови, что в матке имеется несколько камер и что секрет, вырабатываемый гипофизом, поступает непосредственно в нос. Мы уже упоминали о том, что ни один профессор медицины никогда лично не вскрывал трупы. Вскрытие производилось цирюльником, а профессор вслух зачитывал соответствующие пассажи из анатомических наблюдений Галена. Этот обычай ушел в прошлое только после выхода в свет «Фабрики». Кстати, большой раздел книги посвящен инструкциям о том, как именно следует производить вскрытие.
Кроме того, в «Фабрике» подчеркивался факт, которому ранее не придавалось должного значения, а именно что кости организма позволяют нам жить той жизнью, к которой мы привыкли. В книге указывалось, что кости не просто дают поддержку нашему телу и обеспечивают его подвижность — они защищают от повреждения хрупкие внутренние органы (включая мозг). Везалий особо отмечал, что без костей человек был бы просто неподвижным и бесформенным образованием.
Достаточно перелистать «Фабрику», чтобы понять — человеческий скелет просто завораживал Везалия. В первом из семи томов он посвящает костям 168 страниц; книга открывается замечательным набором иллюстраций — пять черепов, показанных под разным углом зрения. Затем Везалий описывает и представляет, с помощью великолепных рисунков, остальные кости и, проявив удивительную изобретательность, заканчивает книгу тремя изображениями скелета, каждое из которых занимает целую страницу. Один скелет показан подвешенным на виселице, второй — идущим, опираясь на костыли, а третий (рис.) стоит, нагнувшись над столом, опершись на него локтями, и словно бы разглядывает человеческий череп.
 Великолепный с художественной точки зрения и точный с точки зрения анатомии рисунок — третье изображение скелета в «Фабрике» Андреаса Везалия. Скелет то ли рассматривает череп, то ли изучает его
Великолепный с художественной точки зрения и точный с точки зрения анатомии рисунок — третье изображение скелета в «Фабрике» Андреаса Везалия. Скелет то ли рассматривает череп, то ли изучает его
Эти картинки скелетов, которые позже неоднократно воспроизводили в своих книгах другие авторы, нельзя рассматривать как обычные анатомические рисунки; это настоящие произведения искусства. Трудно сказать, что именно сделал для «Фабрики» Ян Стефан ван Калькар, но три «очеловеченных» скелета явно нарисованы его рукой. С художественной точки зрения в них много общего с иллюстрациями из «Анатомических таблиц», написанных Везалием раньше и иллюстрированных Яном Стефаном.
Второй том Везалий посвящает подробнейшему описанию мышц человеческого тела. С помощью тринадцати мускулистых мужских фигур показаны вначале поверхностные, а затем все более глубоко расположенные мышцы. Тут иллюстрации, по всей вероятности, тоже были созданы Яном Стефаном. Как и изображения скелетов, «люди из мышц» также представляют собой выдающиеся произведения искусства.
Когда Везалий писал о том, что «скверный характер скульпторов и художников» заставлял его чувствовать себя «хуже, чем тела, которые я вскрывал», он, вероятно, вспоминал свои ссоры с другими иллюстраторами, но не со Стефаном. Везалий остро нуждался в его таланте, но, по всей видимости, не смог заручиться его услугами при иллюстрировании оставшихся пяти книг. Качество рисунков, начиная с третьего тома, явно ухудшается. Дело не в том, что иллюстрации, представляющие вены и артерии в третьем томе или нервную систему в четвертом, органы брюшной полости в пятом, сердце и легкие в шестом и мозг в седьмом томе, плохи; просто они более схематичны, не так очевидна принадлежность органов человеку, а их исполнению не хватает художественного блеска.
Описывая внутренние органы (печень, селезенку, матку), Везалий слишком часто ставил в качестве иллюстраций изображение органов собаки или свиньи, а не человека. Кроме того, он не заметил присутствия в организме человека поджелудочной железы, яичников и надпочечников. Конечно, найти эти органы, особенно в разлагающихся трупах, довольно трудно. Однако Везалий мог бы лучше изучить, например, строение матки. Скорее всего, дело в том, что найти женский труп для вскрытия было труднее. Тем не менее известно, что у него была возможность обследовать половые органы по меньшей мере двух женщин. По каким-то причинам он так боялся рассечь девственную плеву, перекрывающую вход во влагалище, что совершенно не заметил маточные трубы на другом конце половых путей, кроме того, данное им описание матки беременной женщины и зародыша поражает какой-то средневековой грубостью.
Везалий проделал отличную работу по изучению основных артерий и вен, однако сердце и легкие описал не намного лучше Галена. Он так увлекся присвоением греческих, латинских или древнееврейских названий различным мышцам и тканям, что ни разу не задумался о том, чтобы дать какой-то из них свое собственное имя.
Если тома с третьего по пятый Везалий писал с меньшим вдохновением, чем два первых, посвященных костям и мышцам, то при написании шестого тома, посвященного мозгу, к нему вернулся прежний энтузиазм. И иллюстрации по качеству тут приближаются к иллюстрациям первого и второго томов (хотя и не достигают их уровня). Анатомические открытия Везалия, относящиеся к различным отделам мозга, имели огромное значение. До Везалия структура мозга и его функции оставались практически неизученными. С изданием седьмого тома стали понятны хотя бы некоторые структурные особенности головного мозга; с этого времени анатомы уже не могли игнорировать его существование.
В «Фабрике» Везалия содержался огромный объем научной информации, и неудивительно, что книга стала мощнейшим стимулом к дальнейшему развитию медицинской науки. Труд Везалия преподнес медицине такой бесценный дар, как научный метод: впервые были разработаны важнейшие инструменты исследования, которыми в будущем предстояло пользоваться медицинской науке: полное отрицание сверхъестественного начала, прямолинейный, бесстрастный язык, точное иллюстрирование, безжалостная жестокость вивисекции
[5], необходимость определения приоритета открытия, формулировка обобщений на основании четко выстроенных отдельных наблюдений.
Через несколько недель после выхода в свет трактата «О строении человеческого тела» был издан его великолепный конспект — «Извлечение» («Epitome»). Эта книга, гораздо меньшая по объему, предназначалась для студентов-медиков, которые могли бы пользоваться ею непосредственно у анатомического стола. В «Извлечение» было включено несколько полностраничных рисунков скелетов и мышц из «Фабрики». Изумительным украшением стали два добавленных в книгу рисунка, также на целую страницу, изображающие красивого обнаженного мужчину (Адама) и обольстительную обнаженную женщину (Еву).
 Такими в «Извлечении» Везалия, изданном в 1543 году вместе с «Фабрикой», показаны Адам и Ева. Одно время считалось, что автором замечательных рисунков был Тициан, но в настоящее время их приписывают Яну Стефану ван Калькару
Такими в «Извлечении» Везалия, изданном в 1543 году вместе с «Фабрикой», показаны Адам и Ева. Одно время считалось, что автором замечательных рисунков был Тициан, но в настоящее время их приписывают Яну Стефану ван Калькару
Написанный Везалием трактат и занятия, проводившиеся им непосредственно у анатомического стола во время настоящих вскрытий, способствовали тому, что в Падуанском университете выросли три его последователя, которым было суждено в течение нескольких десятилетий после издания «Фабрики» совершить важнейшие открытия в области анатомии. Нет никаких сомнений, что возможными эти открытия сделали именно книга «О строении человеческого тела» и ее автор, описавший инструменты и методологию научных исследований.
Первый из этих знаменитостей — Реальдо Коломбо (1512–1559). Величайшим вкладом Коломбо в развитие медицины стало точное описание пути кровообращения из правого желудочка сердца в левый через легкие. Это описание, так же как и подробное описание самого сердца, впервые появилось в 1559 году в книге Коломбо «De re anatomica», опубликованной посмертно. В следующей главе мы еще расскажем о Коломбо, здесь же достаточно упомянуть о том, что Везалий его ненавидел. Причиной ненависти стало выдвинутое Коломбо обвинение в том, что в своем трактате Везалий якобы описал язык и глаза быка, а не человека.
Учеником Везалия был также Габриэль Фаллопий (1525–1562), его преемник на посту руководителя кафедры анатомии в Падуе. Он восхищался мастерством Везалия и его великой книгой, тем не менее нашел в ней ошибки и упущения — хотя проявил большую деликатность в критике, чем Коломбо.
Научившись от Везалия искусству вскрывать трупы собственными руками и верить собственным глазам, а не тому, что можно вычитать в трудах Галена, Фаллопий выявил и описал целый ряд анатомических структур, ускользнувших от внимания учителя. Например, он нашел и впервые описал яичники и маточные трубы, которые теперь носят его имя. Он дал современные названия влагалищу, плаценте и клитору; до Фаллопия эти органы вообще никак не называли.
Если о Везалии можно сказать, что он
прорубил свой путь через ранее неизведанные анатомические джунгли, то Фаллопий
прокладывал дорогу по полю, частично изведанному и уже отмеченному на карте. Он дал более точное, чем Везалий, описание костей и связок, у него даже хватило терпения и любознательности, чтобы вскрыть, изучить и описать костный полукружный канал внутреннего уха.
Самый блестящий из учеников Везалия, Бартоломео Евстахий (1520–1574), был в определенном смысле большим неудачником. В его судьбе повторилась история, случившаяся с Леонардо да Винчи. (Великий художник сделал поразительно точные зарисовки тканей и органов человеческого тела, но их нашли только через несколько веков после его смерти. Но даже тогда один из его рисунков, хранившихся в Королевской Виндзорской библиотеке, а именно рисунок с изображением человеческой матки и влагалища, «облегавшего» полностью
эрегированный пенис, долгое время не выставлялся на всеобщее обозрение; публика увидела его только после смерти королевы Виктории.) Законченная и подготовленная к изданию уже в 1552 году великолепная, богато иллюстрированная гравюрами на меди рукопись Евстахия по какой-то причине более ста пятидесяти лет пролежала в полном забвении в Папской библиотеке Ватикана. Там ее обнаружил и опубликовал в 1714 году знаменитый кардиолог Джованни Ланчизи
[6]. Выдающиеся открытия Евстахия впоследствии делались заново и описывались как оригинальные анатомами куда более низкого уровня в конце XVI и на протяжении всего XVII века.
Если бы книга Евстахия увидела свет, когда он подготовил ее к изданию, то есть в 1552 году, медицина смогла бы сделать огромный шаг вперед, а Евстахий приобрел бы не меньшую славу, чем Везалий. Подобно Фаллопию, Евстахий не просто указал на ошибки, допущенные в «Фабрике», — он описал детали строения человеческого тела, совершенно упущенные Везалием. Гравюры на меди, изображающие симпатическую нервную систему, можно считать инновацией первостепенного значения. Он открыл грудной лимфатический проток и дал отличную иллюстрацию лимфатической системы, которую не заметил не только Везалий, но и Уильям Гарвей через семьдесят шесть лет после него. Помимо этих двух важнейших систем Евстахий правильно описал анатомию человеческой почки
[7] и стал первым, кто нашел и описал надпочечники и трубку, соединяющую среднее ухо с полостью рта и носящую сегодня его имя.
Разумеется, открытия в области анатомии продолжались и после смерти Везалия и его трех незаурядных последователей из Падуанского университета. Более того, эти открытия совершаются и сегодня. Но начало всему положила именно книга «О строении человеческого тела». Так закончим же эту главу словами самого Везалия:
Я не мог бы сделать ничего более полезного, чем дать новое описание всего человеческого тела, чью анатомию никто не понимал, поскольку Гален, несмотря на все множество его трудов, сообщил об этом крайне мало, и я не знаю, каким еще образом я мог бы донести результаты своих исследований до моих студентов.
Глава 2
Уильям Гарвей и кровообращение

Уильям Гарвей
(1578–1657)
За тысячи лет до рождения англичанина Уильяма Гарвея древние египтяне, греки и римляне не только знали о том, что в их груди бьется сердце, но и приписывали ему ведущую роль в духовной и эмоциональной жизни человека. Они полагали, что если у людей и есть душа, то живет она именно там, в органе красного цвета, неустанно стучащем внутри грудной клетки. Однако, понимая, что с прекращением этого стука прекращается и человеческая жизнь — и, следовательно, куда-то исчезает и живущая в бьющемся сердце душа, — наши предки никогда не задумывались над тем, что же, собственно, означает этот стук.
Более того, ни египтяне, ни греки, ни римляне не осознавали, что существует какая-то связь между кровью, текущей в теле каждого человека, и этим пульсирующим органом величиной с кулак. Полное непонимание функций как сердца, так и крови происходило из-за того, что древние анатомы не могли вскрыть тело еще живого животного и непосредственно наблюдать сокращения и последовательные движения живого сердца и ток крови по венам и артериям. Все знания, относящиеся к сердцу и кровеносным сосудам, были получены на основании изучения органов и тканей, изъятых из мертвого человеческого тела. К сожалению, в артериях мертвого тела никогда нет крови, ибо, после того как сердце перестает биться и выбрасывать кровь в артерии, последние сокращаются, и вся содержащаяся в них кровь выталкивается в вены.
Таким образом, не находя кровь в артериях вскрытых трупов, ученые древности полагали, что при жизни в этих сосудах содержится только воздух. Поскольку вены тех же трупов, особенно вены, входящие в печень и выходящие из нее, всегда оказывались наполненными кровью, врачи античного мира считали, что именно в печени вся кровь и производится, а потом через вены поступает в другие органы тела. Понимая, что сердце тут все-таки должно играть какую-то роль, анатомы прошлого заключили, что в сердце кровь, поступающая в две его камеры — желудочки — и выходящая из них, получает некий «жизненный дух». При этом они не знали, как кровь попадает в сердце, как переходит из правого желудочка в левый и куда поступает, выйдя из сердца.
В середине II века нашей эры грек Гален сделал революционное открытие. Он выяснил, что кровь в правый отдел (или правое предсердие) сердца поступает из впадающих в него крупных вен и что затем из правого желудочка эта кровь выталкивается через легочную артерию в легкие. Более того, он установил, что через легкие кровь поступает в левое предсердие сердца, которое, в свою очередь, направляет ее в аорту, крупный кровеносный сосуд, отходящий от левого желудочка.
Эти два открытия Галена, относящиеся к сердечно-сосудистой системе, имели колоссальное значение. Было установлено, что сердце состоит в основном из мышц, которые, сокращаясь, прокачивают кровь в легкие и через легкие — в левый отдел сердца, откуда та же масса сокращающихся мышц отправляет кровь в аорту. Иными словами, стало ясно: сердце — это просто насос.
Вторым великим открытием Галена стало опровержение мнения его древнегреческих и римских предшественников о том, что в артериях содержится воздух: он понял, что они переносят кровь.
При всем величии Галена он не смог бы проследить путь крови из правого желудочка в левый через легкие или обнаружить наличие крови в артериях, если бы просто рассматривал органы мертвых людей или животных. Для этого ему обязательно надо было наблюдать эти процессы в живом организме. Будучи старшим врачом в школе гладиаторов в древнем Пергаме, он имел такую возможность при обследовании раненых и умирающих. Наверное, ему часто доводилось наблюдать, как из сосудов головы, руки или ноги, рассеченной мечом или кинжалом во время тренировки или настоящего гладиаторского боя, струится не воздух, а ярко-алая кровь. Без сомнения, ему часто доводилось видеть, как сокращается сердце в груди умирающих бойцов, вспоротой мечом противника. И разумеется, осматривая сокращающиеся сердца и расположенные рядом с ними легкие, он не мог не увидеть крупные вены, по которым темно-красная кровь втекала в правую камеру сердца; эта камера закачивала ту же темную кровь в легкие, а из них в левую камеру сердца поступала уже более яркая, алая кровь. Конечно, он должен был увидеть и как левый желудочек выталкивает кровь в аорту — отходящую от него крупную артерию.
Гален никогда не признавал, что в основе его великого открытия лежали непосредственные наблюдения за бьющимися сердцами и рассеченными мечом артериями. Он утверждал, что получил всю информацию о функциях сердца, легких и артерий, столь ярко описанных в его трудах, во время вивисекций животных. Очень жаль, что Гален не подтвердил, что к правильным выводам его подтолкнули наблюдения именно за умирающими
людьми, а не только за животными. В течение более тысячи лет врачи были убеждены, что он описывал сердечно-сосудистую систему животных, а не человека. Вследствие этого описания сотен важнейших с медицинской точки зрения явлений, приводимых в многотомных трудах Галена, не считались применимыми к сердцу или кровеносным сосудам человека. Более того, Гален, подобно его греческим предшественникам, продолжал ошибочно считать, что печень не только производит кровь, но и прокачивает ее через тело человека.
Итак, на протяжении четырнадцати столетий после смерти Галена европейские врачи, полностью соглашавшиеся со всеми его наблюдениями и выводами, по-прежнему выдвигали самые фантастические теории относительно структуры и функций сердца, артерий и вен — точно так же, как их предшественники до Галена. Впрочем, его наблюдения не были утрачены; в трудах, на многие века переживших ученого, сохранились все описания, пусть и не вполне ясные.
В середине XVI века эти описания нашел испанский врач Мигель Сервет (1509–1553) — еще в бытность студентом Парижской медицинской школы он считался лучшим знатоком трудов Галена. Кроме этого, он, также в студенческие годы, прославился тем, что очень умело и ловко препарировал трупы.
Сервет не только принял открытый Галеном путь кровотока из правого желудочка в легкие и затем в левое предсердие (т. е. легочный, или малый, круг кровообращения), но и подтвердил его существование, указав, что легочная артерия, несущая кровь из правого желудочка в легкие, слишком велика, чтобы снабжать кровью только одно легкое. Ее размер указывал на то, что она несла в легкие
всю кровь из тела, с тем чтобы в легких эта кровь претерпевала какие-то изменения. Вторым важнейшим наблюдением Сервета стало сделанное им открытие, касающееся легких: артерии легкого несли кровь непосредственно в легочные вены, а из них, в свою очередь, она шла в левое предсердие.
В своей дерзости Сервет дошел до того, что стал утверждать вопреки давно устоявшемуся мнению: в перегородке, отделявшей друг от друга правый и левый желудочки, нет никаких пор! Он настаивал на том, что единственный путь, по которому кровь из правого желудочка могла перейти в левый, пролегал через легочную артерию и легкие.
Свои выводы Сервет представил в книге, написанной в 1546 году. К сожалению, эти бесценные анатомические и физиологические наблюдения занимали лишь несколько параграфов рукописи, которая в основном была посвящена изложению еретических взглядов Сервета на природу Святой Троицы и значение акта крещения.
Сервет настолько гордился своим трудом, что послал один экземпляр основоположнику протестантизма Жану Кальвину. Анатомическая часть Кальвина абсолютно не заинтересовала, зато еретические рассуждения на темы религии привели его в ужас. Он написал Сервету письмо с суровым осуждением и даже отказался вернуть ему рукопись.
Но ничто не могло охладить пыл Сервета, не испугало его и то, что Кальвин изо всех сил постарался не допустить издание рукописи — Сервет издал ее в 1553 году на собственные деньги
[8]!
Религиозные воззрения ученого показались еретическими не только протестанту Кальвину, но и отцам католической церкви. По распоряжению французского духовенства Сервета арестовали через несколько месяцев после выхода в свет его книги. К счастью, ему удалось сбежать из тюрьмы, и он в течение четырех месяцев скрывался во Франции, бесцельно переезжая с места на место. Затем, по причинам, которых мы никогда не узнаем, он отправился в Женеву, где жил его заклятый враг Жан Кальвин. Сервету инкогнито удалось прожить там считанные дни. Как-то на улице его узнали какие-то монахи. Ученого тут же арестовали и бросили в застенки. Кальвин не проявил милосердия, присущего, казалось бы, христианам. После процесса, продолжавшегося несколько месяцев, 27 октября 1553 года, через девять месяцев после публикации его книги, Сервета сожгли на костре.
Многие поколения английских историков медицины по вполне понятным причинам стремились доказать, что все заслуги в открытии системы кровообращения принадлежат их соотечественнику Уильяму Гарвею. Они не только не замечали тот факт, что изначально легочное кровообращение открыл Гален, но и настаивали на том, что «повторное открытие» этого феномена Серветом осталось неизвестным, поскольку
все его книги были сожжены на костре вместе с автором в 1553 году. Однако на самом деле сожгли только несколько экземпляров книги. За девять месяцев до смерти Сервет издал ее тиражом в тысячу экземпляров. Половину тиража он отослал книготорговцу в Лион, а вторую половину — во Франкфурт. Так что можно с уверенностью утверждать, что за много месяцев до и в течение многих лет после казни Сервета его книга и описанные в ней характеристики сердечно-сосудистой системы находились в поле зрения медицинской общественности.
Кроме того, в своем рвении сделать Гарвея первооткрывателем легочного кровообращения английские деятели то ли забыли, то ли не заметили, что Сервет постоянно общался с коллегами из Франции, Германии и Италии, и, по всей вероятности, за двенадцать лет, прожитых им после повторного открытия легочного кровотока, успел поделиться кое с кем своими выводами.
Наконец, если бы заявление английских поклонников Гарвея об уничтожении всех экземпляров книги Сервета было правдой, им пришлось бы объяснить, почему эта книга впоследствии была переиздана и во Франции, и в Германии.
Можно с огромной долей вероятности утверждать, что прославленный анатом из Падуи Реальдо Коломбо знал об открытиях своего современника задолго до того, как в 1559 году
[9], через шесть лет после публикации книги Сервета, вышла его собственная книга.
Коломбо не просто подтвердил существование легочного кровообращения. Он сделал еще три важных наблюдения, причем ни одно из них не было бы возможно без вскрытия живых животных — с того времени, когда Гален с помощью вивисекции на животных подтверждал сведения, полученные при наблюдении за умирающими гладиаторами, эта процедура не применялась. Во-первых, он не только выявил наличие клапанов в четырех сосудах, входящих в правый и левый желудочки и выходящих из них, но и установил, что эти сосуды позволяют крови двигаться только в одном направлении: из правого желудочка в легкие, потом из легких в левый желудочек, а оттуда — в аорту.
Во-вторых, он правильно описал
фазу сокращения (то есть систолу) и
фазу расслабления (то есть диастолу) желудочков сердца. В течение многих веков до того, как Коломбо дал четкое описание сердечного цикла, вопрос о том, когда именно сердце сокращается и расслабляется, был источником большой путаницы.
И наконец, самым важным достижением Коломбо можно назвать опровержение многовекового заблуждения — тезиса о том, что в легочной вене, идущей от легких к левому желудочку, содержится воздух — по этому сосуду в сердце поступала только кровь.
Вышедшая в 1559 году книга Коломбо «De re anatomica» широко разошлась по Европе. Вряд ли можно сомневаться в том, что выводы Коломбо относительно строения сердечно-сосудистой системы были известны пизанскому ботанику и анатому Андреа Чезальпино задолго до того, как в 1571 году он издал собственную книгу, в которой опять-таки описывалось легочное кровообращение
[10]. Но если Коломбо не признал приоритета Сервета в этом открытии, то Чезальпино не упомянул ни Сервета, ни Коломбо. В попытках отстоять собственный приоритет в отношении того, что они считали своими открытиями, ученые эпохи Возрождения проявляли не меньшее жестокосердие, чем современные нобелевские лауреаты.
Чезальпино (1519–1603) с самого начала своей научной деятельности стал резко нападать на схоластику, господствовавшую в философии того времени. Его тут же обвинили в безбожии, однако суда инквизиции он избежал — по-видимому, потому, что в его философском учении присутствовали чудеса даже в естественном порядке вещей, а кроме того, и из-за благосклонного отношения к нему Ватикана (папа Климент VII назначил его своим первым лекарем). Чезальпино действительно сделал два важнейших новых открытия — и допустил одну чудовищную ошибку. Прежде всего он заметил, что после временного пережатия вены в руке или ноге происходит растяжение вены
ниже места пережатия. Именно это частное наблюдение, повторенное позже Уильямом Гарвеем, сыграло ключевую роль в открытии Гарвеем системы кровообращения тела в целом. (К сожалению, Чезальпино не сумел оценить огромную важность своего открытия.) Кроме этого, он установил, что в месте входа в правое предсердие диаметр полой вены больше, чем в месте ее выхода из печени. Он ошибочно принял эту разницу за доказательство того, что кровь по полой вене идет не
в сердце, а
из сердца.
Практически невозможно понять, почему блестяще одаренный итальянец, уже знавший о том, что венозная кровь в теле всегда идет из конечностей в направлении сердца, сделал такую ошибку. По-видимому, славный ботаник не совершил величайшее открытие в истории медицины лишь потому, что оказался не в состоянии справиться с ужасающей процедурой вскрытия грудных клеток живых, страдающих животных, чтобы увидеть их бьющиеся сердца. Обладай он беспардонной научной жестокостью Галена или Коломбо (или Гарвея, сделавшего это спустя полвека), не останавливавшихся перед вивисекцией, нам пришлось бы признать правоту тех итальянских историков медицины, которые называют Чезальпино истинным первооткрывателем кровообращения. Но, поскольку вивисекция оказалась для Чезальпино непреодолимым барьером, подобное восхваление соотечественника следует рассматривать лишь как проявление шовинистической истерии.
Иероним Фабриций, один из последователей Коломбо в Падуанском университете, опубликовал книгу
[11] с первым в истории описанием венозных клапанов человека в 1617 году, но еще задолго до того он показал эти клапаны своим студентам. Одним из его любимцев был молодой англичанин Уильям Гарвей — ему тогда только что исполнился двадцать один год. Совершенно очевидно, что эти клапаны вызвали у Гарвея не меньший интерес, чем у самого Фабриция, открывшего их существование. Но ни он сам, ни Гарвей в бытность свою студентом-медиком не поняли, в чем состояла их функция. Прошло несколько десятков лет, и Гарвей наконец осознал, какова роль клапанов; а когда к нему пришло это осознание, он приступил к тайне кровотока во всех частях человеческого тела.
До Гарвея, то есть до начала XVII века, ни один англичанин не сделал сколько-нибудь значимых открытий в сфере медицины. Гарвей дополнил своими наблюдениями ранее сделанные открытия и подарил миру теорию, которой было суждено бессмертие.
К сожалению, личное имущество Гарвея было уничтожено — вначале солдатами Оливера Кромвеля в 1642 году, а потом страшным лондонским пожаром 1666 года, когда сгорела библиотека Королевской коллегии врачей, где хранились все письма и научные труды Гарвея. Сохранились лишь несколько писем и немногочисленные разрозненные и, как правило, краткие описания его деятельности и выступлений, составленные по воспоминаниям трех современников: отца современной химии Роберта Бойля, историка Джона Обри, чьи труды нельзя считать вполне заслуживающими доверия, так как он предпочитал фактам сплетни, и сэра Джорджа Энта, врача, преданного ученика Гарвея. Помимо главного шедевра, «De motu cordis», до нас дошли еще две книги Гарвея. Чудесным образом во время пожара 1666 года удалось спасти заметки, подготовленные им в 1616 году для лекций по анатомии в рамках Ламлианских чтений в Королевской коллегии (сейчас они надежно хранятся в Британском музее). Именно благодаря этим сохранившимся документам и некоторым другим сведениям можно сегодня представить личность, характер Уильяма Гарвея и его великие деяния.
Уильям Гарвей родился в 1578 году в Фолкстоне, маленьком старинном городке в нескольких милях от Дувра. Он был старшим из семи сыновей в зажиточной купеческой семье. Яркие дарования мальчика проявились очень рано. В качестве награды за отличную учебу его приняли в Киз-колледж в Кембридже, где он получил степень бакалавра. Хотя колледжу каждый год поставляли для вскрытия трупы двух повешенных преступников, Гарвей решил изучать медицину в другом месте. Он отправился в Падую, где кафедру анатомии возглавляли вначале Везалий, а затем Коломбо. Гарвей был хорошо осведомлен об их открытиях. В 1600 году он стал ассистентом Фабриция, и Фабриций был одним из четырех профессоров, подписавших диплом Гарвея. Кстати, единственным указанием на дату рождения Гарвея можно считать цифру «1578», собственноручно проставленную им в дипломе.
В возрасте двадцати четырех лет Гарвей вернулся в Лондон. Этот молодой человек небольшого роста, с темно-карими глазами и угольно-черными волосами отличался весьма неприятным нравом. Обри пишет, что он был очень вспыльчив и с готовностью хватался за кинжал. Даже преклоняющийся перед Гарвеем историк медицины Джеффри Кейнс мягко называет его «необщительным».
Женился Гарвей чрезвычайно удачно — на Элизабет Браун, дочери придворного врача королевы Елизаветы. Благодаря столь уважаемому тестю, Гарвей достаточно быстро был выбран членом Королевской коллегии врачей. Вскоре после этого он получил место штатного врача в больнице Святого Варфоломея, а после смерти королевы Елизаветы пользовал короля Якова I. Когда в 1625 году скончался и Яков (Гарвей принимал участие во вскрытии его тела), он занял должность одного из лечащих врачей Карла I.
Скорее всего, он занял бы эти должности, даже не будучи зятем доктора Брауна. С самого начала своей медицинской карьеры Гарвей пользовался большим уважением коллег. Недаром начиная с 1616 года его ежегодно приглашали участвовать в Ламлианских чтениях. (Эти чтения, учрежденные в 1581 году лордом Ламли, проводились в Лондоне с целью повышения уровня медицинского образования.)
О жене Гарвея, Элизабет, мы не знаем почти ничего, кроме того, что у нее был горячо любимый попугай, — Гарвей подробнейшим образом описал его в своей книге по эмбриологии. Когда птица внезапно умерла, Гарвей вскрыл ее. К его величайшему удивлению, обнаружилось, что причиной гибели попугая, которого всегда считали самцом (поскольку он пел и разговаривал), стало яйцо, разложившееся в яйцеводе. Это открытие навело Гарвея на мысль о том, что птица погибла из-за недостатка любви; он цитирует шесть строчек из Вергилия, где говорится о весне и о том, как она пробуждает Венеру в каждом живом существе.
Портрет миссис Гарвей с попугаем сгорел в 1907 году; жалко, что мы не можем увидеть подругу жизни ученого, наверняка это была милая женщина. Однако вряд ли ее жизнь можно назвать счастливой. В ней был только попугай и муж, уезжавший от нее на долгие годы и посвятивший всю жизнь непрерывному препарированию трупов более ста различных видов животных, от мух до оленей, в том числе — гадюк, улиток, гусей, черепах, рыб и крыс. Детей ей Бог не дал, а муж, который в беседах с Джоном Обри часто замечал, что европейцы «не знают, как приказывать женщинам и повелевать ими», и что только турки «разумно их используют», редко дарил ей радость.
Конечно, Гарвей не мог быть приятным человеком. Ему, как и жившему через два века после него вивисекционисту Клоду Бернару, часто приходилось быть жестоким. Иначе как бы он вынес вой, визг, рычание и стоны собак и других животных, которых безжалостно вскрывал без всякой анестезии? Очень может быть, жена Гарвея, подобно жене и дочери Бернара, ненавидела и презирала мужа за его жестокость.
Интересно также, что, несмотря на профессиональное уважение, которым пользовался Гарвей в Королевской коллегии врачей, несмотря на восхищение коллег его научными достижениями (еще при его жизни, говоря о нем, люди употребляли такие слова, как «божественный» и «бессмертный»), занять пост президента Коллегии ему предложили только тогда, когда сочли, что в силу преклонного возраста (семьдесят три года!) он будет вынужден отклонить это лестное предложение.
Не ясно, насколько искусным врачом был Гарвей. Обри пишет, что при всем восхищении научными достижениями Гарвея как врача его не очень уважали. Безусловно, он не сумел выйти за рамки некоторых средневековых воззрений и предрассудков. Так, он сообщал, что опухоль молочной железы исчезла после того, как он ударил по ней холодной рукой трупа. Однако в другом случае он излечил опухоль,
лишив ее источников кровоснабжения, и тем самым опередил свое время, словно заглянув в медицину сегодняшнего дня.
Надо заметить, что Гарвей верил в существование ведьм; по просьбе короля Карла I он с готовностью согласился обследовать женщину, подозреваемую в ведовстве. Подобно другим своим современникам, он осматривал тело женщины в поисках одной из двух телесных примет, которыми, как считалось, обладали ведьмы: участков огрубелой кожи, нечувствительных к боли, или сосков в иных местах, нежели грудь. Гарвей считал, что он нашел у предполагаемой ведьмы сосок рядом с тем, что он назвал «ее потаенным местом» (т. е. рядом с половыми органами), но при более тщательном обследовании «сосок» оказался всего лишь безвредным выпирающим геморроидальным узелком.
Так или иначе, по своему складу Гарвей был настоящим ученым. Он постоянно стремился извлечь из обширной коллекции природных явлений как можно больше интересных для него фактов. То же, что делали в жизни его друзья (или даже его король), его совершенно не занимало. Например, в 1642 году, во время сражения при Эджхилле, первого крупного сражения английской гражданской войны за Оксфорд, резиденцию Карла I, когда на карту были поставлены корона и жизнь короля, Гарвей сидел под кустом, спокойно читая книгу, и ушел лишь тогда, когда ядра стали падать чересчур близко от него.
В конце жизни он разговорился с Джоном Обри о прошлом. Гарвей вспоминал не о чудесных годах, проведенных с Элизабет, и не о ее смерти, а о том, как в 1642 году потерял почти законченную рукопись о насекомых. По словам Обри, Гарвей сказал ему, что эта потеря стала «величайшим страданием» за всю его жизнь. Вот о чем сокрушался истинный ученый, получавший настоящее удовольствие от постоянных попыток открыть и понять как можно больше явлений и процессов, происходящих в природе. Наибольший интерес для Гарвея представляли вскрытие и вивисекция любого вида живого существа, попадавшего ему в руки, будь то креветка, жаба или 152-летний Томас Парр.
Последние семь из семидесяти девяти лет жизни он провел в доме своего единственного оставшегося в живых брата Элиаба, очень богатого человека. У Элиаба был собственный камердинер и, также по воспоминаниям Джона Обри, «хорошенькая, молодая служанка, чтобы ходить за ним, и которую, как я полагаю, он, подобно царю Давиду, использовал, чтобы согревать свое тело…»
Доктор Джордж Энт, молодой и преданный поклонник Гарвея, посетивший в 1649 году ушедшего на покой ученого, заметил, что у того имелись многочисленные, но никак не систематизированные записи, относящиеся к исследованиям эмбрионов. Энт сразу же понял, насколько важны эти эмпирические и экспериментальные наблюдения, и постепенно сумел получить от Гарвея согласие на редактуру и издание книги, в которой описывались бы его разнообразные эмбриологические опыты. Книга эта увидела свет в 1651 году
[12]. В ней Гарвей выдвигает принципиально новую теорию о том, что все формы жизни зарождаются из яйца и первоначально развиваются в яйце. В отличие от теории кровообращения, эта эмбриологическая концепция получила подтверждение лишь в 1827 году, когда Карл Бэр обнаружил яйцеклетку в яичнике женщины.
Уильям Гарвей умер в 1657 году от инсульта. Его похоронили в склепе под часовней, воздвигнутой Элиабом возле церкви в Хепстеде, в графстве Эссекс. Шли годы, окна в склепе разбились. Свинцовый гроб, в котором покоилось тело Гарвея, заливали водой дожди, а подростки забрасывали его камнями. В конце концов гроб треснул. Узнав об этом, члены Королевской коллегии врачей решили вынести поврежденный гроб из склепа и перезахоронить его в Вестминстерском аббатстве. Этого им сделать не удалось, и тогда они торжественно перенесли гроб из склепа в расположенную непосредственно над ним часовню. Там его поместили в роскошный мраморный саркофаг, где тело Уильяма Гарвея и обрело вечный покой.
За какие-то семнадцать лет первой трети XVII века свет увидели три величайших издания на английском языке: перевод Библии, утвержденный королем Яковом I (1611), так называемое «Фолио» пьес Шекспира (1623) и перевод на английский язык трактата Гарвея «Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus» («Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных»), который на протяжении уже многих веков называют просто «De motu cordis» («О движении сердца»). Можно сказать, что эта книга стала для мировой медицины тем же, чем перевод Библии для английской церкви, а шекспировское «Фолио» — для английской литературы.
До появления этой скверно изданной (126 ошибок в первом издании) семидесятидвухстраничной книги, состоящей из семнадцати глав, ни один английский ученый не издавал столь значимого труда по медицине. Было отпечатано, по всей видимости, двести экземпляров, из которых (по данным Джеффри Кейнса) сохранилось только пятьдесят три. Но даже в некоторых из этих сохранившихся экземпляров нет первой страницы, на которой Гарвей раболепно выражал свое уважение к королю Карлу I. Мы полагаем, что страница была вырезана из экземпляров книги Гарвея, попавших в руки ревностных шотландских пресвитерианцев, не желавших примириться даже с письменным посвящением склонявшемуся к католицизму Карлу.
Трудно сказать, когда точно Гарвей решил издать «De motu cordis», но нам известно, что до этого он по собственному желанию в течение двенадцати лет читал лекции о сердце, артериях и венах своим коллегам в Королевской коллегии врачей. На этих лекциях он производил вивисекции, во время которых напуганные, но восхищенные члены Коллегии могли наблюдать, как кровь, выбрасываемая из правого желудочка живой, визжащей свиньи в ее легкие, потом поступает в левый желудочек, а затем выталкивается в аорту и в отходящие от нее артериальные ветви.
В посвящении «De motu cordis» Гарвей напоминает о своих лекциях и экспериментах в Королевской коллегии, обращаясь к такой знаменитости, как президент Коллегии д-р Арджент:
В своих лекциях по анатомии я уже неоднократно представлял вам, мои ученые друзья, мои новые взгляды на движение и функцию сердца; однако теперь, после того, как я в течение девяти лет и более подтверждал эти взгляды в вашем присутствии многочисленными демонстрациями, иллюстрировал их доказательствами и опровергал возражения самых ученых и опытных анатомов, я наконец внял просьбам и даже, могу сказать, мольбам многих из вас и хочу в этом трактате представить эти взгляды на всеобщее рассмотрение.
Гарвей прекрасно понимал, чем рисковал, решившись противоречить многовековой доктрине Галена. В качестве самой мягкой меры наказания за такую ересь его могли лишить членства в Королевской коллегии. Поэтому он очень осторожно, очень терпеливо и очень умело убеждал по отдельности каждого члена Коллегии в неоспоримой правоте всех своих идей. Таким образом он обеспечивал себе гарантию того, что независимо от критики, которая могла обрушиться на него после опубликования книги, лучшие медицинские умы Англии — умы, принадлежавшие членам Королевской коллегии, — будут преданно защищать его и его революционные взгляды.
При написании трактата он принял еще одну меру предосторожности. Он ни разу не высмеял
напрямую ни одного утверждения, ни одной идеи Галена. Прекрасно зная, что легочный или малый круг кровообращения был описан не только Галеном, но и Серветом, Коломбо и Чезальпино, Гарвей указывал на заслуги в этом открытии только одного Галена. Аналогичным образом, прекрасно осведомленный о том, что именно Коломбо открыл, что в артериях содержится не воздух, а кровь, он приписал это открытие опять-таки Галену, своему античному предшественнику, столь же преданному вивисекционисту. Только при самом внимательном прочтении «De motu cordis» и при осмыслении его содержания становится понятно, что, несмотря на елейные восхваления в адрес Галена, Гарвей неустанно выдвигает на первое место свои собственные наблюдения, описывая все — от мертвого сердца гадюки до сокращающегося во вскрытой грудной клетке сердца виконта Хью Монтгомери. Тем самым ему удается полностью разрушить большинство представлений Галена о структуре и функциях сердца.
Помимо того, что Гарвей потратил годы на разъяснение своей теории и доказательство ее правоты перед собратьями по Коллегии, помимо того, что ему приходилось быть крайне осторожным и постоянно превозносить величие Галена, опровергая при этом его идеи, он затратил неимоверные усилия на то, чтобы должным образом предварить изложение сути собственного оригинального и величайшего открытия — этой цели служат первые семь глав книги. В них он описывает анатомию и работу предсердий, желудочков, артерий, вен и клапанов сердца. Остановимся вкратце на этих главах, прежде чем перейти к восьмой, в которой излагается открытие, сделавшее медицину наукой.
В семи вводных главах Гарвей очень мягко (если быть до конца честным, слово «мягко» следует заменить на «ловко») описывает анатомию предсердий, желудочков и кровеносных сосудов сердца. Он описывает также клапаны кровеносных сосудов, входящих в камеры сердца и выходящих из них. Затем он пишет о полулунных клапанах легочной артерии и указывает, что способ их открытия и закрытия свидетельствует о том, что легочная артерия должна нести кровь
из правого желудочка
в легкие. Он не упоминает о том, что пятьдесят шесть лет назад Коломбо, чьи ранние наблюдения были ему хорошо известны, уже описал структуру и функцию полулунных клапанов. Может быть, Гарвей чувствовал себя вправе присвоить открытия Коломбо, поскольку знал, что Коломбо не воздал должное за описание той же сосудистой структуры Сервету? В первых семи главах Гарвей также подчеркивает, что единственной функцией сердца является перекачивание крови, и проводит четкую дифференциацию между сокращениями предсердий и желудочков, указывая, что предсердия сокращаются
раньше, чем желудочки. Последнее наблюдение было совершенно новаторским. До исследований Гарвея никому не удавалось определить, сокращаются ли предсердия до или после желудочков, потому что сердца большинства животных, подвергаемых вивисекции, бились с такой скоростью, что последовательность сокращений установить было очень трудно.
Гарвей справился с этой проблемой двумя путями. Во-первых, он вскрывал и наблюдал сердца холоднокровных животных, например рыб, которые сокращаются в гораздо более медленном темпе. Во-вторых, Гарвей терпеливо ждал, пока подвергнутые вивисекции теплокровные животные начинали умирать, а тогда сердца у них сокращались все медленнее. Именно наблюдения за умирающими животными помогли Гарвею определить, что предсердие сокращается первым, выталкивая кровь в сопряженный с ним желудочек, после чего сокращается и сам желудочек.
Описав анатомию и функцию сердца, а также пульсацию артерий в 6 и 7 главах, Гарвей представил динамику легочного или малого круга кровообращения, т. е. прохождение крови из правого сердца через легкие в левое сердце. Прекрасный язык изложения, мастерство, с которым автор связывает материал с иллюстрациями сердечной анатомии и динамики из первых пяти глав книги, а также полное отсутствие каких-либо упоминаний об аналогичных наблюдениях Сервета, Коломбо и Чезальпино — все это убеждало читателей, что описание легочного кровотока в 6 и 7 главах является собственным, оригинальным, триумфальным открытием Гарвея. Он упоминает об открытии малого круга кровообращения Галеном, но делает это настолько искусно, что создается впечатление, будто Гален подтверждает выводы Гарвея. (Впрочем, литературные изыски Гарвея не обманули выдающегося анатома Уильяма Хантера, который в 1783 году указал, что истинными первооткрывателями легочного кровообращения были Коломбо и Чезальпино, а вовсе не Гарвей).
В начале 8 главы Гарвей предупреждает читателя: то, что ему предстоит прочитать, будет «настолько новым и неслыханным по своему характеру, что я не только опасаюсь оскорблений в мой адрес со стороны нескольких завистников, я боюсь, что люди станут моими врагами». После этого он пишет:
Я начал думать о том, что данное движение может осуществляться в замкнутом круге. Впоследствии я обнаружил, что эта мысль верна; и наконец я увидел, что кровь, проталкиваемая в артерии усилием со стороны левого желудочка, распределяется по всему телу… а затем, уже описанным образом, проходит через вены, и по полой вене, обратно в левый желудочек. Мы вполне можем позволить себе назвать это движение круговым.
Представив эту блестящую концепцию как чисто интуитивную, в следующих девяти главах Гарвей поразительным образом раз и навсегда доказывает ее абсолютную правоту. Никогда ранее, и очень редко в будущем, ученому не удавалось представить результаты своей экспериментальной работы столь ясным и изящным языком.
Первым блестящим экспериментом Гарвея, легшим в основу теории
кровообращения, стало измерение объема крови в левом желудочке собаки. Умножив полученную приблизительную цифру на число сокращений сердца в минуту, он подсчитал, что за полчаса левый желудочек должен выбрасывать три фунта крови, т. е. количество, почти равное общему объему крови в организме животного. Затем Гарвей задает почти риторический и, безусловно, решающий вопрос: откуда же берется вся кровь, выходящая из левого желудочка? Ее источником не могут быть поглощенные пища и жидкости. Каким же образом аорта и артерии могут принимать такое огромное количество крови, если не будут быстро освобождаться от большей ее части? Напрашивается единственный логичный ответ: кровь, выбрасываемая сердцем в аорту и артерии, возвращается обратно в сердце через вены, завершая тем самым бесценный гарвеевский «
круг».
Выполнив эти измерения и вычисления, Гарвей провел непосредственное наблюдение за тем, что происходит в бьющемся сердце живой змеи после временного пережатия единственной входящей в него вены. Он обнаружил, что сердце бледнело, сморщивалось и прекращало выбрасывать кровь в аорту. После снятия зажима сердце немедленно приобретало свой привычный пурпурно-красный цвет и снова качало кровь в аорту. Когда же Гарвей пережимал аорту, то ее сегмент вблизи места пережатия, так же как и само сердце, раздувался от крови, выходу которой мешал зажим на аорте. Эти наблюдения в очередной раз подтвердили, что сердце выбрасывало кровь в артериальную систему только после того, как получало ее из венозной системы.
Дальнейшие исследования движения крови в периферических артериях и венах дали новые доказательства правильности теории Гарвея о круговом характере кровотока. Он показал, что после перевязки какой-либо вены сегмент ниже перевязки обязательно раздувался, тогда как сегмент над перевязкой всегда сжимался. Более того, в случае перевязки артерии непременно происходило спадение вен, соединяющихся с этой артерией, а сразу после снятия перевязки вены открывались и заполнялись кровью (рис.).
 Единственный рисунок в книге Уильяма Гарвея «О движении сердца» — это изображение руки, вены и клапаны на которой деформированы после наложения жгута. Наблюдавшиеся Гарвеем разбухание вены ниже и спадение ее выше места пережатия впервые навели его на мысль о том, что вся венозная кровь движется в направлении сердца
Единственный рисунок в книге Уильяма Гарвея «О движении сердца» — это изображение руки, вены и клапаны на которой деформированы после наложения жгута. Наблюдавшиеся Гарвеем разбухание вены ниже и спадение ее выше места пережатия впервые навели его на мысль о том, что вся венозная кровь движется в направлении сердца
В 13 главе Гарвей описывает простые эксперименты, которые, как много лет спустя он рассказывал известному английскому ученому Роберту Бойлю, навели его на мысль о том, что кровь следует по замкнутому кругу — из артерий в вены и обратно.
До того, как описать свои важнейшие эксперименты, Гарвей указывает, что клапаны во всех венах организма устроены таким образом, что позволяют крови течь только в одном направлении. Он доказал это, показав, что зонд можно провести по вене только в одну сторону, а именно — в ту сторону, куда открываются венозные клапаны.
Однако в каком именно направлении кровь течет по венам? Ответ на этот вопрос был получен Гарвеем в результате простого, но принципиально важного эксперимента.
Прежде всего он наложил на плечо человека перевязку, достаточно тугую, чтобы в руке пропал пульс. Рука побледнела, похолодела, человек испытывал боль. Более того, Гарвей отметил спадение вен в руке. После того, как перевязку немного ослабили, чтобы допустить слабый артериальный кровоток, рука и кисть ниже перевязки стали теплыми и приобрели исходный цвет. В свою очередь, вены на руке расширились вследствие того, что наполнились кровью, оттоку которой все еще препятствовала частично ослабленная перевязка.
Гарвей считал, что этот опыт ясно показывает: попадающая в руку и питающая ее артериальная кровь позже выходит из руки по венам. Однако в каком же направлении течет кровь по венам руки? Для того чтобы ответить на этот вопрос, Гарвей наложил на руку добровольца нетугой жгут. Затем он дождался, пока на руке набухнут вены и можно будет определить местоположение клапанов. Указательным пальцем левой руки он прижал вену в месте, где находился один из ее клапанов. После этого указательным пальцем правой руки он выдавил всю кровь в сегменте выше пережатого клапана вверх, до следующего клапана, располагавшегося выше пережатого нижнего клапана. Отпустив палец правой руки, Гарвей заметил, что сегмент вены между двумя клапанами остался спавшимся. Следовательно, верхний клапан не позволял крови пройти обратно, в спавшийся сегмент вены. Однако, когда Гарвей убрал палец левой руки с нижнего клапана, спавшийся сегмент вены быстро заполнился кровью. Это позволило Гарвею понять, что венозная кровь всегда идет в направлении сердца.
Простой эксперимент подтвердил то, что Гарвей выявил уже раньше, в ходе многочисленных вивисекций. Клапаны всех вен — в конечностях, в брюшной полости, в грудной клетке и даже в голове — позволяли крови течь только в одном направлении —
к сердцу. Сопоставив этот факт с ранее сделанным открытием, что артериальная кровь тоже течет только в одном направлении —
от сердца, Гарвей понял, что объяснить эти наблюдения можно только одним образом: путь крови в организме представляет собой замкнутый круг.
В 14 главе трактата Гарвея содержатся всего две фразы, причем во второй заключен его основной вывод:
Поскольку все, и доказательства, и зрительная демонстрация, показывает, что кровь проходит через легкие и сердце благодаря работе [предсердий и] желудочков, отправляющих ее для распространения по всем частям тела, где она проходит через вены и поры плоти, потом течет по венам со всех сторон окружности тела к центру, из меньших вен в большие, а затем эти вены выводят ее в полую вену и правое предсердие сердца, и поскольку количество крови или ее приток и отток, в одну сторону — по артериям, в другую сторону — по венам, не может восполняться пищей и значительно превосходит количество, требуемое только в целях питания, неизбежно следует заключить, что кровь находится в состоянии бесконечного движения; что это является действием или функцией,осуществляемой сердцем посредством его пульсации; и что только в этом и состоит цель движения и сокращений сердца.
Это обобщающее предложение является наиболее значимым из когда-либо опубликованных заявлений на тему медицины. Везалий дал медицине великолепное представление о теле; однако он описывал тело, превращенное смертью в неподвижную массу мышц и костей, внутри которой заключены разнообразные органы и ткани. Все многообразие их функций оставалось полнейшей загадкой в течение еще восьмидесяти пяти лет, до того, как бессмертные слова Гарвея одарили жизнью и движением два из важнейших компонентов организма — сердце и кровь.
Мы уже упоминали, что Гарвей приложил немало усилий, дабы убедиться, что все его собратья по Королевской коллегии врачей осведомлены о его взглядах, касающихся не только малого круга кровообращения, но и кровообращения в целом. Благодаря этому он избежал злой критики со стороны соотечественников, хотя его современники не проявили должного усердия, чтобы защитить Гарвея от зарубежных коллег, язвительно высмеивавших его книгу.
Европейские критики не подвергали сомнению взгляды Гарвея на легочное кровообращение; они знали, что Гален, Сервет и Чезальпино уже доказали прохождение крови из правого сердца в левое через легкие. Злобным нападкам подвергалось данное Гарвеем описание общего кровообращения — положение о том, что
вся кровь из всего тела поступает через артерии в вены, а затем через сердце обратно в артерии. Тогда еще многие полагали, что кровь, циркулирующая по телу, выбрасывается печенью. (Будет справедливым отметить, что Гарвей и сам не до конца понимал роль печени и ее связь с кровью и лимфой, белесоватой жидкостью, образующейся из продуктов, перевариваемых в кишечнике. Лимфа выходит из кишечника через лимфатические сосуды, которые в 1627 году впервые обнаружил и описал Гаспаре Азелли.) В 1616 году Гарвей, как и его современники, считал, что печень поставляет кровь
в кишечник и получает лимфу
из кишечника и при этом обе жидкости следуют в противоположных направлениях по портальной вене. В какой-то момент, после 1620, но до 1628 года, Гарвей изменил свою точку зрения. Теперь он утверждал, что по портальной вене кровь поступает
из кишечника
в печень. Будучи по-прежнему уверен в том, что лимфа также идет в печень по портальной вене, он не принял открытия Азелли и не признал существования лимфатических сосудов кишечника и их роль в транспорте лимфы в грудной лимфатический проток.
Представляется более чем вероятным, что Гарвей настолько сосредоточился на доказательстве кругового движения крови из вен в артерии, что забыл упомянуть в своей книге о различии в цвете между артериальной и венозной кровью. Известно, что его предшественники-анатомы знали об этом различии. Даже его бессмертному современнику, Уильяму Шекспиру, было известно, что венозная кровь темно-красная: в «Юлии Цезаре» Брут шепчет Порции: «Ты дорога мне как темные капли в моем печальном сердце…»
Впрочем, не исключено, что Гарвей не упоминал о разнице в цвете венозной и артериальной крови лишь потому, что совершенно ничего не знал о роли легких в аэрации проходящей через них крови. Пройдет еще сорок один год, и Ричард Лауэр покажет, что венозная кровь, проходя через легкие, меняет свой темный, синеватый цвет на ярко-алый, потому что по пути через легкие соприкасается с воздухом
[13]. Позже он без труда докажет этот факт, собрав венозную кровь в открытый сосуд и встряхнув его; темно-фиолетовый цвет немедленно сменится на ярко-красный.
Гарвею также пришлось просто утверждать, что артерии тела несут кровь в вены. Он не мог наблюдать сообщений между этими сосудами, потому что в его время еще не существовало микроскопов. Впрочем, в 1661 году итальянский анатом Марчелло Мальпиги уже использовал в своих исследованиях этот прибор — с его помощью он и обнаружил крохотные капилляры, по которым кровь из артерий поступала в вены
[14]. Теперь круг кровообращения, открытый Гарвеем, замкнулся окончательно.
Глава 3
Антони Левенгук и бактерии

Антони ван Левенгук
(1632–1723)
Ренье де Грааф прожил всего тридцать два года, но за сей короткий срок голландский врач и анатом успел очень многое — не только нашел в яичнике участки, содержащие яйцеклетки, но и заставил, пусть и косвенным образом, медицинское сообщество обратить внимание на микробы. В 1673 году, буквально за несколько месяцев до смерти, он написал Генри Ольденбургу, секретарю лондонского Королевского общества, письмо, в котором извещал, что некий голландец сконструировал чудесный прибор — микроскоп, позволяющий увидеть мельчайшие объекты. Вряд ли де Грааф сообщил Ольденбургу, что его соотечественник Антони ван Левенгук был не врачом и не ученым, а простым, малообразованным торговцем мануфактурой, не владевшим ни одним языком кроме родного голландского.
Получив письмо от столь известного и уважаемого человека, Ольденбург предложил Левенгуку представить доклад с изложением некоторых результатов микроскопических исследований для возможной публикации в издававшемся Обществом журнале «Philosophical Transactions».
Предложение Ольденбурга, безусловно, польстило Левенгуку. Однако, отправляя в 1673 году свою первую статью в Лондон, он написал, что ранее не пытался обнародовать ни одно из своих открытий, поскольку не был уверен, что сумеет достаточно толково выразить свои мысли, а также и потому, что не любил, чтобы ему возражали. К счастью, в первом сообщении эксцентричного голландского торговца мануфактурой содержалось немного информации, способной вызвать критику: он описал, как выглядят под микроскопом обычная плесень, а также глаз, жало и рот пчелы. По сути говоря, первые наблюдения Левенгука были далеко не столь невероятны, как те, что еще раньше, в 1664 году, описал член Королевского общества Роберт Гук
[15].
Прежде чем продолжить рассказ о научных достижениях такого удивительного человека, как Антони Левенгук, расскажем вкратце о его жизни. Он родился в 1632 году, а умер в 1723-м, когда ему было девяносто один год.
Конечно, такое долголетие нельзя назвать уникальным, но в то время, да и сейчас прожить столько удается не каждому. Первый раз он женился в двадцать два года; спустя двенадцать лет его жена Барбара умерла, и через несколько лет он женился вторично. Из пяти детей, родившихся в первом браке, выжила только дочь Мария. Она не вышла замуж и после смерти мачехи жила с отцом и ухаживала за ним.
Левенгук не получил хорошего образования, однако, несмотря на это, пользовался уважением в родном Делфте. Члены городского совета хорошо знали этого человека. В 1676 году они назначили его управляющим имуществом вдовы художника Яна Вермера, признанного лишь многие годы спустя после смерти.
Судя по всему, Левенгук, как и любой другой зажиточный горожанин, жил спокойно и не отказывал себе в удовольствиях: за завтраком пил обжигающе горячий кофе, а вечером чай, не боялся продуктов, содержащих холестерин, а также не старался ограничить себя в употреблении насыщенных жиров. Кроме того, он обладал тем, чего так не хватает сегодня многим из нас, — дочь Мария обожала отца и трепетно заботилась о нем. К тому же он наслаждался обществом лохматой собаки, говорящего попугая и верного коня. Торговля мануфактурой оставляла ему достаточно свободного времени — за шестьдесят один год, что он занимался созданием микроскопов, у него накопилось более 120 000 часов досуга. В свои микроскопы он разглядывал самые разные предметы — хрусталик глаза кита, собственную сперму, конский навоз. В его лавке не звонили телефоны, не раздавались бесконечные щелчки компьютеризованных кассовых аппаратов, и ему не приходилось отвлекаться на заполнение налоговых деклараций и бланков страховых компаний — он мог всецело отдаваться шлифовке сотен выпуклых линз и писать длинные письма для публикации в «Philosophical Transactions» лондонского Королевского общества.
Может быть, Левенгук не был особенно предприимчивым торговцем. Мы не знаем, сколько кусков ткани и сколько шляп он продал — да нам это и неинтересно. Не об этом написала Мария на белом мраморном памятнике на могиле отца во дворе Старой церкви в Делфте. На табличке, прикрепленной к высокому обелиску, она приказала выгравировать надпись, гласящую, что ее отец удивил мир, использовав микроскоп для разгадки новых и очень важных тайн природы. Простая, необразованная женщина предвосхитила ту оценку, которую сегодня мы с полным пониманием даем деятельности ее отца: он впервые открыл существование мира организмов, являющихся причиной болезней и смертей бесчисленных миллионов детей и взрослых.
В течение пятидесяти лет Левенгук продолжал слать в Королевское общество свои научные письма, которые теперь пользовались огромной известностью. Он писал на голландском языке, а для публикации в «Philosophical Transactions» письма переводили на английский или латынь. Даже в день своей смерти девяностооднолетний Левенгук умолял врача перевести несколько написанных по-голландски писем на латынь и отправить их в Лондон.
За несколько лет до смерти Левенгук заказал себе красивый шкаф со множеством деревянных полок, на которые поставил двадцать шесть различных моделей микроскопов; во многих из них линзы были оправлены в серебро. К каждому микроскопу он прикрепил какой-либо предмет, подвергнутый изучению: сегмент языка свиньи, глаз мухи, закристаллизовавшийся сегмент стекловидного тела глаза кита. Во исполнение воли отца через несколько недель после его смерти Мария переправила бесценный шкаф в Лондон. В течение более ста лет он хранился в Королевском обществе, а затем таинственным образом исчез. За всю свою жизнь Левенгук собрал 247 микроскопов (не считая переданных Обществу) и отшлифовал 172 линзы, оправленные в золото, серебро и латунь. В 1745 году Мария выставила эти микроскопы и линзы на аукцион; ей удалось выручить за них 61 фунт.
Левенгук всегда знал, что его открытия имеют огромное значение и что рано или поздно это признают все. Его скромную лавку почтили визитом один император и английская королева Мария. Да и другие высокородные особы посещали его, дабы лично убедиться в существовании открытого им микромира. Не будет преувеличением сказать, что этот «ученый по совместительству» прожил куда более спокойную, благополучную и удовлетворявшую его в духовном плане жизнь, чем большинство современных нобелевских лауреатов.
Но довольно рассказывать о жизни галантерейщика-исследователя, который никогда не забывал разбросать на снегу хлебные крошки, чтобы накормить голодных ласточек, гнездившихся под крышей его дома. Расскажем лучше о его знаменитом «Письме № 18», благодаря которому этот скромный человек обрел бессмертие.
Секретарь Королевского общества Генри Ольденбург получил сие послание — семнадцать с половиной страниц, исписанных по-голландски рукой Левенгука, — в октябре 1676 года. При переводе на английский язык письмо было наполовину сокращено
[16] и опубликовано в 1677 году в мартовском выпуске «Philosophical Transactions».
«Письмо № 18» начинается очень просто: «В году 1675-м, примерно в середине сентября… я обнаружил маленькие существа в дождевой воде, которая простояла несколько дней в новом бочонке, выкрашенном изнутри синей краской». Левенгук решил продолжить изучение этого явления, поскольку увидел, что «эти маленькие зверушки, представшие моему взору, были более чем в десять тысяч раз меньше, нежели… водяные блохи или водяные ослики, за движением которых в воде можно наблюдать невооруженным взглядом».
Он продолжал изучать под микроскопом не только дождевую, но и колодезную и морскую воду. До микроскопического исследования все образцы воды беспрепятственно контактировали с воздухом. Особенное удивление Левенгука вызвало то, что обнаруженные им «маленькие зверушки» обладали крохотными «ножками» или «хвостиками», позволявшими им быстро перемещаться в разных направлениях в пределах составлявшей их мир капельки воды. Он даже испытал жалость к некоему простейшему существу, запутавшемуся в микроскопических частицах и не сумевшему выбраться на свободу.
Основная часть «Письма № 18» состоит из дневниковых записей Левенгука, в которых описываются различные опыты, проведенные в период между сентябрем 1675 и сентябрем 1676 года. Изучив воду, в которую был добавлен настой молотого перца, он описал микроскопических «зверушек» — без всяческого сомнения, речь шла о бактериях. Их неподвижность или в лучшем случае медлительность заинтриговала Левенгука — иногда он начинал сомневаться, что наблюдает за живыми существами. Конечно, ему больше нравились те «зверушки», у которых были головки и хвостики и которые умели быстро двигаться. Но, если судить по этому письму, Левенгуку и в голову не приходило, что у его маленьких дружков могут быть «родственники», являющиеся злейшими врагами человека.
Сегодня нам, с юных лет знающим о существовании дружественных (некоторые дрожжи, грибки и некоторые бактерии) и зловредных (бациллы столбняка и дифтерита, не говоря уж о сифилитической спирохете) микроскопических организмах, может быть, нелегко понять, какое удивление — и недоверие — вызвало «Письмо № 18» у прагматично настроенных членов лондонского Королевского общества. «Невежественный голландский галантерейщик, которого мы знать не знаем, присылает письмо, где утверждает, что нашел тысячи крохотных „животных“ в капельке дождевой воды! Пусть пришлет нам данные других людей, подтверждающих его слова, тогда мы поверим!» Рассуждая в таком ключе, члены Общества потребовали, чтобы Левенгук пригласил к себе каких-нибудь уважаемых в его городе людей и продемонстрировал им своих «маленьких зверушек», дабы они могли засвидетельствовать его слова перед высокоуважаемыми членами Общества.
Левенгук так и поступил. Он пригласил несколько самых известных граждан Делфта (включая священника своего прихода). Впрочем, его наблюдения подтвердила не только эта «комиссия»; в 1678 году данные Левенгука проверял сам сэр Роберт Гук, признанный специалист по микроскопическим исследованиям.
Через два года после того, как Гук подтвердил истинность эпохальных открытий, описанных в ставшем знаменитым «Письме № 18», Левенгуку предложили стать членом Королевского общества. Никогда раньше и никогда позже, вплоть до наших дней, подобное предложение со стороны самого престижного научного Общества не поступало в адрес торговца мануфактурой и по совместительству стража судебной палаты. Какую же гордость должен был испытывать Левенгук, получив такое признание! Его благодарность выразилась в том, что в течение своего пятидесятилетнего членства он написал больше статей, чем любой другой член Общества за более чем триста лет его существования.
Многие из статей Левенгука имеют неменьшую научную значимость, чем «Письмо № 18». Например, в «Письме № 39», направленном в адрес Общества в 1683 году, он описал результаты микроскопического исследования собственной слюны и налета, взятого со своих передних зубов. Хотя в слюне он не обнаружил никаких «зверушек», в налете они просто кишели. В письме отмечается, что, когда он повторил исследование налета, никаких «зверушек» там уже не было.
«Что же случилось с маленькими зверушками, которых я прежде разглядел в соскобе с зуба?» — этим вопросом Левенгук задавался вновь и вновь. А потом в одно прекрасное утро он решил, что нашел ответ. Через несколько дней после первого исследования он ввел в обиход привычку пить каждое утро горячий кофе. «Наверное, жар от кофе просто-напросто убил моих зверушек», — подумал он. Но если именно в этом заключалась причина того, почему он не смог найти микроскопические существа в соскобе с передних зубов, то в налете на задних зубах, не подвергавшихся непосредственному контакту с обжигающим напитком, они еще могли сохраниться. Представьте себе восторг Левенгука, когда, рассмотрев под микроскопом соскоб со своих задних зубов, он увидел в нем мириады «зверушек»!
Можно с уверенностью сказать, что Левенгук практически вплотную подошел к открытию того, что его «маленькие зверушки» не просто густо населяют «испорченные» кости и мясо, а несут основную ответственность за их порчу. Как же близок он был к разгадке роли микробов в возникновении болезней, когда описывал исследование соскоба со своего языка, сделанного, когда он лежал в лихорадке! В другой раз он взял свой вырванный гнилой зуб и исследовал его размягчившиеся и разрушенные корни, где опять-таки нашел сотни тысяч микроскопических созданий.
Достижения Левенгука за пятьдесят лет сотрудничества с Королевским обществом выходят далеко за рамки простого открытия микроскопического мира живых существ. Он изучал не только собственные фекалии, но и испражнения коров, лошадей и голубей. Он исследовал свою кровь и с удивлением увидел, что она по большей части состоит из того, что мы сегодня называем красными кровяными тельцами; позже он отметил, что под его микроскопом эти тельца утрачивают свой алый цвет.
Больше всего его поразили результаты исследования собственной спермы. Она тоже кишела «зверушками». Но, в отличие от тех существ, которых Левенгук наблюдал в дождевой, морской и колодезной воде, все обитатели его семени выглядели одинаково. Он наблюдал их тысячами, и у всех были одинаковые хвостики и тельца, состоявшие в основном из головки; все они беспорядочно перемещались в капле семенной жидкости. Ученым с университетским образованием потребовалось несколько десятилетий, чтобы принять открытие Левенгука и согласиться с присутствием этих неутомимых созданий в сперме. Конечно, ни один из сомневавшихся не потрудился рассмотреть под микроскопом собственное семя.
Читатель может спросить: почему другие ученые, тоже имевшие в своем распоряжении микроскопы, не смогли обнаружить существование организмов, невидимых для человеческого глаза? Ведь многие из них пользовались куда более изощренными приборами, чем простая система выпукло-вогнутых линз, изготовленная Левенгуком. Ответ достаточно прост. Они изучали отдельные предметы, иногда очень мелкие, но это были предметы, которые можно увидеть и невооруженным глазом — например, яйцо шелковичного червя или глаз вши. Они, в отличие от Левенгука, не догадались, что в жидкостях, таких как вода, кровь и сперма, могут существовать объекты, невидимые человеческим глазом.
Сегодня понятно, почему биограф этого голландского торговца мануфактурой и по совместительству стража судебной палаты Клиффорд Добелл, а также автор великолепной книги по истории бактериологии Уильям Баллок
[17] по праву считают его основателем бактериологии и протозоологии. Однако после смерти Левенгука в 1723 году о нем быстро забыли не только в Королевском обществе и вообще в научном мире, но даже в родной стране и в родном городе. Только памятник, воздвигнутый преданной дочерью на его могиле в Делфте в 1745 году, напоминает о том, что этот великий человек совершил великое открытие.
Через тридцать девять лет после смерти Левенгука словенский врач Марко Пленчич (1705–1781) твердо заявил, что «маленькие зверушки», открытые голландцем, вызывают заразные болезни. Статья Пленчича, а может быть, и собственные публикации Левенгука в «Philosophical Transactions» не ускользнули от внимания итальянского биолога из города Лоди Агостино Басси (1773–1856). В ходе эпохального исследования, проведенного в 1835 году, Басси экспериментальным путем доказал, что болезнь шелковичных червей вызывается бактериями, а далее он сделал вывод, что бактерии могут быть причиной и других заболеваний. И наконец, спустя 112 лет некоторые «зверушки» Левенгука были официально признаны возбудителями болезней.
Эти исследования получили высокую оценку выдающегося немецкого анатома Фридриха Генле (1809–1885). Нет никаких сомнений в том, что он разъяснил революционную значимость работы Басси одному из своих самых блестящих студентов, Роберту Коху. И уже вскоре Кох подхватил факел, впервые зажженный в 1676 году Левенгуком. А когда Кох совершил собственные судьбоносные открытия, дух Антони ван Левенгука смог наконец обрести покой — ибо Кох своими работами даровал достижениям Левенгука бессмертие.
Луи Пастер был истинным французом: вспыльчивый, эгоистичный, крайне упрямый и до такой степени патриот, что после Франко-прусской войны 1870–1871 годов он поклялся начинать все свои научные работы словами: «Ненавижу пруссаков!» Однако, несмотря на склонность к принятию поспешных решений и порой слишком буйную фантазию, он умел быть не менее методичным и терпеливым, чем ненавистные ему пруссаки. Кроме того, он обладал интуицией и умело ею пользовался.
Пастер родился в 1822 году в деревушке Доль, в семье дубильщика кож. Ни в начальной, ни в средней школе он не отличался особой склонностью к естественным наукам, и если в чем-то и преуспевал, так это в рисовании. Однако, несмотря на действительно незаурядные художественные дарования, юный Пастер поставил себе задачу поступить в Сорбонну и стать химиком. Он даже записался в подготовительную школу, чтобы выдержать вступительные экзамены, но через несколько месяцев заскучал и вернулся в Доль наслаждаться тем, чего ему больше всего не хватало вдали от дома — едкими запахами кож в дубильной мастерской отца.
Прошло еще несколько месяцев, и Пастер отправился в ту же подготовительную школу, где постепенно стал получать более или менее удовлетворительные отметки. В 1843 году его приняли в Сорбонну, хотя на вступительном экзамене по химии один из профессоров охарактеризовал его как «ничтожество». Только на последнем курсе, уже работая над докторской диссертацией, Пастер впервые воспользовался своим даром интуиции. Вот как это случилось.
На протяжении нескольких лет было известно, что винная кислота существует в двух формах, хотя атомный состав обеих форм одинаков. Одна из форм обладала способностью поворачивать плоскость поляризации света вправо, а вторая такой способности не имела. Эта разница, естественно, ставила химиков в тупик: они не могли понять, почему две формы винной кислоты, будучи абсолютно идентичными по химическому составу, настолько по-разному реагируют на поляризованный свет.
Совершенно интуитивно Пастер решил изучить кристаллы винной кислоты, не обладавшие способностью менять направление поляризации света. Конечно, интуитивная прозорливость сыграла тут свою роль, но только глубокое понимание предмета позволило Пастеру заметить, что в высушенной винной кислоте этой формы имелось два разных вида кристаллов. Разница между ними была очень невелика, но очевидна для зоркого наблюдателя. С помощью микропинцета Пастер собрал кристаллы обоих типов и поместил их в разные пробирки с водой. Поставив первую пробирку перед источником поляризованного света, он отметил поворот света вправо. Пробирка с водным раствором кристаллов второго типа поворачивала свет влево.
Тем самым Пастеру удалось сделать два важнейших открытия. Во-первых, он выделил ранее неизвестную форму винной кислоты, ту самую, которая поворачивала плоскость поляризации света влево. Во-вторых, что еще более важно, он установил, почему одна из форм винной кислоты была вообще не способна поворачивать плоскость поляризации света: она состояла из кристаллов, которые поворачивали эту плоскость в противоположных направлениях и тем самым нейтрализовали действие друг друга.

Луи Пастер
(1822–1895)
Это важнейшее открытие, описанное двадцатипятилетним химиком в докторской диссертации
[18], сразу же принесло Пастеру признание и славу. Фактически его открытие заложило основы стереохимии. Вскоре после публикации Пастер получил должность профессора химии в Дижонском лицее. В 1849 году он стал профессором Страсбургского университета и женился на женщине, с которой и прожил всю оставшуюся жизнь.
Только в 1857 году Пастер перестал заниматься изучением безжизненных химических веществ и встал на путь познания невидимого, но живого мира крохотных растений и еще более мелких существ — мира Левенгука. Его внимание привлекли одновременно два аспекта этого экзотического микромира.
Во-первых, Пастер заинтересовался широко обсуждавшейся, но совершенно не раскрытой проблемой абиогенеза. Идея самозарождения живых существ из неживых субстанций казалась Левенгуку настолько смешной, что в 1702 году в одном из своих писем в Королевское общество он писал: «Наблюдая за удивительным промыслом Природы, благодаря которому возникают эти „маленькие зверушки“, способные жить и продолжать свой род, нам следует смутиться и задаться вопросом, неужели до сей поры есть люди, которые цепляются за старое убеждение, будто бы живые существа могут зарождаться в результате гниения?»
Хотя уже в начале XVIII века стало ясно, что вопрос о возможности самозарождения утратил свою актуальность, ученые то и дело возвращались к нему в течение более чем ста лет после смерти Левенгука. В 1765 году появился выдающийся труд Ладзаро Спалланцани, а в 1839 году — не менее достойная работа немецкого ученого Теодора Шванна, в которых доказывалось, что рост живых организмов, наблюдаемый в мясном бульоне, прекращается, если бульон прокипятить, а затем закрыть для доступа воздуха; но даже после этого отдельные исследователи настаивали на возможности абиогенеза, утверждая, что гниение всегда происходит благодаря организмам, самозарождающимся в разлагающихся тканях животных или растений.
Вряд ли Пастер слышал о Левенгуке, еще менее вероятно, что он читал его статью, опубликованную в 1702 году в «Transactions of the Royal Society». Ho он знал об экспериментах, проведенных Шванном в 1839 году. (Характерно, что ни в одной статье Пастера нет ссылок на работу немецкого коллеги, но в одном личном письме он признавал ее огромное новаторское значение.) Ему также было хорошо известно, какого рода возражения выдвигали критики работ Спалланцани и Шванна. Они утверждали, что, поместив смесь бульонов в герметичные сосуды
после кипячения, оба ученых воспрепятствовали поступлению в бульон воздуха. По их мнению, именно в воздухе содержались некие газообразные неживые элементы, необходимые для зарождения живых организмов из неживых субстанций.
Тогда Пастер вытянул горлышки пробирок, содержавших бульонную смесь, и максимально сузил их диаметр. Узкие горлышки пробирок были направлены книзу таким образом, что воздух мог попадать внутрь, но вход любых тяжелых частиц, потенциально содержащихся в нем, был исключен. После этого бульон вскипятили, чтобы убить все живое, а потом подвергли инкубации. Ни в одной пробирке не удалось выявить ни гниения, ни какого-либо роста микроорганизмов.
Этот простой опыт Пастера вполне мог бы разрушить концепцию зарождения живой материи из неживой, однако она продолжала существовать в умах некоторых исследователей вплоть до публикации в 1876–1877 годах неоспоримых четких выводов английского физика Джона Тиндаля о наличии бактерий в воздухе.
Еще в тот период, когда Пастер занимался исследованиями в области абиогенеза, французские пивовары и виноделы обратились к нему с просьбой определить, чем вызвана порча их продукции — в стране, где оба напитка так популярны, эта проблема имела огромное значение. Занявшись ею, Пастер установил, что процесс ферментации, от которого зависит производство как пива, так и вина, вызывается различными видами дрожжей. Опять-таки нельзя не упомянуть, что за несколько десятилетий до него Теодор Шванн доказал существование живых и самовоспроизводящихся дрожжей и выразил уверенность в том, что они играют ведущую роль в производстве спирта из ячменя. Но еще за пятьдесят лет до открытия Шванна дрожжи и вырабатываемые ими шаровидные частицы были описаны стариной Левенгуком!
Впрочем, Пастер сделал нечто большее, чем простая констатация роли определенных видов дрожжей в ферментации пива и вина. Он обнаружил и описал методы предотвращения роста аэробных дрожжей, оказывавших столь неблагоприятное воздействие на производство вина и пива. Его исследования легли в основу идеи о необходимости осторожного нагревания жидкостей с целью разрушения потенциально болезнетворных дрожжей и бактерий; сегодня этот процесс, получивший название «пастеризация», повсеместно применяется для сохранения различных пищевых продуктов.
Пастер надеялся, что после спасения французской винодельческой промышленности он сможет вернуться к спокойным лабораторным исследованиям химических веществ и их реакций. Но этого не случилось. Один из его бывших преподавателей привлек Пастера к изучению заболевания, поражавшего шелковичных червей и, следовательно, наносившего ущерб еще одному из важнейших сельскохозяйственных производств во Франции. Может быть, Пастер смог бы отказаться от участия в работе, затрагивавшей совершенно неизвестную ему сферу, но еще с 1863 года он утверждал, что все процессы гниения вызываются микроорганизмами, а очевидной причиной гибели маленьких шелковичных червей как раз и было элементарное гниение.
Пастер посвятил болезни шелковичных червей пять лет, но ему так и не удалось выделить тот микроорганизм, который по его твердому убеждению ее вызывал. Зато ему
удалось разработать методы ее быстрого распознавания, а затем с помощью тщательной изоляции и проведения определенных гигиенических мероприятий он смог предотвратить распространение этой болезни и в конечном итоге остановить эпидемию.
К 1870 году Пастер, спаситель виноделия, пивоварения и производства шелка, стал самым уважаемым ученым не только во Франции, но, наверное, и в мире. Трудно точно сказать, что именно занимало его после 1870 года, когда он спас шелкопрядильное производство. Но совершенно очевидно, что «мелкие зверушки» Левенгука теперь интересовали его куда больше, чем химия.
Не будучи врачом, Пастер тем не менее часто посещал больницы. Особенно его интересовали случаи смертей женщин в процессе родов или от родильной горячки (послеродовой лихорадки). Безусловно, Пастер знал о работах Игнаца Земмельвайса и Оливера Уэнделла Холмса, установивших заразный характер этой лихорадки. В отличие от обоих врачей Пастер догадался взять образцы маточной крови и экссудатов из тел парижанок, умерших от родильной горячки. Изучая под микроскопом эти образцы и некоторые культуры, он неизменно находил в них левенгуковских «зверушек» — микроорганизмы, словно бы состоявшие из нескольких крохотных телец (сегодня они известны под названием стрептококков).
Пастер так никогда и не опубликовал результаты этих своих наблюдений, и мы бы ничего не узнали о них, если бы в один прекрасный вечер в марте 1879 года он не вышел из себя в Парижской академии медицины во время лекции некоего акушера о послеродовой лихорадке. Услышав, что лектор категорически отрицает возможную роль микробов в развитии этого заболевания, Пастер перебил его и прокричал: «Причина болезни — в докторах, переносящих микробы от одной больной к другой!» Лектор возразил, что такого микроба никто и никогда не найдет. Пастер вскочил с места, вышел на трибуну и заявил, что уже нашел его: «Я покажу вам этого микроба!» — после чего нарисовал на доске маленькую цепочку структур, напоминающих четки. Отчет об этом инциденте в печати не появился, но как бы гордился Левенгук, узнай он о нем!
В 1878 году Пастер начал изучать организмы, вызывающие холеру домашней птицы, и снова его талант научного предвидения преподнес ему бесценный подарок. Обычно, когда он вводил курам культуру, содержащую микробы холеры, птицы погибали в течение суток. Но однажды он ввел двум цыплятам несвежую культуру, полученную несколько недель назад. Цыплята быстро заболели, но потом поправились. Пастер дал указание помощнику поместить их в одну клетку со здоровыми курами.
В это время весь персонал лаборатории ушел в отпуск. Когда отпуск закончился, курам снова стали вводить свежую культуру холеры. Свою порцию смертельной свежей культуры получили и два цыпленка, выжившие ранее после инъекции старой культуры. На следующий день погибли все куры — кроме тех двух, выживших после первой инъекции. Они резвились как ни в чем не бывало среди трупов своих собратьев.
Пастер увидел, как эта парочка весело кудахчет и резво клюет свой корм, и научная интуиция, щедро отпущенная ему природой, помогла сделать правильные выводы. Наблюдение за двумя цыплятами буквально ошеломило его — он понял, что их выживание открывает путь к спасению миллионов еще не родившихся детей и взрослых. Более того, он сразу же осознал, что сделал величайшее открытие в своей жизни. Правда, поначалу Пастер полагал, что инъекция
состаренной или ослабленной культуры возбудителей холеры защитит животное не только от заражения холерой в будущем, но и от всех прочих болезней.
После нескольких месяцев лихорадочного, полного энтузиазма, но неизменно обескураживающего исследования других болезней стало очевидно: введение животному старой культуры возбудителей холеры обеспечивало ему защиту от холеры, и только от холеры. Столкнувшись с этим обстоятельством, Пастер быстро сообразил, что раз введение ослабленных возбудителей холеры не защищает от других болезней, то от них, этих других болезней, защитит введение их ослабленных возбудителей. Именно это прозрение великого французского ученого заложило основы бактериальной вакцинации.
Почти наверняка можно утверждать, что тогда Пастер уже читал о сделанном двумя годами ранее блестящем открытии Коха — немецкому ученому удалось выявить бациллу, вызывающую сибирскую язву. Таким образом, Пастеру были известны два факта: во-первых, что сибирскую язву вызывает характерный микроорганизм, и, во-вторых, что введение ослабленной культуры возбудителей холеры защищает кур от заражения этой болезнью. Может быть, подумал он, аналогичную защиту от
сибирской язвы может обеспечить введение животному состаренной и тем самым ослабленной культуры ее возбудителя?
Это предположение оказалось правильным. После многочисленных исследований методом проб и ошибок, он установил, что, если осторожно состарить и ослабить культуру бацилл сибирской язвы, ее введение,
как правило, защищает животное и оно не гибнет от введения второй, смертельной, дозы культуры возбудителя сибирской язвы. Потребовалось долгое, тщательное исследование, чтобы найти надежный метод получения ослабленной культуры возбудителя болезни — слишком слабой, чтобы убить или серьезно ослабить реципиента после введения, но достаточно сильной, чтобы обеспечить ему иммунитет против повторного введения смертельных бацилл.
Это исследование требовало большой осторожности, времени и терпения, а Пастер вовсе не отличался терпеливостью. Он добился того, что в большинстве случаев инъекция ослабленной культуры защищала животное от заражения сибирской язвой, но иногда это не срабатывало. Случалось, что после введения предположительно ослабленной культуры животные погибали.
Несмотря на эти редкие «промахи», уже в 1880 году Пастер заявил, правда несколько преждевременно, что нашел вакцину, способную защитить овец и коров от сибирской язвы. В 1881 году некий научный комитет предложил ему провести публичную демонстрацию эффективности вакцины. Пастер немедленно согласился. Событие должно было состояться 21 мая — 2 июня в городке Пуайи-ле-Фор. Мы никогда не узнаем, какое значение придавал Пастер предстоящей демонстрации, но можно предположить, что он лично занимался всей технической подготовкой.
Пятого мая 1881 года Пастер и его ассистенты ввели ослабленную культуру сибирской язвы двадцати четырем из сорока восьми овец, трем из шести коров и одному из двух козлов. Семнадцатого мая те же животные получили вторую инъекцию препарата. Затем 31 мая всем вакцинированным и невакцинированным животным ввели смертельную свежую культуру сибирской язвы. На 2 июня была назначена основная демонстрация; известные врачи, представители прессы и множество других заинтересованных зрителей собрались, чтобы увидеть результаты этого эксперимента.
Первого июня Пастер получил телеграмму, извещавшую его о том, что заболели некоторые из вакцинированных овец, получивших накануне смертельную культуру. Потрясенный ученый набросился на своего преданного сотрудника, Пьера Ру, и грубо обвинил его в том, что он небрежно провел первую вакцинацию. «Я не собираюсь завтра терпеть унижение из-за допущенных вами ошибок при вакцинации овец! Вы совершили эту ужасную ошибку, так вот пусть вас завтра толпа и освищет!» — кричал Пастер, не сдерживая эмоций. К счастью, при скандале присутствовала жена ученого, и ей кое-как удалось успокоить супруга. Пастер решился ехать в Пуайи-ле-Фор только поздней ночью, когда пришла вторая телеграмма, сообщавшая, что все вакцинированные овцы чувствуют себя хорошо.
Крики восторга, приветствовавшие прибытие Пастера и Ру, дали понять: эксперимент прошел удачно. На демонстрационном поле лежали трупы двадцати двух овец, не получивших вакцину, еще два контрольных животных умирали. Двадцать четыре вакцинированные овцы беззаботно щипали траву и выглядели совершенно здоровыми. Точно так же уже умерли или умирали коровы и козел, не получившие вакцину, а их вакцинированные собратья пребывали в добром здравии.
Это событие стало величайшим триумфом Пастера. Он снова признанный герой в национальном, да и в международном, масштабе. Уже через несколько дней тысячи владельцев крупного и мелкого скота стали засыпать его просьбами о поставке чудодейственной вакцины от сибирской язвы, лаборатория отправляла им сотни ампул. Поток изъявлений международного признания просто захлестывал Пастера и его сотрудников. Однако не все было хорошо — сотрудники Пастера еще не отработали систему приготовления вакцины, которая обеспечивала бы ее нетоксичность и гарантировала выработку иммунитета у вакцинированных животных. Неудивительно, что вскоре стали поступать сообщения о случаях, когда вакцина либо убивала овец и коров, либо оказывалась неспособной защитить их от заражения сибирской язвой.
Роберт Кох, оскорбленный тем, что Пастер никогда не ссылался на его основополагающие исследования сибирской язвы, воспользовался этой ситуацией и опубликовал ряд статей, в которых яростно критиковал работы Пастера. Пастер, обидевшись на эту критику, обрушившуюся на него буквально через несколько месяцев после триумфа в Пуайи-ле-Фор, выступил с резкими нападками на Коха на Четвертом Международном конгрессе по гигиене и демографии, который проходил в 1882 году в Швейцарии.
После выступления Пастера председатель заседания пригласил Коха выступить с ответным словом, и тот в самой оскорбительной манере заявил, что приехал на конгресс узнать что-то новое об ослаблении действия бактерий, но ничего интересного не услышал. Он отказался отвечать на замечания Пастера, потому что не считал конгресс подходящим местом для дискуссий — а также и потому, что плохо говорил по-французски, тогда как Пастер вообще не владел немецким языком. Кох пообещал, что обратится в соответствующие медицинские журналы и через них даст ответ на критику Пастера и укажет на ошибки в его исследованиях (действительно, он сделал это в нескольких журналах). Тогда Пастер язвительно заметил, что если бы Кох потрудился выучить французский язык, то узнал бы на конгрессе много нового.
После конгресса Кох в своих статьях указывал, что введение пастеровской вакцины против сибирской язвы часто убивало животных, которых должно было бы защитить, и что число случаев, когда прививка не помогала предотвратить сибирскую язву, особенно у овец, недопустимо велико. С учетом этих опасных обстоятельств Кох изучил содержимое нескольких ампул с предположительно чистой культурой ослабленного возбудителя сибирской язвы, полученных из лаборатории Пастера. Он установил, что культура нередко оказывалась заражена другими бактериями, не имеющими отношения к сибирской язве, а бациллы сибирской язвы часто были недостаточно ослабленными и, следовательно, смертельно опасными. Разумеется, эти данные доказывали, что вакцину готовили чересчур поспешно и недостаточно тщательно.
Одна из статей, где Кох критиковал методы Пастера и используемые им средства для представления и демонстрации вакцины от сибирской язвы, заканчивалась фразой, раз и навсегда превратившей двух научных гигантов в злейших врагов. Она звучала так: «Поведение такого рода может быть вполне уместным для рекламы делового предприятия, но науке следует решительно отвергнуть его». Впрочем, как мы сможем убедиться, в 1890 году сам Кох прибег к подобным же методам для представления своего туберкулина.
Несмотря на яростную критику со стороны Коха, в 1884 году Пастер смог провести повторную демонстрацию эффективности вакцины против сибирской язвы уже в самой Германии. То был настоящий триумф! А кроме того, все помнили его предшествующие достижения — создание науки стереохимии, спасение французского виноделия, пивоварения и шелкопрядильного производства. Шестидесятилетний Пастер, перенесший к этому времени инсульт, в результате которого не мог полноценно владеть левой ногой, вполне мог позволить себе почивать на лаврах и стать тем, кем становятся современные исследователи, достигающие такого возраста, то есть администратором.
Вместо этого в 1882 году он приступил к изучению ужасного и всегда смертельного заболевания — бешенства. Считается, что он решил заняться этой болезнью, потому что в детстве увидел, как ребенку, укушенному бешеной собакой, прижигали раны раскаленным железом, и это произвело на него неизгладимое впечатление. Впрочем, независимо от того, что именно подтолкнуло Пастера к исследованиям бешенства, они, бесспорно, представляли собой страшную опасность и для него, и для его ассистентов. В качестве подопытных животных использовались бешеные собаки, и первоначально в распоряжении ученых имелся только один способ изучения болезни: к здоровой собаке подселяли больную с тем, чтобы бешеное животное искусало здоровое и заразило его бешенством.
Пастер предполагал, что изучаемая им болезнь передается какими-то микроскопическими организмами, но неоднократные исследования под микроскопом их не выявили. Даже микроскоп, оснащенный только что изобретенными конденсорами Аббе и масляно-иммерсионными линзами, не мог тогда и не может сейчас обнаружить этот
возбудитель. (Сегодня понятно почему: возбудитель бешенства — вирус.)
Отметив, что между моментом укуса человека или животного и появлением симптомов бешенства проходит определенное время и что эти симптомы связаны главным образом с нарушением функции головного и спинного мозга, Пастер пришел к разумному выводу: возбудитель заболевания следует по периферическим нервам в головной и спинной мозг и сосредоточивается там. Позже оказалось, что это предположение имело колоссальное значение.
Пастер со своими ассистентами занимался исследованием бешенства в течение нескольких лет, а потом его вновь посетило научное озарение. На сей раз источником его стала собака. Ее покусал бешеный пес, и она заболела, но с ней произошло то, чего никогда не случалось ни с одним бешеным животным: она полностью поправилась. Более того, собака осталась совершенно здоровой и после того, как ей ввели свежую мозговую ткань, полученную от бешеной собаки, а все предшествующие наблюдения Пастера говорили: нет, такое невозможно!
Этот поразительный счастливый случай не остался незамеченным Пастером. Он начал проводить инъекции тканей спинного мозга, полученных от кроликов, зараженных бешенством, используя вытяжки из тканей спинного мозга, которым предварительно давал возможность «состариться» на несколько дней. И эта схема сработала! Прививки собакам вытяжек из спинного мозга (взятого от бешеных кроликов) теперь повторялись ежедневно, причем для первой прививки Пастер брал высушенную вытяжку, полученную две недели назад, а для последующих — вытяжку, «возраст» которой с каждым разом уменьшался на один день. После многочисленных опытов стало понятно, что спустя четырнадцать дней после начала вакцинации даже введение свежей вытяжки — которая, будучи введенной при первой инъекции, неизбежно вызывала бешенство, — не провоцировало появления симптомов заболевания у собак.
В отличие от ситуации с вакциной от сибирской язвы, когда Пастер проявил поспешность и нетерпение, в этом случае он был крайне осмотрителен. К 1885 году, через три года после начала исследований, он имел все основания считать, что его система вакцинирования с введением на протяжении нескольких недель все менее ослабленных вытяжек из спинного мозга бешеных животных обеспечивает полную защиту от бешенства.
И вот однажды в 1885 году к Пастеру примчалась убитая горем француженка, умолявшая спасти ее сына. За два дня до этого на него набросилась бешеная собака, укусившая его в общей сложности четырнадцать раз — в руки, ноги и бедра. Пастер не был врачом; более того, он вовсе не был уверен в том, что профилактические прививки, обеспечивавшие иммунитет от бешенства подопытным собакам, смогут помочь девятилетнему Жозефу Мейстеру. Он направил мальчика к двум своим друзьям-врачам, знавшим о проводимых им опытах. Увидев гноящиеся раны от укусов, оба доктора настояли на том, чтобы Пастер испытал свой метод на ребенке. Пастер согласился провести тринадцатидневный курс прививок. Это потребовало большого мужества от Пастера, поскольку он знал, что препарат, вводимый на тринадцатый день, неизбежно привел бы к смерти ребенка, если бы его ввели в первый день курса. Однако мальчика удалось спасти, и известие о великой победе немедленно облетело весь цивилизованный мир. (Когда был основан Институт Пастера, Жозеф Мейстер стал его сотрудником и оставался на своей должности до конца жизни
[19].)
Через несколько недель к Пастеру приехали за помощью девятнадцать русских крестьян, искусанных двумя неделями ранее бешеным волком. Каждый из них получал по две прививки в день на протяжении недели. Весь Париж с неослабевающим вниманием следил за этой борьбой против смерти от бешенства. Когда шестнадцать крестьян выздоровели, император России в знак благодарности прислал Пастеру орден Святой Анны и сто тысяч франков, которые ученый потратил на строительство своего института.
За несколько лет лаборатории в разных странах мира наладили производство вытяжек. От бешенства перестали умирать. И хотя в 1885 году Кох посмеивался над этим методом предупреждения болезни, через год и он начал применять пастеровский метод приготовления вытяжек.
Победа над бешенством стала последней из одержанных Пастером. В 1892 году, в ознаменование семидесятилетия ученого, его наградили специальной медалью в присутствии изысканно благородной публики. С трудом передвигавшегося Пастера поддерживал президент Французской Республики. Поскольку ученый был слишком слаб, чтобы выступить с благодарственной речью, ее прочитал его сын. В 1895 году Пастер умер, сжимая одной рукой распятие, а другой держась за руку жены.
Имена большинства ученых, описанных в этой книге, сегодня известны далеко не всем выпускникам университетов. Но, вероятно, любой из них вспомнит Пастера и назовет его одним из величайших ученых в истории науки. Очень, очень немногие знают о том, что он заложил основы стереохимии или открыл вакцину от сибирской язвы, но всем известен процесс, носящий его имя, — пастеризация. И наверное, немало людей вспомнят и о том, что он создал вакцину против бешенства.
Нет сомнения в том, что Луи Пастер был самым выдающимся французским ученым. Немыслимый эгоист, упорно не желавший признавать заслуги предшественников или современников, порой допускавший нечестные поступки, обожавший игру на публике и (парадоксальным образом) остро ненавидевший врачей, — и при всем этом маловероятно, что Франция когда-то подарит миру еще одного столь же великолепного ученого.
Разумеется, открытия Пастера восхитили бы старину Левенгука, хотя нарочитая театральность преподнесения этих открытий могла бы вызвать у него раздражение. Его бы, конечно, обидело и разозлило то, что Пастер совершенно не упоминал об исторических открытиях самого Левенгука, а также и практически всех прочих исследователей, работавших до него. Тем не менее человек, открывший в 1673 году невидимых до тех пор «маленьких зверушек», был бы потрясен, если бы спустя более чем двести лет он оказался в зале в Бреслау и там вместе с самыми выдающимися немецкими профессорами увидел и услышал выступление невысокого тридцатитрехлетнего темнобородого и круглолицего сельского врача из маленькой прусской деревушки. Этот человек — а звали его Роберт Кох — впервые в истории медицины показал, что одна из «маленьких зверушек» Левенгука, бацилла сибирской язвы, способна стать причиной заболевания не только животных, но и людей.
Да, первым, кто доказал, что кое-кто из «маленьких зверушек» может вызывать человеческие болезни, был не Пастер. Никому не известный, неказистый врач общей практики Кох в течение трех лет работал с микроскопом и несколькими самодельными приборами в отгороженном уголке своего кабинета, где единственным его помощником была совершенно не разбиравшаяся в медицине жена. Он выделил возбудителя сибирской язвы от больного животного в чистой культуре и проследил за его превращением в то, что называл спорами, способными сколь угодно долго выживать даже в самых неблагоприятных условиях. Затем он ввел культуру этого возбудителя морским свинкам и другим животным, включая овец и коров, и установил, что после скорой гибели подопытных их трупы буквально кишели этими ужасающими новыми врагами всего живого.
Знаменитые немецкие ученые Фердинанд Кон и Юлиус Конгейм, присутствовавшие на специально созванной конференции в Бреслау, в течение трех дней подряд наблюдали за экспериментами простого сельского врача и были совершенно потрясены его открытиями. Впечатление, полученное обоими академиками, было настолько сильным, что они твердо постановили вытащить скромного доктора из безвестного Вольштейна. Однако прежде всего они решили обнародовать удивительные сведения о том, что крохотная бактерия может стать причиной болезни человека. Через шесть месяцев после июньской конференции в Бреслау Кон опубликовал работы Коха по сибирской язве в журнале, который он сам издавал
[20]. Вплоть до 1880 года Кон и Конгейм добивались, чтобы Кох получил должность в Берлинском императорском отделении здравоохранения. Там он впервые в жизни получил в свое распоряжение приличную лабораторию и двух опытных ассистентов и смог полностью освободиться от врачебной практики. Его освободили даже от преподавания.
В течение четырех лет, прошедших между открытием бациллы сибирской язвы и переездом в Берлин, Кох продолжал работать в Вольштейне. Трудно сказать, осознавал ли он в то время, что практически вся его работа (разработка и усовершенствование новых методик и инструментов) была подготовкой к величайшему открытию в области бактериологии. Совершенно точно известно, что за эти четыре года, предшествовавшие переезду в Берлин, он сотрудничал со специалистами по оптике Эрнстом Аббе и Карлом Цейсом и, по-видимому, стал первым ученым, оборудовавшим свой микроскоп придуманными ими конденсорами и масляно-иммерсионными линзами. Именно это усовершенствование микроскопа позволило ему увидеть бактерии, которые раньше не удавалось увидеть ввиду их крайне малых размеров. Кроме того, теперь появилась возможность лучше и точнее разглядеть детали строения «маленьких зверушек» Левенгука. Кох применял также и различные новые анилиновые красители. Некоторые бактерии окрашивались только одним красителем и не воспринимали другие, и Кох воспользовался этим для дифференциации бактерий разных видов.
Однажды он обратил внимание на разрезанную картофелину, пролежавшую несколько дней на открытом воздухе. Увиденное заинтересовало ученого: на поверхности картофелины появились выпуклые разноцветные пятна. Изучив эти пятна, Кох понял, что каждое из них образовано микроорганизмами. Более того, в каждом конкретном пятне все микроорганизмы были одинаковыми и при этом отличались от тех, что присутствовали в пятне другого цвета. Обычный человек, обнаружив это явление, в лучшем случае счел бы его просто интересным. Но Коха, отчаянно искавшего способ получения чистых культур разных бактерий, оно навело на оригинальную идею. А что, если вместо того, чтобы помещать каплю, содержащую разные бактерии, в
жидкую культурную среду (единственный способ получения культур бактерий в то время), аккуратно размазать ту же крохотную каплю по
твердой культурной среде? Тогда различные виды бактерий, содержащиеся в капле, смогут образовать отдельные колонии на поверхности твердой среды и сами изолируют себя от других бактерий из капли.

Роберт Кох
(1843–1910)
Коху потребовалось не так уж много времени, чтобы догадаться, что для получения твердой культурной среды достаточно добавить желатин к обычному бульону, использовавшемуся для выращивания бактерий. Дождавшись, пока бульон затвердеет, он смазал его поверхность маленькой петелькой, предварительно погрузив ее в бульон, содержавший разные виды бактерий. На следующий день — после того как застывший бульон поместили в инкубатор — Кох обнаружил на его поверхности разрозненные пятна, в том числе — разноцветные. Оказалось, что в любом конкретном пятне или цветном разрастании на поверхности желатиново-бульонной пластины все бактерии были совершенно одинаковыми, но, как правило, отличались от бактерий из других колоний. Надо полагать, Кох испытал огромное удовлетворение, ведь с помощью этой относительно простой манипуляции он получил возможность изолировать и выращивать чистую культуру любой бактерии — раньше такое не удавалось никому. Вскоре стало ясно, какое значение имело это достижение для его дальнейших исследований в Берлине.
Проработав в Берлинском императорском отделении здравоохранения всего тринадцать месяцев, Кох тайно приступил к работе, которой предстояло стать поистине выдающимся вкладом в медицину: поиску бактерии, вызывающей туберкулез. Почему в августе 1881 года Кох никому не рассказал, что пытается найти возбудитель туберкулеза? Может быть, основная причина заключалась в том, что прошло всего пять лет с момента публикации его статьи о сибирской язве, в которой недвусмысленно доказывалось: возбудитель этой болезни поражает не только животных, но и людей. До того как Кох стал изучать сибирскую язву, почти никто не верил, что какие-то «маленькие зверушки» Левенгука вызывают болезни людей, в частности туберкулез. Даже после открытия возбудителя сибирской язвы такие светила медицины, как Рудольф Вирхов и Теодор Билрот, продолжали отрицать, что причиной любой болезни являются микроскопические живые существа. А когда молодой Кох сказал Вирхову, что использование микроскопа с масляно-иммерсионными линзами позволяет увидеть ранее невидимые бактерии, мэтр ответил: «То, что невозможно увидеть с помощью имеющегося у меня микроскопа, вообще не заслуживает быть увиденным».
Более того, сам Кох вовсе не был уверен, что туберкулез вызывают какие-то бактерии. А если такая бактерия и существует, то не слишком ли она мала, чтобы ее видеть? Сумеет ли он окрасить ее? И вырастить чистую культур этой бактерии, с тем чтобы ввести ее животным и показать, что вызванная этой бактерией болезнь ничем не отличается от развившейся естественным путем? Никто лучше Коха не знал, что в 1876 году именно введение возбудителя сибирской язвы животным и воспроизведение у них болезни наиболее убедительно доказало научному сообществу, что он сделал выдающееся медицинское открытие.
Эти потенциально неразрешимые проблемы стояли перед Кохом, который в то время чисто интуитивно догадывался, что если существует бактерия, вызывающая сибирскую язву, то можно найти и другую бактерию, вызывающую туберкулез.
И наконец, он желал сохранить эту работу в тайне даже от своих сотрудников, потому что хотел, чтобы, если ему удастся идентифицировать возбудитель туберкулеза и доказать его существование, вся слава открытия досталась ему, Роберту Коху, и никому больше. Он стремился к известности не меньше, чем Пастер, и еще до начала исследований туберкулеза строил планы, как стать еще более знаменитым. Кох хотел, чтобы его знал весь мир! Вспомним также, что после Франко-прусской войны вспыльчивый Пастер не скрывал своей ненависти к пруссакам, а типичный пруссак Кох не видел никаких оснований проявлять терпимость в отношении французского крестьянина, каковым по существу и был Пастер.
Пользуясь теми же методами, что и в своих ранних исследованиях сибирской язвы, Кох начал поиск предполагаемого возбудителя туберкулеза в пораженных болезнью тканях человеческого организма. Он окрашивал различными новыми анилиновыми красителями срезы туберкул — характерных патологических поражений, развивающихся в легких больных туберкулезом.
Затем в поисках специфической бактерии изучал эти срезы под микроскопом, в пять раз превосходившим по мощности даже самый лучший из сотен аппаратов Левенгука.
Коху потребовалось не более месяца, чтобы понять — при окрашивании среза туберкул метиловой синькой во всех образцах можно увидеть крохотную палочкообразную бактерию, гораздо меньшего размера, чем бациллы сибирской язвы. Кох назвал ее туберкулезной бациллой. Не будь его микроскоп оборудован масляно-иммерсионными линзами и конденсором, он никогда не нашел бы ее.
Кох понимал, что выявление туберкулезной бациллы в тканях больных представляет собой лишь первый этап поиска причины страшной болезни. Он справедливо предположил, что увиденный им микроорганизм мог быть вторичным паразитом, выросшим в тканях, ранее пораженных каким-то другим возбудителем. Бесспорно, требовалось изолировать и вырастить бациллу в чистой культуре, а потом проверить, приведет ли ее введение животным к развитию туберкулеза.
Следуя по пути, проложенному во время изучения сибирской язвы, Кох размазал кусочки пораженной ткани по поверхности застывшего агара в надежде, что через день или два там начнут развиваться отдельные колонии микроорганизмов. Этого не произошло! Что же нужно окаянным бациллам, чтобы расти? Наверное, Кох десятки раз задавал себе этот вопрос, но получить чистую культуру ему никак не удавалось. Но потом, руководствуясь только своим невероятным воображением, он решил поместить упрямые бактерии в среду, более приближенную к организму человека или животного. Он добавил к своему агару сыворотку крови и после этого размазал по его поверхности каплю инфицированной ткани.
Через двадцать четыре, затем сорок восемь, а затем и семьдесят два часа инкубации никаких бактериальных колоний на поверхности агара не появилось. Учитывая, что все ранее изучавшиеся бактерии обильно разрастались уже через сутки, Кох вполне мог выбросить пластины обогащенного сывороткой агара в помойное ведро. Но он этого не сделал. Ученый вспомнил, что, в отличие от других человеческих болезней, туберкулез редко приводил к гибели больного за несколько недель или даже месяцев. Не означает ли это, что подозрительные бактерии растут очень медленно? — спрашивал себя Кох. Неделя шла за неделей, а он продолжал инкубировать культуру, ежедневно проверяя поверхность пластин обогащенного сывороткой агара.
И через несколько недель его терпение было вознаграждено: на поверхности агара появились крохотные серовато-белые колонии. Кох взял соскоб с одной из колоний, нанес его на стеклянную пластинку, окрасил и поместил под объектив своего микроскопа, оборудованного масляно-иммерсионными линзами. К своему величайшему удовлетворению, он увидел миллионы туберкулезных бацилл — и только. Ему впервые удалось получить чистую культуру одного-единственного вида бактерий.
После этого Кох сделал следующий важнейший шаг: ввел полученную чистую культуру подозреваемого возбудителя туберкулеза здоровым животным. Примерно через неделю или чуть больше все животные заболели. После умерщвления в тканях, полученных из их трупов, постоянно появлялись типичные туберкулезные поражения. Кох брал крохотные кусочки пораженных тканей, окрашивал их, исследовал под микроскопом — и неизбежно обнаруживал в них мириады крохотных, тоненьких палочек. Точно таких же, как те, которые он постоянно находил в туберкулезных тканях человека.
«Теперь я по праву могу назвать этот микроб туберкулезной бациллой, потому что вижу его, и только его, во всех туберкулах человека. Я вырастил его в чистой культуре, ввел эту культуру животным, и у всех этих животных развился туберкулез. Наконец, я нашел ту же бациллу в пораженных тканях этих животных», — ликовал Кох, которого трудно было назвать эмоциональным человеком.
Когда животные, которым была привита чистая культура бактерии, выделенной из туберкулезных тканей человека, заболели и умерли от туберкулеза, Кох понял, что сделал одно из самых блестящих открытий за всю историю медицины. Он понял также, что, хотя ему только что исполнилось тридцать восемь лет, после обнародования этого открытия он имеет все шансы стать одним из величайших ученых-медиков мира. Однако он сдерживал восторги: прежде всего следовало предать гласности результаты своих семимесячных исследований.
Кох поведал о сделанном им открытии 24 марта 1882 года, на собрании Берлинского физиологического общества. Слухи о том, что Кох собирается сделать сообщение о важном открытии, ходили на протяжении нескольких недель, и небольшой зал с трудом вместил известнейших берлинских врачей. К концу подробного доклада обо всех этапах исследования, ставившего своей целью доказать, что микроорганизм, названный туберкулезной бациллой, действительно вызывает туберкулез, все собравшиеся выглядели потрясенными.
В какой-то степени их изумление относилось к совершенно новым методам, блестяще разработанным Кохом, — применению анилиновых красителей, добавлению к красителям солей калия, использованию твердых сред для выращивания культур, способам получения чистых культур — и к терпению, с которым Кох выжидал роста туберкулезных бацилл в стеклянной пробирке. Что же касается неожиданных откровений, которым суждено было раз и навсегда изменить представления врачей о причинам многих заболеваний человека, они не просто вызвали удивление, а даже напугали медиков, не подготовленных к ним ни эмоционально, ни интеллектуально. На собрании присутствовал Пауль Эрлих, человек, которому позже удалось найти лекарство от сифилиса. Спустя годы он признавался: «Этот вечер сыграл огромную роль в моей жизни!»
Менее чем через три недели после выступления Коха его данные были опубликованы
[21]. Как он и предвидел, это открытие позволило ему мгновенно сравняться в славе с его французским соперником, Пастером, или даже обогнать его. Получившего мировую известность Коха буквально осаждали амбициозные молодые ученые, стремившиеся освоить его методы, чтобы искать возбудителей других заболеваний. Достаточно быстро последователям Коха удалось выделить бациллы столбняка и дифтерита и разработать антитоксины, способные обеспечить защиту от этих двух опаснейших болезней.
За 1882 годом последовал период, принесший Роберту Коху большое удовлетворение в том, что касалось его научной карьеры. Однако его отношения с женой Эмми постепенно стали невыносимыми для обоих. Наверное, мы никогда не узнаем, что так ожесточило этих двоих еще довольно молодых людей. Скорее всего, он, увлеченный и полностью поглощенный своими исследованиями, пренебрегал ею. Может быть, ученому, завоевавшему восхищение и уважение всего цивилизованного мира, было очень неприятно возвращаться вечером туда, где к нему относились как к простому смертному, к мужу, который должен выполнять привычные обязанности по дому. А может быть, гордая немецкая жена устала от того, что, прожив пятнадцать лет с далеким от совершенства мужчиной, должна была всегда только хвалить его, не позволяя себе ни тени недовольства великим супругом. Большинство ученых нетерпимы к критике со стороны домашних, а Коха никак нельзя было назвать образцом терпимости или обладателем легкого характера.
Так или иначе, но после того, как в 1888 году их единственная дочь вышла замуж, Кох и Эмми расстались. Что принес ему развод — горе или облегчение? С учетом того, что случилось позже, можно предположить, что он почувствовал облегчение. С тех пор как Эмми преподнесла ему на двадцативосьмилетие микроскоп, наука стала для него восхитительной любовницей, подарившей ему вначале ни с чем не сравнимую радость от разгадывания тайн природы, а затем нечто еще более ценное — непреходящую славу. Он еще глубже погрузился в лабораторные исследования и к 1890 году сделал несколько небольших открытий. А затем совершил ошибку, причем весьма грубую.
Катастрофа началась на проходившем в Германии престижном форуме — Десятом Международном медицинском конгрессе. Для пленарных заседаний Берлин предоставил самую большую аудиторию, вмещавшую восемь тысяч слушателей. Именно перед этой гигантской аудиторией, а там были самые выдающихся ученые мира, Кох совершил то, в чем ранее резко обвинял Пастера. Не так давно Пастер, использовав наскоро приготовленную вакцину, не защитил, а убил множество животных. Теперь же слова, произнесенные Кохом на конгрессе в 1890 году, привели к преждевременной гибели сотен людей.
Еще до этого саморазрушительного и нечестного доклада Кох знал, что немецкое правительство ожидает от него каких-то заявлений, способных заинтересовать собрание именитых ученых в неменьшей степени, чем сделанное за восемь лет до этого сообщение об открытии возбудителя туберкулеза. Теперь публике предстояло узнать, что он, ученый, состоящий на службе у германского правительства, открыл средство для лечения этой страшной болезни. Власти Германии уже уведомили его, что в будущем году создадут институт, которому присвоят его, Коха, имя, и этот институт будет заниматься исключительно исследованиями инфекционных заболеваний. Что же страшного, если он осторожно и не напрямую намекнет, что нашел некие «субстанции», дающие весьма
обнадеживающие результаты при лечении туберкулеза у морских свинок? Молодой Кох, скрупулезно точный Кох, безусловно правдивый Кох никогда не заключил бы свое выступление перед Десятым Международным медицинским конгрессом фразой, ложной по самой своей сути: «Несмотря на прошлые неудачи, я продолжил исследования и в конечном итоге нашел субстанцию, останавливающую рост туберкулезных бацилл не только в пробирке, но и в организме животного».
Делая такое заявление, Кох знал, что еще не располагает данными, подтверждающими его правоту. Именно поэтому следующая фраза звучала так: «Единственная причина, по которой я отступил от своих правил и докладываю еще не завершенные исследования, состоит в том, что я хочу придать новый импульс исследованиям в этой области». Он по-рыцарски отказывался от прошлых претензий на исключительность и стимулировал других на поиски методов лечения туберкулеза. Однако, по совести говоря, вторая фраза была ненамного честнее первой, ибо для всех ученых значение имеет лишь одно: приоритет в открытии. Редко встречаются люди, настолько благородные, чтобы принести в жертву собственные усилия и дать другим ученым возможность насладиться счастьем первенства. И, хотя Кох обладал целым рядом качеств, сделавших его блестящим ученым, благородство в их число не входило.
За считаные дни приведенное выше первое высказывание Коха было растиражировано газетами всего мира. При этом оно интерпретировалось как заявление выдающегося немецкого ученого Роберта Коха о том, что лекарство от туберкулеза найдено. И точно так же, как несколькими годами ранее тысячи владельцев крупного и мелкого скота осаждали лабораторию Пастера, чтобы приобрести вакцину от сибирской язвы, в лабораторию Коха посыпались просьбы от больных туберкулезом и их врачей. Все хотели получить препарат, который Кох назвал туберкулином, — белок, выделенный из туберкулезных бацилл. За несколько месяцев Кохов туберкулин ввели сотням тысяч больных — несчастные надеялись, что это поможет им выздороветь. Вскоре симптомы у части больных действительно ослабели, и это было тут же приписано действию туберкулина; однако никто не учел тот факт, что прогрессирование туберкулеза часто может приостанавливаться или тормозиться совершенно спонтанным образом.
Контрольные эксперименты, проведенные в различных лабораториях, не подтвердили терапевтическую эффективность чудодейственного лекарства Коха. Более того, вскоре появились сведения о том, что после инъекции туберкулина состояние сотен больных даже ухудшалось. Происходившее выглядело страшным эхом нелепой спешки, с которой Пастер стремился распространить свою вакцину от сибирской язвы. Повторив его ошибку, Кох стал невольным виновником гибели сотен больных туберкулезом. Дополнительным ударом по репутации ученого стала злобная публичная конфронтация с его бывшим студентом Адольфом фон Берингом, который хотел запатентовать найденное им средство лечения туберкулеза.
Несмотря на ослабление авторитета выдающегося ученого, германское правительство выполнило свое обещание и построило Институт инфекционных болезней, носящий имя Коха. В 1893 году, позируя для портрета, который предполагалось повесить в здании института, Кох вдруг увидел портрет изумительно красивой молодой женщины. Он не мог отвести глаз от прелестного лица. Бывшая его жена, Эмми, никогда не отличалась красотой, а теперь, когда ей было далеко за сорок, и вовсе не привлекала Коха. Он сразу решил, что должен встретиться с юной красавицей — и не имеет значения, что ему уже исполнилось пятьдесят, а она на тридцать лет моложе! Может быть, его слава увлечет ее и она забудет о его возрасте. Кох понял, что сделает все от него зависящее, чтобы найти и завоевать эту женщину.
Художник, написавший портрет, рассказал, что красавицу зовут Хедвига Фрайбург, что она немного учится живописи, немного играет в театре и не замужем. Пылкое и лихорадочное ухаживание Коха оказалось успешным. Они поженились в том же, 1893 году, через несколько месяцев после его развода с Эмми.
Большинство историков медицины склонны утверждать, что общественный остракизм, преследовавший Коха после его женитьбы на двадцатиоднолетней Хедвиге, очень оскорбил его. Однако вряд ли Кох, найдя свой «образец красоты», хоть на минуту пожалел о бесконечной рутине официальных ужинов в компании старомодно одетых жен академиков и чиновников, в чьем обществе он вращался ранее.
Но если берлинское общество тяготило Коха, исследования занимали его по-прежнему. А после свадьбы в нем с новой силой пробудилось давнишнее желание посетить далекие экзотические страны. Поэтому с 1893 годаи до самой своей смерти в 1910 году Кох почти постоянно ездил по разным районам Африки и Индии, где искал возможные способы искоренения сонной болезни, холеры, малярии и неизлечимых инфекционных заболеваний, убивавших крупный и мелкий рогатый скот. Молодая жена сопровождала его почти во всех поездках. В последние годы своей жизни он посетил Соединенные Штаты и Японию — на сей раз, чтобы насладиться признанием и почестями, которые, как он рассчитывал, должны были оказать ему в этих великих странах. И он не был разочарован в своих ожиданиях.
Тем не менее в 1901 году его гордости был нанесен ощутимый удар: первую Нобелевскую премию по медицине присудили его бывшему студенту, а позже заклятому врагу Адольфу фон Берингу. Впрочем, трагическая ошибка Коха, преувеличившего терапевтические возможности туберкулина, не могла заслонить великолепие и новизну его собственных изысканий в области бактериологии. В 1905 году Роберт Кох также стал лауреатом Нобелевской премии.
К концу жизни у Коха появились симптомы коронарной болезни, и в 1910 году он перенес инфаркт миокарда. Вместе с женой ученый приехал в Баден-Баден, где надеялся оправиться от сердечного приступа, однако вскоре после приезда умер.
Кроме Хедвиги, на похоронах присутствовали только десять человек; к гробу возложили одиннадцать венков. Согласно воле покойного, священника на церемонию не приглашали. Единственным ученым на траурной церемонии был достаточно известный исследователь Георг Гаффки. Он произнес речь, продолжавшуюся несколько минут, после чего началось прощание. Через шесть минут все закончилось.
Роберт Кох не отличался ни благородством, ни особой любезностью. Именно отсутствием этих двух качеств частично объясняется тот факт, что истинный отец бактериологии не стал подлинным героем медицины. История его жизни не вдохновила ни кинематографистов, ни драматургов; при всем блеске лабораторных работ Коха сам он был довольно скучным человеком. Однако этот скучный человек был одержим одной целью: понять, какие именно «зверушки» Левенгука несут ответственность за развитие тех или иных болезней. Открыв «зверушек», вызывающих сибирскую язву, и «зверушек», вызывающих туберкулез, Кох создал науку бактериологию. Именно такой ученый вызвал бы восхищение у Левенгука. С точностью можно утверждать лишь одно: люди находятся в неоплатном долгу перед врачом общей практики из Волштейна, точно так же, как и перед торговцем мануфактурой из Делфта, и эксцентричным французом.
Глава 4
Эдвард Дженнер и вакцинация

Эдуард Дженнер
(1749–1823)
Даже самый обычный студент, изучающий английскую литературу, знает историю сначала дружеских, а потом крайне недоброжелательных отношений, связывавших известную писательницу и путешественницу леди Мэри Уортли Монтегю (1689–1762) с выдающимся поэтом Александром Попом (1688–1744). Может быть, этому молодому человеку известно и о том, какой изысканной красотой отличалась сия дама. Но очень немногие студенты слышали о том, что именно она первой начала борьбу против оспы. Много лет спустя после смерти леди Мэри Эдвард Дженнер продолжил ее дело и открыл способ, как избавить человечество от этой страшной болезни. Но прежде чем перейти к повествованию о леди Мэри, мы хотели бы рассказать о том, что же это такое — оспа.
Начинается она так: у внешне здорового человека внезапно резко повышается температура, развиваются сильные боли в голове и спине, начинаются рвота и бред. На третий или четвертый день на коже появляются красные пятна, которые через несколько дней превращаются в пузырьки, заполненные гноем. Чаще всего эти ужасные гнойники — пустулы — поражают лицо (даже глаза), но порой они возникают на руках и ногах. Больной может выжить, но на месте пустул образуются корки; через несколько недель они отваливаются, а на их месте навсегда остаются глубокие рубцы.
Во время эпидемий оспы — а в истории Европы они были нередким явлением — погибало от двадцати до сорока процентов заболевших, а выжившие оставались на всю жизнь обезображенными или даже слепли. В XVII и XVIII веках ужасные следы болезни можно было увидеть на лицах примерно трети населения Лондона и именно оспа была причиной слепоты у двух третей всех утративших зрение.
Полностью и навсегда эта болезнь исчезла на нашей планете к 1980 году. Число инфицированных оспой постепенно снижалось на протяжении двух столетий, и начался этот процесс после того, как Эдвард Дженнер ввел в практику вакцинацию, ставшую одним из десяти величайших достижений медицинской науки
[22].
Врачи издавна искали способы лечения оспы. В Древнем мире китайские и индийские целители отмечали, что переболевшие один раз оспой больше этой болезнью не заболевают. (Сейчас известно, что в некоторых случаях иммунитет у переболевших сохраняется в течение многих лет, но не обязательно до конца жизни). Уже тогда врачам приходила в голову мысль о том, что, если вызвать у человека оспу в легкой форме, это сможет защитить его от «полномасштабного» заболевания в будущем. Для этой цели они растирали в пыль оспенную корку, взятую у выжившего больного, и через серебряную трубочку вдували эту пыль в ноздрю здорового человека, причем мужчинам в левую ноздрю, женщинам — в правую. После вдувания, даже если использовали старую, шестимесячную пыль, у человека, как правило, хотя и не всегда, развивалась легкая форма заболевания. Увидев результаты применения этой профилактической меры, английский торговец Джозеф Листер (в будущем отец антисептики) написал одному из членов Королевского общества, призывая его ввести ее и в Англии; однако ученый муж остался глух к его просьбе
[23].
Тем временем арабы разработали иной метод. Они делали на руке здорового человека маленькие надрезы и втирали в них материал, полученный из оспенного пузырька. Эта процедура произвела такое впечатление на жившего в Константинополе знаменитого турецкого врача Эммануэля Тимони, что он написал книгу на английском языке, где представил все детали. В 1715 году Тимони безуспешно пытался распространить свою книгу в Англии, но она совершенно не заинтересовала английских врачей. Мы еще поговорим о докторе Тимони, однако сейчас вернемся к леди Монтегю и ее роли в искоренении оспы.
По крайней мере до 1717 года леди Мэри Уортли Монтегю могла считаться женщиной, трижды получившей благословение Небес. В ее жилах текла благороднейшая кровь — она была дочерью герцога Кингстонского. Она была так красива, что самый известный английский художник того времени, сэр Годфри Неллер (его кисти принадлежат портреты четырнадцати монархов, включая Карла II, Людовика XIV и Петра Великого), умолял ее попозировать ему, и художнику удалось передать ее красоту на полотне (рис.). Впервые увидев леди Мэри, поэт Александр Поп был настолько ошеломлен, что посвятил ей поэму, которая начиналась так:
Счастливый облик величия и правдивости,
Сияние небесного ума,
В ней соединяются вся мыслимая грация
И все добродетели…

Мэри Уортли Монтегю
(1689–1762)
Помимо благородного происхождения и красивого лица, Небо наградило леди Монтегю и блестящим умом. Счастливым образом она сочетала в себе все эти качества вплоть до 1717 года. В тот страшный год Мэри, жившая в Константинополе вместе с мужем, послом Великобритании в Турции, заболела оспой. Она выжила, но ее лицо обезобразили многочисленные уродливые, неискоренимые рубцы, полностью скрыть которые не могла никакая косметика. Прежде леди Мэри обожала смотреться в зеркало, теперь же она бежала от него.
В том же 1717 году у леди Мэри родилась дочь. Наблюдавший леди английский врач, доктор Мейтланд, пригласил доктора Тимони ассистировать при родах. И это была большая удача для всех последующих поколений. Увидев уродливые оспины на лице леди Монтегю, Тимони убедил Мэри позволить ему сделать иммунизацию ее старшему сыну. А когда и чета Монтегю, и Мейтланд вернулись в Англию, Мейтланд провел иммунизацию и крохотной девочке, которой совсем недавно вместе с Тимони помог появиться на свет.
На латинском языке оспа называется
variola, поэтому новую процедуру назвали «вариоляция». Леди Монтегю хотела, чтобы о ней узнали как можно больше людей, поэтому она попросила трех членов лондонского Королевского колледжа врачей осмотреть ее дочь после того, как доктор Мейтланд сделает ей прививку. Эти доктора в свою очередь настояли на том, чтобы в поддержку вариоляции высказался глава колледжа сэр Ханс Слоун. Тот, хотя и нехотя, согласился. Леди Монтегю, обладавшая настоящим даром устанавливать связи с представителями самых разных общественных кругов, пригласила нескольких газетных репортеров поприсутствовать на первой в Англии вариоляции, и благодаря им вариоляция получила широкую огласку.
Хотя одобрение лондонского Королевского колледжа врачей и красочные описания в газетах могли бы заставить общественность поверить в пользу вариоляции, леди Монтегю понимала, что требуется сделать еще один шаг. Она решила убедить членов королевской семьи провести вариоляцию их собственным детям. Леди Мэри обратилась к принцессе Уэльской Кэролайн и предложила, чтобы та сделала прививку двум своим дочерям. Принцесса ответила, что хотела бы получить дополнительные доказательства безопасности процедуры, и доктор Мейтланд поступил так, как было принято в то время: он сделал прививку шести заключенным, которых впоследствии выпустили из тюрьмы, и маленькому сироте. Во всех семи случаях процедура прошла успешно, и принцесса с облегчением дала согласие на вариоляцию своих дочек.
К 1735 году вариоляцию в Англии перенесли 850 человек. Столь низкое число объяснялось тем, что некоторые хирурги настаивали на необходимости некоего подготовительного периода, по сути дела абсолютно ненужного. В течение шести недель до вариоляции людей подвергали кровопусканию, сажали на низкокалорийную диету и усиленно промывали им кишечник. Неудивительно, что к концу шестой недели такого режима их подопечные слабели и плохо себя чувствовали. Прошло тридцать лет, прежде чем врачи отказались наконец от варварского ритуала. А тем временем члены Королевского колледжа единодушно решили, что должны всеми силами поддерживать новую методику вариоляции
[24].
Несмотря на первые радужные отчеты, вариоляция отнюдь не всегда давала положительные результаты. Современные подсчеты показывают, что доля умерших после процедуры достигала 12 % — по сегодняшним меркам, это недопустимо высокий показатель. Впрочем, по сравнению с альтернативой — летальность на уровне 20–40 % во время тяжелых эпидемий — вариоляция явно оказывалась наименьшим из зол. Но, поскольку успех ее был довольно относительным, она так и не завоевала популярности в американских колониях, а несколько штатов даже объявили ее противозаконной.
Иными словами, существовала острая необходимость в разработке более безопасного способа предотвращения оспы. Человека, которому суждено было найти такой способ, звали Эдвард Дженнер, и родился он неподалеку от Бристоля, в городке Беркли, в графстве Глостершир, 17 мая 1749 года. Его отец, Стивен, был священником англиканской церкви. Он женился на Саре Хед, дочери преподобного Генри Хеда, викария в Беркли, а после смерти Хеда занял его должность
[25].
У Стивена и Сары родилось девять детей, двое из которых умерли; Эдвард, восьмой по счету, остался сиротой в пять лет. Его мать умерла в возрасте сорока шести лет после рождения девятого младенца, а спустя два месяца скончался и пятидесятидвухлетний отец.
Поскольку два старших брата Дженнера, Стивен и Генри, учились в Оксфорде, мальчиком занимались три сестры — Мэри, Сара и Энн. Однако самую большую привязанность, самую глубокую и благодарную любовь маленький Эдвард испытывал к старшему брату Стивену, который очень поддержал его в юные годы. Стивен, последовавший по стопам отца, тоже стал священником. Эдвард любил музыку и очень неплохо играл на скрипке и флейте. Неподалеку от Дженнеров жило семейство Беддоуз. Томасу Беддоузу, старшему другу Эдварда, позже предстояло сыграть заметную роль в истории вакцинации.
Когда Эдварду исполнилось восемь лет, братья и сестры решили отдать его в бесплатную школу-интернат, а вскоре школу охватила страшная эпидемия оспы, произведшая неизгладимое впечатление на маленького Дженнера. В спешном порядке вариоляции подвергали всех учеников, не прошедших ее ранее, в том числе и Эдварда. Мальчику, и без того растерявшемуся в незнакомой обстановке, пришлось выдержать бесполезную и потенциально опасную подготовку с неизбежными кровопусканиями, голоданием и клизмами. Через шесть недель ослабленный, истощенный, перепуганный и несчастный ребенок получил прививку, а затем его поместили в лазарет вместе с детьми, уже заразившимися оспой и находившимися по большей части в безнадежном состоянии.
Этот пугающий опыт имел для Эдварда тяжелые психологические последствия, включая бессонницу, тревожное состояние и слуховые галлюцинации. Поняв, что с мальчиком происходит что-то неладное, старшие братья и сестры решили перевести его в другое учебное заведение — очень маленькую частную школу. Там он приобрел друзей, оставшихся с ним рядом всю его последующую жизнь, а его самый близкий друг, Калеб Парри, позже принимал участие в медицинских опытах Дженнера
[26]. Учебная программа (греческий, латынь и религия) не соответствовала ни темпераменту, ни врожденным способностям Дженнера. Он плохо усваивал греческий и латынь, учеба вгоняла его в скуку, и он утратил к ней всяческий интерес. К счастью, у него появилось два хобби: он разводил сонь и собирал окаменелости.
Стивен и Генри надеялись, что Эдвард пойдет по их стопам и поступит в Оксфорд, однако в правилах поступления четко оговаривалось, что абитуриент должен блестяще знать греческий язык, латынь и основы религии. У одного из братьев (вероятно, У Стивена) хватило ума и доброжелательности, чтобы понять: Эдвард интересуется биологией и для него более подходящей может стать профессия врача.
Эдвард не мог претендовать на поступление в лучшие медицинские учебные заведения того времени — Оксфордскую или Шотландскую медицинские школы. Хотя в системе английской медицины уже начинались какие-то изменения, в ней еще сохранялось разделение на врачей и хирургов. Хирурги были гораздо менее образованны и приобретали познания в медицине скорее на практике, чем в университетах. Колледж врачей носил звание Королевского, хирургический колледж — нет. К врачам обращались «доктор», к хирургам — «господин».
Хотя никаких особенных академических успехов у Эдварда не было, его знаний хватило на то, чтобы стать учеником младшего хирурга. В восемнадцатом веке английские дети из любого слоя общества часто брали на себя взрослые обязанности в гораздо более юном возрасте, чем сегодня. В частности, учениками хирургов становились, по нашим меркам, совсем еще юнцы. Дженнер стал учеником сельского хирурга Джона Ладлоу, когда ему едва исполнилось тринадцать, и проучился у него шесть лет. Работая под руководством Ладлоу, он с интересом слушал, о чем рассказывали сельские жители своему хирургу. В частности, в 1768 году, уже в конце обучения, он услышал разговоры о том, что доярки, заражавшиеся коровьей оспой, в дальнейшем никогда не заболевали оспой человечьей. (Коровья оспа — это неопасная болезнь, поражающая вымя и соски коров, причем только в Британии и в других странах Западной Европы.) Именно эта история навела Дженнера на мысль о том, что намеренное заражение людей коровьей оспой может в будущем предохранить их от заболевания страшной болезнью
[27].
Прежде чем Дженнер получил возможность проверить правильность своей идеи, он переехал в Лондон, где поступил на учебу в больницу Святого Георга. В то время эта больница не пользовалась ни широкой известностью, ни уважением, хотя ее главному хирургу, Джону Гунтеру, вскоре суждено было завоевать репутацию самого выдающегося хирурга в Англии. А тогда Гунтер решил сдавать комнаты в своем доме студентам, и его первым постояльцем стал Дженнер.
Дженнер стал близким другом Гунтера, хотя по характеру эти люди совершенно не походили друг на друга. Шотландец Гунтер отличался нарочитой грубостью, нетерпением, мог быть невежливым и наглым, ему нравилось казаться деспотичным и критиковать всех и вся. Более молодой Дженнер был добрым, терпеливым, заботливым, вежливым и кристально честным человеком. Гунтер считал, что спокойствие Дженнера оказывает благотворное действие на людей, а Дженнер часто называл Гунтера «милейшим человеком». Понимая, что любой, кто осмелится критиковать Гунтера или не соглашаться с ним, вызовет у того приступ гнева, Дженнер из кожи вон лез, чтобы защитить своего учителя; он знал, что у Гунтера развивается по тем временам загадочная и, как правило, смертельная болезнь — стенокардия.
Ни в одной британской медицинской школе Дженнер не мог бы получить таких уникальных знаний, как за два года работы в больнице Святого Георга. Он накопил значительный опыт применения новейших хирургических методик и, что еще важнее, научился у Гунтера не гадать, а доказывать или опровергать гипотезы на основании хорошо продуманных опытов. В наше время такой подход считается само собой разумеющимся, но в XVIII веке он воспринимался как нечто новое.
Именно в те годы зарождалась новая наука — физиология. Гунтер всегда ставил на первое место анатомию, но постепенно и он начинал понимать, что физиология не уступает ей по значимости. Со временем у него скопилась коллекция из примерно тринадцати тысяч анатомических, патологических и биологических препаратов (позже она легла в основу создания Гунтеровского музея). Поскольку Дженнер хорошо знал эту коллекцию и имел большой опыт классификации препаратов, в 1771 году Гунтер рекомендовал его капитану Джеймсу Куку, вернувшемуся в Англию после плавания на «Индеворе». Дженнеру предстояло разобрать тысячи образцов растений, собранных главным ботаником экспедиции Кука сэром Джозефом Бэнксом. Великолепная работа Дженнера настолько понравилась Бэнксу, что он пригласил молодого врача принять участие во втором кругосветном плавании Кука, но Дженнер это приглашение отклонил. Даже Гунтер не смог убедить его согласиться. После двух лет, проведенных в Лондоне, Дженнер мечтал о тихой и спокойной жизни в английской глубинке. У него никогда не было своей семьи, и он отчаянно желал вернуться в Беркли и жить рядом с любимым старшим братом Стивеном.
Еще до приезда в Лондон, с того времени, как Дженнер был учеником хирурга, мысли его занимала одна проблема: коровья оспа, все та же коровья оспа и ее гипотетическая способность обеспечить иммунитет против натуральной оспы. Он неоднократно обсуждал эту проблему с Гунтером и специально для него нарисовал типичные для коровьей оспы поражения на руке. Идеи Дженнера произвели на Гунтера такое впечатление, что он постоянно рассказывал своим студентам о связи между коровьей и натуральной оспой. Один из этих студентов передал услышанное врачу-лектору Джозефу Адамсу. Тот в свою очередь указал на возможную связь между двумя болезнями в своей знаменитой книге «Наблюдения о смертельных ядах, хронических и острых»
[28].
В Лондоне Дженнер завоевал репутацию хорошего врача, поэтому вскоре после его возвращения в Беркли на него посыпались весьма заманчивые предложения работы. Гунтер умолял его вернуться и занять должность его ассистента по исследованиям — ему казалось, что от такого предложения Эдвард просто не сможет отказаться. Университет в Эрхаленкене, чтобы привлечь его в свои стены, был готов присудить ему почетную докторскую степень. Кроме того, ему предлагали отправиться в Индию и занять там должность хирурга с колоссальным жалованьем. Дженнер вежливо, но твердо отклонил все предложения; он принадлежал Беркли и не желал порывать связи с этим городом.
Богатство в Беркли измерялось количеством земли, и богатые люди автоматически становились частью местной знати. По этим меркам Дженнер, который к описываемому периоду унаследовал довольно значительный участок и кое-какую собственность, вполне мог считаться сельским аристократом. Его увлечения — музыка, литература, живопись, орнитология и химия — значили для него не меньше, чем профессия. Местные жители часто называли его «искателем приключений». Все получали удовольствие от общения с ним: он обладал хорошим чувством юмора, прекрасно играл на скрипке и флейте, был обаятельным, изобретательным и любознательным человеком. Дружба очень много значила для него, и он поддерживал постоянные контакты со школьными друзьями.
Удовольствия светской жизни и напряженная работа сельского врача не мешали Эдварду Дженнеру вести интенсивную переписку со своим лондонским наставником Джоном Гунтером. Судя по всему, в 1780-х годах именно Гунтер посоветовал Дженнеру заняться изучением повадок кукушки.
Задолго до того, как Дженнер начал изучать эту странную птицу, люди знали, что кукушка никогда не строит собственных гнезд, никогда не высиживает собственные яйца и никогда не кормит вылупившихся птенцов. Причина, по которой эта невероятная птица кладет свои яйца для насиживания в гнезда обычных лесных завирушек, оставалась непонятной. Еще более загадочным представлялся тот факт, что спустя двадцать четыре часа после того, как кукушонок вылуплялся из яйца, все яйца «приемной матери», завирушки, оказывались выброшенными из гнезда. Дженнер решил найти объяснение этим таинственным явлениям.
Изучая цикл миграций кукушки, он выяснил, что, в отличие от других перелетных птиц, кукушка появляется в Англии лишь в середине апреля, а яйца начинает откладывать только в середине мая. Для того чтобы вылупились птенцы, яйцам требовалось не менее двух недель высиживания. Затем еще две или три недели птенцы оставались в гнезде и только после этого делали первые попытки летать и самостоятельно добывать пищу. Дженнеру удалось установить, что в начале июля все кукушки уже улетали из Англии. Таким образом, кукушечье потомство оставалось брошенным на произвол судьбы еще до того, как птенцы становились самостоятельными.
Разгадав, почему кукушка предоставляла лесным завирушкам высиживать и кормить своих птенцов, Дженнер испытал удовлетворение. В отличие от кукушки, слишком поздно прилетавшей в Англию весной и слишком рано улетавшей летом, лесная завирушка оставалась на месте и, следуя инстинкту, выполняла свой родительский долг. Объяснить, почему природа побудила кукушку выбрать в качестве приемной матери своим птенцам именно лесную завирушку, Дженнер не пытался, однако благодаря терпеливому наблюдению за многочисленными гнездами завирушек, куда кукушки подбрасывали свои яйца, он сумел понять, каким образом яйца и птенцы завирушек исчезали из гнезд менее чем через сутки после того, как кукушата вылуплялись из яиц.
К своему величайшему удивлению, Дженнер обнаружил, что уже через час после появления на свет кукушонок, будучи слабым и совершенно слепым, начинает обшаривать гнездо в поисках других птенцов или яиц. Дженнер удивился еще больше, когда увидел, что в этих поисках кукушонок активно использует концы своих крыльев. Он шарил крыльями по гнезду и, наткнувшись ими на другого птенца или на еще целое яйцо, медленно придвигался и втискивался под него. Затем птенец причудливо изгибался, так чтобы добыча оказалась в углублении у него на спине, поднимался с ней к краю гнезда и резким толчком выбрасывал свою жертву наружу. Несколько раз Дженнер, увидев эту ужасную картину, клал птенца или яйцо обратно в гнездо. Однако кукушонок вновь нашаривал его концами крыльев и повторно выбрасывал из гнезда.
Однажды Дженнер нашел гнездо, в котором находились два вылупившихся кукушонка. Вот как он описал увиденное:
Буквально через несколько часов после появления на свет между кукушатами завязалась борьба за владение гнездом, продолжавшаяся вплоть до следующего вечера, когда один из них смог выкинуть другого… Борьба эта происходила весьма интересным образом. Удача улыбалась то одному птенцу, то другому, им по очереди удавалось поднимать друг друга к краю гнезда, но потом под тяжестью ноши они снова падали на дно, и эти усилия продолжались довольно долго, пока наконец в гнезде не остался более сильный птенец, которого и выкормила лесная завирушка.
Увидев своими глазами эти необычные явления, Дженнер исследовал спинки кукушат, чтобы понять, откуда берется углубление, благодаря которому птенец может поднять и потом выбросить из гнезда другого птенца или яйцо. Обратимся снова к его описанию:
Необычная форма вполне отвечает поставленной задаче: дело в том, что, в отличие от других птенцов, спинка кукушонка от лопаток до самого низа очень широкая, а в середине ее имеется ярко выраженное углубление. Судя по всему, природа создала это углубление именно для того, чтобы яйцо или птенец завирушки наверняка не выпадали оттуда, когда кукушонок поднимает их к краю гнезда. В возрасте примерно двенадцати дней углубление полностью сглаживается, и спинка кукушонка уже ничем не отличается от спинок других птенцов.
Зная о том, что Джон Гунтер интересуется происхождением волосяных комков в желудках ряда животных, Дженнер изучил также желудки кукушат и с удовлетворением нашел в них волосяные шарики. Он послал их Гунтеру, и тот с радостью дополнил ими свою довольно-таки мрачную коллекцию. Надо сказать, что Гунтер настолько высоко оценил все сообщенные Дженнером сведения о кукушках и волосяные шарики, присланные для его бесценной коллекции, что он попросил Дженнера описать результаты его наблюдений в письме. В 1788 году Гунтер опубликовал это письмо в журнале «Philosophical Transactions of the Royal Society»
[29]. Статья произвела сенсацию и в дальнейшем стала основанием для принятия Дженнера в Королевское общество.
Занятия Дженнера не ограничивались выполнением обязанностей сельского врача и наблюдением за кукушками. Он находил время для игры на скрипке и флейте, а также сочинял баллады и песни. Узнав о том, что к 1772 году миллионы чернокожих были перевезены в Западное полушарие и обращены в рабство, он настолько возмутился размахом и бесчеловечностью работорговли, что написал слова и музыку осуждающей ее песни:
Если мне будет нечего есть,
А я знаю, что за украденный кусок хлеба
Чернокожего жестоко избивают
И стегают кнутом чуть ли не до смерти.
То какого же наказания заслуживает Хозяин?
Сможет ли он очиститься от вины?
Пусть тот, кто покупает несчастного негра,
Знает, что белый человек обкрадывает меня.
Дженнер посвящал время и другим непрофессиональным занятиям (если допустить, что своей профессией он все-таки считал медицину). Так, услышав о том, что два брата-француза построили воздушный шар для перевозки пассажиров и, наполнив его водородом, пролетели значительное расстояние, он самостоятельно сделал огромный шар из шелка и тоже заполнил его водородом. Хотя идея о перевозке пассажиров на воздушном шаре так и не была реализована, сельский доктор Эдвард Дженнер стал первым англичанином, построившим воздушный шар. Ему пришлись по вкусу все этапы этого предприятия: шитье шара, получение водорода, чтобы наполнить его, проведение научных экспериментов и наслаждение успешным результатом. (Вскоре после этого воздушные шары приобрели популярность и в Соединенных Штатах Америки, а одним из первых американцев, отважившихся путешествовать по воздуху, стал Бенджамин Франклин.)
Совершенно естественно, что достойный джентльмен брачного возраста, каковым являлся Дженнер, привлекал внимание молодых дам, но, несмотря на все его светские таланты и обаяние, серьезные отношения у него как-то не складывались. Гунтер знал, что в течение примерно десяти лет у Дженнера был роман с некой молодой женщиной. Он никогда не называл ее имени, и установить, кем она была, не представляется возможным. После разрыва с ней Дженнер очень страдал. Впрочем, увлечение воздухоплаванием исправило его настроение, а вскоре после этого в его жизни появилась другая женщина, Кэтрин Кингскот. Она жила в деревушке, основанной ее предками и носившей то же фамильное имя. Стремясь произвести впечатление на Кэтрин, а также, безусловно, и на ее влиятельных родственников, Дженнер избрал Кингскот стартовой площадкой для своего второго полета на воздушном шаре. Судя по всему, его затея увенчалась успехом, поскольку 6 марта 1788 года Эдвард и Кэтрин сочетались браком в приходской церкви Кингскота. Ему исполнилось тридцать восемь лет, ей — двадцать семь. Он ухаживал за ней несколько лет и в предвкушении свадьбы купил дом в Беркли
[30].
Трудно было найти двух людей, столь непохожих друг на друга; перед нами типичный случай единства противоположностей. Миссис Дженнер была замкнутой, почти ни с кем не дружила и ненавидела светские приемы и вечеринки. Эдвард, религия и дети (когда они появились) — вот и всё, что её волновало в этой жизни. Тем не менее Кэтрин была послушной женой, старавшейся сделать все, чего хотел Дженнер. Когда он просил, она скрепя сердце даже устраивала шумные домашние приемы. И, что важнее всего, не мешала ему заниматься ни его профессией, ни хобби.
А между тем Дженнер не переставал интересоваться загадочным заболеванием, впервые описанным в 1772 году Уильямом Геберденом. Геберден назвал это заболевание грудной жабой, описал его симптомы и указал, что, как правило, оно смертельно. Однако Гебердену так и не удалось понять, какие именно процессы, происходящие в грудной клетке, вызывают характерные боли, испытываемые больными. Аналогичным образом ни Дженнер, ни Гунтер, проводившие в 1772 году вскрытие тела одного из больных Гебердена, умершего внезапно во время приступа, не смогли определить причину его смерти. Дженнер вспоминал, что, хотя Гунтер обследовал сердце этого человека, ему не пришло в голову проверить состояние венечных артерий.
В промежутке между 1783 и 1793 годами сам Дженнер также провел вскрытие тела больного, умершего после приступа грудной жабы (стенокардии). Вот что он писал об этом своем доброму другу Калебу Парри
[31]:
Обследовав более значимые части сердца и не найдя с помощью средств, на которые я мог рассчитывать, никаких причин внезапной смерти больного или симптомов, предшествовавших ей, я приступил к поперечному разрезу сердца совсем рядом с его основанием, и вдруг мой скальпель уперся в нечто, настолько жесткое и твердое, что на нем могли остаться зазубрины. Хорошо помню, что я посмотрел на потолок — он давно нуждался в ремонте, и я решил, что с него упал кусочек штукатурки. Однако дальнейшее изучение позволило установить истину: венечные артерии превратились в окостеневшие каналы.
Обнаруженное Дженнером обызвествление венечных артерий впервые навело его на мысль о том, что именно обструктивное поражение этих артерий и является причиной стенокардии и внезапной смерти, столь часто настигавшей людей, страдавших этим заболеванием. Это подозрение превратилось в уверенность после того, как последующие вскрытия умерших от стенокардии подтвердили непременное наличие одной или нескольких закупоренных венечных артерий.
К тому моменту, как Дженнер сделал это открытие, он уже знал, что его учитель и дорогой друг Джон Гунтер страдает стенокардией. Дженнер не хотел, чтобы тот узнал, что причиной его болезни является зловещая закупорка одной или нескольких венечных артерий, а потому решил не предавать свое важнейшее открытие гласности. Никогда ранее история медицины не знала случая, чтобы открытие такой значимости осталось тайной лишь из-за того, что врач захотел пощадить друга и избавить его от новых потрясений.
Хотя Дженнер не сообщил о своих выводах относительно венечных артерий самому Гунтеру, он посвятил в них лечивших его врачей, но те не восприняли всерьез его открытие. Однако в 1793 году, после смерти Гунтера, один из этих врачей во время вскрытия тела обследовал венечные артерии и сообщил Дженнеру, что тот оказался прав: венечные артерии Гунтера были непроходимы.
Мы видим, что, стоило Дженнеру заинтересоваться какой-либо проблемой, как он начинал всерьез изучать ее; так обстояло дело с поведением кукушат и с причинами стенокардии. Вопрос о возможной связи между коровьей, конской и натуральной оспами по-прежнему занимал его. На одной медицинской конференции он встретился с неким господином Фрюстером и узнал, что в 1765 году тот представил Лондонскому медицинском обществу доклад о коровьей оспе и ее способности предотвратить заболевание натуральной оспой. (Доклад так и не был опубликован.) Рассказ Фрюстера о возможной взаимозависимости между двумя болезнями показался Дженнеру чрезвычайно интересным. В результате они с Фрюстером посвятили почти все время, отведенное им на конференции, обсуждению различных видов оспы, и члены Общества даже пригрозили Дженнеру исключением, если эти дискуссии не прекратятся. По мнению собравшихся, данная проблема не имела никакого значения для медицины.
Сегодня нам известно, что натуральная оспа, коровья, свиная, конская и великое множество других видов оспы животных вызываются вирусами семейства Orthopox и что всеми этими заболеваниями могут заражаться и люди (рис.). Инфицирование одним видом заболевания создает у человека иммунитет против всех остальных заболеваний группы. Этого Дженнер не знал, но в декабре 1789 года произошли события, непреходящую историческую значимость которых он оценил мгновенно.
 Пустулы на руке крестьянки, зараженной коровьей оспой. Рисунок взят из книги Эдварда Дженнера (1798), в которой описывается защитный эффект вакцинации коровьей оспой
Пустулы на руке крестьянки, зараженной коровьей оспой. Рисунок взят из книги Эдварда Дженнера (1798), в которой описывается защитный эффект вакцинации коровьей оспой
Няня, ухаживавшая за сыном Дженнера Эдвардом-младшим, заболела свиной оспой. С ней тесно общались еще две женщины. Семнадцатого декабря Дженнер взял жидкость из пузырька на коже заболевшей женщины, сделал всем трем контактировавшим с ней (двум женщинам и своему сыну) надрезы на коже руки, а затем втер туда этот материал. На девятый день после прививки все трое заболели, у них появились покраснение и припухлость на руках — в том месте, где Дженнер делал надрезы.
Через несколько недель он подверг всех троих вариоляции натуральной оспой; это не вызвало ни симптомов заболевания, ни сыпи. И, хотя сам Дженнер не осознавал этого, данный случай действительно заслуживает того, чтобы о нем помнили. Материал, взятый от человека, больного свиной оспой, и введенный трем здоровым людям, предохранил их от заболевания натуральной оспой!
Восемнадцатого июля 1790 года доктор Хикс уведомил Медицинское общество Глочестершира о вспышке свиной оспы в графстве. Дженнер обсудил свой эксперимент с Хиксом, и на сентябрьском собрании Общества они представили совместный подробный доклад об опыте, поставленном Дженнером над своим сыном и двумя женщинами. Их выступление не произвело особого впечатления на слушателей. Да и сам Дженнер относился к результатам своих опытов с осторожностью, а потому в декабре 1790 года он провел сыну повторную вариоляцию. У Эдварда-младшего на сей раз все-таки возникла типичная оспоподобная реакция, однако в очень слабой форме. (Сегодня известно, что свиная оспа обеспечивает лишь временный иммунитет против натуральной оспы.) Будучи по-прежнему неуверенным в действенности своих методов, Дженнер в декабре 1791 года третий раз подверг сына вариоляции. На сей раз у мальчика вообще не было никакой реакции — вариоляция зараженным веществом, взятым у больного натуральной оспой защищала от повторного заражения дольше, чем вещество, взятое у больного свиной оспой.
Судя по всему, в последующие годы Дженнер больше не экспериментировал с разными видами оспы. В 1795 году он заболел тифозной лихорадкой, после которой довольно долго лечился на знаменитом курорте в Челтенхеме. Там — вероятно, принимая ванны, хотя точно это неизвестно, — он придумал схему блестящего эксперимента, в целом похожего на тот, что он уже поставил на Эдварде-младшем и двух женщинах. Новый план исследований был достаточно прост. Он введет здоровому человеку, никогда не болевшему оспой, жидкость из пузырька коровьей оспы. После того как этот человек поправится, Дженнер проведет ему вариоляцию натуральной оспы; и если тогда он не заболеет, это будет означать, что коровья оспа создала у него иммунитет против натуральной оспы
[32].
Дженнер не умел хранить секреты, поэтому нет сомнений, что он обсуждал предполагаемый эксперимент со многими людьми. А тем временем появлялись все новые клинические примеры того, как коровья оспа защищала людей от оспы натуральной, что конечно же повышало уверенность Дженнера в успехе предстоящего опыта. У коровьей оспы есть одна особенность — она может на несколько лет полностью исчезнуть, а потом появиться вновь. Поэтому Дженнер понимал, что в широких масштабах его схема будет работать длительное время лишь в том случае, если ему удастся передавать коровью оспу от человека человеку. Ему предстояло тщательно подобрать кандидатуру для проведения опыта, чтобы в случае неудачи родственники не развернули общественную кампанию. Его выбор пал на восьмилетнего Джеймса Фиппса, сына бездомного, работавшего у Дженнеров по найму. Донором стала дочь богатого фермера Сара Нелмес; в царапину на ее руке попала инфекция, когда она доила корову по кличке Цветок, больную коровьей оспой
[33]. Эта стадия эксперимента не вызывала у Дженнера никаких опасений. В конце концов, коровья оспа у людей протекала легко, и еще никто от нее не умер.
Наконец настал судьбоносный день — 14 мая 1796 года. Дженнер сделал на левой руке Джеймса два надреза, каждый длиной чуть более сантиметра. Затем, обмакнув кончик ланцета в жидкость, полученную из пузырьков коровьей оспы на руке Сары, он ввел эту жидкость в оба разреза. Через восемь дней у мальчика появились пустулы, напоминавшие те, что возникают при коровьей оспе. В течение двух дней у Джеймса была повышенная температура, а затем, 1 июля, Дженнер подверг Джеймса вариоляции. Все с волнением ожидали, что у мальчика проявятся симптомы оспы, но, как и предсказывал Дженнер, у испытуемого не отмечалось ни малейших признаков заболевания. Впервые в истории Дженнеру удалось безоговорочно доказать, что прививка коровьей оспы — заболевания, протекающего у людей в очень легкой форме, — защищает здорового человека от натуральной оспы и что никаких проблем с передачей коровьей оспы от человека человеку не существует.
Наконец искоренение оспы на нашей планете стало возможным, хотя для окончательного решения этой проблемы потребовалось еще два столетия. Интересно, как отреагировала бы леди Монтегю, узнав, что вакцинация коровьей оспой обеспечивает защиту от натуральной. Мы полагаем, что она испытывала бы гордость — ведь именно благодаря ей вариоляция вошла в медицинскую практику в Англии, а открытие Дженнера в значительной степени основывалось на том факте, что прививка коровьей оспы не позволяла вариоляции вызывать характерную для нее оспенную реакцию!
Конечно, проведенный эксперимент оказался удачным и впечатляющим, но Дженнер понимал, что теперь ему предстояло упрочить свою победу над оспой, этим страшным убийцей, унесшим в могилу миллионы людей. И он продолжил свои опыты. Дженнер предусмотрительно взял жидкость из безобидных пустул, развившихся на руке Джеймса после прививки коровьей оспы. Второй группе больных Дженнер проводил прививки каплями жидкости из пустул Джеймса; когда у этих больных развились пустулы коровьей оспы, он взял жидкость и из них, а потом использовал ее для вакцинации третьей группы больных, и так далее. Таким образом, ему удалось вакцинировать восемь детей в возрасте от 11 месяцев до 8 лет. Позже двум была сделана вариоляция, давшая отрицательные результаты. Еще одному ребенку сделали вариоляцию без предшествующей прививки коровьей оспы, и у малыша развилась оспоподобная реакция, что указывало на адекватность материала, использованного при всех вариоляциях. Реакция на прививку коровьей оспы развилась у семи из восьми детей (заметим, все они были детьми наемных рабочих или прислуги).
Дженнер настолько уверовал в силу прививки коровьей оспы, что включил в группу испытуемых своего сына Роберта. По иронии судьбы, именно Роберт оказался единственным из восьми детей, у кого прививка не дала результатов. А вскоре в стране началась очередная эпидемия оспы, и Дженнер сделал то, что сделал бы на его месте любой отец — провел вариоляцию собственному сыну.
Весь июль и август Дженнер лихорадочно работал над статьей о своем эксперименте. Воспользовавшись поездкой в Лондон, он лично передал эту статью сэру Джозефу Бэнксу, президенту Королевского общества, для публикации в журнале «Philosophical Transactions». Дженнер не сомневался, что статья будет напечатана. Сэр Джозеф с величайшим уважением относился к Дженнеру, ведь именно для него Дженнер в свое время составил каталог тысяч растений, собранных капитаном Куком. И именно по просьбе сэра Джозефа Дженнер провел тщательный эксперимент, в ходе которого доказал, что навоз является лучшим удобрением для растений, чем человеческая кровь. Однако, хотя два рецензента настоятельно рекомендовали статью в печать, сэр Джозеф единолично принял решение отклонить ее. Он заявил, что необходимо описать больше случаев и что Дженнеру не следовало бы рисковать своей репутацией, представляя научному обществу информацию, столь противоречащую общепринятым воззрениям.
Дженнер понял, что для убедительного доказательства своей правоты ему необходимо повторить опыт еще хотя бы на нескольких людях. Увы, к счастью или к несчастью, в следующие два года случаев коровьей оспы не наблюдалось. Однако Дженнер не успокоился. Он подготовил новую статью, причем написал ее в нескольких экземплярах, и раздал пяти своим самым верным друзьям с просьбой подсказать, не нуждается ли текст в каких-то изменениях. Сформированная таким образом редакционная коллегия de facto собралась 1 марта 1797 года и высказала автору свои предложения, одно из которых состояло в том, что Дженнер должен опубликовать статью частным образом. Он так и сделал — поехал в Лондон и обо всем договорился.
Когда Дженнеру удалось накопить еще несколько случаев, он снова отправился в Лондон и принялся исступленно вносить добавления в рукопись
[34]. Дженнер посвятил получившийся семидесятипятистраничный труд другу детства Калебу Парри. И вот наконец его книга вышла в свет. Тогда, в 1798 году, ее продавали за шиллинг; сегодня цена одного экземпляра достигает 25 тысяч долларов. (Книга Дженнера
действительно стоит этих денег, и не потому, что стала библиографической редкостью, хотя это и так, — дело в том, что ее публикация ознаменовала рождение единственного метода, придуманного к настоящему времени наукой, чтобы
предупредить развитие инфекционных болезней — будь то бешенство, бубонная чума или полиомиелит. И может быть, следующий на очереди СПИД?)
Основная идея, изложенная Дженнером в его небольшой книге, состояла в том, что коровья оспа способна обеспечить защиту от оспы натуральной. В отличие от вариоляции, вакцинация коровьей оспой была безопасной. Коровья оспа не убила и не изуродовала ни одного человека. Кроме того, иногда оспа, переданная путем вариоляции, оказывалась заразной, тогда как коровья оспа, проявлявшаяся у человека после введения ему жидкости из пузырьков, протекала очень легко и никогда не была заразной.
Далеко опередив свое время, Дженнер высказал предположение, что возбудителем коровьей оспы является «вирус» — судя по всему, это слово он употребил не в современном его значении, а просто как своего рода описание принципа распространения инфекции. Для этой цели он взял латинское слово, использовавшееся в английском языке примерно с 1590 года для обозначения ядов.
В книге Дженнер подробно описал всю процедуру прививки. Его методика была настолько эффективной, что на протяжении еще двух веков ее считали стандартной. Он также указал, что его работа основана частично на клинической практике, частично на эксперименте, а частично — на гипотезе. Наконец, он пообещал продолжать свои исследования, потому что, по его твердому убеждению, это принесет благо всему человечеству. Кстати, имя леди Мэри Уортли Монтегю Дженнер в своем труде не упоминул ни разу.
Победа над оспой принесла Дженнеру славу, кроме того, у него появился шанс стать богатым человеком. Но деньги этого доктора не интересовали. Когда его друг Генри Клайн, возглавлявший хирургическое отделение в больнице Святого Фомы, где уже начали делать прививки, предложил ему сто тысяч фунтов в год за то, чтобы тот перенес свою практику в Лондон, Дженнер отказался — в письме Клайну он написал, что средств на жизнь ему хватает и что он поклялся никогда не предпринимать попыток обогатиться за счет своих открытий.
Вскоре Дженнер понял, что чистую вакцину коровьей оспы трудно не только получать, но и хранить или транспортировать. Хотя в то время еще не была открыта связь между бактериями и инфекцией, он указывал на опасность использования несвежего материала, а впоследствии выяснил, что жидкость из пузырьков коровьей оспы лучше всего брать от человека в интервале между пятым и восьмым днем заболевания. Жидкость, взятая раньше, оказывалась неэффективной; взятая же позже могла спровоцировать то, что сегодня мы называем вторичной бактериальной инфекцией.
За сравнительно короткий промежуток времени Дженнер издал еще две брошюры
[35], одну из которых также посвятил Калебу Парри. Вскоре переводы его трудов появились в Европе. В 1800 году Джейн Остен писала, что присутствовала на званом ужине, где хозяева читали гостям брошюру Дженнера о коровьей оспе. Да, работами Дженнера теперь интересовались не только медики! Неудивительно, что к 1800 году о его опытах знал даже британский король. 7 марта 1800 года граф Беркли представил Дженнера монарху, который пожаловал ему разрешение выпустить второе издание
An Inquiry into the Cause and Effects of Variolae Vaccinae («Исследование воздействия и эффектов вакцины от оспы») — на сей раз с посвящением королю.
1803 год был отмечен достижением в этимологическом плане: на смену достаточно туманному словосочетанию «прививка коровьей оспы» пришло слово «вакцинация», производное от латинского «vaccinia», что означает «коровья оспа». Этот термин придумал хирург из английского города Плимут Ричард Даннинг, выполнивший множество вакцинаций.
После выхода в свет оригинального труда Дженнера терапевты и хирурги Лондона и Глочестершира начали активно вакцинировать своих пациентов, вскоре этот метод стали применять и в других областях Британской империи, а затем он триумфально прошествовал по странам Европы и Америки. В июле 1800 года был вакцинирован первый гражданин США — пятилетний Дэниел Уотерхаус, сын доктора Бенджамина Уотерхауса, профессора теоретической и практической физики в Гарвардском университете. Доктор Уотерхаус, став ярым сторонником вакцинации, сумел убедить президента Томаса Джефферсона в ее необходимости. За несколько лет в одном только Лондоне вакцинацию прошли несколько тысяч человек. Эстафету принял Генри Клайн. Казалось бы, все складывалось хорошо. Впрочем, нашлись два врача, Джордж Пирсон и Уильям Вудвилл, которые — по разным поводам — изрядно попортили нервы Дженнеру.
Пирсон опросил многочисленных врачей и хирургов, ознакомившихся с дженнеровским «Исследованием», и в ноябре 1798 года опубликовал результаты этого опроса под названием «Исследование, касающееся истории коровьей оспы, главным образом с точки зрения вытеснения или искоренения натуральной оспы». Все однозначно высказались в пользу вакцинации, и Пирсон выразил Дженнеру благодарность за вклад в открытие этой процедуры
[36].
Следующий шаг Пирсона немедленно привлек внимание Дженнера: он основал Институт прививок вакцины оспы. Дженнер узнал об этом, получив от Пирсона приглашение присутствовать на открытии и предложение стать одним из сотрудников института. Дженнер был возмущен: Пирсон явно хотел присвоить себе его заслуги! Дженнер отказался прийти на открытие и войти в состав сотрудников, если ему не предложат возглавить институт. Пирсон на это не согласился, и тогда Дженнеру пришлось прибегнуть к помощи ряда влиятельных людей, которые призвали к бойкоту института. Эта политическая возня занимала много времени и сильно отвлекала Дженнера от исследований, написания статей и общения с семьей.
Вудвилл — врач из больницы, где занимались лечением оспы, — в мае 1799 года написал брошюру «Отчет о серии прививок коровьей оспы с замечаниями и наблюдениями по поводу этой болезни, считающейся суррогатом натуральной оспы». Этот отчет, основанный на обширном опыте, подтверждал выводы Дженнера. Однако сразу после публикации у многих больных, вакцинированных Вудвиллом, появились высыпания на всем теле. Затем с той же проблемой у своих больных столкнулся Пирсон. Тогда Вудвилл выпустил новую брошюру, «Наблюдения по поводу коровьей оспы», где опровергал утверждение Дженнера о том, что после вакцинации сыпь появляется только на месте введения вакцины. В 1800 году Пирсон опубликовал статью аналогичного содержания в «Physical and Medical Journal».
Расстроенный этими двумя недоброжелательными работами Дженнер уверенно предположил, что причиной случившегося стало загрязнение вакцины коровьей оспы вакциной натуральной оспы. В доказательство своей точки зрения он даже послал Вудвиллу образцы чистой вакцины коровьей оспы.
Еще одним источником раздражения для Дженнера стал доктор Бенджамин Мозли — в 1799 году этот эскулап написал трактат, где отзывался о вакцинации как о «коровомании». Он высмеивал работу Дженнера и называл коровью оспу «lues bovita», то есть коровьим сифилисом. Развивая эту аналогию, Мозли высказывал предположение, что коровья оспа, подобно сифилису, может поражать мозг
[37].
В статье другого врача, доктора медицины Уильяма Роули, утверждалось, что у одного ребенка через год после вакцинации развилась деформация лица по типу коровьей морды, а у другого началась парша (кожная болезнь, поражающая шерстистых и волосистых животных). Эта статья, автор которой полагал, что вакцинация может спровоцировать у людей болезни, характерные для животных, или просто превратить их в животных, сопровождалась страшными рисунками, изображавшими обоих детей. И уже в 1808 году доктор Ричард Риз выпустил «Практический словарь домашней медицины», где всячески осуждал вакцинацию и перечислял имена многих врачей, разделявших его точку зрения.
Конечно, у Дженнера были не только враги, но и сторонники. Одним из самых преданных его последователей стал хирург больницы Святого Фомы Джон Ринг. 19 июля 1800 года Ринг поместил в газете «Морнинг геральд» рекламу вакцинации, подписанную многими ведущими врачами и хирургами Лондона и занимавшую целую полосу; кроме того, он опубликовал множество статей, где оспаривал доводы противников вакцинации.
Противоречивые оценки вакцинации постепенно становились достоянием широкой общественности. Дженнер всегда говорил, что его ждет слава, пронизанная стрелами недоброжелательства. И вот его предчувствия оправдывались. Но, несмотря ни на что, Дженнер умудрялся сохранять спокойствие и уверенность в себе. Казалось, ему ничего не страшно, но иногда он признавался, что всегда готов к удару и даже к близким друзьям предпочитает не поворачиваться спиной.
Но особенно он переживал из-за того, что не мог уделять достаточно времени жене и детям. Оставшись сиротой в пять лет, он прекрасно понимал, как важно для маленького человека семейное тепло и домашний уют, любовь и внимание родителей. Частые поездки в Лондон, исследования, написание статей и различные политические акции — все это мешало не только общению с детьми, но и его частной практике. А вскоре он даже купил себе дом в Лондоне, так как ему приходилось проводить в столице по нескольку месяцев в году.
Прием пациентов теперь приносил Дженнеру очень мало денег. Ситуация становилась по-настоящему серьезной: сумма его долгов превысила 12 тысяч фунтов — это была по тем временам огромная цифра. Теперь Дженнер понял, как ошибся, сказав Клайну, что не нуждается в деньгах. Чтобы поправить дела, он решил открыть кабинет в Лондоне. Однако, к его разочарованию, большинство потенциальных пациентов быстро поняли, что вакцинация — довольно простая процедура, которую прекрасно может провести их привычный врач или хирург, и идея с практикой провалилась.
Тогда Дженнер и его сторонники решили обратиться с петицией в британский парламент и попросить его членов выделить Дженнеру вознаграждение для компенсации расходов, которые он понес, разрабатывая метод вакцинации. В то время как друзья Дженнера прилагали все усилия, дабы добиться положительного ответа, ему самому пришлось вернуться в Беркли. Причиной стала тяжелая болезнь жены. Миссис Дженнер страдала от туберкулеза, на этой почве у нее развилась депрессия, и в поисках помощи она обратилась к религии. Один из друзей даже предупредил Дженнера, что она хочет сделать обоих сыновей священниками. Счастливая супружеская жизнь осталась в прошлом, в доме Дженнеров начались ссоры: Кэтрин решительно осуждала идею обращения в парламент. Она говорила, что мужу следует придерживаться прежнего решения и жить на собственные доходы, которых, по ее мнению, им вполне хватало.
Палата общин приняла петицию, король дал свое принципиальное согласие, и в течение месяца комитет палаты изучал обстоятельства дела. Подробно опросив самого Дженнера, члены комитета пригласили многочисленных его сторонников и противников. Интересно отметить, что одним из самых ярких сторонников Дженнера стал Томас Беддоуз из бристольского Пневматического института. Он убедился в эффективности вакцинации после того, как медицинская общественность Бристоля под впечатлением результатов работы Дженнера решила присудить ему премию.
Как и следовало ожидать, наиболее ярыми противниками вакцинации выступили Мозли и Пирсон. Пирсон настаивал на том, что он и Вудвилл вакцинировали больше людей, чем Дженнер, и что соответственно поддержку следует в первую очередь оказать им. Пирсон сознательно лгал: он заявил во всеуслышание, что именно они с Вудвиллом, а вовсе не Дженнер, установили безопасность вакцинации для грудных детей.
В конце концов палата согласилась выделить Дженнеру деньги; единственным спорным моментом оставалась сумма. Поступило несколько предложений: двадцать тысяч, пятнадцать тысяч (в обоих случаях это решило бы все финансовые проблемы Дженнера) или десять тысяч фунтов. После долгих дебатов 2 июня 1802 года палата единогласно утвердила размер выплаты — десять тысяч фунтов.
Коллеги и друзья Дженнера нашли способы выразить свое отношение к его достижениям. В 1802 году Физическое общество клиники Гай избрало его своим почетным членом. Общество военно-морских врачей наградило его за спасение множества человеческих жизней во время войны с Наполеоном, было создано Королевское Дженнеровское общество. Как следует из названия, Общество находилось под патронатом короля и королевы, королевские дети стали его вице-патронами, а всего в руководство Общества вошли пятьдесят самых влиятельных людей Великобритании. Общество издавало научные работы и оплачивало вакцинацию бедняков. На своем первом научном заседании, состоявшемся в 1803 году, Королевское Дженнеровское общество официально одобрило термин «вакцинация». А 11 августа 1803 года город Лондон провозгласил Дженнера своим почетным гражданином — свидетельство передали ему в золотой шкатулке стоимостью 105 фунтов стерлингов. Через месяц Королевское гуманитарное общество избрало Дженнера своим почетным членом.
К этому времени «старику» Дженнеру исполнилось пятьдесят пять лет. Его работа принесла ему всемирную славу, его таланты и статус как политика и
общественного деятеля вызывали всеобщее восхищение, но при этом он оставался бедным, как церковная мышь (даже после получения денег от парламента его долги достигали двух тысяч фунтов стерлингов). В августе 1803 года он продал лондонский дом и вернулся в Челтенхем и Беркли, где восстановил свою практику и прожил последующие два года.
Несмотря на то, семья не вылезала из долгов, набожная госпожа Дженнер уделяла очень большое внимание местной бедноте и занималась благотворительностью, а ее супруг построил рядом со своим домом больницу, которую назвал «Храм вакцины», и делал там бесплатные прививки.
Нет никаких сомнений, что без постоянных личных усилий Дженнера и проявленных им в последующие годы блестящих качеств политика вакцинация не утвердилась бы в медицинской практике. Живя в Челтенхеме, он по-прежнему боролся за свое детище, с горечью отмечая упрочение позиций тех врачей, хирургов и фармацевтов, которые отвергали вакцинацию. Все меньше людей подвергались вакцинации, и все больше — вариоляции. В результате в 1805 году в Лондоне от оспы умерли более восьми тысяч человек. Дженнер неустанно писал письма в защиту вакцинации.
Новые неурядицы потребовали его возвращения в Лондон. Долги оставались не выплаченными, а в Англии того времени все должники попадали в тюрьму. Парламент отсрочил положенное вознаграждение, а когда оно было наконец выдано, то оказалось, что его обложили огромными налогами и вычетами. Чтобы свести концы с концами, Дженнеру пришлось прекратить вакцинацию бедняков, и он попросил одного из своих друзей взять на себя эту задачу. Затем возникла проблема, связанная с доктором Уокером из Королевского Дженнеровского общества. Дженнер посчитал, что должен разрешить ее, но это решение было неразумным — он оказался втянутым в серьезные неприятности.
Именно Дженнер в свое время предложил назначить Уокера ординатором, отвечающим за прививки в Королевском Дженнеровском обществе. Уокер работал в так называемом Сентрал-хаусе, где беднякам делали вакцинации бесплатно. Он был грубым и нелюбезным человеком. Малейшие ошибки больных выводили его из себя. Если мать клала одежду ребенка на его стол, он швырял ее на пол; если она случайно вставала на его пути, он отталкивал ее и ставил, словно расшалившегося ребенка, лицом в угол. Если мать, по его мнению, неразборчиво произносила свое имя, он заставлял ее повторять его по буквам, медленно и громко, десять раз подряд, чтобы тем самым преподать ей урок; а если после всего этого напуганная женщина порывалась уйти, он загораживал дверь — и все это сопровождалось крайне язвительными замечаниями.
Кроме того, Уокер начал брать деньги с некоторых больных. После долгих споров Общество решило позволить ему делать это в определенных ситуациях. И тогда он совершил то, что Дженнер расценил как непростительный грех: в сентябре 1804 года Уокер написал письмо редактору «Physical and Medical Journal» и предложил новый метод получения вакцины для одних больных из пустул, развившихся после прививки у других больных. Дженнер и многие его коллеги тут же заявили, что подобная процедура снижает эффективность вакцинации. После этого на страницах журнала разгорелась жаркая полемика между Уокером и другими врачами. Дженнер упрямо стоял на своем, отвергая любые компромиссы, и многие считали, что его упрямство стало основной причиной последовавших затем катастрофических событий. Дженнер потребовал, чтобы Общество уволило Уокера. Начались острые споры, разделившие Общество на сторонников и противников Уокера. В конце концов 8 августа 1806 года он подал в отставку.
Впрочем, сдаваться Уокер не собирался. Прежде всего он отказался уйти из своего кабинета в Сентрал-хаусе, а когда наконец выехал оттуда, то забрал с собой все истории болезни. После этого он организовал кабинет в соседнем доме и получил возможность перехватывать больных, направлявшихся в Сентрал-хаус. И наконец, 21 августа 1806 года он начал открытые боевые действия, учредив Лондонский институт вакцинации, президентом которого стал лорд-мэр Лондона.
2 октября 1806 года Дженнеровское общество назначило на должность, которую ранее занимал Уокер, двадцатидвухлетнего врача Джеймса Шеридана Ноулза. Через два года Ноулз попал в долговую тюрьму. Это событие сыграло роль пресловутой соломинки, сломавшей спину верблюда; Королевское Дженнеровское общество прекратило свое существование.
Теперь угроза долговой тюрьмы нависла и над самим Дженнером. Он опять обратился к старым друзьям и попросил их оказать давление на парламент, дабы тот снова принял решение выделить ему средства.
Парламент проголосовал за обращение к лондонскому Королевскому колледжу врачей с просьбой об учреждении Комитета по вакцинации, который в свою очередь заслушал свидетельства Дженнера и других специалистов как в поддержку вакцинации, так и против нее. Кроме того, парламент попросил лондонский Королевский колледж врачей узнать мнение эдинбургского и дублинского Королевских колледжей врачей и дублинского, эдинбургского и лондонского Колледжей хирургов по этому поводу. Лондонский Королевский колледж врачей разослал своим членам, выступавшим в поддержку вакцинации, соответствующий опросный лист. Лондонский колледж хирургов, обидевшись на то, что парламент не обратился к нему напрямую, не представил никаких выводов. Дженнер горько сожалел, что такие уважаемые люди позволили чувству обиды одержать верх над научными соображениями.
А тем временем информация о бедственном финансовом положении Дженнера дошла до самых удаленных уголков планеты. В Индии граждане Калькутты собрали для него четыре тысячи фунтов, Бомбей направил две тысячи, а президент Мадраса — 1383 фунта. Наконец 29 июля 1807 года парламент проголосовал за выделение Эдварду Дженнеру гранта в размере двадцати тысяч фунтов стерлингов.
После закрытия Королевского Дженнеровского общества Дженнер стал ходатайствовать о проведении бесплатной вакцинации уже не перед частными лицами или организациями, а перед правительством. Благодаря его усилиям в 1809 году парламент создал Национальное ведомство вакцинации и назначил совет его директоров; главой ведомства стал Дженнер. Многие из членов совета, особенно те, чьи взгляды расходились с его собственными, вызывали у него активное раздражение. Начались внутренние политические распри, в результате которых Дженнер ушел со своего поста еще до первого официального собрания совета директоров. Организация просуществовала до 1867 года, после чего ее функции взял на себя Тайный совет.
Нападки на Дженнера не прекращались. Постоянно поступали сообщения о неудачных вакцинациях. Противники выпускали одну колкую статью за другой, а публике предоставлялась возможность читать язвительные сатирические стихи и даже «Дженнеровскую оперу», напечатанную в журнале «Medical Observer». А Дженнер тратил дни на изучение причин неудачных вакцинаций и на ответы все более многочисленным, все более острым критикам.
Впрочем, даже такого рода политическая борьба не помешала Дженнеру написать шестнадцатистраничную брошюру «Facts, for the Most Part Unobserved or Not Duly Noticed, Regarding Variolous Contagion» («Факты, относящиеся к заражению оспой, оставшиеся по большей части не замеченными или не описанные надлежащим образом»). В ней он описывал небольшую серию повторных заражений оспой — в описанных им случаях ни перенесенная ранее оспа, ни вариоляция не уберегла больных от второго заболевания. Писал он и о том, что оспа может поражать плод, не поражая при этом мать (современные врачи подтвердили это его наблюдение).
В 1809 году, в возрасте шестидесяти лет, Дженнер решил «уйти на покой» — хотя практику он не оставлял до 1822 года и исполнял обязанности мирового судьи в Беркли. Кроме того, он посвящал много времени новым увлечениям: садоводству, фермерству, изучению окаменелостей и геологии. До конца своих дней он оставался истинным ученым, хотя его интеллектуальные способности постепенно слабели. Так, он написал статью «Наблюдения по поводу собачьей чумы», где сообщал, что привил натуральную оспу двадцати собакам и у всех этих собак развилась чума в слабой форме, что, конечно, не могло соответствовать действительности. 31 января 1810 года от туберкулеза умер его старший сын Эдвард. Для Дженнера это был страшный удар. У него началась глубокая депрессия. Он писал другу, что никак не ожидал, что «рана окажется такой глубокой».
А потом появились признаки психического расстройства. У Дженнера возобновились слуховые галлюцинации и приступы внезапного тремора, мучившие его в восьмилетнем возрасте. Он осознавал, что подавленное состояние не позволяет ему выполнять профессиональные обязанности, а светская жизнь — театральные постановки, концерты и балы — его уже давно не привлекали. В довершение всех бед Кэтрин, страдавшая не только туберкулезом, но и артритом, оказалась прикована к постели.
13 ноября 1810 года Мэри, старшая сестра Дженнера, упала с лестницы и умерла. Теперь у Дженнера были не только депрессия и слуховые галлюцинации; он жаловался на возбуждение и «утрату мужества», которое пытался вернуть с помощью бренди и опиума.
В это же время умер друг Дженнера граф Беркли. Палата лордов, начавшая слушания по передаче титула и наследства, пригласила Дженнера выступить с показаниями в качестве мирового судьи. В письме Калебу Парри Дженнер рассказывал, что каждую ночь просыпается, весь дрожа, от кошмара, в котором выступает перед лордом-канцлером, и добавлял, что его нервы не выдержат такого испытания.
В начале августа 1812 года у второй сестры Дженнера, Энн, произошло несколько инсультов, и 25 сентября она скончалась. Теперь Дженнер окончательно пал духом. К тому же его стали мучить приступы боли в животе, развилась желтуха, появились перебои в сердце.
Почему же этот уверенный, общительный и неунывающий человек превратился в депрессивного и погруженного в себя параноика? Может быть, смерти близких людей и собственная прогрессирующая болезнь напомнили ему о детстве, когда он за два месяца стал круглым сиротой и столкнулся с пугающей практикой вариоляции, принятой в то время? Или он боялся, что на старости лет останется совсем один, боялся смерти? Или же это были первые проявления заболевания мозга? Кто знает?
А между тем Колледж хирургов, теперь получивший имя Королевского, выпустил заявление о прекращении вариоляции и поддержке практики вакцинации. Это событие, так же как и получение почетной степени Оксфордского университета, доставило Дженнеру искреннее удовольствие. (Впрочем, тут он в полной мере проявил свой вздорный и неуживчивый характер и далеко не сразу согласился надеть мантию и шапочку.) Получив эту степень, он вдруг захотел стать обладателем еще одного диплома, в котором ему отказывали на протяжении всей его профессиональной деятельности, — речь шла о членстве в лондонском Королевском колледже хирургов. Однако Королевский колледж оказался не столь гибким, как Оксфорд: от Дженнера потребовали, чтобы он сдал все необходимые экзамены, в частности по греческому и латыни!
Самым радостным событием последних лет жизни для Дженнера стало поступление его младшего сына Роберта в Оксфорд в 1815 году. Будучи подростком, Роберт постоянно ссорился с отцом, который даже как-то назвал его никчемной личностью. Роберту, как и самому Дженнеру, трудно давались греческий и латынь, однако в Челтенхеме он начал, а в Оксфорде продолжил изучать древнееврейский язык и добился больших успехов. Теперь отец с гордостью сообщал, что юноша приобрел хорошие познания в этом, как он называл его, «чудесном языке» всего за три недели. Точно так же, как его отец, Роберт Дженнер в равной мере посвящал себя и основному делу, и своим увлечениям; на первом курсе в разгар учебного года он умудрился улизнуть из университета, чтобы не пропустить охоту на куропаток в Шотландии. Узнав об этом дерзком поступке, отец заметил, что куропатки должны радоваться — ведь Роберт был очень плохим стрелком.
Вскоре, однако, радостный период в жизни Дженнера резко закончился. 13 сентября 1715 года умерла его жена. Дженнер снова впал в глубокую депрессию. Несмотря на то, что они с Кэтрин были совершенно разными по характеру людьми, и их мнения по ряду вопросов часто не совпадали, он любил жену и принимал ее религиозные воззрения и образ жизни.
Прошло время, и состояние Дженнера улучшилось настолько, что он смог принимать больных, выполнять обязанности мирового судьи и заниматься своими хобби. В какой-то мере возродился и его интерес к кулинарии: местные аристократы передавали друг другу его рецепт засолки свиных ребрышек. Новым увлечением Дженнера стала археология. Он участвовал в раскопках развалин эпохи Римской империи и впервые в Англии нашел окаменелые останки морских рептилий. Ему по-прежнему нравилось писать статьи на медицинские темы, но качество этих статей резко ухудшилось, а выводы часто бывали просто смешными.
Впрочем, уровень работ, написанных им на другие темы, оставался весьма высоким почти до самого конца его жизни. В 1820 году семидесятиоднолетний Дженнер отправил в Королевское общество статью о миграции птиц. Этот естественно-научный шедевр увидел свет в журнале «Philosophical Transactions» через год после смерти автора. В статье Дженнер указывал, что птицы, прилетающие в Англию на весну и лето, потом исчезают, потому что мигрируют в страны с более теплым климатом. Ранее считалось, что эти птицы никуда не улетают, а впадают в спячку и проводят зиму либо подо льдом замерзших прудов, либо под снегом.
5 августа 1820 года Дженнер перенес кровоизлияние в мозг, после которого несколько часов оставался без сознания. Хотя потом сознание в полной мере вернулось к нему, а явного паралича не наблюдалось, он понимал, что дни его сочтены. На протяжении всей своей жизни он любил находиться в обществе, теперь же он буквально изнемогал без общения с людьми. Он часто чувствовал себя одиноким, однако ни дочь Кэтрин, ни сын Роберт не навещали отца так часто, как ему бы хотелось.
Несмотря на слабое здоровье, в конце 1821 года Дженнер навестил в Бате своего друга детства Калеба Парри. Было бы интересно узнать, о чем беседовали эти два старика. Парри умер через месяц после визита Дженнера; несмотря на плохую погоду, тот все-таки приехал проводить старого друга в последний путь.
26 января 1823 года у Дженнера произошел второй инсульт, после которого он скончался. Как ни странно, хотя в Лондоне знали о предстоящих похоронах, из столицы никто не приехал. На скромной церемонии присутствовали только местные жители. Конечно, среди них были его дети Кэтрин и Роберт, а также несколько других родственников и немного посторонних. Особенно глубокую скорбь испытывал один из присутствующих — Джеймс Фиппс, первый человек в мире, перенесший вакцинацию.
Благодаря своим способностям Эдвард Дженнер, оставшийся сиротой в пятилетнем возрасте, слабый ученик и медлительный работник, смог стать одним из величайших ученых в истории науки. Благодарный мир всегда будет у него в долгу. Он любил свою профессию врача, любил медицину и обогатил ее двумя сенсационными открытиями: изобрел вакцинацию и впервые понял, что причиной стенокардии и сердечных приступов является заболевание коронарных артерий, а злоба и раздражение только усугубляют эти состояния. Кроме того, Дженнер любил свои хобби и сделал ряд выдающихся открытий и в других областях. Орнитологи и сейчас высоко ценят его работы о кукушках и о миграции птиц. Геологи же утверждают, что одним из самых заметных вкладов в науку стало открытие Дженнером окаменелых останков доисторической морской рептилии, плезиозавра. Можно ли назвать еще одного ученого, добившегося таких выдающихся результатов в столь разных областях?
Дженнер мечтал о том, чтобы в один прекрасный день благодаря его открытию оспа навсегда исчезла с планеты Земля. Это произошло в XX веке. Доживи Дженнер до наших дней, он пришел бы в восторг от того, как применяется сегодня его методология введения мертвых бактерий или их токсинов — а также мертвых или ослабленных вирусов — в тело человека с целью выработки сопротивляемости огромному множеству болезней, считавшихся ранее смертельными. Безусловно, его восхитил бы перечень заболеваний, с которыми сегодня можно бороться путем вакцинации: бубонная чума, ветряная оспа, холера, дифтерит, краснуха, гемофилический грипп типа В, гепатит А, гепатит В, грипп, корь, паротит, паратиф, пневмококковая пневмония, полиомиелит, бешенство, пятнистая лихорадка Скалистых гор, столбняк, тиф, брюшной тиф, коклюш и желтая лихорадка. И, быть может, в не столь отдаленном будущем мы найдем и вакцину, которая защитит человечество от СПИДа.
Глава 5
Кроуфорд Лонг и обезболивание в хирургии

Кроуфорд Лонг
(1815–1878)
В 1591 году в Эдинбурге юную, только что родившую двоих сыновей, Эуфанию Макайан выволокли из дома и увезли в неизвестном направлении. Ее мольбы о пощаде остались без ответа; женщину швырнули в глубокую яму и похоронили заживо
[38].
В чем же состояло преступление этой женщины? Дело было в том, что роды у нее были трудные, и, страдая от невыносимой боли, она умоляла избавить ее от мучений. Однако в те времена Церковь считала боль при родах наказанием, посланным женщине Богом. Вот церковные власти и приговорили Эуфанию к смерти, рассчитывая таким образом убедить женщин терпеть все муки, следуя воле Божьей.
Идея о том, что боль послана человеку Господом, появилась самое позднее на заре христианства, но, вполне вероятно, такие воззрения существовали и раньше
[39]. В древнеегипетских текстах, написанных около четырех с половиной тысяч лет назад, можно найти подробные описания болезненных хирургических процедур. В то время уже были известны некоторые травы, способные приглушить боль, но в описаниях операций они не упоминаются.
Аналогичные описания операций без устранения сопутствующей им боли встречаются и в вавилонском «Кодексе Хаммурапи», составленном примерно четыре тысячи лет назад. Известно, что до нашей эры только один хирург в Китае, один — в Индии и несколько хирургов в Греции и Риме старались сделать хирургические вмешательства безболезненными. Примерно в 150–200 годах некоторые греческие и римские хирурги давали пациентам травы, обладавшие не только обезболивающим, но и снотворным эффектом; так действуют и многие средства, находящиеся в арсенале современных анестезиологов. Кстати, сам термин «анестезиология» впервые применил древнегреческий военный хирург Диоскорид, живший в I веке
[40].
Впрочем, эти методы так и не получили распространения, во всяком случае в христианской Европе. Позже разные травы для снятия боли начали использовать мусульманские врачи: они смачивали губку в настое соответствующих растений и давали пациенту дышать через нее
[41]. Монахи в христианской Европе стали применять эти губки, получившие название усыпляющих, лишь в XIV–XVII веках. Идя наперекор учению, которое сами же и проповедовали, монахи использовали их при лечении больных; впрочем, несмотря на это, смертность оставалась столь высокой, что впоследствии от губок отказались. А может быть, их просто сочли бесполезными. (Недавно современные исследователи создали дюжину подобных усыпляющих губок по старинным рецептам и попытались применить их для обезболивания у подопытных животных, однако никакого эффекта не получили.)
Так что же представляла собой хирургия без обезболивания?
В 1791 году в столице Англии был построен Лондонский госпиталь, устройство которого, продиктованное частично именно
отсутствием анестезии, послужило образцом при создании всех больниц в Англии, в Европе и в Соединенных Штатах. Операционная в Лондонском госпитале помещалась на самом верхнем этаже. За ее дверью висел колокол; в него звонили, когда начиналась подготовка к операции, и тогда все сестры, врачи и помощники бежали в операционную и закрывали тяжелую дверь, чтобы никто не слышал страшные вопли больного. Весь персонал больницы помогал удерживать пациента, а при необходимости ему даже затыкали рот
[42]. Электричества в то время не было, поэтому для максимально полного использования дневного освещения при строительстве применяли принцип «второго света».
Учитывая отсутствие обезболивания, хороший хирург должен был прежде всего быть быстрым хирургом. Скорость имела огромное значение; при операциях даже использовали секундомер. Известно, например, что личный хирург Наполеона мог провести любую ампутацию менее чем за одну минуту.
Первым существенным достижением в развитии анестезии стало открытие, сделанное в 1275 году знаменитым испанским философом Раймундом Луллием. Он обнаружил, что, если смешать купоросное масло (серную кислоту) со спиртом, а затем подвергнуть эту смесь дистилляции, получится сладкая на вкус белая жидкость
[43]. Вначале Луллий и его современники назвали эту жидкость сладким купоросом; позже ее стали именовать эфиром. Этому простому химическому соединению суждено было великое будущее, хотя прошло еще шесть столетий, прежде чем люди поняли, в чем состоит его основное предназначение.
В 1605 году швейцарский врач и великий алхимик Парацельс впервые применил эфир для обезболивания
[44]. Парацельс был терапевтом, а не хирургом, а потому и не пытался найти метод обезболивания при хирургических вмешательствах. Однако, испытав вначале эфир на животных, он стал давать его своим больным, особенно страдавшим от боли. Как ни странно, к мысли о применении эфира для облегчения боли врачи вернулись только в середине XIX века.
Второе великое достижение в анестезиологии принадлежит английскому химику Джозефу Пристли (1733–1804), открывшему в 1772 году закись азота, позже названную «веселящим газом». Пристли не понял, что закись азота может устранять боль, зато сделал еще ряд важнейших открытий, в том числе обнаружил существование кислорода и получил окись углерода.
Однако Пристли, при всех его научных заслугах, считался в Англии того времени человеком, совершившим два непростительных греха. Во-первых, он был либералом и во время Французской революции высказывался в поддержку ее лидеров. Во-вторых, он был методистским священником, а потом, став унитарианским священником-диссентером, принялся проповедовать, что Иисус был человеком, что Бог всемогущ и что главными религиозными ценностями являются сострадание и высокие моральные стандарты. После того как в 1794 году толпа, состоявшая из богатых торговцев и высокородных господ, разрушила дом этого опасного радикала, он уехал в Америку, где получил убежище по политическим и религиозным мотивам.
После Пристли «пневматическая медицина» (то есть лечение посредством вдыхания разных газов) стала в Англии своего рода модным увлечением. Одним из главных ее пропагандистов был врач и химик из Беркли Томас Беддоуз, сосед Эдварда Дженнера; его идеи относительно вакцинации он вначале резко осудил, а потом горячо поддержал. Беддоузу, разделявшему либеральные воззрения Пристли, пришлось оставить место лектора в Оксфорде. В 1794 году он переехал в Бристоль, где открыл Пневматический институт. Четырьмя годами позже он назначил управляющим этим институтом блестящего двадцатидвухлетнего хирурга и химика Гемфри Дэви.
В юные годы у Дэви было много общего с Дженнером — он тоже плохо учился в школе и бросил ее в тринадцать лет. Не имея достаточной подготовки, чтобы осваивать врачебное дело в университете, Дэви поступил учеником к хирургу-аптекарю. В период ученичества он проявил огромный интерес к химии и практически самостоятельно изучил ее. Именно он первым стал называть закись азота «веселящим газом» — после того, как в семнадцать лет вдохнул его и, ощутив невероятную эйфорию, разразился хохотом. Позже Дэви придумал для использования этого газа специальный ингалятор.
В 1800 году Дэви опубликовал удивительную книгу, где описывал результаты своих двухгодичных исследований и, в частности, подробнейшим образом обсуждал химические, физические и физиологические свойства закиси азота
[45]. Книгу тут же провозгласили гениальной, главным образом потому, что, когда она вышла в свет, автору исполнился только двадцать один год!
На страницах своего труда Дэви описывал удаление зуба мудрости. У него воспалилась и болела вся десна, причем так сильно, что ему приходилось трижды в день вдыхать закись азота, после чего боль на время проходила. Это навело его на мысль о том, что закись азота можно применять при хирургических вмешательствах, но Дэви не стал развивать идею обезболивания — он полагал, что у него есть более важные дела. В книге содержались и стихи: Дэви был талантливым поэтом, его знали и им восхищались ведущие литераторы того времени. Сэмюэл Тейлор Колридж отмечал, что, не будь Дэви величайшим химиком своего времени, он стал бы величайшим поэтом. Уильям Вордсворт просил Дэви издать ставший знаменитым второй сборник «Лирических баллад», включавший его собственные поэмы и «Старого морехода» Колриджа. И Колридж, и другой известный английский поэт Роберт Саути не раз развлекались, вдыхая вместе с Дэви веселящий газ; как-то Саути заметил, что воздух в высших небесных сферах, безусловно, должен состоять именно из закиси азота.
В 1801 году Дэви ушел из Пневматического института и занял должность вначале лектора, а потом и профессора химии в Королевском институте в Лондоне. Там он изобрел то, что считал своим самым ценным вкладом в науку, — лампу Дэви, резко снижавшую риск взрыва в угольных шахтах. Вскоре он настолько прославился, что ему, например, разрешили в самый разгар Наполеоновских войн спокойно добраться до Парижа, где он получил награду из рук самого Бонапарта. Еще более невероятным стало его избрание членом Королевского общества в возрасте всего двадцати четырех лет, а в сорок два года он стал его президентом. Именно в этом качестве он, увы, уже после смерти Дженнера, одобрил и рекомендовал к публикации его работу о миграции птиц.
После Дэви исследованиями закиси азота занимались в основном американские ученые. В 1808 году Уильям Бартон защитил в Университете Пенсильвании медицинскую диссертацию, подтверждавшую данные Дэви о свойствах закиси азота
[46]. Бартон упомянул, что именно закись азота помогла ему избавиться от ощущения боли после сильного и очень болезненного удара по голове. Вслед за Дэви он также предложил использовать веселящий газ в качестве обезболивающего средства при операциях и, как и его предшественник, не стал развивать это предложение. Должно было пройти еще около тридцати лет, чтобы закись азота начали применять в операционных.
После того как идея обезболивания прочно укоренилась в сознании людей, наибольшую заинтересованность стали проявлять дантисты и хирурги. Дантистам требовалось легкое обезболивание; хирурги же нуждались, и нуждаются до сих пор, в глубокой анестезии. Таким образом, концепции обезболивания в стоматологии и в хирургии стали развиваться отдельно друг от друга, а при изучении истории анестезии с общего согласия стало принятым уделять основное внимание истории обезболивания в хирургии.
Многие американские химики, занимавшиеся изготовлением анестетиков, замечали, что вдыхание этих препаратов приводит людей в радостное, эйфорическое состояние. Следствием этого наблюдения стало устройство всяческих «эфирных вечеринок» и «празднеств веселящего газа». Первым предложил использовать эфир в качестве обезболивающего средства при лечении зуба студент-химик Уильям Кларк, который сам неоднократно бывал участником «эфирных вечеринок». В один прекрасный день Кларк, решив, что веселое возбуждение поможет человеку легче перенести боль, посоветовал своему дантисту, доктору Элайдже Поупу, применить эфир при удалении зуба. В январе 1842 года первым человеком, перенесшим безболезненное удаление зуба под воздействием эфира, стала пациентка Поупа, некая мисс Хоуви.
Первым же, кто использовал анестезию при хирургическом вмешательстве, стал доктор Кроуфорд Лонг. Он родился в США, в Дэнвилле, штат Джорджия, в 1815 году и в четырнадцать лет закончил Франклин-колледж в городе Афины, в том же штате. Надо сказать, что класс, в котором учился Лонг, стал самым выдающимся в истории колледжа — все ученики добились известности. Один стал губернатором, другой — министром финансов, двое — сенаторами, двое — генералами Конфедерации, а трое (включая самого Лонга) — выдающимися учеными.
Лонг получил медицинскую степень в Трансильванском университете в Лексингтоне, штат Кентукки, и в Пенсильванском университете в Филадельфии — лучшем в то время медицинском учебном заведении страны. В течение полутора лет он проходил хирургическую стажировку в Нью-Йорке, а в 1841 году вернулся в Джорджию и открыл практику в Джефферсоне. В это время в городе жили всего несколько сотен человек, но количество пациентов Лонга, великолепного врача, глубоко преданного своему делу, вскоре сильно превысило число местных жителей. Слухи о нем распространялись по всему штату. В конце концов, дошло до того, что доктору порой приходилось тратить целый день, чтобы добраться через реки и овраги Джорджии от одного пациента до другого. Лонг работал так много и так самоотверженно, что в 1842 году даже опоздал на собственную свадьбу с Кэролайн Суэйн. Он не мог оставить тяжело больного пациента, а когда наконец прибыл к месту бракосочетания, оказалось, что почти все гости разъехались, решив, что жених передумал жениться. Конечно же это было не так, но после свадебной церемонии Лонг снова вернулся к постели больного, а с молодой женой увиделся только на следующий день. Впоследствии у супругов Лонг родилось двенадцать детей, пятеро из которых умерли от детских болезней.
Однажды несколько молодых людей из Джефферсона обратились к Лонгу с просьбой приготовить для них немного закиси азота для «праздника веселящего газа». Лонг ответил, что для этой цели отлично подойдет эфир, быстро приготовил его, и они попробовали его все вместе. Веселье оказалось настолько заразительным, что в Джефферсоне и его окрестностях быстро вошли в моду «эфирные вечеринки».
Благодаря увеселительным вечерам, устраивавшимся с его помощью, Лонг сделал наблюдение колоссальной важности: под влиянием эфира на таких вечеринках часто возникали потасовки, во время которых их участники непременно должны были испытывать боль, однако потом никто из них не помнил о каких-либо неприятных ощущениях. Одному из пациентов Лонга, Джеймсу Н. Венейблу, уже несколько раз назначали операцию для удаления двух кист на шее, но каждый раз операцию приходилось отменять, потому что Венейбл панически боялся боли. И тогда Лонг вспомнил о безболезненных ударах, полученных на «эфирных вечеринках». Он пригласил пациента на очередную вечеринку, убедился, что эфир не оказывает на него нежелательного воздействия, а затем уговорил Венейбла лечь на операционный стол. 30 марта 1842 года Лонг смочил эфиром полотенце, дал Венейблу подышать через него, а когда тот потерял сознание, удалил одну из кист. Больной ничего не почувствовал. Придя в себя, он просто не мог поверить в случившееся. Чтобы доказать, что операция состоялась, Лонгу пришлось продемонстрировать удаленную кисту. Опыт оказался настолько удачным, что через девять недель Лонг так же спокойно удалил Венейблу вторую кисту.
После этого Лонг стал давать эфир во время операций и другим своим пациентам. В июле 1842 года ему удалось провести безболезненную ампутацию пальца, а к октябрю 1846 года он успешно прооперировал под анестезией восьмерых больных. В каждом случае операции выполнялись в присутствии многочисленных свидетелей, подтверждавших происходившее, — этот факт имел большое значение для того, что произошло в дальнейшем. В декабре 1845 года Лонг впервые применил обезболивание в акушерстве. Итак, в двадцать шесть лет он стал первым врачом в долгой истории медицины, применившим анестезию при хирургических вмешательствах, а в двадцать девять — первым, использовавшим ее в акушерской практике.
В 1850 году Лонг переехал в Атланту, а годом позже — в Афины, штат Джорджия. Во время Гражданской войны в Афины пришло известие о наступлении кавалерийского дивизиона северян, получивших приказ сжечь город. Когда Лонг прибежал домой, его дети — дочь Фрэнсис и ее младший брат — уже собирались бежать. Лонг дал Фрэнсис стеклянную банку, в которой лежали свернутые бумаги с его записями об обезболивании в хирургии. Фрэнсис закопала банку в лесу, а после войны вернула отцу.
Лонг занимался хирургией и анестезией до последнего дня своей жизни. 16 июня 1878 года он принимал роды у супруги местного конгрессмена. Внезапно ему стало плохо. Его последними словами были: «Сначала позаботьтесь о матери и младенце». Доктор Лонг скончался в тот же день — от массивного кровоизлияния в мозг.
Безусловно, Кроуфорд Лонг первым в истории медицины применил эфир для анестезии, однако обнародовал он свои удивительные результаты лишь в 1849 году, через семь лет после сделанного открытия
[47]. Более того, если бы в 1846 году два дантиста и один терапевт — Гораций Уэллс, Уильям Мортон и Чарльз Джексон — не заявили о своих претензиях на открытие методов обезболивания, Лонг бы, наверное, вообще не опубликовал свою статью об эфире.
Итак, весной 1842 года врач Чарльз Джексон и дантист Уильям Томас Грин Мортон посетили маленький городок Джефферсон — как раз в то время, когда доктор Лонг проводил свою первую операцию под наркозом
[48]. Неудивительно, что это ошеломляющее событие стало предметом живейшего обсуждения среди четырехсот жителей Джефферсона. И конечно же кто-то из них поведал доктору Джексону и дантисту Мортону о потрясающих возможностях эфира.
И вот Джексон, вернувшись в Гарвардский университет после посещения Джефферсона, принялся всем рассказывать, что в феврале 1842 года, то есть за месяц до первой операции с обезболиванием, выполненной Лонгом, он простудился. У него страшно разболелось горло, и тогда он, удобно устроившись в кресле, подышал эфиром, после чего потерял сознание и соответственно перестал чувствовать боль. Так что, мол, именно он открыл действие эфира. (То кресло до сих пор является одним из главных экспонатов выставки, посвященной истории анестезии, в Массачусетском госпитале в Бостоне.) Впрочем, многие из тех, кто лично знал Джексона и был в курсе его предшествующей деятельности, сомневались, что он мог сделать это открытие.
Джексон родился в Плимуте, штат Массачусетс, в 1805 году. В 1829 году он с отличием закончил Гарвардский университет, получив степень доктора медицины. Затем он работал на медицинском факультете университета и в Массачусетском госпитале, где прославился своими энциклопедическими познаниями. Он много трудился, опубликовал более четырехсот статей. Гарвардский университет по праву гордился своим выпускником.
Однако при всех своих блестящих дарованиях Джексон был малоприятной личностью. Коллеги вспоминали, что он болезненно завидовал успехам других, был лживым, хитрым, подозрительным и умело манипулировал людьми. Не раз он пытался присвоить себе чужие открытия — самое интересное, что этот факт, судя по всему, совершенно не вызывал беспокойства в Гарварде. Во всяком случае, никаких порицаний за столь нечестное поведение Джексон не получал.
Один из его коллег, Уильям Бомон, приобрел известность благодаря своим исследованиям пищеварения. У Бомона был один необычный больной по имени Алексис Сент-Мартин — он получил пулевое ранение в живот, после чего образовался желудочный свищ. Через этот свищ Бомон мог изучать процесс пищеварения.
Однажды Бомон послал Джексону для химического анализа образец желудочного сока Сент-Мартина. Джексон сразу понял, что если он будет сам заниматься этим больным, то прославится на весь мир. Он попытался увезти Сент-Мартина, а в 1834 году, не предупредив Бомона, направил в Конгресс США прошение о переводе пациента под свое наблюдение. Узнав об этом, министр здравоохранения пришел в ярость, и прошение Джексона отклонили
[49].
В 1832 году Джексон, возвращавшийся на корабле из поездки в Европу, разговорился с одним из пассажиров по имени Сэмюэл Морзе. Группа пассажиров сидела в кают-компании, обсуждая проблемы электричества и магнетизма, и кто-то спросил Джексона о зависимости силы тока от длины провода. Джексон ответил на вопрос, а Морзе добавил, что через электрические провода можно передавать сообщения. Вернувшись в Соединенные Штаты, Морзе продолжил свои исследования и изобрел телеграф, который запатентовал в 1837 году. Однако это нисколько не помешало Джексону утверждать, что телеграф изобрел именно
он! Дело дошло до Верховного суда, который и постановил, что автор изобретения, без сомнения, — Морзе, а Джексон вообще не имеет к нему никакого отношения.
В 1846 году Джексон попытался присвоить себе изобретение пироксилина, сделанное немецким ученым Кристианом Фридрихом Шенбейном. Позже читатель узнает, как Джексон пытался присвоить и другие, чужие, открытия.
Теперь самое время рассказать о том, какую роль в открытии анестезии сыграл Гораций Уэллс. Уэллс родился в 1815 году в городе Хартфорд, штат Вермонт. Закончив в 1834 году Стоматологическую школу в Гарварде, он в течение многих лет преподавал в этой школе. Уэллс опубликовал множество статей по стоматологии в научных журналах и считался крупным специалистом.
Надо сказать, что Уэллса интересовали разные вещи
[50]. Время от времени он оставлял свою практику: то ездил во Францию покупать произведения искусства для последующей перепродажи в США, то пытался наладить производство переносных ванн и плит. Уэллс был глубоко верующим человеком и даже какое-то время всерьез подумывал о карьере священника. Он легко переходил от состояния крайнего возбуждения к депрессии и часто придавал неоправданно большое значение чужому мнению.
В декабре 1844 года Уэллс посетил вечеринку с веселящим газом в доме доктора Гарднера О. Колтона. Там он обратил внимание на одного гостя, вдыхавшего веселящий газ, — тот сильно поранил ногу, но совершенно не чувствовал боли. Уэллс сразу же сообразил, что закись азота может быть использована в качестве обезболивающего средства в стоматологии. В это время у него самого сильно болел зуб, и на следующий день он попросил Колтона дать ему подышать веселящим газом, пока один из коллег будет этот зуб удалять. И операция прошла без боли! Придя в себя после анестезии, Уэллс с восторгом заявил, что сделал величайшее открытие в истории человечества.
Прежде чем продолжить историю Уэллса, представим второго дантиста, Уильяма Томаса Грина Мортона, также имеющего отношение к открытию хирургического наркоза.
Именно Мортон и был тем дантистом, который в 1842 году приезжал в Джефферсон, город Кроуфорда Лонга. Он изучал стоматологию в Гарварде под руководством Уэллса, и позже стал его партнером по частной практике. Однако в 1844 году Мортон решил поступить в Гарвардскую медицинскую школу, и там его учителем стал Джексон. Странный союз двух очевидных социопатов привел к многочисленным конфликтам и неразберихе, в которой не смог разобраться даже Конгресс Соединенных Штатов.
Услышав об открытии Уэллсом обезболивающих свойств закиси азота, Мортон проникся энтузиазмом. В то время он как раз изучал медицину в Гарварде, и ему удалось уговорить Уэллса продемонстрировать свое открытие перед студентами, причем не стоматологического, а хирургического факультета. Всемирно известный врач доктор Джон К. Уоррен, преподававший в Гарварде, поспешил одобрить демонстрацию.
Историческое событие должно было состояться в январе 1845 года в хирургическом амфитеатре Массачусетского госпиталя в Бостоне. Увы, хрупкой психике Уэллса предстояло выдержать неожиданный удар. Аппарат, который он использовал для подачи веселящего газа, состоял из деревянного загубника с запорным краном, прикрепленного к двухлитровому мешку из промасленного шелка. Такого объема газа не могло хватить для анестезии; требовалось не менее 30 литров, но этого, конечно, Уэллс тогда знать не мог
[51]. Вторая проблема состояла в том, что пациентом был мальчик с сильнейшей зубной болью. Уэллсу удалось добиться только частичного обезболивания, и скоро мальчик начал страшно кричать (вероятно, не столько от боли, сколько от страха). Уэллса освистали и в буквальном смысле слова вышвырнули из амфитеатра, несмотря на то что мальчик, придя в себя, сказал, что не помнит никакой боли. На Уэллса все это произвело сильнейшее впечатление, и он даже впал в глубокую депрессию.
Впрочем, вскоре он пришел в себя и за короткое время провел сорок стоматологических вмешательств с обезболиванием веселящим газом. Все больные давали ему письменные показания о том, что не чувствовали боли, операции проходили в присутствии свидетелей, однако никто в больнице так и не поверил Уэллсу.
Незадолго до провального выступления Уэллса перед гарвардскими хирургами и студентами Мортон начал налаживать связи с Джексоном. Последний, не подозревавший, что Мортон, как и он сам, посещал Джефферсон и хорошо знал об обезболивающих свойствах эфира, в доверительной беседе сказал коллеге, что эфир — выдающийся препарат для анестезии. На что Мортон ответил: «Эфир? А что это такое?»
Потом Мортон клялся, что, когда Джексон рассказал ему об эфире, он, Мортон, уже проводил опыты с этим веществом, но нарочно держал все в тайне. Он утверждал, что добился анестезии у рыбы, нескольких насекомых и щенка, а также и у самого себя; позже один из его соучеников по медицинской школе рассказал в Конгрессе США, что Мортон никогда не ставил никаких опытов.
Судя по всему, он действительно пробовал применить эфир для анестезии у двух студентов-стоматологов, однако в обоих случаях эфир вызвал не обезболивание, а возбуждение. Тогда Мортон сообразил, что ему следовало бы работать в кооперации с Джексоном, владевшим более точной информацией. Так он и сделал. И тогда Джексон указал, что Мортон использовал нечистый эфир фабричного производства и что для анестезии надо производить эфир самим. Это им удалось, после чего они решили, что смогут на эфире заработать хорошие деньги. Джексону пришло в голову смешать его с ароматическими маслами, чтобы скрыть истинную природу препарата, а потом они с Мортоном
запатентовали эту смесь под названием «летеон», пытаясь сохранить ее состав в тайне
[52].
Тридцатого сентября 1846 года Мортон испытал новое вещество на больном Эбене Фросте. Джексон подробно рассказал Мортону, как делать анестезию, и был уверен, что все пройдет гладко — так и случилось. Мортон безболезненно удалил больному зуб; это произошло при свидетелях; на следующий день газета «Бостон джорнал» напечатала статью о выдающемся открытии.
После этого Мортон обратился к Джону Уоррену с просьбой дать ему возможность продемонстрировать новый метод. По сути дела, он просил о том же, что и в случае с Уэллсом двумя годами ранее. Уоррен снова сказал «да», а его домашний хирург доктор К. Ф. Хейвуд написал Мортону письмо, где предложил, чтобы в десять часов утра в пятницу, 16 октября 1846 года, Мортон обезболил больного, которому предстояло удалить опухоль на челюсти. Молодой хирург доктор Генри Джейкоб Бигелоу, занимавшийся организацией мероприятия, пригласил всех ведущих хирургов Бостона (но, как ни странно, ни одного студента-медика).
Однако в назначенный час Мортон не появился. Встревоженный Бигелоу отправился к нему в кабинет, где нашел взволнованного Мортона, паковавшего чемоданы и намеревавшегося уехать из города! Кое-как Бигелоу уговорил его пойти на демонстрацию. Он убеждал Мортона, что летеон обязательно сработает. Бигелоу и Мортон вошли в хирургический амфитеатр Массачусетского общего госпиталя как раз в тот момент, когда Уоррен собирался сделать первый разрез. Мортон принес сбивчивые извинения (объяснив опоздание тем, что ждал мастера, который должен был что-то исправить в новом ингаляторе), после чего дал больному подышать летеоном.
В отличие от Лонга, предлагавшего больным дышать через смоченное эфиром полотенце, Мортон использовал ингалятор. То, чего он боялся больше всего, не случилось — или случилось только частично, поскольку у него, как и у Уэллса возникли проблемы с ингалятором. Ингалятор Мортона был снабжен краном, но без клапана. Во время разреза больной не чувствовал боли, но позже вдруг начал бессвязно разговаривать и пришел в возбужденное состояние. После операции больной сказал, что у него было ощущение, словно ему царапали шею, и он, судя по всему, сознавал, что подвергается операции.
На этот раз никто не свистел и не шикал. Успешный результат ошеломил присутствовавших хирургов и самого Уоррена. В следующий раз Мортон, также с помощью летеона, обезболил пациента доктора Хейвуда. Этому больному удалили большую опухоль на левой руке и благодаря усовершенствованиям, внесенным Мортоном в конструкцию ингалятора (латунные клапаны для вдыхаемого и выдыхаемого воздуха до сих пор выставлены для обозрения в Массачусетском госпитале), анестезия оказалась очень успешной. Больной не приходил в сознание на протяжении всей операции, не помнил ощущения боли и только к концу процедуры несколько раз застонал
[53].
После второй, весьма удачной демонстрации возможностей анестезии Уоррен, Хейвуд и Бигелоу узнали, что Мортон и Джексон запатентовали летеон. Хирурги публично назвали этот поступок неэтичным. Услышав об этом, Джексон убрал свое имя из патента, но заключил с Мортоном письменное соглашение, по которому тот обязался выплатить ему пять с половиной тысяч долларов и проценты со всех будущих прибылей от использования летеона.
Услышав об этих махинациях, доктор Уоррен запретил Мортону практиковать, а также использовать свой метод анестезии на территории Массачусетса. После этого Мортон был вынужден признать, что летеон — это всего лишь эфир, ведь без поддержки медицинского сообщества он никогда не смог бы вернуться к занятиям анестезией. Уоррен спросил Мортона, с какими целями он пытался замаскировать эфир путем добавления ароматических масел. Мортон солгал, заявив, что масла способствовали усилению обезболивающего эффекта. Позже они с Джексоном отозвали свою заявку на получение патента.
9 ноября 1846 года Бигелоу выступил с лекцией о новом методе анестезии перед Бостонским обществом развития медицины, а 18 ноября опубликовал в «Boston Medical and Surgical Journal» статью с описанием двух успешных случаев применения анестезии Мортоном
[54].
Через несколько дней после появления статьи Бигелоу новый метод анестезии оказался в центре внимания всего мира, а между Джексоном, Мортоном и Уэллсом разгорелся спор относительно авторства открытия. Два других претендента на звание первооткрывателей — Уильям Э. Кларк, впервые применивший обезболивание в стоматологии, и Кроуфорд Лонг — до поры до времени молчали. Кларк не хотел лишней рекламы, а Лонга занимали другие проблемы — и продолжали бы занимать, если бы не вмешательство сенатора от его родного штата.
Вскоре после этого Джексон и Мортон с помощью советников и адвокатов составили и подписали соглашение, по которому объявляли себя соавторами открытия метода обезболивания в хирургии. Уэллс узнал об их соглашении и воспринял его как пощечину. Может быть, это сыграло свою роль в том, что в 1848 году он свел счеты с жизнью, вскрыв вену на руке и вдохнув изрядное количество эфира.
Странная история с открытием хирургической анестезии все больше запутывалась. Буквально через несколько дней после подписания соглашения с Мортоном коварный интриган Джексон написал во Французскую академию наук письмо, в котором утверждал, что является единственным автором открытия. Услышав об этом, Мортон снова обратился к советникам и адвокатам, разорвал соглашение с Джексоном и тут же объявил единственным автором открытия себя.
Спор между Джексоном, Мортоном и в течение недолгого времени Уэллсом относительно того, кто же на самом деле придумал метод обезболивания в хирургии, стал настолько острым, что в 1847 году решением вопроса о приоритете занялся Конгресс США. Дело, получившее название «Эфирного противоречия», когрессмены изучали шестнадцать лет, даже во время Гражданской войны.
Мортон опирался в своих претензиях на поддержку двух влиятельных друзей. Первый из них, Дэниел Уэбстер, был прославленным оратором и юристом; основатель партии вигов, он пользовался огромным влиянием в сенате США. Второй, Оливер Уэнделл Холмс, профессор анатомии в Гарварде, уже прославился к тому времени как эссеист, поэт и писатель. Однако эта «тяжелая артиллерия» не помогла, так как конгресс постановил считать, что Мортон не является первооткрывателем хирургической анестезии. Многие свидетели показали, что он узнал о свойствах эфира от Джексона, а также подтвердили, что своими ушами слышали, как Мортон сам неоднократно говорил, что, по сути дела, анестезию придумал Джексон.
В отчетах Конгресса Уильяма Мортона называли Великим притворщиком, имея в виду тот факт, что изначально он «притворялся» перед Джексоном, будто ничего не знает о свойствах эфира. После всех событий 1846 года у Мортона возникли серьезные материальные проблемы, не ладились дела и в личной жизни. Он умер довольно рано, в 1868 году, когда ему было всего сорок девять лет, и причины его смерти до сих пор до конца неизвестны.
Кроме того, Конгресс постановил, что Уэллс не может претендовать на открытие метода хирургического обезболивания, так как он применял анестезию только в стоматологии. В любом случае к тому времени его уже не было в живых и он не мог требовать какое-либо вознаграждение.
Таким образом, основными претендентами на звание первооткрывателя анестезии остались Джексон и Лонг — во всяком случае, так представляли себе это дело в Конгрессе. Поскольку у обоих имелись влиятельные сторонники, конгрессмены так и не смогли принять окончательного решения по поводу авторства хирургической анестезии. И тогда, как это ни странно, они предложили соискателям самим разрешить проблему! Джексон получил предписание отправиться в Джефферсон, к Лонгу, что тот и сделал. Лонг, как обычно, вел себя вежливо, любезно и уважительно по отношению к старшему коллеге, но прийти к согласию они так и не смогли. Вскоре после посещения Джорджии у Джексона появились симпотомы деменции, слабоумия, усиливавшиеся с годами. В конце жизни он уже совсем плохо соображал.
Таким образом, единственным претендентом на авторство открытия после 1846 года оставался Лонг; другие умерли — либо неестественным путем, либо в состоянии помешательства. Надо заметить, что возня вокруг всей этой истории совершенно не беспокоила Лонга, он относился к ней как к чему-то не очень важному.
Между тем проблема авторства анестезии обсуждалась во многих научных стоматологических и медицинских обществах, и, как и в Конгрессе, мнения разделились. Каждое общество заняло свою позицию, сохраняющуюся по сей день. Например, в 1884 году Американская ассоциация дантистов, а в 1870 году Американская медицинская ассоциация выпустили резолюции, в которых первооткрывателем анестезии назывался Уэллс. Факт признания авторства Уэллса со стороны Американской медицинской ассоциации особенно интересен, так как сам Уэллс говорил, что никогда не проводил никакого обезболивания во время хирургических операций. Видимо, на позицию, занятую медицинским обществом, оказал влияние тот факт, что Уэллс продемонстрировал свою методику обезболивания в стоматологии перед «хирургической» аудиторией Гарварда.
В 1913 году этот же вопрос всерьез обсуждали выборщики Зала славы Нью-Йоркского университета. Было указано, что Лонг жил в крохотном городке с какими-то четырьмя сотнями жителей, что все его свидетели были простыми гражданами, не имевшими никакого медицинского образования; кроме того, будучи единственным врачом на многие мили вокруг, он не имел возможности представить сообщение о своих экспериментах ни в какое местное медицинское общество. В сельских районах Джорджии новости распространялись медленно, а Лонг, по одному ему ведомым соображениям, не публиковал свои результаты до 1849 года. Не исключено (хотя и маловероятно), что Лонг просто не осознавал значения своей работы.
С другой стороны, Мортон работал в одном из знаменитейших университетов, а первого больного, которому он давал анестезию, оперировал самый известный в мире хирург. Свидетелями эксперимента были хирурги из Бостона и его окрестностей, а сообщение о результатах появилось почти сразу же. Действительно, новости о проведенной операции распространились с огромной скоростью, и к середине 1847 года практически во всех крупных клиниках Британии, Европы, Кубы, Южной Америки и Южной Африки применение эфира при операциях, на основании статьи Бигелоу с описанием двух случаев Мортона, стало обычной практикой.
Самым известным участником обсуждения в Нью-Йоркском университете был Уильям Ослер, знаменитый терапевт, философ и историк науки. Он убедил выборщиков назвать первооткрывателем Мортона, приведя следующий аргумент: в науке следует отдавать приоритет человеку, который смог доказать что-то миру, а не тому, кто впервые выдвинул идею или показал, что она правильна. При всей странности этой аргументации выборщики согласились с ним и признали, что хирургическую анестезию открыл Мортон. Но понять, почему Ослер, знавший о том, что в 1842 году Мортон ездил в Джефферсон, все же настаивал на его авторстве, довольно трудно.
На заседании Американского хирургического колледжа в Атланте в 1921 году первооткрывателем анестезии в хирургии был назван Лонг. Тогда же была создана и Ассоциация имени Кроуфорда Лонга, по инициативе которой в 1926 году в Зале статуй Капитолия в столице США Вашингтоне установили памятник Лонгу. Позже одна из больниц Атланты была названа в его честь (Мемориальный госпиталь Лонга), и с тех пор хирурги всего мира признают Кроуфорда Лонга автором хирургического наркоза. И мы тоже решили присудить пальму первенства этому хирургу из захолустья.
Следующее крупное достижение в области хирургической анестезии было сделано в Англии, где двадцатитрехлетний терапевт из Лондона Джон Сноу стал первым в мире врачом, специализирующимся исключительно на анестезии. (Читатель помнит, что Мортон также неустанно занимался анестезией, но, так и не получив степень врача общей практики, остался лишь дантистом.)
Сноу, обладая явной склонностью к исследованиям, усовершенствовал эфирные ингаляторы таким образом, чтобы анестезиологи могли определять и контролировать содержание эфира в воздухе, вдыхаемом больным. Результаты анализа физиологического эффекта анестетиков, проведенного им также впервые в мире, изложены в его знаменитой монографии на эту тему
[55].
Позже профессор кафедры акушерства Эдинбургского университета сэр Джеймс Симпсон начал пропагандировать использование анестезии в акушерской практике. Учитывая страшную участь, постигшую Эуфанию Макайан в Эдинбурге тремя столетиями ранее, нельзя не признать, что и доктор, и первая роженица, испытавшая на себе методы анестезии, проявили определенную храбрость. Как и опасался сэр Джеймс, кальвинистская церковь Эдинбурга резко осудила применение анестезии в акушерстве, сославшись на Святое Писание, где говорится, что женщина должна рожать детей в муках. К счастью, Церковь не похоронила заживо ни врача, ни его пациентку — может быть, потому, что сэр Джеймс стал к тому времени личным акушером королевы Виктории и приобрел влиятельного сторонника в ее лице. Впрочем, он смог и сам защитить себя, процитировав те строки из Книги Бытия, 2: 21, в которых говорится о рождении Евы: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, и закрыл то место плотию».
С годами выяснилось, что у первого анестестика, эфира, имеется много недостатков. Помимо всего прочего, он вызывал рвоту и раздражение бронхов. Поэтому врачи начали поиски лучшего, более безопасного и менее токсичного обезболивающего препарата.
В 1831 году американский химик Сэмюэл Гутри впервые получил хлороформ. Он не понял, что это вещество обладает анестезирующими свойствами, хотя его восемнадцатилетняя дочь попробовала хлороформ (Гутри не закрыл кабинет) и пролежала без сознания несколько часов, несмотря на весьма энергичные попытки отца разбудить ее
[56].
Через несколько лет эдинбургский акушер Симпсон спросил своего друга-химика, не может ли он рекомендовать ему для анестезии что-нибудь лучше эфира. Этот друг слышал об истории с дочкой Гутри и подумал, что есть смысл испытать в анестезии новое вещество — хлороформ.
Прежде всего Симпсон попробовал хлороформ на себе и счел результаты вполне удовлетворительными. Побочных эффектов не наблюдалось. Тогда он дал хлороформ во время родов своей племяннице. Вскоре после этого, 7 апреля 1853 года, его пригласили принимать восьмого ребенка королевы Виктории, принца Леопольда. Он привел с собой своего друга Джона Сноу и попросил его дать королеве хлороформ в качестве обезболивающего. Сноу смочил носовой платок королевы несколькими каплями хлороформа и поднес его к ее носу. Успех превзошел все ожидания! Королева оставалась в сознании, но совершенно не чувствовала боль, и на следующий день газеты разнесли по всему миру историю о том, как Виктория испытала на себе действие нового обезболивающего препарата. С этого дня кальвинистская церковь Эдинбурга раз и навсегда прекратила осуждение анестезии.
Вскоре все английские и немецкие врачи стали применять хлороформ для анестезии. К сожалению, как и в случае с эфиром, не обошлось без проблем. Постепенно выяснилось, что хлороформ может наносить вред печени и что после его применения умирает в пять раз больше больных, чем после применения эфира. Многие ведущие английские и немецкие врачи выступили за ограничение его использования.
На фоне продолжающихся споров о возможной токсичности хлороформа, в 1880 году хирургическая анестезия сделала поистине колоссальный шаг вперед. Известный английский хирург Уильям Макьюэн ввел в рот больного металлическую трубку и продвинул ее в горло, за голосовые связки, а затем дальше, в трахею. Так родилась эндотрахеальная анестезия. Без нее были бы невозможны многие выполняемые сегодня операции на сердце и легких
[57]. Эндотрахеальная анестезия позволяет современному анестезиологу раздувать и сдувать легкие, которые в противном случае спались бы сразу после вскрытия грудной клетки и поступления в нее атмосферного воздуха.
Надо отметить, что первым изобрел и применил металлическую трубку с надувной манжетой немецкий хирург Фридрих Тренделенбург, и случилось это десятью годами ранее. Однако Тренделенбург вводил свою трубку через разрез в трахее — малоприятная процедура, особенно с учетом того, что после нее больному предстояла еще одна, куда более серьезная операция.
Трахеальная трубка Макьюэна была жесткой, что затрудняло ее введение и создавало опасность повреждения тканей. Уроженец немецкого города Кесселя Франц Кюн разработал металлическую трубку, достаточно гибкую для того, чтобы вводить ее при необходимости даже через нос; вскоре после этого Дорранс и Джейнвей надели на гибкие трубки из силиконовой резины баллоны типа разработанных Тренделенбургом; надувание этих баллонов позволило предотвратить аспирацию в легкие и еще больше облегчило проведение анестезии
[58].
Быстрое развитие новых методов интубации навело врачей на мысль о том, что трубку будет легче вводить, если предварительно дать больному легкий наркоз. Однако в 1919 году британский анестезиолог сэр Айвен Мейджилл предложил удивительную методику: прежде всего, он анестезировал горло больного кокаином, а затем вводил две трубки — одну через рот, вторую через нос — в трахею пациента, находящегося в полном сознании, не применяя для этого никаких изощренных новых инструментов. Мейджилл и изобретенная им хитроумная методика получили мировую известность, анестезиологи из всех стран приезжали к нему учиться. Однако Мейджиллу очень хотелось быть единственным в мире анестезиологом, способным вводить трубки в трахею через рот и нос, и поэтому он утаил факт предварительной анестезии горла кокаином.
В то время как в Англии и вообще в Европе введение различных трубок для проведения анестезии стало общепринятой практикой, в Соединенных Штатах в основном продолжали использовать более простые и менее эффективные методы. Это очень огорчало анестезиолога Артура Гуделла, который сообразил, что ради того, чтобы заставить своих консервативных коллег оценить достоинства новомодных эндотрахеальных трубок, ему следует продемонстрировать им нечто необычное.
И вот, в 1926 году он начал разъезжать по всей стране со своим «Шоу мокрой собаки», которое быстро завоевало большую популярность у публики. В ходе представления он интубировал и подвергал анестезии свою любимую собаку по кличке Эйрвей (по-английски Airway — дыхательные пути). На глазах аудитории, состоявшей из анестезиологов, он опускал собаку в аквариум с водой, потом прекращал подачу наркоза, вынимал Эйрвея из воды, вынимал трубку и ждал, пока собака проснется живой и невредимой — после чего Эйрвей, как настоящий артист, вскакивал, отряхивался, обливая водой консервативно настроенную аудиторию, и выбегал из помещения. Конечно, все думали, что пес утонет. Гуделл демонстрировал достоинства надувной манжетки, перекрывавшей трахею собаки и дававшей ей возможность дышать, словно через трубку акваланга. Экстравагантное шоу принесло свои плоды — вскоре эндотрахеальная анестезия вошла в обиход и в Соединенных Штатах
[59].
В 1932 году Ральф Уотерс, работавший в Университете Висконсина в Мэдисоне, вводя трубку в трахею больного, случайно слишком заглубил ее и провел в ствол правого бронха, где опять-таки случайно раздул манжетку. В первый момент ошибка его раздосадовала; но затем он мгновенно понял, что более длинная трубка, подобная той, которую он использовал, и раздутая таким же образом, может использоваться для вентиляции одного легкого в то время, как хирург выполняет операцию на другом. Благодаря этому случайному открытию стала возможной хирургия легких — это событие ознаменовало собой начало новой эры
[60].
На фоне развития все более удобных методов введения анестетиков стали появляться и новые газы для анестезии; этот процесс особенно ускорился после Первой мировой войны. В 1917 году был открыт трилен, в 1923 году — этилен, а в 1931 — дивинил. Затем появились циклопропан и галотан.
В 1930–1940-х годах оптимальным препаратом считался циклопропан, эффективный даже в низких концентрациях и, что самое главное, способный подавлять дыхательную функцию
[61]. Благодаря этому анестезиолог мог регулировать и контролировать дыхание больного с помощью воздушного мешка, что считалось большим достижением.
Следующим важным шагом стало введение в 1956 году в практику галотана; этот препарат оказался не только безопасным и эффективным, но и не огнеопасным
[62]. Практически все препараты, ранее использовавшиеся для хирургического наркоза, легко воспламенялись, а поскольку к этому времени большинство хирургов применяли электрокаутеризацию, иногда возникали пожары и даже взрывы. С появлением галотана опасности такого рода остались в прошлом.
Очередное крупное достижение было связано с развитием препаратов на основе кураре — вещества, обладающего способностью парализовать произвольно сокращающиеся мышцы. (Мышцы подразделяются на произвольно и непроизвольно сокращающиеся; к произвольно сокращающимся относятся мышцы рук, ног и ротовой полости; для функционирования непроизвольно сокращающихся мышц не требуется контроль сознания, к ним относится, например, сердечная мышца.)
На протяжении многих веков было известно, что индейцы Южной Америки смазывают наконечники своих охотничьих стрел соками разных ядовитых растений. Достаточно, чтобы такая стрела просто поцарапала животное в любой точке тела, и яд парализует жертву. Особенной любовью у индейцев пользовался яд кураре, добываемый из коры растения стрихнос ядоносный. Сведения об удивительном веществе быстро дошли до Европы. В 1516 году Пьетро Мартир д’Ангиера описал свои наблюдения за действием кураре
[63]. Однако само слово «кураре» стало употребляться только через 170 лет благодаря Г. Маггравиусу.
Прошло еще очень много лет, прежде чем кто-то задумался над возможностью использования кураре не только для охоты. И вот в 1935 году химики получили чистое вещество, годящиеся для анестезии, а уже в 1942 году началось его широкомасштабное применение
[64]. Кураре позволял добиться расслабления мышц больного, что очень облегчало работу хирурга (особенно при операциях на органах брюшной полости). Кроме того, он позволял анестезиологу контролировать дыхание пациента. К 1948 году примерно восемь тысяч больных были прооперированы с применением кураре. Будь кураре доступен в больших количествах, это число увеличилось бы. В 1949 году для удовлетворения потребности в кураре был налажен выпуск его синтетического аналога.
В 1903 году берлинский химик Эмиль Фишер впервые получил несколько видов барбитуратов для инъекций
[65]. Наиболее безопасный барбитурат, пентотал, разработанный в 1935 году, стали использовать для погружения больных в состояние приятного сна, после чего спокойно можно было применить и ингаляционный наркоз
[66]. С тех пор появилось множество других безопасных инъекционных анестезиологических препаратов, широко применяемых в современной клинической практике.
Достаточно быстро врачи поняли, что, помимо препаратов для общей анестезии, требуются и медикаменты, обеспечивающие местное обезболивание. Осложнения при общем наркозе достаточно редки, но все же имеют место. Более того, во многих случаях, в том числе при обращениях к стоматологу, общая анестезия просто не нужна. Необходимо учитывать и тот факт, что после общего наркоза большинство пациентов нуждаются в длительном восстановительном периоде. Требовалось найти способ «перекрывать» иннервацию определенного участка тела.
История применения местной анестезии уходит корнями в далекое прошлое. На протяжении многих веков индейцы в Перу с помощью маленьких циркулярных пил выполняли трепанацию черепа — чтобы дать выход злым духам или вынуть предметы, попавшие в мозг. Человек, проводивший эту процедуру, жевал листья коки, а затем сплевывал свою слюну на рану, чтобы больной не испытывал боли.
В 1856 году немецкий ученый и путешественник Карл Шерцер пожевал коку и заметил, что это приводит к онемению кончика языка
[67]. А в 1869 году немецкий химик Альберт Ниман получил химически чистый кокаин, он же и придумал название вещества.
А 15 сентября 1884 года офтальмолог Карл Колер впервые применил кокаин для обезболивания при операции на глазах у лягушки. Он доложил свои результаты на офтальмологическом конгрессе в Гейдельберге, и после этого врачи стали активно применять кокаин в качестве местного анестетика — вначале при манипуляциях на глазах, потом в ротовой полости, в носу и горле и, наконец, на уретре.
Главную роль в распространении кокаина как средства для местного обезболивания путем инъекции в нервы в области предстоящего хирургического вмешательства сыграла работа выдающегося американского хирурга Уильяма Холстеда. Он не только вводил кокаин в нервы сотен больных, подвергавшихся небольшим операциям, но в ходе экспериментов неоднократно испытывал его на себе. Кстати, именно Холстед ввел в хирургическую практику использование резиновых перчаток — изначально не ради того, чтобы обезопасить больного, а чтобы защитить руки своей жены, ассистировавшей ему в качестве операционной сестры. Когда число больных, получивших инъекции кокаина, перевалило за тысячу, Холстед опубликовал свою ставшую классической статью о чудодейственных свойствах кокаина как обезболивающего препарата
[68].
Однако ни в одной из своих работ Холстед не писал о том, что, ставя на себе опыты с кокаином, приобрел неизлечимую зависимость от него. Эта зависимость сыграла впоследствии роковую роль в карьере великого хирурга. Холстед тщательно скрывал свою беду и рассказал о ней лишь в конце жизни близкому другу Уильяму Ослеру.
После успеха кокаина хирурги сосредоточили свои усилия на разработке методов «замораживания» крупных нервов, отходящих от спинного мозга, — это позволило бы обезболивать значительно более обширные области тела. Сам спинной мозг окружен слоем спинальной жидкости, заключенной в мембрану, которая, в свою очередь, находится внутри внешней трубки. Эта трубка отделена от стенок костного канала (образованного позвонками) пространством, заполненным жиром, — так называемым эпидуральным пространством. В 1888 году нью-йоркский врач Леонард Корнинг впервые и с большим успехом попытался ввести кокаин в эпидуральное пространство
[69]. Теперь придуманную им процедуру называют эпидуральной анестезией. В 1899 году немец Август Бир ввел кокаин непосредственно в спинальную жидкость и назвал эту процедуру спинальной анестезией
[70].
Следующим важным достижением можно назвать изобретение немецкого хирурга Генриха Брауна, который в 1897 году добавил к раствору кокаина эпинефрин (адреналин). Эпинефрин вызывает сокращение мышц мелких артерий, благодаря чему снижается кровоснабжение конкретной области тела. Это позволяет уменьшить объем необходимого анестетика местного действия, что означает уменьшение общей токсичности, при этом в области хирургического вмешательства эффект сохраняется достаточно долго.
К счастью, в настоящее время кокаин для анестезии больше не применяют. Его полностью заменил новокаин, синтезированный в 1899 году немецким химиком Альфредом Эйнхорном и впервые примененный в целях анестезии в 1905 году
[71].
Такова вкратце история открытия анестезии. Рядовому читателю может показаться фантастикой, что с тех пор, как некий алхимик впервые получил эфир, и до того, как хирург из маленького американского городка Кроуфорд Лонг понял, что это вещество может усыпить человека и поддерживать сон независимо от того, насколько глубоко хирург вторгается в его тело и органы, прошло целых пять веков!
Тот же читатель может удивиться, узнав, что даже спустя семь столетий после открытия простого соединения спирта и серной кислоты ученые-медики — несмотря на интенсивные исследования — так и не смогли объяснить, каким образом эфир приводит человека в бессознательное состояние и делает его невосприимчивым к любой боли. Впрочем, есть основания надеяться, что до конца XXI века медицина все-таки найдет ответ на этот вопрос.
Глава 6
Вильгельм Рентген и Х-лучи

Вильгельм Рентген
(1845–1923)
При поступлении в американскую Военную академию в Уэст-Пойнте молодые люди дают обязательство не лгать, не жульничать, не воровать и не допускать подобных проступков со стороны соучеников. В 1862 году некий директор немецкой гимназии пытался заставить наивного, довольно флегматичного семнадцатилетнего юношу, вовсе не курсанта военной академии, а просто ученика, выдать одноклассника, нарисовавшего карикатуру на одного из преподавателей. Юноша отказался. Он стоял на своем, хотя понимал, что директор знает, что ему известно имя виновного. Он просто не хотел выдавать своего товарища. За такое упрямство его не только исключили из гимназии, но и лишили возможности поступить в любую другую немецкую или голландскую школу. В результате он так и не получил свой
abitur (диплом) о завершении среднего образования. А без такого диплома нельзя было поступить в университет
[72].
По сути дела, именно это обстоятельство и привело к тому, что в будущем наш герой (а звали его Вильгельм Конрад Рентген) открыл свои Х-лучи, известное сегодня всем рентгеновское излучение. В 1865 году ему пришлось записаться в Политехническую школу в Цюрихе, где
abitur не требовался. За три года Рентген не прослушал ни одного курса по теоретической или общей физике — он занимался исключительно инженерной механикой и научился делать самые разнообразные и сложные приборы. Именно его поразительные способности к конструированию и созданию приборов привлекли внимание Августа Кундта, одного из самых известных европейских физиков-теоретиков того времени. Он понял, что молодой Рентген, пусть и не блиставший на инженерных курсах, умеет с буквально фантастической легкостью превращать стекло, металл и резину в изощренные инструменты — инструменты, позволявшие обнаруживать физические явления, способные подтвердить теории Кундта.
Хотя Рентген получил степень по инженерной механике, Кундт убедил его отказаться от дальнейшей карьеры в этой области и предложил ему место своего ассистента в Цюрихском университете. Кроме того, он помог Рентгену продолжить учебу и получить докторскую степень по теоретической физике, несмотря на такое «пятно» в академическом образовании, как отсутствие гимназического диплома.
В 1870 году Кундт перешел на работу в Университет Вюрцбурга, а в 1872 году — в Страсбургский университет, и Рентген, по-прежнему работавший его ассистентом, преданно следовал за ним. Наконец, в 1874 году, двадцатидевятилетнему Рентгену удалось окончательно преодолеть все препятствия, связанные с отсутствием
abitur. Его назначили преподавателем в Страсбургском университете, а в 1876 году сделали адъюнкт-профессором. Через три года он получил должность профессора в Гессенском университете и расстался с Кундтом.
Вернемся, однако, в 1872 год. Двадцатисемилетний Рентген, уважаемый всеми ассистент профессора Кундта в Вюрцбургском университете, решил жениться на Берте Людвиг, дочери владельца пансиона, в котором он жил. Берта была стройной, достаточно привлекательной, прекрасно образованной девушкой, и ей очень хотелось стать женой профессора физики. Она была на шесть лет старше Рентгена, и у нее периодически случались довольно продолжительные приступы, свидетельствовавшие о проблемах с психикой. Впрочем, ни первое, ни второе обстоятельство не помешало им пожениться, а потом никак не отразилось на их вполне счастливой супружеской жизни. Берта умерла в восьмидесятилетнем возрасте. В последние годы ее жизни Рентгену приходилось по несколько раз в день делать жене инъекции морфина, но он не считал эту обязанность ни обременительной, ни неприятной и, судя по всему, не сознавал, что существует вероятность развития зависимости от лекарства.
В течение девяти лет чета Рентген счастливо и беззаботно жила в Гессене. Из-за психического расстройства жены Рентген не принимал участие в бурной (но совершенно бесполезной для него) светской жизни. Как правило, состояние Берты позволяло ей сопровождать мужа в ежегодных поездках в Швейцарию. Через четыре года после свадьбы они, так и не обзаведясь собственными детьми, решили удочерить шестилетнюю племянницу — девочку тоже звали Бертой. В 1888 году Рентген почти без сожаления покинул Гессен и занял должность профессора физики в престижном Вюрцбургском университете.
С 1869 года (года получения Рентгеном докторской степени) до отъезда из Гессена в 1888-м он жил в уютном мире, созданном заботами Берты — несмотря на болезни, она умело вела хозяйство, а кроме того, в семье были экономка, кухарка и горничная. Лектор из Рентгена получился неважный, студенты поругивали его за необщительность и склонность к показухе, но зато ему удавалось проводить замечательные лабораторные эксперименты. Он тщательно измерял изменения физических характеристик различных субстанций под влиянием колебаний давления, изменений освещения и электрического поля, занимался электромагнетизмом различных веществ и сделал несколько важных открытий. Однако вряд ли его имя осталось в нашей памяти, если бы он не обнаружил Х-лучи.
Среди выдающихся предшественников Рентгена следует назвать знаменитого английского физика сэра Уильяма Крукса
[73]. В 1861 году он открыл таллий, после чего заинтересовался электрическим разрядом в разреженных газах. Для проведения такого рода исследований ему потребовалось создать среду, содержащую конкретный, исследуемый им газ. Он смастерил прибор, известный сегодня под названием трубки Крукса, — это был стеклянный цилиндр, откуда с помощью насоса откачивался воздух, в результате чего создавался вакуум. В цилиндр были вмонтированы электроды для создания разряда электрического тока, генерируемого набором индукционных катушек. Крукс хотел наблюдать за изменениями, которые могут произойти в газах и других субстанциях, подвергнутых воздействию тока. При прохождении тока отмечался эффект, который впоследствии стал известным под названием катодных лучей.
Однажды Крукс случайно положил деревянные кассеты, в которых находились непроявленные фотографические пластинки, на тот же стол, над которым он установил свой вакуумный цилиндр. Через какое-то время, когда он решил использовать эти пластинки, оказалось, что некоторые из них испорчены — на них появилась непонятная тень. Круксу и в голову не могло прийти, что на пластинки, надежно защищенные от света деревянными кассетами, оказали воздействие некие лучи нового типа, генерированные катодными лучами. Он написал производителю письмо с жалобой на то, что ему продали засвеченные фотографические пластинки
[74].
Аналогичным образом выдающийся немецкий физик Филлип Ленард никогда не пытался выяснить, почему, когда он пропускал ток через цилиндр, генерируя тем самым катодные лучи, полоски бумаги, покрытые солями платиноцианида бария и лежащие рядом с его трубкой Крукса, начинали флюоресцировать. Выступая в 1905 году с нобелевской лекцией уже после того, как Рентген сообщил об открытии своих X-лучей, Ленард сделал следующее неуклюжее заявление: «На самом деле у меня было несколько необъяснимых наблюдений, которые я тщательно приберегал для будущих, к сожалению не начатых вовремя, исследований и которые могли бы представлять собой результат влияния волнового излучения».
Даже в своей нобелевской лекции, произнесенной через десять лет после сделанного Рентгеном открытия и его всемирного признания, Ленард не смог заставить себя использовать рентгеновский термин «Х-лучи», заменив его термином «волновое излучение». Несомненно, Ленард считал, что слава, доставшаяся Рентгену, по праву должна была принадлежать ему. В конце концов, рассуждал он, ведь именно он, Ленард, а не Рентген открыл, что катодные лучи могут пройти через алюминиевую пластинку, закрывавшую окошко, проделанное им в трубке Крукса. И действительно он послал одну трубку с окошком, закрытым алюминием, Рентгену, когда тот начинал исследовать катодные лучи.
В начале 1895 года Рентген повторил эксперименты Ленарда, используя присланную им трубку с закрытым окошком. Рентген подтвердил выводы Ленарда о том, что некоторые катодные лучи, генерируемые током, могут выходить за пределы трубки Крукса через маленькое окошко. Рентген, как и Ленард, поместил совсем рядом с окошком маленький экран, покрытый кристаллами платиноцианида бария. Вид этого экрана после прохождения разряда через трубку был принят за подтверждение того, что интенсивность катодных лучей, прошедших через окошко, оказалась достаточной, чтобы вызвать слабую флюоресценцию экрана.
Подтвердив таким образом выводы Ленарда, Рентген задумался над тем, действительно ли для выхода катодных лучей из стеклянной трубки необходимо наличие в ней окошка. «А что, если хотя бы некоторое количество катодных лучей может пройти через стеклянную стенку трубки?» — подумал он и сразу же занялся выяснением этого вопроса.
Он понимал, что обнаружить выход невидимых катодных лучей можно только с помощью экрана. Он также подозревал, что через стеклянную стенку трубки пройдет меньшее количество лучей, чем через закрытое алюминием окошко; соответственно теоретически вероятная легкая флюоресценция, возникающая на экране, может оказаться незаметной на фоне яркой люминесценции внутри трубки Крукса при прохождении через нее тока. Тогда Рентген терпеливо и тщательно обклеил трубку Крукса полосками плотной темной бумаги, не пропускавшей видимый свет. В качестве дополнительной меры Рентген закрыл шторы на всех окнах, и лаборатория погрузилась в полный мрак. После этого он пропустил через трубку ток, чтобы убедиться, что от нее не исходит видимый свет. Света действительно не было, и Рентген уже собирался приступить к эксперименту, когда вдруг краем глаза заметил очень яркое зеленовато-желтое свечение примерно в ярде от того места, где он стоял.
Пораженный этим призрачным свечением, он в первый момент решил, что оно ему померещилось. Но когда он повторно пропустил ток через закрытую бумагой трубку, зеленовато-желтая вспышка повторилась и исчезла только после отключения электрического тока. Совершенно сбитый с толку Рентген зажег спичку и посмотрел на место, откуда исходил свет. Там лежал еще один экран, покрытый платиноцианидом бария — Рентген просто оставил его на столе. Ученый начал раз за разом включать и выключать ток. И каждый раз после включения тока экран начинал флюоресцировать, что в какой-то мере объясняло происхождение загадочной цветной вспышки
[75].
Совершенно неясной, однако, оставалась причина флюоресценции. Очевидно, под воздействием электрического возбуждения трубка Крукса становилась источником какого-то излучения, однако какова была его природа? Рентген понимал, что в основе излучения, скорее всего, не могли лежать катодные лучи — в обычном воздухе радиус распространения этих лучей составляет несколько дюймов, а флюоресцирующий экран, на котором он в первый раз заметил вспышку, лежал в ярде от трубки. Более того, когда Рентген перенес его на несколько ярдов дальше, он по-прежнему ярко флюоресцировал при прохождении тока через трубку. Рентген понял, что ему, вероятно, удалось генерировать новый тип электромагнитных волн.
В судьбоносный вечер 8 ноября 1895 года Рентген поместил между трубкой и маленьким экраном стопку карточек, а затем книгу толщиной два дюйма. Несмотря на эти препятствия, лучи все равно вызывали флюоресценцию экрана. Тем вечером ученого пришлось звать к ужину несколько раз. Когда он наконец вышел к столу, Берта расстроилась, потому что он ничего не сказал ей, почти ничего не съел и поспешил обратно в лабораторию.
«Какие же лучи или волны делают то, что я наблюдаю? Не ошибаюсь ли я, не схожу ли с ума?» Вопросы такого рода снова и снова мучили Рентгена. Одно оставалось очевидным: после того что произошло 8 ноября 1895 года, Рентген совершенно перестал интересоваться способностью катодных лучей проходить через стеклянные стенки трубки Крукса. Теперь он напряженно искал материалы, через которые открытые им новые лучи пройти
не могли.
Довольно быстро ему удалось установить, что эти лучи, которые он назвал Х-лучами, совершенно не проходят через свинец и в значительной степени поглощаются другими металлами, в зависимости от их плотности. При этом бумага или дерево не поглощали лучи, а человеческая плоть поглощала их в очень небольшой степени. Тот факт, что излучение могло пройти через дерево, практически не меняясь, настолько заинтересовал Рентгена, что он поставил деревянную коробочку с маленькими металлическими гирьками на фотографическую пластинку, а затем пропустил через нее Х-лучи. Результат оказался совершенно потрясающим: на снимке были отчетливо видны только гирьки, а от коробочки осталась лишь еле заметная тень.
В начале декабря, когда Рентген взял в руку маленькую свинцовую трубочку, поднес ее к фотографической пластинке и направил на трубочку Х-лучи, исходящие из трубки Крукса, произошло нечто, потрясшее и даже напугавшее ученого. Как он и ожидал, на пластинке отпечаталась темная тень от свинцовой трубочки, но, кроме этого, появилось и другое изображение: Рентген увидел кости двух своих пальцев, державших трубочку!
Осознание того факта, что Х-лучи могут проходить через плоть и выставлять на обозрение кости, стало для Рентгена почти апокалипсическим откровением. «То, что я вижу, — не научный феномен, это нечто невероятное, нечто мистическое. Что подумают мои коллеги об этих Х-лучах, которые, в отличие от света, или ультрафиолетового излучения, или даже
электромагнитных волн, позволяют увидеть самую скрытую часть человеческого тела — кости?» — думал он. В этот самый момент ученый решил, что должен поделиться своим открытием с Бертой. Однако он опасался, что жена не поверит ему — особенно после того, как в течение нескольких недель он почти не разговаривал с ней, очень мало ел и проводил все ночи в лаборатории. Немного подумав, Рентген составил план, который, как он считал, убедит Берту в том, что её муж не сошел с ума, а сделал по-настоящему великое открытие — пусть даже на первый взгляд необъяснимое и даже жутковатое.
Итак, в один прекрасный декабрьский вечер, после ужина, Рентген радостно улыбнулся Берте и пригласил ее пойти с ним в лабораторию, расположенную на первом этаже дома. Она обрадовалась этой улыбке, а еще и тому, что он с аппетитом поужинал, чего не случалось уже много недель подряд, и с готовностью согласилась. Раньше муж никогда не приглашал ни ее, ни их приемную дочь в свою лабораторию.
Когда они спустились, Рентген попросил жену положить левую руку на светонепроницаемую деревянную кассету, в которой лежала непроявленная фотографическая пластинка. Смущенно взглянув на мужа, Берта выполнила его просьбу. Тогда он установил трубку Крукса прямо над рукой жены, на безымянном пальце которой красовались золотые кольца.
— Что теперь будет? — с тревогой спросила Берта.
— Не бойся, я просто включу ток в этой стеклянной трубке. Ты услышишь легкое потрескивание и увидишь вспышки, но не пугайся. Просто не двигай левую руку и спокойно держи ее на кассете, — успокоил жену Рентген.
После этого он включил ток и оставил его включенным примерно на шесть минут. Затем Рентген попросил Берту подождать, пока он проявит пластинку. Наконец, протянув ей еще влажную пластинку, он произнес:
— Вот снимок твоей руки, сделанный с помощью моих новых Х-лучей.
— О господи, я вижу свои кости. Мне кажется, что я смотрю на собственную смерть! — воскликнула Берта, больше испуганная, чем обрадованная увиденным.
Шок и изумление супруги привели Рентгена в восторг. Значит, его Х-лучи — не плод воспаленного воображения или больного рассудка, они так же реальны, как и стеклянные стенки трубки Крукса или ткань занавесок на окнах лаборатории. Темная тень от двух колец, оказавшихся на пути Х-лучей (
рис.), служила еще одним доказательством реальности неизвестного излучения. В отличие от луча света, который можно увидеть, или тепловой волны, которую можно почувствовать, или звуковой волны, которую можно услышать, это излучение не ощущалось ни одним из органов чувств человека.
Сразу после того, как Рентген показал Берте изображение ее руки, полученное с помощью Х-излучения, он решил, что должен полностью засекретить свои исследования. Одного простого снимка кисти жены было достаточно, чтобы он понял, что сделал величайшее научное открытие. Рентген, безусловно, знал, что в лабораториях многих физиков, и не только немецких, лежат точно такие же трубки Крукса, как у него. Если кому-то из этих ученых случится пропустить ток через трубку в слегка затемненной комнате и при этом он бросит взгляд на листок бумаги, покрытой флюоресцирующей солью, он увидит, как бумага начнет светиться. И если, что представлялось вполне вероятным, он задумается над этим явлением, то «перехватит» почти мистическое открытие Рентгена.
Обычно степенный и уравновешенный, Рентген запаниковал. Он боялся хоть словом намекнуть кому-то на свои исследования, он запретил заходить в лабораторию студентам, коллегам, друзьям — всем, кроме уборщика, но и тому не дозволялось смотреть, чем занимается Рентген. Он работал ежедневно, по многу часов, едва урывая время на сон и еду. Потому что через несколько недель, в декабре, Физико-математическое общество Вюрцбурга намеревалось провести свою конференцию, материалы которой предполагалось опубликовать в соответствующем журнале. Рентген отчаянно хотел, чтобы в этом журнале появилась и предварительная информация об его X-лучах.
Он прилагал все силы, чтобы подготовить доклад, однако ему удалось дописать предварительное сообщение только к 18 декабря 1895 года, уже после завершения конференции. Тем не менее Рентген упросил секретаря Общества опубликовать его статью в декабрьском выпуске журнала, хотя материал и не был представлен на конференции. Секретарь прочел статью и, по всей вероятности, уже собирался отказать в срочной публикации; в конце концов, в этом выпуске предполагалось печатать только то, о чем уже говорилось на последней конференции. Но когда он увидел четырнадцатый из семнадцати тезисов, составлявших рукопись, а именно сообщение о том, что под действием нового излучения на фотографической пластинке появилось изображение костей руки, и при этом Рентген показал ему снимок кисти Берты, секретарь понял: эту статью следует публиковать, и немедленно!
Итак, статья Рентгена «О новом типе излучения: предварительное сообщение» появилась в журнале всего через несколько дней после подачи
[76]. Насколько нам известно, это — единственный случай, когда информация об открытии в области медицины попала в печать в течение одной недели (даже предварительные сообщения о структуре ДНК были напечатаны в журнале «Nature» через целых двадцать два дня после сдачи материала).
Рентген понимал, что статья, опубликованная в малоизвестном журнале, не привлечет того внимания мирового сообщества, на которое он рассчитывал. Поэтому он за свой счет сразу же заказал копии статьи и получил их буквально перед самым Новым годом. В первый день нового, 1896 года он послал репринты статьи шести самым известным европейским физикам. К статье прилагались снимки металлических гирек, сделанных под Х-лучами, прошедшими через стенки деревянной коробки, и снимок костей руки Берты. Эти снимки служили доказательством сделанного им поистине чудесного открытия. Получив только текст, без снимков, физики могли бы выкинуть статью в корзину, даже не прочитав ее. В конце концов, что такого поразительного несло с собой это якобы новое излучение? Один только раз, в длинной фразе, описывавшей различные феномены, наблюдавшиеся в связи с излучением, упоминалась и их способность воспроизводить тень костей человека.
Когда давний друг Рентгена Франц Экснер, профессор физики в Вене, открыл конверт, его заинтересовала не статья, а снимок кисти Берты. Находясь под впечатлением от увиденного, на следующий день он показал снимок собравшимся в его доме гостям, одновременно удивив и испугав их.
В тот же вечер один из приглашенных, также потрясенный увиденным, рассказал о снимке своему отцу. Отец этот, по чистому совпадению, оказался издателем одной из самых влиятельных венских газет. Он сразу понял, что сообщение о новом открытии станет потрясающей, почти невероятной сенсацией, и немедленно обратился к Экснеру за дополнительной информацией. И уже в воскресенье, 5 января, газета «Die Presse» напечатала подробный рассказ об открытии Рентгена. Корреспондент лондонской «Chronicle» сразу же передал информацию об открытии по телеграфу в свою газету, и 6 января та напечатала собственный репортаж. В мгновение ока новости о чудесном излучении облетели газеты всего мира.
Одной из причин такого невероятного международного интереса стало то, что газетчики по одному только снимку кисти Берты поняли то, что поначалу не до конца осознавал сам Рентген: открытые им Х-лучи вкладывали в руки врачей поразительный диагностический инструмент. Рентген-то думал, что медицинское применение Х-лучей будет ограничиваться определением возможных переломов или других повреждений костей.
 Эта нечеткая фотография — первый в истории отпечаток рентгеновского снимка. Изображение левой руки Берты Рентген было получено в результате шестиминутного облучения Х-лучами, исходившими из трубки Крукса. Именно этот снимок Вильгельм Рентген приложил к репринтам своей статьи, которые он разослал нескольким коллегам. После публикации снимка в венской газете новость об открытии Х-лучей мгновенно разнеслась по всему миру
Эта нечеткая фотография — первый в истории отпечаток рентгеновского снимка. Изображение левой руки Берты Рентген было получено в результате шестиминутного облучения Х-лучами, исходившими из трубки Крукса. Именно этот снимок Вильгельм Рентген приложил к репринтам своей статьи, которые он разослал нескольким коллегам. После публикации снимка в венской газете новость об открытии Х-лучей мгновенно разнеслась по всему миру
Вторая причина немедленного и широчайшего освещения этого открытия в печати была связана со странным чувством беспокойства, которое испытали многие люди, узнав, что появились лучи, способные проникнуть через одежду и плоть и «увидеть» их самые потаенные органы. На первый взгляд это граничило с непристойностью
[77]. А первые снимки черепа некоторых просто страшно перепугали. Черепа или скелеты издавна считались главными атрибутами праздника Хеллоуин. Более того, уже на протяжении более ста лет череп и две скрещенных бедренные кости считались символом смерти. В первые шесть месяцев 1896 года вошли в моду заведения, где людям предлагали сделать Х-снимки их костей; многие клиенты, увидев изображения собственного скелета, падали в обморок.
Мы уже упоминали о том, что трубки Крукса имелись во многих физических лабораториях США и Великобритании. Не прошло и нескольких недель после сообщения Рентгена о том, что с помощью трубки Крукса можно мгновенно генерировать Х-лучи, а медики обеих стран уже начали применять их не только для визуализации переломов костей, но и для поиска пуль и любых других плотных предметов, которые могли находиться в разных тканях тела.
Интересно, что в декабре 1896 года один американский судья заявил, что снимки, сделанные с использованием Х-лучей, могут приниматься в суде в качестве доказательства. Это вызвало резкий протест со стороны адвокатов, защищавших некоего врача, обвиненного молодым студентом-юристом в медицинской небрежности. Студент упал со стремянки и повредил левую ногу. Врач рекомендовал ему определенные упражнения, якобы способствующие заживлению. Эти упражнения вызывали сильную боль, и студент решил сделать Х-снимок своей ноги. Снимок показал, что нога сломана, а отломки кости заняли неправильное положение. По всей вероятности, причиной смещения стали упражнения, рекомендованные врачом. Студент выиграл дело — первое из тысяч разбирательств, в которых подобным снимкам предстояло сыграть ключевую роль.
Открытие скромного профессора из баварского города Вюрцбурга произвело такое впечатление на кайзера Вильгельма II и его супругу, что они пригласили Рентгена в свой дворец в Потсдаме. Крайне польщенный, Рентген принял приглашение продемонстрировать удивительные свойства Х-лучей. Тринадцатого января 1896 года, менее чем через две недели после того, как он разослал копии своей статьи, ученый предстал перед императорской четой. К счастью, во время демонстрации не произошло то, чего он боялся больше всего, — трубка Крукса не взорвалась. За демонстрацией последовал ужин с кайзером и его приближенными. Рентгену пожаловали прусский орден Короны 2-го класса. Почему ему не дали орден Короны 1-го класса, нам точно неизвестно. Однако и эта награда очень обрадовала Рентгена, на всю жизнь сохранившего память о столь волнующем событии.
Двадцать третьего января он выступил перед физико-медицинским обществом Вюрцбурга с лекцией, которую намеревался прочитать месяц назад. Когда он вошел в Институт физики, его ошеломили и до глубины души потрясли приветственные овации. В лекции Рентген рассказал, какое удивление испытал, когда открыл, что Х-лучи способны проникать через стопку карточек, двухдюймовую книгу или толстый кусок дерева. Он также признался, что окончательно поверил в существование излучения и понял, что оно не является плодом его воображения, только после того, как открыл, что Х-лучи оставляют тени на фотографической пластинке.
В конце выступления Рентген попросил Альберта фон Колликера, одного из самых известных анатомов Германии, выйти на сцену и позволить пропустить Х-лучи через свою руку. Пожилой человек выполнил эту просьбу, и зал, увидев кости его руки, взорвался аплодисментами. Комментируя демонстрацию, фон Колликер сказал, что за все сорок пять лет своего членства в Обществе он еще ни разу не присутствовал на выступлении, которое имело бы такое огромное значение для естественных наук и для медицины.
После окончания заседания несколько ученых-медиков остались, чтобы обсудить с Рентгеном пользу, которую его открытие могло бы принести медицине. В тот вечер они пришли к заключению, что, поскольку все мягкие ткани тела обладают одинаковой плотностью, использование Х-лучей в медицинских целях будет весьма ограниченным. Как же они ошибались!
Это выступление стало первой и последней официально прочитанной Рентгеном лекцией об Х-лучах, хотя его приглашали выступить во многих учреждениях, включая германский рейхстаг. Он знал, что, оказавшись перед большой аудиторией, начинает сильно волноваться и буквально теряет способность ориентироваться в пространстве. Лекции, которые он читал даже небольшим группам студентов, были неинтересными и порой просто скучными.
Рентген отказывался выступать не только перед научной аудиторией, но и всеми путями старался избегать журналистов и всего один раз согласился дать интервью. Наверное, он понимал, что теперь, когда ему перевалило за пятьдесят, у него осталось не так много времени на новые исследования, а ему очень хотелось закончить экспериментальное исследование Х-лучей. И ему это удалось. Вторая статья Рентгена увидела свет в марте 1896 года
[78].
В этой статье он сообщал, что Х-лучи не только снимают заряд с «наэлектризованных тел», но и способны заряжать воздух, через который проходят. Этот воздух, в свою очередь, способен разряжать наэлектризованные тела. Кроме этого в статье говорилось о субстанциях, которые, будучи подвергнутыми воздействию катодных лучей, в наибольшей степени способны производить Х-лучи. Рентген пришел к выводу, что лучшим их источником является платина, облучаемая катодными лучами. Однако и в этой статье, где Рентген долго и подробно описывал электрические свойства Х-лучей, а также металлы, способные генерировать их под влиянием катодных лучей, он ни единым словом не обмолвился о возможностях использования этого магического излучения в медицине. Здесь напрашивается сравнение с археологом, который, найдя гробницу фараона со всеми ее бесценными сокровищами, описал бы в статье только орудия, которыми пользовался при раскопках.
Третья, и последняя, статья Рентгена об Х-лучах была напечатана в марте 1897 года. Но, хотя уже больше года врачи всего мира делали и публиковали Х-снимки черепа, сердца, сломанных костей, пуль и иголок, застрявших в разных тканях тела, и в этой статье Рентген не упоминал о потенциальной пользе своих чудесных лучей для медицины. Вся статья посвящена скучному описанию физических свойств лучей и разных факторов, влиявших на эти свойства. С явным разочарованием ученый отмечал, что ему, несмотря на все старания, так и не удалось доказать электромагнитную природу излучения и способность их преломления в кристаллах — хотя он каким-то образом был почти уверен и в том, и в другом. Ему пришлось ждать семнадцать лет, прежде чем Макс фон Лауэ открыл, что атомы кристаллической решетки способны преломлять Х-лучи. Блестящая работа фон Лауэ и его учеников в 1914 году принесла им Нобелевскую премию.
После публикации третьей статьи Рентген прожил еще двадцать шесть лет, и за это время свет увидели только семь его научных работ. В 1921 году, в возрасте семидесяти шести лет, он опубликовал свою последнюю статью о влиянии излучения на электропроводимость различных кристаллов. В годы Первой мировой войны он не написал ничего.
Неизменно отклоняя все приглашения прочесть лекции, ученый тем не менее с готовностью принимал бесконечные премии, медали, дипломы, почетные степени и почетное членство в самых разнообразных медицинских и научных обществах всего мира. Эти почести потекли рекой буквально сразу после объявления об открытии в 1895 году. Через четыре месяца после публикации первой статьи об Х-лучах он был награжден орденом Королевского отличия Баварской короны. Рентген принял награду, но отказался от добавления частицы «фон» к своей фамилии. Надо сказать, что от такой чести немецкие ученые отказывались крайне редко.
В 1901 году Рентген стал первым ученым, получившим Нобелевскую премию по физике. В отличие от тех, кто в последующие годы будет приезжать в Стокгольм за этой высочайшей наградой, Рентген, получив медаль лауреата из рук короля Швеции, поблагодарил его, но не произнес никакой речи. Он совершил и еще один поступок, уникальный для лауреатов Нобелевской премии: передал все причитавшиеся ему деньги Вюрцбургскому университету.
После присуждения Нобелевской премии Рентген лишился даже тех немногих шансов на продолжение серьезных творческих исследований, которые у него еще оставались: по приказу Баварского двора ему пришлось оставить Вюрцбург и занять пост директора Физического института при Мюнхенском университете. Может быть, в глубине души он и протестовал против этих перемен, однако вполне вероятно что Рентген, как и большинство нобелевских лауреатов старше пятидесяти пяти лет, испытывал облегчение, понимая, что от него больше не ожидают чудесных научных открытий. Научные исследования — вещь вообще нелегкая, и их далеко не всегда можно назвать приятными, ведь неудачи при лабораторных исследованиях являются не исключением, а правилом. Настоящую революцию в науке, как указывал Карл Поппер, совершают не те открытия, которые кажутся хорошо подтвержденными, а, скорее, те, которые дают множество возможностей для их опровержения в будущем.
В новой должности Рентгену пришлось больше заниматься административной работой, чем исследованиями. Иногда он заходил в лабораторию и, конечно, продолжал читать лекции по физике — а студенты по-прежнему находили их скучными и неинтересными.
В отличие от своего прусского современника Роберта Коха, Рентген никогда не привлекал к работе молодых студентов, своих учеников. Он был исследователем-одиночкой. Более того, он вел очень замкнутый образ жизни и редко бывал в обществе — может быть, из-за хронической болезни Берты.
В 1903 году Рентген неохотно принял приглашение выступить с основным докладом на открытии Мюнхенского музея искусств. В зале присутствовали представители баварской знати, военные, правительство. Ученый выступал на публике впервые с января 1896 года. По какой-то причине он впал в панику, начал заикаться, запинаться, и вскоре речь его стала настолько бессвязной, что даже присутствовавшие на церемонии журналисты не смогли уловить ее смысл. Рентген воспринял этот неприятный инцидент как настоящую катастрофу; больше он никогда не выступал с публичными лекциями или речами.
Почти полное прекращение научной и исследовательской деятельности еще до начала Первой мировой войны вовсе не означает, что Рентген утратил способность мыслить. Он полностью посвятил себя управлению Физическим институтом и принимал участие во многих мероприятиях Мюнхенского университета. На выходные он, как правило, отправлялся в свой охотничий домик неподалеку от Мюнхена, где с удовольствием охотился на крупную и мелкую дичь, а ежегодный месячный отпуск проводил в Швейцарии. Кухарка, горничная и экономка давали им с Бертой возможность жить по-настоящему
gemütlich[79] жизнью — в комфорте, без забот.
Таким образом, для Рентгена все в мире складывалось наилучшим образом — до 1914 года. А потом войска его возлюбленного кайзера оккупировали Бельгию, и его мир, как и мир всех остальных немцев, рухнул. С самого начала войны, несмотря на первые победы Германии в России и Северной Франции, Рентген не верил триумфальным прогнозам. Прежде всего, он опасался, что блокада, объявленная Англией, не позволит его родине выиграть войну.
Берта пережила тяготы военных лет, но умерла в 1919 году. Верная прислуга взяла на себя заботу о семидесятичетырехлетнем ученом. Быть искренним и откровенным он мог только с вдовой своего единственного друга Леонарда Бовери. Но и с фрау Бовери он общался только по переписке. Рентген пытался сохранять эмоциональный контакт с умершей Бертой, читая вслух перед ее фотографией письма, полученные им много лет назад, — ему казалось, что ей понравилось бы снова услышать их.
В семьдесят пять лет Рентген вышел на пенсию. Иногда он еще ездил на охоту, но чаще просто гулял по лесу. Ученого все больше занимала повседневная жизнь дома, которым по-прежнему занимались три служанки. Долгое время, начиная с 1920 года, Германия страдала от нехватки продовольствия и непрекращающегося обесценивания марки. Каждый день Рентгену приходилось изыскивать способы накормить и обогреть людей, деливших с ним кров. Он потратил несколько недель на споры с кухаркой и экономкой по поводу покупки свиньи: они, вопреки его желанию, хотели купить поросенка и откормить его, чтобы потом пустить на мясо. Этот спор завершился победой прислуги. Когда подошло время забивать свинью, начались новые препирательства. Рентген искренне полюбил поросенка и хотел продать его, но женщины не доверяли местному мяснику. Они предпочитали не отдавать животное за ничего не стоящие марки, а забить и разделать его самостоятельно, получив тем самым максимальное количество мяса и сала. И снова победа осталась за ними.
И после выхода на пенсию Рентген продолжал получать дипломы и медали (в общей сложности он имел более пятидесяти почетных научных степеней и десятки медалей, многие из которых были золотыми). Однако самой большой радостью для него, помимо прогулок, были старые письма: перечитывая их, он заново переживал события, некогда волновавшие его. Письмо от Гельмута И. Л. фон Мольтке напоминало ему о славном вечере 9 января 1896 года, когда на ужине в честь Рентгена фон Мольтке сидел справа, а кайзер Вильгельм II — слева от него. Это письмо он неоднократно читал перед фотографией покойной Берты.
В конце 1922 года Рентген заболел; в отличие от врачей, он сразу понял, что его болезнь смертельна. Он умер 10 февраля 1923 года. Его прах был захоронен в семейной могиле в Гессене, где они с Бертой прожили самые счастливые годы своей жизни.
Вильгельма Конрада Рентгена можно назвать самым честным и порядочным из всех ученых. У него в буквальном смысле этого слова не было никаких явных пороков. Он был блестящим исследователем, но этот блеск сосредоточился в одном направлении, и по сравнению с Исааком Ньютоном или Альбертом Эйнштейном ему не хватало масштабности мышления. Тем не менее, когда судьба преподнесла ему подарок в виде вспыхнувшего флюоресцентного экрана, научная интуиция Рентгена подтолкнула его в верном направлении.
До открытия рентгеновских лучей врачи могли пользоваться для выявления болезни и понимания ее причин только четырьмя из пяти чувств (слухом, обонянием, осязанием и вкусом). Рентген в буквальном смысле этого слова позволил врачам использовать и пятое чувство — зрение — не только для обнаружения болезни, но часто и для ее лечения. Сегодня даже трудно представить себе лучший подарок для врачей и, конечно, для больных, чем открытие рентгеновских лучей.
Достаточно скоро после открытия Х-лучей было установлено, что соли бария для них непроницаемы. Теперь, чтобы визуально изучить пищевод, желудок и тонкий кишечник, достаточно дать больным выпить водный раствор этих солей. Тот же препарат, введенный ректально, позволяет увидеть толстый кишечник. А введение раствора йода в мочеточник дает возможность исследовать мочевой пузырь и почки
[80].
Позже были найдены или составлены относительно безвредные химические вещества для внутривенного, а впоследствии — и для внутриартериального введения. Так, за последние сорок лет стала возможной визуализация камер сердца и внутреннего пространства всех крупных вен и артерий человеческого тела. Но впереди было еще много работы.
В 1972 году английский инженер-компьютерщик Годфри Хаунсфилд и его коллега, нейрорадиолог, впервые смогли увидеть внутренние части мозга, ранее недоступные для визуализации. Они назвали систему, использованную для получения изображений, компьютерной поперечно-осевой томографией
[81].
Хаунсфилд разработал систему подачи сфокусированных рентгеновских лучей под разными углами; эти лучи проходят через тонкие слои человеческого тела. Иными словами, он нашел способ получения множественных томограмм. Пучки рентгеновского излучения, проходящие через тонкие слои тела, конвертируются приемным устройством в оцифрованные показатели, которые, в свою очередь, преобразуются для построения рентгеновского изображения с использованием высокоскоростного компьютера.
Полученные с помощью нового метода изображения были представлены на конференции рентгенологов и стали самой настоящей сенсацией. Впервые удалось визуализировать сложные структуры мягких тканей и жидкостные камеры мозга. Рентгенологи сразу же поняли, что с помощью нового КТ (компьютерного томографического) сканера можно рассмотреть детали строения не только различных тканей мозга, но и других мягких тканей тела, а также их поражения.
А сделано это открытие было так. В 1967 году Хаунсфилд и его коллега А. Дж. Амброуз решили просканировать коровьи головы, которые дал им местный мясник. Результаты оказались печальными: им не удалось визуализировать ни одну структуру мозга, включая желудочки. Исследователи уже решили было окончательно отказаться от проекта, но потом Аброуз предположил, что, может быть, им не удалось рассмотреть мелкие детали строения мозга, потому что коров, чьи головы они пытались исследовать, умерщвляли путем размозжения черепа. Кровоизлияния, возникшие в разных частях мозга, мешали увидеть внутренние структуры. Кроме того, вследствие этих кровоизлияний желудочки мозга наполнялись кровью, в результате чего становились непригодными для визуализации.
Амброузу удалось убедить Хаунсфилда пойти на кошерный мясной рынок и взять там головы коров, которых умерщвляли, перерезая горло, а не нанося удар тяжелым предметом по черепу. И действительно, просканировав головы животных, умерщвленных, согласно иудейскому ритуалу, обескровливанием, они получили четкие изображения всех частей мозга, включая желудочки
[82].
После этого важнейшего эксперимента Хаунсфилд и его коллеги встретились с руководителями своей компании (EMI Ltd.), и те единогласно согласились начать выпуск компьютерных томографических сканеров.
Первое сканирование головы человека было выполнено в 1972 году в маленькой больнице недалеко от штаб-квартиры EMI. Процедура увенчалась успехом. Через пять лет в мире использовалось уже более тысячи компьютерных томографов. Хаунсфилд получил множество наград, включая рыцарский титул, членство в Королевском обществе и Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1979 года. Несмотря на эти заслуженные почести, он так и не сумел преодолеть волнения перед публичными выступлениями. Чтобы поменьше нервничать, он придумал оригинальный способ — перед тем, как выступить с лекцией, он читал ее обезьянам в зоопарке того города, куда его пригласили. Друг Хаунсфилда, рассказавший нам эту историю, так и не понял, каким образом подобная «разминка» успокаивала нервы его коллеги.
Алан Кормак разделил с Хаунсфилдом Нобелевскую премию, потому что в 1963 году опубликовал статью, в которой описывал придуманный им инструмент, позволявший получить отличные рентгеновские изображения с использованием томограмм, соответствующего алгоритма и компьютера. Однако Кормак сканировал только «фантомные» модели, а не тело человека. Судя по всему, Хаунсфилд ничего не знал о работах Кормака, опубликованных в физическом журнале
[83], который он не читал.
При всех диагностических преимуществах компьютерной томографии, использование этого сложного сканера стало причиной колоссального удорожания медицинского обслуживания. Сам аппарат стоит более миллиона долларов, и при этом каждая конкретная его модель устаревает с пугающей скоростью. К сожалению, большинство современных врачей слишком часто направляют больных на компьютерную томографию, руководствуясь элементарным страхом: в случае, если больной подаст на врача жалобу, обвинив его в небрежности (а такое, к примеру, в США случается почти с каждым пятым врачом), адвокат пациента непременно поинтересуется, подвергался ли его клиент КТ-сканированию. Адвокатам нравится изводить врачей такого рода вопросами, и не потому, что это действительно помогает выяснить истину, а потому, что они полагают, что тем самым докажут присяжным, что разбираются в вопросах медицины — или, если врач ответит, что сканирование не проводилось, для присяжных это станет доказательством того, что он не пользуется последними достижениями в диагностике и, следовательно, является невежей. Если бы Рентген дожил до появления столь мощного орудия диагностики, как компьютерная томография, он, наверное, вспомнил бы о том, что первый шаг к изобретению невероятно сложного аппарата был сделан в 1894 году, когда он увидел, как под действием тока, пропущенного через трубку Крукса, мерцает лежащий на лабораторном столе листок бумаги с химическим покрытием.
Глава 7
Росс Гаррисон и культура тканей

Росс Гаррисон
(1870–1959)
Если сегодня вы спросите любого специалиста по культуре тканей, что он думает о работах Росса Гренвилла Гаррисона, скорее всего, он непонимающе уставится на вас и спросит: «Кто это?» Даже президентам Йельского университета и Университета Джона Хопкинса, где работал Гаррисон, потребовалось несколько минут для размышления, прежде чем они смогли вспомнить, что связывает этого человека и его работы с их учебными заведениями.
Между тем информация о Гаррисоне и его открытиях довольно подробно представлена в главном вестибюле Университета Джона Хопкинса, а одна из сегодняшних обязанностей президента Йельского университета состоит в том, чтобы назначать нового профессора кафедры имени Росса Гренвилла Гаррисона, созданной в 1947 году президентом и ученым советом университета в ознаменование заслуг Гаррисона. Эту кафедру возглавляли самые выдающиеся биологи Йеля.
А ведь этот ученый, которого сегодня почти уже забыли, сделал одно из важнейших открытий в истории медицины — разработал метод культивирования тканей, то есть выращивания живых клеток в лабораторных условиях, вне растений или животных, от которых эти клетки были взяты. Открытие Гаррисона позволило изучать живые организмы на клеточном и даже молекулярном уровне, разрабатывать современные вакцины, в том числе от полиомиелита, кори и бешенства. Этот метод дал новый толчок исследованиям рака (и СПИДа). Благодаря методу выращивания культур тканей за последние пятьдесят лет о причинах самых разных болезней узнали больше, чем за предыдущие пять тысяч лет. И все это началось с Росса Гренвилла Гаррисона
[84].
Гаррисон, второй из пяти детей в семье, родился в Джермантауне, штат Пенсильвания, 13 января 1870 года. Его мать умерла рано, от рака. Отец, инженер, часто и подолгу жил в России, и воспитанием Гаррисона занималась главным образом тетка. В школе, где он учился, особое внимание уделялось изучению природы и часто проводились экскурсии по окрестностям города, что стимулировало интерес мальчика к естественным наукам. Рассказывают, что во время одной из таких экскурсий он совершил геройский поступок — спас тонувшего человека.
Заканчивать школу юному Гаррисону пришлось в Балтиморе. В шестнадцать лет он поступил в колледж Университета Джона Хопкинса. Росс занимался биологией, математикой, химией, изучал латынь и греческий и проводил бесконечные часы в университетской библиотеке за чтением греческих и римских классиков; их книги совершенно завораживали его. Что бы он ни делал, у него все получалось блестяще. Через три года Гаррисон уже получил диплом об окончании колледжа.
Заметив выдающиеся способности сына, Гаррисон-старший посоветовал ему продолжить обучение, и в 1889 году Росс поступил в Университет Хопкинса, где намеревался изучать биологию и математику. Летом 1890 года ему пришлось ассистировать при проведении экспериментов по изучению эмбриологии устрицы. Эта работа настолько заинтересовала юношу, что эмбриология стала делом всей его жизни.
Первое время в университете Гаррисон работал под руководством У. К. Брукса. Брукс считал, что основная задача эмбриологии состоит в том, чтобы объяснить, почему тот или иной орган или система органов развивается именно так, а не иначе. Гаррисон соглашался с ним, но впоследствии изменил свое мнение.
Брукс научил Гаррисона очень важным вещам, в частности как относиться к науке и своим коллегам. Изучая эмбрионы мельчайших морских животных, Брукс случайно узнал, что некий его коллега во Франции занят аналогичными исследованиями и вот-вот опубликует свои результаты. Подумав минуту, Брукс заявил, что не видит никаких оснований торопиться. Если работа французского ученого окажется более интересной, тем лучше для него, и Бруксу не придется вообще ничего публиковать. С другой стороны, если француз оставит неисследованными какие-то детали (а так бывает довольно часто), Брукс опубликует только те результаты, которые дополнят его работу, а большего и не требуется. То был настоящий урок, и Гаррисон запомнил его навсегда.
С 1892 по 1899 год Гаррисон жил в Бонне, где изучал медицину, — с перерывом на 1894 год, когда он вернулся в Университет Хопкинса, написал диссертацию и получил степень доктора философии. В 1893 году в Бонне он познакомился со своей будущей женой Идой Ланге. Ида тогда только что закончила школу для девушек в Швейцарии. Она свободно говорила на английском, немецком, итальянском и французском языках. Гаррисон, помимо родного английского, владел немецким, так что они могли спокойно общаться по крайней мере на двух языках.
Гаррисон сообщил отцу о намерении жениться, и Гаррисон-старший, внимательно изучив фамильное древо Иды, дал согласие. Зато отец Иды, военный моряк, сказал, что не возражает против обручения, но вот с браком следует подождать три года. Гаррисон и Ида терпеливо выждали этот срок; они поженились 9 января 1896 года в немецком городке Алтона. Через три года Гаррисон получил в Бонне диплом врача.
Видно, необыкновенная одаренность молодого ученого была столь очевидна, что администрация Университета Джона Хопкинса предложила ему место на медицинском факультете еще до получения медицинского диплома. Дальнейшая его карьера оказалась стремительной: в 1895 году Гаррисон занял должность преподавателя, а в 1899 году уже стал доцентом. Не прерывая обучения на медицинском факультете в Бонне, он вел занятия в Университете Хопкинса — жизнь его легкой не назовешь, ведь тогда самолеты еще не летали, Гаррисон непрерывно плавал через океан — туда и обратно, то на занятия в Бонн, то чтобы прочитать лекции в университете.
Гаррисону повезло — в период его работы в Университете Хопкинса тамошнюю кафедру анатомии возглавлял выдающийся эмбриолог Франклин П. Молл. Хотя между ними, скорее всего, сложились самые добрые отношения, Молл по непонятной причине не предложил Гаррисону стать соавтором всемирно известного двухтомного пособия по эмбриологии человека, редакторами которого были он сам и немец Франц Кейбель. Может быть, это произошло потому, что Гаррисон специализировался на экспериментальной эмбриологии и проводил большинство опытов не на людях, а на животных.
Гаррисон не полагался исключительно на свои блестящие способности. Он усердно и напряженно работал, часто уходил из дома на рассвете, а возвращался уже глубокой ночью. За первые десять лет работы в Университете Хопкинса он опубликовал двадцать выдающихся статей по эмбриологии, а кроме того, основал «Журнал экспериментальной зоологии» («Journal of Experimental Zoology»); под его редакцией вышли 105 томов этого издания.
С первых дней и до самого конца его карьеры Гаррисона можно было сравнить не с милым и ласковым пони, а с надежной, сильной рабочей лошадью. Его отличительными свойствами были некоторая холодность в общении с людьми и абсолютное отсутствие честолюбия. Коллеги в Университете Хопкинса, а позже в Йеле уважали его и даже восхищались блеском его интеллекта, однако вряд ли кто-нибудь из них (включая и его собственных детей) мог сказать, что это был теплый, вдохновенный и общительный человек. Великий ученый жил словно в ледяном панцире.
Нам довелось беседовать с девяностопятилетней Элизабет Гаррисон, его дочерью, ставшей врачом. Она тепло и восторженно отзывалась, но не об отце, а о матери. Ида не только помогала Гаррисону в его лабораторных исследованиях, но и взяла на себя полную ответственность за воспитание их пятерых детей. Гаррисон не принадлежал к числу отцов, которые помогают сыновьям мастерить машинки из детского конструктора или строят кукольные домики для дочек. Он, как позже с горечью вспоминал его сын, уделял слишком много времени своей карьере, и на детей его просто не хватало. Наука стала для Гаррисона любовницей, поглотившей его всего.
Вероятно, в конце лета или в начале осени 1906 года Гаррисон, тогда всего лишь тридцатишестилетний доцент, приступил к исследованию, которому предстояло обессмертить его имя. В то время эмбриологи совершенно не понимали, какие процессы ответственны за развитие нервных волокон. Ученые знали, что в полностью развившейся нервной системе все нервные волокна либо заканчиваются в нервных клетках, либо выходят из них, но вот из чего развиваются эти длинные нервные волокна, присутствующие во всех органах и тканях зародыша? Большинство ученых полагали, что нервные волокна, пронизывающие конкретные органы и ткани, каким-то образом зарождаются именно в этих органах и тканях.
Гаррисон был уверен, что микроскопическое исследование окрашенных тканей с содержащимися в них нервными волокнами никогда не покажет, где изначально сформировались эти нервы. Вот если бы ему удалось получить ткань, в которой не содержалось бы ничего, кроме нервных клеток, то наблюдение за этими клетками как за живыми объектами на протяжении достаточно длительного периода, может быть, позволило бы увидеть, как в самой нервной клетке зарождается нервное волокно.
Руководствуясь этими соображениями, он вырезал кусочек медуллярного сосуда зародыша лягушки длиной 1/7 дюйма и погрузил его в каплю лягушачьей лимфы, а затем все это накрыл покровным стеклом. Запечатав покровное стекло парафином, чтобы предотвратить испарение, Гаррисон наблюдал за препаратом с помощью мощного микроскопа. Как писал он сам в небольшой статье, вышедшей в 1907 году, оказалось, что «при принятии разумных асептических мер предосторожности ткани могут жить в подобных условиях неделю, а в ряде случаев удавалось сохранить препараты живыми в течение месяца»
[85]. Именно этот опыт и лег в основу науки и искусства выращивания культур тканей.
Наверное, Гаррисон пришел в восторг (во всяком случае, насколько был на это способен), увидев, что из нервных клеток в медуллярном сосуде действительно появляются нервные волокна, выраставшие за 25-минутный период наблюдения на 25 микрон. Он нашел ответ на вопрос о происхождении нервного волокна: оно вырастало из самой нервной клетки! Внимательно наблюдая за концом удлиняющегося волокна, он отметил, что рост волокна продолжался благодаря амебоидному движению его окончания.
Целиком захваченный своим открытием, Гаррисон даже не осознал, что, при всей важности решения вопроса о том, каким образом формируется нерв, метод, с помощью которого это открытие было сделано, может иметь несоизмеримо большее значение для человечества. Пройдет не одно десятилетие, и появятся новые ученые, работающие с культурами тканей, прежде чем Гаррисон в конце концов поймет, насколько важен разработанный им метод выращивания живых тканей.
В мае 1907 года Гаррисон представил его, а также результаты изучения развития нервного волокна на небольшой конференции Общества экспериментальной биологии и медицины. В отличие от некоторых открытий, упоминаемых в этой книге, изобретение Гаррисона не стало сенсацией, о нем не писали репортеры, и только в журнале «Анатомические записки» («Anatomical Record») появилась небольшая заметка.
Скорее всего, выступление на конференции Общества экспериментальной биологии и медицины не сыграло сколько-нибудь заметную роль в том, что Гаррисону предложили заведование отделением зоологии и должность профессора на кафедре сравнительной анатомии в Йельском университете. Он сразу же согласился, осенью 1907 года приехал в Йель и оставался там уже до конца своей долгой карьеры. Чтобы переманить Гаррисона из Университета Джона Хопкинса, президент Йельского университета Артур Хэдли использовал три уловки. Во-первых, он сделал его полноправным профессором (в Университете Хопкинса Гаррисону такого не предлагали). Во-вторых, обязался создать самостоятельное отделение зоологии. Наконец, он обещал построить новое здание, где разместятся учебные помещения и лаборатории по всем биологическим наукам. Хэдли выполнил все три обещания, и через пять лет биологи, зоологи и эмбриологи получили прекрасное здание (корпус Осборн).
В первые годы работы в Йельском университете Гаррисон занимался по большей части наблюдением за строительством корпуса Осборн, подбором научного персонала и преподаванием.
С первой из этих задач Гаррисон справился просто блестяще. Корпус Осборн, чье строительство завершилось в 1913 году, был оборудован по последнему слову техники. Успешно прошла и работа по набору исследовательско-преподавательского персонала: уровень ученых, которых Гаррисон привлек к работе на своем факультете, намного превышал средний. Однако ни один из приглашенных им ученых и ни один из его студентов не удостоился Нобелевской премии и не смог сделать открытия, хотя бы примерно сопоставимого по значимости с открытой им самим в 1907 году методикой выращивания культур тканей. Что касается третьего направления деятельности Гаррисона, то есть преподавания, то с ним он справился гораздо хуже. Столкнувшись с необходимостью читать лекции богатым, часто избалованным юнцам, поступившим в Йельский университет, Гаррисон, по словам Дж. С. Николаса, работавшего под его руководством много лет и ставшего его официальным биографом, впал в состояние, близкое к панике. Из-за замкнутости, может быть, застенчивости и, безусловно, из-за явной неспособности выступать ярко, увлекательно, слушать
его лекции было невыносимо скучно. В качестве лектора он оказался таким же несостоятельным, как Рентген.
Захватывающе интересная работа в сфере экспериментальной эмбриологии не оставляла Гаррисону времени для занятий такой примитивной и недостаточно развитой областью науки, как выращивание культур тканей. Хотя он по-прежнему пользовался культурами тканей в ходе эмбриологических исследований и обучал своим методам специалистов, посещавших его лабораторию, на протяжении всей его карьеры в Йельском университете Гаррисон занимался проблемами трансплантации зародышевых конечностей, органов и тканей. Он опубликовал результаты ряда исследований, в ходе которых пользовался культурами тканей, но в центре этих работ оставалась эмбриология. Честно говоря, Гаррисон больше радовался тому, что смог пересадить левую зародышевую почку конечности на правую сторону зародыша и проследить за ее развитием в типично правую конечность, чем тому, что обнаружил возможность существования живых тканей вне организма. С точки зрения Гаррисона, эмбриологические наблюдения имели колоссальное значение, а методику культивирования тканей он считал всего лишь инструментом исследования.
В апреле 1917 года США объявили войну Германии. Для германофила Росса Гаррисона начался очень трудный период. Он закончил медицинский факультет в Германии, был женат на немке, и многие из его ранних работ увидели свет в немецких журналах. Его огорчала захлестнувшая Америку антигерманская истерия, которая выражалась в том, что американцы отказывались от изучения немецкого языка, меняли названия улиц, парков и городов, если усматривали в них немецкое происхождение, и считали всех немцев потенциальными врагами. Гаррисон боялся, что в ответ немцы станут так же нетерпимо относиться к американцам, и беспокоился за свою дочь Элизабет, которая в то время училась в Медицинской школе в Бонне. (На самом деле никаких проблем у нее не возникло, все к ней там относились очень хорошо.) Более того, сам он был убежденным пацифистом. В его лаборатории работали два немецких ученых; когда их обоих арестовали и посадили в тюрьму, он сделал все возможное, чтобы помочь им. В результате многие коллеги стали относиться к нему с подозрением.
И это еще не все. В 1917 году Нобелевский комитет рекомендовал присудить премию Гаррисону — не за открытие метода культивирования тканей, а за его работы по нервным волокнам, однако якобы из-за войны Нобелевский институт решил не присуждать премию по физиологии и медицине. Как ни странно, при этом были выданы премии по литературе, физике и — более того — Нобелевская премия мира (Международному Красному Кресту). Судя по всему, одобренная комитетом кандидатура Гаррисона не произвела должного впечатления на Нобелевский институт. Ученый испытал разочарование — не потому, что присуждение премии означало признание его авторитета в науке, а потому, что к медали, получаемой из рук короля Швеции, прилагалась солидная сумма, и он надеялся, что на премиальные деньги сможет отправить учиться в университеты всех своих пятерых детей.
После окончания Первой мировой войны Гаррисон продолжал эксперименты по трансплантации на зародыше амфибии и каждый год публиковал несколько работ о пересадке зародышевых конечностей и других тканей. В 1925 году свет увидела его единственная работа о выращивании культур тканей
[86]. В сухом научном отчете невозможно найти даже намек на то, что Гаррисон понимал значение этого своего открытия.
В 1933 году его снова выдвинули на Нобелевскую премию. Комитет сузил число претендентов до двух — в списке кроме Гаррисона фигурировал еще и Томас Хант Морган. Действительно выдающийся генетик, Морган многое сделал для развития своей науки, в качестве объекта исследований он использовал муху дрозофилу, ставшую с его легкой руки любимой героиней всех генетических экспериментов. В конце концов, комитет предпочел Моргана Гаррисону, мотивировав выбор тем, что культивирование тканей — это методика, имеющая «довольно ограниченную ценность»
[87]. Кроме того, члены комитета решили, что с момента открытия Гаррисона прошло слишком много времени — надо сказать, весьма странный аргумент. (В 1966 году комитет присудил Нобелевскую премию по физиологии и медицине Пейтону Роузу, хотя он сделал свое открытие о возможной вирусной природе опухолей пятьюдесятью шестью годами ранее!)
В 1938 году Гаррисон вышел на пенсию и, покинув Йельский университет, возглавил Национальный совет по исследованиям. Он сыграл ключевую роль не только в истории этой организации, но и в развитии современной медицинской науки. Под руководством Гаррисона эта организация, прежде весьма неэффективная и служившая, главным образом, для связи между Национальной академией наук и различными федеральными ведомствами, превратилась в многоотраслевое учреждение, отбиравшее ученых любых направлений для выполнения бесчисленных задач, встававших перед страной. Например, во многом именно благодаря Гаррисону удалось наладить производство пенициллина в промышленных масштабах.
Вскоре после окончания Второй мировой войны Гаррисон вернулся в Нью-Хейвен. В 1946 году его избрали для чтения Силлимановских лекций, самого престижного научного курса в Йельском университете. С 1946 по 1949 год он тратил большую часть своего времени на их подготовку, но при этом продолжал активно заниматься эмбриологией. В 1955 году Гаррисону исполнилось восемьдесят пять лет, но он по-прежнему сам забирался на стремянку. Однажды он, забыв о том, что ему уже немало лет и следует быть осторожным, очередной раз залез на стремянку и упал. Полученные травмы сказались на его здоровье. Он не мог с прежней активностью заниматься любимым делом — наукой. Выдающийся ученый умер в 1959 году.
Если бы Гаррисон смог прочитать воспоминания о себе и свою биографию, написанную Николасом по поручению Национальной академии наук, он, безусловно, сказал бы, что это — прекрасный и исчерпывающий отчет о его жизни и карьере. Вряд ли он обратил бы внимание на то, что эти воспоминания представляют его человеком, посвятившим свою жизнь исключительно работе. Однако очень показательно, что Николас заканчивает воспоминания о Россе Гаррисоне словами из Первого псалма: «…и во всем, что он ни делает, успеет».
Для того чтобы разработанный Гаррисоном в 1907 году метод культивирования тканей был признан одним из наиболее выдающихся достижений в медицине, потребовались многочисленные дополнительные исследования и открытия, сделанные сотнями других ученых. Будет правильным, если мы опишем некоторые из важнейших побед, включая и ошибки, сделанные на этом долгом пути.
Алексис Каррель родился во французском городе Лионе 28 июня 1873 года. Там же, в Лионе, он поступил в медицинский институт. Через несколько лет после получения диплома он уже возглавлял хирургическое отделение института. Еще будучи студентом, в 1902 году он сделал свою самую выдающуюся работу, сыгравшую огромную роль в развитии медицины: ему удалось сшить два конца рассеченной артерии, что ранее считалось абсолютно невозможным. При этом Каррель, как и Пастер, был человеком очень сложным, вспыльчивым, высокомерным. В 1904 году, рассорившись с руководством французской медицины, он уехал работать в Канаду, в Монреаль, а в 1905 году поступил в Физиологический институт Холла при Чикагском университете.
Можно сказать, что Каррель, как и любой другой исследователь, должен был бы довести до сведения мировой общественности, что в 1907 году Гаррисон совершил чудо, открыв способ выращивания нервной клетки вне организма. Прослушав одну из лекций Гаррисона, Каррель направил своего ассистента, Монтроза Берруоза, в Йель, чтобы тот узнал побольше о методике выращивания культур тканей. Работая в лаборатории Гаррисона, Берроуз внес свой вклад в науку, в частности доказав, что плазма цыпленка является гораздо лучшей средой для выращивания тканей, чем лягушачья лимфа.
В течение двух лет, которые Берроуз проработал с Каррелем, они выращивали ткани зародышей, взрослых животных, людей, а также ткани, взятые из злокачественных опухолей. Затем Берроуз перешел в Корнельский университет, где до 1915 года был штатным сотрудником факультета. После этого он поступил в частную клинику в Пасадене (Калифорния), где заинтересовался онкологией. Не имея предварительного опыта, он начал выполнять сложные операции у раковых больных.
В 1942 году Берроуз написал своему другу достойное осуждения письмо, где якобы со слов Франклина Молла утверждал, что вся идея выращивания культур тканей вне организма принадлежит Моллу, что он самостоятельно разработал все эксперименты, а Гаррисон был всего лишь техническим сотрудником лаборатории, исполнявшим распоряжения Молла
[88]. Нам неизвестны факты, которые подтверждали бы сведения Беррроуза.
Каррель опубликовал первую статью о выращивании культур тканей в 1911 году
[89]. Он сделал все возможное, чтобы привлечь внимание публики к своей работе и так преуспел в распространении информации о результатах опытов по выращиванию тканей, что, когда год спустя, в 1912 году, он получил Нобелевскую премию, большинство американских ученых были убеждены, что ее присудили ему именно за достижения в этой области. Позже, узнав, что на самом деле автор метода выращивания культур тканей Гаррисон, многие осудили Карреля — ведь приняв премию, по праву принадлежащую Гаррисону, он предал своего учителя. Сам же Гаррисон в общем обвинительном хоре не участвовал — он знал, что Нобелевский комитет присудил премию Каррелю не за исследования культур тканей, а за разработку невероятно важного для развития хирургии метода сшивания концов рассеченной артерии, позволявшего избежать образования сгустков крови, сужения просвета артерии и протечек. Гаррисон горячо поддерживал присуждение премии Каррелю.
Конечно, Карреля нельзя обвинять в том, что он украл у Гаррисона Нобелевскую премию. Однако в его лаборатории, занимавшейся выращиванием культур тканей, произошло крупное мошенничество, и часть ответственности за него лежит и на Карреле.
Дело было так. Каррель впервые вырастил ткани сердца цыпленка в куриной плазме в 1912 году, и ему удалось поддерживать культуру живой на протяжении 120 дней. В том же году он получил Нобелевскую премию и добился невероятной известности. Более того, Каррель любил рекламу. В «Нью-Йорк таймс» появилась заметка, где совершенно точно указывалось, что он сумел добиться сохранения живой культуры ткани сердца в течение 120 дней; тут же приводились цитаты из его опубликованной статьи. Другие газеты оказались не столь порядочными. Двадцать четвертого октября издававшаяся в Сент-Поле, штат Миннесота, газета «Рурал уикли» вышла с огромным заголовком: «ОН СОХРАНИЛ ЖИВОЕ СЕРДЦЕ В ПРОБИРКЕ И ВЫИГРАЛ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ЦЕНОЙ 39 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!»
Чтение лекций и написание статей отнимало у Карреля слишком много времени, и потому, начав эксперименты с культурами тканей, он передал все исследования в руки некоего Альберта Эберлинга, в чьи обязанности входило наблюдение за техническим персоналом лаборатории и проведение текущих опытов.
Эберлинг изменил оригинальную методику Карреля. Он взял кусок сердца цыпленка размером со спичечную головку (так называемый эксплант) и поместил его на дно стеклянного сосуда вместе с каплей плазмы куриной крови и каплей водного экстракта ткани зародыша цыпленка. Вскоре Эберлинг обнаружил, что в присутствии экстракта клетки растут очень быстро — в свернувшейся смеси содержались все питательные вещества, необходимые для их роста. Через несколько дней растущие клетки, использовав запас питательных веществ, заполнили весь сгусток. Тогда Эберлинг разрезал сгусток надвое и положил каждый кусочек в новый сосуд, куда опять-таки добавил плазму куриной крови и эмбриональную жидкость. Впоследствии Эберлинг утверждал, что продолжал делить ткань, выросшую из исходного экспланта, в течение тридцати четырех лет, а последние выросшие клетки выкинул только в 1946 году, через два года после смерти самого Карреля.
Так родилась легенда о бессмертном курином сердце, ставшая одним из самых популярных новостных сюжетов того времени. Каждый год, первого января газета «Нью-Йорк уорлд телеграмм» связывалась с Каррелем, чтобы узнать, как обстоят дела у растущих клеток, и отмечала их «день рождения» редакторской статьей. В 1940 году представители газеты не смогли дозвониться до находившегося во Франции Карреля, и напечатали преждевременный некролог культуре тканей цыплячьего сердца. Карикатуристы, популяризаторы науки, авторы воскресных приложений — все проявили недюжинное воображение, описывая так называемое бессмертное куриное сердце. В выпуске журнала «Колльер» от 24 октября 1936 года указывалось, что, для того чтобы помешать разрастанию культуры тканей за пределы лаборатории, ее необходимо периодически «подстригать».
Впрочем, это утверждение еще можно отнести к числу достаточно скромных. Сам Эберлинг заявил, что, если бы он сохранил все разделенные куски выращенной ткани, получившаяся масса превзошла бы размерами Солнце. Если каждую неделю делить каждый эксплант пополам, через двадцать недель можно получить миллион культур, и это число каждую неделю будет удваиваться. Теперь понятно, почему Эберлинг и остальные сохраняли только несколько культур, а остальные выбрасывали!
Вскоре Каррель стал еще более знаменит, чем в то время, когда он получил Нобелевскую премию. В 1935 году он выступал с публичными лекциями, и интерес к этим лекциям был настолько велик, что толпу приходилось сдерживать с помощью полиции.
Впрочем, одна из технических работниц лаборатории Карреля (чье имя мы не называем), решила, что происходит что-то неладное. Внимательно изучая сгустки, она увидела, что так называемые бессмертные клетки сосредоточивались в центре. При этом буквально на расстоянии дюйма она часто замечала другой крохотный островок живых клеток. Она пошла к старшему технику и спросила, вследствие какого процесса могли появиться эти клетки. Тот ответил, что это не имеет никакого значения
[90].
В 1929 году разразился экономический кризис, началась Великая депрессия, и сотрудница технической службы поняла, что ей повезло — у нее есть работа. Однако она не чувствовала себя счастливой. Она выяснила, что сотрудники лаборатории непреднамеренно вводили в сгусток новые живые клетки — это происходило из-за грубых методов ежедневного приготовления экстрактов зародышевой ткани из свежих эмбрионов. Используя сбалансированный солевой раствор, сотрудница извлекла шприцем жидкость из зародыша цыпленка, поместила ее в пробирку, а затем прокрутила эту пробирку на очень простой центрифуге — настолько простой, что эффект от нее ненамного отличался от эффекта, который можно получить, прокрутив один или два раза над головой ведро с водой. Идея состояла в том, чтобы отделить любые оставшиеся клетки, в результате чего для питания «бессмертной» культуры осталась бы только зародышевая жидкость. Однако проведенная процедура оказалась очень грубой, и на поверхности жидкости еще оставались живые клетки и прочие клеточные частицы. Итак, клетки цыпленка вовсе не были бессмертными! Каждый день к ним вместе с питательной средой добавляли живые клетки.
Когда сотрудница довела эти факты до сведения начальника, тот посоветовал ей помалкивать, если она не хочет лишиться работы. И она молчала еще тридцать три года! За это время она вышла замуж и переехала в Пуэрто-Рико, где ее муж стал деканом Стоматологической школы при университете. Осенью 1963 года бывшая сотрудница лаборатории Карреля посетила лекцию Леонарда Хейфлика в Медицинской школе Университета Пуэрто-Рико. В своей лекции Хейфлик сказал, что, вопреки утверждениям Карреля о бессмертии нормальных клеток, ему удалось доказать, что продолжительность их жизни ограниченна, хотя многие до сих пор верят утверждениям Карреля. После лекции бывшая сотрудница каррелевской лаборатории подошла к Хейфлику и сказала, что он прав, а Каррель ошибался. Хейфлик, по его собственным словам, только и смог сказать: «О боже!» — после чего пригласил женщину в ресторан, где она и поведала ему тайну, которую хранила в течение тридцати трех лет: работы Карреля были основаны на обмане!
[91]
Побеседовав с Яном Витковским, автором статьи о Карреле
[92], и Ральфом Бьюкабомом
[93], посещавшим лабораторию Карреля и изучавшим культуру куриного сердца, мы пришли к выводу, что препараты Карреля не состояли из бессмертных клеток, а оставались живыми и росли благодаря тому, что в культуру регулярно добавляли новые клетки ткани куриного сердца. Знал ли об этом сам Каррель, сегодня выяснить невозможно.
Несмотря ни на что, Каррель все-таки сделал важное дело — работая с препаратами куриного сердца, он вернул из забвения открытый Гаррисоном метод выращивания культур тканей и год за годом способствовал его популяризации.
Завершив работу в Рокфеллеровском институте, Каррель вернулся во Францию. Там он поддерживал очень тесные связи с вишистским правительством, и смерть в 1944 году избавила его от возможных судебных преследований по политическим мотивам.
Поистине великим достижением Алексиса Карреля стал придуманный им способ сшивания концов рассеченной артерии. Что же касается его вклада в культивирование тканей, он был, мягко выражаясь, незначительным, а самое неприятное заключалось в том, что Каррелю удалось ввести в заблуждение целое поколение ученых, врачей и всех, кто занимался выращиванием тканевых культур. Вредоносный миф о Карреле закончил свое существование в 1959 году, когда молодой биолог Леонард Хейфлик, только что получивший докторскую степень, начал выращивать человеческие клетки.
В то время считалось, что лишь ткани эмбриона и плода могут быть относительно свободными от вирусов. В этом присутствовала большая доля правды, и Хейфлик решил получить здоровые клетки из эмбриональных тканей, полученных в ходе легальных абортов. Ткани ему поставляли из Швеции
[94]. Клетки поступали нерегулярно, и Хейфлик незамедлительно приступал к их культивированию и субкультивированию. Вскоре, однако, он обнаружил, что делить полученные ткани можно только примерно пятьдесят раз, после чего клетки начинали умирать. Ключевым моментом его открытия стал тот факт, что умирали клетки, полученные восемь-десять месяцев назад. Клетки, полученные месяц, три месяца или шесть месяцев назад, продолжали бурно расти, при этом росли они в той же питательной среде, в той же посуде, под наблюдением тех же техников, что и более старые клетки. Соответственно единственным отличающимся фактором, фактором, приводившим к гибели клеток, был их возраст. Из этого Хейфлик заключил, что соматические, обычные человеческие клетки не бессмертны. После многочисленных дополнительных исследований, проведенных Хейфликом и другими учеными
[95], была установлена грустная истина: человеческие клетки размножаться бесконечно не могут.
Ответственность, по меньшей мере косвенную, за появление одной из самых неприятных и известных во всем мире субстанций, загрязняющих клетки, мешающей не только тем, кто работает с культурами тканей, но и тем, кто пытается разработать новые антивирусные вакцины, несут Джордж Джей и его жена Маргарет, работавшие в Университете Джона Хопкинса.
Катастрофа началась 9 февраля 1951 года
[96]. В тот день супруги Джей взяли кусочек опухолевой ткани из шейки матки тридцатиоднолетней чернокожей американки Генриетты Лакс. Гинеколог, взявший образец ткани, сообщил, что макроскопически опухоль не похожа на обычную раковую опухоль шейки матки. Ткань была красной, а не бледной, и через нее проходили крупные кровеносные сосуды. Однако всемирно известный патологоанатом из Университета Джона Хопкинса заявил, что речь идет о типичном раке шейки матки, опухоли эпителиального происхождения. Но даже самые великие порой ошибаются, и более поздние исследования показали, что миссис Лакс страдала раком, развившимся не в эпителиальной, а в гландулярной, железистой, ткани. Генриетте Лакс эта ошибка стоила жизни. Вместо общепринятой в таких случаях радикальной операции ее подвергли лучевой терапии, к которой именно этот вид рака нечувствителен. Болезнь прогрессировала, и через восемь месяцев женщина умерла.
В отличие от других эксплантов, ее клетки (впоследствии их назвали клетками HeLa) росли как на дрожжах. Они оказались настолько живучими, что выживали даже при пересылке в любую точку света. Почтовые отправления, в которых содержались клетки HeLa, получили название «хелаграммы». Образцы посылались всем специалистам по биологии и медицины, работавшим в США; им нравилось работать с так быстро и хорошо растущими клетками. На первый взгляд клетки HeLa казались отличным объектом для экспериментов.
Однако в 1961 году специалист по культуре тканей из Нью-Джерси обнаружил, что достаточно вынуть пробку из пробирки или пролить каплю жидкости из пипетки, чтобы в воздухе появились частицы, содержащие клетки HeLa. Когда эти частицы попадали в открытые чашки Петри, содержавшие другие живые культуры, они начинали расти настолько стремительно, что за три недели «заглушали» все прочие клетки.
В 1966 году генетик Стенли Гартлер открыл фермент, присутствующий только в клетках чернокожих, и, разумеется, этот фермент был обнаружен и в клетках HeLa. Когда он был найден, по меньшей мере в восемнадцати предположительно чистых клеточных линиях, полученных от представителей европейской расы и хранившихся в новом клеточном банке в Вашингтоне, стало ясно, что клетки в этих восемнадцати клеточных линиях на самом деле были клетками HeLa. Их неправильно классифицировали как клетки опухолей печени, крови и других частей тела; однако, по сути дела, все они происходили из шейки матки Генриетты Лакс!
[97]
Вскоре Гартлер выступил с докладом о своем открытии на конференции членов Ассоциации по изучению культур тканей. Исследователи, работавшие с этими восемнадцатью клеточными линиями, пришли в ярость, потому что, если утверждения Гартлера соответствовали действительности, это означало, что годы их работы пропали зря. Новость вызвала такой шок, что какое-то время никто не хотел сотрудничать с Гартлером. Его утверждения называли «дикими и наглыми». Однако Ассоциация по изучению культур тканей все же создала две независимые группы исследователей для оценки всех клеточных линий в национальном банке. Двадцать четыре из тридцати четырех изученных линий оказались клетками HeLa! Гартлер не ошибся
[98].
Исследования Гартлера не положили конец всей этой путанице и противоречиям. Загрязнение предположительно чистых тканевых культур клетками HeLa наблюдал также и У. А. Нельсон-Рис, уроженец Кубы, в молодости эмигрировавший в США. Впоследствии он участвовал в программе генетических исследований в Калифорнийском университете в Беркли. В 1960 году, после получения докторской степени Нельсон-Рис перешел в лабораторию, созданную Национальным институтом рака в Окленде (Калифорния). Лаборатория предназначалась для сбора новых культур тканей в рамках специальной программы по исследованиям в области онкологии. В 1970 году Нельсон-Рис стал директором этой лаборатории.
Нельсон-Рис был большим перфекционистом. В его лаборатории соблюдалась стерильность, сделавшая бы честь лучшим операционным мира. Все эксперименты с клетками проводились чрезвычайно тщательно. Нельсон-Рис нанял ассистента, который значительно повысил способность лаборатории идентифицировать клетки с помощью методики, известной сегодня под названием дифференциального окрашивания хромосом
[99]. Кроме того, в лаборатории велось постоянное наблюдение за гендерными (половыми) различиями путем выявления X- и Y-хромосом.
Помимо масштабной борьбы с раком, президент Никсон гордился развитием разрядки в отношениях с Советским Союзом, выражавшейся, в частности, в том, что советские ученые посылали в США свои клеточные культуры. Эти культуры были переданы Нельсону-Рису, и тот установил, что русские клеточные культуры на самом деле представляли собой клетки HeLa. Они происходили из загрязненных образцов клеточных культур, присланных ранее в СССР из США. Бюрократы из Госдепартамента хотели сохранить эти выводы в тайне, опасаясь, что они могут отрицательно сказаться на политике разрядки напряженности. Но советские ученые приехали в США, где Нельсон-Рис, верный своему стремлению к совершенству, раскрыл им правду. Русские вовсе не расстроились, напротив, они с удовольствием пригласили его посетить Советский Союз. Тем не менее все журналы, куда Нельсон-Рис направил статью с описанием полученных результатов, отвергли ее, так как боялись возможных политических последствий.
В другой раз Нельсон-Рис выяснил, что пять клеточных культур, присланных ему разными исследователями, также являлись клетками HeLa. Он направил статью с описанием этих выводов в «Science» («Наука»), самый уважаемый научный журнал в Соединенных Штатах. Один рецензент сказал, что его данные правильны, а другой — что они имеют колоссальное значение, но главный редактор без видимых оснований отклонил статью.
Один из исследователей, приславший Нельсону-Рису культуру, загрязненную клетками HeLa, впоследствии признал свою ошибку. Он написал двадцати специалистам из разных стран, которым посылал эту клеточную линию, письмо, где сообщал об этом, а копию письма направил и Нельсону-Рису. Нельсон-Рис вновь направил в «Science» свою статью, приложив к ней это письмо. На сей раз статью приняли и напечатали, правда, на последней странице журнала
[100]. Впрочем, это не помешало читателям узнать о сенсационных выводах. История попала в газеты и на протяжении довольно долгого времени не сходила со страниц американской и мировой прессы.
Несмотря на сообщение Нельсона-Риса, многие ученые считали, что он неправ, и продолжали работать с загрязненными клеточными линиями. А в это время Нельсон-Рис пришел к выводу, что клетками HeLa были заражены гораздо больше клеточных линий, ранее считавшихся чистыми. Он написал вторую статью в «Science» и теперь указал в ней имя исследователя, приславшего ему загрязненные культуры
[101]. Нетрудно догадаться, что после этого отношение к Нельсону-Рису резко испортилось.
Проблема загрязнения культур клетками HeLa имела значение не только как тема для научных дебатов; она серьезно отражалась на судьбах людей. Например, рекомендации о максимально допустимом уровне облучения для специалистов-рентгенологов и для больных, подвергающихся рентгеновскому обследованию, частично основаны на наблюдениях о влиянии радиации на культуру здоровых клеток. Если же эти культуры загрязнены клетками HeLa — которые, как нам известно, обладают высокой резистентностью к радиации, — то на основании полученных результатов больные будут получать неоправданно высокую и опасную дозу облучения.
По сути дела, все имевшиеся в 1970-х годах сведения о воздействии радиации на культуры тканей или ткани человеческого организма были получены на основании исследований клеточных культур, загрязненных клетками HeLa. В 1978 году ученые из Пенсильванского университета направили в престижный «International Journal of Radiation, Oncology, Biology and Physics» («Международный журнал радиации, онкологии, биологии и физики»)
[102] статью, в которой сообщали, что клетки, с которыми они работали, были, по всей видимости, клетками HeLa. Редакция предпочла не печатать это горькое признание, а загрязнение клетками HeLa назвала «народным творчеством».
Затем уже в октябре 1978 года Джонас Солк признал, что среди клеток, использованных им для культивирования вируса полиомиелита, преобладали клетки HeLa. В конце 1950-х годов он проверял свою вакцину на больных в терминальной стадии рака. К его удивлению, у всех них на месте инъекции развились опухоли размером от горошины до ореха. Через три недели большинство опухолей стало исчезать, но больные, как правило, умирали от собственной болезни прежде, чем удавалось изучить влияние новых опухолей (вероятно, вызванных клетками HeLa). Вскоре Солк и его группа установили, что клетки, использованные ими для культивирования вируса полиомиелита, были загрязнены клетками HeLa. Впрочем, Солк обнародовал этот поразительный факт только через двадцать восемь лет
[103].
Не в силах справиться со стрессом, который он испытывал постоянно после выявления повсеместного загрязнения культур клетками HeLa, Нельсон-Рис в 1981 году добровольно подал в отставку со своего поста. Через год, видимо руководствуясь политическими соображениями, федеральное правительство закрыло его знаменитую лабораторию. Подсчитано, что загрязнение HeLa, обнаруженное Нельсоном-Рисом, стоило налогоплательщикам миллионы долларов. Увы, не исключено, что загрязнение лабораторного материала во всем мире клетками HeLa продолжается по сей день.
В 1953 году генетик Т. Ч. Хсу работал в техасском городе Галвестоне. Ему, как и другим ученым, удалось увидеть хромосомы в клетках в процессе размножения. При этом разглядеть отдельные хромосомы было очень трудно, так как они громоздились одна на другую как соломинки в стогу. Из-за этого генетики допустили грубейшую ошибку. Они решили, что у нормального человека должно быть двадцать четыре пары хромосом в каждой клетке.
В один прекрасный день, изучая клетки, находившиеся в растворе, приготовленном одним из технических сотрудников, Хсу чуть не подпрыгнул от восторга. Оказалось, что именно в этом солевом растворе клетки набухали, и в результате этого уже готовые к делению хромосомы не принимали форму веретена (что является нормой, но затрудняет исследование отдельных хромосом). Клетки, погруженные в новый раствор, выглядели раздутыми, а хромосомы в них располагались далеко друг от друга; после фиксации и окрашивания Хсу смог рассмотреть никогда ранее не изучавшиеся детали их строения
[104].
Хсу долго экспериментировал с новым раствором и всегда получал одинаковые результаты. Раствор оказался невероятно ценным инструментом для изучения клеточных хромосом. Позже Хсу занял довольно высокий пост в знаменитой больнице М. Д. Андерсона в Хьюстоне, но там, к его величайшему удивлению, ему не удалось воспроизвести результаты, полученные в Галвестоне. Заинтригованный этим фактом, он стал расспрашивать технических сотрудников лабораторий в Галвестоне и в Хьюстоне, и выяснилось, что в Галвестоне для приготовления раствора использовалась обработанная в автоклаве
водопроводная, а не специальная, поставляемая в бутылках вода.
Галвестон расположен на острове, и вода туда поступает с материка. Труба тянулась через залив, и, поскольку она была сильно повреждена коррозией, в нее попадала морская вода. Пить водопроводную воду в Галвестоне было практически невозможно, поэтому там процветало производство воды в бутылках. Заинтересованные в этом производстве предприниматели давали коррумпированным чиновникам в городском управлении взятки, чтобы те не чинили водопроводные трубы. Таким образом, на самом деле в 1953 году Хсу открыл, что водопроводная вода в Галвестоне вызывает разбухание клеток — по сей день генетики всего мира используют ее для обработки клеток, чтобы добиться лучшей видимости хромосом.
Хсу изучал клетки мыши, морской свинки, крысы, собаки и аномальной опухоли человека — но, как ни удивительно, не исследовал здоровые человеческие клетки. Спустя несколько лет Дж. X. Тио и А. Леван использовали методику Хсу для изучения клеток человека и обнаружили, что хромосом должно быть не сорок восемь, а сорок шесть
[105].
Методика Хсу помогла выявить целый ряд проблем, связанных с хромосомами: выяснилось, что у человека может быть слишком много или слишком мало хромосом, могут иметься аномальные хромосомы (одним из следствия этого открытия стало развитие генетического консультирования). Эта методика позволяла специалистам, выращивавшим клеточные культуры, определять, нормальными или аномальными были изучаемые ими клетки, и проверять, правильно ли растут клетки с течением времени.
В 1958 году Ричард Хэм из Университета Колорадо заинтересовался средой для выращивания культур. Каждый исследователь в этой сфере использовал специфическую клеточную линию. Хэм, как и многие другие, обратил внимание на то, что среды, применявшиеся для поддержания уже имеющихся клеточных линий, не очень способствовали развитию здоровых клеток, и стал искать среду, которая
могла бы поддержать их рост
[106]. В результате он придумал несколько сред, которые до сих пор применяются и даже носят его имя. В 1976 году в лаборатории Хэма появилась способная аспирантка Донна Пил, выпускница Стэнфордского университета. Пил заметила, что клетки человеческого эпителия плохо растут в существующих средах. Ее внимание привлекли кератиноциты, одна из разновидностей клеток кожи, и она решила разработать питательную среду для эпиталиальных клеток на их основе. Ей удалось убрать все ранее использовавшиеся компоненты среды, за исключением очень малого количества диализированного протеина зародышевой сыворотки коровы. Уже после ухода из лаборатории Хэма Пил смогла избавиться и от последней сыворотки. Таким образом, Хэм и Пил разработали первую полностью синтетическую, полностью поддающуюся химическому контролю среду для выращивания клеток эпителия. Хэм признал, что работа Пил внесла огромный вклад в методику выращивания эпиталиальных клеток, а поскольку большая часть злокачественных образований именно эпиталиального происхождения, она существенно облегчила и исследования рака.
Мы уже писали о том, как обрадовался бы торговец мануфактурой из Делфта Антони ван Левенгук, узнав, что через два века после того, как он открыл существование бактерий, Роберт Кох выяснил, какая из них является причиной туберкулеза. В отличие от Левенгука, Росс Гаррисон имел возможность испытать подлинное удовлетворение, узнав, что его небольшая статья, написанная в 1907 году, легла в основу одного из величайших триумфов медицины: успешного выращивания культуры вируса страшнейшего врага рода человеческого — полиомиелита.
Задолго до того, как Гаррисон придумал способ выращивать культуры тканей, медики стали применять вакцины, изготовленные на основе вирусов, чтобы предупреждать развитие заболеваний, которые вызывались этими вирусами. Мы уже описывали вакцину из материала коровьей оспы, введение которой помогло искоренить натуральную оспу. Мы писали и о том, как Пастер применял ослабленный вирус бешенства, чтобы предотвратить развитие смертельного бешенства у людей. Почему же тогда врачи так долго наблюдали за тем, как бульбарный полиомиелит убивает или калечит сотни тысяч детей и молодых людей, и ничем не могли им помочь? Ответ очень прост: медицина долго не находила надежного способа выращивать вирус, вызывающий эту болезнь (полиовирус), ведь он, как и все остальные вирусы, может существовать и размножаться только в живых клетках.
Но вот в 1936 году появилось сообщение американского вирусолога Альберта Сэбина и его коллег — ученые заявили, что им удалось вырастить вирус полиомиелита
[107]. Сегодня у нас есть основания сомневаться в том, что это был живой вирус. Он был явно лишен способности к размножению, а без этого невозможно получить достаточно вирусного материала для производства вакцины. В любом случае Сэбин больше не занимался этими исследованиями, зато везде и всюду он с присущим ему апломбом вещал, что полиовирусы никогда не удастся вырастить в культуре тканей.
Эти его заявления не обескуражили другого американского ученого — Джона Эндерса. В 1930 году он получил докторскую степень в Гарварде, в этом же университете он проработал всю свою жизнь. В 1939 году Эндерс приступил к работе над вирусами, а восемь лет спустя его пригласили возглавить лабораторию инфекционных болезней в Бостонской детской больнице, тесно связанной с Гарвардом. Еще через два года он вместе с двумя коллегами, T. X. Уэллером и Ф. К. Роббинсом огласил смертный приговор полиомиелиту — им удалось найти способ выращивать смертоносный вирус в культуре тканей
[108].
Эндерс и его коллеги сумели размножить полиовирус в клеточной ткани, причем не только в нервной, но и в мышечной, а также в ткани кишечника. Это открытие имело огромное значение, потому что позже было доказано, что вирус, выращенный не в нервной ткани, теряет губительную для человека силу, но сохраняет все качества, необходимые для приготовления вакцины.
Две страницы первой, ставшей исторической, статьи о полиовирусе, написанной Эндерсом и его коллегами, привели в восторг почти восьмидесятилетнего Росса Гаррисона. Спустя сорок лет после его монументального открытия, именно благодаря ему, будет создана вакцина, способная предотвратить эпидемии таких страшных вирусных заболеваний, как полиомиелит, корь, паротит, коклюш и ветряная оспа! В 1953 году группа Джонаса Солка сообщила о защитных свойствах вакцины, состоящей из частиц инактивированного вируса полиомиелита, полученных путем выращивания в культуре тканей по методу, изобретенному четырьмя годами ранее Эндерсом и его коллегами
[109]. В 1960 году был получен патент на вакцину Сэбина, состоящую из живого, но инактивированного вируса. Не исключено, что благодаря этим двум вакцинам к 2010 году полиомиелит исчезнет с лица нашей планеты
[110].
В 1954 году, когда Эндерс, Уэллер и Роббинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за «открытие способности вируса полиомиелита расти в культурах различных типов тканей», Гаррисон был еще жив. Идея включить в число номинированных на премию двух молодых коллег (к моменту открытия Уэллер и Роббинс были всего лишь докторантами) принадлежала Эндерсу — будучи истинным джентльменом, он настоял на том, чтобы их заслуги были признаны наряду с его собственными. Гаррисон, дважды выдвигавшийся на Нобелевскую премию, был счастлив, что ее присудили Эндерсу и его сотрудникам. И не было в ученом мире человека, понимавшего лучше Гаррисона, что первым шагом к этому великому триумфу науки стал описанный им в далеком 1907 году рост живого нервного волокна в лимфе лягушки!
Глава 8
Николай Аничков и холестерин

Николай Аничков
(1885–1964)
Спросите любого зоолога или эпидемиолога, какое животное убило и убивает до сих пор больше всего людей, и без всякого сомнения вам ответят: «Кобра». Несмотря на множество антитоксических средств, жертвами этой змеи ежегодно становятся от пяти до десяти тысяч жителей Индии. Герпетологи считают наиболее опасной не относительно длинную (10–15 футов), а короткую (5 футов) индийскую очковую кобру. Эта змея в темноте проникает в дома в поисках мышей и крыс и при случайной встрече с ничего не подозревающим человеком вонзает в него свои смертельные зубы.
Специалисты ошибаются. На протяжении тысяч лет самым страшным врагом человечества была и остается безопасная с виду курица. Она убивает не клыками и не когтями, у нее совсем другое орудие убийства. Дело в том, что в желтке куриного яйца содержится в десять раз больше холестерина
[111], чем в таком же по весу куске говядины, свинины, рыбы или даже куриного мяса. Другого органа или ткани (за исключением мозга) с подобным содержанием этой смертельной субстанции просто не существует.
При этом, в отличие от мозга, который люди в цивилизованном мире употребляют в пищу относительно редко, яичные желтки присутствуют в наших супах, соусах, выпечке, хлебе, макаронных изделиях, мороженом и даже в наших напитках (вспомните о различных молочных коктейлях и гоголь-моголях). Даже лишившись правой руки, современный повар все равно сможет стряпать изысканные блюда; если ему не удастся самостоятельно отделить желтки от белков, он воспользуется специальными заготовками (конечно, скрепя сердце).
В этой главе мы расскажем о том, как изучение куриного желтка привело к тому, что холестерин был признан смертельно опасным. Мы также попытаемся объяснить, почему это открытие, сделанное более восьмидесяти лет назад, до сих пор не до конца признано некоторыми учеными.
Миллионы людей, живших на Земле в разные времена, умирали от артериосклероза — болезни, приводившей к закупорке коронарных, мозговых или висцеральных артерий, однако на протяжении столетий эта болезнь не привлекала особого внимания ученых. Даже когда в 1799 году великий английский врач Калеб Парри опубликовал свои данные о том, что закупорка венечных артерий приводит к развитию стенокардии, его результаты не вызвали большого интереса
[112].
В XIX веке интерес к проблеме артериосклероза вырос, но проведению настоящих исследований мешали противоречия по поводу причины заболевания. Первая, преобладавшая точка зрения заключалась в том, что артериосклероз представляет собой просто одно из проявлений процесса старения, а вовсе не является заболеванием. Согласно второй точке зрения, сторонником которой был один из лучших патологоанатомов XIX века немец Рудольф Вирхов, артериосклероз, безусловно, отдельное заболевание, но причина его в каком-то серьезном нарушении метаболизма в самой артерии
[113]. Третья точка зрения, которую ревностно отстаивал австрийский патологоанатом Карл Рокитанский, состояла в том, что процесс артериосклероза является следствием прилипания к стенкам артерии сгустков, постепенно превращающихся в типичные артериосклеротические бляшки
[114].
Приверженцы каждой из трех противоречащих друг другу теорий настолько не сомневались в своей правоте, что даже не пытались решить проблему экспериментально, путем воспроизведения болезни у животных. Разглядывая пораженные артериосклерозом сосуды как невооруженным взглядом, так и под микроскопом, в увиденной картинке каждый находил подтверждение собственным теориям.
Помимо споров о причине артериосклероза, существовали и разногласия по поводу того, какой
именно слой артерии в первую очередь поражается патологическим процессом. Одни полагали, что процесс начинается во внутреннем, выстилающем слое, так называемой интиме артерии, а другие настаивали на том, что первым поражается средний, мышечный, слой. А были и такие патологоанатомы, которые утверждали, что процесс артериосклероза начинается с внешнего слоя, или адвентиции, артерии.
Первый по-настоящему крупный шаг в изучении проблемы сделал немецкий патологоанатом Ф. Маршан, в 1904 году предложивший для описания нарушения, которое, как он твердо верил, начинается с внутреннего слоя артерии, термин «атеросклероз»
[115]. Тем самым Маршан провел дифференциацию между этим поражением и прочими, начинающимися с других слоев артерии. Первое предположение о возможном участии холестерина в патогенезе заболевания появилось после того, как в 1910 году другой немецкий ученый (и будущий нобелевский лауреат) А. Виндаус сообщил, что в местах атероматозных поражений содержится в шесть раз больше свободного холестерина, чем в нормальной стенке артерии, а этерифицированного холестерина — в двадцать раз больше
[116].
Хотя ретроспективно мы можем признать важность этих двух исследований, ни одно из них не привело к выявлению основной причины атеросклероза — ее нашла маленькая группа молодых русских ученых, сосредоточивших свои усилия на изучении такого внешне безобидного объекта, как куриное яйцо. Лидером этой группы стал замечательный ученый Николай Аничков.
Николай Аничков родился в Санкт-Петербурге 3 ноября 1885 года. Его отец принадлежал к древнему и знатному роду. Первый Аничков попал на Русь с Золотой Ордой; известно, что он принял крещение в 1301 году. Прадед ученого в 1746 году получил дворянство; в XIX веке большинство Аничковых-мужчин были офицерами. Отец Николая, однако, нарушил эту традицию — пошел по гражданской линии, стал товарищем министра просвещения, позже сенатором и действительным тайным советником. Его жена, мать Николая Аничкова, была дочерью крупного деятеля Русской церкви Иосифа Васильева, построившего православный собор Александра Невского на улице Дарю в Париже. Это была достойная во всех отношениях женщина — преданная жена и прекрасная мать.
В 1903 году Николай Аничков, рано обнаруживший незаурядные способности, блестяще окончил гимназию — с золотой медалью. Сразу после этого его приняли в Императорскую военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге — старейшее и самое престижное медицинское учебное заведение в тогдашней России. Учась в академии, он углублял свои знания, одновременно работая в отделении патологической анатомии. В 1912 году он получил докторскую степень.
Огромной удачей для Аничкова стало то, что в 1908 году в академии проводил свои эксперименты врач А. И. Игнатовский, пытавшийся впервые в истории вызвать атеросклероз у подопытных животных. С этой целью он кормил кроликов смесью яиц и молока. Можно представить себе радость ученого, когда через несколько недель такой диеты он обнаружил в аортах кроликов такие же серовато-белые бляшки, какие наблюдались у людей. Ему впервые удалось экспериментальным путем воспроизвести атеросклеротические бляшки.
Игнатовский ошибочно полагал, что спровоцированный им атеросклероз развивался под действием протеинов, содержавшихся в молоке и яйцах. Он опубликовал свои выводы
[117], но по каким-то причинам не продолжил опыты.
Аничков и его подчиненные в отделении патологической анатомии заинтересовались результатами Игнатовского. Один из молодых сотрудников, Н. В. Стуккей, вероятно, по предложению Аничкова, повторил опыт Игнатовского — однако он разделил кроликов на три группы, получавшие разные диеты. Первая группа получала к корму добавки в виде жидкой вытяжки из мяса, вторая — яичные белки, а третья — желтки. Стуккей обнаружил, что атеросклеротические бляшки развивались только в аортах кроликов, получавших желтки. Этот факт ясно свидетельствовал о том, что причиной атеросклероза была вовсе не богатая белками пища, как полагал Игнатовский. Судя по всему, развитие одной из самых коварных болезней человека зависело от какого-то вредоносного вещества, содержавшегося в яичном желтке
[118].
«Необходимо определить, какой компонент желтка потенциально способен привести к развитию заболевания» — так, наверное, подумал молодой Аничков, потому что, ознакомившись с выводами Стуккея, он сразу решил продолжить опыты по скармливанию желтков кроликам, а затем провести анализ атеросклеротических бляшек на предмет выявления в них повышенной концентрации какой-либо химической субстанции.
Поскольку сам Аничков в это время заканчивал свою докторскую диссертацию, посвященной воспалительным заболеваниям миокарда, работы по кормлению кроликов желтками и изучению развивавшихся в аорте атеросклеротических бляшек выполнял, под его руководством, другой ученый — С. Халатов. Обследуя кроликов, питавшихся желтками, он выявил интересный феномен. В их бляшках обнаруживалось великое множество капелек, схожих с жировыми (липидными) и обладавших определенными оптическими свойствами. Такие же липидные капельки в изобилии присутствовали и в печени подопытных кроликов
[119].
И Халатов, и его наставник Аничков прекрасно знали, что эти физические свойства присущи холестерину; они также знали, что этими же свойствами обладает и другая химическая субстанция — фосфолипид. Более того, нельзя было исключить вероятность того, что липидные капельки появлялись вследствие разрушения стенки аорты или печени.
Видимо, получив эти результаты, Аничков и Халатов пришли к выводу, что ответственность за развитие атеросклероза у кроликов, получавших яичные желтки, несет содержащийся в желтках холестерин. На этом основании они стали давать кроликам пищевую добавку, состоявшую из чистого холестерина, а через несколько недель умертвили кроликов и исследовали их артерии. То, что увидели и описали эти два врача в 1913 году, стало одним из десяти величайших открытий медицины: русские ученые обнаружили, что холестерин не просто вреден для здоровья, а является главным фактором в развитии атеросклероза
[120].
За открытия атерогенных свойств холестерина, поглощаемого с пищей, Аничков получил в качестве вознаграждения возможность стажировки за рубежом. Он уехал в Германию и поступил на работу в лабораторию Людвига Ашоффа, считавшегося в то время самым выдающимся немецким патологоанатомом. А через четырнадцать месяцев началась Первая мировая война; Аничкову, как подданному Российской империи, грозило тюремное заключение. Но тут помог сам Ашофф — благодаря ему Аничков сумел уехать в Швейцарию, а затем вернуться в Санкт-Петербург, и в 1914 году он приступил к работе на факультете Военно-медицинской академии. В 1916 году Аничков ушел на фронт — работал старшим врачом военно-санитарного поезда. В 1917 году он вступил в большевистскую партию и до конца оставался убежденным коммунистом.
В 1920 году его назначили руководителем отдела общей патологии Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге, и этот пост он занимал до последних дней своей жизни. Он принимал участие во многих медицинских исследованиях, включая продолжавшиеся в течение двадцати лет исследования инфекционных болезней, заживления ран и ретикулоэндотелиальной системы. В 1939 году он был избран в Академию наук СССР, самое влиятельное научное общество страны.
В 1941 году он вместе со всем коллективом Военно-медицинской академии был эвакуирован из Ленинграда в безопасный Самарканд, где находился до окончания войны. В 1945 году он стал генерал-лейтенантом, то есть получил самое высокое воинское звание, доступное для врача.
Вернувшись в 1945 году в Ленинград, Аничков снова возглавил отдел общей патологии в академическом институте. В России он был признанным авторитетом в патологоанатомии, и эта репутация была основана не только на исследованиях холестерина. Аничков внес огромный вклад в патологическую анатомию, в частности в изучение особых клеток, обнаруживаемых главным образом в капиллярах печени и селезенки и чья роль не выяснена до конца и по сей день. Выдающийся русский ученый умер в 1964 году — инфаркт миокарда.
Следует подчеркнуть, что ни участие в Первой и Второй мировых войнах, ни активная политическая деятельность под эгидой коммунистической партии, ни проведение различных научных исследований, которые ему приходилось возглавлять в качестве заведующего отделом патологии, не заставили его забыть о сделанном им в 1912 году открытии, согласно которому холестерин, поглощенный с пищей, вызывал атеросклероз у кроликов (и морских свинок). В период между двумя войнами ему удалось продолжить исследование по этой проблеме.
В 1924 году Аничков несколько изменил свое первоначальное мнение и предложил так называемую комбинационную теорию этиологии атеросклероза. Аничков допускал, что холестерин, поступающий в организм человека с пищей, является не единственной причиной атеросклероза. Он подчеркивал, что по крайней мере у 10 % кроликов, поглощавших большое количество холестерина, так и не развился атеросклероз и не отмечалось повышения уровня холестерина в крови (т. е. не развивалась гиперхолестеринемия). Этот факт навел Аничкова на мысль о том, что одного лишь пищевого холестерина недостаточно, чтобы вызывать атеросклероз — у кроликов должна еще развиться гиперхолестеринемия.
Он допускал также, что и у людей атеросклеротический процесс может усугубляться под влиянием повышенного давления (гипертонии) и воспалительных процессов, поражающих непосредственно внутренний слой артерии. При этом Аничков настаивал на ключевой роли холестерина, поступающего с пищей.
Несмотря на многочисленные публикации в 1950-х годах, имя Аничкова оставалось относительно малоизвестным для европейских и американских ученых. Еще несколько десятилетий назад медицинское сообщество было плохо осведомлено об открытии, имеющем такое колоссальное значение. Даже в 1990-х годах находились исследователи, вовсе не убежденные в том, что яйца и другие богатые холестерином продукты представляют опасность для здоровья. И тому были основания. Во-первых, хотя Аничкову и удалось искусственно вызвать атеросклероз у кроликов и морских свинок путем обогащения их пищи холестерином, он не смог добиться развития изменений в артериях крыс, независимо от того, какое количество холестерина им скармливали. Здоровыми оставались и артерии собак, получавших пищу с высочайшим содержанием холестерина. Аничков объяснял эти исключения тем, что ни у одной крысы или собаки, поедавших богатый холестерином корм, не развивалась гиперхолестеринемия. Кроме того, он отмечал, что собаки и крысы всеядны, тогда как кролики и морские свинки по природе своей вегетарианцы. Конечно, это обстоятельство изначально заставило его задуматься над тем, применимы ли выводы, полученные на кроликах, к людям, таким же всеядным, как крысы и собаки. Если бы в 1912 году Аничкову удалось вызвать атеросклеротический процесс у крыс и собак, все сомнения относительно роли поглощаемого с пищей холестерина в развитии атеросклероза сразу бы отпали. Однако должно было пройти еще более тридцати лет, прежде чем А. Стейнер и Ф. Э. Кендалл показали, что при определенных условиях кормление собак большим количеством холестерина приводит к развитию гиперхолестеринемии и, как следствие, атеросклероза
[121]. Что касается крыс, то, независимо от того, сколько холестерина они съедают, вызвать у них гиперхолестеринемию или атеросклероз не удалось по сей день.
Второй причиной того, что открытие Аничкова не было признано и использовано в работе западными учеными, можно считать то обстоятельство, что ведущие ученые того времени не уделяли должного внимания проблемам этиологии или патогенеза аортального или коронарного атеросклероза. Электрокардиограмма стала широко применяться в клинической практике только в середине 1920-х годов; примерно тогда же стали чаще диагностировать сердечные приступы. Таким образом, хотя открытие Аничкова о роли холестерина в развитии атеросклероза и находило подтверждение в трудах отдельных исследователей, например К. Г. Бейли (1916) и Тимоти Лири (1935)
[122], в целом о нем мало кто знал. Разрешению ситуации никак не способствовало и то, что один из самых выдающихся врачей Америки, Сома Вейсс, вместе с нобелевским лауреатом Джорджем Майнотом написали статью, где оспаривали патогенетическую значимость пищевого холестерина
[123]. Тот факт, что авторы никогда не проводили соответствующих исследований, никого не волновал.
Можно найти и другие причины того, что открытие Аничкова оставалось непризнанным в течение сорока лет. Давным-давно лорд Байрон написал Гете, что тому повезло — потомкам будет легко выговаривать его имя. Вряд ли Байрон смог бы поздравить с тем же Аничкова. Люди, чьи имена и фамилии трудно произнести и написать без ошибки, редко остаются в памяти потомков, какими бы великими ни были их достижения. И, конечно, имеет значение и тот факт, что европейские и американские ученые не были знакомы с Аничковым, а медицинская школа, к которой он принадлежал, будучи одной из самых уважаемых в России, не относилась к числу научных центров, известных на Западе.
Кроме того, Аничков и его коллеги писали почти все свои работы на русском, а ученые других стран не владели этим языком. Единственными источниками сведений об открытии холестерина в американской литературе были написанная Аничковым глава в вышедшем в 1933 году первом издании книги Э. В. Каудри «Атеросклероз: обзор проблемы» и аналогичная глава во втором издании той же книги, увидевшем свет в 1967 году, через три года после смерти Аничкова.
Несмотря на то что на Западе работы Аничкова долгое время были неизвестны, уже в 1930–1940-х годах у многих ученых возникали подозрения относительно роли холестерина в заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В 1930-х годах врачи стали замерять уровень холестерина в крови, и людям с его повышенным уровнем рекомендовали ограничить потребление продуктов, богатых холестерином, особенно яиц. Два открытия, сделанные в 1950-х годах, и опубликованная в то же время статья способствовали возрождению интереса к проблеме.
Первым из трех «прорывов» стала работа Джона Гофмана и его сотрудников, появившаяся в 1950 году в журнале «Science»
[124]. Впервые в истории самый влиятельный научный журнал в США обратился к проблеме холестерина как субстанции, повреждающей артерии.
Прежде всего Гофман напомнил о приоритете Аничкова, открывшего, что кормление кроликов холестерином быстро приводит к развитию атеросклероза у этих животных. Использовав ту же методику, группа Гофмана подтвердила правильность выводов Аничкова: у их кроликов, получавших обогащенный холестерином корм, очень быстро появились признаки болезни. Однако американские ученые сделали то, чего не мог сделать Аничков в 1912 году: они разработали центрифугу, способную вращать препараты с невиданной ранее скоростью — 40 000 оборотов в минуту.
Когда эту фантастическую центрифугу применили для исследования сыворотки кроликов с гиперхолестеринемией, оказалось, что содержащийся в ней холестерин разделяется на два компонента. Первая фракция, которую исследователи назвали холестерином липопротеинов низкой плотности, всплывала на поверхность образцов сыворотки. Вторая холестеринсодержащая фракция, названная липопротеинами высокой плотности, оседала на дне.
По сути дела, фракции липопротеинов низкой и высокой плотности содержали одни и те же молекулы (холестерин, протеин, фосфолипид и триглицерид), однако во фракции с низкой плотностью было больше триглицерида и меньше протеина (что и приводило к снижению плотности), чем во фракции с высокой плотностью. Группа Гофмана обнаружила также, что, если в крови здоровых кроликов холестерин содержался почти исключительно в липопротеинах высокой плотности, большая часть холестерина в крови кроликов, получавших холестериновую диету и пораженных атеросклерозом, содержалась в комплексах липопротеинов низкой плотности.
Обнаружив холестерин липопротеинов низкой плотности у кроликов, выкормленных на холестериновой диете и приобретших в результате гиперхолестеринемию и атеросклероз, Гофман с сотрудниками с помощью своей замечательной центрифуги изучили сыворотку крови 104 мужчин, выживших после сердечного приступа (вызванного, разумеется, атеросклерозом коронарных артерий), и 94 здоровых мужчин. В сыворотке крови 101 из 104 больных коронарным атеросклерозом отмечалось большое содержание холестерина тех же самых липопротеинов низкой плотности, что и в крови кроликов, получавших в пищу холестерин и пораженных атеросклерозом. С другой стороны, в сыворотке здоровых молодых мужчин таких молекул почти не было. Аналогичные результаты были получены и при обследовании здоровых женщин и женщин, страдавших ишемической болезнью.
Кроме этого, группа Гофмана обнаружила, что, в то время как у мужчин с гиперхолестеринемией концентрация холестерина липопротеинов низкой плотности сильно повышается, те же молекулы могут обнаруживаться и в крови мужчин с нормальным содержанием общего холестерина. Исследователи предположили, что именно этим и объясняется тот факт, что у достаточно большого числа мужчин, перенесших инфаркт, содержание
общего холестерина в крови было нормальным или даже низким. Они допускали, что диета с повышенным содержанием холестерина может еще больше повысить содержание холестерина липопротеинов низкой плотности у тех людей, у которых он уже присутствует в крови.
Публикация данных Гофмана в буквальном смысле этого слова открыла врачам и обывателям глаза на опасность, связанную с пищевым холестерином. Использование технически сложного прибора, ультрацентрифуги, для изучения медицинской проблемы привлекло внимание средств массовой информации уже и потому, что это стало первым серьезным вкладом физики в медицину после того, как в 1895 году Рентген обнаружил свои Х-лучи.
К тому же установление факта, что атерогенным на первый взгляд является не холестерин как таковой, а его особый вид (холестерин липопротеинов низкой плотности), могло объяснить, почему сердечные приступы так часто развиваются у людей, у которых уровень общего холестерина в крови даже ниже принятой нормы.
Все эти данные, широко обсуждавшиеся в прессе, раздражали некоторых кардиологов старой школы. Признавая, что холестерин играет существенную роль в развитии ишемической болезни сердца, эти врачи тем не менее не принимали всерьез теорию вредоносности лишь какого-то одного типа холестерина. Группа Гофмана, агрессивно настаивавшая на том, что сердечное здоровье американской нации зависит именно от количества холестерина липопротеинов низкой плотности (а не общего холестерина) в крови, предложила провести эпидемиологическое исследование, в ходе которого следовало бы установить уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности в крови тысяч американцев, не страдающих болезнями сердца. Затем в течение многих лет предполагалось наблюдать за этой большой группой людей, чтобы понять, какой именно показатель —
общего холестерина или холестерина липопротеинов низкой плотности — позволяет более точно предсказать сердечные заболевания, угрожающие в будущем кому-то из обследованных.
Были созданы различные национальные комитеты, предназначенные для наблюдения за этим широко разрекламированным исследованием. Для измерения фракции холестерина липопротеинов низкой плотности в крови всех участников эксперимента задействованы десятки поражающих воображение ультрацентрифуг. Язвительные замечания в адрес исследователей не заставили себя долго ждать, и группа Гофмана начала в открытую жаловаться на то, что среди людей, проводивших измерения, преобладали сторонники тех, кто полагал, что показатель общего холестерина имеет не меньшую, а то и большую прогностическую значимость, чем показатель уровня холестерина липопротеинов низкой плотности. Для проверки этих жалоб был даже создан специальный комитет во главе со знаменитым кардиологом Полом Дадли Уайтом из Гарвардского университета.
Как часто случается с эпидемиологическими исследованиями, результаты оказались довольно противоречивыми. Вероятность развития инфаркта у людей с высоким уровнем общего холестерина была примерно такой же, как и у людей с высоким содержанием холестерина липопротеинов низкой плотности. Несмотря на то что прогностическая ценность обеих форм холестерина, установленная в ходе этого слабо организованного исследования, оказалась примерно одинаковой, большинство ученых сознавали, что при повышении уровня общего холестерина в крови ответственность за это повышение нес скорее холестерин липопротеинов низкой плотности, нежели холестерин липопротеинов высокой плотности. Это, казалось бы, подтверждало вывод о том, что высокое содержание холестерина липопротеинов низкой плотности является потенциально атерогенным.
Результаты новых эпидемиологических исследований, проведенных в 1960–1970-х годах, снова «напомнили» о потенциальной опасности холестерина липопротеинов низкой плотности. Сегодня большинство ученых, занимающихся проблемами атеросклероза, называют холестерин липопротеинов низкой плотности «плохим», а холестерин липопротеинов высокой плотности — «хорошим», но лишь немногие помнят о том, что впервые об этом разделении заговорили Джон Гофман и его сотрудники.
Вторым важнейшим достижением, также относящимся в 1950-м годам и давшим толчок тысячам новых исследований, стало открытие, сделанное в 1952 году группой ученых под руководством Лоуренса Кинселла. Им удалось показать, что при употреблении в пищу растительных продуктов и отказе от животных жиров в крови у большинства людей происходит снижение уровня холестерина. Результаты этой работы были подтверждены исследованиями Э. Г. Аренса и его сотрудников, установивших, что холестеринпонижающий эффект пищевых растительных жиров связан с относительно низким содержанием в них насыщенных жирных кислот
[125].
Работа Кинселла заложила основы ситуации, существующей до наших дней. Сегодня миллионы людей во всем мире стараются заменить животные жиры в своей пище растительными. Эта тенденция способствовала бурному, многомиллиардному росту отраслей пищевой промышленности, предлагающих продукты, обогащенные ненасыщенными жирами.
Нельзя сказать, что пионерская работа Кинселла принесла ему большую выгоду. Он всегда полагал, что проводить исследования следует только на людях, и его подопечные, сидевшие на овощных и фруктовых диетах, занимали десять коек. К сожалению, в многопрофильной больнице калифорнийского города Аламеда, где работал Кинселл, коек постоянно не хватало. К тому же его исследование (несмотря на подтверждение результатов) не производило достаточного впечатления ни на администрацию клиники, ни на коллег-врачей, и вскоре ему просто отказали в выделении коек. Добавим к этому, что Кинселлу не удалось получить финансовую поддержку для продолжения работы ни в одном фонде — не исключено, что причиной стало проведение экспериментальной работы в больнице, чьи врачи до того не внесли заметного вклада в науку.
Потерпев неудачу, Кинселл впал в глубокую депрессию. Однажды утром он позвонил своей секретарше и вызвал ее к себе домой. Приехав туда, женщина обнаружила трупы Кинселла и его супруги — они приняли цианистый калий.
Было бы замечательно, если бы какая-то из огромных корпораций, зарабатывающих миллионы долларов от продажи разнообразных продуктов питания на животных жирах, учредила бы для ученых стипендию имени Кинселла. Сегодня же о нем напоминает лишь его невероятная важная для медицины статья 1952 года.
Третьим событием 1950-х годов, заставившим ученых и врачей снова подумать о возможной связи между пищевым холестерином и ишемической болезнью, стало не лабораторное исследование, а удивительная статья, напечатанная в 1958 году в официальном органе Американской ассоциации кардиологов, в журнале «Circulation» («Кровообращение»)
[126]. А написал ее Уильям Док, тогдашний руководитель отделения патологии Медицинской школы при Стэнфордском университете.
Статья получилась яркой, искренней и многословной — точно таким был и сам Док. Он резко критиковал исследователей в области кардиологии за то, что они в течение полувека не вспоминали о работах Аничкова и его коллег. В своей статье Док писал: «Таким образом, ранняя работа Аничкова заслуживает сравнения с работами Гарвея по кровообращению и работами Лавуазье по дыхательному процессу превращения кислорода в двуокись углерода». Может быть, такое сравнение покажется несколько преувеличенным, однако Док в своей статье не скупился — ни на преувеличения, ни на насмешки. Он упрекал ученых-медиков не только за то, что они пренебрегали выводами Аничкова и его коллег — более тридцати статей, увидевших свет уже после публикации результатов россиян, остались без внимания! Во всех этих работах говорилось об одном: пищевой холестерин играет ключевую роль в развитии атеросклероза в артериях — и крупных, и мелких.
Результаты эпохальных открытий групп Гофмана и Кинселла, а также превосходная редакционная статья Дока заставили сотни ученых (в первую очередь — американских) всерьез заинтересоваться патофизиологией атеросклероза и его связью с холестерином. Исследования, проведенные в 1960–1970-х годах, увенчались открытием путей поглощения холестерина из кишечника, его прохождения из кишечника в кровь через грудной лимфатический проток и его окончательной адсорбции из крови печенью. Кроме того, были изучены процессы синтеза и разложения холестерина в печени.
Ученые доказали, что уровень холестерина в крови определяется не только количеством этого вещества, поступающим с пищей. В 1958 году было установлено, что на уровень холестерина в крови сильно влияет эмоциональный стресс
[127]. В 1983 году М. С. Браун и Дж. Л. Голдстейн открыли ключевой механизм контроля уровня холестерина в крови, заключенный, по всей видимости, в определенных типах липопротеиновых холестериновых рецепторов, которые располагаются главным образом в поверхностных мембранах клеток печени. Именно эти рецепторы контролируют скорость выхода молекул холестерина различных липопротеинов из крови. Функция этих рецепторов предопределена генетически, но на нее могут влиять некоторые гормоны и лекарства
[128].
Помимо многочисленных исследований, в центре внимания которых находится собственно холестерин, в настоящее время активно изучаются коронарные артерии. Сам Аничков указывал в одной из своих статей, что местные изменения во внутреннем выстилающем слое артерий могут оказывать существенное влияние на атеросклеротический процесс
[129].
При всей значимости проведенных лабораторных исследований, попытки определить, соотносится ли поступление холестерина с пищей в большой группе или даже в целой популяции с уровнем смертности от ишемической болезни в этой группе или популяции, убедительных результатов не дали. Конечно, проводившиеся исследования обеспечили занятость сотням медиков и специалистов других профессий, но их результаты можно в лучшем случае назвать неопределенными. Выводы эпидемиологических исследований, на которые тратились миллионы долларов, были настолько противоречивыми и запутанными, что новые группы эпидемиологов настояли на проведении так называемых метаанализов. Они обобщали несопоставимые друг с другом результаты десятков предыдущих эпидемиологических исследований, проведенных в разных группах и популяциях, чтобы выявить какие-либо определенные закономерности. Увы, большинство метаанализов также не принесли желаемых результатов.
Фундаментальная ошибка всех исследований, проводившихся в разных группах и популяциях, состояла в том, что их авторы не принимали в расчет некоторые факторы, не поддающиеся измерению и введению в компьютерные программы. Например, смертность от коронарной болезни в разных группах может вырасти под влиянием множества факторов, никак не связанных с количеством поступающего с пищей холестерина. В частности, ранние эпидемиологические исследования совершенно не учитывали психологические факторы, признанные недавно факторами риска развития коронарной болезни. Эта дорогостоящая ошибка была сделана не только потому, что факторы такого рода нелегко измерить в единицах, приемлемых для компьютерных вычислений, но и потому, что сами эпидемиологи не имели достаточной информации о клинических и социологических характеристиках обследуемых больных. В конце концов, если люди долго работают с компьютерами, они и сами начинают думать как компьютеры.
Сегодня большинство кардиологов убеждены в правоте Аничкова, утверждавшего, что холестерин, поступающий в организм с пищей, способствует развитию атеросклероза. Согласны они и с высказанным позже мнением Аничкова о том, что в окончательном закрытии коронарной или мозговой артерии свою роль играют и другие факторы. Эмоциональный стресс, гипертония, курение, врожденные или генетически детерминированные нарушения в работе клеточных липопротеиновых рецепторов и такие болезни, как диабет, — все эти факторы оказывают то или иное влияние на развитие атеросклероза. И все же Аничков был совершенно прав, говоря о том, что богатая холестерином пища является основным фактором, вызывающим самое опасное из заболеваний современного человека. Трагедия состояла в том, что в отличие от Х-лучей, открытых Рентгеном, открытие Аничкова оставалось незамеченным на протяжении многих десятилетий. И даже сегодня, хотя всем известно, что не хлебом единым жив человек, очень маловероятно, чтобы люди отказались от яиц и множества других продуктов питания, богатых холестерином.
Глава 9
Александр Флеминг и антибиотики

Александр Флеминг
(1881–1955)
В 1875 году знаменитый английский физик Джон Тиндаль был всецело поглощен некой научной проблемой, которая его чревычайно занимала, — он пытался понять, распределяются ли бактерии в воздухе равномерно или же образуют скопления, своего рода «облака». Допустим, что бактерии равномерно распределяются в атмосфере, рассуждал Тиндаль; тогда, если оставить открытыми несколько пробирок с питательной средой, бактерии из воздуха попадут во все эти пробирки, размножатся там и жидкость в пробирках помутнеет. Однако если бактерии собраны в «облака», загрязненными окажутся лишь отдельные пробирки.
Основываясь на этих рассуждениях, Тиндаль расставил сто пробирок с бульоном на небольшом расстоянии друг от друга. На следующий день он увидел, что во многих пробирках бульон остался чистым. Значит, сделал вывод ученый, бактерии в воздухе распределены неравномерно.
А через двадцать четыре часа после начала эксперимента Тиндаль обратил внимание на куда более важное обстоятельство. На поверхности питательного бульона в некоторых пробирках образовалась «изумительно красивая» плесень (
Penicillium). Кроме того, между плесенью и бактериями шла ожесточенная борьба, и «в каждом случае, где плесень была толстой и плотной, бактерии погибали или прекращали свою деятельность, падая на дно в виде осадка»
[130].
Можно задаться вопросом: почему Тиндаль, увидевший, что изумительно красивая плесень (теперь мы знаем, что речь шла о
Penicillium notatum) способна разрушать бактерии, удовольствовался тем, что описал ее физическую красоту и бактерицидные способности, но не стал утруждать себя изучением второго феномена?
Причина совершенно ясна. Тиндаль открыл антибактериальные способности
Penicillium за семь лет до того, как в 1882 году Роберт Кох доказал, что бактерии могут вызывать болезни. Если бы Тиндаль знал, что причиной большинства инфекционных болезней являются бактерии, очень маловероятно, что его по-прежнему занимал бы характер распределения бактерий в воздухе. Скорее, он сразу сообщил бы о своих наблюдениях друзьям-медикам. Но, поскольку он и не подозревал о связи между бактериями и инфекциями, то спокойно ограничил свои наблюдения несколькими короткими фразами, затерявшимися в семидесятичетырехстраничной статье, где описывалось распределение бактерий и других частиц в атмосфере.
Следующие пятьдесят четыре года ознаменовались лишь тем, что в 1896 году молодой французский студент сообщил, что животные, получившие прививку вирулентных бактерий и
Penicillium glaucum, чувствовали себя гораздо лучше, чем животные, которым вводили только вирулентные бактерии
[131], а в 1925 году Д. А. Гратиа из Льежского университета описал распад бацилл сибирской язвы под действием вещества, полученного из плесени
Penicillium.
За это время в практику медицины были введены и стали применяться сывороточные антитела, для лечения сифилиса начали использовать сальварсан, но в целом врачи мало чем могли помочь людям, страдающим от серьезных инфекционных болезней. Они могли ампутировать пораженную гангреной ногу и удалить воспалившийся аппендикс или желчный пузырь, но эти проблемы встречались лишь у немногих больных. Чаще всего врачи просто ждали, что иммунная система больного сама справится с инфекцией; если же этого не случалось, больной умирал. Так обстояло дело с лечением инфекций.
А теперь вспомним, как Александр Флеминг в сентябре 1928 года повторно открыл плесень вида
Penicillium.
Алескандр Флеминг родился в Шотландии, в городке Лохфилд, в 1881 году. Он вырос на ферме, а образование получил в одной из тех великолепных школ, которыми так гордились жители Среднешотландской низменности во времена королевы Виктории. Именно в школьные годы он на всю жизнь увлекся плаванием и стрельбой
[132].
Окончив Лондонский университет, Флеминг выбрал для дальнейшего постижения медицинской профессии госпиталь Святой Марии — ранее он встречался со студентами этого госпиталя на спортивных соревнованиях. В 1906 году, в день своего рождения, он получил диплом врача. Его приняли на должность ассистента в отделение вакцинации госпиталя Святой Марии не только на основании хороших оценок в дипломе, но и с целью укрепления больничной команды по стрельбе. (В этом госпитале Флеминг проработал до 1955 года — он умер через три месяца после выхода на пенсию.)
Вскоре Флеминг стал заместителем руководителя отделения вакцинации и оставался в этой должности до самого выхода на пенсию. Его руководитель, сэр Олмрот Райт, обладал многими качествами, которых не хватало Флемингу. Райт был высокомерным и авторитарным, Флеминг — скромным и застенчивым; Райт произносил яркие и убедительные речи, Флеминга в отделении считали бесцветным, скучным лектором. Райт раздражался, когда ему приходилось вникать в мелкие детали управления отделением, Флеминг же обожал эту работу. Рядом с большим, величественным Райтом невысокий Флеминг просто терялся. Короче говоря, какое бы прилагательное мы ни взяли, чтобы описать Райта, для описания Флеминга следует подобрать его антоним. В свое время кто-то сказал, что, стоило генералу Джорджу Маршаллу войти в комнату, как все немедленно ощущали его присутствие. Когда Флеминг приходил на встречу со своими коллегами или уходил с этой встречи, его присутствие, как и его отсутствие, оставалось незамеченным.
Как ни странно, выйдя из лаборатории, он, оставаясь все таким же невысоким и худым, превращался в совершенно иного человека. По пути домой он часто заходил в художественный клуб в Челси. Там он встречался с выдающимися лондонскими художниками, многие из которых болели сифилисом и были его пациентами (Флеминг считался одним из ведущих специалистов по лечению этой ужасной болезни). Зачастую художники расплачивались с ним не деньгами, а картинами. Таким образом, Флемингу удалось собрать большую коллекцию произведений самых известных лондонских живописцев того времени.
Кроме того, лечение сифилиса принесло ему такие деньги, что он не только имел возможность жить с женой Амелией и детьми в роскошной квартире в Челси, но и приобрел большое загородное поместье с маленькой речкой и огромным садом. Флеминг сам ухаживал за ним, выращивал овощи для семейного стола, а к ужину часто подавали рыбу, выловленную хозяином в его собственной речке. За пределами лаборатории он становился веселым и общительным и частенько с удовольствием приглашал гостей в свой загородный дом или в дорогие лондонские рестораны.
И вот, случилось так, что споры
Penicillium notatum, упавшие в пробирки Тиндаля полвека назад, точно таким же образом, то есть случайно, попали в чашку Петри, которую Флеминг открыл, чтобы поместить туда мазок стафилококка.
Тиндаль оставлял свои пробирки с культурой открытыми в лаборатории на целые сутки, и у рассеянных в воздухе спор
Penicillium имелось достаточно времени, чтобы попасть в пробирку и начать размножаться. Флеминг же открыл чашку Петри буквально на несколько секунд. В обычных условиях этого времени недостаточно, чтобы в чашку попала одна или две случайные споры. Но в данном случае воздух в лаборатории Флеминга просто-таки кишел спорами
Penicillium, поскольку этажом ниже, в другой лаборатории, специалист по плесеням занимался выращиванием
Penicillium notatum. В те годы не существовало методов, способных помешать спорам рассеиваться в воздухе, а потому легчайшие частицы попадали в шахту лифта и на лестничную клетку, а оттуда залетали в дверь лаборатории, которую Флеминг обычно держал открытой
[133].
Уезжая на две недели в отпуск, Флеминг оставил чашку Петри на лабораторном столе с намерением сразу после возвращения поместить ее в инкубатор. Стафилококки достаточно хорошо размножались и при комнатной температуре; однако в инкубаторе, где поддерживалась температура человеческого тела, они за сутки размножились бы в миллиард раз скорее.
В сентябре 1928 года, выйдя после отпуска на работу, Флеминг опять-таки, как и Тиндаль, заметил, что, несмотря на обильное разрастание стафилококков на поверхности агар-агара, вокруг круглого пятна, образованного плесенью
Penicillium, осталась широкая зона, совершенно свободная от микробов. Но, в отличие от Тиндаля, Флеминг решил, что этот феномен заслуживает особого изучения.
Флемингу тогда невероятно повезло. Достаточно было малейшего изменения обстоятельств, и это его открытие стало бы невозможным. Например, если бы среда в чашке Петри оказалась засеянной не стафилококками, а какими-то другими бактериями, невосприимчивыми к воздействию
Penicillium (а таких бактерий существует великое множество), Флеминг не заметил бы никакого эффекта.
Повезло Флемингу и в том, что споры попали в чашку Петри
точно в то время, когда он наносил на агар-агар мазок стафилококков. Если бы споры плесени попали в чашку через несколько часов после высеивания, когда стафилококки уже начали бурно размножаться, рост бактерий мог бы помешать размножению спор
Penicillium. Способность бактериальных колоний тормозить рост
Penicillium notatum открыли гораздо позже.
Наконец, невероятным везением следует признать и тот факт, что Флеминг засеял стафилококками чашку Петри как раз перед отъездом в отпуск. Обычно он сразу ставил чашки в инкубатор, но в данном случае он знал, что и при комнатной температуре за время его отсутствия стафилококки размножатся достаточно, чтобы он мог продолжить опыты. Поэтому необходимости ставить чашку в инкубатор не было. Конечно, Флеминг никак не мог знать, что при комнатной температуре плесень
Penicillium растет не менее бурно, чем стафилококки при установленной в его инкубаторе температуре — 38 градусов по Цельсию. При такой температуре
Penicillium не растет вообще. Так что, если бы в тот день Флеминг не собирался уезжать в отпуск, он поставил бы чашки Петри в инкубатор, а на следующее утро получил бы вполне ожидаемое бурное разрастание стафилококков. Но в чашке не осталось бы ни малейшего следа спор плесени, случайно попавших туда, когда ученый поднял крышку, чтобы ввести в агар-агар мазок стафилококков. Следовательно, он не совершил бы величайшего открытия, приведшего к спасению миллионов человеческих жизней.
Удачей для Флеминга можно назвать еще один факт. В те дни в Лондоне стояла небывалая жара — температура в лаборатории поднялась настолько, что практически сравнялась с температурой в инкубаторе. Но именно в тот день, когда он открыл свою чашку Петри и допустил попадание в нее частиц плесени, жара спала. В лаборатории стало прохладнее, и температура осталась достаточно низкой, чтобы во время отпуска Флеминга споры спокойно разрослись.
Будучи по-настоящему внимательным исследователем, Флеминг не стал выбрасывать культуру стафилококков, загрязненную плесенью. Увидев, что желто-зеленое разрастание плесени
Penicillium окружено широкой полосой, совершенно свободной от стафилококков, тогда как остальная поверхность агар-агара кишела этими бактериями, он сразу же понял, что стоит на пороге открытия. И, несмотря на свою занятость другими исследованиями и выгодной частной практикой по введению сальварсана в вены богатых лондонских сифилитиков, он решил разобраться в странной ситуации, с которой столкнулся, вернувшись в лабораторию из отпуска.
Задумав новое исследование плесени и ее странной способности останавливать рост стафилококков, Флеминг прежде всего решил проверить, может ли эта плесень тормозить рост и каких-то других бактерий. Для этого ему пришлось разработать подходящую методику. Вскоре он обнаружил, что питательная среда, на поверхности которой плавала растущая плесень, содержала субстанцию, обладающую антибактериальными свойствами. Флеминг назвал эту до сих пор неизвестную субстанцию
пенициллин. Далее, он увидел, что эта субстанция, каким бы ни было ее происхождение, растворима и без труда проходит через бактериальный фильтр. Кроме того, он отметил, что пенициллин скапливается в питательной среде, на поверхности которой разрастается плесень, постепенно достигая максимальной концентрации примерно через восемь дней после начала роста плесени.
Метод проверки, придуманный
Флемингом, отличался простотой и изобретательностью. Он разделил поверхность агар-агара в чашке Петри на две части, оставив между половинками узкий канал. В этот канал он поместил несколько капель питательной среды со зрелой плесенью, содержащей пенициллин. После этого он наносил мазки культур различных видов бактерий так, чтобы они проходили через канал и далее по поверхности агар-агара. Каждый мазок бактериальной культуры начинался от канала и шел к краю чашки с питательной средой. Флеминг исходил из того, что, поскольку пенициллин в культуре, которую он поместил в канал, будет так или иначе распространяться по агар-агару от этого канала к периферии, виды бактерий, чувствительные к пенициллину, не смогут размножаться рядом с каналом.
С помощью этого метода Флеминг установил, что возле канала, содержавшего пенициллин, не росло большинство видов стафилококков, пневмококков, стрептококков, гонококков и менингококков, вызывающих смертельные инфекционные заболевания. Однако, будучи весьма эффективным по отношению к этим видам бактерий, пенициллин не оказывал практически никакого действия на другие бактерии, в частности на бациллы, вызывающие туберкулез, гриппозные заболевания и тифозную лихорадку.
Странно, что Флеминг, считавшийся в Англии ведущим специалистом по лечению сифилиса, не попытался проверить влияние пенициллина на рост спирохеты, возбудителя этой страшной болезни. Решись он на такой эксперимент, и тут бы получил блестящие результаты. Сегодня мы знаем, что с помощью пенициллина или его производных вылечить сифилис можно за несколько недель, а сальварсан, считавшийся тогда лучшим средством против сифилиса, требовал еженедельных внутривенных вливаний в течение полутора лет!
Флеминг изучал другие виды
Penicillium, чтобы определить, обладают ли какие-то из них аналогичными антибактериальными свойствами, однако эффективным оказался один-единственный вид плесени, споры которого случайно попали в открытую им чашку Петри в тот судьбоносный сентябрьский день 1928 года. Флеминг ввел фильтрат питательной среды, содержащей
Penicillium, кролику и мыши, и увидел, что это не повлекло за собой никаких нежелательных последствий. Он даже промыл раствором пенициллина инфицированный глаз одного больного, воспаленную гайморову полость другого и инфицированную поверхность ампутированной ноги третьего. Пенициллин не оказал никакого токсического эффекта на ткани; более того, у всех больных, за исключением того, у которого была ампутирована нога, вскоре исчезли все признаки инфекции.
Почему же Флеминг, наблюдавший поразительные антибактериальные свойства случайно открытого вещества, содержащегося в
Penicillium notatum, и описавший их в двух статьях — в 1929 и 1932 годах
[134], прекратил изучение удивительной плесени? Причин было несколько.
По-видимому, самой главной стала странная неспособность Флеминга понять, что препарат, введенный в тело больного путем инъекции или перорально, способен справиться с инфекцией. Печальным образом он, введя пенициллин одному-единственному кролику и одной-единственной мыши, не ввел одновременно ни одному из этих животных смертельно опасные бактерии — стрептококки, стафилококки или пневмококки. Если бы он сделал это, то был бы искренне удивлен — животные ведь наверняка бы выжили.
То, что Флемингу не пришло в голову проверить антибактериальные свойства плесени на подопытных животных, частично можно объяснить, если вспомнить, что его руководитель, сэр Олмрот Райт, как и все коллеги Флеминга, был уверен: «лекарство против бактерий является несбыточной мечтой»
[135]. Впрочем, на Райта нельзя возлагать всю вину за то, что Флеминг не довел до конца исследование плесени. За много лет до описываемых событий Райт получил от Пауля Эрлиха образцы созданного им нового чудодейственного лекарства от сифилиса сальварсана и передал их Флемингу для испытания на сифилитическом больном. Так Флеминг стал первым врачом в Англии, который стал лечить сифилитиков с помощью этого замечательного препарата.
Поразительно и почти необъяснимо, что Флеминг, вводивший сальварсан внутривенно на протяжении многих лет десяткам больных люэсом и наблюдавший за их борьбой с отвратительной болезнью, рассматривал пенициллин только как возможный
внешний бактерицидный препарат, наносимый на поверхность инфицированных ран. Он никогда не задумывался над тем, что пенициллин, подобно сальварсану, может стать
химиотерапевтическим средством, подходящим для внутреннего введения в целях борьбы с серьезными бактериальными инфекциями. В статье, написанной в 1929 году, Флеминг сравнивал пенициллин с карболовой кислотой, а из этого следует, что парадигма его рассуждений об антибактериальном действии пенициллина строго ограничивалась внешним применением — в виде промываний или примочек. Не в первый и не в последний раз в истории признание революционного открытия в области медицины откладывалось на много лет из-за неправильного хода мысли врача.
Отдавая должное Флемингу, мы должны напомнить, что в 1940-х годах, после того как была доказана эффективность пенициллина в лечении бактериальных инфекций, он выразил сожаление по поводу того, что не продолжил свои исследования, объяснив это тем, что полученные им препараты быстро утрачивали свои свойства. Если бы он сотрудничал с опытными биохимиками, они могли бы подсказать ему многочисленные способы выделения пенициллина и бесконечно долгого хранения его в виде чистых белых кристаллов. Но Райт не потерпел бы в своем отделении вакцинации ни одного специалиста по биохимии, потому что, по его словам, «химикам не хватало гуманизма».
В течение шести лет до судьбоносного попадания спор
Penicillium в чашку Петри Флеминг увлеченно занимался изучением фермента, выделенного им из слизи собственного носа. Этот фермент, получивший название лизоцим, обладал, по мнению Флеминга, антибактериальными свойствами. Исследование лизоцима увлекло его настолько, что он забросил работы с пенициллином и до конца своей карьеры посвятил себя изучению характеристик этого фермента
[136].
Несмотря на то что сам Флеминг прекратил изучение пенициллина, забыть о новом веществе не позволила написанная им в 1929 году статья с описанием его свойств. Однако для дальнейшего развития событий было необходимо, чтобы произошли какие-то изменения в мышлении врачей. Постепенно они, в отличие от Флеминга, стали осознавать, что введение препарата внутрь организма в виде инъекций или путем перорального приема может принести пользу в борьбе с бактериальными инфекциями. Прочитав статью Флеминга, молодой бактериолог Пейн получил от него образец
Penicillium notatum, вырастил ее культуру, а затем ввел вытяжку из плесени в инфицированные глазки четырех младенцев и в поврежденный и также инфицированный глаз взрослого человека. Через сорок шесть часов после начала лечения у всех четырех детей и у взрослого больного исчезли все проявления инфекции. Поскольку у двух из четырех младенцев причиной инфекции был гонококк, существовала огромная вероятность того, что без промывания раствором, который доктор Пейн назвал «плесневым соком», дети могли ослепнуть.
Потрясенный эффективностью пенициллина бактериолог сообщил о полученных им результатах самому Говарду Флори, в то время — профессору кафедры патологии в Шеффилдском университете
[137]. Это произошло за много лет до того, как сам Флори начал свои знаменитые опыты с пенициллином в Оксфорде. Судя по всему, в начале 1930-х годов Флори, как и Флеминг, не мог осознать, что какое бы то ни было лекарство способно справиться с системной бактериальной инфекцией.
Пейн оказался не единственным исследователем, прочитавшим статью Флеминга и решившим продолжить изучение свойств пенициллина. В 1931 году Гарольд Райстрик, возглавивший только что созданную Лондонскую школу гигиены и тропической медицины, собрал исключительно сильную группу для изучения химических веществ, производных от различных видов
Penicillium. Исследователи также попросили у Флеминга образец плесени, и он с радостью поделился с ними материалом. Райстрик и его коллеги в свою очередь переправили образец плесени Флеминга одному американскому микологу, который распознал в ней вариантную форму
Penicillium notatum. Именно группа Райстрика сделала важное наблюдение: антибактериальный пенициллин производит не стандартная
Penicillium notatum, а вариантная форма плесени, выращенная Флемингом
[138].
Как удачно, что в 1928 году в чашку Петри, открытую Флемингом, залетели споры именно вариантной формы
Penicillium notatum! И как удачно, что Флеминг, уже и после того, как сам прекратил все опыты с пенициллином, по-прежнему сохранял эту вариантную форму. К сожалению, когда группа Райстрика попыталась получить более концентрированную форму путем выпаривания раствора пенициллина в эфире, пенициллин утратил свою активность. После неудачи этого эксперимента лондонская группа прекратила работу с препаратом.
В 1935 году некий американский студент по имени Р. Д. Рейд также начал изучать флеминговскую форму
Penicillium notatum и обнаружил, что пенициллин не растворяет бактерии, а тормозит их рост. Он хотел продолжать исследования пенициллина и использовать полученные данные для докторской диссертации, однако его научный руководитель не позволил этого, так как был уверен, что пенициллин не может принести никакой практической пользы. Тем не менее Рейд опубликовал статью с описанием полученных результатов
[139].
Не исключено, что исследование пенициллина так и закончилось бы работами Пейна и Райстрика, если бы в 1935 году Герхард Домагк не обнаружил, что инъекция простого препарата, пронтозила, способна вылечить стрептококковую инфекцию у человека. Пронтозил был впервые получен в 1932 году химиком, работавшим в немецкой корпорации «I. G. Farbenindustrie» и занимавшимся поиском новых красителей. Красноватый пронтозил был отвергнут вместе со многими другими красителями неудовлетворительного качества. В то время Домагк, будучи директором отдела патологии и бактериологии, стремился найти препараты, способные убивать бактерии.
Поняв, что пронтозил, введенный внутривенно, быстро излечивает стрептококковые инфекции, Домагк поспешил опубликовать свои результаты
[140], и тем самым разрушил давно устаревшее мнение о том, что внутреннее введение лекарств не может помочь в борьбе с инфекциями. Конечно, опубликуй он свою статью не в 1935-м, а в 1925 году, Флеминг вряд ли прекратил бы изучение пенициллина. Буквально через несколько лет после появления статьи о пронтозиле появились сообщения об эффективности десятков препаратов в лечении ряда системных бактериальных инфекций.
Именно эти новые результаты и заставили профессора Джорджа Дрейера, руководителя Школы патологии имени Уильяма Дана при Оксфордском университете, знакомого со статьей Флеминга, возобновить изучение пенициллина. Дрейер, один из ведущих мировых специалистов по бактериофагам (вирусам, паразитирующим в бактериях и убивающим их), предполагал, что пенициллин также является вирусом и что его антибактериальные свойства связаны именно с этим. Для проверки своей гипотезы он запросил и получил образец флеминговской
Penicillium notatum. Впрочем, изучив пенициллин, он понял, что имеет дело не с вирусом
[141]. Глубоко разочарованный Дрейер полностью прекратил все исследования плесени и ее производных. Однако он не выбросил плесень, а более того — позволил своей ассистентке, мисс Кэмпбелл-Рентон, считавшей, что
Penicillium можно использовать для других целей, продолжить ее выращивание. Через несколько лет Дрейер умер; Кэмпбелл-Рентон, сохранив плесень, поддерживала ее в живом состоянии.
Преемником Дрейера в Оксфорде стал одаренный ученый родом из Австралии. Тридцатисемилетний Говард Уолтер Флори был физиологом, патологом и специалистом по внутренним болезням. Он был дважды женат, причем обе его жены сыграли большую роль в истории пенициллина. Первая, Мэри Этель Флори (позже — леди Флори), была врачом и применяла пенициллин для лечения инфицированных ран. К концу 1942 года ей удалось благополучно вылечить 172 больных. Говард и Мэри познакомились, когда учились на медицинском факультете Университета Аделаиды, и поженились в 1926 году. В 1966 году Мэри умерла; через восемь месяцев второй леди Флори стала Маргарет Дженнингс, соавтор знаменитой статьи, опубликованной оксфордской группой в 1940 году.
Говард Флори и собранная им команда блестящих специалистов руководствовались новой для Школы патологии концепцией: вместо того чтобы изучать, как протекают болезни или болезненные процессы, они решили выяснить, чем вызываются наблюдаемые ими патологии. Флори обладал выдающимися административными способностями, прекрасным чувством юмора и был всецело предан своему делу — эти качества позволили ему и его коллегам сделать первые шаги к пониманию истинной природы пенициллина.
Члены группы Флори во многих отношениях, были под стать своему лидеру. Талантливый музыкант и одновременно биохимик, еврей Эрнст Борис Чейн был вынужден бежать из нацистской Германии. Он приехал в Англию, где получил работу сначала в клинике университетского колледжа в Лондоне, а затем в Кембридже. Чейн уже собирался перебраться еще дальше, в Австралию, когда Флори уговорил его присоединиться к создаваемой им научной группе в Оксфорде.
В один прекрасный день Чейн, обнаруживший (совершенно случайно!) статью Флеминга о пенициллине, когда что-то искал в библиотеке, столкнулся в коридоре с Кэмпбелл-Рентон. Она (тоже по чистой случайности!) несла флягу с флеминговской плесенью. Узнав, что именно содержится в сосуде, Чейн удивился и обрадовался, потому что до этого момента даже не подозревал, что в Оксфорде вообще есть образец какого-то вида
Penicillium, не говоря уж об образце, полученном от самого Флеминга.
У Чейна возникла новая идея, которой он поделился с Флори. В то время о биохимических и биологических свойствах каких-либо антибактериальных субстанций, которые могли содержаться в микроорганизмах, никто ничего не знал. Чейн был совершенно уверен, что им предоставляется уникальная возможность провести фундаментальные исследования в этой области. В отличие от Алмрота Уайта, Флори отнесся к идее подобного исследования с огромным энтузиазмом.
Однако в 1939 году, как, впрочем, и в наши дни, для проведения исследований требовались деньги. Бюджет Школы патологии не предусматривал подобных расходов; не мог помочь и Британский совет по медицинским исследованиям. Не теряя присутствия духа, Флори обратился в Фонд Рокфеллера, с которым когда-то сотрудничал, и задал вопрос: какого рода исследования они готовы поддержать? Руководители фонда ответили, что не ищут проекты, которые могли бы принести немедленные практические результаты; напротив, интерес для них представляют исследования в области биохимии, а не клинической медицины. Это привело Чейна и Флори в восторг: задуманный ими проект полностью удовлетворял этим критериям.
Заручившись поддержкой Фонда Рокфеллера, Чейн и Флори приступили к работе. Они предполагали, что результатом их исследований станет не получение клинически эффективного антибиотика, к чему стремилось большинство исследователей, а объяснение процесса, путем которого некоторые микроорганизмы производят, секретируют или каким-то еще образом вырабатывают ферменты с антибактериальными свойствами. Конечно, сама идея — поиск субстанций, производимых одним микроорганизмом и способных убивать другие микроорганизмы, — была по-настоящему революционной.
Случайную встречу Чейна с Кэмпбелл-Рентон поистине можно назвать исторической. «Мы стали заниматься пенициллином, — говорил Чейн позже, — потому что в Школе выращивали его культуру»
[142]. Ни Чейн, ни Флори даже не предполагали тогда, что пенициллин окажется таким чудодейственным препаратом.
Другой член оксфордской группы и тоже выдающийся ученый Маргарет Дженнингс обнаружила, что пенициллин не оказывает никакого воздействия на полностью выросшие бактерии — его сила заключалась в способности тормозить их рост.
Болезненно застенчивый Норман Хитли, один из первых специалистов по микротехнике, вошел в группу из-за того, что война помешала его обучению в Копенгагенском университете. Именно Хитли разработал метод оценки количества пенициллина в образце и дал определение единице активности препарата. Без этих определений врачи не смогли бы назначать его своим больным.
Вскоре после того, как оксфордская группа приступила к работе, Чейн обнаружил, что пенициллин не является ферментом. Этот факт настолько удивил и разочаровал ученого, что он чуть было не прекратил исследования, но тут его заинтересовала нестабильность пенициллина, нетипичная для такого рода молекул, и он продолжил эксперименты. В конце концов Чейн сумел справиться с этой проблемой и получил — впервые — порошок пенициллина. Он был коричневого цвета, обладал в двадцать раз большей силой, чем самые мощные сульфамидные препараты — и при этом был вполне стабилен!
Но тут возник вопрос: насколько безопасен новый антибактериальный препарат? Огромная доза, введенная мыши, удивительным образом не вызвала никаких побочных эффектов. К этому времени Чейн знал о пенициллине достаточно, чтобы понять — его группа стоит на пороге одного из самых многообещающих открытий в истории медицины. Он рассказал о своих наблюдениях Флори. Тот был потрясен: все выглядело слишком хорошо, чтобы в это поверить. Чтобы убедиться, что Чейн не допустил никаких ошибок, Флори лично повторил все его опыты. Результаты Чейна оказались верными, но в ходе второго эксперимента Флори и Чейн обнаружили еще одно удивительное явление: моча мышей, получавших пенициллин, приобретала коричневый цвет. Оказалось, что причиной тому — пенициллин, перешедший в мочу в неизмененном виде и нисколько не утративший при этом своей силы.
Это открытие означало, что пенициллин способен проникать во все среды организма. Следовательно, в руках Чейна и Флори оказалось самое мощное из известных к тому времени антибактериальных средств, которое, судя по всему, можно было безопасно вводить людям путем инъекций. Потенциальная способность препарата распространяться по всему организму обеспечивала возможность борьбы с инфекцией в любой его части. Время подтвердило правильность этих предположений; однако Флори, Чейну и их коллегам предстояла еще огромная работа, прежде чем они смогли доказать это.
В Оксфорде царил невероятный ажиотаж; о его степени свидетельствует тот факт, что Флори совершил немыслимый для Англии поступок — он начал очередной эксперимент в субботу. С точки зрения уравновешенных и выдержанных британцев, члены оксфордской группы выказывали признаки не просто возбуждения, а самого настоящего безумия.
Через какое-то время Флори сделал то, чего не сумел сделать Флеминг: он провел опыты с пенициллином на животных. Испытуемыми стали восемь белых мышек. Вначале он ввел им всем смертельную дозу стрептококков, после чего одну четверку мышей оставили в покое, а другую стали лечить пенициллином, причем каждая мышь получила разные дозы препарата. Мыши из первой четверки все погибли, а те, что получали пенициллин, выжили! Этот эксперимент ознаменовал начало эры антибиотиков.
Хитли пришел в такой восторг, что решил остаться в лаборатории на всю ночь, чтобы своими глазами увидеть результаты опытов. Все эти драматические события происходили во время войны, и когда на рассвете в воскресенье он ехал домой на велосипеде, член отряда местной обороны предупредил его о нарушении комендантского часа.
В течение трех месяцев после этого первого, пилотного исследования, результаты которого так и остались неопубликованными, Флори и его группа неоднократно проверяли токсичность пенициллина на животных, и во всех случаях пенициллин не вызывал нежелательных побочных эффектов. Исследователи провели также пять отдельных экспериментов, в каждом из которых задействовали от сорока восьми до семидесяти пяти мышей, которым вводили разные виды бактерий. Выжили все мыши, получавшие пенициллин, и только четыре, не получавшие лечения. Эти эксперименты доказали, что пенициллин, во всяком случае, для мышей, является наиболее эффективным из всех имевшихся в то время химиотерапевтических препаратов. Выдающиеся результаты, полученные учеными оксфордской группы, были представлены в исторической статье, вышедшей в свет 24 августа 1940 года
[143].
Между первым пилотным исследованием и его публикацией прошло всего три месяца. Редакция журнала «Lancet», понимая эпохальное значение работы, напечатала статью вне всякой очереди. Эти три месяца пришлись на один из самых мрачных периодов Второй мировой войны. Именно тогда Флори, Чейн, Хитли и Дженнингс натерли подкладку своей одежды пенициллиновой плесенью. Они надеялись, что в случае немецкой оккупации Британских островов хотя бы кто-то из них сумеет эмигрировать в США или в Канаду и увезет с собой споры этой плесени, которая, как они уже понимали, даст возможность спасти множество человеческих жизней.
Вскоре после выхода первой статьи группа Флори повторила опыты на животных и снова получила потрясающие результаты. Теперь Флори изменил слову, данному Фонду Рокфеллера, — он не ограничился изучением биохимии пенициллина. Изначально речь шла о проведении только чисто научного лабораторного эксперимента, а не о том, чтобы затевать широкомасштабное клиническое исследование. Однако Великобритания вела войну, и на этой войне — как и на всех предыдущих — самым страшным убийцей была раневая инфекция. Флори знал, что в его руках находится мощнейший препарат, способный бороться с ней. Конечно, для того чтобы подтвердить это, пенициллин прежде всего следовало испытать на людях. И если будущие исследования покажут, что применение пенициллина действительно дает чудодейственные результаты, Флори предстояло найти способ максимально быстрого производства максимально большого количества этого препарата.
Для первого испытания на человеке Флори выбрал больного с терминальной стадией рака. Учитывая, что желудочный сок разрушает пенициллин, препарат вводили внутривенно, через капельницу; к ужасу и разочарованию Флори, у больного начался озноб, и поднялась высокая температура. Однако он сразу понял, что это означало: раствор пенициллина был загрязнен токсинами, вызывающими лихорадку.
Чейн и Абрахам немедленно взялись за очистку пенициллина от токсинов и, к великому облегчению всей группы, им это удалось.
Решение Флори проводить клинические исследования пенициллина, а не относиться к нему как к предмету, представляющему чисто научный интерес, создало большие проблемы для широкомасштабного производства лекарства. Потенциал пенициллина оказался настолько велик, что Флори, сам того не желая, нарушил давно существовавшее табу: университеты не предназначены для выпуска продукции, их дело — проведение исследований. Однако иногда человек может стать лидером, только нарушив традиции. Флори, без сомнения, именно так и поступил: он создал при своем академическом подразделении в Оксфордском университете так называемый производственный отдел, своего рода мини-фабрику.
Хитли первым делом усовершенствовал среду для выращивания культуры плесени, а затем разработал уникальный способ сбора плесневого сока. При применении обычного метода каждая колония плесени использовалась всего один раз, после чего она разрушалась. Хитли сумел предотвратить это разрушение путем вдувания воздуха под хорошо развитую колонию плесени — таким образом, она приподнималась и оставалась неповрежденной. После этого он забирал плесневый сок и замещал его свежей культурной средой. Благодаря этому методу с каждой культуры удавалось получить двенадцать порций плесневого сока. (Позже Хитли сконструировал автоматическую установку для забора сока, и тем самым увеличил и этот показатель.)
Впрочем, один процесс автоматизировать Хитли не смог. Поскольку новая технология очистки предусматривала снижение температуры пенициллиновой смеси до точки замерзания, а потом прокатывание стеклянных пузырьков со смесью, возникала существенная проблема: нехватка рук для прокатывания. Найти дополнительные мужские руки не представлялось возможным: мужчины воевали. Однако руки есть руки, и тут было не важно, принадлежат они мужчинам или женщинам. Нарушив еще одно табу, группа Флори (впервые в истории Оксфорда!) наняла нескольких женщин, которые по восемь часов в день прокатывали пузырьки с пенициллином в холодной комнате. Их стали называть «пенициллиновыми барышнями».
В какой-то момент Хитли просто вышел из себя. Стеклянные пузырьки занимали много места, и он надеялся, что решит проблему, используя мелкие, плоские, удлиненные лабораторные чашки. Однако производители этих чашек заявили, что смогут наладить выпуск не раньше, чем через шесть месяцев, и при этом названная ими цена оказалась настолько высокой, что отдел просто не мог себе позволить закупки. И тогда Флори, с его поразительными способностями предпринимателя, умеющего найти выход из любого положения, связался со знакомым врачом из гончарной столицы мира, городка Стоук-на-Тренте. Узнав о проблеме, этот врач попросил Флори прислать ему рисунок с изображением желаемой посуды, после чего нашел местную фирму, которая согласилась изготовить чашки быстро и по разумной цене. Хитли приехал на фабрику, выбрал одну из трех предложенных чашек и за несколько недель получил необходимое количество посуды.
Через год Флори придумал новый способ расширения производственного отдела. В университетском отделении патоморфологии имелось помещение для вскрытия трупов животных, и в этом не было ничего особенного. Необычным являлось то, что помещение построили с таким расчетом, чтобы в нем можно было производить вскрытие слонов и носорогов. Таким образом, оно было достаточно большим и вполне подходило для обустройства там первой пенициллиновой «фабрики» Флори.
Тем временем испытания пенициллина на людях продолжались быстрыми темпами. Флори и его коллеги ввели пенициллин внутривенно всем сотрудникам отделения патологии имени сэра Уильяма Дана — без каких-либо нежелательных последствий. Еще до того, как группа накопила достаточно пенициллина, чтобы приступить к широкомасштабным испытаниям на людях, Флори разрешили принять участие в лечении безнадежно больного полицейского. У него был сепсис. После первых инъекций препарата больной быстро пошел на поправку, однако ему требовались очень большие дозы пенициллина, и запасы Флори стали истощаться. Врачи попытались экстрагировать хотя бы немного пенициллина из мочи больного, но даже этот отчаянный шаг не помог. Состояние полицейского снова ухудшилось, и он умер. Флори поклялся, что никогда больше не начнет лечение больного, не имея под рукой достаточный запас лекарства.
Итак, нужно было продолжать испытания на людях, а пенициллина катастрофически не хватало, и тогда Флори снова нашел выход. Запас пенициллина слишком мал? «Ну что же, — подумал Флори, — значит, мы будем лечить маленьких больных». Первые испытания проводились на совсем юных пациентах. Отобрали четырех подходящих кандидатов, а вот пятым стал взрослый больной, но мелкого телосложения. Результаты оказались замечательными. Выздоровели все дети, за исключением одного, у которого инфицированный сгусток крови закупорил вену у основания черепа, рядом с сонной артерией. Инфекция перешла на стенки артерии, в результате чего она раздулась, и на ней образовалась аневризма. Хотя с инфекцией удалось справиться, аневризма разорвалась, и больной погиб от массивного кровоизлияния в мозг. (Вскрытие подтвердило, что пенициллин полностью устранил инфекцию.) Великолепные клинические результаты обрадовали всех сотрудников Флори, а он, всегда отличавшийся большой осторожностью в подборе эпитетов, отметил, что в данном случае результаты оказались «почти сверхъестественными». Статья с описанием клинических испытаний вышла в августе 1941 года
[144].
Вскоре после этого Чейн решил запатентовать пенициллин. Флори не дал согласия, считая, что это неэтично. Они долго спорили, но Флори не уступал. Чейн опасался, что если оксфордская группа не получит патент, это сделает кто-то другой. Время показало, что он был прав.
Понимая, что так называемый производственный отдел в Оксфорде никогда не сможет удовлетворить потребности воюющей Великобритании в пенициллине, Флори провел переговоры с руководителями всех английских фармацевтических компаний, убеждая их в необходимости начать промышленное производство препарата. Компания «Imperial Chemical Industries» приступила к необходимым экспериментальным исследованиям, но переговоры с другими фирмами успеха не принесли.
Получив дополнительный запас пенициллина от «Imperial Chemical Industries», Флори начиная с января 1942 года ввел лекарство 15 больным внутривенно, а еще у 172 применил его местно. Измерение уровня пенициллина в крови и изучение клинических эффектов его применения позволили установить приблизительную дозировку, требуемую для лечения различных заболеваний. Сегодня ни одно правительственное учреждение не позволило бы рекомендовать к широкому применению препарат, предназначенный для внутривенного введения, если он прошел проверку только на двадцати одном больном, двое из которых умерли; не допустили бы сегодня и продажу препарата, который, как пенициллин, приводит к гибели морских свинок. Однако результаты скрупулезных исследований Флори, проведенных в чрезвычайно сложных условиях военного времени, тогда выглядели достаточно убедительными. И, к счастью, Флори не включил морских свинок в число подопытных животных.
Примерно в то же время сэр Алмрот Райт написал в редакцию газеты «Лондон таймс» знаменитое письмо, в котором заявил, что пенициллин открыл Флеминг. Редактор Роберт Робертсон в ответном письме назвал первооткрывателем Флори. Сегодня, в эпоху вездесущих средств массовой информации, нас не удивляет, что после такого обмена мнениями толпы репортеров стали преследовать и Флори, и Флеминга. Однако удивительно то, что после этого характеры обоих ученых полностью изменились: теперь Флеминг жаждал публичности, а Флори стал избегать ее. Никто так и не смог объяснить причину этих изменений.
В любом случае журналисты пишут о том, что им рассказывают люди. Поскольку Флеминг охотно раздавал интервью, а Флори от них уклонялся, имя Флеминга не сходило со страниц газет и журналов, а о Флори почти не вспоминали. Опубликованные статьи изобиловали преувеличениями и ложью, но Флеминг и не пытался что-либо поправить. История открытия пенициллина, даже излагаемая в медицинских журналах и книгах, обрастала невероятными выдумками, взятыми из газетных публикаций. Флеминг очень веселился, читая статьи о себе, шутил с друзьями по их поводу, а его секретарь собрал огромную папку вырезок из газет и журналов с нелепыми ошибками.
Конечно, всё это не могло остаться без последствий, и спустя несколько лет газетный магнат лорд Бивербрук, получивший одностороннюю и ошибочную информацию об истории открытия пенициллина от своих репортеров и, вероятно, считавший, что Флори отнесся к нему недостаточно почтительно, убеждал Нобелевский комитет присудить премию по физиологии и медицине только Флемингу.
Прочитав статью оксфордской группы, опубликованную в 1941 году в журнале «Lancet», Флеминг решил посмотреть своими глазами, что же делают эти исследователи. Чейну была оказана честь провести посетителя по отделению. Флеминг, как это бывало с ним и раньше, полностью ушел в себя, не произнес ни единого слова, и после его ухода у Чейна сложилось впечатление, что гость не понял ничего из показанного.
А вскоре Флеминг попросил у Флори немного пенициллина для лечения умирающего больного. Поскольку запас препарата у Флори почти иссяк, он согласился поделиться им при условии, что Флеминг позволит включить этого больного в текущую клиническую серию. После введения пенициллина больной совершенно поправился. Это произвело на Флеминга такое впечатление, что он обратился к своему близкому другу министру сэру Эндрю Дункану с просьбой поставить перед правительством вопрос о необходимости производства пенициллина.
В начале войны британцам удалось успешно эвакуировать свои войска из Дюнкерка на маленьких, в основном частных, парусных судах — немецкая авиация не могла разбомбить кораблики, разбросанные по всей ширине пролива. Руководствуясь этим опытом, Британский комитет по производству пенициллина решил не строить одну большую централизованную фабрику, которая могла стать легкой мишенью для самолетов люфтваффе, а производить пенициллин на всех предприятиях, где были условия для установки соответствующего оборудования. При выращивании плесени использовали бутылки и банки из-под молока — по сути дела, вообще любые имевшиеся бутылки. Несколько достаточно крупных компаний сумели наладить выпуск пенициллина в коммерческом объеме, но по всей Британии процветало «домашнее» его производство в мелких лабораториях. Потом пенициллин из всех источников свозили в одно место. Министерство по поставкам выделяло драгоценный бензин для перевозки препарата (а также всех необходимых материалов, которых так не хватало во время войны, включая жестяные банки). Поразительно, но именно таким образом Англия во время Второй мировой войны смогла произвести пенициллин в количестве, обеспечившем нужды армии и гражданского населения.
Одним из лучших и самых надежных источников пенициллина Флори считал компанию «Kendall, Bishop». Ее производственный комплекс находился в Восточном Лондоне. Поскольку в этом же районе Лондона размещались многие другие предприятия и доки, он стал одной из главных мишеней немецких бомбардировщиков. Все здания в кварталах, окружавших фабрику «Kendall, Bishop», оказались разрушенными, а она чудесным образом уцелела и не прекратила работу.
Вскоре после публикации первой статьи оксфордской группы в 1940 году американские врачи и ученые начали свои исследования. Надо сказать, что первым больным, получившим систематическое лечение пенициллином, был пациент не из Оксфорда, а из Колумбийского пресвитерианского госпиталя в Нью-Йорке. Его лечащий врач, доктор Мартин Генри Доусон собрал небольшую группу высочайшего уровня, в которую, кроме него самого, вошли гениальный биохимик Карл Мейер, заслуживавший, по мнению многих, Нобелевской премии, и Глэдис Хобби, выдающийся микробиолог и автор книги об истории пенициллина
[145]. Через пять недель после публикации в «Lancet» первой статьи оксфордской группы американцы приступили к лечению своих больных, используя плесень, выращенную Роджером Ридом. (Чейн послал им партию
Penicillium, но получить пенициллин из этого образца не удалось.) Группа Доусона представила свои результаты на конференции Американского общества клинических исследований в мае 1941 года.
Однако самым сильным стимулом к началу производства и клинического использования пенициллина в Северной Америке стал визит Говарда Флори в Соединенные Штаты и Канаду. Этой исторической поездке способствовали несколько факторов. Во-первых, Флори узнал о том, что немцы пытаются разведать что-то о пенициллине через своих агентов в Швейцарии, и предупредил всех, у кого имелись образцы плесени, не передавать ее никаким иностранцам. Во-вторых, он доверял североамериканцам и верил, что они окажут англичанам помощь в войне. В-третьих, все британские компании, за исключением «Imperial Chemical Industries», отклонили его предложение о производстве пенициллина. И наконец, секретарь Британского совета по медицинским исследованиям сэр Эдвард Мелланби, в свое время рекомендовавший Флори на место в Оксфорде, предложил ему отправиться в США и Канаду, чтобы попытаться использовать огромный экономический и производственный потенциал Северной Америки для начала широкомасштабного производства пенициллина. Флори сумел добиться от Фонда Рокфеллера финансирования поездки и взял с собой образец плесени.
Третьего июля 1941 года Флори вместе с Норманом Хитли прибыли в Нью-Йорк. День Независимости (4 июля) они отпраздновали в Нью-Хейвене с профессором Джоном Фултоном и его супругой. Позже Фултон договорился о встрече англичан с Робертом Кохиллом, возглавлявшим отделение ферментации в северной региональной исследовательской лаборатории Министерства сельского хозяйства США в городе Пеория (штат Иллинойс). Кохилл тепло принял их и пообещал полную поддержку. В беседе он высказал предположение, что идеальным методом для производства пенициллина могла бы стать ферментация — процесс, предполагающий погружение плесени под поверхность питательной среды, — это существенно облегчило бы производство пенициллина. Глубинная ферментация стала единственным, но невероятно важным вкладом США в массовое производство пенициллина.
Кохилл познакомил Хитли с биохимиком своей лаборатории, Эндрю Мойером. Как оказалось, Мойер был нечестным человеком, и к тому же ненавидевшим англичан. Между Фондом Рокфеллера, оказывавшим финансовую поддержку Хитли, и северной региональной исследовательской лабораторией, поддерживавшей Мойера, было заключено соглашение, согласно которому предполагалась совместная публикация всех работ и разделение всей прибыли, полученной от лечения больных, между фондом и лабораторией. Хитли научил Мойера всему, что знал сам о пенициллине. Мойер в свою очередь предложил добавлять в культуру такие высокопитательные субстраты для выращивания плесеней, как кукурузный экстракт и лактоза, что позволило бы в двадцать раз увеличить выработку пенициллина.
До отъезда Хитли из США они с Мойером написали статью о проделанной работе. При обсуждении окончательного варианта Мойер принял все поправки Хитли. Однако после того, как Хитли уехал, Мойер напечатал статью только под своим именем. Это позволило ему запатентовать использование кукурузного экстракта и лактозы для выращивания пенициллиновой плесени. Хотя предполагалось, что все доходы от патентов, выданных в США, будут распределяться поровну между лабораторией и Фондом Рокфеллера, Мойер сумел найти лазейку в договоре и подал заявку на три патента в Великобритании. Предательство не принесло ему богатства, на которое он рассчитывал; справедливость восторжествовала. Под давлением Кохилла Министерство сельского хозяйства заставило Мойера вернуть обеим организациям, финансировавшим исследования, все полученные деньги, до последнего цента.
В конце концов и английская и американская фармацевтические компании получили разные патенты — американцы на глубинную ферментацию, англичане — на полусинтетический пенициллин. Чтобы позволить британским союзникам, испытывавшим финансовые затруднения, избежать банкротства, американские компании запросили минимальный процент от прибыли, а впоследствии несколько раз снижали даже и эту сумму. Однако все равно размеры отчислений от прибылей британских фармацевтических компаний в пользу американских партнеров достигали миллионов долларов, и все убытки удалось возместить только после начала производства полусинтетических пенициллинов.
А между тем миколог из лаборатории в Пеории, Кеннет Рейпер, рыскал по всему миру в поисках наиболее производительных образцов плесени
Penicillium. И выяснилось, что самый лучшая плесень растет буквально на заднем дворе его дома! Рейпер отправил свою ассистентку на местный рынок, поручив ей купить самые разные фрукты и овощи, и ему удалось выделить из купленной ею дыни
Penicillium chrysogenum. Эта плесень вырабатывала больше пенициллина, чем любая другая плесень в мире, а в процессе глубинной ферментации разрасталась в виде красивых пятен. Прозвище «Заплесневелая Мэри» приклеилось к верной ассистентке навсегда.
После возвращения Флори в Англию произошло несколько событий, омрачивших его теплые отношения с американскими коллегами. Вступив в войну в декабре 1941 года, американцы категорически отказались разглашать какую бы то ни было информацию относительно исследований по пенициллину, мотивируя свои действия требованиями секретности в условиях военного времени, — и это после того, как Хитли во всех деталях описал им работу, ведущуюся в Оксфорде! В будущем выяснилось, что производственная технология с использованием глубинной ферментации, разработанная американцами, позволила бы англичанам гораздо быстрее наладить массовое производство пенициллина. На первом собрании Британского комитета по производству пенициллина Флори в самых недвусмысленных терминах выразил свое возмущение поведением американцев. Под впечатлением заявления Флори члены комитета начали с американскими партнерами переговоры, вскоре позволившие разрешить возникшие противоречия.
Позже новую вспышку негодования Флори вызвало известие о получении американцами патента на пенициллин; следует отметить, что существование этого патента до конца жизни отравляло отношения Флори и Чейна. После войны недовольный Чейн уехал из страны, какое-то время работал в Италии, но потом вернулся в Англию, где занял должность профессора и руководителя отделения биохимии в лондонском Имперском колледже науки и технологии.
Появлялись и другие поводы для огорчения. Американка Глэдис Хобби заявила, что первым антибиотиком, использовавшимся для лечения инфекционных заболеваний у людей, был не пенициллин, а «грамицидин», открытый Рене Дюбо
[146]. Этот антибиотик местного действия в настоящее время применяется в смеси с двумя другими антибиотиками в форме глазных капель для лечения глазных инфекций. Однако за много лет до начала использования грамицидина Флеминг и Пейн лечили глазные инфекции так называемым плесневым соком; и, что гораздо важнее, пенициллин, в отличие от грамицидина, пригоден для внутреннего введения с целью лечения системных инфекций.
В Пеории Кохиллу пришла в голову блестящая идея получить генетические мутации дынной плесени Рейпера, способные производить еще больше пенициллина. Он обратился к ведущим ученым всей страны с просьбой попытаться добиться таких мутаций. Для этой цели образцы плесени Рейпера подвергали воздействию света, рентгеновских лучей и химических веществ.
Рентгеновское облучение
Penicillium chrysogenum, проведенное учеными из Института Карнеги в Колд-Спринг-Харбор (штат Нью-Йорк), дало мутацию, позволившую вырабатывать в десять раз больше пенициллина, чем это получалось с обычной плесенью.
В США исследования пенициллина проходили под надзором Управления по научным исследованиям и разработкам. Это управление провело чрезвычайно успешные клинические испытания, позволившие установить невероятную эффективность пенициллина при лечении бактериальной пневмонии, хронических костных инфекций, раневых инфекций, инфекционных поражений клапанов сердца, гонореи и сифилиса. Узнав о результатах этих испытаний, три американские фармацевтические компании («Squibb», «Merck» и «Pfizer») заявили о своей заинтересованности в производстве пенициллина, более того, «Squibb» и «Merck» разработали программу сотрудничества в этой области. Впоследствии Управление по научным исследованиям и разработкам выбрало двадцать две американские компании, которым и доверили производство пенициллина, причем каждой гарантировалась помощь в приобретении строительных материалов и поставках оборудования.
Флеминг, Флори, Чейн и Абрахам получили множество наград и почестей за их выдающийся вклад в медицину. В 1944 году Флеминг и Флори были посвящены в рыцари, а 1945 году они и Чейн получили Нобелевскую премию. Чейн и Абрахам тоже стали рыцарями — в 1965 и 1980 годах соответственно. Флеминг же удостоился наивысших в Великобритании посмертных почестей: и марта 1955 года его похоронили в склепе лондонского собора Святого Павла. Вскоре после этого отделение вакцинации в клинике Святой Марии было преобразовано в Институт Райта — Флеминга.
Пенициллин раз и навсегда изменил подход к лечению инфекционных заболеваний. За первыми достижениями последовали разработки полусинтетических пенициллинов и пенициллинов для перорального применения, в виде таблеток. Затем появились более мощные антибиотики. Первым стал стрептомицин, антибиотик широкого спектра действия, разработанный Зельманом А. Уоксманом и его коллегами в Рутгерском университете, Нью-Джерси
[147]. (Кстати, именно Уоксман придумал термин «антибиотик».) Особое значение стрептомицина обусловлено его эффективностью в лечении туберкулеза и ряда других бактериальных инфекций, резистентных к пенициллину.
Вскоре после этого фармацевтические компании объявили о появлении новых антибиотиков широкого спектра действия: в 1948 году лаборатория «Lederle» выпустила ауреомицин, а в 1950 году появился террамицин производства компании «Pfizer». Первый полностью синтетический антибиотик, хлорамфеникол (левомицетин), особенно эффективный в лечении брюшного тифа, был разработан в 1949 году компанией «Parke-Davis». Таким образом, наблюдение, сделанное Флемингом в 1929 году, через полстолетия привело к развитию мощнейшей отрасли фармацевтической индустрии — производству антибиотиков. Правда, современные фармацевты и фармакологи ведут себя гораздо осторожнее, чем в середине прошлого века. Они знают, что выведение
любого нового лекарства на рынок может обойтись более чем в 200 миллионов долларов — вследствие ужесточения критериев одобрения этих лекарств.
Еще одна проблема состоит в том, что бактерии постепенно вырабатывают устойчивость против лекарств, которые мы используем для борьбы с ними, в том числе и против пенициллина. Например, если в 1987 году резистентными к препаратам считались 0,2 % штаммов пневмококков, то в 1994 году таких штаммов стало уже 6,6 %. Неудивительно, что в 1994 году в больницах США от медикаментозно-резистентных инфекционных заболеваний скончались 13 300 человек
[148].
Пятьдесят лет назад врачи считали, что к 2000 году благодаря стрептомицину туберкулез исчезнет с лица планеты подобно оспе. Однако некоторые штаммы туберкулезной бациллы после определенных мутаций научились каким-то образом сопротивляться стрептомицину. Вследствие появления этих резистентных штаммов ежегодно восемь миллионов человек заболевают туберкулезом, а два миллиона из них погибают.
Иногда виновниками появления инфекций, резистентных к воздействию медикаментов, становятся сами доктора. Стремясь создать у больных впечатление, что они прилагают все усилия к их излечению, они слишком часто назначают антибиотики при вирусных инфекциях, хотя прекрасно осведомлены о том, что вирусные инфекции невосприимчивы к антибиотикам.
Все эти проблемы можно решить только одним путем — разработкой антибиотиков, эффективных против новых, мутантных штаммов бактерий. Известный американский специалист по туберкулезу Барри Блум из Медицинской школы имени Альберта Эйнштейна и его коллеги Уильям Джейкобс и Джеймс Сакеттни предложили шесть новых экспериментальных препаратов с доказанной в лабораторных условиях эффективностью против медикаментозно резистентных бацилл туберкулеза; впрочем, до сих пор за их производство не взялась ни одна фармацевтическая компания
[149]. Как мы уже указывали, получение разрешения правительства на введение нового лекарства может обойтись более чем в 200 миллионов долларов. Руководители фармацевтических компаний ни на минуту не забывают об этом экономическом факторе. Более того, даже после одобрения препарата его применение может быть внезапно прекращено из-за побочных эффектов, которые могут проявиться только через несколько лет. За последние десять лет такая трагическая судьба постигла несколько новых препаратов.
Однако несмотря ни на что, фармацевтические компании и дальше будут продолжать поиски новых, многообещающих антибиотиков и других видов лекарств, которые сумеют помочь человеку в борьбе с вирусными и паразитарными инфекциями, не поддающимися воздействию уже существующих антибиотиков.
Глава 10
Морис Уилкинс и ДНК

Морис Уилкинс
(1916–2004)
Буквально через несколько минут после того, как мы вошли в кабинет восьмидесятитрехлетнего почетного профессора биохимии Колумбийского университета Эрвина Чаргаффа, он указал нам на переплетенную подшивку немецких медицинских журналов 1871 года, лежащую на книжной полке.
— Вы хотите знать, кому на самом деле принадлежит самая большая заслуга в открытии ДНК? — воскликнул он с сильным акцентом, типичным для уроженца Вены, и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Фридриху Мишеру, описавшему свое открытие в 1871 году
[150].
Палец Чаргаффа по-прежнему был направлен в сторону переплетенных журналов.
— Увы, мы ничего о нем не слышали, — смиренно пробормотали мы хором.
— Конечно, не слышали, но я уверен, вам знакомы имена нобелевских лауреатов Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика, которых наша пресса возвела в ранг святых.
— Мы слышали также о Морисе Уилкинсе, Розалинд Франклин, Освальде Эвери, Фреде Гриффите и Максе фон Лауэ, — сказали мы, переходя к обороне и, может быть, с некоторой долей раздражения.
— Мишер открыл ДНК как химическую единицу. Это имеет для вас какое-то значение?
— Да, конечно; мы непременно постараемся узнать о нем как можно больше, когда вернемся в Сан-Франциско.
Что мы и сделали.
Чаргафф оказался прав, и мы начинаем эту главу с описания великого открытия Фридриха Мишера. Вплоть до появления знаменитой статьи о дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) в журнале «Nature» в 1953 году, в англоязычной научной и медицинской литературе Мишер удостаивался в лучшем случае одного предложения или упоминания в сносках. В 1970-х годах вышли три книги, в которых вкратце описывалась его работа
[151].
Швейцарец немецкого происхождения, Мишер начал свои исследования в 1868 году в Тюбингене, в лаборатории знаменитого биохимика Эрнста Хоппе-Зейлера. Застенчивый и довольно сдержанный Мишер целеустремленно искал ответ на вопрос: из каких химических веществ состоит клеточное ядро?
До Мишера никто не знал, какую роль играет клеточное ядро, и уж подавно никому не было известно, из чего это ядро состоит. Получить чистые суспензии клеток было очень сложно, еще более сложной представлялась задача отделения или извлечения крохотных, микроскопических ядер из окружавшей их клеточной цитоплазмы.
Мишеру удалось преодолеть все эти трудности. Зная, что у белых кровяных клеток, лейкоцитов, ядра довольно крупные, а кроме того, не очень большой объем цитоплазмы, он решил собрать такие клетки. Но как получить их? Мишер не побрезговал взять использованные бинты, выброшенные из тюбингенской больницы. На бинтах скопилось огромное количество лейкоцитов в гное, следовательно, Мишер получил в распоряжение большой, пусть и довольно тошнотворный, источник ядросодержащих клеток.
Проведя многочисленные химические опыты, методом проб и ошибок Мишер сумел отделить ядерный материал от цитоплазмы лейкоцитов. Полученной и очищенной химической субстанции он дал название
нуклеин. Хотя Мишеру было прекрасно известно, что в этом нуклеине содержится белок, оказалось, что с белковым компонентом связана еще какая-то, ранее неизвестная субстанция. Учитывая высокое содержание в ней фосфора, Мишер предположил, что роль нуклеина состоит в непрерывной поставке фосфора из ядра в цитоплазму. Несмотря на молодой возраст — ему тогда было всего двадцать пять лет! — Мишер понимал, что сделал важнейшее открытие; однако в 1869 году его руководитель Хоппе-Зейлер не разрешил ему обнародовать полученные результаты. Он отложил публикацию статьи на два года, чтобы лично проверить точность всех выводов. Что мог сделать Мишер в этой ситуации, дабы защитить приоритет своего замечательного открытия? Он лишь попросил указать при публикации статьи (а она увидела свет в 1871 году), что все описываемые результаты были получены двумя годами ранее.
Мишер знал, что открытый им нуклеопротеин обладает высоким молекулярным весом. В своем провидческом комментарии он указал, что такой крупный и сложный элемент, как нуклеин, по всей вероятности, может действовать как генетическая субстанция. В 1892 году он писал своему дяде, что нуклеин представляет собой очень крупную и очень сложную молекулу и что одна только изомерия содержащихся в ней атомов углерода может стать источником целого ряда молекул, по-разному ведущих себя и несущих бесчисленное число генетических характеристик. В качестве объяснения он остроумно предложил рассматривать этот химический способ передачи информации по аналогии с языком, в котором все слова и понятия «могут быть выражены» с помощью двадцати-тридцати букв алфавита. Он был совершенно прав, ибо Шекспир использовал в своих пьесах и стихах примерно тридцать пять тысяч разных слов — и для выражения всего этого словесного изобилия ему потребовалось всего двадцать шесть букв английского алфавита!
Впрочем, на протяжении пятидесяти одного года это первое указание на существование наследственного кода оставалось без внимания ученых. И только в 1943 году Эрвин Шрёдингер ввел понятие генетического кодирования.
Конечно, предложенную Мишером концепцию передачи наследственности можно назвать пророческой, но он и не подозревал, что материалом для передачи служит всего лишь нуклеиновая кислота, входящая в состав открытого им нуклеина. Он, как и многие его последователи, полагал, что вероятным передатчиком наследственных признаков служит белковый компонент.
В 1871 году, незадолго до публикации статьи с описанием открытия в журнале, издававшемся Хоппе-Зейлером, либо сразу после ее появления, Мишер ушел из лаборатории и возглавил кафедру физиологии в Базельском университете. Там он работал до самой смерти (от туберкулеза) в 1895 году.
Все эти годы он занимался, главным образом, преподаванием, а также созданием первого в Швейцарии Института анатомических и физиологических исследований. Здание этого института, так называемый Везалиниум, сохранилось до наших дней. Поднявшись по его лестнице, можно увидеть маленький, не бросающийся в глаза бюст Фридриха Мишера. Насколько нам известно, этот бюст и статья 1871 года (та самая, о которой говорил Чаргафф во время нашего визита к нему в 1988 году) остаются единственными осязаемыми доказательствами того, что этот выдающийся человек действительно существовал. А ведь за несколько месяцев до смерти Мишер получил письмо от великого европейского физиолога Карла Людвига, в котором тот заверял смертельно больного ученого, что память о нем сохранится в веках…
При жизни Мишер успел узнать, что в 1889 году его коллега Рихард Альтман сумел освободить нуклеин от белкового компонента, а оставшееся вещество назвал нуклеиновой кислотой. Вероятно, до него дошла и информация о том, что немецкий биохимик Альбрехт Коссель нашел в составе нуклеина основания — пурины и пиримидины. Впрочем, точное количество этих оснований определить не удалось. За выдающиеся достижения в области биохимии Коссель получил Нобелевскую премию в 1910-м, а Альтман — в 1912 году.
Хотя уже в конце XIX века ученые подозревали, что нуклеиновые кислоты содержат молекулы фосфата, пурина и пиримидина, лишь в 1909 году одаренный, но рассеянный биохимик Фебус Т. Левен обнаружил в нуклеиновой кислоте дрожжей сахар — D-рибозу. Через двадцать лет он же обнаружил другой сахар, 2-дезокси-D-рибозу, в нуклеиновой кислоте тимуса.
Левен, как и Мишер, полагал, что нуклеиновые кислоты представляют собой очень крупные макромолекулярные комплексы, составные элементы которых он называл
нуклеотидами (единицы, состоящие из фосфата, сахара и пуриново-пиримидиновых оснований). Уже многое зная о нуклеиновых кислотах, он был все-таки убежден, что вся генетическая информация содержится в ядерных протеинах. Левен и представить себе не мог, что простая макромолекула, состоящая из сахаров, фосфатов, пуринов, пиримидинов и нескольких молекул воды, может посылать миллиард, а то и больше макро- и микроинструкций, передаваемых хромосомами человека.
Благодаря эпохальным открытиям Луи Пастера и других ученых и Мишер и Левен знали, что свойства
молекулы зависят не только от составляющих ее атомов, но и от физико-химических взаимодействий между этими самыми атомами. Однако ни они, ни кто-либо из их современников тогда не мог предположить, что свойства
макромолекулы зависят не только от составляющих ее молекул, но также и от взаимодействий между молекулярными компонентами. Потребовались новые открытия и новые гениальные прозрения, прежде чем химики и биологи XX века осознали, что, подобно тому, как какие-то двадцать шесть букв английского алфавита позволяют составить огромное количество самых разных слов, относительно небольшое число разных молекул, входящих в макромолекулу ДНК и образующих мириады всевозможных комбинаций, сообщают этой внешне простой макромолекуле способность отправлять миллиарды посланий, определяющих всю генетику живых существ.
В 1912 году немецкий физик Макс фон Лауэ сделал открытие, которое Эйнштейн назвал одним из самых красивых в истории физики. Фон Лауэ заметил, что при облучении кристаллов рентгеновскими лучами на фотографической пластинке возникают специфические для каждого типа кристаллов темные пятна. А затем англичанин Уильям Генри Брэгг обнаружил, что причина этих пятен — дифракция рентгеновских лучей при их взаимодействии с атомами кристаллической решетки. Впоследствии Брэгг вместе со своим сыном, Уильямом Лоуренсом Брэггом, наблюдал, что пятна, возникающие на фотопленке под воздействием рентгеновских лучей, прошедших через кристалл, были не только специфическими для каждого кристалла, но и позволяли понять его пространственную структуру. Так возникла кристаллография — метод, давший ученым возможность заглянуть внутрь кристаллических веществ и понять устройство сложнейших макромолекул, в частности и нуклеиновых кислот.
В 1927 году английский врач Фред Гриффит провел весьма интересный эксперимент, результаты которого казались необъяснимыми. Гриффит ввел мышам подкожно культуру живых, но безвредных пневмококков, а кроме нее — мертвые пневмококки другого, смертельно опасного вида. На следующий день все мыши погибли, причем причиной их смерти оказалось «потомство» ранее безобидного штамма пневмококков — размножившись, эти пневмококки превратились в другой штамм, тот самый смертоносный штамм, который днем раньше, до введения его мышам, был умерщвлен. Более того — смертоносные свойства некогда безобидных, но превратившихся в убийц бактерий передавались их потомкам вновь и вновь!
Здравый смысл, без которого существование науки невозможно, не мог объяснить, каким образом мертвые бактерии смогли сотворить это совершенно живое чудо. Ни Гриффиту, ни его современникам (подтвердившим его результаты) и в голову не пришло, что виновницей поразительного преображения штамма безвредных пневмококков в коварных убийц стала субстанция, выделенная сорок лет назад Мишером из человеческого гноя.
Скорее всего, Гриффит никогда не слышал о Мишере и, видимо, ничего не знал о ДНК. Он самостоятельно заключил, что убитая культура токсичных пневмококков снабжала живых и размножающихся невирулентных (безвредных) пневмококков неким «питанием», поглощая которое безвредные бактерии каким-то образом начинали производить бактерии вредоносные. Гриффит был настолько убежден в правильности своей теории, что совершенно упустил из виду тот факт, что вирулентное потомство изначально невирулентного вида продолжало передавать смертельную вирулентность все новым и новым поколениям бактерий, несмотря на полное отсутствие этого «питания»
[152].
Конечно, теория Гриффита ошибочна, однако обнаруженное им явление было невероятно важно для дальнейшего развития генетики. Но удивительное дело — оно совершенно не заинтересовало тогдашних генетиков, погруженных в исследования их любимой дрозофилы. В 1931 году эпохальный эксперимент Гриффита привлек внимание очень робкого, маленького, лысеющего холостяка по имени Освальд Теодор Эвери, канадца по происхождению, врача по образованию, занимавшегося научными исследованиями в Рокфеллеровском институте.
Еще в молодости, работая с биохимиком Майклом Хейдельбергером, Эвери открыл химическую природу капсул четырех типов пневмококков, с которой была связана не только токсичность, но и серологическая специфичность этих бактерий. Кроме того, молодые ученые установили, что капсула каждого вида пневмококков состоит из специфического полисахарида.
Четыре полисахарида, хотя и состоявшие из похожих, простых молекул сахара, резко отличались друг от друга по своим биологическим свойствам. Вполне вероятно, что этот факт, установленный Эвери на раннем этапе его карьеры, навел его на мысль о том, что биологические свойства любой
макромолекулы зависят от внутренних взаимосвязей между составляющими ее молекулами. Это была совершенно новая идея — даже самые выдающиеся биохимики приняли ее только во второй половине XX века. Конечно, если бы Мишер или кто-то из его ближайших последователей знал о зависимости биологических свойств макромолекулы от взаимосвязей между образующими ее частями, роль ДНК в передаче наследственной информации была бы открыта на полвека раньше. В 1930 году эта поразительная истина не была до конца очевидна и самому Эвери, недаром он поручил своим лаборантам проверить удивительные результаты Гриффита. И ассистентам Эвери не потребовалось много времени, чтобы их подтвердить. Дж. Лайонел Эллоуэй сообщил, что ему легко удалось преобразовать невирулентный пневмококк в вирулентный, просто добавив экстракт мертвых вирулентных пневмококков в колонию их невирулентных собратьев, растущую в пробирке. Узнав об этом, Эвери загорелся идеей определить природу субстанции, благодаря которой один вид пневмококков превращается в другой. Даже быстро развивавшийся гипертиреоз, практически выведший ученого из строя на четыре года, не поколебал его решимости идентифицировать загадочное вещество. После гибели Гриффита в 1941 году, во время немецкой бомбардировки, Эвери раздобыл его фотографию и до самого выхода на пенсию держал ее на своем столе в Рокфеллеровском институте.
Эвери работал не в одиночку. В 1935 году к нему присоединился еще один канадский врач, Колин Маклеод, а в 1941 году в их команду вошел Маклин Маккарти, недавний выпускник медицинского факультета Университета Джона Хопкинса. Оба врача внесли огромный вклад в тридцатисемилетнее исследование химических свойств того, что они называли трансформирующим агентом.
На первом этапе анализа этого трансформирующего агента им удалось выделить небольшое количество ДНК. Несмотря на присутствие следов других химических веществ, в том числе и небольшого количества белков, гениальное чутье одного или нескольких членов группы Эвери — Маклеода — Маккарти подсказало им выбрать в качестве объекта более пристальных исследований именно фракцию ДНК. Мы никогда не узнаем, кому именно в голову пришла эта идея, но можем быть совершенно уверены в том, что Эвери, будучи лидером группы, если сам и не сделал решающего вывода, то, во всяком случае, не стал его оспаривать.
Итак, на протяжении многих лет три врача использовали все доступные им иммунологические, химические, биологические и физико-химические методы, чтобы выделить ДНК, и только ДНК, из специфических экстрактов. С самого начала во всех выделявшихся ими ДНК обнаруживался трансформирующий агент. Самой сложной оказалась задача освобождения ДНК от малейших следов белка, с которым она была связана в нуклеопротеиновом комплексе пневмококка. Эвери отлично знал, что, согласно общепринятой точке зрения, трансформирующим агентом может служить только белок с его невероятно сложным строением. Однако Эйвери хорошо понимал, что общепринятая точка зрения не всегда истинна.
Может быть, наиболее ярким доказательством трансформирующей способности ДНК явилась характерная утрата этой способности после добавления фермента, разрушающего кислоту. Через несколько лет, в основном благодаря усилиям Маккарти, группа сообщила об успешном выделении в чистом виде этого ДНК-разрушающего фермента.
Десятого декабря 1943 года, уступив настойчивым просьбам коллег, Эвери выступил с лекцией перед всеми сотрудниками Рокфеллеровского института и сообщил, что чистая ДНК, выделенная из мертвых инкапсулированных пневмококков III типа, оказалась способной преобразовывать культуру неинкапсулированных пневмококков II типа в инкапсулированные пневмококки III типа.
В конце лекции, как рассказывал Маккарти
[153], коллеги устроили Эвери овацию; однако когда председательствующий предложил задавать вопросы или выступать с комментариями, в зале воцарилась мертвая тишина. Наконец поднялся один из бывших сотрудников Эвери и поведал публике, как велись многолетние исследования, результаты которых только что были представлены. Потом он вернулся на свое место. Председательствующий, доктор Шнайдер, позже рассказывал Маккарти:
— И снова последовала долгая пауза. В конце концов, когда я уже не мог этого выдержать, я сказал: «Наше заседание, выявившее полное единство мнений, объявляется закрытым».
Важнейшая статья с описанием ДНК как единственной химической субстанции, содержащей трансформирующий агент, была напечатана в февральском выпуске «Журнала экспериментальной медицины» («Journal of Experimental Medicine») за 1944 год
[154].
В 1990 году, когда мы встречались с Маккарти, он рассказал нам, что статья отнюдь не стала сенсацией. Во-первых, генетики почти не читали «Журнал экспериментальной медицины». Во-вторых, все это происходило в 1944 году, во время войны, и в газетах печатались куда более захватывающие истории, нежели отчет о том, что загадочное химическое вещество «ДНК» способно преобразовывать пневмококки II типа в пневмококки III типа.
Но куда более серьезным препятствием на пути признания работы стал категорический отказ ведущего биохимика Рокфеллеровского института Альфреда Мирского признать генетические функции ДНК. Судя по всему, он не мог поверить, что ДНК, состоящая только из пуринов и пиримидинов, а также из нескольких фосфатов и сахаров, могла быть тем самым трансформирующим агентом. Переносить такой объем информации, по его мнению, мог только сложный белок.
И в стенах института, и за его пределами он неустанно выступал против концепции ДНК, предложенной Эвери и его коллегами. В лекции, прочитанной в апреле 1946 года перед той же аудиторией, которая три года назад слушала доклад о трансформации пневмококков, Мирский безжалостно обрушился на выводы Эвери и его сотрудников. Несмотря на то что они самым тщательным образом удалили из исследуемой субстанции все возможные остаточные элементы белка, Мирский утверждал, что в их якобы чистом растворе ДНК все-таки содержалось от одного до двух процентов белка, а этого количества вполне достаточно, чтобы играть роль носителя трансформирующего агента.
Сидя в зале, Эвери слушал эти ожесточенные нападки. Он ни разу не попытался выступить против утверждений Мирского; он не произнес ни слова. Он также не сделал попыток опровергнуть опубликованную Мирским статью, отрицавшую роль ДНК как носителя трансформирующего агента. Однако в 1946 году у Эвери началась тяжелая депрессия, и за время, прошедшее с первого сообщения о роли ДНК в 1944 году до тихого выхода на пенсию в 1948 году, он почти не занимался исследованиями. Точно так же, как Уильям Гарвей тремя столетиями ранее, усталый 71-летний Освальд Эвери оставил мир науки и прожил — незаметно и тихо — оставшиеся ему семь лет в доме своего брата Роя в Нэшвилле, штат Теннесси.
Вероятно, его расстроило, что открытие ДНК как субстанции, передающей наследственную информацию, не было признано и не получило известности как одно из величайших научных достижений столетия. Не исключено, что он даже не знал, что в конце 1940-х годов его номинировали на Нобелевскую премию, но из-за упрямого нежелания Мирского признать правильность выводов Эвери относительно ДНК Нобелевский комитет счел разумным отложить присуждение премии до того времени, пока открытие не получит дополнительного подтверждения.
Мы никогда не узнаем, что почувствовал Эвери в 1953 году, когда прочитал статьи Уилкинса, Уотсона, Крика и Франклин. Что касается его коллеги Колина Маклеода, открытие этими учеными структуры ДНК не произвело на него большого впечатления. Мы можем утверждать это, поскольку Маккарти передал нам копию записки, адресованной ему Маклеодом после прочтения «Двойной спирали» Уотсона. Вот что он писал:
«Может быть, настанет день, когда ты объяснишь мне эпохальное значение двойной спирали и т. д. Если бы это не придумали во вторник, то вполне могли бы придумать в какой-то другой лаборатории в среду или в четверг.
Пребывающий в растерянности, твой Колин».
Конечно, и Маклеод, и Маклин Маккарти испытали нечто большее, чем легкую обиду, по поводу того, что их открытие роли ДНК в передаче наследственной информации почти не привлекло внимания. В 1970 году нобелевский лауреат Уэнделл Стенли отмечал, что сообщение, сделанное этими учеными в 1944 году, оказалось «неоткрытым открытием». Однако это утверждение Стенли следует назвать непростительно неверным. Он знал лучше многих, что, прочитав статью Эвери, ворчливый биохимик из Колумбийского университета Эрвин Чаргафф немедленно бросил все свои исследования и посвятил себя изучению химической структуры ДНК. В 1949 году Чаргафф опубликовал первое сообщение о том, что в молекуле ДНК содержится равное количество аденина и тимина, а также гуанина и цитозина (правило Чаргаффа). Позже Уотсон, Крик и Уилкинс признали ключевое значение этой работы для их собственных исследований структуры ДНК.
Непреходящее значение открытия 1944 года легко понять, если вспомнить, как об этом пишет Джеймс Уотсон в «Двойной спирали»: именно указание на роль ДНК как молекулы-носителя наследственности, подтолкнуло Уотсона и Крика в 1951 году заняться изучением ее молекулярной структуры.
Итак, структура ДНК и ее генетические функции были открыты менее чем через десять лет после судьбоносной публикации. Этот срок не так уж велик для выдающегося достижения — достаточно вспомнить о том, что между открытием метода выращивания культур тканей и началом применения вакцины против полиомиелита прошло сорок два года.
Когда мы вспоминаем встречи с Морисом Уилкинсом, нам в голову неизменно приходят эти строчки из стихотворения Джона Китса:
Да, Меланхолии горят лампады
Пред алтарем во храме Наслаждений…
Трудно сказать, почему именно эти слова всплывают в памяти, когда мы думаем о великом ученом. Может быть, все дело в том, что мы сразу же вспоминаем о глубокой грусти, которую Уилкинс испытывал в молодости, наблюдая, как его сестра борется с тяжелой, неизлечимой болезнью. Кроме того, в 1953 году на его долю выпало то, что сэр Лоренс Брэгг назвал «просто ужасным невезением»
[155]. Позже мы вернемся к этому событию. Но, скорее всего, мы вспомнили строки Китса после рассказа Уилкинса о том, как ему трудно быть веселым, потому что «грусть как-то привычнее».
Однако довольно грустить. Нам предстоит рассказать историю, начатую и почти законченную Уилкинсом, историю об окончательном этапе разгадки тайны жизни — тайны молекулярной структуры ДНК.
Наполеон никогда бы не сделал родившегося в Новой Зеландии полуирландца, полуангличанина Мориса Уилкинса своим маршалом, хотя прозорливость Уилкинса как ученого превосходила полководческую прозорливость Наполеона. Уилкинс обладал целым рядом выдающихся дарований, но к их числу не относилось тщеславие. Как правило, сдержанный, говоривший неспешно и тихо, утонченно красивый человек с глубоко посаженными светло-голубыми глазами и прямым тонким носом, Уилкинс казался именно тем, кем он и был, — вдумчивым, эрудированным ученым.
Наша история начинается в 1944–1945 годах, когда Уилкинс работал над Манхэттенским проектом в Беркли, пытаясь выделить различные изотопы урана. Незадолго до этого он развелся с молодой женой-американкой и, наверное, по вечерам чувствовал себя одиноко. Именно в один из таких долго тянувшихся вечеров ему в руки попала тонкая книжка Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь?»
[156].
Уилкинс считает, что, именно прочитав эту книгу, он решил, что после войны обязательно займется изучением генов. Он читал также и об открытии группы Эвери. Таким образом, уже в 1946 году, основываясь на гипотезах Шрёдингера и результатах группы Эвери, Уилкинс четко сформулировал для себя революционную мысль: ДНК является носителем наследственности.
Большой удачей для него стал переезд в 1947 году вместе со своим руководителем, знаменитым Джоном Рэндоллом, в Лондон, где они начали работать в Королевском колледже. Рэндолл не только заведовал отделением физики, но и сумел наладить отношения с суровым и очень консервативным Советом по медицинским исследованиям (СМИ), от которого зависело финансирование первой в Англии биофизической лаборатории. До ее создания биологи, врачи и даже биохимики считали, что в медицинских исследованиях физики совершенно бесполезны. На самом деле вполне вероятно, что члены СМИ согласились поддержать инициативы Рэндолла не потому, что ожидали каких-то особых результатов, а потому, что увидели возможность так поблагодарить Рэндолла от имени всей медицинской общественности за спасение Англии от разрушения бомбардировщиками люфтваффе — все знали, что Рэндолл был одним из изобретателей многорезонаторного магнитрона, ключевого элемента радаров.
Таким образом, начиная с 1947 года Рэндолл выполнял две функции: заведовал отделением классической физики в Королевском колледже и курировал отделение биофизики, финансируемое СМИ.
А стать заместителем директора отделения биофизики Рэндолл пригласил молодого Мориса Уилкинса (ему был тогда тридцать один год). Рэндоллу нравилось, чтобы ученые, работавшие под его началом, были не только умными, но и лояльными. Уилкинс, с которым он общался еще до войны в Бирмингеме и после войны в Сент-Эндрюсе, оказался идеальным заместителем. Следует отдать должное Рэндоллу: он знал, что Уилкинс считает необходимым исследовать структуру ДНК, чтобы понять, каким образом она переносит генетическую информацию, и благосклонно отнесся к этой идее.
Несмотря на то что руководство двумя организациями занимало почти все его время, Рэндолл по-прежнему стремился лично участвовать в исследовательской работе. Он решил заняться изучением физической структуры луковицеобразной головки сперматозоида, в которой, как он знал, сосредоточено основное количество нуклеопротеина. Прежде всего он начал изучать головку сперматозоида под электронным микроскопом. В 1950 году он попросил студента-дипломника Реймонда Гослинга исследовать структуру головки того же сперматозоида с применением рентгеновской спектрографии. На тот момент Гослинг практически ничего не знал об этой методике, однако один из самых талантливых физиков в лаборатории Рэндолла, Алекс Стоукс, немного разбирался в технике изучения разных химических субстанций с помощью рентгеновских лучей. Рэндолл попросил его познакомить Гослинга с этой почти неизвестной дисциплиной на стыке физики и химии.
Гослинг, быстро освоив азы рентгеновской дифрактографии, был вынужден признать, что имеющееся в его распоряжении устаревшее оборудование не позволяет добиться удовлетворительного качества фотодиаграмм головок сперматозоидов. От безысходности он попросил у Уилкинса немного материала ДНК, чтобы сравнить рентгеновские дифрактограммы ДНК с полученными им немногочисленными дифрактограммами сперматозоидов.
Уилкинс получил небольшое количество ДНК вилочковой железы теленка от швейцарского физика Рудольфа Зигнера — тот так гордился чистотой и физической целостностью полученной им ДНК, что в мае 1950 года привез ее образцы в Лондон на встречу с коллегами-учеными. Уилкинс стал одним из тех, кому посчастливилось получить драгоценную субстанцию.
Тот факт, что Уилкинс получил в свое распоряжение столь тщательно выделенную ДНК, можно считать невероятной удачей. Если бы к нему в руки не попал именно этот образец, история открытия структуры ДНК могла бы пойти по совершенно иному пути. Уилкинс располагал и другими образцами ДНК, но именно ДНК Зигнера позволила ему выделить единичные, тончайшие, длинные волокна из общей желеобразной массы ДНК с помощью простой стеклянной палочки.
Поскольку вопрос о том, какого рода картинку можно получить при исследовании ДНК с помощью рентгеновских лучей, интересовал Уилкинса куда больше, чем Гослинга, он согласился дать Гослингу тонкое волокно ДНК. Первая дифрактограмма, полученная Гослингом, оказалась очень плохого качества, но это не обескуражило Уилкинса. Он прекрасно знал, что еще в 1939 году У. Т. Астбери, а затем, в 1947 году, С. Фурберг с помощью этой методики выяснили несколько важных фактов относительно физического расположения молекул, образующих огромную макромолекулу ДНК. Астбери определил, что расстояние между нуклеотидами в ДНК составляет 3–4 ангстрема, а Фурберг даже предположил, что ДНК может иметь спиралеобразную структуру.
В конце концов, именно Гослинг нашел способ получения хорошей рентгеновской диаграммы ДНК: он собрал вместе тридцать пять тончайших волокон ДНК, полученных Уилкинсом. Это произвело впечатление не только на Уилкинса, но и на Стоукса и, вероятно, на Рэндолла. Не исключено, что именно первая дифракционная фотография заставила Рэндолла весной 1950 года предложить трехлетнюю стипендию Розалинд Франклин. Рэндолл знал, что Франклин — опытный специалист по рентгеновской кристаллографии; Уилкинса и Гослинга можно было в лучшем случае назвать умными любителями в этой изящной, но тогда довольно-таки экзотичной области науки. Позже мы расскажем о Розалинд Франклин более подробно.
К сожалению, в середине 1950-х годов, как раз в то время, когда Гослинг начал поставлять Уилкинсу и Стоуксу для анализа дифракционные диаграммы вполне удовлетворительного качества, Британское адмиралтейство попросило Рэндолла вернуть одолженный ему рентгеновский аппарат. Впрочем, это событие, случившееся в конце лета, не сильно расстроило Уилкинса. Он резонно полагал, что они с Гослингом смогут использовать рентгеновский аппарат, принадлежавший другой исследовательской группе Королевского колледжа, но при этом его не радовала необходимость подвергать пучки волокон ДНК рентгеновскому облучению. Он понимал, что для определения структуры ДНК необходимо получить рентгеновскую дифракционную диаграмму не пучка волокон, а одного-единственного волокна ДНК. Для этого требовалось добиться резкого сужения рентгеновского пучка и сконструировать миниатюрную камеру.
Уилкинсу и Гослингу повезло: ученый-беженец из Германии Вернер Эренберг, работавший вместе со своим коллегой Уолтером Спиром в Колледже Биркбека, как раз изобрели рентгеновский аппарат, который они назвали микрофокусной генераторной лампой. Этот прибор обладал способностью фокусировать рассеянные пучки рентгеновских лучей и делать их очень узкими. Именно это, как понимал Уилкинс, и требовалось для получения удовлетворительных дифракционных диаграмм при рентгеновском облучении одного крохотного волоконца ДНК. Гослинг лично отправился в Биркбек и получил от Эренберга бесценный прибор.
— Это действительно имело такое значение? — спросили мы Гослинга спустя сорок лет.
— Я полагаю, — ответил Гослинг, — что этот прибор был нам совершенно необходим. И знаете, что самое интересное? Этот малый, Эренберг, ни за что не хотел
продавать микрофокусную лампу, он нам ее подарил!
Уилкинс понимал, что им потребуется также и микрокамера, и ее пришлось заказать на фирме «Филипс». Итак, к концу осени 1950 года группа располагала микрофокусной лампой, микрокамерой и рентгеновским аппаратом, одолженным у другой группы физиков. Почему-то ни Уилкинс, ни Гослинг не установили микрофокусную генераторную лампу или микрокамеру на рентгеновском аппарате. Видимо, они ждали, что осенью в лабораторию придет Розалинд Франклин и займется всеми проблемами оборудования, в частности компоновкой электрических схем и установкой микрофокусной лампы и оптических приспособлений, необходимых для работы с микрокамерой. Однако Франклин появилась в Королевском колледже только 1 января 1951 года.
Безусловно, Уилкинс не собирался и далее заниматься рентгеновской кристаллографией. Он хотел продолжить изучение ДНК с помощью ультрафиолетовой микроскопии. При этом он не сомневался, что под руководством Франклин, научного сотрудника с ученой степенью, Гослинг сможет получить дифракционную диаграмму отдельных волокон ДНК, а потом они со Стоуксом подвергнут ее анализу. Будучи пионером исследований ДНК в лаборатории и заместителем директора подразделения СМИ, он имел все основания рассчитывать на любезное отношение Франклин и ее сотрудничество в качестве одной из подчиненных. Уилкинс и не подозревал, что Рэндолл, не посоветовавшись с ним, в декабре 1950 года написал Франклин, что хотел бы видеть ее руководителем рентгеновских кристаллографических исследований ДНК и обещал сделать Гослинга ее ассистентом. Любой, прочитавший это письмо, ни на минуту не усомнился бы в том, что Франклин будет работать самостоятельно.
Кроме этого, Уилкинс ничего не знал о характере Розалинд Франклин. Следует добавить, что ему также и в голову не приходило, насколько амбициозным, безжалостным, не стесняющимся в средствах человеком был Джон Рэндолл. Нет никаких сомнений в том, что весной 1950 года, впервые увидев рентгеновскую диаграмму, полученную Гослингом, Рэндолл сообразил, что открытие структуры ДНК будет иметь куда большее значение, нежели изобретение магнетрона, к которому он приложил руку. Можно задаться вопросом, действительно ли он планировал изолировать Франклин от Уилкинса, с тем чтобы она сообщала о полученных ею данных непосредственно ему? В таком случае он снова мог бы стать основным соавтором (вместе с Франклин) одной из самых значимых научных публикаций столетия.
Вероятность этого не так мала, как может показаться на первый взгляд. Рэндолл славился тем, что умел заставить своих подчиненных ходить по струнке, но он в течение двух лет наблюдал за все разгоравшейся враждой между Уилкинсом и Франклин, не говоря Франклин, что Уилкинс является ее непосредственным руководителем и что, если она не хочет или не может сообщать ему о своих результатах, ей придется уйти из лаборатории.
Сам Уилкинс, рассуждая несколько десятилетий спустя о причинах, побудивших Рэндолла не разъяснить Франклин ее место в лаборатории, и о его неспособности раз и навсегда разобраться с ее поведением, высказал предположение, что Джон Рэндолл мог втайне рассматривать его как соперника.
Розалинд Франклин умерла молодой — от рака. По-видимому, она рано поняла, что обречена. Увидев ее фотографию, помещенную в автобиографии Фрэнсиса Крика
[157], любой мыслящий врач сразу же отметит печаль глубокой грусти на лице девушки. Молодые женщины, у которых без всякой очевидной причины появляется такое выражение лица, как правило, подсознательно предчувствуют свою смерть.
Еще будучи совсем юной, Розалинд Франклин четко поставила перед собой цель, к которой и стремилась всю свою короткую, оборванную страшной болезнью жизнь: она страстно желала стать знаменитым ученым. Розалинд довольно нежно относилась к своим родственникам, но, насколько нам известно, никогда не испытывала сексуального влечения ни к одному мужчине или к женщине. Невысокую, со спортивной фигурой, угольно-черными волосами, глубоко посаженными темно-карими глазами, не пользовавшуюся косметикой, Франклин нельзя было назвать хорошенькой; однако, одевшись по-другому и немного подкрасив глаза, Розалинд могла бы стать потрясающей красавицей. Впрочем, она хотела быть выдающимся ученым, а не светской львицей, женой или матерью.
Не отличалась Розалинд и приятным характером. Она обладала выдающимся умом, но ей не хватало той мудрости, которую порой создают душевная доброта и сострадательность. Все знавшие ее говорят, что она совершенно не выносила дураков. Трагедией и для нее, и для Мориса Уилкинса стало то, что она не считала его особо умным.
Мы спрашивали Фрэнсиса Крика, Джеймса Уотсона и Реймонда Гослинга, почему уже весной 1951 года Франклин так
невзлюбила Уилкинса. Сам же он до сих пор размышляет над причиной их взаимной нетерпимости. Сейчас Уилкинс работает над автобиографией — может, там он даст ответ на этот вопрос. Ни Крик, ни Уотсон не смогли прояснить нам причину этого конфликта. В «Двойной спирали» Уотсон рассказывает, что неоднократно чувствовал пренебрежительное и злобное отношение со стороны Франклин, но и сам он выражает на страницах книги такое презрение к Розалинд, что ему даже посоветовали написать позже своего рода эпилог, что он и сделал: Уотсон там приносит извинения за скверное отношение к этой обреченной, но невероятно талантливой женщине.
Мы пришли к выводу, что самую ценную информацию о конфликте между Франклин и Уилкинсом можно получить от Гослинга, может быть, потому, что на его долю выпала нелегкая задача работать бок о бок с Франклин, оставаясь при этом в дружеских отношениях с Уилкинсом. Сия задача оказалась Гослингу по силам — что, впрочем, не может удивить никого, кто знаком с этим искренним, обаятельным человеком. Он относился с симпатией к обоим противникам.
Гослинг совершенно уверен в одном: даже будь Франклин мужчиной, избежать конфликта не удалось бы.
— Они сразу не поладили друг с другом. В то время чувства Мориса были очень обострены, а Розалинд часто критиковала его, и в ее тоне слышался сарказм. Она часто бывала совершенно безапелляционной. Думаю, Морис тогда считал, что женщины, даже общаясь с равными себе, не говоря уж о начальстве, должны вести себя более деликатно, более уважительно. А Розалинд, говоря с ним и просто слушая его, не находила возможным проявить ни одно из этих качеств.
— Но вам самому не казалось, что с ней сложно общаться? — спросили мы.
— Вовсе нет. Но, знаете ли, я был простым студентом-дипломником, изо всех сил старавшимся получить степень.
— А вы когда-нибудь испытывали к ней чувство жалости?
— О нет, с чего бы это?
Мы не стали задавать новых вопросов, потому что Гослинг вдруг воскликнул:
— Я вспомнил о Розалинд кое-что, чему раньше не придавал значения. А ведь это могло сыграть определенную роль в том, что у нее развился рак яичников.
— Что вы имеете в виду? — спросили мы.
— Я помню, как она рассказала мне, что, когда работала в Париже, ее неоднократно просили прерывать работу на несколько недель из-за того, что, по показаниям ее личного датчика, она получила слишком большую дозу радиации. Она рассказывала мне об этом со смехом, ее забавляло, что ее наставники придавали такое значение тому, что сама она считала пустяком.
— Но, работая с рентгеновским аппаратом в вашей лаборатории, она пользовалась средствами защиты? — поинтересовались мы.
— Нет, она и в Королевском колледже никак не защищалась. Понимаете, у нее была сильная клаустрофобия. Во время бомбежек она даже отказывалась спускаться в убежище. Но я не врач, а потому это я должен спросить у вас, могло ли рентгеновское облучение стать причиной рака яичников, ведь, когда она заболела, ей было всего тридцать пять лет.
— Вполне вероятно, что облучение сыграло свою роль, — сказали мы.
Открытый конфликт между Франклин и Уилкинсом начался весной 1951 года, сразу после того, как Уилкинс провел в Кембридже семинар, на котором рассказал о том, как они с Гослингом изучают ДНК с применением рентгеновской дифракции. Прослушав его доклад, Розалинд пришла в ярость. Она подошла к Уилкинсу и в резких, бескомпромиссных выражениях заявила, что рентгеновским исследованием ДНК занимается она и ассистирующий ей студент, Гослинг, а вовсе не он. Она приказала ему вернуться к изучению ДНК под ультрафиолетовым микроскопом.
Услышав этот категорический приказ, исходивший от новоиспеченной научной сотрудницы, которая, как он полагал, пришла, чтобы помогать ему или по крайней мере сотрудничать с ним, Уилкинс, по его собственным словам, просто оторопел; ведь он был не только старше Франклин по возрасту, но и занимал пост заместителя директора всего отдела биофизики.
Несмотря на шок от выходки Франклин, Уилкинс тем не менее решил, что он сам и его коллега Алекс Стоукс продолжат свои опыты с ДНК и рентгеновским излучением. Более того, эти события происходили как раз в то время, когда они со Стоуксом все больше убеждались в спиралевидной конфигурации молекулы ДНК. По этому поводу Уилкинс даже написал письмо Фрэнсису Крику и нарисовал на полях спираль. Крик, занимавшийся в Кембридже белками, не интересовался тогда ДНК и подумал, что Уилкинс зря тратит время на ее изучение. (Конечно, это происходило до того, как в 1951 году он познакомился с Уотсоном.)
В мае 1951 года Рэндолла пригласили выступить с докладом на конференции по физике в Неаполе, но в последнюю минуту он послал вместо себя Уилкинса. После короткого доклада о ДНК Уилкинс показал слайд с дифракционной картинкой, полученной Гослингом в середине 1950 года, когда он подверг рентгеновскому облучению пучок волокон ДНК, присланных Зигнером. Среди присутствовавших в зале был и двадцатитрехлетний выпускник из Индианы Джеймс Дьюи Уотсон. Доклад Уилкинса не сильно заинтересовал молодого биолога, решившего посвятить себя изучению птиц, но, увидев слайд с рентгенограммой, он сразу же понял, что может найти ответ на вопрос, мучивший его еще до окончания университета: «Как можно определить природу объекта, передающего наследственную информацию человека его потомству?»
Еще не видя кристаллограмму Уилкинса, Уотсон был склонен считать, что ДНК представляет собой макромолекулу, переносящую наследственную информацию; в этом его убедила изящная работа Эвери и его коллег. Уотсон не сомневался — носителем информации является ДНК. Задача состояла в том, чтобы понять, каким образом эта простая по химическому составу макромолекула может осуществлять такой сложный биологический процесс.

Джеймс Уотсон
(р. 1928)
Уотсон интуитивно чувствовал, что раскрытие структуры ДНК позволит разгадать одну из основных тайн жизни. Один-единственный слайд Уилкинса дал Уотсону инструмент, который, как он полагал, не только поможет проникнуть в эту тайну, но и получить Нобелевскую премию. А то, что он совершенно ничего не смыслил в рентгеновской кристаллографии, ни в коей мере его не волновало; он понял, что должен найти человека, который поможет ему во всем разобраться.
В своей книге Уотсон пишет, что решил встретиться с Уилкинсом, пока тот не уехал из Неаполя. На следующий день он случайно увидел, как Уотсон разговаривает с его сестрой, и тут же начал строить далеко идущие планы. Он уже представлял себе, как Уилкинс влюбится в его хорошенькую сестру, женится на ней и, конечно, пригласит Уотсона работать в своей лаборатории.
Увы, этим мечтам не суждено было осуществиться. Побеседовав и с сестрой Уотсона, и с ним самим, Уилкинс, судя по всему, решил не продолжать знакомство. Однако Уотсон твердо настроился на работу с кем-то, кто мог бы преподать ему науку и искусство рентгеновской кристаллографии. Он не очень хорошо разбирался в химии и физике, и его порадовало, что исследования с дифракцией рентгеновских лучей требовали лишь небольших математических познаний. Этих познаний у него также не было, но он не сомневался, что быстро освоит все необходимое.
Благодаря своему бывшему преподавателю из Университета Индианы осенью 1951 года Уотсон получил место в престижной Кавендишской лаборатории в Кембридже, где ему предстояло работать с великим биофизиком Джоном Кендрю. Кендрю хорошо знал и умело применял метод рентгеновской дифракции — изучал с его помощью структуру гемоглобина и миоглобина. Уотсон недолго пробыл ассистентом Кендрю и вскоре покинул его лабораторию, пустившись в «свободное плавание». Похоже, биофизики и биохимики в Кавендишской лаборатории не воспринимали всерьез молодого американца, который, как позднее писал Крик, был, наверное, «слишком ярким и поэтому казался не совсем нормальным»
[158].
Случилось так, что большинство сотрудников Кавендишской лаборатории, включая директора сэра Лоренса Брэгга, считали излишне ярким и самого Фрэнсиса Крика.

Фрэнсис Крик
(1916–2004)
Крик был старше Уотсона на тринадцать лет. В то время он работал над докторской диссертацией по биофизике и считал самого себя гением; правда, в Кавендишской лаборатории многие придерживались другого мнения. Однако уже в 1951 году все сотрудники лаборатории понимали, что Крик невероятно талантлив, но он не пользовался большой популярностью, поскольку часто критиковал своих коллег и начальников. Нам кажется, что Уотсон в своей «Двойной спирали» слегка преувеличил грубость Крика и не совсем заслуженно назвал его смех «раздражающим». Мы неоднократно встречались с Криком на светских и научных мероприятиях, и его способность слушать других произвела на нас большое впечатление. Да и его смех не раздражал ни нас, ни наших гостей.
Ни Уотсон, ни Крик не описали в своих воспоминаниях, как произошла их первая встреча. Вполне понятно, что удивительно талантливый диссертант, много знавший о методе рентгеновской дифракции и любивший поучать других, оказался именно тем человеком, к которому устремился Уотсон, страстно желавший узнать побольше о рентгеновской кристаллографии. Кроме того, умный Уотсон сразу понял, что этот англичанин способен помочь воплотить в жизнь его заветную мечту: определить структуру ДНК, получить Нобелевскую премию и завоевать сердце самой красивой девушки в мире.
Мы уже упоминали о том, что к моменту приезда Уотсона в Кавендишскую лабораторию Крик не особенно интересовался ДНК. И конечно, только Уотсону с его заразительным энтузиазмом мы обязаны тем, что уже через несколько месяцев после появления в Кембридже он сумел привлечь Крика к своим исследованиям. Он сделал то, что не удалось Морису Уилкинсу, хотя тот и добивался этого на протяжении нескольких лет. Английские ученые, как указывает Уотсон в «Двойной спирали», редко вторгались в область, в которой уже работали их коллеги. И Крик не собирался нарушать это правило, тем более что они с Уилкинсом были добрыми друзьями.
Помимо того что Уотсону пришлось убеждать Крика встать на путь соревнования с Уилкинсом, он был вынужден преодолевать сопротивление директора Кавендишской лаборатории. Сэр Лоренс Брэгг прекрасно знал, что соревнование с коллегами-исследователями — вещь совершенно недопустимая, особенно если все получают финансирование от британского Совета по медицинским исследованиям. Но требования английского этикета не могли остановить американца Уотсона. В Соединенных Штатах подобный кодекс джентльменского поведения представлялся абсолютно нелепым.
Так каким же образом Уотсону удалось уговорить Крика? Он, как и все сотрудники Кавендишской лаборатории, признавал и высоко ценил его блестящий ум, а кроме того, нуждался в близком друге-англичанине и хотел, чтобы таким другом стал Крик. А тот со своей стороны не мог не почувствовать симпатии к необычному американскому парню, который
на первых порах внимал ему, словно Дельфийскому оракулу.
И наконец, буквально в это же время Лайнус Полинг сообщил о своем открытии спиральной структуры белка. Он строил все новые и новые модели молекулы белка с помощью маленьких разноцветных пластмассовых шариков (изображавших атомы и молекулы), пока не нашел правильный вариант. Это открытие подстегнуло интерес Крика. В дружеских беседах с ним Уилкинс неоднократно говорил, что, по его мнению, ДНК также обладает спиральной структурой, а Крик уже и сам, с помощью рентгеновской кристаллографии, построил теоретическую модель альфа-спирали белка.
Итак, познакомившись с Уотсоном и узнав, что тот также полагает, что молекула ДНК имеет спиральную структуру и что точно определить эту структуру можно путем создания модели
вместе с рентгеновским дифракционным исследованием, Крик не устоял перед искушением и принялся часами, день за днем излагать свою точку зрения жадно слушавшему Уотсону.
В конце концов, Уотсону удалось и подружиться с Криком, и сделать его своим партнером по научным исследованиям, тем более что Брэгг и другие сотрудники Кавендишской лаборатории не только поощряли сближение дерзкого молодого американца и засидевшегося докторанта, но и видели выгоду в том, что они сидели вместе в одном кабинете и целыми днями о чем-то беседовали и рисовали какие-то фигуры на доске, не отвлекая от научной работы серьезных сотрудников самой престижной физической лаборатории мира. Наверное, никогда еще в истории науки великое открытие не было сделано на основе такого количества теоретических рассуждений при ничтожно малой экспериментальной активности.
И Уотсон, и Крик сознавали, что само по себе создание модели не поможет раскрыть секрет молекулы ДНК. Предстояло продолжить изучение ДНК с использованием рентгеновской дифракции. Кроме того, необходима была и помощь биохимиков (хотя окончательное понимание этого пришло к ним только осенью 1951 года).
Огромную пользу исследованиям принесла дружба Крика с Уилкинсом. Именно благодаря ей Уотсон и Крик периодически получали сведения о результатах рентгеновских дифракционных исследований Розалинд Франклин. Мы не припоминаем, чтобы где-то в литературе описывалась дружба двух ученых, которая принесла бы такую неоценимую помощь одному, не дав почти ничего другому, как тогдашние отношения Крика и Уилкинса.
Трудно сказать, что именно связывало между собой Уилкинса, Крика и Уотсона осенью 1951 года, когда Крик решил начать вместе с Уотсоном работу по строительству вероятной модели ДНК. Гораздо позже (в октябре 1993 года) мы спрашивали об этом Уилкинса; он ответил, что давно дружил с Криком, поэтому считал совершенно естественным обсуждать с ним результаты рентгеновских исследований ДНК — и собственных, и проводившихся Розалинд Франклин. Однако он не сразу понял, что Крик и Уотсон работали вместе, одной командой. Скорее всего, Уилкинс считал, что ни молодой американец, ни Крик не смогут продвинуться достаточно далеко со своими конструкциями из красных, белых и синих пластмассовых шариков. Несмотря на почти невероятный факт открытия Полингом структуры молекулы белка именно с помощью этой методики на уровне детской игрушки, Уилкинс воздерживался от ее использования в своих поисках структуры ДНК.
Уотсон же, убежденный в пользе пластмассовых шариков, проволочек и металлических пластинок, понимал, что при создании моделей они с Криком нуждаются в руководстве и проверке. Поэтому, услышав от Уилкинса, что в ноябре 1951 года Франклин должна выступить с докладом о своих рентгеновских исследованиях ДНК, он спросил, можно ли поприсутствовать на заседании. Уилкинс заверил его, что он будет желанным гостем.
Уотсон действительно присутствовал на докладе, но ничего не записывал и поэтому неправильно запомнил рассчитанные Франклин показатели содержания воды в молекуле ДНК. Опираясь на то, что ему удалось запомнить, и не принимая во внимание принципиально важные данные о соотношении пуринов и пиримидинов, опубликованные Эрвином Чаргаффом
[159], Крик и Уотсон спешно построили предполагаемую модель молекулы ДНК и с гордостью продемонстрировали свое детище Уилкинсу, Гослингу и Франклин, приехавшей в Лондон, чтобы увидеть шедевр, якобы достойный Нобелевской премии. Розалинд Франклин потребовалось всего несколько минут, чтобы заявить: вы, ребята, построили какую-то ерунду. Позора можно было бы избежать, если бы Уотсон правильно запомнил содержание воды в молекуле. Не исключено, что, объясняя полную бесполезность модели, Франклин в полной мере дала волю своему сарказму.
После этого визита коллег из Королевского колледжа Крик и Уотсон упали духом. Они сразу признали, что уничижительная критика со стороны Франклин совершенно обоснованна. Более того, через несколько дней Брэгг, узнав о позорной ошибке, потребовал, чтобы они немедленно прекратили строить свои модели ДНК. Дескать, с самого начала он чувствовал, что им не следует вторгаться в сферу исследований Уилкинса. Ни Крик, ни Уотсон уже не могли придумать, чем бы занять свои беспокойные головы, и потому Брэгг строго приказал им переключиться на что-то другое.
Официально Уотсон и Крик перестали заниматься ДНК.
Однако на протяжении 1952 года Уилкинс делился с Криком результатами своих исследований ДНК. В конце концов, они были старыми друзьями. К тому же все нараставшее нежелание Франклин общаться с Уилкинсом привело к тому, что в Королевском колледже у него практически не осталось собеседников, с которыми он мог бы обсудить ситуацию с ДНК.
Может быть, в 1952 году Уилкинс и не догадывался о том, что Крик и Уотсон и не собирались отказываться от своей цели. Прекратив попытки создать модель ДНК, они продолжали всесторонне обсуждать все связанные с ней проблемы. Известие о том, что молекула ДНК привлекла внимание такого выдающегося ученого, как Полинг, лишь подстегнуло их рвение. В частности, они постарались наладить хорошие отношения с сыном Полинга, Питером, учившимся в то время в Кембридже. Они понимали, что Питер мог бы стать ценным источником информации об экспериментах отца.
Как следует из записных книжек Франклин, приступая к работе в Королевском колледже в 1951 году, она полагала, что ДНК обладает спиральной структурой (Уилкинс догадался об этом за год до ее прихода). Однако затем произошли два события, которые заставили ее думать иначе.
Во-первых, было обнаружено, что в зависимости от содержания воды молекула ДНК может существовать либо в относительно сухом или кристаллическом состоянии (форма А), либо в относительно влажном состоянии (форма В). Поскольку форма А гораздо больше напоминала настоящий кристалл, чем аморфная форма В, Франклин ошибочно решила, что для изучения следует брать именно форму А. Она как настоящий физик, привыкший иметь дело с небиологическими материалами, просто не знала, что почти все биологические молекулы функционируют не как совершенно сухие кристаллы, а как достаточно влажные, коллоидные образования.
Соответственно на протяжении почти всего 1952 года ей не удавалось определить с помощью рентгеновской дифракции точное структурное строение ДНК формы А. Хуже того, за год она так и не смогла рассмотреть спиральную структуру молекул на рентгеновских дифракционных картинках формы А.
Вторая причина, по которой Франклин решительно отвергла предположение о спиральной структуре молекулы ДНК, заключалась в том, что эту точку зрения все более настойчиво отстаивали Уилкинс и его коллега Стоукс.
Конечно, такое утверждение накладывает на нас серьезную ответственность, однако, учитывая упрямство Розалинд Франклин и ее все увеличивавшуюся неприязнь по отношению к Уилкинсу, мы не считаем его таким уж невероятным. Более того, известно, что в конце весны 1952 года Франклин, используя многофокусную лампу и микрокамеру, полученные Уилкинсом в 1950 году, провела рентгеновское исследование волокна ДНК и получила вполне удовлетворительную рентгеновскую дифракционную фотографию ДНК в ее влажной В-конфигурации. Франклин не показала эту фотографию (она стала известной под названием «Фотография № 51») ни Уилкинсу, ни другим сотрудникам лаборатории, потому что даже неопытный студент, только Начинающий знакомиться с методами рентгеновского дифракционного анализа, мог бы разглядеть на ней спиральную природу молекулы ДНК.
Франклин не просто скрыла дифракционное доказательство спиральной структуры В-формы ДНК — примерно через три месяца после того, как была сделана фотография, она разослала сотрудникам отдела биофизики открытки с жирной черной рамкой. Надпись на открытках гласила:
С большим прискорбием сообщаем о смерти СПИРАЛИ ДНК (кристаллической), последовавшей в пятницу, 18 июня 1952 года… Надеемся, что д-р М. X. Ф. Уилкинс произнесет надгробное слово в память о покойной СПИРАЛИ.
Сочиняя жестокую открытку, Франклин все же позаботилась указать, что спиральной структурой не обладала именно кристаллическая, А-форма ДНК. Ведь она уже знала, что форма В, безусловно, имела спиральную структуру.
Конечно, распространение этой «поминальной» открытки не обрадовало Уилкинса. Через несколько месяцев Франклин провела коллоквиум по своим исследованиям, в ходе которого он убедился в том, что форма А действительно не обладает спиральной структурой. Если бы он увидел «Фотографию № 51», демонстрирующую бесспорно спиральную природу В-формы, он продолжал бы верить, что ДНК имеет спиральную структуру. Но Уилкинс эту картинку не увидел и потому почти утратил интерес к изучению ДНК.
В конце 1952 года Рэндолл все-таки решил установить мир в своей лаборатории. Он предложил Франклин уйти и передать все полученные ею результаты Уилкинсу. Она подчинилась. Лишь тогда Уилкинс увидел «Фотографию № 51», безоговорочно подтверждавшую существование спирали. Он был потрясен — ведь если бы Франклин была добрее и показала ему фотографию полгода назад, они вдвоем уже разгадали бы загадку молекулярной структуры ДНК!
В январе 1953 года Уилкинс совершил серьезную ошибку: он показал «Фотографию № 51» Уотсону. Видимо, сделал он это потому, что не подозревал о трех обстоятельствах. Во-первых, он, скорее всего, не знал, что, несмотря на приказ Брэгга, отданный в конце 1951 года, Крик и Уотсон продолжали заниматься ДНК. Во-вторых, поскольку его никогда не привлекала идея определения структуры молекулы с помощью моделей, Уилкинс не понял, насколько близко они подошли к решению проблемы. И в-третьих, он совершенно не знал, что в их распоряжении был отчет Рэндолла перед Советом по медицинским исследованиям от 1951 года, в котором содержались некоторые данные относительно ДНК, полученные как Франклин, так и самим Уилкинсом. Увидев спираль на «Фотографии № 51», Уотсон сразу же сопоставил с ней эти данные, что и позволило им с Криком закончить модель молекулы ДНК.
Эта модель, фантастически красивая, имела вид спирали и состояла из двух цепочек, связанных друг с другом пуринами и пиримидинами. В феврале 1953 года Уотсон, вооружившись сей конструкцией, а также только что опубликованным ошибочным описанием структуры ДНК Лайнуса Полинга, отправился к Брэггу, чтобы получить его разрешение на возобновление работы над ДНК.
Уотсон рассказал Брэггу, насколько близко он подошел к разгадке молекулярной структуры ДНК, и особо отметил, что, поскольку Полинг тоже пытается определить эту структуру, речь идет о международном соревновании между Англией и Америкой, а не просто о «семейных» разборках между группой Уилкинса в Королевском колледже и Кавендишской лабораторией. Иными словами, Уотсон просил разрешения забыть о некогда существовавших опасениях, связанных с вторжением в сферу интересов Уилкинса. Под его напором Брэгг, не желавший даже допускать мысли о том, что Полинг вновь обойдет его, позволил Уотсону вернуться к строительству моделей. Конечно, Брэгг не мог не понять, что Уотсон и не прекращал заниматься ДНК. (Крик в разговоре не упоминался.)
Теперь Уотсон уже не сомневался в том, что молекула ДНК представляет собой двойную спираль. Оставалось только понять, каким образом пурины и пиримидины одной цепочки связываются или соединяются с пуринами и пиримидинами другой. Он бился над этой проблемой в течение всего февраля 1953 года: сначала пытался построить модель, в которой два пурина (гуанин и аденин) и два пиримидина (цитозин и тимин) первой цепочки соединялись бы с аналогичными пуринами и пиримидинами второй цепочки. Такой тип построения пар не устроил Крика, который, изучив данные Франклин, считал, что цепочки идут в противоположных направлениях.
Тогда Уотсон взял картонные копии четырех оснований и попытался найти другой способ соединения цепочек — соединил гуанин (пурин) не с другим пурином, а с цитозином (пиримидином), а аденин (также пурин) — с тимином (другим пиримидином). И тут обе цепочки потрясающим образом соединились. 28 февраля Уотсон и Крик окончательно поняли, что смогли разгадать структуру ДНК. Оставалось только вставить в модель металлические пластинки, обозначавшие основания, и, может быть, спаять еще несколько проволочек, изображавших водородные связи. Это было сделано во вторую неделю марта.
Именно в это время Крик получил от Уилкинса письмо следующего содержания:
Мой милый Фрэнсис!
Спасибо за письмо по полипептидам. Думаю, тебе будет интересно узнать, что наша темная леди (т. е. Розалинд Франклин) на следующей неделе оставляет нас, и значительная часть трехмерных данных уже находится в наших руках. Теперь я свободен от других обязательств и начал генеральное наступление на тайные оборонительные сооружения Природы по всем фронтам: с применением моделей, теоретической химии и интерпретации данных, кристаллографических и сравнительных. Наконец-то палубы свободны и мы все можем откачивать воду!
Осталось недолго.
Всем привет.
Неизменно твой,
М.
Прочитав это письмо, Крик посмотрел в угол кабинета, где стояла построенная ими модель. Уилкинс очистил палубы, чтобы найти решение проблемы, которую они уже разрешили. Крик так и не ответил на это письмо. Судя по всему, он попросил руководителя лаборатории Джона Кендрю сообщить Уилкинсу об окончании постройки модели по телефону.
Незадолго до 18 марта Уилкинс получил экземпляр рукописи статьи, которую Крик и Уотсон собирались послать в журнал «Nature» («Природа») для немедленной публикации. Прочитав ее, Уилкинс отправил Крику письмо, начинавшееся так: «Думаю, вы оба — мошенники, но в вас что-то есть». В письме Уилкинс предложил, чтобы его группа, а также Франклин и Гослинг тоже написали статьи, которые могли бы быть напечатаны вместе со статьей Уотсона и Крика. Он закончил письмо фразой: «Как предатель предателю — удачи!»
Никто не знает, кому и как удалось добиться того, что редакция «Nature» сообщила: статья Уотсона и Крика о ДНК поступила к ним 3 апреля 1953 года, в тот же самый день, что и еще две статьи на ту же тему, — авторами одной были Уилкинс, Стоукс и Уилсон, авторами второй — Франклин и Гослинг. Двадцать пятого апреля все три статьи были напечатаны под общим заголовком «Молекулярная структура нуклеиновых кислот», каждой статье предшествовал свой подзаголовок
[160].
Мало того, что работы исследовательских групп из Кембриджа и Королевского колледжа одновременно увидели свет, их также напечатали вместе в виде
одного оттиска, чего ранее никогда не случалось.
Прочитав все три статьи, невольно задаешься вопросом, почему занимающая одну страницу и состоящая из восьмисот слов статья Уотсона и Крика получила всемирное признание и считается ключевой работой по открытию ДНК, тогда как две другие работы прошли почти незамеченными
[161].
Рассматривая выпуск «Nature» от 25 апреля 1953 года, можно увидеть, что статья Уотсона и Крика напечатана перед работами Уилкинса и Франклин (опережая их всего на одну страницу), но это позволило Уотсону и Крику называть две другие работы «последующими публикациями». Напротив, Уилкинс и Франклин были вынуждены называть работу Уотсона и Крика «предшествующей публикацией». Печально, но факт: если содержание твоей статьи предварено содержанием статьи другого автора, ты теряешь самое святое для науки — приоритет. Более того, и Уилкинс, и Франклин указывали, пусть и иносказательно, что результаты их исследований подтверждают точность модели Уотсона и Крика. Франклин и Гослинг заключали свою статью словами: «В целом наши идеи не расходятся с моделью, предложенной Уотсоном и Криком в предшествующей публикации». Тем самым за Уотсоном и Криком утвердился приоритет открытия, и с этим, при всем нежелании, приходилось считаться.
Мало того что статья Уотсона и Крика открывала блок публикаций и авторы двух других работ оказались вынужденными скрепя сердце подтверждать ее выводы, великое открытие, а именно факт того, что две спиральные цепочки соединяются друг с другом благодаря связям пуринов и пиримидинов, описывалось в ней ясным, отточенным английским языком, без отвлекающего многословия. Работы же Уилкинса и Франклин изобиловали малопонятными научными терминами, и создавалось впечатление, что авторам доставляет удовольствие сбивать читателя с толку, излагая заумную физико-химическую тягомотину.
Великолепным и по-настоящему смертельным ударом по соперникам стала и простая диаграмма структуры молекулы, нарисованная от руки женой Крика Одиль: две линии (изображающие две цепочки молекул) обвивались вокруг вертикальной осевой нити, а проходившие между ними горизонтальные линии изображали пары пуриново-пиримидиновых оснований, соединяющие две спиральные цепочки.
 Этот рисунок, выполненный Одиль Крик, с сопроводительной подписью появился в статье Уотсона и Крика, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «Nature» от 25 апреля 1953 года
Этот рисунок, выполненный Одиль Крик, с сопроводительной подписью появился в статье Уотсона и Крика, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «Nature» от 25 апреля 1953 года
Простое визуальное изучение спиральных линий позволяло увидеть, что их разделение, по всей видимости, и является тем механизмом, с помощью которого самовоспроизводятся все клетки организма.
После объяснения химического состава цепочек и поперечных линий, разделяющих и в то же время соединяющих их, авторы сообщали: «Следует заметить, что из постулированного нами специфического образования пар сразу же следует возможный механизм копирования генетического материала». Это решительное заявление, сформулированное лично Криком, не могло остаться незамеченным ни одним ученым независимо от того, в какой области он работал. Опять-таки и схематичное изображение рентгенограммы молекулы ДНК, представленное в статье Уилкинса, и впечатляющие дифракционные картинки в работе Франклин могли рассчитывать на внимание лишь со стороны специалистов по кристаллографии. К счастью для Уилкинса, по меньшей мере один из этих специалистов сумел в 1962 году довести до сведения Нобелевского комитета, насколько важную роль сыграли дифракционные рентгенографические изображения в расшифровке строения одной из самых главных молекул в мире, молекулы, определяющей облик человека, его разум, а может быть, и душу.
Какой бы потрясающей и дерзкой ни была статья Уотсона и Крика, опубликованная 25 апреля, настоящим шедевром чистого мышления следует признать их вторую работу, увидевшую свет спустя пять недель в том же журнале
[162]. В первом параграфе утверждалось, что «имеется множество доказательств», указывающих на то, что ДНК является «носителем части (если не всей) генетической специфики хромосомы и, следовательно, самого гена». Однако на самом деле никакого «множества доказательств» не существовало. Имелись только данные Эвери и его коллег, о которых в статье даже не упоминалось. Затем, согласившись с тем, что их модель нашла подтверждение в
экспериментальных работах Уилкинса и Фанклин, Крик и Уотсон достаточно осмелели, чтобы указать, что две цепочки соединяются связями между аденином и тимином и между гуанином и цитозином. В качестве подкрепления этих данных они использовали
экспериментальные данные, полученные Чаргаффом, — во всех исследованных им нуклеиновых кислотах количество пуриновых и пиримидиновых оснований было примерно одинаковым.
Напомнив о принципе образования пар оснований, авторы указывали, что ввиду своей длины молекула ДНК допускает существование любой последовательности пар оснований в своей структуре, после чего делали потрясающий вывод о том, что в такой длинной молекуле, как ДНК, со множеством возможных последовательностей пар оснований, «возможно множество различных пермутаций, и поэтому представляется вероятным, что точная последовательность оснований является
кодом, переносящим генетическую информацию».
Далее Уотсон и Крик писали: «Поскольку могут образовываться только определенные пары оснований, то при заданной последовательности оснований одной цепи последовательность оснований другой цепи определяется автоматически. Таким образом, одна цепочка является дополнением другой, и именно эта особенность объясняет, как молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты может самовоспроизводиться». И затем: «Каждая цепочка служит собственным шаблоном для воспроизведения новой цепочки, и в конечном итоге там, где мы имели всего одну пару цепочек, получается две пары».
Скромно указав, что почти каждое утверждение в статье следует рассматривать как предположение и что многое еще только предстоит открыть, авторы заключали: «Суть предлагаемой нами гипотезы состоит в том, что шаблон является паттерном оснований, образованным одной цепочкой дезоксирибонуклеиновой кислоты, и что в гене содержится дополняющая пара таких шаблонов».
Питер Медавар, один из самых талантливых английских ученых, считал, что статья Уотсона и Крика, появившаяся в «Nature» 30 мая 1953 года, была не только более значимой, чем его собственное открытие, также удостоившееся Нобелевской премии, но и вообще представляла собой самое крупное событие в истории науки XX века, причем важнейшая особенность этого открытия заключалась в его завершенности. Он говорил о том, что если бы Уотсон и Крик только «нащупывали пути к ответу» или если бы они представили свое решение проблемы «как поэтапное, а не как родившееся из озарения», статья воспринималась бы как хорошо написанная, но «лишенная настоящего романтизма».
Следует отметить, что эти комментарии Медавар сделал в 1968 году, то есть через пятнадцать лет после изложения гипотезы Уотсона — Крика. Мы испытываем серьезные сомнения относительно того, мог ли он высказываться подобным образом в мае 1953 года, сразу после появления второй статьи. Скорее он был бы склонен полагать, что вся гипотеза о структуре ДНК представляет собой серию блестящих догадок, основанных только на экспериментальных выводах Эвери, Чаргаффа, Уилкинса, Франклин, и что самое главное, на подсказках химика Донахью, настаивавшего на том, что, вопреки прочитанному Уотсоном в учебниках, пуриновые основания в ДНК имели кетонную, а не енольную форму. Именно эта информация, полученная от Донахью, помогла Уотсону открыть связи пуринов и пиримидинов в ДНК. Уилкинс знал о том, что ДНК, вероятно, представляет собой двойную спираль, уже в 1950 году, а Франклин впервые открыла, что основа молекулы ДНК сформирована основаниями; однако ни Уилкинс, ни Франклин так и не поняли, что аденин может связываться только с тимином, а гуанин — только с цитозином. Эта поистине замечательная догадка принадлежала Уотсону и Крику.
Никогда еще для того, чтобы сделать открытие такого масштаба, ученые не пользовались столь простым набором средств: чертежи на доске, изучение результатов экспериментов и публикаций других исследователей, прилаживание друг к другу пластмассовых шариков, проволочек и металлических пластинок. За несколько лет совместной работы ни Уотсон, ни Крик ни разу не прикоснулись к нитям ДНК и не взглянули на них. Да им не нужно было этого делать: эту часть работы за них провели Эвери, Чаргафф, Уилкинс и Франклин.
Позже Крик признавал, что их смелая гипотеза не получила немедленного и широкого признания. Однако в 1958 году Мэтью Мезельсон и Франклин Сталь провели изящный эксперимент и подтвердили, что ДНК действительно представляет собой двойную цепочку, делящуюся в каждом поколении таким образом, что субъединицы материнской цепочки переходят к дочерним молекулам, а исходные субъединицы после многочисленных делений сохраняются интактными
[163].
После этого С. Бреннер с коллегами открыли молекулу-мессенджер РНК, передающую послания от молекулы ДНК в рибосомы цитоплазмы клетки и «объясняющую» им, как синтезировать одну или несколько из двадцати аминокислот. В конце 1961 года, на основании этого открытия, Крик и Бреннер смогли объяснить общую природу генетического кода, что открыло широчайшее поле деятельности для всех генетиков
[164]. Два последних открытия заставили Нобелевский комитет понять, что дальше затягивать присуждение премии Уотсону и Крику уже нельзя. Комитет не забыл и о человеке, сделавшем первые шаги на пути изучения проблемы, Морисе Уилкинсе. В 1962 году всем троим ученым вручили Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Если бы в 1958 году Розалинд Франклин не умерла от рака, процесс присуждения премии мог бы стать очень интересным. Премию не вручают посмертно и не делят между более чем тремя лауреатами. Будь Франклин жива в 1962 году, она бы смело могла претендовать на премию. Нельзя также забывать о том, что в ходе радиоинтервью Крик открыто признал, что в 1953 году они с Уотсоном не смогли бы сформулировать свою гипотезу без помощи Франклин. Когда мы спросили Уотсона, кто стал бы лауреатом Нобелевской премии, если бы Франклин дожила до 1962 года, он без колебаний ответил: «Крик, я и Розалинд Франклин».
Однако мы полагаем, что Уилкинс достоин своей доли Нобелевской премии в той же, если не в большей, степени, что и Уотсон с Криком. Если бы Уилкинс не изолировал одну нить ДНК, не дополнил бы рентгеновский аппарат микрофокусной лампой и микрокамерой, не рассказал Крику (о чем пишет Уотсон в «Двойной спирали»), что молекула ДНК слишком толстая, чтобы содержать всего одну цепочку полинуклеотидов, и что, следовательно,
молекула представляет собой спираль из полинуклеотидных цепочек, закрученных одна вокруг другой, и на протяжении всего 1952 года не снабжал бы Крика информацией об экспериментах, проводимых им самим и Франклин, журнал «Nature» от 25 апреля и 30 мая не напечатал бы статьи Уотсона и Крика.
Сегодня, спустя сорок пять лет после публикации основополагающих статей в «Nature», на счету Уотсона три должности (профессора в Гарвардском университете, директора Института Колд-Спринг-Харбор и в течение недолгого времени директора Национального центра исследований генетики человека при Национальном институте здоровья), он пишет и редактирует научные монографии. Помимо Нобелевской премии, он еще получил медаль Копли от Королевского общества и более пятнадцати почетных докторских степеней.
Крику после получения Нобелевской премии также предлагали почетные степени, но он решительно отказывался от них. Открыв вместе с Бреннером генетический код, он полностью прекратил работу в сфере генетики — увлекся нейрофизиологией. В течение многих лет он возглавлял кафедру в Институте Солка. Сидя в своем кабинете, он смотрел на залитый солнцем Тихий океан и размышлял об истинной функции снов в процессе мышления. Он никогда не соглашался с фрейдовской интерпретацией снов, хотя сам Фрейд наверняка посмеялся бы над книгой Крика
[165], в которой тот изложил свою теорию. Согласно этой теории жизнь на Земле началась с того, что на ней разбился снаряд, пущенный с другой планеты, рассеяв вокруг себя споры, из которых впоследствии произошли бактерии, амебы, рыбы, динозавры и люди.
Уилкинс ушел на пенсию и оставил должность профессора молекулярной биологии. В первые десятилетия после опубликования статьи в «Nature» он по-прежнему проводил сложные рентгенографические исследования ДНК и связанных с ней молекул. Помимо Нобелевской премии он получил также премию Ласкера. Он продолжает работать в Королевском колледже в звании заслуженного профессора и до сих пор читает лекции студентам. В настоящее время он работает над автобиографией, которая обещает быть настолько честной и точной, насколько позволит память уже далеко не молодого ученого. У него возникали определенные трудности при написании книги, особенно когда он пытался дать по меньшей мере справедливую оценку Розалинд Франклин. И вспомним еще раз, что Морису Уилкинсу парадоксальным образом всегда было проще сосуществовать с грустью. Встречаясь с ним, мы неизменно вспоминали замечание Йейтса: «Будучи ирландцем, он испытывал постоянное ощущение трагедии, которое поддерживало его в короткие периоды радости»
[166].
Мы думали обо всем этом солнечным осенним днем 1991 года, стоя у могилы Розалинд Франклин. Белые мраморные стенки саркофага блестели под яркими лучами солнца, но бронзовые буквы уже сильно потускнели. Нам пришлось постараться, прежде чем мы смогли прочесть короткую надпись:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ РОЗАЛИНД ЭЛСИ
ФРАНКЛИН
ГОРЯЧО ЛЮБИМАЯ СТАРШАЯ ДОЧЬ
ЭЛЛИСА И МЮРИЭЛЬ ФРАНКЛИН.
25 ИЮЛЯ 1920–18 АПРЕЛЯ 1958.
УЧЕНЫЙ
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ
В ОБЛАСТИ ВИРУСОВ ПРИНЕСЛИ ОГРОМНУЮ
ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Таким образом, вклад Франклин в выдающееся достижение медицины нашего века не был признан даже после ее смерти. Однако ей воздали должное за то, что было для нее самым важным — за ее научную деятельность.
Глава 11
Заключение
С того момента, как мы приступили к отбору десяти выдающихся открытий в медицине, и на протяжении всего периода работы над нашей книгой перед нами вставали определенные вопросы, которые мы часто оставляли без внимания, понимая, однако, что, в конце концов, нам придется на них ответить.
Совершенно очевидно, что в первую очередь следовало ответить на вопрос: какое же из этих судьбоносных открытий было наиболее важным? Мы советовались с коллегами, коллекционерами книг по медицине, букинистами, специализирующимися на старинных медицинских изданиях. Мы долго обсуждали этот вопрос между собой, а потом решили, что должны подумать в одиночку и самостоятельно прийти к каким-то выводам. Мы так и поступили, а потом оказалось, что наши выводы совпали. Независимо друг от друга мы решили, что самым великим достижением западной медицины стало разъяснение функций сердца и кровообращения в теле человека, сделанное Уильямом Гарвеем, который впервые в истории применил в медицине принцип
экспериментирования. Он также признал, что тело и его части находятся в движении и более того — сама жизнь представляет собой непрерывное движение.
На второе место мы поставили точное описание тканей и органов человеческого тела, предложенное Андреасом Везалием. Вначале мы оба склонялись к тому, чтобы поставить достижение Везалия на первое место; однако, когда мы поняли, что открытие Гарвея дало толчок к развитию такой науки, как физиология в ее теперешнем виде, нам пришлось признать, что открытое им движение крови по кругу является величайшим достижением не только западной медицины, но и мировой, причем за всю её историю.
Кроме того, с самого начала нас волновал вопрос
о том, какую роль во всех этих десяти достижениях сыграло везение или удача? Совершенно очевидно, что в четырех случаях это была ключевая роль. Если бы дождевая вода не постояла несколько дней в открытой бочке у дома Антони Левенгука, в ней не размножились бы бактерии, которых он изучал под своим микроскопом.
Аналогичным образом Кроуфорд Лонг никогда не понял бы, каким прекрасным обезболивающим средством является эфир, если бы однажды утром не вспомнил, что накануне, на очередной «эфирной вечеринке», сильно ударил ногу и при этом странным образом не почувствовал никакой боли.
Никто не знает, когда было бы открыто рентгеновское излучение, если бы Вильгельм Рентген по чистой случайности не бросил взгляд на маленький кусочек бумаги с покрытием, лежавший, опять-таки по чистой случайности, рядом с трубкой Крукса, и не заметил, что он флюоресцирует.
Александр Флеминг никогда не открыл бы антибактериальное действие пенициллина, если бы крохотная спора плесени
Penicillum не упала в чашку Петри, где по воле случая он выращивал культуру бактерий, которые, к счастью, оказались восприимчивыми к пенициллину. И его открытие не состоялось бы, если бы он поехал в отпуск в другое время и если бы лондонская жара не отступила именно в тот день, когда спора плесени попала в чашку Петри.
Конечно, для того чтобы эти четыре открытия состоялись, одной удачи было мало. Кроме нее, требовались терпение, сосредоточенность и организованность. А этими качествами в полной мере владели и Левенгук, и Лонг, и Рентген, и Флеминг.
Ответа требовал еще один вопрос: могло ли какое-то одно из выбранных нами открытий проистекать из другого? Конечно! Ведь если бы Везалий не изучил основные элементы, составляющие тело человека, и не сделал их относительно точное описание, Гарвею (спустя семьдесят пять лет) было бы непросто понять, что сердце представляет собой цельный функционирующий орган, а сеть артерий и вен казалась бы ему непроходимыми джунглями беспорядочно разбросанных сосудов.
Опять-таки, если бы Левенгук и его последователи не выявили существование бактерий, Флеминг, безусловно, не имел бы понятия о существовании этих организмов и ни в коем случае не стремился бы найти способ помешать их росту.
Эти достижения напрямую связаны между собой. Но, как мы уже указывали, восемь великих открытий, последовавших за открытием Гарвея, не состоялись бы, если бы Гарвей не ввел в медицинские исследования принцип
экспериментирования. В частности, изучение работ Дженнера, Рентгена, Аничкова или Уилкинса показывает, что эксперимент играл в них ведущую роль.
Интересовал нас и такой вопрос: происходили ли эти открытия в какой-то конкретной стране или в конкретных социальных или политических обстоятельствах? В данном случае трудно дать однозначный ответ.
Четыре великих открытия были сделаны в Англии, по два — в Америке и Голландии, по одному — в Германии и России. В пяти случаях открытия совершались в стране, находившейся в то время под почти абсолютной монархической властью. Ни один из тоглашних правителей не финансировал исследования, приведшие к великим открытиям, однако впоследствии монархи оказывали авторам этих открытий почести или поощряли их материально. Остальные пять великих достижений совершились уже при вполне демократических режимах. Таким образом, похоже, политические системы правления тут не играют особенной роли — между прочим, одно из крупнейших научных открытий (расщепление ядра) было сделано в 1939 году в гитлеровской Германии. Семь великих открытий состоялись в стенах медицинских школ или университетов, и только Левенгук, Дженнер и Кроуфорд проводили свои исследования вне научных учреждений.
Обратившись снова к нашим десяти открытиям, отметим, что ни одно из них не было сделано гением — если понимать это слово так, как принято с конца XVIII века. Иными словами, ни один из авторов этих открытий не обладал тем особым типом интеллекта, который на первый взгляд происходит от
необъяснимого вдохновения, и ни один из них не добился полученных результатов
необъяснимым и чудесным образом. Например, изучение работ Гарвея или Дженнера не может вызвать такого восторга, как прослушивание Пятой симфонии Бетховена, созерцание «Моны Лизы» Леонардо или «Пьеты» Микеланджело или чтение первого изложения квантовой теории Макса Планка.
Мы восхищаемся
естественными, совершенно доступными пониманию талантами наших десяти исследователей, но не испытываем потрясения перед ними в первую очередь потому, что мы можем проследить за работой их великих умов. Более того, мы готовы поверить, что, оказавшись в их ситуации, могли бы прийти к тем же выводам. При этом ни одному из нас и в голову не придет, что мы могли бы создать нечто сопоставимое по своей гениальности с музыкой Моцарта, драмами Шекспира или ньютоновскими законами физики. Иными словами, авторы описываемых открытий были невероятно талантливыми людьми, но… не гениями!
Впрочем, не будучи гениями, десять наших героев и их последователи обладали не только выдающейся любознательностью, но и, что не менее важно, способностью методически исследовать то, что возбуждало их интерес.
Везалий испытывал почти навязчивый интерес к костям человеческого тела, и он стал первым ученым, который точно понял, что без костей мы превратились бы в мягкий комок органов и тканей, способный стоять, двигаться или функционировать не больше, чем беспанцирный моллюск. А, как теперь известно, без внешней структурной поддержки костей черепа было бы невозможным и наше мышление. Везалий понимал необходимость методического изучения костей человека — его не могла остановить даже опасность быть атакованным сворой голодных собак, пожиравших трупы на кладбищах, где он по ночам собирал материал для своих исследований.
Вот и Гарвей отличался невероятной любознательностью, причем интересовали его не только сердца, артерии и вены. Так, к примеру, его занимало происхождение и назначение гигантского комплекса Стонхендж, и он регулярно проводил раскопки у подножия древних каменных сооружений. Еще больше его волновало эмбриональное развитие животных, и потому он постоянно производил вскрытия представителей разных видов фауны.
Но Левенгук, похоже, был еще более любознательным, чем Гарвей. Под своим микроскопом он изучал не только дождевую воду. Он исследовал и описал язык свиньи, конский навоз, хрусталик глаза кита, глаз мухи, а еще состав своей собственной крови, семенной жидкости и даже зубного налета.
Как мы уже упоминали, Эдварда Дженнера в равной степени занимали причины развития стенокардии и жизнедеятельность кукушат. Вспомним, что в Королевское общество его приняли не за открытие метода вакцинации, а за наблюдения за образом жизни и описание анатомии кукушки.
И что, если не любознательность, подтолкнуло Кроуфорда Лонга заняться изучением эфира, надышавшись которым он умудрился серьезно пораниться, но не испытал при этом боли?
А Рентген никогда не открыл бы Х-лучи, если бы не захотел узнать, почему маленький экран, покрытый платиноцианидом бария и лежащий на расстоянии ярда от трубки Крукса, вдруг засветился зеленовато-желтым светом.
Если бы Росс Гаррисон не заинтересовался процессом роста и удлинения нерва, он бы никогда не догадался поместить живой нерв в лимфу, в результате чего и был открыт способ выращивания культур тканей.
Факт развития атеросклероза в артериях кроликов или морских свинок, получающих в пищу яичные желтки, не был секретом для ученых. Однако только любознательность заставила Николая Аничкова заняться поисками химического составляющего желтка, ответственного за развитие болезни.
Не будь Флеминг таким любознательным, он, вернувшись из отпуска и увидев, что в одной из чашек Петри разрослись не только бактерии, но и какая-то желтоватая плесень, просто выбросил бы содержимое этой чашки. Однако он заметил, что рядом с плесенью рост бактерий прекратился, и, проведя соответствующие исследования, открыл антибиотическую силу пенициллина.
Личное знакомство связывало нас лишь с одним из описанных в этой книге ученых — с Морисом Уилкинсом. Мы беседовали с ним на протяжении долгих часов, и он оказался настолько любезным, что прислал нам наброски первых глав своих мемуаров. Может быть, его любознательность не распространялась на столь разнообразные сферы, как любознательность Дженнера или Гарвея, но ее хватило на то, чтобы подробно расспрашивать нас не только о нашей научной деятельности, но и о наших семьях.
Конечно, наши десять героев отличались друг от друга и по мощи таланта, и по степени любознательности, но всех их объединяли умение наблюдать и настойчивость при экспериментировании, приведшие к замечательным открытиям. Отметим при этом интересный факт: совершив эти открытия, многие из них обратились к деятельности совершенно иного рода: это случилось с Везалием после выхода в свет «Фабрики», с Рентгеном после открытия Х-лучей, с Флемингом после обнаружения антибактериальных свойств пенициллина.
Хотя все десять исследователей были женаты и у большинства из них были дети, самую горячую страсть все они испытывали к науке. Ради этой своей возлюбленной они зачастую пренебрегали и женами, и даже детьми, хотя, несомненно, испытывали к ним самые добрые чувства. Дети наших героев не достигли даже средних высот ни в одном роде деятельности.
Все десять наших героев, за исключением, может быть, Гаррисона, жаждали прославиться. За шесть лет до публикации «Фабрики» в 1543 году Везалий всячески стремился добиться известности и получить должность придворного врача, а четыре века спустя Флеминг и Уилкинс мечтали получить Нобелевскую премию.
Однако, добиваясь признания и славы, ни один из десяти наших героев не гнался за деньгами. К сожалению, сегодня ученые живут иначе. Многие исследователи, подстегиваемые жадными до денег фармацевтическими компаниями, а в последнее время, и самыми престижными медицинскими учебными заведениями, хотят получить гораздо больше, чем просто признание. Они хотят запатентовать свои открытия, чтобы заработать на них. Доживи Рентген до наших дней, он был бы очень огорчен, узнав, что наши университеты и фармацевтические компании думают только о прибылях. Впрочем, во времена Рентгена на проведение исследований с целью одобрения одного-единственного лекарственного препарата не требовалось двухсот миллионов долларов.
Большинство из наших десяти первооткрывателей были молоды (на момент совершения открытия их средний возраст составлял 32,4 года). Трое (Везалий, Лонг и Аничков) не достигли и тридцати лет; самым старшим оказался Рентген — ему было пятьдесят.
Мы постарались как можно лучше представить научные характеристики всех десяти открытий и, сделав это, задумались над тем, какое из них мы могли бы назвать самым интересным и, может быть, самым восхитительным. Мы спрашивали себя: с кем из описанных в этой книге ученых мы хотели бы провести короткий (или даже длинный) отпуск? Чьи таланты и интересы нашли бы наибольший отклик в душах обычных людей, таких, как авторы этой книги?
Не колеблясь мы отвергли в качестве кандидатов для совместного отдыха восьмерых: неуживчивого эгоиста Везалия; Гарвея, очевидно предпочитавшего собственное общество поиску родственных душ; Левенгука, потому что не смогли представить, чем он мог заниматься, помимо рассматривания разных предметов под микроскопом и продажи мануфактуры; неразговорчивого Рентгена, сторонившегося светских развлечений; любящего одиночество Гаррисона, которого считали скучным даже студенты в Йельском университете; Аничкова, предстающего на всех фотографиях угрюмым человеком без тени юмора в глазах; чрезвычайно сухого и скучного Флеминга; чересчур меланхоличного и отстраненного Уилкинса.
Нам обоим сразу показалось, что мы получили бы наибольшее удовольствие от общества Эдварда Дженнера. Если бы он поехал с нами отдыхать и понял, что мы не испытываем большого желания слушать его рассказы об интереснейших опытах с коровьей оспой, он мог бы рассказать нам о своих открытиях в области коронарной болезни или описать забавные и не очень забавные выходки своего обожаемого наставника Джона Гунтера. Если бы мы устали от этих рассказов, он бы поведал нам немало интересного о сезонных миграциях певчих птиц Англии или расширил наши познания о столь любимых им кукушках. А, заметив, что мы пресытились и этими замечательными наблюдениями, Дженнер почитал бы нам свои стихи, а потом с удовольствием сыграл бы прелестные мелодии собственного сочинения на скрипке или флейте. Он был бы рад прокатить нас в экипаже, запряженном двумя прекрасными лошадьми из его конюшен, и показать нам пейзажи Беркли. Он предложил бы нам посмотреть на эту местность с высоты птичьего полета, из гондолы построенного им воздушного шара, наполненного водородом. А после этих путешествий мы согрелись бы за бокалом лучшего кларета из его погребов. О да, мы бы с удовольствием провели время с Эдвардом Дженнером!
Нам бы искренне хотелось узнать побольше о Кроуфорде Лонге. Имеющаяся в нашем распоряжении скупая информация позволяет думать, что и его общество доставило бы нам огромное удовольствие. В конце концов, ведь к открытию хирургической анестезии его привело не что иное, как участие в веселой «эфирной вечеринке»!
Существует высокая вероятность того, что в XXI веке в медицине будет сделано открытие, равное или даже превосходящее по значимости те, что описаны в нашей книге. Какое же оно будет, это открытие? Мы полагаем, что в результате серии экспериментальных исследований ученые, в конце концов, найдут способ лечения таких пока загадочных заболеваний, как маниакально-депрессивный синдром и шизофрения, которые уродуют и разрушают жизни миллионов жителей нашей планеты. Для подобных открытий, по-видимому, потребуются инструменты и методы, которые сегодня трудно даже представить; тем не менее мы твердо уверены, что их обязательно изобретут. Эти победы могут быть одержаны только благодаря талантливым — или даже гениальным — исследователям, работающим в тесном сотрудничестве с химиками, физиками и инженерами.
Достижения медицины, которые ждут нас впереди, будут в сотни раз более выдающимися, чем все открытия, сделанные в прошлом.
Как бы хотелось узнать, какими окажутся
следующие десять выдающихся открытий…
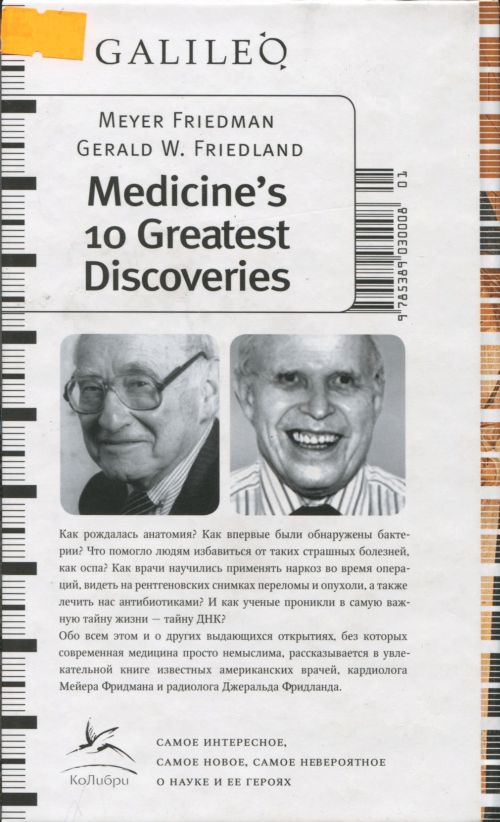
Примечания
1
C. D.O’Malley,
Andreas Vesalius of Brussels (Berkeley: University of California Press, 1964).
(обратно)
2
A. Vesalius,
Tabulae anatomicae sex (Venice: J. S. Calcarenses, 1538).
(обратно)
3
A. Vesalius,
De humani corporis fabrica, libri septem. (Basel: Jounnis Oporini, 1543).
(обратно)
4
«
Letter on the China Root», 1546, в переводе в книге C. D.O’Malley «
Andreas Vesalius of Brussels» (Berkeley: University of California Press, 1964).
(обратно)
5
На стр. 662 в «Фабрике» изображена визжащая свинья. Она лежит на спине, ее конечности и верхняя челюсть скованы цепями, прикрепленными к столу и удерживающими свинью при вивисекции, которую проводят без какого-либо обезболивания. Более жуткую иллюстрацию трудно себе представить. Совершенно очевидно, что она не принадлежит кисти Яна Стефана ван Калькара.
(обратно)
6
B. Eustachius,
Tabulae anatomica (Rome: Gonzagae, 1714).
(обратно)
7
Евстахий указал, что в «Фабрике» была описана и нарисована почка не человека, а собаки.
(обратно)
8
M. Servetus,
Christianismi restitutis (Vienna: Balthasar Amullet, 1553).
(обратно)
9
R. Colombo,
De re anatomica, libri XV (Venice: Nicolai Beullacquae, 1559).
(обратно)
10
A. Cesalpino,
Peripateticarum questionum, libri quinque (Venice: Apud Luntas, 1571).
(обратно)
11
G. Fabrici,
De venarum osteolis (Padua: Lorenzo Pasquati, 1603).
(обратно)
12
W. Harvey,
Exercitationes de generatione animalium (London: O. Pulleyn, 1651).
(обратно)
13
R. Lower.
Iractatus de corde (London: J. Allestry, 1669).
(обратно)
14
M. Malpighi,
Opera omnia (London: R. Scott, 1686).
(обратно)
15
Гук, как впоследствии и Левенгук, описывал, как выглядят в увеличенном виде предметы, которые можно увидеть и невооруженным глазом (например, гусиное перо, листья, семена, глаз мухи). Иными словами, Гук представил некоторые невидимые детали видимых предметов. Его «Micrographia» стала одной из первых книг, напечатанных с одобрения Королевского общества. Микроскоп, которым пользовался Гук, был сложнее, чем прибор, сконструированный Левенгуком, но линзы, выточенные Левенгуком, отличались гораздо более высоким качеством.
(обратно)
16
Впоследствии письмо было переведено с голландского на английский целиком и опубликовано в 1932 году членом Королевского общества Клиффордом Добеллом, автором хрестоматийной биографии Левенгука:
Antony van Leeuwenhoek and His «Little Animals» (London: John Bale, Sons, and Daniellson, Ltd., 1932).
(обратно)
17
W. Bullock,
The History of Bacteriology (London: Oxford University Press, 1936).
(обратно)
18
L. Pasteur,
Thèses de physique et de chimie, présentées à la faculté des sciences de Paris (Paris: Imprimeries de Bachelier, 1847).
(обратно)
19
Выздоровевший Мейстер посвятил Пастеру всю свою жизнь: он работал сторожем в Пастеровском институте. После гитлеровского вторжения во Францию немецкие солдаты потребовали от оставшегося при институте Мейстера вскрыть гроб Пастера, однако тот предпочел покончить с собой, застрелившись из револьвера, хранившегося у него со времен Первой мировой войны.
(прим. ред.)
(обратно)
20
R. Koch,
Die Aetiologie der Milzbrand — Krankheit, begrundet auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus Anthracis, Bitrage Biologie der Pflanzen 2 (1876): 277.
(обратно)
21
R. Koch, Die Aetiologie der Tuberkulose,
Berliner Klinische Wochenschrift 19 (1882): 221.
(обратно)
22
F. Fenner, D. A. Henderson, I. Arita, Z. Jezek and I. D. Ladnyi
Smallpox and Its Eradication (Geneva: World Health Organization, 1988).
(обратно)
23
R. B. Fisher,
Edward Jenner, 1749–1823 (London: Andre Deutsch, 1991).
(обратно)
24
P. Razzel,
Edward Jenner’s Cowpox Vaccine: The History of a Medical Myth (Firle, England: Caliban Books, 1977).
(обратно)
25
J. Baron,
The Life of Edward Jenner, vol. 1 (London: Henry Colburn, 1827).
(обратно)
26
I. Bailey, Edward Jenner: Benefactor to Mankind,
Proceedings of the Royal College of Physicians of Edinburgh 27 (1997):5.
(обратно)
27
T. D. Fosbroke,
Berkeley Manuscripts (London: John, Nichols, 1821).
(обратно)
28
Fisher,
Edward Jenner.
(обратно)
29
E. Jenner, Observations on the Natural History of the Cuckoo,
Philosophical Transactions of the Royal Society 78 (1788):219.
(обратно)
30
P. Saunders,
Edward Jenner, the Cheltenham Years, 1795–1823 (Hanover, N.H.: University Press of New England, 1982).
(обратно)
31
C. H. Parry,
An Inquiry into the Symptoms and Causes of Syncope Anginosa (Bath: R. Cruttwell, 1799).
(обратно)
32
Saunders.
Edward Jenner, the Cheltenham Years.
(обратно)
33
W. R. Le Fanu,
A Bio-Bibliography of Edward Jenner, 1749–1823 (London: Harvey and Blythe, 1951).
(обратно)
34
E. Jenner,
An Inquiry into the Cause and Effects of Variolae Vaccinae, a Disease Discovered in Some of the Western Counties of England, particularly Gloucestershire, and Known by the Name of Cowpox (London: Sampson Low, 1798).
(обратно)
35
E. Jenner,
Further Observations on the Variolae Vaccinae or Cowpox (London: Sampson Low, 1799): и E. Jenner, A
Continuation of the Facts and Observations Relative to Variolae Vaccinae or Cowpox (London: Sampson Low, 1800).
(обратно)
36
Fisher,
Edward Jenner.
(обратно)
37
G. Miller, ed.,
Letters of Edward Jenner and Other Documents Concerning the History of Vaccination from the Henry Barton Jacobs Collection in the William H. Welch Medical Library (Baltimore: John Hopkins University Press, 1983).
(обратно)
38
T. E. Keys,
The History of Surgical Anesthesia (New York: Schumans, 1945).
(обратно)
39
M. Adt, P. Schumaker, I. Muller, «The Role of Atropine in Antiquity and Anesthesia», in R. S. Atkinson and T. P. Boalton. eds.,
The History of Anesthesia (Carnforth, England: Parthenon, 1989), p. 40–45; and J. F. Nunn, «Anesthesia in Ancient Times — Fact and Fable» in ibid., p. 21–26.
(обратно)
40
U. von Hitzenstern, «Anesthesia with Mandrake in the Tradition of Dioscorides and Its Role in Clinical Antiquity», in ibid., p. 38–40.
(обратно)
41
M. T. Jasser, «Anesthesia in the History of Islamic Medicine», in ibid., p. 48–51.
(обратно)
42
J. E. Echenhoff,
Anesthesia from Colonial Times: A History of Anesthesia at the University of Pennsylvania (Philadelphia: J. B. Lippincott, 1966).
(обратно)
43
Keys,
The History of Surgical Anesthesia.
(обратно)
44
Paracelsus,
Opera medico-chimica sive paradoxa (Frankfurt, 1605), p. 125.
(обратно)
45
H. Davy,
Researches, Chemical and Philosophical, Chiefly Concerning Nitrous Oxide and Dephlogisticated Nitrous Air and Its Respiration (London: Johnson, 1800).
(обратно)
46
W. P. C. Barton, «A Dissertation on the Chemical Properties and Exhilarating Effects of Nitrous Oxide Gas and Its Application to Pneumatic Medicine», M.D. thesis, University of Pennsylvania, 1808.
(обратно)
47
C. W. Long, «Account of the First Use of Sulphuric Ether by Inhalation as an Anesthesia in Surgical Operations»,
Southern Medical and Surgical Journal 5 (1849):705.
(обратно)
48
F. K. Boland,
The First Anesthetic: The Story of Crawford Long (Athens: University of Georgia Press, 1950).
(обратно)
49
Ibid.
(обратно)
50
L. D. Vandam, «The Start of Modern Anesthesia», in Atkinson and Boulton,
The History of Anesthesia.
(обратно)
51
K. B. Thomas,
The Development of Anesthetic Apparatus: A History Based on the Charles King Collection of the Association of Anesthetists of Great Britain and Ireland (Oxford: Blackwell 1975).
(обратно)
52
W. T. G. Morton, Circular, «Morton’s Letheon» (Boston: Westworth, 1846).
(обратно)
53
Boland,
The First Anesthetic.
(обратно)
54
H. J. Bigelow, «Insensibility during Surgical Operations Produced by Inhalation»,
Boston Medical and Surgical Journal 35 (1846):309, 379–382.
(обратно)
55
J. Snow,
On Chloroform and Other Anesthetics (London: Churchill, 1858).
(обратно)
56
S. Guthrie, «New Mode of Preparing a Spiritous Solution of Chloric Ether»,
American Journal of Scientific Arts (1831):64–65; and R. W. Patterson, «The First Human Chloroformization», in Atkinson and Boulton,
The History of Anesthesia.
(обратно)
57
W. Macewan, «Clinical Observations on the Introduction of Tracheal Tubes by the Mouth Instead of Performing Tracheotomy or Laryngotomy»,
British Medical Journal 3 (1880):122–124, 163–165.
(обратно)
58
F. Kuhn,
Die perorale Intubation (Berlin: Karger, 1911): and G. M. Dorrance, «On the Treatment of Traumatic Injuries of the Lungs and Pleura with the Presentation of a New Intratracheal Tube for Use in Artification Respiration»,
Surgery, Gynecology and Obstetrics 2 (1910): 160–189.
(обратно)
59
R. K. Calverley, «Intubation in Anesthesia», in Atkinson and Boulton,
History of Anesthesia, p. 333–341.
(обратно)
60
J. W. Gale and R. M. Waters, «Closed Endobronchial Anesthesia in Thoracic Surgery: Preliminary Report»,
Current Research, Anesthesia and Analgesia 11 (1932): 283–287.
(обратно)
61
J. A. Stiles et al., «Cyclopropane as Anesthetic Agent»,
Current Research, Anesthesia and Analgesia 13 (1934):56–60.
(обратно)
62
C. R. Stephen, C. M. Fabian, and L. W. Fabian, «Introduction of Halothane to the U.S.», in Atkinson and Boulton,
The History of
Anesthesia, p. 221–222.
(обратно)
63
R. Hughes, «Development of Skeletal Muscle Relaxants from the Arrow Poisons», in ibid., p. 259–267.
(обратно)
64
H. Griffith and E. Johnson, «The Use of Curare in General Anesthesia»,
Anesthesiology 3 (1942):418–420.
(обратно)
65
E. Fischer and J. Mering, «über eine neue Classe von Schlafmutheln»,
Therape Gegenwart 5 (1903):97-101.
(обратно)
66
J. B. Lundy, «Intravenous Anesthesia: Preliminary Report of the Use of Two New Barbiturates»,
Proceedings of the Staff Meeting, Mayo Clinic 10 (1930):536-543.
(обратно)
67
J. H. Braun,
Local Anesthesia, Its Scientific Basis and Practical Use, 2d ed. (Philadelphia: Lea and Febiger, 1924).
(обратно)
68
W. S. Halsted, «Practical Comments on the Use and Abuse of Cocaine: Suggested by Its Invariably Successful Employment in More than a Thousand Minor Surgical Operations»,
New York Medical Journal 42 (1985): 294–295.
(обратно)
69
J. L. Corning, «A Further Contribution on Local Medication of the Spinal Cord, with Cases»,
Medical Record 33 (1888):291–293.
(обратно)
70
A. Bier, «Versuche über Cocainisrung des Ruckenmarkes»,
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie 51 (1899): 361–369.
(обратно)
71
A. Einhorn, «Über die Chemie der localen Anaesthetica»,
Munchener Medizinischer Wochenschrift 45 (1899): 1218-20,1254-56; and H. F. W. Braun, «Über einige neue orthohe Anaesthetica (Stovain, Alypin, Novocain)»,
Deutsche Medizinische Wochenschrift 32
(1904): 667-71.
(обратно)
72
O. Glasser,
Dr. W. C. Roentgen (Springfield, III.: Thomas, 1958).
(обратно)
73
Позже Крукс получил три самые почетные медали Королевского общества (Королевскую медаль, медаль Дэви и медаль Копли), а в 1913 году его выбрали президентом этого общества. Подобных почестей не удостаивался ни один физик.
(обратно)
74
R. L. Eisenberg,
Radiology, an Illustrated History (St. Louis: Mosby Year Book, 1992).
(обратно)
75
P. Donizetti,
Shadow and Substance (London: Pergamon, 1967).
(обратно)
76
W. Roentgen, «Eine neue Art von Strahlen» (Würzburg,
1895). Эта статья была напечатана на последних десяти страницах выпуска трудов Вюрцбургского физико-медицинского общества за 1895 год (Proceedings of the Würzburg Physical-Medical Society). Полный перевод статьи на английский, озаглавленный «О
новом типе икс-излучения», можно найти в книге:
Donizetti, Shadow and Substance, с. 185–194.
(обратно)
77
B. H. Kevles,
Naked to the Bone: Medical Imaging in the Twentieth Century (New Brunswick. N. J.: Rutgers University Press, 1997).
(обратно)
78
Glasser,
Dr. W. C. Roentgen.
(обратно)
79
Уютной
(нем.).
(обратно)
80
J. J. Cunningham and G. W. Friedland, «Early American Uroradiology, 1896–1933»,
Urological Survey 22 (1972):226.
(обратно)
81
G. N. Hounsfield, «Computerized Transverse Axial Scanning (Tomography). Description of a System»,
British Journal of Radiology 46 (1973):1016.
(обратно)
82
G. W. Friedland and B. D. Thurber, «The Birth of CT»,
American Journal of Roentgenology 167 (1996): 1365.
(обратно)
83
A. M. Cormack, «Representation of a Function by Its Line Integrals with Some Radiological Applications»,
Journal of Applied Physics 35 (1964):2098.
(обратно)
84
J. S. Nicholas, «Ross Granville Harrison, 1870–1959: Biographical Memoirs».
National Academy of Science of the United States 35 (1961):132–162.
(обратно)
85
R. G. Harrison, «Observations on the Living Developing Nerve Fiber»,
'Anatomical Record №.5, American Journal of Anatomy 7 (1907): № 1.
(обратно)
86
R. G. Harrison, «On the Status and Significance of Tissue Culture»,
Archiv für Zelbforschung 6 (1925):4.
(обратно)
87
Nicholas, «Ross Granville Harrison».
(обратно)
88
Письмо М. Т. Берроуза д-ру Фредерику М. Аллену (M. T. Burrows to Dr. Frederick M. Allen), New York, January 26, 1942. Содержится в архиве Р. Г. Гаррисона в отделе архивов и рукописей библиотеки Йельского университета в Нью-Хейвене.
(обратно)
89
A. Carrel, «Rejuvenation of Cultures of Tissues»,
Journal of the American Medical Association 57(1911): 1611.
(обратно)
90
L. Hayflick,
How and Why We Age (New York: Ballantine Books, 1994), p. 127–142.
(обратно)
91
L. Hayflick,
персональное сообщение, 1996.
(обратно)
92
J. A. Witkowski, «Dr. Carrel’s Immortal Cells»,
Medical History 24 (1980):129–142.
(обратно)
93
R. Buchabaum,
персональное сообщение, 1996.
(обратно)
94
Hayflick,
How and Why We Age, p. 111–136.
(обратно)
95
L. Hayflick and P. S. Moorhead, «The Serial Cultivation of Human Diploid Cell Strains»,
Journal of Experimental Cell Research 25 (1961):285–321.
(обратно)
96
M. A. Gold, A
Conspiracy of Cells: One Woman’s Immortal Legacy and the Medical Scandal It Caused (New York: State University of New York Press, 1986).
(обратно)
97
S. M. Gartler, «Apparent HeLa Cell Contamination of Human Heteroploid Cell Lines»,
Nature 217 (1968):750–751.
(обратно)
98
Gold, A
Conspiracy of Cells.
(обратно)
99
W. A. Nelson-Rees, R. R. Flandermeyer, and P. K. Hawthorn, «Banded Marker Chromosomes as Indicators of Intraspecies Cellular Contamination»,
Science 184 (1974) 1093–1096.
(обратно)
100
W. A. Nelson-Rees and P. R. Flandermeyer, «HeLa Cultures Defined»
Science, 191 (1976):96–98.
(обратно)
101
W. A. Nelson-Rees and P. R. Flandermeyer, «Inter- and Intra-Species Contamination of Human Breast Tumor Cell Lines HBC and Br ca5 and Other Cultures»,
Science 195 (1977):1343–1344.
(обратно)
102
P. Todd et al., «Comparison of the Effects of Various Cyclotron-Produced Neutrons on the Reproduction Capacity of Cultured Human Kidney CT-D Cells»
International Journal of Radiation, Oncology, Biology and Physics 4 (
1978):1015–1022.
(обратно)
103
Gold, A
Conspiracy of Cells.
(обратно)
104
T. C. Hsu and C. M. Pomerat, «Mammalian Chromosomes in vitro. II. A Method for Spreading the Chromosomes of Cells in Tissue Culture»,
Journal of Heredity, 44 (1953): 23–29.
(обратно)
105
J. H. Tjio and A. Levan, «
The Chromosome Number of Man», Hereditas, 42 (1956):1–6.
(обратно)
106
R. G. Ham, «Survival and Growth Requirements of Nontransformed Cells»,
Handbook of Experimental Pharmacology, 57 (1981): 11–88.
(обратно)
107
A. B. Sabin and. P. K. Olitsky, «Cultivation of Poliomyelitis Virus in vitro in Human Embryonic Nervous Tissue»,
Proceedings of the Society of Experimental Biology, 34 (1936):357–359.
(обратно)
108
J. F. Enders, T. H. Weller, and F. C. Robbins, «Cultivation of the Lansing Strain of Poliomyelitis Virus in Cultures of Various Human Embryonic Tissues»,
Science 109 (1949):85–87.
(обратно)
109
Jonas E. Salk and associates, «Studies in Human Subjects on Active Immunization against Poliomyelitis. A. Preliminary Report of Experiments in Progress
», Journal of the American Medical Association, 151(1953):1081–1098.
(обратно)
110
В 2010 году в Таджикистане возникла вспышка полиомиелита, по-видимому, вызванная недостатками в политике иммунизации (вакцинации) детей. Эпидемия была остановлена благодаря усилиям правительства страны и всего международного сообщества.
(Примеч. ред.)
(обратно)
111
Холестерин — воскообразное жирорастворимое вещество, циклический спирт класса стероидов. Холестерин присутствует во всех тканях живых организмов и входит в состав клеточных мембран, являясь частью растворимых липопротеинов.
(Примеч. ред.)
(обратно)
112
С. Н. Parry,
An Inquiry into the Symptoms and Causes of the Syncope Anginosa, Commonly Called Angina Pectoris (London: R. Cruttwell, 1799).
(обратно)
113
R. Virchow,
Phlogose und Thrombose in Gefass-system (Berlin: Gesammelte Abhand lungen für Wissenschaftlichen Medizin, 1856).
(обратно)
114
K. Rokitansky, «Über einiger der wichtigsten Krankheiten der Arterien»,
Akademie der Wissenschaft Wien 4 (1862):1.
(обратно)
115
F. Marchand, «Über Atherosclerosis»,
Verhandlungen der Kongresse für lnnere Medizin, 21 Kongresse, 1904.
(обратно)
116
A. Windaus, «Über der Gehalt normaler und atheromatoser Aorten an Cholesterol und Cholesterinester»,
Zeitschrift für Physiologische Chemie, 67 (1910):174.
(обратно)
117
A. I. Ignatowski, «Über die Wirkung der tiershen Einwesses auf der Aorta»,
Virchows Archiv für Pathologische Anatomie, 198 (1909):248.
(обратно)
118
Н. В. Стуккей, «Об изменениях в аорте кроликов под влиянием обогащенной животной пищи», инаугурационная диссертация, Санкт-Петербург, 1910.
(обратно)
119
S. Chalatov, «Über der Verhalten der Leber gegenuber den verschiedenen Arten von Speisfett»,
Virchows Archiv (1912):267.
(обратно)
120
N. Anichkov and S. Chalatov, «Über experimentelle Cholesterinsteatose: Ihre Bedeutung für die Enstehung einiger pathologischer Processen»,
Centrablatt für Allgemeine Pathologie und Pathohgische Anatomie 1 (1913):1.
(обратно)
121
A. Steiner and F. E. Kendall, «Atherosclerosis and Arteriosclerosis in Dogs following Ingestion of Cholesterol and Thiouracil»,
Archives of Pathology 42 (1946):605.
(обратно)
122
C. H. Bailey, «Atheroma and Other Lesions Produced in Rabbits by Cholesterol Feeding»,
Journal of Experimental Medicine 23 (1961):69; and T. Leary, «Atherosclerosis, the Important Form of Arteriosclerosis, a Metabolic Disease»,
Journal of the American Medical Association 105 (1935):495.
(обратно)
123
S. Weiss and G. R. Minot, «Nutrition in Relation to Arteriosclerosis», in E. V. Cowdry, ed.,
Arteriosclerosis: A Survey of the Problem, ist ed. (New York: Macmillan, 1933).
(обратно)
124
J. W. Gofman et al., «The Role of Lipids and Lipoproteins in Atherosclerosis»,
Science III(1950):167.
(обратно)
125
L. W. Kinsell et al., «Dietary Modification of Serum Cholesterol and Phospholipid Levels»,
Journal of Clinical Endocrinology 12 (1952):909; and E. H. Ahrens, Jr., D. H. lankenhorn, and T. T. Tsaltes, «Effect on Serum Lipids of Substituting Plant for Am-I mal Fat in Diet»,
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 86 (1952):872.1.
(обратно)
126
W. Dock, «Research in Arteriosclerosis — the First Fifty Years», editorial,
Annals of Internal Medicine 49 (1958):699.
(обратно)
127
M. Friedman, R. H. Rosenman, and V. Carroll, «Changes in the Serum Cholesterol and Blood-Clotting Time in Men Subjected to Cyclic Variations of Occupational Stress»,
Circulation 17 (1958):852.
(обратно)
128
M. S. Brown and J. L. Goldstein, «Lipoprotein Receptors in the Liver»,
Journal of Clinical Investigation 72 (1983):743.
(обратно)
129
N. Anichkov, «A History of Experimentation on Arterial Atherosclerosis in Animals», in H. T. Blumenthal, ed.,
Cowdry’s Arteriosclerosis; A Survey of the Problem, 2d ed. (Springfield, Ill.: Thomas, 1967).
(обратно)
130
J. Tyndall, «The Optical Deportment of the Atmosphere in Relation to the Phenomena of Putrefaction and Infection»,
Philosophical Transactions of the Royal Society 166 (1876):27.
(обратно)
131
A. E. Duchesne, «Contribution a l'étude de la concurrence vitale chez les micro-organismes: Antagonisme entre les moissures et les microbes», dissertation, Army Medical Academy, Lyon, 1896.
(обратно)
132
D. Wilson,
In Search of Penicillin (New York: Alfred A. Knopf, 1976).
(обратно)
133
R. Hare,
The Birth of Penicillin and the Disarming of Microbes (London: George All and Unwin, 1970), chaps. 3 and 4.
(обратно)
134
A. Fleming, «On the Antibacterial Action of Cultures of Penicilium, with Special Reference to Their Use in Silation of H influenzae»,
British Journal of Expenmental Pathology 10 (1929):226; and idem, «On the Specific Antibacterial Properties of Penicillin and Potassiuim Tellurite — Incorporating a Method of Demonstrating Some Bacterial Antagonisms»,
Journal of Pathology and Bacteriology 35 (1932):831.
(обратно)
135
Wilson,
In Search of Penicillin.
(обратно)
136
A. Fleming and V. D. Alison, «Observations on a Bacteriolytic Substance (‘Lysozyme’) Found in Tissues and Secretions»,
British Journal of Experimental Pathology 35 (1922):252.
(обратно)
137
C. G. Paine, personal communication to Howard Florey, in H. W. Florey et al.,
eds., Antibiotics — A Survey of Penicillin, Streptomycin and Other Antimicrobal Substances from Fungi, Actinomyces, and Plants (London: Oxford University Press, 1949), p. 634.
(обратно)
138
P. W. Clutterback, R. Lovell, and H. Rainstrick, «Studies in the Biochemistry of Micro-organisms. XXVI. The Formation of Glucose by Members of Pénicillium cbrysogenum Series of a Pigment, an Alkali-Soluble Protein, and Penicillin — the Antibacterial Substance of Fleming»,
Biochemistry Journal 26 (1932): 1907.
(обратно)
139
R. D. Reid, «Some Properties of Bacterial-Inhibitory Substance Produced by a Mold»
, Journal of Bacteriology 29 (1935):215.
(обратно)
140
G. Domagk, «Ein Beitrag zur Chemotherapie der bakteriellen Infektionen»,
Deutscher medizinischer Wochenschrift 61 (1935):250–253.
(обратно)
141
Wilson,
In Search of Penicillin.
(обратно)
142
Ibid.
(обратно)
143
E. Chain et al., «Penicillin as a Chemotherapeutic Agent»,
Lancet 2 (1940):226.
(обратно)
144
E. P. Abraham et al., «Further Observations on Penicillin»,
Lancet 2 (1941):177.
(обратно)
145
G. L. Hobby,
Penicillin: Meeting the Challenge (New Haven: Yale University Press, 1985).
(обратно)
146
R. J. Dubos, «Studies on a Bacterial Agent Extracted from a Soil Bacillus. I. Its Activity in vitro. II. Protective Effect of the Bacterial Agent against Experimental Pneumococcus Infections in Mice»,
Journal of Experimental Medicine 70 (1939):1.
(обратно)
147
A. Schatz, E. Bugie, and S. A. Waksman, «Streptomycin, a Substance Exhibiting Antibacterial Activity against Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria»,
Proceedings of the Society of Experimental Biology 55 (1944): 66.
(обратно)
148
R. Lewis, «The Rise of Antibiotic-Resistant Infections»,
FDA Consumer 29 (1995):11.
(обратно)
149
Данные по антибиотикам и инфекциям, представленные на международной встрече в Вашингтоне, организованной в 1995 г. журналом
Lancet.
(обратно)
150
J. F. Miescher, «Über die chemische Zusammensetzung der Eiterzellen»,
Hoppe-Seyler Medicinisch-chemische Untersuchungen 4 (1871):441.
(обратно)
151
R. Olby, The Path to the Double Helix (Seattle: University of Washington Press,
1974); F. H. Franklin and I. S. Cohen, A
Century of DNA: A History of the Discovery of the Structure and Function of the Genetic Substance (Cambridge, Mass.: MIT Press,
1977); and H. F. Judson,
The Eighth Day of Creation (New York: Simon and Schuster,
1979).
(обратно)
152
F. Griffith, «The Significance of Pneumococcal Types»,
Journal of Hygiene 27 (1928):113.
(обратно)
153
M. McCarty,
The Transforming Principle (New York: W. W. Norton,
1985).
(обратно)
154
O. T. Avery, C. M. MacLeod, and M. McCarty, «Studies on the Chemical of the Substance Inducing Transformation of Pneumococcal Types»,
Journal of Experimental Medicine 79 (1944):137.
(обратно)
155
Judson,
The Eighth Day of Creation.
(обратно)
156
Schrödinger, E.,
What Is Life? (Cambridge: Cambridge University Press, 1944).
(обратно)
157
F. H. C. Crick,
What Mad Pursuit (New York: Basic Books, 1988).
(обратно)
158
Ibid.
(обратно)
159
E. Chargaff et al.,
«The Composition of the Deoxypentose Nucleic Acid of Thy mus and Spleen», Journal of Biological Chemistry 177 (1949):405.
(обратно)
160
J. D. Watson and F. H. C. Crick, «Molecular Structure of Nucleic Acidj Structure for Deoxyribose Nucleic Acid»,
Nature 171
(1953):737; M. H. F. Wilkins, A. R. Stokes, and H. R. Wilson, «Molecular Structure of Nucleic Acids. Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids»,
ibid., p. 738; R. F. Franklin and R. G. GosIing «Molecular Structure of Nucleic Acids. Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate»,
ibid., p. 740.
(обратно)
161
К счастью, в 1962 году Нобелевский комитет не оставил без внимания этот отчет Уилкинса и его коллег, а также дальнейшие выдающиеся достижения Уилкинса. А сэр Аарон Клуг не оставил без внимания вклад Франклин; в начале своей Нобелевской речи в 1982 году он сказал: «Если бы ее жизнь не оборвалась так трагически рано, она обязательно получила бы эту премию».
(обратно)
162
J. D. Watson and F. H. C. Crick, «Genetical Implications of the Structure of Deoxyribonucleic Acid»,
Nature 171(1953):964–967.
(обратно)
163
M. S. Meselson and F. W. Stahl, «The Replication of DNA in Escherichia coli»
Proceedings of the National Academy of Science 44 (1956):67.
(обратно)
164
S. Brenner, F. Jacob, and M. Meselson, «An Unstable Intermediate Carrying Information from Genes to Ribosomes for Protein Synthesis»,
Nature 190 (1960):576; и F. H. C. Crick et al., «General Nature of the Genetic Code for Proteins»,
Nature, 192 (1961):1227.
(обратно)
165
F. H. C. Crick,
Life Itself: Its Origin and Nature (New York: Simon an Shuster, 1981).
(обратно)
166
Когда авторы писали свою книгу, Морис Уилкинс и Фрэнсис Крик были еще живы. Они оба умерли в один год — в 2004 году: Крик — 28 июля. Уилкинс — 5 октября.
(Примеч. ред.)
(обратно)
Оглавление
Предисловие
Глава 1
Андреас Везалий и современная анатомия человека
Глава 2
Уильям Гарвей икровообращение
Глава 3
Антони Левенгук и бактерии
Глава 4
Эдвард Дженнер и вакцинация
Глава 5
Кроуфорд Лонг и обезболивание в хирургии
Глава 6
Вильгельм Рентген и Х-лучи
Глава 7
Росс Гаррисон и культура тканей
Глава 8
Николай Аничков и холестерин
Глава 9
Александр Флеминг и антибиотики
Глава 10
Морис Уилкинс и ДНК
Глава 11
Заключение
*** Примечания ***


 Великолепный с художественной точки зрения и точный с точки зрения анатомии рисунок — третье изображение скелета в «Фабрике» Андреаса Везалия. Скелет то ли рассматривает череп, то ли изучает его
Великолепный с художественной точки зрения и точный с точки зрения анатомии рисунок — третье изображение скелета в «Фабрике» Андреаса Везалия. Скелет то ли рассматривает череп, то ли изучает его
 Такими в «Извлечении» Везалия, изданном в 1543 году вместе с «Фабрикой», показаны Адам и Ева. Одно время считалось, что автором замечательных рисунков был Тициан, но в настоящее время их приписывают Яну Стефану ван Калькару
Такими в «Извлечении» Везалия, изданном в 1543 году вместе с «Фабрикой», показаны Адам и Ева. Одно время считалось, что автором замечательных рисунков был Тициан, но в настоящее время их приписывают Яну Стефану ван Калькару

 Единственный рисунок в книге Уильяма Гарвея «О движении сердца» — это изображение руки, вены и клапаны на которой деформированы после наложения жгута. Наблюдавшиеся Гарвеем разбухание вены ниже и спадение ее выше места пережатия впервые навели его на мысль о том, что вся венозная кровь движется в направлении сердца
Единственный рисунок в книге Уильяма Гарвея «О движении сердца» — это изображение руки, вены и клапаны на которой деформированы после наложения жгута. Наблюдавшиеся Гарвеем разбухание вены ниже и спадение ее выше места пережатия впервые навели его на мысль о том, что вся венозная кровь движется в направлении сердца





 Пустулы на руке крестьянки, зараженной коровьей оспой. Рисунок взят из книги Эдварда Дженнера (1798), в которой описывается защитный эффект вакцинации коровьей оспой
Пустулы на руке крестьянки, зараженной коровьей оспой. Рисунок взят из книги Эдварда Дженнера (1798), в которой описывается защитный эффект вакцинации коровьей оспой


 Эта нечеткая фотография — первый в истории отпечаток рентгеновского снимка. Изображение левой руки Берты Рентген было получено в результате шестиминутного облучения Х-лучами, исходившими из трубки Крукса. Именно этот снимок Вильгельм Рентген приложил к репринтам своей статьи, которые он разослал нескольким коллегам. После публикации снимка в венской газете новость об открытии Х-лучей мгновенно разнеслась по всему миру
Эта нечеткая фотография — первый в истории отпечаток рентгеновского снимка. Изображение левой руки Берты Рентген было получено в результате шестиминутного облучения Х-лучами, исходившими из трубки Крукса. Именно этот снимок Вильгельм Рентген приложил к репринтам своей статьи, которые он разослал нескольким коллегам. После публикации снимка в венской газете новость об открытии Х-лучей мгновенно разнеслась по всему миру






 Этот рисунок, выполненный Одиль Крик, с сопроводительной подписью появился в статье Уотсона и Крика, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «Nature» от 25 апреля 1953 года
Этот рисунок, выполненный Одиль Крик, с сопроводительной подписью появился в статье Уотсона и Крика, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА «Nature» от 25 апреля 1953 года