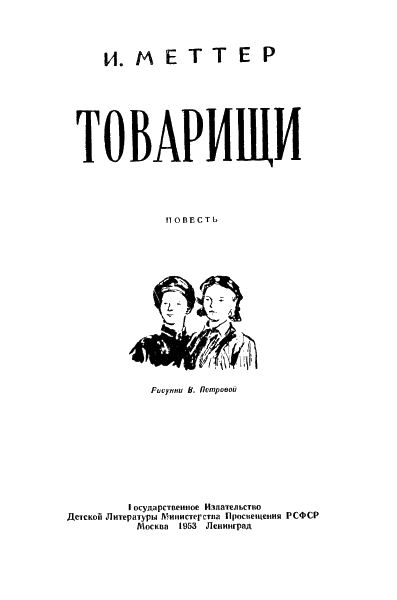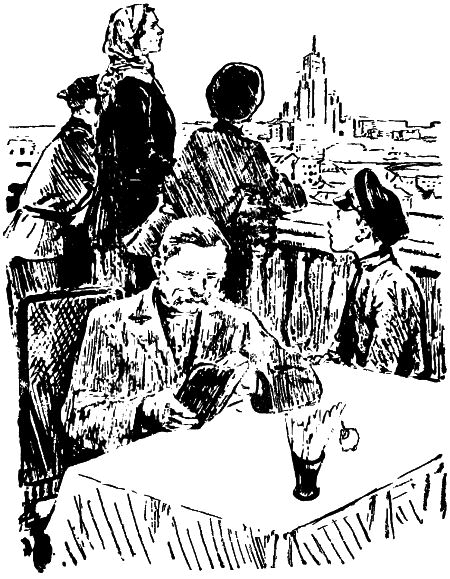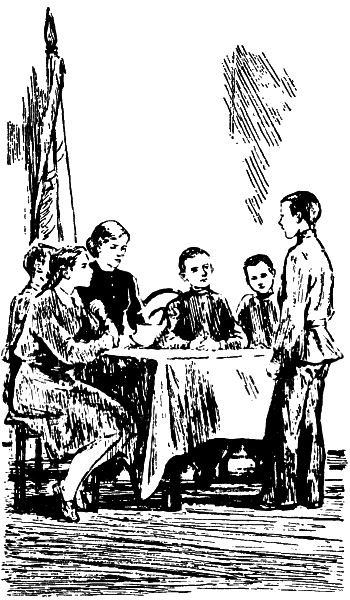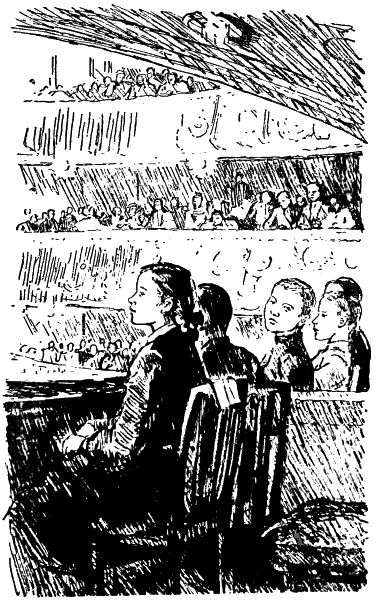Израиль Моисеевич Меттер
Товарищи
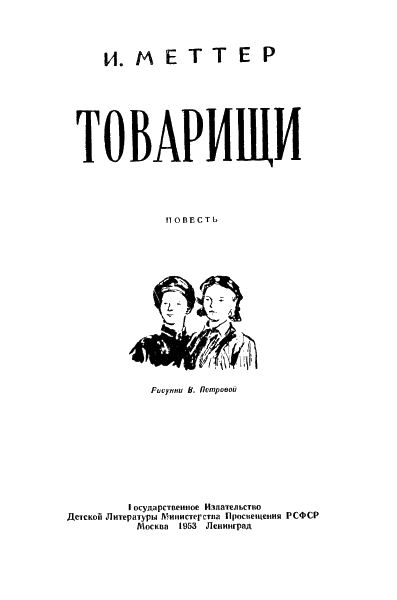
Первая глава
1

Митя проснулся рано. Его разбудили козы, они начали ссориться с курами. Тонкая деревянная стенка отделяла от телятника маленькую веранду, на которой летом стояла Митина кровать: в телятнике жили две козы — мать и дочь — и семь кур.
Сквозь прикрытые веки, еще не совсем проснувшись, Митя следил за солнечным лучом на подоконнике, всё еще испытывая удовольствие оттого, что лежать приятно, впереди длинный погожий день.
И по привычке перебирая, что же в течение этого дня ему предстоит особенно радостное — он любил думать об этом утром, — Митя вдруг вспомнил, что завтра уезжает из Лебедяни.
На веранду вышла мать — переменить козам воду и выпустить во двор кур.
Проходя мимо Митиной постели, она, как всегда, на секунду остановилась поправить сползшую куртку, лежащую поверх одеяла. Она думала, что он еще спит, и не разбудила его: с тех пор, как выяснилось, что он уезжает в Москву, мать ни в чем не просила его помощи по хозяйству.
«Пусть отдохнет. Намучается еще в городе», — думала она.
И он жил эти последние дни непривычной, бездельной жизнью. Занятия в школе давно кончились; за что бы он ни вздумал взяться, всегда приходило в голову: «Зачем? Всё равно уезжаю».
Сегодня вот воскресенье, и он условился пойти с ребятами на Дон порыбачить на утренней зорьке, а солнце уже давно встало. Наверно, они уже сидят у лозняка с удочками и Витька, как всегда, ноет, что надо было забросить правее; если они ловят на червя, он говорит, что надо бы на кашу, а если они наживили кашу, Витька убеждает насадить червя. «Это уж такой характер, — думает Митя, — он, наверное, потому и заикается, что вечно спорит».
Солнечный луч дотянулся до спинки кровати. Значит, прошло всего минут пять, как он проснулся, а уже успел обо всем подумать. Его всегда удивляло, как это человек иногда быстро думает, а иногда медленно. Другой раз шагаешь в школу и, пока пройдешь от одного телеграфного столба до другого, в голове столько пронесется, что самому даже странно, а иной раз от самого дома до Тяпкиной горы не знаешь, о чем и подумать, — одного какого-нибудь пустяка на всю дорогу хватает.
За завтраком мать только вздыхала да подливала в тарелку сына молоко. Она уже мысленно привыкла к его будущему отъезду — так ей казалось — и эти дни ходила по дому тихая и печальная.
А Митя еще не умел успокаивать мать; он только чувствовал, что неудобно при ней слишком бурно выражать свою радость по поводу отъезда.
— Может, тебе помочь, мама? — спросил Митя. — Я могу картошки в огороде накопать.
— Да нет уж. Чего там, — вздыхала мать.
— Ну, давай я вишни на крыше переберу, а то попреют.
— Ни к чему. Не попреют, они на ветру.
— Ладно, я воды с Дона принесу, — нашел наконец работу Митя.
Мать еще раз вздохнула, но уже не возражала.
Солнце стояло над далеким элеватором большое, свежее, веселое. На небе в двух-трех местах остались с ночи тонкие клочья облаков, волокнистые, как сено; будто подметали небо, а они вот зацепились и остались…
На крышах одноэтажных домов лежали рамы с яблоками и вишнями. Под окошками на мохнатых, толстых стеблях тяжело повисли сковородки подсолнухов. Окраина Лебедяни жила полудеревенской, полугородской жизнью. По широким улицам, заросшим низкой, густой травой, вечерами возвращалось стадо коров и коз. У ворот стояли хозяйки и выкрикивали на разные голоса:
— Люба! Люба! Люба! Люба!
— Сонька! Сонька!
Коровы тяжело поворачивали головы на знакомый голос, недовольно мычали, как бы говоря: «Ну, чего орать попусту? Слышу. Сейчас приду», и медленно выходили из стада. Козы откликались на зов тонкими льстивыми голосами и быстро подбегали к хозяйкам, всем своим видом докладывая: «Ах, мне было так плохо без вас!» За эту лесть хозяйки тут же, на улице награждали их морковью и хлебом.
Это бывало по вечерам. А сейчас, ранним утром, по улицам пробегали люди с портфелями, шли рабочие на мельницу, проезжали грузовики с кирпичом.
С месяц назад неподалеку от Митиного дома начали разбирать старую церковь. Побелевшие от времени и извести кирпичи возили в центр города, где строился большой Дом культуры. По воскресеньям лебедянские жители выходили на строительство в помощь рабочим, и к понедельнику беспорядочная куча церковного лома значительно уменьшалась, а стены Дома культуры становились чуточку выше.
По воду Митя решил сбегать к тем лознякам, где ребята обычно удят рыбу.
Дон был совсем спокойный; в чистом утреннем воздухе отчетливо слышны были звуки, доносившиеся с противоположного берега; две женщины на том берегу полоскали белье, стучали вальками по большому камню; парнишка загонял корову в воду, чтобы обмыть ей задние ноги; корова не шла; старик ковшом вычерпывал воду из плоскодонки, лодка позванивала цепью; на далеком шоссе, почти у самого горизонта, пофыркивали грузовики зерном, которое егозили со всего района к элеватору.
Ничего необычного в этом для Мити не было, но сегодня, как и во все последние дни, он видел окружающее совсем другими глазами: «Я уеду, — думал он, — а тут всё так и останется. Как же это?»
Всё окружающее — и река, и небо, и поля так сроднились с ним, что ему казалось невозможным их существование без него. И хотелось ему захватить в свое далекое путешествие, в ту неизвестность, которая его ждала, всё, что он видел вокруг, и тогда ему ничего не страшно.
— Проспал, — сказал Витька, когда Митя подошел с ведрами к ребятам.
Митя сел, спустив ноги с высокого берега.
Кроме Витьки, рыбачили еще двое Миша Зайцев — восторженный паренек, самый младший из этой компании, и Володя Петренко, приехавший к родителям на каникулы из Рязани, где он учился в ремесленном.
— Ох, Митя, у меня сейчас окунище брал! Во! — захлебываясь, сказал Миша Зайцев.
Он стоял по колено в воде, губы его побелели от утрешнего холода, тело подрагивало мелкой дрожью; но глаза сияли азартом.
— Врет, — заметил Витька. — За корягу зацепилось, а он говорит — окунь. У него вообще брать не будет: он на червя ловит, а надо на кашу.
Витька вытащил свою удочку, поплевал «на счастье» три раза на наживку и снова забросил.
— Ну, когда едешь? — спросил Володя Петренко.
— Завтра.
— Не боязно?
— Да нет, — чего бояться? — устроюсь.
— Между прочим, если у тебя там ничего не выйдет, ты валяй к нам в Рязань. У нас люди нужны.
— Нужна ему твоя Рязань, когда человек в Москве будет! — заикаясь, сказал Витька.
— Клюет, клюет! — закричал Миша Зайцев. — Ребята, сейчас, честное слово, как дернуло! Голавль брал!
На его крик даже не обернулись.
— А по-моему, — сказал Володя, — какая разница в каком городе жить. Мне, например, пока и Рязани хватает. А закончу ремесленное, поеду, куда захочу.
— Очень-то не разъедешься, — заметил Витька. — Куда пошлют, туда и поедешь. Не захочешь, а подчинишься.
— А я возьму и захочу.
— Как это захочешь? А если скажут — на Сахалин?
— Ну и я захочу на Сахалин.
Витька, полуоткрыв рот, придумывал очередное возражение и, ничего путного не придумав, сказал:
— Конечно, какая у кого точка зрения.
Митя улыбаясь спросил:
— А ты в этом году в шестой класс пойдешь?
— Не знаю.
— За него мать знает, — сказал Володя. — Как решит, так и будет.
— Не обязательно, — покраснел Витька.
— Охота тебе дома торчать, — сказал ему Володя. — Я б на твоем месте давно удрал. Пошел бы работать…
— Что ж, я, по-твоему, без дела сижу? — обиделся Витька. — Весь дом на мне.
Володя засмеялся.
— Дом!.. Разве это дело?
— А ты?
— Обо мне разговора нет, — солидно сказал Володя. — Я, брат, учусь. А вот закончу ремесленное, тогда поговорим. По крайней мере не буду торчать около мамкиной юбки. Смотри вот, клюет у тебя. Подсекай!..
— Не желаю.
— Ну и дурак.
Витька стоял у куста, закусив губу, видел, что поплавок давно ушел под воду, но из упрямства не подсекал.
— И охота вам на рыбалке ссориться! — стуча зубами от холода, сказал Миша Зайцев.
— Я не ссорюсь, — примирительно ответил Володи. — Мне что? Взрослый человек, пускай сам решает.
— Да он решит, — уверял Миша. — Правда, Витька? Вот Митя в Москву едет, и то ничего страшного. Меня б пустили, я б не боялся. А чего бояться? Пошел прямо с поезда к директору…
— К какому директору? — улыбнулся Митя.
— А хоть к какому. И прямо так и говори: образование — шесть классов, дроби знаю, проценты знаю, покажите, какая у вас есть работа, я что-нибудь выберу.
— А директор как шуганет!..
— Ну да! Не имеет права. Ты ж по делу пришел. Главное, робеть не надо. И за что попало не берись. Сразу ответа не давай. Скажи: я подумаю…
— Вот Мишке б на директора выучиться, — сказал Володя. — Всем лебедянским удобно б жилось.
— Не-ет, — серьезно ответил Миша. — Мне это ни к чему. Мне, знаешь, какая профессия нравится? Чтоб было видно, что делаешь. Например, инженер: построил дом, — двери, окна, всё как полагается…
— Сам рассуждает, — сказал Витька, — а у самого тройки по арифметике.
— Ну, так меня ж еще надо воспитывать, — оправдывался Миша.
Солнце начинало припекать. Мальчики постепенно снимали с себя всё, что было надето для ранней рыбалки. От тепла они стали умиротвореннее, ленивее на слова.
Поклевывали проснувшиеся мальки; то и дело в воздухе мелькали лески с блестящими пескариками на крючке. Иногда попадался жадный, ощеренный колючими плавниками окунь и тогда вокруг счастливца-рыбака толпились все ребята, рассматривая добычу. Раздавались голоса:
— Ого! Порционный!..
— Грамм полтораста!
— Ну да — побольше!
— Гляди, как заглотнул!.. Не вытащишь.
Меньше всего везло Мише Зайцеву, но он не унывал. Попрежнему восторженно он сообщал товарищам, как только его поплавок начинал вздрагивать, тут же делал смелые предположения насчет размеров «рыбины», которую он сейчас вытянет, а когда на крючке не оказывалось даже наживки, каждый раз радостно вскрикивал:
— Вот черт! Сорвалась!..
Ему мешала буйная фантазия. Он ярко представлял себе, как где-то в глубине, с того берега двинулся сюда на него гладкий, блестящий, жирный голавль, как он, шевеля плавниками, подплывает всё ближе и ближе, голодный, как черт, заметил аппетитного червя, понюхал его хвост… И тут Миша не выдерживал: ухватившись двумя руками за удилище, он так дергал его вверх, что если б на крючке и вправду была рыбина килограмма на полтора — на два, то она шлепнулась бы на траву.
— Ты погоди, дай ей взять как следует, — уговаривал Митя.
Он лежал на берегу, разомлев от солнца. Не хотелось шевелиться. Из-под руки, на которую он опирался, далеко-далеко был виден Дон, заворачивающий вправо у самой Тяпкиной горы.
Где-то там внутри горы должна быть скрыта пещера, в которой восемьсот лет назад жил Василий Тяпка со своими двумя братьями. На этой горе он стоял с подзорной трубой — нет, пожалуй, тогда еще не было подзорных труб, — стоял просто так и смотрел вдаль на этот же самый Дон, на дорогу, на лес, которого сейчас здесь нету. Завидев богатых купцов, он свистел разбойничьим свистом и вместе со своими братьями отбирал у купцов добычу — продукты и промтовары — и раздавал их бедным.
А потом здесь построили город Лебедянь, из которого он, Митя, завтра уезжает.
И приедет он сюда через несколько лет; к тому времени уже давным-давно будет выстроен Дом культуры и где-то в его стенах будут лежать те 247 кирпичей, которые Митя лично перетаскал от церкви. Он даже хотел тогда как-нибудь их отметить, чтобы потом узнать, но сообразил, что здание всё равно будет оштукатурено.
А приедет он с большим чемоданом. В чемодане будут лежать подарки и для Витьки, и для Миши, для всех ребят. И самый главный подарок — для матери; что-нибудь очень дорогое, большое, теплое и красивое.
Он не пошлет матери заранее телеграмму, но, может, она как-нибудь сама узнает… Тут Митя хитрил: стыдно было признаться себе, но, может быть, в лебедянской газете будет написано, что в Лебедянь возвращается Дмитрий Власов, специалист по… в общем специалист по какой-нибудь специальности…
Например, неплохо бы возвратиться сюда и построить водопровод, чтоб не таскаться к Дону по воду. Хотя уж если строить, то водопровод — маловато… Пожалуй, лучше завод марки «ЛТ» — Лебедянский тракторный…
Вообще город хороший, жаловаться нельзя: яблоки здесь вкусные, река приличная, ребята дружные. Только бы скорее обернуться в Москву и обратно. Лет за пять, пожалуй, можно. Значит, ему будет девятнадцать. Это он будет как кто? Как старший брат Володи Петренко, который работает там же, где Митина мама, — совхозе «Агроном»; он в плодоовощном учился; ну, это не очень интересно. Ему-то, Мите, абсолютно безразлично, какой сорт есть. Конечно, учительница говорила про опыты с новыми сортами — надо как-то подвязывать черенки, — но всё равно в результате-то получаются фрукты, и больше ничего. Много ли их человеку надо?.. Нет, он в Москве подберет себе такую специальность.
— Митя, заснул?
— Нет, а что?
— Купаться будешь?
Над ним стоял Володя Петренко и снимал рубаху. Митя собрался было тоже раздеться, но, посмотрев на ведра, вспомнил, что обещал матери принести воду, и заторопился домой.
2
В день Митиного отъезда мать совсем растерялась.
Если бы кто-нибудь в этот день сказал ей, что сына не надо отпускать в Москву, она б оставила его дома. Но никто этого не говорил, и с тоской в сердце она собирала Митю в дорогу.
Столько надо было сказать ему, предупредить о всяких опасностях, а слов не было. Анфиса Ивановна не выезжала из Лебедяни лет двадцать, ничего не помнила, как там устроено в больших городах, только чувствовала материнским сердцем, что мальчика могут обидеть, а ее около него не будет. Кто обидит и как обидит, этого она не могла бы сказать, но ее мучили туманные, неопределенные предчувствия.
И чем больше она об этом думала, тем в ее представлении всё меньшим и меньшим мальчиком становился Митя; ей уже казалось, что она отправляет крохотного ребенка.
Конечно, в Москве живет ее сестра — к ней Митя и должен заехать с вокзала, — но, во-первых, от сестры почему-то нет подтверждающей телеграммы, а, во-вторых, тетка всё-таки не мать, тем более, что тетка и видела-то своего племянника один раз лет двенадцать назад.
От обилия этих мыслей у Анфисы Ивановны всё перепуталось в голове. Наставления, которые она давала сыну, носили какой-то отрывочный, беспорядочный характер. Надо что-то сказать, а что — неизвестно.
— Улицы переходи осторожно.
Анфиса Ивановна ходила из комнаты в сени, потом обратно, перекладывала вещи с одного места на другое, зачем-то разжигала примус и сразу гасила его.
— Слушайся старших.
Бралась в который раз укладывать деревянный сундучок сына и вдруг вспоминала:
— Вина не пей.
Хотелось ей сказать, как ей будет одиноко без него, как она будет ждать весточки, а получалось:
— С плохими людьми не водись.
Разве от всего убережешь?
К вечеру, часа за три до отъезда, пришли Митины приятели. Они собирались проводить его на станцию, а сейчас сидели в комнате тихие, немножко торжественные от значительности события.
Относились они к отъезду друга по-разному.
Володя Петренко сам уезжал через несколько дней в Рязань и в общем считал, что всё в порядке вещей. Парень взрослый, руки есть, голова есть — надо работать. Володя незаметно для себя уже привык подражать тому мастеру, который обучал его в Рязани токарному делу. Мастеру было лет под пятьдесят, был он строг, немногословен и очень трезв в суждениях. Володе было неполных шестнадцать, строгость напускалась сравнительно легко, немногословие давалось трудное — иногда очень хотелось поболтать, — а что касается трезвости суждений, то тут Володя попросту заимствовал у мастера целый ряд выражений. К числу их, кстати, и относилось: «Руки есть, голова есть — надо работать».
Миша Зайцев радовался за Митю, считая, что ему черт знает как повезло, раз он будет жить в Москве. Там, говорят, одних кино штук сорок. В метро пускают до шестнадцати лет, это он точно знает. Дома иногда переносят с места на место, так что лег спать на одной улице — проснулся на другой. Ну, а работ в Москве столько, что он лично, Миша Зайцев, и это попробовал бы и то — человеку же всё интересно. Поступил в одно ремесленное, не понравилось, — перешел бы в другое…
Наиболее болезненно к отъезду приятеля относился Витя Карпов. Он завидовал Мите не злой завистью, но очень хотел бы быть на его месте. Попросту удрать из дому, без разрешения матери, он не решался: жалко было сестренку, да и не такой он маленький, чтоб удирать, а как изменить свою участь, — не знал.
Время было собираться на станцию.
Шли в густых сумерках через весь город, потом перешли мост у мельничной плотины и вышли на пыльную широкую дорогу, по обочинам которой стояли дома Пушкарской слободы.
Взошла молодая тоненькая луна, она еще ничего не освещала, а как будто только осматривалась и охорашивалась.
Сейчас, вечером, Мите еще меньше, чем днем, верилось, что он уезжает. Мать скорбно шла рядом, Володя нес сундучок, Миша покряхтывал под рюкзаком, а Витька тащил корзину с гостинцами.
«Неужели это я уезжаю? — думал Митя. — Значит, завтра в это время меня здесь не будет?»
Он в темноте как бы случайно коснулся рукой материнской кофты, и так ему стало жалко и себя, и мать, и Лебедянь, что даже защипало где-то в носу около глаз.
На станции было много народу; об эту пору возвращались в Москву студенты, школьники, ехали домой дачники.
Станционные фонари освещали только пространство у вокзальных построек, а всё остальное было покрыто мраком. Поезд приходил из Ельца, стоял всего три-четыре минуты. Пытаясь угадать, где остановится их вагон, люди перетаскивали багаж с места на место, в темноте теряли друг друга, а потом двигались на знакомые голоса. От этой суматохи стоял шум, то озорной, радостный, то тревожный.
Анфиса Ивановна не двигалась. Маленькая, потерянная, несчастная, она уже ничем не могла помочь сыну: он был рядом, но его уже не было.
Витя в темноте приблизился к приятелю и, стараясь перекрыть шум, прокричал ему на ухо:
— Я все равно убегу!
— Куда? — спросил Митя, не поняв товарища.
— Может, к тебе убегу. Ты напиши.
В это время подбежал возбужденный Миша Зайцев который всё время исчезал и появлялся, и быстро заговорил:
— Ну, Митька, здорово! Сейчас один дядька сказал, что вас «ФД» повезет. В Кашире он воду будет набирать, ты обязательно выйди погляди. Главный кондуктор в пятом вагоне едет. У вас в поезде две собаки будут: одна охотничья, другая — не знаю, какая. Багажа можно шестнадцать килограмм…
Он выпалил всё, что слышал, толкаясь на станции, и был уверен, что эти сведения помогут другу добраться до Москвы.
Послышался дальний гул поезда, показались огни; суета и шум на станции возросли. Промчался паровоз, деловой, раздраженный, нехотя замедлил ход и остановился.
Анфиса Ивановна всё еще надеялась, что успеет сказать сыну какие-то самые главные напутственные слова, но мальчики уже втаскивали вещи в вагон. Митина голова мелькнула сначала в тамбуре, потом в освещенном окне; раздался пронзительный свисток главного кондуктора, и земля под ногами вздрогнула. С подножек посыпались провожающие. Поезд исчез за поворотом. На станции стало еще темнее: совсем тихо и сиротливо.
Из темноты к Анфисе Ивановне бежали три мальчика.
— Ну, тетя Фиса, — еще издали кричал Миша, — Митька барином поехал! На третьей полке, один!..
Володя дернул его за рукав, очевидно считая, что кричать сейчас неприлично; тихо и, как ему казалось, солидно произнес:
— Теперь, тетя Фиса, пойдем домой. А насчет Мити не расстраивайтесь. Птенцы — и те из гнезда улетают.
Рязанский мастер мог быть доволен: его слова падали на благодарную почву.
Вторая глава
1
Поезд пришел в Москву утром, на Павелецкий вокзал.
Забравшись вечером на третью полку, Митя поставил в головах сундучок, корзину, рюкзак и решил подумать обо всем, что ему предстоит. Но, только решив начать обдумыванье и устроившись для этого поудобнее, он сразу же заснул.
Разбудил его стук в перегородку: очевидно, козы требовали воды.
Митя хотел повернуться на другой бок, но кто-то потряс его за ногу и сказал:
— Эй, парень! Вставай! Москва.
Митя метнулся к окошку, думая увидеть Москву такою, какою он представлял ее по кино и открыткам. Поезд, погромыхивая, переползал с пути на путь, тащился вдоль редких кирпичных зданий.
Пассажиры готовились к выходу.
Больше всего на свете Мите хотелось сейчас освободиться от своего багажа. Ему казалось, что, как только он развяжется с багажом, всё пойдет как по маслу. Камеру хранения он нашел легко: туда стремилась толпа пассажиров.
Потный дядька в синем халате на голом теле подхватил Митины вещи с прилавка и понес их куда-то в глубину кладовой.
Вернувшись и записывая что-то на бумажке он спросил:
— Страховка?
Митя молчал.
Женщина, стоявшая позади, наклонилась к нему:
— Сколько стоят твои вещи?
— Я их не продаю, — быстро ответил Митя.
— Да нет же, — засмеялась женщина, — ты должен только назвать сумму, в которую оцениваешь свой багаж.
— Сто рублей.
Дядька сунул ему квитанцию. Митя был свободен.
Только теперь он вспомнил, что ведь его тетя должна была быть на вокзале, а он так и не задержался у своего вагона, как условился с матерью, чтобы тетка, не видавшая его двенадцать лет, могла подойти и спросить: «Ты Митя Власов?»
Он попытался снова попасть на перрон, но не помнил, на какую платформу пришел его поезд. Провозившись с полчаса на вокзале, Митя решил ехать к тетке домой.
Всё время ощупывая на груди деньги и документы, он вышел на площадь. Он еще в Лебедяни так подготавливал себя к первой встрече с Москвой, что в общем сейчас не растерялся.
Да, конечно, город побольше Лебедяни. Шумно. Много автомобилей. Ну и что ж? Он не маленький. А то, что он не знает, в какую сторону итти, так москвич в Лебедяни тоже б растерялся. Попробуй, например, найди у нас Задонскую сторону, когда у Дона две стороны и не знаешь, какая Задонская, а какая просто так.
Вот он сейчас спросит у кого-нибудь, где здесь у них в Москве Спиридоньевский переулок, — и всё. Подумаешь!
Если б кто-нибудь из прохожих москвичей знал, что именно такие смелые мысли мелькали в голове мальчика, поящего у вокзала, они б, вероятно, очень удивились. Митя застыл посреди тротуара и только растерянно вертелся в разные стороны, когда его задевали прохожие.
Они пробегали с таким деловым видом, что трудно было решиться остановить их. Но в конце концов он тоже приехал сюда не баклуши бить. Вот только сходит к тетке, определится куда-нибудь…
Сейчас самое важное попасть к тетке.
Митя спросил, как пройти к Спиридоньевскому.
Четыре человека ответили: «Я не здешний».
Три человека сказали: «Не знаю».
Два человека показали в разные стороны.
Десятый переспросил:
— Спиридоньевский переулок?.. Это, брат, далеко. Площадь Маяковского знаешь?
— Знаю, — соврал Митя. Ему показалось неловким совсем уж не знать Москву.
— Ну, вот доедешь до Маяковского, а там спросишь.
Пришлось начинать с начала.
Через десять минут он был в метро.

Что можно сказать о четырнадцатилетнем мальчике, попавшем впервые, прямо из Лебедяни, в московское метро?
Если б Мите, когда он спустился по эскалатору и вышел в просторный зал, сказали, что сейчас раздвинутся стены и он увидит морское дно со всеми его причудливыми обитателями, или с потолка спустится машина, которая увезет его на пятьдесят лет вперед, если бы ему пообещали сейчас показать самое громадное, самое немыслимое чудо, — он бы не удивился и поверил.
Всю меру своего удивления он израсходовал. Сейчас всё казалось ему возможным. И когда из туннеля, гудя, вылетел поезд, Митя уже спокойно, как заправский пассажир, входил в вагон. Пять минут в метро, как казалось мальчику, сделали его взрослее и солиднее. Где-то далеко-далеко были бедные Миша, Витя и Володя, была мама, были люди, которые не видели этого чуда.
Он так и шел потом по Москве от площади Маяковского к Спиридоньевскому, уже не удивляясь громадным домам, двухэтажным троллейбусам, потоку автомашин. Для каждого человека есть предел впечатлений, которые он может впитать за короткий промежуток времени. За этим пределом приходит абсолютное насыщение, и дальше впечатления уже не растворяются, а только всплывают и барахтаются на поверхности сознания.
«Сейчас это я только так смотрю, — думал Митя, — а потом рассмотрю как следует».
В Спиридоньевском переулке он легко нашел дом № 13, взобрался на третий этаж и позвонил.
Дверь не открывали.
Митя снял фуражку, пригладил волосы и снова позвонил.
За дверью не было слышно ни звука.
Он надавил кнопку и приложил ухо к двери: звонок работал. Позвонил еще и еще раз. Решил считать до пятнадцати и каждый раз после этого нажимать кнопку. Считал и звонил несколько раз.
Потом сел на ступеньку и съел яблоко.
Снова принялся звонить. Он еще ничего худого не предполагал, а просто злился на тетку: жаль было терять столько времени зря. Лучше уж было еще раз прокатиться на вокзал и обратно.
Он вышел во двор и посидел на крыльце.
Двое ребят играли в футбол. Вратарь стоял между портфелями, положенными на землю. Парнишка лет тринадцати разгонялся и ухарски бил по воротам. Вратарь, зажмурив глаза, кидался на мяч. Играли не важно. Стали играть еще хуже, когда увидели, что Митя смотрит на них.
— Хочешь, ударь, — сказал мальчик, бивший по воротам.
— Можно, — согласился Митя.
Он ударил. Немного поспорили, попал ли мяч в штангу или в ворота. Потом повозились с мячом, обводя друг друга. Двое ребят пошептались, и вратарь спросил:
— Ты на какой улице живешь?
— Ни на какой.
— Я серьезно спрашиваю.
— Правда, нигде не живу. Я только приехал.
— Из деревни?
— Из города.
— Из какого?
— Из Лебедяни.
Вратарь посмотрел на своего товарища и спросил у него:
— Коля, мы Лебедянь проходили?
— А чего ее проходить? Так себе городишко какой-то.
— А вот не какой-то, — сказал Митя.
— Там кто родился? — насторожившись спросил вратарь.
— Я, ответил Митя.
— Подожги, тебя серьезно спрашивают. Там что, — заводы какие-нибудь особенные?
— Сейчас нет, а потом будут.
— Потом всюду будут. В общем, город не знаменитый.
— А вот и нет. К нам Тургенев приезжал.
— Какой? Классик?
— Конечно. Из «Записок охотника».
Мальчики переглянулись. Коля спросил:
— А ты зачем к нам во двор пришел?
— К тетке. Я жить тут буду.
— Красота! Будешь у нас в нападении. Тетка в какой квартире?
— В шестнадцатой.
— Орлова? Знаю. У нее еще всегда пробки перегорают. Я чинить ходил… Постой, так она ж уехала! — вспомнил вдруг Коля.
— Как уехала? — испуганно спросил Митя.
— На той неделе снялась и уехала. В командировку, что ли.
Митя сел на крыльцо. Мальчики подошли ближе.
— А у тебя есть еще кто в Москве?
— Нету.
— Та-ак, — сказал Коля. — Погостить приехал? Вещи на вокзале?
— Ага.
— Придется, брат, заворачивать назад. Деньги на билет есть?
— Есть.
— Валяй сейчас на вокзал, узнай, когда обратный поезд, и всё. И по гостям другой раз за тыщу километров не шляйся.
— У тебя не спросил, — обиделся вдруг Митя.
— Чудак человек, с тобой по-хорошему…
Он обернулся к вратарю.
— Давай сейчас к моей маме зайдем, спросим насчет этого огольца. Может, у нас ночевать будет. Видишь, он совсем скис.
Бросив Мите на ходу строгим голосом: «Ты сиди, жди», — они ушли.
Митя не стал ждать.
Он взбежал по лестнице до теткиной квартиры, несколько раз неистово позвонил, постучал кулаком и только тогда смирился, когда увидел, что почтовый ящик, висящий на дверях, полон газет и писем: очевидно, их не вынимали уже несколько дней. Ясно: тетка уехала. Прежде всего надо бежать с этого двора. Он не станет ждать, пока Коля приведет сюда свою мать и опять начнутся расспросы, а потом его будут жалеть и говорить, что он скис… Ну его, Кольку!.. Уж очень он задается. Как будто это его личная заслуга, что он живет в Москве.
Митя быстро вышел со двора, поколебался, куда свернуть — направо или налево, решил, что теперь всё равно, и почти бегом прошел два-три квартала.
Он еще не совсем понимал, что, в сущности, у него в Москве нет ни одной знакомой души. Уж больно быстро всё произошло: только вчера вечером он был у себя дома, среди своих приятелей, а сейчас у него никого нет…
Он шел и шел, не зная, куда идет: заворачивал туда, куда шло побольше людей.
Иногда попадались витрины кинотеатров, и Митя останавливался, рассматривая фотографии. Ел пирожки с рисом, с капустой, с вареньем. Всё равно денег на обратный билет не хватит; он наврал Коле, чтоб отвязаться. Ну, а раз денег мало, чего их беречь? Ел мороженое: пожалуй, даже слишком много мороженого, — онемел язык.
В общем у него было не такое уж скверное настроение. В конце концов доехать до дому он может и без денег. Не погонят. Расскажет главному кондуктору, в чем дело; со всяким бывает. Так что в запасе у него выход есть.
Но когда он представлял себе разочарование Миши Зайцева, лицо Витьки и безмолвные вздохи матери по поводу его возвращения, ему становилось не по себе. И, главное, причина какая-то не очень солидная: подумаешь — тетка в командировке. Хотел бы он, например, посмотреть на Ломоносова, который завернул бы по такой причине обратно домой…
Но если уезжать не следует, то надо срочно что-то предпринимать. Надо устраиваться. В голове Мити проносились тысячи планов; все они заканчивались великолепно, красочно, но в них отсутствовало начало. Конец был действительно яркий и приятный: Митя с добродушной усмешкой в кругу приятелей рассказывает, как он бродил по Москве и как устроился; а вот придумать сейчас, что же надо сделать, чтобы устроиться, — этого он не умел.
Митя старался отсрочить решение; ему легче было делать вид, что время еще есть, выходов сколько угодно; вот погуляет немного, а потом займется своими делами.
Гуляя, он рассматривал дома, заходил в садики, останавливался у витрин и так дошел почти до Охотного ряда.
Его привлекло здание центрального телеграфа. Он вошел внутрь. Здесь, в помещении телеграфа, к Мите сразу приблизились дом, мать, Лебедянь; легко можно было представить себе провода, бегущие от Мити к ним, можно поздороваться, можно поговорить, поделиться, посоветоваться…
Он взял бланк.
Не так просто первый раз в жизни сочинить телеграмму, особенно, если надо столько рассказать в ней!
Он написал свой лебедянский адрес, подержал кончик ручки во рту, обдумывая, как уместить на маленьком бланке всё, что хотелось бы сказать матери, и наконец написал: «Здоров. Целую. Митя».
Оставалось еще много места, но, пожалуй, главное уже сказано, главное в том, что он не вернется с пустыми руками домой.
После телеграфа время помчалось с удивительной быстротой, — трудно было что-нибудь предпринять.
Митя оказался в самом центре Москвы, быстрый ритм движения заворожил его. Он тоже спешил, как и все, потом спохватился, пошел медленнее. Иногда ему казалось, что он вертится где-то по кругу, попадая на одни и те же улицы.
Столько событий, картин, чудес пронеслось перед его глазами, что Лебедянь была где-то в далеком-далеком прошлом. Он с утра жил необыкновенной жизнью: «Кто это ходит сейчас по Москве? Неужели всё это со мной происходит, с Митей Власовым?»
Над Москвой незаметно сгущались сумерки. Показались на небе звезды, жалкие, городские; потом вдруг вспыхнули фонари, зажглись огни в окнах, как будто город переоделся, надел другой костюм, еще наряднее.
Постепенно Митю начало охватывать беспокойство.
В надвигающейся темноте он окончательно потерял представление о каком бы то ни было направлении. Всюду были одинаковые фонари, освещенные окна. Свет фар слепил глаза. Начинали болеть ноги, хотелось сесть, даже, лучше, лечь, и чтоб лунный свет бледной полоской лег на одеяло, а из-за стены чтобы донеслось похлопыванье куриных крыльев; это птицы взлетали на ночь на насест.
Долго еще бродил Митя по вечерним московским улицам. Он присаживался иногда на скамейки в садиках, опьянев от обилия впечатлений. Несколько раз ему хотелось обратиться к кому-нибудь и спросить: «Товарищи, вы не знаете, где тут у вас ночуют?» Уже не понимая, что с ним происходит, он вдруг замечал, что как будто только что проходил по тротуару, а сейчас почему-то сидит в троллейбусе; потом он находил себя у какой-то витрины… И наконец в метро! Так уютно было на мягком сидении, у окошка. Вагон мчится-мчится под землей, потом вдруг забрезжит в туннеле свет, и поезд влетает во дворец. Сколько их, дворцов-станций, пронеслось мимо Мити в этот первый вечер! И каждая последняя станция казалась такой, что уже лучше и не придумать! И вдруг снова лучшая!
К часу ночи он оказался у Павелецкого вокзала: его потянуло хоть в какое-нибудь знакомое место.
Войдя в вокзал, он забрался в дальний угол, сел на скамью и решил пробыть здесь до рассвета.
Под утро его разбудили уборщицы: подметали пол мокрыми опилками, а потом мыли каким-то пахучим раствором.
Пришлось выйти на площадь. Сейчас здесь было тихо и необыкновенно пусто. На безлюдных улицах стали гораздо заметнее дома; они как будто вышли подышать чистым предрассветным воздухом.
И на одном пятиэтажном доме Митя увидел громадную во всю стену, доску, на которой крупно было написано:
КУДА ПОЙТИ РАБОТАТЬ
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
У него разбежались глаза. Получалось, что он, Митя, стоит на тротуаре, а его зазывают, уговаривают, предлагают ему на выбор разные варианты. Оказывается, он здесь здорово нужен. Митя вспомнил совет Миши Зайцева: «Сразу ответа не давай. Скажи: «Я подумаю».
Он начал перечитывать объявления. Левая часть доски ему не подходит. Это ясно. Остается правая. Тут штук десять ремесленных. Чего же особенно выбирать? Они там сами лучше знают, как выучить его какой-нибудь специальности. А в крайнем случае, если ему не понравится в одном училище, он перейдет в другое…
Через час он прохаживался у дверей ремесленного училища № 28.
В проходной ему сказали, что директор, Виктор Петрович Голубев, будет на утренней линейке в 6 часов 45 минут.
Прогуливаясь у дверей, Митя рассматривал дом, заглядывал в окна первого этажа; там стояли какие-то машины. Потом стал смотреть вдоль улицы, пытаясь угадать директора среди еще редких прохожих.
Вот идет по тротуару старик с палкой. Это не директор. Вот прошел военный, сапоги блестят на солнце. Из-за угла вышли два молодых парня с полевыми сумками; наверно, студенты. Девчонка какая-то пробежала с лекарством. Дворник широко размахивает метлой, как будто косит траву. Тележку с сиропом провезли. Еще одна девчонка пробежала…
— С добрым утром. Ты к кому?
Кто-то дотронулся до его плеча. Митя обернулся. Перед ним стоял худощавый высокий человек, с седыми висками и с удивительно, как показалось Мите, веселыми, любопытными глазами.
— Я к директору, — ответил Митя и указал на дверь училища.
— Что ж так рано? Ночевать негде?
— Я на вокзале спал, — сказал Митя с неожиданной откровенностью.
— Ну, а когда полы начали мыть, куда девался?
— По городу гулял.
— Когда приехал?
— Вчера.
— В метро катался?
— Немножко.
Митя удивился, откуда этот человек знает и про метро, и про полы на вокзале, и про то, что негде было ночевать…
— Ну, пойдем к директору в кабинет.
Через пять минут Митя стоял в кабинете у письменного стола, держа в руках кепку. Худощавый человек повесил свою фуражку в углу на вешалку, разгладил седые волосы и внимательно посмотрел на Митю; глаза его стали серьезными.
— Ну, вот. А теперь скажи, как ты попал именно в это ремесленное?
— На вывеске прочитал.
— Понятно. А кого выпускает наше училище, это ты знаешь?
— Ремесленников.
— Я про специальность спрашиваю.
— Не знаю.
— Значит, ты пришел подавать заявление, не зная, куда подаешь?
— А у вас на кого учат? — помолчав, спросил Митя.
— Вот этот вопрос я б на твоем месте задал с самого начала. Всё-таки не рубаху выбираешь, а специальность на всю жизнь.
Виктор Петрович прошелся по кабинету, укоризненно глядя на Митю.
— Мы выпускаем слесарей, токарей и фрезеровщиков. Тебе что больше правится?
— Всё равно.
— Значит, сначала будешь учиться, а потом выбирать?
— Зачем? Я хоть сейчас выберу.
Директор так прямо посмотрел в Митины глаза, что мальчику показалось, будто именно там Виктор Петрович и прочитал Митины мысли.
— А не понравится, — захочешь в другое училище?
Митя молчал.
— Так вот что, Дмитрий Власов: ночевать я тебя устрою, временно, конечно, а ты день подумай, поговори с ребятами. Решишь твердо, на кого хочешь учиться, — приходи завтра. Но только твердо, — понятно?
— Понятно.
— Будь здоров. Мне работать надо.
Через день Митя Власов был зачислен в ремесленное училище № 28 на отделение слесарей.
2
Два дня пролетели, заполненные непривычными делами и новыми впечатлениями.
Медицинская комиссия: взвесили, обмерили, выслушали, просветили рентгеном; потом выдали обмундирование — целую кучу новеньких вещей; и названия у них были серьезные: «бушлат», «гимнастерка», «парадная форма», и даже обыкновенные штаны назывались брюками.
Из бани повели строем, в ногу; Митя всё время одергивал на себе гимнастерку и старался четко стучать по булыжнику училищного двора ногами, обутыми в толстокожие форменные ботинки.
Это было похоже на какую-то новую, интересную игру.
Потом всех построили в большом зале, и перед строем встал человек, про которого сказали, что он старший мастер, и начал делать перекличку. Надо было отвечать: «Есть!»
Митя очень волновался, как это он тоже крикнет «Есть!», когда до него дойдет очередь.
Ему всё кругом нравилось, на душе было торжественно-радостно. Он готов был дружить с любым мальчиком, стоявшим в этом зале, и даже улыбнулся тому верзиле, который, стоя позади, больно ущипнул его во время переклички.
Старший мастер произнес, наконец, фамилию «Власов». Митя чужим голосом выкрикнул «Есть!», и у него было такое ощущение, как будто он сейчас обратился ко всем с большой речью.
Ему казалось, что он крикнул на весь зал: «Я здесь! Есть! Это я, Митя Власов из Лебедяни, приехал сюда работать и учиться. Я вас люблю всех, вы хорошие, я даю вам слово, что тоже буду хорошим, буду стараться…»
Еще много было разных горячих и сбивчивых мыслей, но Митя не успел их додумать, потому что вышел директор и начал говорить тихим голосом.
Виктор Петрович тоже волновался. Не в первый раз он выходил перед строем ребят в начале нового учебного года, и каждый раз хотелось ему найти особенные слова, которые запали бы им в душу. И каждый раз, глядя на шестьсот стриженых мальчишеских голов, Виктор Петрович думал о будущей судьбе этих ребят.
Он видел их сейчас не только в зале училища, это были для него не только пятнадцатилетние мальчики, а граждане его Родины, воспитание которых доверила ему партия. Среди них стоят сейчас будущие коммунисты, пламенные строители народного хозяйства. Он гордился тем, что в их грядущих славных делах прорастут те зерна, что будут посеяны здесь, в училище.
Он посмотрел на замполита, на мастеров и воспитателей, — шестнадцать коммунистов, вот тот передовой отряд, который поведет учеников. Предстоит трудная и упорная работа: собрать этих шестьсот разрозненных ребят в коллектив, слить их воедино.
Сколько тайн скрыто сейчас в этой толпе ребят! Кто-то из них выйдет из училища с пятым, а может быть, я с шестым разрядом; кого-то придется по многу раз вызывать к себе в кабинет и подолгу объяснять, как он дурно себя ведет и чем это кончится; многие разъедутся после училища по всей стране, и Виктор Петрович будет ими гордиться; все они будут расти на его глазах, и хочется сейчас оградить их от множества ошибок, которые они, к сожалению, будут совершать…
Всё это нельзя было уложить в речь, да и ни к чему.
Директор поздравил вновь принятых с поступлением, сказал им о чести ремесленного училища, которую они должны высоко держать, напомнил о дисциплине и пожелал успеха.
И, как всегда с ним бывало, он считал, что говорил сухо, плохо, не сказал самого главного.
Ну, а Мите казалось, что лучшей речи он не слышал в жизни! Его лично поздравляли, ему лично желали успеха, и он лично должен был поддерживать честь ремесленного училища. Такого громадного задания он еще ни разу не получал.
Вечером Митя сидел уже в своем общежитии, в своей комнате с ребятами из своей группы. Они еще немного дичились друг друга и только исподтишка осматривали соседей.
По длинному коридору шумно пробегали второклассники, жившие в этом же этаже, иногда заглядывали в комнату, рассматривая новичков.
Митю уже предупредили, что среди второклассников иногда попадаются отчаянные парни, которым ничего не стоит сорвать с новичка фуражку или, походя, смазать его по затылку. Один из них и ущипнул Митю на перекличке.
Чтоб смягчить этот извечный закон школьного «гостеприимства», в двадцать восьмом ремесленном воспитатели поступили так: в комнату, где помещались пять-шесть новичков, ставили одну постель второклассника. Он не мог бы их обидеть, даже если б захотел.
В Митиной комнате шестую кровать занимал второклассник Вася Андронов. Он уже работал три дня в неделю на заводе, имел третий разряд и, по правде говоря, был не очень доволен, что его поместили с новичками.
Уж очень они на него пялили глаза, и в их присутствии надо было изо всех сил стараться не ударить лицом в грязь. Они-то сами наверняка будут здорово тянуться, и теперь Васе придется, небось, подшивать подворотничок раза два в неделю. И чуть что — воспитательница Ольга Николаевна будет говорить: «Андронов, ты должен показывать пример!»
Пожалуйста, он с удовольствием поможет им, если они чего-нибудь не поймут в мастерских, но эта постоянная возня с мылом, мытье шеи!..
И, как назло, в его комнату поместили каких-то слишком аккуратных ребят. Небось, и перед сном будут мыться…
Митина постель была рядом. Он с уважением смотрел на Андронова, который с полчаса назад вернулся с завода (второклассники уже начали практику). Потемневшая от пота и машинного масла рабочая гимнастерка не топорщилась на Андронове нелепо, как на Мите, а плотно облегала его
маленькую фигуру. И когда Вася вошел в комнату, он таким великолепным жестом швырнул на тумбочку смятую, засаленную, бесформенную фуражку, так по-взрослому провел темной рукой по своим русым волосам, что Митя показался себе совершенным сосунком. В довершение всего, Андронов вынул из кармана газету и принялся читать ее.
— Что-нибудь интересное? — вежливо спросил Митя.
— Кое-что есть, — ответил Вася. — Хочешь половину?
Он аккуратно разорвал газету пополам и протянул Мите.
В это время в комнату вошла воспитательница.
— Ребята, выбирайте старосту комнаты… Андронов! — в ужасе всплеснула она руками. — Ты почему сидишь в грязной гимнастерке на кровати? Покажи руки. Сейчас же помыться до пояса и переодеться. Ты должен показывать пример, Андронов!
Вася нехотя пошел в умывалку, а потом, вернувшись, тихо сказал Мите, что вообще Ольга Николаевна женщина не вредная, но этим мытьем может довести человека до крайности.
Начали выбирать старосту. Трудное это дело, когда еще не знаешь друг друга. Иногда о таких случаях ребята руководствуются внешним видом: староста должен быть покрупнее и посильнее всех остальных.
Выбрали Петра Фунтикова. Он был на голову выше сверстников, шире в плечах, румяный, плотный, смущенно улыбающийся волжанин.
У себя в деревне, в свободное от школы время, Фунтиков работал в поле, косил, копал, помогал кузнецу.
Закончив шесть классов, сказал родителям, что поедет в ремесленное. Ему устроили настоящие проводы, с песнями и музыкой; отец, выпив, показывал на Петра односельчанам и говорил значительным шопотом, как величайший секрет: «Едет! В Москву!»
Его выбрали старостой комнаты единогласно. И как только выбрали, он решил, что должен сразу же что-нибудь сделать, а то неловко сидеть сложа руки. Он встал на табурет и подвинтил репродуктор, чтоб говорил почище; спросил у Васи Андронова:
— Подъем в котором часу?
— В шесть тридцать.
— Не проспим?
— Разбудят.
Васе было забавно наблюдать волнение новичков. И чего волноваться? Дадут им с завтрашнего дня часов по двадцать на изготовление первого молотка, а работы там часа на четыре. Да и за двадцать еще кое-кто запорет! А по теории они, пожалуй, покрепче его. Он пришел с четырьмя классами, а нынешний набор, говорят, всё с шестью да с семилеткой. Вон староста какой парнище!.. Нет, ребята как будто ничего, жить с ними, наверно, можно будет. Конечно, неопытные, робеют по началу, бедняги. Вошли б в его цех на заводе, совсем растерялись бы. Подбодрить их, что ли?
— Ну, староста, — поднялся Вася. — Ты теперь хозяин; давай знакомь нас.
Он первый протянул руку сначала Мите, а потом всем остальным.
— Вам кого в мастера-то дали? — небрежно спросил он.
— Ильина, — ответил Митя.
— Матвея Григорьевича! Ничего мужик. Настойчивый.
— А строгий?
— Это конечно. А с вами иначе нельзя.
Почувствовав, что он немножко перехватил, Вася поправился:
— Он же за нас отвечает. Он и в мастерских, и в столовую будет водить вас, и сюда в общежитие придет. Ну, вроде отца. С ним поладите… Он сам в сорок пятом ремесленное окончил.
Вася поговорил об их мастере, потом рассказал, что в первом классе будет день теории, день практики; на теории скучновато; кормят сытно; курить не разрешается; в театры и музеи водят даром; денег в первом классе маловато, а во втором он прилично зарабатывает; от старшего мастера будет влетать; а вообще жаловаться нельзя, — учат здорово, прошлогоднего выпуска ребята уже кое-кто скоростники, и их портреты в газетах печатались…
— А сейчас давайте спать, — неожиданно закончил Вася. — А то, верно, завтра проспите.
— Может, закусим перед сном? — спросил Митя, оглядывая всех. — Я тут тетке гостинцы вез, а она в командировку уехала.
Он вынул из тумбочки пакет и передал Пете Фунтикову.
— На, дели. Ты староста.
За едой разговорились.
Оказалось, что все шестеро — рыбаки. Обсудили, кто любит донку, кто перемет, а кто просто удочку с поплавком; похвалили окуня за то, что хорошо берет, обругали плотву за то, что обманывает и капризничает.
Потом Сеня Ворончук спросил Фунтикова:
— У вас как в этом году урожай?
— Яровые приличные. Пшеница повыше меня вымахала.
— На трудодень сколько вышло?
— Три двести.
— Ничего, — одобрил Сеня. — А у нас в этом году рожь хорошая. Два восемьсот дали, авансом.
Поговорили немного и о скотине. У Фунтикова в колхозе на скотном дворе стоял бык Кузьмич — породистый красавец с кольцом и носу. А летом купили для фермы чистокровного калининского хряка, у него такие уши, что глаз не видно…
И всё это было пустяком по сравнению с тем, что хотелось рассказать Сене Ворончуку о своем селе на Полтавщине.
— У нас, во-первых, гуси…
Но Мите было не так уж интересно выслушивать про гусей, и поэтому он сказал, что в совхозе «Агроном», где работает его мать, восемнадцать сортов яблок; самые вкусные называются «суслепер»…
Вася Андронов посмеялся над таким смешным названием, но, когда Митя протянул ему «суслепер», охотна взял и съел…
Уже в комнате было шумно, уже торопясь, перебивая друг друга, говорили по двое сразу:
— А вот у нас…
— А вот у меня…
— А вот я знаю один случай…
От шума проснулся задремавший было Сережа Бойков и сразу, с места в карьер, сказал, что в их детдом в прошлом году приезжал артист Черкасов.
— Вот так я стоял, а вот так — он.
И получалось, что они стояли запросто рядом.
Через полчаса, на самом интересном месте, прозвучал отбой.
Вася Андронов показал, как складывать новую одежду, чтобы она не мялась.
Погасили свет.
Заснул сразу Сережа — за свою жизнь в детдоме он привык к общежитиям. Поворочался немного в постели Петя Фунтиков, вспоминая, как приятно поваляться на сене. Потосковал в темноте и Сеня Ворончук… А Митя подумал, что мать уже давно спит в Лебедяни, и, чтоб больше об этом сейчас не думать, натянул одеяло на голову и, решив считать до ста, заснул на семидесяти четырех.
Спал весь дом. Спали вновь избранные старосты, спали мальчики, приехавшие из дальних деревень, спали дети, выросшие без родителей; и никому из них еще не снилось, что они — будущие искусные мастера, великолепные новаторы, орденоносцы, герои… В эту первую ночь им еще снились родные, дом, река, лес, поезд… Снилась Москва, которую они наконец-то увидели!..
Спокойной ночи, ребята!
Третья глава
Удивительно приятно держать в руках теплую от работы поковку! Присмотришься к ней и увидишь, что утром, когда брался за дело, она была еще бесформенной, уродливой, а сейчас на ней следы твоего труда и уменья.
Мысленно ты видишь ее уже готовой, блестящей, великолепной, и хочется поскорее впиться за следующую, более сложную работу. Всё, что видишь вокруг, мечтаешь сделать собственными руками. На все вещи, попадающиеся под руку, смотришь иначе: как они сделаны как обпилено, где просверлено, где обточено.
Мастерская постепенно обжинается. Уже знакома каждая щербинка на тисках, каждые, сантиметр поверхности верстака.
Инструменты становятся более послушными, они как бы начинают понимать, чего ты от них хочешь, и стремятся выполнить твое желание. У каждого из них вырабатывается свой характер. Прямодушный и грубоватый драчовый напильник не любит долю рассуждать и примериваться, он с ходу принимается за дело. Бархатная пилка нежна и коварна: она умеет сглаживать видимые недостатки, приукрашивать свою работу. Строгий и неподкупный угольник безжалостно разоблачает ее хитрые козни.
Обпилил бархатной пилой все поверхности, поковка заиграла, заблестела — зайчики забегали по полу, и хотя ты знаешь, что в одном месте наврал, а всё-таки надеешься, что при такой красоте ошибка проскочит незаметно.
Митя оттягивал тот момент, когда следовало проверить свою работу угольником.
Он еще и еще раз легонечко проводил наждаком, добиваясь немыслимой гладкости. Потом, наконец, вынимал из кармана угольник и, приставив его к поверхности, смотрел на свет.
Зазор.
Как ни верти, как ни пристраивай угольник, а зазор бьет в глаза.
Митя пытался прикрыть его в одном месте, но он выскакивал в другом. Он даже как будто рос на глазах, это уже огромная щель, а не зазор, и кажется, что из этой щели дует.
Угольник неподкупен. Его не обманешь красотой.
Теперь и Мите поковка уже не казалась красивой. «Дрянь поковка, самая обыкновенная дрянь. Вырядилась, выпялилась и думает, что обманет. А вот я сейчас сдеру с тебя драчовой пилой всю твою красоту, тогда узнаешь, как обманывать».
Без сожаления он зажал ее в тиски и всем телом налег на ручку.
Рраз! Ага, запищала!..
Еще раз пройдемся драчовкой. Еде тут у нас был зазор? Подавай его сюда. Сейчас мы за него возьмемся. Это, брат, не игрушки. Мы, брат, больше не будем ошибаться. У нас, брат, времени нет на ошибки.
Когда разговариваешь таким образом с самим собой, кажется, что виноват не ты, а кто-то другой, кого ты учишь.
Только сегодня утром он получил от мастера эту поковку четырехсотграммового молотка с квадратным бойком. Грязновато-шероховатый кусок металла, очень отдаленно напоминающий молоток. От первого же прикосновения напильника засверкала, засияла в нескольких местах сталь, и захотелось как можно скорее содрать всю эту неровную, неопрятную поверхность.
Молоток у него будет на славу! Пожалуй, даже много двадцати часов, — вполне можно справиться и побыстрее. Интересно: куда попадет этот молоток? Может, он будет лежать в магазине на полке? Зайдет какой-нибудь важный человек в шляпе, знаменитый инженер, лауреат Сталинской премии, и спросит продавца:
— А ну-ка, покажите, какие у вас есть молотки.
Продавец разложит десяток на прилавке, а знаменитый инженер поднимет Митино изделие и скажет: «Сразу видно, что делал мастер. Заверните, пожалуйста».
Митя самозабвенно пилил, не останавливаясь, не глядя по сторонам.
День пробегал быстро и незаметно. От утренней линейки до обеда каждая минута была заполнена делом, и если дело спорилось, так приятно было тут же, в мастерской, шумно построиться и пойти в столовую на обед.
Пройти надо было всего только через двор в другое здание, но после четырех часов спорой работы на душе у Мити было спокойно и весело; не так весело, как бывало, когда бежишь у себя в Лебедяни в кино или на Дон, а совсем по-другому: как будто так же смеешься, так же хочется громко разговаривать, но это веселье взрослого человека, поработавшего на славу.
И есть хочется по-иному, и руки моешь иначе: смываешь рабочую грязь; а на ладонях у самых пальцев кружочки мозолей.
В столовой шуметь не полагается, но попробуй пообедать тихо, если кругом столько знакомых ребят и каждому хочется сказать два-три слова…
Стулья сами по себе отодвигаются с шумом, ложки и вилки звенят. Посреди стола лежат пухлые ломти ноздреватого хлеба; они разложены колодцем на большой тарелке. Вкусно пахнет борщом, супом, жареной картошкой, мясом. В стаканах — подернутый матовой пленкой кисель.
Тарелка уже дымилась перед Митей.
За четырехместным столом сидели четверо друзей. Степенно и медленно ел староста Петя Фунтиков. Он теперь уже староста группы. Поев, он вытирал хлебом тарелку и клал в нее вилку и нож. Торопливо глотал Сережа Бойков, не сводя глаз с киселя. Его всегда одолевают сомнения: начинать ли обед с третьего или кончать им?
Что скажет по поводу еды Сеня Ворончук, известно его товарищам с первого дня: в Полтаве готовят вкуснее. Тем не менее съедает он всё и часто берет вторую тарелку супа. Он только любит под свои поступки подводить базу.
— Ем две тарелки, потому что для работы нужна сила.
Из столовой вышли порознь, немножко отяжелевшие после обеда.
Митя садится с ребятами на штабеля досок, на солнышке. Тут собираются ученики и других групп. Говорят о работе, о футболе, обсуждают характеры мастеров, немножко хвастают производственными успехами.
— Нам сегодня ножовку дали делать.
— Какой группе?
— Двенадцатой.
— Зачем врешь? Матвей Григорьевич говорил, что план для всех групп одинаковый.
— План одинаковый, а наш мастер принес сегодня ножовку.
— Как принес? Показал, что ли?
— Показал. Говорит, будете делать.
— Когда?
— Вообще.
— Так бы и говорил. А то говорит, — сегодня. Показать можно и трактор, а ты попробуй его сделать…
Митя сидел молча, жмурясь от солнца; до него доносились голоса товарищей, иногда он терял нить разговора.
— Почта была?
— Восемь — один в пользу ЦДК.
— Китайцы им такого жару дали!
— А я тебе говорю, Поль Робсон плевал на их угрозы.
— Если будет валять дурака, мы к его матери войдем…
— Спрячь папиросу, мастер идет!..
Лениво ползут мысли. Валяет дурака Костя Назаров. Это про него сейчас Сеня сказал. Курит парень из двенадцатой группы, который врал про ножовку. А что касается угроз империалистов, то Митя плевал на них так же, как и Поль Робсон.
Вторая половина дня пробегала еще быстрее, чем первая. Приближался вечер, а с ним тоска по дому. Хуже всего было, когда гасили свет после отбоя ко сну.
Никак не удавалось быстро заснуть. С завистью он прислушивался к сонному причмокиванию Сережи, к ровному дыханию Фунтикова, смотрел на фонарь за окном, чтобы от света устали глаза, а сон всё не приходил. То казалось, что подушка слишком теплая, — он переворачивал ее холодной стороной; то одеяло как будто не так лежало и простыня скатывалась к ногам.
Он уговаривал себя: ночью все должны спать, завтра рабочий день, год быстро пролетит, а там каникулы; он поедет домой, выйдет на станции, увидит знакомую мельницу, элеватор. Стоило мысленно дойти до элеватора, как Митя уже точно знал, что теперь не заснуть. Тогда он начинал вспоминать всё по порядку: мать, Дон, яблони, рыбалку, опять мать, школу, снова мать…
Иногда с постели у окна раздавался свистящий шопот Сени Ворончука:
— У нас сейчас повидло варят.
Митя молчал. Может быть, Сеня говорит со сна.
— Не спишь? — спрашивал Сеня, ни к кому персонально не обращаясь: ему безразлично, кто бы ни откликнулся, лишь бы откликнулся.
— Не сплю. А что?
— Я говорю, повидло у нас варят, — слива давно поспела.
Несколько секунд длилось молчание, и если Митя не нарушал его, снова раздавался уже умоляющий шопот.
— До самой речки сады… У вас как речка называется?
— Дон.
— А у нас Ворскла, — обрадовался Сеня. — Берега крутые, нырять удобно. Ты нырять умеешь?
— Кто ж не умеет!
— Вниз головой?
— Смешно. Конечно, вниз головой.
— Другие любят ногами, — извиняющимся тоном сказал Сеня. — А козодои у вас водятся?
— Это что?
— Птица такая с длинным клювом; она козье молоко прямо из вымени сосет.
Сеня тихо и радостно рассмеялся.
— Враки, конечно. Легенда. Пастух какой-то, ворюга, придумал еще при царе, чтобы кулаков надувать: сам напьется козьего молока, а на птичку валит. С тех пор ее и прозвали: козодой. А ты лошадей купал?
— Кто ж не купал!
— Верхом?
— Смешно. Конечно, верхом.
— Я на одном против течения плыл. Ох, и конь!.. Вороной, как черт…
И вдруг донеслось сонное бормотанье Пети Фунтикова:
— Загребай правым… Табань, табань…
— На лодке катается, — завистливо шепнул Сеня.
— Ты про коня говорил, — напомнил ему Мити, но Сеня досадливо зашипел:
— Погоди, дай послушать, что человеку снится.
Притаившись, боясь пошевелиться, ждут.
— Твой нож тупой, бери мой, — бормотал Фунтиков.
— За камышами поехал, — объяснил Сеня.
Пете везет больше, чем другим: он часто видит сны, и не какие-нибудь бессмысленные, где кто-то кого-то догоняет, а кто-то падает с громадной высоты, — нет, во сне Пете видятся Волга, дом, родня.
Митя и Сеня ждут, что Петя снова заговорит, но с постели слышится только сладкое посапыванье. Сеня, наконец, теряет терпение. Он протянул руку через прутья своей кровати и потряс за ногу Фунтикова:
— Петя!.. Слышь, Петро, чего дальше-то?
Фунтиков долго не просыпается, потом испуганно садится на постели и, не рассуждая, начинает натягивать брюки: ему кажется, что его будят на занятия.
— Постой. Это я тебя будил. Ложись. Ночь еще.
Петя покорно ложится. Видно, что он сейчас ничего не соображает.
— Камышей нарезал? — донимает его Сеня.
— Нарезал.
— С лодки купался?
— Купался.
— Глубоко?
— Глубоко.
— Ну, прости, что разбудил. Спи дальше.
Петя не нуждается в разрешении, он убежден, что весь разговор и так происходил во сне.
Утром он всегда поднимается с чувством неловкости: мало ли чего наболтал во сне, а потом ребята смеяться будут. Ему кажется, что для старосты это не солидно — видеть, например, во сне маму и, главное, орать об этом на все общежитие.
Место Фунтикова в мастерской рядом с Митей.
Петя хороши понимает, что звание старосты обязывает его к отличной работе. Поэтому он не торопится, как Митя.
Лучше начать потихоньку, а потом он наверстает. Когда косишь, тоже нельзя сразу всю силу вкладывать в плечо, от этого начинает ломить руку… Фунтиков внимательно осматривает разметку на своей поковке. Может полечиться прекрасный молоток, если только как следует постараться. Конечно, трудновато запомнить всё, что говорил мастер, но в крайнем случае у него ведь можно и переспросить.
Кстати, надо будет после работы узнать у него, какой план дали на группу. И чтоб не получилось, как в прошлом году в одной бригаде в их колхозе: последние две недели уборки сплошная штурмовщина. Отвечать-то придется вдвоем: ему, Фунтикову, как старосте, и, конечно, мастеру.
Передохнув секунду, Петя быстро оглядел всю группу. Баловства пока не видно. Вон у Сережи Бойкова даже лоб мокрый. На Сеню Ворончука тоже можно вполне положиться, — работник стоящий. А Костю Назарова надо будет прибрать к рукам. Задаваться начинает. Мать, наверное, разбаловала…
Стоп! Кажется, заехал… Тут пилить нельзя, а то обпилишь разметку.
У окна тиски Кости Назарова. С утра, первый час, Костя обыкновенно работал старательно. Потом ему начинало казаться, что он стоит у верстака уже очень давно и вряд ли имеет смысл продолжать это занятие.
Ну что? Ну, сделает он молоток с круглым бойком. А зачем его, собственно, делать своими руками, когда можно выпросить у матери семь рублей двадцать копеек (мастер сказал, что это государственная цена молотка) и купить его в магазине. По плану надо затратить на молоток двадцать часов. Почем же это у них в училище расценивается час Костиной работы? Семь двадцать, деленное на двадцать… В общем, приблизительно тридцать пять копеек. Негусто! Он-то лично, Костя Назаров, ценит свое время гораздо дороже.
Вообще, делать молотки — это не работа. Подумаешь, инструмент, последнее слово техники! Гвозди заколачивать. Уж если что-нибудь делать, так по-крайней мере, чтобы все пальцами указывали. Какую-нибудь машину, которая дает тысячу процентов нормы. Тут бы Костя показал себя. А по мелочам он не станет размениваться…
— Покажи-ка, что у тебя получается? — раздается над его ухом голос мастера.
Мастер быстро взглянул на поковку, затем сразу перевел взгляд на Костю:
— Почему без ремня?
— Жарко.
— По вашей работе не видно, чтобы вам было особенно жарко. Вы что ж, не поняли, когда я объяснял.
— А чего тут понимать? Что, я молотка не видал?

Мастеру Матвею Григорьевичу двадцать три года. Он сам кончал это же ремесленное училище шесть лет назад. Он великолепно знает учеников типа Кости Назарова. Именно поэтому он не выходит из себя в ответ на Костину грубость, а становится еще вежливее.
— Не сомневаюсь что вам приходилось встречаться с молотком. Но это, вероятно, были случайные встречи. Разметка на вашей поковке обпилена. Отверстие высверлено неверно. Как теперь собираетесь поступать дальше?
— Еще не думал.
— А вы подумайте. Я подожду. У меня время есть. Вы же у меня один такой: простых вещей не понимаете. Другие, как видите, справляются.
Глядя в упор на Костю, Ильин стоял и ждал.
Долго этого вынести нельзя было.
Костя сказал:
— Матвей Григорьевич, дайте мне другую работу.
— Попроще ничего нету.
— Нет, мне посложнее. А то чего этой чепухой заниматься?
— Конечно, для нормального ученика не сложно, — согласился мастер. — То-то вы эту чепуху запороли. Придется вам задержаться на учебных операциях, а группа уйдет вперед.
— Какие это учебные операции? — обиделся Костя.
— Ну, будете пилить пластинки, резать ножовкой трубу… Во всяком случае государственного заказа вам доверить нельзя. Что же касается плана, который группа должна выполнить, то, я думаю, здесь найдутся товарищи, сумеющие восполнить пробел.
Ильин говорил медленно. Он знал, что каждое его слово хлещет Костю Назарова по самолюбию. Он точно знал, что на таких ребят абсолютно не действуют крики, уговоры и прямое обращение к их сознанию. Больше всего на свете они не любят оставаться в тени, терпеть не могут, когда их считают бездарными посредственностями; готовы реветь, когда видят, что их презирают.
Костя осторожно посмотрел на своего соседа справа.
Справа работал Сережа Бойков. По его лицу трудно догадаться, слышал он что-нибудь или нет. Во время работы чаще всего его губы сложены трубочкой: Сережа знает, что свистеть в мастерской неприлично, а свистеть хочется, поэтому он бесшумно дует на разные мотивы.
Он работает с удовольствием, потому что вокруг работают его товарищи. Пять лет Сережа прожил в детском доме и не представляет себе, как можно жить без друзей, которые всегда под рукой.
За молоток он спокоен. В детском доме он кое-что мастерил, и держать в руках напильник ему не впервой. Мастер Матвей Григорьевич тоже воспитывался в детском доме. Ну что ж, и Сережа может стать мастером. Вообще-то он еще как следует не задумывался над своим будущим. Всё как-то времени нет: то — то, то — другое. Да и чего особенно беспокоиться? Раз у всех получается биография, значит и у него получится. После молотка, кажется, дадут делать ножовку; не заметишь, как и время пролетит.
С будущего года они пойдут на завод (с первой же получки он купит себе кило халвы). Вот было бы здорово так всей группой уже и не расставаться. А то ему всегда немножко тоскливо: только сживешься с ребятами, глядишь — и разъедутся в разные стороны. Жили б в одном городе, кто на квартире, кто в общежитии, — в гости можно было б пойти. В свои пятнадцать лет он очень мало бывал в гостях: родственников у него нет, а когда заходишь в общежитии из своей комнаты в другую к ребятам, то это всё-таки не настоящие гости.
Звал, правда, к себе домой Костя Назаров, но неохота к нему итти. Чего он, действительно, дурака-то валяет? Работать не хочет и мастеру нагрубил… Надо будет с Петей Фунтиковым и с ребятами поговорить…
Вечером, узнав всё, Фунтиков спросил Сережу:
— Ты говоришь, он тебя сегодня в гости звал?
— Вообще звал. Хоть сегодня, хоть когда.
— У нас что завтра? Воскресенье? Позови Назарова к нам.
— Куда это — к нам? — удивился Сережа.
— В общежитие, в нашу комнату.
— В гости, что ли?
— Ну, в гости. Как хочешь называй. Печенья надо купить.
— Это такому парню печенье? — задохнулся Сережа.
Печенье он всё-таки купил, но на стол не положил, а спрятал под подушку.
Костя пришел, когда все четверо были в сборе. Это несколько удивило его, но в конце концов ему было всё равно.
— Здоро́во, ребята! Общий поклон! — сказал он, останавливаясь в дверях.
— Заходи, — пригласил его Сеня Ворончук.
— Шикарно живете.
— А разве дома хуже? — спросил Сеня.
— Спрашиваешь! Тут над тобой никого нет, сам себе хозяин, а там на каждом шагу мать. Одних слез за неделю не оберешься. Да зачем так, да зачем этак, да что ж это будет… Тьфу!
— Это ты на кого? — полюбопытствовал Митя.
— Да нет, она тетка хорошая. Если, конечно, не распускать.
— Рассказать бы ей, как ты ее обзываешь, — Фунтиков посмотрел на Костю недобрым взглядом.
— Так я же шутя, — поправился Костя. — А вообще у нас в городе с родными попроще, чем у вас. У вас, говорят, взрослому сыну в ухо могут заехать, а он отвечает: «Спасибо, маманя, за науку»…
— И всё-то ты врешь, — сказал Петя.
— Конечно, зависит от культуры. У нас за такое дело протоколы составляют. Ну, а в деревне, конечно, другой разговор…
— Ты насчет деревни полегче, — со злостью сказал Сеня. — А разговор с тобой всюду будет одинаковый.
Почувствовав в голосе товарища угрожающую нотку, Костя сообразил, что его пригласили в госте не зря и что надо держать ухо востро.
— Чего это вы все дома? — спросил он.
— Ждали тебя, — просто ответил Петя Фунтиков.
— Ого! — сказал Костя. — Честь какая.
— Порядочная, — подтвердил Петя.
Костя вынул из кармана коробку папирос, открыл ее и положил на стол.
— Закуривайте, — пригласил он широким жестом. — Не хватит, еще купим.
Сережа потянулся было за папиросой, но его рука повисла в воздухе: он услышал, как Петя сказал:
— Не курим, спасибо.
Для естественности, чтобы вывести свою руку из неловкого положения, Сережа всё-гаки взял папиросу, прочитал на гильзе «Казбек. Ява. Москва» и положил ее обратно в коробку.
Костя обвел всех быстрым взглядом, побледнел и поднялся с места.
— Бить будете? — звонким голосом спросил он. — Четверо на одного?
— Четверо на одного, — подтвердил Петя.
Не спуская глаз с товарищей, Костя стал медленно боком пробираться к выходу.
— Митька, запри дверь, — сказал Сеня.
Костя закурил и попробовал выпустить кольцо дыма, чтобы показать, что он ни капельки не трусит. Кольцо получилось такой причудливой формы, что Косте самому стало страшно, до чего же он растерялся.
— Расскажи: что у тебя вышло с Матвеем Григорьевичем? — предложил Петя.
— Наябедничал? — обернулся Костя к Сереже Бойкову.
— Дурак, — ответил Сережа.
— Ничего такого особенного у меня не получилось, — быстро заговорил Костя. — Я запорол молоток. Делов палата, убытку на семь двадцать, могу хоть сейчас вернуть.
Он полез в карман, сгреб всё, что там лежало, и вывалил на стол деньги, гребенку, перочинный нож, серебряную конфетную бумажку.
— А почему семь двадцать? — полюбопытствовал Петя.
— Государственная цена одного молотка.
— Неточно считаешь, — сказал Сеня Ворончук.
— Как это неточно? Мастер говорил, — семь двадцать.
— Молоток обходится семь двадцать, а ты-то влетишь в копеечку.
— Кому это я влечу? — запальчиво спросил Костя. — Тебе, что ли?
— И мне. Всем.
— Меня мать кормит, отец по исполнительному листу присылает.
— Вот дубина! — восхищенно сказал Сережа Бойков.
Все четверо молча смотрели на Костю.
Тот понял, что его как будто не собираются бить, и начал постепенно обретать спокойствие. В спокойном же состоянии он стал значительно наблюдательнее и приметил, что четверо его соучеников смотрят на него с обидным любопытством.
— Ты газеты-то читаешь? — почти дружелюбным голосом спросил Петя.
— Читаю.
— Врешь, наверное.
— А вот не вру.
— А ну, как фамилия председателя Всемирного Совета Мира?
— Всемирного? — переспросил Костя, чтобы оттянуть время.
Дорого бы сейчас он дал, чтобы иметь возможность выпалить неизвестную ему фамилию прямо в лицо четверым своим судьям.
— Ладно. Не знаешь. Давай другое…
— Хотите, я вам наизусть всю таблицу футбольного первенства за прошлый год скажу? — предложил Костя.
— Обойдемся.
— Пусть он скажет, где у нас строятся крупнейшие ГЭС, — сказал Митя.
— Что, вы меня совсем за человека не считаете? — обиделся Костя.
— У нас под Полтавой такому парню коров бы не доверили пасти, а тут — пожалуйста — сиди с ним в одной группе, — Сеня Ворончук досадливо махнул рукой и отошел к окну, показав этим, что лично для него вопрос исчерпан.
Теперь даже если бы кто-нибудь из ребят открыл дверь, Костя всё равно не ушел бы: он не мог уйти, оставив за своей спиной такое безоговорочное презрение к себе.
Сбиваясь, он попытался назвать крупнейшие электростанции, но сейчас это его уже не спасло. Он заглядывает в глаза ребятам, пробует улыбнуться, превращая разговор в шутку, дает понять, что дело не стоит выеденного яйца.
Сколько раз приходилось Косте Назарову стоять перед директорами школ, воспитателями! Но вот так, в комнате своих товарищей, которые позвали его в гости, а сейчас разговаривают с ним, как со шкодливым щенком, — так стоит он впервые, и так погано, как сейчас, у Кости Назарова еще никогда не бывало на душе.
Простота обстановки отнимала у Кости уверенность и силу сопротивления. Он привык, что его ругают в помещении классов, в кабинетах на собраниях, но здесь, в самой обыкновенной комнате, четверо ребят отказываются от его первосортных папирос, задают ему простые вопросы, на которые он не может ответить, и сидят сейчас в таком неодобрительном молчании, что лучше бы уж набросились на него все вчетвером и надавали тумаков.
— Где печенье? — спросил Петя Фунтиков.
От неожиданности Костя вздрогнул и сказал:
— Я не брал.
На его ответ никто не обратил внимания. Сережа достал из-под подушки пачку печенья.
— Закусим, — предложил Петя. — Ешь, Назаров.
Костя взял одно печеньице; оно сразу раскрошилось и намокло у него в ладонях.
Митя вынул из кармана ключ и открыл дверь.
— Можешь итти, — сказал Митя, тот самый Митя из какой-то там Лебедяни, которого он, Костя, считал ничем не примечательным парнем. Впрочем, всех этих ребят он когда-то давным-давно (сегодня утром) считал хорошими деревенскими хлопцами, но, конечно же, не идущими ни в какое сравнение с ним, с лихим Костей Назаровым.
Такая страшная обида поднимается в Костиной душе, что он боится пошевелиться, чтобы не расплакаться.
— Ребята, — сказал Митя. — Пусть он возьмет мою поковку; там осталось немного доделать, а я, может, успею еще одну обпилить.
— Добрый какой нашелся, — сказал Сеня, — за государственный счет.
— Если Назаров хочет, чтобы мы его уважали, должен сделать положенный молоток сам от начала конца.
Это сказал Петя Фунтиков.
— А если не сделает, — добавил Сеня Ворончук, — то лично я…
Сеня не успел сказать, что именно лично он предпримет как комсорг, потому что в комнату влетел парнишка из другой группы.
— Во что играете? Можно одно печенье?
Он увидел вдруг напряженное, красное лицо Кости, жесткие лица ребят и спросил:
— Собрание или просто так?
— Просто так.
— Выходит во двор строиться. Идем на экскурсию.
Парнишка выбежал.
— Пошли, — сказал Сеня Ворончук и прошел мимо Кости, как мимо стула.
Последним из комнаты вышел Фунтиков. Он обратился к Косте самым обыкновенным тоном:
— Идем, Назаров. Реветь дома будешь: мать пожалеет, даст на кино.
Во дворе построились. Шли из Замоскворечья.
Башмаки у всех были начищены, на лакированных козырьках фуражек поблескивало осеннее солнце.
Мите хотелось итти в ногу, и он дергал Сережу за руку, если тот сбивался с шага.
Когда идешь вот так группой в ногу по мостовой вдоль тротуара и на тебя оглядываются прохожие, кажется, что ты выше ростом, значительнее, сильнее; это потому, что ты идешь в строю товарищей и у тебя сейчас не только твои качества, а качества и твоих друзей: ты и Митя Власов, и Сережа Бойков, который шагает рядом, задрав курносый нос к солнцу, и Петя Фунтиков, и Сеня Ворончук, посапывающий за спиной. Даже Костя Назаров в строю кажется сто́ящим человеком.
А если еще идешь вот так по Москве, и солнце стоит над головой, и впереди Красная площадь, то хочется изо всех сил поторопить время, чтобы скорее пробежали два года учебы…
— По мосту нельзя ходить в ногу. — Сережа тронул Митю за рукав.
— Почему нельзя? Не выдумывай.
— А я тебе говорю, — нельзя: обвалиться может.
— Такой мостище?
— И очень просто. Расшатаем — и всё. Потом будешь отвечать.
Митя не поверил, по всё-таки сменил ногу: уж очень не хотелось рисковать таким великолепием.
Красная площадь появилась неожиданно. Только вышли из-за церкви, и сразу же перед глазами открылась просторная площадь, по которой сейчас пробегал легкий ветер.
— Смотри, Спасские ворота, — сказал Сережа.
Митя смотрел на всё. Он хотел видеть всё сразу. Он знал с детства, что из Спасских ворот выезжал Ворошилов, выезжал Буденный…
И сейчас он не удивился бы, если бы выехал маршал на белом коне, потому что на этой площади не бывает мелких событий.
Могут же сейчас открыться Спасские ворота, и может же выехать маршал на белом коне? Даже не обязательно, чтобы он разговаривал лично с Митей, но может же он выехать на белом коне?
Сеня Ворончук положил руку на Митино плечо.
— Ты смотри на те окна, а я на эти, — указал он пальцем на фасад Кремля.
Вся группа шла по площади, держа ровнение на окна Кремля.
«Я пока ничего такого серьезного не сделал, — думал Митя, глядя на окна. — Но я обязательно постараюсь сделать. Даю вам честное слово»…
Когда миновали площадь. Костя Назаров как бы невзначай придвинулся к Пете Фунтикову и сказал так тихо, как будто это предназначалось не Пете, а самому себе:
— Молоток я сделаю… А фамилия председателя — Жолио-Кюри.
Четвертая глава
Родители Пети Фунтикова приехали неожиданно. Он аккуратно писал домой, получал из дому письма, заполненные сельскими новостями: хлеб государству сдали, Тамарка занозила ногу, Николай перешел в третий класс; но в этих письмах ни слова не говорилось о том, что родные собираются в Москву.
В училище отец пришел днем. Узнав у вахтера, как пройти к директору, он закурил, предложив вахтеру папиросу, и сказал:
— У вас тут мой сын учится.
— Хорошее дело, — сказал вахтер.
— Фунтиков по фамилии. Часом, не слыхали?
— Не пришлось, — вежливо ответил вахтер.
— Ну, это хорошо. Значит, не балуется.
Иван Андреевич хотел было сразу уйти, но ему вдруг показалось, что это невежливо, человек обидится, и поэтому он спросил:
— Как у вас с дождями?
— Перепадает.
— И нам нынче грех жаловаться. Осадков хватает. На будущий год электростанцию монтируем. Приехал в Сельэлектро за проектом.
Он посмотрел, какое впечатление это произвело на вахтера, увидел, что достаточное, и пошел к директору.
Директора в кабинете не оказалось.
Предлагать женщине — управделами — папиросу не стоило, поэтому он только мимоходом сказал ей, что времени у него мало: надо к двум часам поспеть в Сельэлектро.
Управделами объяснила ему, как пройти в мастерские.
Проходя по коридору, отец увидел на одной из дверей надпись. «Комитет ВЛКСМ». Постучавшись, Иван Андреевич вошел.
За столом сидела девушка лет двадцати.
— Будем знакомы, — сказал отец. — Фунтиков, Иван Андреевич. Горьковской области, село Отрадное, колхоз «Трудовик».
— Наверное, к сыну в гости? — улыбнулась девушка.
— И в гости и по делам. Вы с моим Петром-то знакомы?
— Немного.
— Ну, как он справляется?
— Его выбрали старостой в группе.
— Это нормально, — сказал отец. — Только он нам ничего про это не писал. Ну, а еще какие у него нагрузки?
— Больше никаких.
— Парень здоровый, работящий.
— Так ведь хорошим старостой не так-то просто и быть.
— Это мы всё проверим, — сказал Иван Андреевич строго, хотя в глубине души уже гордился сыном.
— А физически как он? — спросил, поднимаясь со стула.
— Вполне здоров.
— Это мать интересуется, — пояснил Иван Андреевич, — а мне главное — морально. Воды у вас можно попить?
Девушка дала ему воды, и пока он пил, ему хотелось, чтобы она еще что-нибудь рассказала про Петра.
— Работает ваш сын по третьему разряду. — Она пояснила, что в первом году обучения получить больше третьего разряда нельзя.
Иван Андреевич потрогал усы.
— Это нормально, — сказал он. На сына он всё-таки был в некоторой обиде: мог бы и сам подробнее писать домой о своих делах и не заставлять отца расспрашивать.
Попрощавшись с девушкой, он спустился во двор и сказал жене:
— Идем к Петру.
— А где он сейчас, Ванюша?
— Где положено, — в мастерских.
Идя через длинный двор и приноравливаясь к частым беспокойным шагам жены, он говорил:
— С мелочами к нему не привязывайся. Не маленький. Чтобы потом от товарищей не было стыдно.
Он искоса посмотрел на жену, увидел, что она волнуется, да и сам он был взволнован, и ему захотелось ее успокоить. Он дотронулся до ее руки.
— Сына твоего, Катя, пока не ругают.
Она радостно взглянула на него, ожидая продолжения, но он сурово добавил:
— По предварительным сведениям. Самим надо посмотреть.
— Здесь-то побольше нашего понимают, — рассердилась вдруг жена.
— Больше нашего никто не может понимать, — терпеливо объяснил ей Иван Андреевич. — Потому что ты ему мать, а я — отец.
Он собирался развить мысль о требованиях, которые родители должны предъявлять к своим детям, но жена отмахнулась:
— Ты мне сына скорее покажи…
Стоя во дворе в ожидании мужа, она уже успела осмотреться. Рядом оказалась дверь в столовую. Когда дверь распахивалась, пахло оттуда хорошо: тянуло свежим теплым хлебом и жареным мясом. Пробегали официантки в белых передниках. Вышел проветриться повар в белом колпаке, постоял, покурил у входа. Екатерине Степановне понравилось, что он в кухне не курит и что он не толстый, как иногда бывают повара, а стройный, худенький, в очках, похож на агронома. Она хотела спросить у него, большой ли приварок у них в столовой, но постеснялась. Когда повар ушел, Екатерина Степановна заглянула в приоткрытую дверь, но дежурный в халате не пустил ее, и это ей тоже понравилось: чего ради пускать посторонних в верхней одежде в столовую, — еще грязи наносят. Опытным глазом хозяйки она успела отметить, что столы — на четырех человек — накрыты белой скатертью, хлеб нарезан толстыми аппетитными ломтями, в прихожей умывальник и на круглой палке сшитое концами полотенце.
И несмотря на то, что столовая понравилась Екатерине Степановне, ей стало немного тоскливо оттого, что сын ест еду, приготовленную не материнскими руками: вряд ли здешний повар знает, что Петя не любит морковку в супе.
Через двор то туда, то сюда деловито пробегали стриженые ремесленники. Она даже остановила одного и спросила, который час, и пока он отвечал, внимательно осмотрела сто. Ботинки и одежда были крепкие, ладно пригнанные.
Сейчас, идя рядом с мужем, она хотела только одного: увидеть поскорее сына. Да, пожалуй, еще, чтобы Иван Андреевич ушел по своим делам и она смогла бы поговорить с Петей обо всем досыта.
Когда они поднялись во второй этаж, дверь на площадку распахнулась и из мастерской донесся веселый, разноголосый визг напильников, как будто их настраивали для согласного хора. На площадку вышел паренек в синем рабочем халате. С нескрываемым ребячьим любопытством он посмотрел на них и даже описал около них полукруг.
— Вам Матвея Григорьевича? — спросил паренек.
— Мы к сыну, — скатала Екатерина Степановна.
— Погоди, — остановил ее муж. — Ты кто будешь?
— Бойков Сергей, из шестой группы.
— Слесарь?
— Учусь.
— Так вот что, Бойков Сергей, тут у вас мой сын старостой, Фунтиков по фамилии…
— Петя? — обрадовался Сережа. — Правильно, староста в нашей группе. И живем в одной комнате. Я сейчас Матвею Григорьевичу скажу, что вы приехали.
Петя работал в самом дальнем конце мастерской; Сережа подбежал к нему, уже задыхаясь.
— Отец с матерью приехали… Стоят на площадке… Иди к Матвею Григорьевичу.
Мастер отпустил его, сказав, что он может проводить родителей в красный уголок.
— Возьми вот у меня чистые концы и вытри руки, — добавил Ильин, осмотрев ученика. — Да беги скорее; небось, ведь и не слышишь, что я тебе говорю.
На площадке Петя с ходу поцеловал мать, а отцу подал руку. Мать заахала, увидев сына, отец сделал серьезное лицо и потрогал усы.
— Петенька, — сказала мать. Вот ты какой!
— Обыкновенный, — сурово оборвал ее Иван Андреевич. — Куда пойдем, Петр? Или здесь будем стоять?
Петя повел их в красный уголок.
Он шел между отцом и матерью. Они были такими же, какими он оставил их полгода назад в деревне. Но он привык видеть их дома или в поле; они были там как будто бы побольше ростом, самостоятельнее, и от них всегда что-нибудь зависело. Здесь они казались ниже, нерешительнее, и от этого были еще более родными. Он впервые ощутил к ним, особенно к матери, ясное и доброе покровительственное чувство.
— Как же ты, Петенька, живешь?
— Хорошо, мама, спасибо…
— Похудел, длинный какой стал…
— Растет парень, — сказал Иван Андреевич. — Я говорил, не приставай с мелочами. У нас, Петр, новость: электростанцию будем строить. Как раз в том месте, где мы с тобой раков ловили.
— С тобой построишь, — сердито сказала Екатерина Степановна. — Его послали в Москву по делам, а он здесь до вечера проболтает.
— Позволь, — растерялся Иван Андреевич, — ты же сама просила прямо с поезда к сыну зайти…
— Ну, просила. Повидался, а теперь иди по делам. А то я людям скажу, как ты исполняешь их поручения.
Иван Андреевич помигал удивленно глазами, посмотрел на сына, ища поддержки, и, наскоро попрощавшись, ушел, строго наказав, чтобы без него никуда не уходили.
— Ну, вот так-то лучше, — улыбнулась ему вслед мать. — А то он слова сказать не даст. На него надо всегда нажимать по общественной линии, он тогда послушный.
Петя рассмеялся, хотя ему и жалко было, что отец уходит. Отец у него только с виду строг. А страсть к назиданиям появилась у него с тех пор, как его выбрали в правление колхоза.
Мать задавала сотни вопросов, он едва успевал отвечать на них. Она хотела знать всё: где он спит, кто воспитательница, что дают на завтрак, с кем дружит, как учится…
В красном уголке она потрогала и похвалила портьеры, попросила показать шахматы, спросила, свежая ли вода в графине и действует ли репродуктор.
Он отвечал на все вопросы, не в силах сдержать улыбки. Ему было приятно сидеть рядом с матерью и разговаривать с ней, как взрослый.
Всё, что она рассказывала ему о доме, даже если это те имело никакого значения, радостно поражало его. Ольху около сарая раскололо молнией, петух ходит с выщипанным хвостом, Николай из отцовского ружья убил селезня.
— Вот такого громадного. Я хотела мальчишку за уши отодрать, отец не позволил.
— Кузьмич здоров?
— Здоровущий. На прошлой неделе приезжала из района комиссия, стали его выводить из коровника, а он двери в щепы разнес. Поросят наших, Петя, похвалили. Я их, когда все семьдесят три штуки вымою, ну прямо как ангелочки. Мне за них «отлично» поставили. Как ты думаешь, Петенька, войны не будет? — неожиданно серьезно спросила мать.
— Не будет, —
сказал сын.
И оттого, что он так уверенно, по-мужски ответил, Екатерина Степановна заметила вдруг, что он действительно не похудел, а вырос.
— Ну, как же ты, Петя, живешь?
Она задавала этот вопрос в третий раз, выслушивала ответ и всё-таки не могла ясно представить себе, как же ему живется вне дома.
В дверь просунулась голова Сережи Бойкова.
— Извините, — сказал он.
— Заходи, заходи, — позвал его Петя. — Вот, мама, это Бойков Сергей, из нашей группы.
— А мы уже познакомились.
Сережа чинно сел на стул и сложил руки на коленях. Екатерина Степановна развязала пакет и положила перед ребятами пироги с капустой.
— Здорово вкусно, — сказал Сережа с полным ртом. — Сами пекли?
— Сама.
— Домашнее вкуснее, чем в ресторанах.
— А ты много бывал в ресторанах? — засмеялась Екатерина Степановна.
— Так я и домашнее почти никогда не ел.
Она поняла, что он рос без родителей.
— А ты приезжай к нам летом в отпуск. У нас дома всё домашнее.
— Спасибо, может, и соберусь. Меня уже трое товарищей приглашают.
Посидели, поговорили, потом пошли в общежитие.
Ребята, вернувшиеся после обеда, ходили за матерью Фунтикова следом, и каждому казалось, что эта пожилая женщина в косынке привезла с собою частицу их дома, семьи, знакомую природу — лес, поле, речку.
Они ловили каждое ее слово об урожае, о скоте, об огороде. Когда Екатерина Степановна говорила самую обыкновенную фразу, где попадались слова: «пшеница», «рожь», «просо», ребята вспоминали и высокую, растянувшуюся до самого горизонта рожь, и густую пшеницу, и кудрявое просо. Всё это было для них не простыми названиями злаков, а самыми дорогими детскими воспоминаниями.
Вернулся Иван Андреевич. Екатерина Степановна сидела у стола, окруженная ребятами, оживленная, раскрасневшаяся; она и не заметила, что вернулся муж.
Воспитательница, Ольга Николаевна, обратилась к Ивану Андреевичу:
— Вам кого, товарищ?
— Это мой отец, Ольга Николаевна, — сказал Петя.
Иван Андреевич с укором взглянул на жену, — она-то уж здесь свой человек.
Воспитательница заторопила учеников:
— Ну, ребята, пора и честь знать.
Она хотела увести их, но Иван Андреевич задержал ее:
— Мне тоже интересно про сына спросить.
— Спрашивайте, пожалуйста. Я думала, что мы вам мешаем.
Иван Андреевич откашлялся.
— Не курит?
— Курить ученикам запрещено.
— Это я знаю, что запрещено, потому и спрашиваю, не курит ли.
— На вашего сына пожаловаться пока нельзя, — сказала воспитательница.
Иван Андреевич не мог скрыть довольной улыбки, однако ответил:
— Этого маловато, что пожаловаться нельзя. Мы на большее рассчитываем.
Он еще дома приготовил целый ряд назиданий для сына и сейчас только ждал минуты, когда смог бы их высказать. Воспитательница отлично понимала, что родителей надо оставить с сыном, и поэтому она предложила отпустить с ними Петю в город. Сережа вызвался показать им Москву.
Пошли впятером: увязался еще и Митя Власов. Его успели уже полюбить в группе. Он всегда очень внимательно и охотно выслушивал своих друзей, верил им, даже если они привирали, и удивительно кстати во время рассказа приговаривал:
— Ну да?.. Ох ты! Ну, а дальше?..
Как и все ребята, выросшие без отца, Митя с особенным вниманием относился к родителям своих друзей. Глядя на пожилого Фунтикова, на то, как он разговаривает со своим сыном, Митя с необычайной остротой представлял себе, как бы он сейчас встретился со своим отцом. Накопилось много мыслей и событий, которыми можно было поделиться только с отцом. Он ничего не скрывал и от матери, но она почти всегда во всем соглашалась с ним, а если и делала какие-нибудь замечания, то они относились только к тому, что надо быть честным человеком и беречь свое здоровье. С ней он не стал бы советоваться, он, пожалуй, сейчас сам уже немного беспокоился о ней, как человек, отвечающий за ее судьбу. Отец — совсем другое дело. Тем более, что отца-то Митя как следует не помнил, и сейчас он представлял его человеком, обладающим самыми хорошими душевными качествами; стоило Мите отметить что-нибудь замечательное в характере своего мастера, директора, замполита, как сейчас же ему начинало казаться, что именно эти качества были и у его отца. А если ил сталкивался с дурным поступком взрослого человека, то сейчас же думал. «Нет, мой отец никогда бы так не сделал».
За несколько дней до приезда Фунтиковых Митя получил свою первую в жизни зарплату. Училище взяло заказ на производство гаечных ключей и лекальных линеек; по учебному плану это было очередной темой, и поэтому группе слесарей поручили выполнить заказ. Мастер Матвей Григорьевич предупредил своих учеников, что за эту работу им будет уплачено; сделал он это не потому, что ребята стали бы за деньги старательнее работать: Матвей Григорьевич отлично помнил, как несколько лет назад он сам отнесся к своему первому трудовому заработку.
Те два дня, что Митя делал гаечные ключи, он чувствовал себя профессиональным слесарем, а не учеником. Больше того: он посматривал, как делают работу его соседи по верстаку; надо ведь выполнить этот специальный заказ так, чтобы к училищу, в случае надобности, обратились еще раз.
Неизвестно, кто из ребят и каким путем достал пасту, которой обычно «доводят» свою точную работу лекальщики, и хотя гаечные ключи не положено притирать на шабровочной плите, но Митя, успев обпилить и высверлить их раньше срока, часа два еще притирал их до такою блеска и гладкости, что в них можно бы смотреться, как в зеркало.
Прежде чем отнести их мастеру, он долго и придирчиво проверял свою работу: сначала накладывал шаблон на каждый ключ, потом осмотрел поверхности и шгангелем промерил размеры.
Всё было в порядке; кажется, он ничего не забыл, можно было нести их мастеру, но не хотелось так сразу расставаться с ними. Он перебирал их в руках, сверкающие, тяжелые готовые изделия. Сейчас хорошо бы пустить их немедленно в дело, — дали бы ему привернуть штук сто гаек, собрать какую-нибудь машину, например самоходный комбайн, чтобы он тут же срезу пошел по просторному пшеничному полю.
Когда Митя заканчивал очередную работу, ему всегда было немножко тоскливо, что тот инструмент, который он делает, будет жить неизвестной ему жизнью, в других руках; жалко было, что он, Митя, не увидит собственными глазами, как будет работать его изделие, плод его труда и мастерства: ведь инструмент только тогда начнет действовать и приносить пользу, когда уйдет из Митиных рук.
Дня через три пришел день первой получки. Деньги были совсем небольшие; у каждого из этих ребят бывали и крупнее, но то были родительские деньги, а это — заработанные собственным трудом. Сначала Митя хотел бы то править их матери, но потом постеснялся, что очень уж это маленькая сумма, и оставил их у себя. Они лежали и его тумбочке, и Митя всё никак не мог придумать, куда бы их истратить. Покупать халву и конфеты, как сделал это Сережа Бойков, казалось ему глупым употреблением первой получки, и он ждал случая, когда смог бы распорядиться ими как следует.
Договорившись с Фунтиковым, что он пойдет вместе с его родителями гулять по Москве, Митя забежал к себе в комнату и, вынув деньги из тумбочки (они так и лежали в конверте, как были получены в бухгалтерии), положил их в карман гимнастерки. Мало ли зачем могут понадобиться деньги человеку, гуляющему со своими друзьями по столице!
Шли так: впереди Иван Андреевич с сыном, за ним Екатерина Степановна с ребятами. Сереже хотелось разговаривать со всеми своими спутниками сразу, поэтому он перебегал от Ивана Андреевича к Екатерине Степановне, уговаривая полюбоваться то домом, то сквером, то памятником. Он готов был объяснять даже то, что не требовало никакого объяснения.
— Вот это, пожалуйста, милиционер. Видите, в той будочке? Он сейчас даст нам зеленый свет, и мы перейдем на другую сторону. А это «Победа» проехала, у нее четыре цилиндра…
Сережа знал Москву лучше своих приятелей: два года он прожил в детском доме на Пятницкой.
Когда его спутники останавливались в восхищении перед каким-нибудь зданием, Сережа сам же не давал им долго задерживаться.
— Это что! — говорил он. — Вот я вам сейчас покажу такое, что вы ахнете!..
Но стоило прийти к тому месту, куда он так спешил, как сразу же раздавалось:
— Это что!
Когда они вступили на Каменный мост, Сережа, напряженно всматриваясь в их лица, дрогнувшим голосом спросил:
— Ну как?
И у него было такое выражение лица, как будто это он лично построил мост и сейчас сдает его авторитетной комиссии.
— Вот, пожалуйста, чистый гранит. Потрогайте. Нет, вы потрогайте…
Если б Митя изредка не хватал его за руку, он обязательно попал бы под машину.
Петя с отцом шли впереди. Они вели серьезный, неторопливый разговор. Обоим надо было многое выяснить: сын оставил в селе семью, отец отправил сына учиться в Москву. Каждый считал, что лично за него волноваться не приходится, а всё дело в том, как справляются без него.
— Ребят не распускаешь? — спросил отец, кивнув на Сережу, который в этот момент покупал пирожки с вареньем и угощал Екатерину Степановну и Митю.
— У нас дисциплина, — кратко ответил сын, считая, что отцу не разобраться в сложной и многообразной жизни училища. — А у вас, говорят, ячмень с опозданием сдали?
— Мать скала? — быстро спросил Иван Андреевич.
— Почему мать? Ребята пишут.
— Они напишут.
— А что, неправда?
— Ну, опоздали на пять дней. Зато рожь нынче была богатая, и сдали в срок.
— Рожь рожью, а ячмень ячменем.
— Это верно, — извиняющимся тоном сказал отец, покосившись на сына. Иван Андреевич считал, что разговор принимает невыгодный для него оборот. — У тебя в группе сколько народу?
— Двадцать шесть.
— Ну вот. А у меня в бригаде тридцать два. Сравнил! У тебя всё под рукой, а я за день своих на лошади не обскачу.
— Объективные причины, — строго сказал сын.. — Вот, если б у тебя в бригаде хоть один такой, как Костя Назаров, был, ты б тогда узнал… Дурака валяет. Думает, игрушки. Пятьсот рублей обходится государству а месяц, а пользы — шиш. Была б моя воля, я б ему показал…
— Например?
— Выгнал бы.
— Это не способ, — сказал отец. — Тебя не за этим старостой выбрали.
— Выгнать надо, — упрямо повторил Петя.
— А может, у нею дома что не так? Сходил бы, с отцом поговорил.
— Да что отец! — махнул Петя рукой.
— То есть как это что? — Иван Андреевич от возмущения даже остановился.
— Да нет, я понимаю, — поспешно сказал Петя, — но только у него отца нет, а мать каждую неделю подарки покупает.
— Если желаешь, я могу с ним поговорить.
— Он тебя и слушать не станет.
— Послушает, не то, что ты, — обиделся Иван Андреевич.
Он действительно немного обиделся, но одновременно ему было приятно, что с сыном можно разговаривать, как с равным; даже больше того — ему льстило, что сын делится с ним, отцом, как с равным. Пожалуй, именно сейчас следует дать сыну те наставления, которые он приберег для него еще дома.
— С Костей Назаровым мы как-нибудь сами уладим, — помолчав, сказал Петя. — А вот я хотел насчет электростанции с тобой поговорить. Мощность у вас будет малая.
— Как это — малая? — всполошился Иван Андреевич. — Во всех избах свет. Фонари на улицах… — А тебе кто рассказывал, — мать?
— Говорю, ребята пишут.
— Что ж они тебе, как министру, жалуются?
— Энергия для работы нужна, а не только в избах.
— А строить кто будет? Квалифицированных рабочих нет.
— Почему нет? Шестнадцать ребят в отпуск приедут из ремесленных.
— Так это ж… — начал Иван Андреевич, но умолк. Он хотел сказать, что эти ребята — мальчишки, ничего не смыслящие в деле, но, посмотрев на сына, понял, что говорить этого не следует.
— А захотят работать? — спросил Иван Андреевич, чувствуя, что голос у него стал жидковатым.
— Если проект измените, конечно, захотим, а при малой мощности нет расчета возиться.
Договорились, что Петя спишется с земляками ремесленниками, а Иван Андреевич согласует этот вопрос в колхозе и в районе.
Ходили по улицам еще долго, никак не могли насмотреться. Наконец Екатерина Степановна взмолилась:
— Посидеть бы немного на скамейке. Ноги не ходят.
— Давайте на троллейбусе прокатимся, — предложил Сережа, считавший, что они ничего не видели. — Там мягкие кресла, а если во втором этаже, то очень полезный воздух, всё время продувает.
Иван Андреевич посмотрел на часы и сказал:
— До поезда два часа. Сейчас примем такое решение: сначала поесть. Какой тут у вас лучший ресторан?
В ресторане выбрали столик на веранде у самых перил. Внизу раскинулась Москва.
Тут было не до еды. Еще Иван Андреевич пытался сохранить хладнокровие, а все его спутники прильнули к перилам и не отрываясь смотрели вниз. Ветер растрепал мягкие волосы жены, косынка съехала на одно ухо. Екатерина Степановна, перегнувшись, стояла рядом с юношами и, онемев, смотрела на столицу.
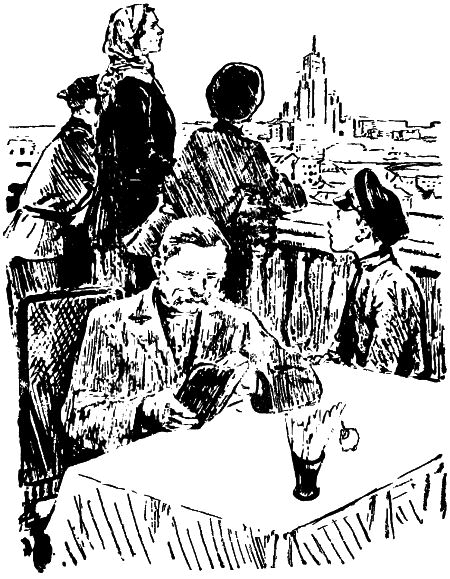
— Товарищи, товарищи, — приговаривал Иван Андреевич, — кушать-то будем?
Подошла молоденькая официантка, постояла рядом и, увидев смущение Фунтикова, сказала:
— А у нас всегда так: сначала насмотрятся, а потом уже про еду вспомнят. Я сама первое время сколько посуды перебила.
Трое ребят, глядя на город из поднебесья, думали по-разному об одном и том же.
Сереже было весело и радостно стоять рядом со своими друзьями. Всё было просто вокруг, Москва принадлежала ему навечно, он не испытывал робости, глядя на столицу. Всё хорошо устроится, как устраивалось до сих пор. Слабо доносились гудки машин, проползали усатые троллейбусы.
Справа и слева вздымались прозрачные высотные здания, окаймленные точными линиями, как на чертежах; где-то под самым небом ярко разгорался и мгновенно угасал огонь: очевидно, там шла электросварка. Сереже хотелось сейчас быть в одном из этих домов под облаками; он готов был делать там самую мелкую, самую незаметную работу, лишь бы только чувствовать, что он строитель этого сказочного здания…
У Мити немного кружилась голова; ему было стыдно этого ощущения, и чтобы побороть его, он еще больше высунулся над перилами. Когда-нибудь, когда он станет отличным слесарем-инструментальщиком, он привезет сюда свою мать, поведет ее на эту веранду и покажет ей столицу. Вон там видны стены Кремля. Это не фотография, а настоящая жизнь, в которой он, Митя, тоже участвует. Может быть, когда он кончит училище, их тоже поведут на Красную площадь, на парад.
Пете Фунтикову, глядя на Москву, хотелось сразу начать что-нибудь делать или, по крайней мере, придумать план действий на ближайшее время. Невозможно же просто любоваться. У него для этого нет свободного времени. «Надо спросить отца про клуб в селе. Если взобраться на Воронью гору, то оттуда будут видны огни Отрадного. Раз будет электростанция, — значит заведем электрокомбайн. Это поинтереснее троллейбуса. Надо написать ребятам в село, чтобы они на одну турбину не соглашались: строить так уж строить…»
Он смотрел на Москву, но видел Отрадное. Ему трудно было представить точный вид будущего Отрадного, поэтому он невольно вместо него подставлял Москву.
— Будете вы, наконец, кушать? Последний раз спрашиваю, — возмутился Иван Андреевич.
Сели за стол. Подошла официантка.
— Сыновья? — спросила она у Екатерины Степановны.
— А вот угадайте, — который мой?
Девушка осмотрела по очереди всех троих ребят, затем взглянула на Екатерину Степановну, на Ивана Андреевича и уверенно сказала:
— Вот эти двое на вас похожи, а вот этот, — она кивнула на Сережу, — вылитый отец.
— Правильно, — засмеялся Иван Андреевич. — Все мои. Прокормят на старости лет. А сейчас я угощаю. Соберите что-нибудь повкуснее. — Он жалобно посмотрел на жену. — К селедочке дадите две бутылки лимонаду…
Проводив родителей Пети Фунтикова, ребята вышли на привокзальную площадь. Митя, который последние полчаса чем-то томился, принимая, очевидно, какие-то серьезные решения и снова сомневаясь в них, вдруг сказал:
— Погодите здесь. Я сейчас.
Быстро, чтоб его не успели расспросить, в чем дело, он исчез.
У здания вокзала стояла длинная вереница легковых машин. Митя обошел весь этот ряд из конца в конец, потом вернулся обратно, внимательно всматриваясь в лица шоферов и выбирая из них посолиднее. Остановившись на пожилом шофере, дремавшем за баранкой, Митя шагнул к нему и спросил:
— Приблизительно сколько стоит доехать до Пятницкой?
Называть его «дяденькой» он не хотел, а сказать «товарищ» еще не решался.
Шофер открыл глаза, посмотрел на Митю и спросил:
— Кто поедет?
— Двое моих друзей и я. Вон они стоят у вокзала.
Шофер взглянул по направлению Митиной руки, но, к сожалению, друзей не увидел: они были еще слишком небольшого роста, чтобы возвышаться над толпой.
Шофер еще раз осмотрел Митю, и тот добавил:
— С получки хотим прокатиться. Только, понимаете, может быть, у меня денег не хватит…
— Садись, — сказал шофер, открывая дверцу рядом с собой.
Машина подкатила к тому месту, где стояли ребята. Митя еще издали делал им разные знаки, но хотя они и смотрели в его сторону, а видеть не видели. Когда машина остановилась вплотную около них и Митя сказал через окошко: «Садитесь, ребята», Сережа сделал испуганное лицо и прошептал:
— С ума сошел Митька!..
Первые несколько секунд все трое сидели в машине прямо, не опираясь на спинки. Неожиданность и отчаянность Митиного поступка мешали Сереже получать удовольствие от поездки в «Победе». Петя считал, что сейчас не время при постороннем человеке выяснять что да как; раз уж сели в машину, — значит и надо вести сгон, как я подобает взрослым людям. Митя был доволен необыкновенно и только напомнил шоферу.
— У меня шестнадцать рублей. Как только проездим их, вы сразу останавливайтесь.
До чего же хорошо он придумал: так истратить свою первую получку! Второй раз он осматривает сегодня Москву. Машина идет плавно. Небось, без гаечного ключа такую машину тоже не собрать, а ключи-то как раз делает он, Митя Власов, и его ближайшие друзья. Как бы сказать шоферу, что они все трое инструментальщики?
Уже давно на счетчике проскочило шестнадцать рублей, а молчаливый пожилой шофер всё не останавливал машину. Он провез их по центру города, провез мимо огромных домов, обшитых лесами. Может быть, потому, что в его машине сидели подростки, глядевшие на всё вокруг широко раскрытыми от счастья глазами, он и сам смотрел сейчас на город, как смотрят только в юности, впитывая и запоминая каждую мелочь.
Пятая глава
1
Против комнаты, в которой жил Митя со своими друзьями, жили фрезеровщики одиннадцатой группы.
Фрезеровщики относились к слесарям несколько свысока: они считали себя, так сказать, сливками рабочей профессии. Особенно в этом смысле отличался Коля Белых. Встречаясь в умывальной с Митей, он всегда неизменно спрашивал:
— Здоро́во, слесарек! Как тисочки, в порядке?
Коля был убежден, что умнее его фрезерного станка нет машины на свете. Конечно, он знал, что есть сложнейшие турбины, есть шагающий экскаватор, но всего этого он не видел, а его фрезерный станок был рядом, до него можно дотронуться, включить его.
Никогда не забыть Коле того дня, когда он впервые получил самостоятельную работу: надо было снять фрезой топкий слой с пластинки, которая носила ласковое название «сухарик».
Включив станок, он несколько секунд восхищенно полюбовался тем, как фреза, похожая на какой-то круглый цветок, скорее всего на астру, завертелась с легким жужжанием. «Сухарик» был плотно зажат на столе станка. Поворачивая рукоятку, Коля начал подводить стол к фрезе. Необъяснимое удовольствие наполняло Колину душу. Огромный, блестящий, пахнущий машинным маслом станок подчинялся малейшему движению Колиной руки. Вот захотел — и стальной тяжелый стол бесшумно пополз вверх; а захочет — и он сейчас же пойдет вниз. Ощущение необычайной силы, мощи и власти наполняло Колю гордостью и уважением к самому себе.
Теперь «сухарик» был у самой фрезы. Коля взялся за другую рукоятку и начал медленно и осторожно поворачивать ее.
Товарищи, вы когда-нибудь ощущали радость и счастье оттого, что по вашему веленью, от одного жеста вашей маленькой мальчишечьей ладони круглая, настоящая фреза, сделанная из лучшей быстрорежущей стали, впивается в металл?
Вы когда-нибудь следили блестящими от волнения глазами за тем, как сыплются металлические стружки, обнажая зеркальную поверхность стали?
В эту минуту Коля чувствовал, как будто это не фреза вгрызается в пластинку, а он сам, Коля Белых; его сердце билось сейчас не в груди, а где-то внутри станка, и если бы сейчас что-нибудь случилось с машиной, то то же самое должно было немедленно случиться и с ним.
И потом весь день он жил, оглушенный каким-то особенным ощущением, и когда пытался себе объяснить его, то каждый раз вспоминал: «Ах, да! Ведь я же сегодня работал на фрезерном станке!»
Вот этот самый Коля Белых жил напротив Митиной комнаты и каждое утро насмешливым голосом осведомлялся:
— Как тисочки, в порядке?
Однажды вечером произошло, наконец, генеральное сражение между слесарями и фрезеровщиками, которое чуть было не закончилось рукопашной схваткой.
Началось с мелкой стычки.
Коля Белых позволил себе в коридоре общежития под самой дверью соседей громко сказать насчет слесарей, что, дескать, это «народ мелкий и только зря небо коптят».
Митя распахнул дверь своей комнаты и сказал:
— А ну, повтори!..
— Подумаешь! Захочу и повторю.
— Попробуй.
— И попробую.
— А вот не посмеешь.
— А вот посмею.
Митя Власов наступал, Коля Белых отступал. На военном языке это называется: заманивать противника.
Наконец получилось так, что Митя оказался в противоположной комнате, в которой сидели друзья Коли Белых, фрезеровщики. Но и Митя уже был к этому времени не одинок: за его спиной в дверях стояли староста Петя Фунтиков и Сережа Бойков.
— Держись, ребята, — рассмеялся Коля Белых. — Вон сколько их поднавалило, — даже стульев не хватит!
— Ничего, мы постоим, — угрожающе сказал Петя Фунтиков.
— Правильно, — обрадовался Коля. — Когда фрезеровщики сидят, слесари должны перед ними стоять.
— Вам сидеть можно, — подтвердил Митя Власов. — Работа у вас не пыльная, за вас станок работает.
— Как это — за нас? — спросил Коля.
— Очень просто: наладил, включил и поплевывай.
От этого оскорбления повскакивали с мест все фрезеровщики, и в общем гуле возмущенных голосов почти ничего нельзя было разобрать, кроме отдельных выкриков:
— Много ты понимаешь!
— Кроме своих тисков, ни черта не видел…
— Да чего с ними разговаривать…
Коля подошел к Фунтикову вплотную и, задрав голову кверху, потому что тот был намного выше его, спросил:
— Давай по-честному, — завидно?
— Ни капельки.
— Рассказывай! Небось, если б мог, давно к нам перебежал бы.
— А я мог, да не пошел.
— Мы все могли, нам предлагали, — подтвердил Сережа Бойков.
— Врите больше, — сказал Коля.
— Да нет, они не врут, — вступился за них белобрысый фрезеровщик. — Им вправду предлагали при поступлении, но только они по серости своей не разобрались и подались на слесарей.
Фрезеровщики дружно расхохотались.
Вперед вышел Сережа Бойков.
— Ты в кафе-автомате бывал? — спросил он у Коли Белых.
— Ну, бывал, а тебе что?
— А то, что твоя работа, как около автомата. Ума для этого не надо.
— У тебя с напильником больно умственный труд.
— Ясное дело — умственный, а то какой же? Шабрить умеешь? Нет! Что такое слесарь-лекальщик, знаешь? Это профессор, понимаешь? Он с точностью до микрона работает…
— А ты станок с делительной головкой видел? — перебил его распаленный Коля. — Настроить его можешь? Про нас в газетах чуть не каждый день пишут: скоростники, две с половиной тысячи оборотов, пожалуйста, вот читай…
Коля рванул из кармана гимнастерки газетные вырезки и сунул их под нос Пети Фунтикова. Всё, что писалось о фрезеровщиках-скоростниках, он аккуратно собирал, вырезывал и подклеивал.
Петя отвел его руку с вырезками:
— Не про тебя ж написано. Чего хвастаться.
— Как не про меня? Я — фрезеровщик.
— Ну, положим, не про тебя всё-таки, — миролюбиво сказал комсорг группы фрезеровщиков Ваня Тихонов. — И чего вы, ребята, расшумелись? Подумаешь, капитал не поделили…
— А чего он в самом-то деле! — остывая сказал Митя Власов.
— Ты тоже хорош. «Наладил, включил и поплевывай»… Зачем людей обижать?
— Он первый начал.
— Маленькие. Еще бы поспорили, чей папа сильнее… Если хотите знать, — так умные люди как считают? Все профессии хороши.
Пете Фунтикову стало обидно, что не он унял спор, а комсорг другой группы. Чтобы поддержать честь своей группы, он сказал:
— У нас давно все так и считают. Нас если не трогать, мы смирные. Ты скажи, что у человека веснушки, — это пожалуйста, на это мы не обижаемся, а профессию не трогай.
Спор был исчерпан, но слесаря не уходили. Надо было сказать что-то еще, чтобы обе стороны чувствовали себя в равном положении. У фрезеровщиков было то преимущество, что спор происходил на их территории и уход слесарей мог расцениваться как отступление.
Чтобы облегчить положение гостей, комсорг сказал:
— Садитесь, ребята; в ногах правды нет.
Сели. Хозяева переместились на свои постели, уступив гостям стулья.
Ваня весело оглядел всех и спросил:
— Ну как, отошли?
— А мы ничего. Нам что, — мирно ответил Митя, словно это не он только что яростно подступал к фрезеровщикам и готов был ринуться в драку.
Как хороший, гостеприимный хозяин, Ваня нашел, наконец, верный способ, который мог бы легко примирить их.
— Может, споем? — предложил он.
Затянул слесарь Сережа Бойков. Подхватил фрезеровщик Коля Белых.
Сережа пел тоненьким голоском, заводя зрачки под самые веки, так, что глаза его казались слепыми. У Коли голос был погуще и лицо во время пения остановившееся, как на фотографии.
К песням ребята относились серьезно, с душой, они были заворожены мелодией. Сейчас никто из них не пошутил бы, не выкинул бы какого-нибудь коленца, — это считалось бы оскорбительным.
Спели сначала про казака, «каким ты был, таким остался». Затем затянули украинскую: «Стоить гора высокая». Эту песню привез в своем деревянном сундучке полтавчанин Сеня Ворончук. Спели белорусскую, спели грузинскую…
И каждый юноша думал, что все эти песни написаны о нем. Он и казак лихой, он и жил на горе высокой, он и разыскивал девушку по имени Сулико.
Песни окончательно примирили их; им казалось, что они выложили друг перед другом всю свою душу…
От песни гораздо легче перейти к мечтам.
— В будущем году кончу ремесленное, пойду в техникум, — сказал вдруг Ваня Тихонов. — Я себе записал, что должен успеть за пять лет, а теперь буду постепенно вычеркивать.
— Много записал? — спросил Митя. Ему понравилась эта идея.
— Две страницы в одну линейку. Я с шестого класса начал, но только иногда приходится подправлять. Ну, что я год назад был? Мальчишка. Записал, например, — научиться фотографировать. Сейчас, конечно, пришлось изменить…
— Такие мелочи, ясно, не стоит, — сказал Коля Белых. — У тебя потому и получилось две страницы, что ты всё подряд записываешь. Мне б одного листочка хватило: кончить ремесленное, поступить на огромный завод, получить шестой разряд… Вполне на пять лет хватит. Ну, конечно, одеться прилично; чтоб деньги всегда были…
— Это не называется мечта, — презрительно сказал Митя. — Это всякий может.
— А по-твоему, мечта — это когда не может?
— Нет. Когда кажется, что невозможно, а ты сумел.
— Ну, например?
— Например, — покраснев до ушей, сказал Митя, — лауреат Сталинской премии. Нам тут про Зайчикова мастер рассказывал… Он на одном ленинградском заводе…
Вспомнив, что Зайчиков — слесарь, Митя запнулся и замолчал. Поднимать об этом разговор после общего умиротворения, пожалуй, не следовало.
— Хватил! — присвистнул Коля Белых. — Зайчиков такой человек…
Он тоже замолчал, вспомнив, что лауреат Сталинской премии Зайчиков, хотя и слесарь, но биографию его он всё-таки вырезал из газеты, — очень уж замечательный человек.
— Зайчиков — это, брат ты мой…
— Конечно, хватил, — охотно согласился Митя. — Мы ж про мечту говорим. Я ж не говорю, что это надо в тетрадку записывать. Это в уме.
Петя Фунтиков степенно и рассудительно заметил, что если намечать план для себя, то надо исходить из реальных возможностей. Костюм и деньги — чепуха. Вот, например, образование — это дело. Его ни пропить, ни проесть никогда нельзя. И на спине его не носить. Он лично учится в вечерней школе в восьмом классе. Жизнь покажет, как ему поступать дальше. Он еще в детстве так много думал о будущем, что теперь зарекся загадывать наперед.
— Так у тебя же специальность уже есть. Ты слесарь.
— Мало ли кто со слесаря начинал, — загадочно сказал Петя.
Ваня Тихонов возразил, что взрослые тоже думают наперед. Об этом думают не только отдельные люди, а целое государство.
— То совсем другое дело, — сказал Петя, чувствуя, что его позиция зашаталась.
— Почему другое? Государство состоит из людей. Раз у него есть план, — значит, и у отдельного человека, тем более, может быть план.
— Конечно, — согласился Митя. — Я, например, обязательно должен мать к себе перевезти.
— Куда?
— Куда я, туда и она.
— А хозяйство? — спросил Петя.
— Была б мать, а хозяйство заведется, — сказал Сережа, выросший в детском доме. — А у меня, ребята, всё не как у людей. Какие-то дурацкие фантазии…
Он смущенно умолк, но товарищи с таким любопытством смотрели на него, что Сережа приободрился.
— Только вы не смейтесь… Вот проходит много лет. Я иду по городу, захожу в такое хорошее высотное здание, со швейцаром, сдаю кепку на вешалку, подымаюсь на лифте. На дверях написано: «Министр П. Фунтиков». За столом сидит Петька…
— Ну, а дальше?
— Дальше ничего. Сидим, ремесленное вспоминает. Я ж вас предупреждал, — глупые фантазии. Или, например, приземляюсь на Северном полюсе. Зимовка. Начальник зимовки — Митька Власов.
— Ну?
— Садимся, вспоминаем ремесленное.
— А ты-то сам что делаешь? — спросил Ваня Тихонов.
— В том-то и дело, что про меня ничего не видно. Всех вас вижу, а себя нет. И самое интересное, как вы сначала меня не узнаёте, спрашиваете, по какому делу, а потом мы начинаем радоваться и вспоминать училище.
— А ты переверни наоборот, — засмеялся Коля Белых, — в кабинет министра входит Фунтиков, а ты сидишь за столом.
— Лишь бы империалисты войну не начали, — сказал вдруг Ваня Тихонов. — Сколько разорения прошлая война принесла!
— Это еще не самое главное, — сказал Митя. — Самое главное — людей жалко. У меня отца на войне убили.
— И у меня, — сказал Коля Белых.
— И у меня, — сказал белобрысый фрезеровщик.
— Мой отец в артиллерии служил, — добавил Коля. — Вообще-то он трактористом был. Вот, глядите, фотография.
Он протянул карточку ребятам и пояснил:
— Это мы с ним в Смоленск приезжали; он в ту весну две нормы на своем тракторе вспахал — и ему грамоту в Смоленске дали.
— А это кто?
— Это мать. Она в сорок четвертом померла. Долго болела, ходил я за ней, ходил, а вот не выходил. Жили тогда в землянке, я-то крепкий был, мне хоть бы что, а она простыла, у нее легкие слабые стали…
— Это что у тебя полосатое в руках? — спросил Ваня Тихонов.
— Да так, ерунда; я ж тогда маленький был; отец купил в магазине тигра; ну, я с ним сфотографировался. А через полгода отца убили. Я тогда ничего не понимал. Плакать плакал, потому что страшно было, что мать целые дни плачет, но по-настоящему не понимал…
— Ты отца хорошо помнишь? — спросил Митя.
— Помню. Я его во сне сколько раз видел.
— Другой раз и просыпаться неохота, еще б с ним побыл, — сказал Митя. — Мой отец мотористом на мельнице работал. Домой придет белый от муки, я до сих пор помню, как его куртка пахнет. А лицо в точности не помню. Он из Лебедяни на войну ушел; мы его с матерью до военкомата провожали. Долго, наверно, у ворот стояли; отец вышел в солдатской форме, взял меня на руки, велел о матери заботиться…
— Неужели и слова помнишь? — с завистью спросил белобрысый фрезеровщик.
— Нет, — сознался Митя. — Слов, конечно, я не помню. Мне мать за эти годы много раз рассказывала, как мы отца провожали, как он меня на руки поднял. Ну, я теперь уж и не знаю, что сам запомнил, а что мать рассказала. Война тогда около нас была, под Ельцом. Слышно было, как из пушек стреляли. Я всё думал: это отец прямой наводкой… А он, оказывается, совсем на Украине был. Потом пришло извещение — пропал без вести. Я уж тогда в первый класс пошел. По секрету от матери написал печатными буквами отцу на полевую почту, думал, — может, всё-таки ответит. Потом каждый день бегал почтальона встречать. Пришел ответ через месяц; политрук написал… Я матери так и не показал, чтоб второй раз не расстраивалась.
Митя вынул из кармана пожелтевший листок бумаги, свернутый треугольником, и показал товарищам. Ребята не взяли в руки письмо, а только посмотрели на адрес, написанный печатными буквами; очевидно, неизвестный политрук хотел, чтобы каждое слово было понятно осиротевшему мальчику.
— Пустили б меня за океан, я б им такое сказанул! — Сережа Бойков от злости даже поднялся со стула.
— Тебя не хватало, — улыбнулся Ваня. — Без тебя дипломаты дают им жизни.
— Ну, всё-таки они дипломаты, им как следует выразиться нельзя. А я б сказал, что у нас в училище на родительское собрание тети приходят, бабушки, мамы, а отцы не ко всем приходят, потому что их нет — убиты на той войне. Я б сказал, что у Вани план есть на пять лет; можно всем показать, — там про войну ничего не написано. Митька лауреатом хочет быть. Фунтиков электростанцию поедет строить в деревню… Вы нас лучше не трогайте…
— Ну, Вышинский им то же самое и говорит.
— Я понимаю, — помотал головой Сережа. — Но только они думают, — это министр говорит, это еще не так страшно. А я совсем другое дело…
— Ох ты!.. — засмеялись ребята.
— Чего смеяться? — сказал Митя. — Это он верно говорит. Мы — народ…
Ваня Тихонов тоже поддержал Сережу, хотя и сказал, что вряд ли ему нужно ехать за океан.
Время было позднее. Спели еще одну песню на прощанье, и слесаря ушли к себе. Была забыта ссора. Да и какие могли быть серьезные ссоры между слесарями и фрезеровщиками, между юношами одной и той же биографии, между молодыми людьми допризывного возраста!
2
Заявление Мити Власова прочитала секретарь комитета Антонина Васильевна. «Прошу принять меня в члены ВЛКСМ, так как я хочу быть в первых рядах советской молодежи».
Одергивая от волнения гимнастерку, Митя слышал эти слова, написанные им самим, и они показались ему удивительно нескромными. Шутка сказать — «в первых рядах»!
Он даже на секунду испугался, как бы кто-нибудь не рассмеялся над его самоуверенностью.
Нет, члены комитета не смеялись.
Несмотря на то, что за столом, перед которым он стоял, переминаясь с ноги на ногу, сидели все знакомые ребята, он видел их сейчас как будто впервые. И смотрели они на него сейчас, как казалось Мите, совсем иначе, так непривычно, что он всё время отводил глаза в сторону, в окно, сквозь которое всё равно ничего не видел.
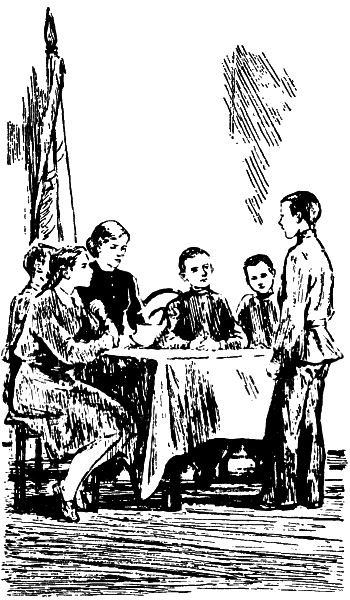
— Какие будут вопросы к Власову? — спросила Антонина Васильевна.
— Расскажи свою биографию.
Митя так волновался, что даже не разобрал, кто из ребят задал ему этот вопрос.
— Я родился в 1937 году, — начал Митя, растягивая слова, чтобы ответ не показался совсем уж коротеньким. — Окончил пять классов.
«Вот и всё, — тоскливо подумал он. — Вот и вся моя биография»
А так хотелось именно сейчас сообщить всему комитету какую-нибудь особенную подробность своей жизни, но ничего значительного в запасе нет. Митя подумал, что, наверное, это даже нельзя называть еще автобиографией, когда человек — рассказывает, что он родился, а потом учился в пятом классе. Наверное, автобиография у него получится гораздо позже.
Сейчас это просто муки, например, заполнять анкету. Два дня назад ему пришлось заполнять анкету на том заводе, где он должен будет проходить практику. До чего ж было неприятно на столько вопросов отвечать однообразно: «Не служил», «Не участвовал», «Не имею»… Всё «не» и «не»…
А какие великолепные вопросы:
«Участвовал ли в гражданской войне?»…
«Нет, к сожалению, не участвовал. Я не скакал рядом с Чапаевым. Я не брал Зимний дворец. Я не бил Врангеля. Больше того: я даже не видел этого, меня не было тогда на свете; но если бы я был тогда на свете, я бы вихрем несся рядом с Чапаевым, я бы лично выстрелил с «Авроры» по Зимнему дворцу, я строчил бы из пулемета по Врангелю…»
«Участвовал ли в Отечественной войне?»
Что может быть для Мити мучительней этого вопроса? Да нет же, не участвовал. «Ну как я мог участвовать, когда я родился только в 1937 году? Виноват я, что ли? И можете нисколько не сомневаться, что, появись я на земле раньше, я был бы в Краснодоне около Олега Кошевого и самым задушевным моим другом был бы Александр Матросов».
«Какие имеете правительственные награды?»
«Никаких не имею. Есть у меня пятерка по математике и четверка по русскому языку, но это нельзя считать правительственными наградами…»
— Устав ВЛКСМ знаешь? — спросила Антонина Васильевна.
— Знаю.
— Какими орденами награжден комсомол?
— Двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени и орденом Трудового Красного Знамени.
— Расскажи, как ты учишься.
— Я учусь… — сказал Митя и остановился. Он не знал, с чем начать. Рассказывать, какие у него оценки, Митя считал лишним: на столе лежал журнал группы. Нет, комитету он должен рассказать что-то такое, чего ног в журнале.
— Я учусь в шестой группе, сказал Митя; хотя это было известно, но ему легче было начать с самого начала. — У нас дисциплина в цеху хорошая, а в классе хромает. Вообще мы практику любим, а теории у нас идет хуже.
— У кого это «у нас»? — спросила Антонина Васильевна.
— У меня тоже, — покраснев, сказал Митя.
— Что ж, это, по-твоему, правильно?
— Нет, это, конечно, неправильно, — ответил Митя. — Но только ничего с этим пока сделать не могу.
«Не примут теперь», — подумал Митя и быстро добавил:
— Я знаю, что практики без теории не бывает. То есть она, конечно, бывает, но только лучше, если они вместе.
— Ну, а скажи: каким должен быть комсомолец?
— Комсомолец должен показывать всем пример.
— Какие книжки ты прочитал за последнее время?
— «Молодую гвардию», «Повесть о настоящем человеке», потом «Всадник без головы», но это можно не считать, — быстро добавил Митя.
— Нет, уж, раз прочитал, так считай.
— Ну, а что в мире делается, ты знаешь? — строго спросил второклассник Вася Андронов. Он был маленького роста и недостаток роста восполнял чрезмерной строгостью.
— Поясни свой вопрос, — попросила Антонина Васильевна.
— Я понимаю, — сказал Митя. — Он у меня спрашивает про текущий момент.
— Можешь ответить?
— Смешно. Конечно, могу.
— Где сейчас идет война?
— В Корее. Ким Ир Сен хочет, чтоб корейскому народу было хорошо, чтобы ему свободно жилось, и китайцы тоже им помогают, а американцы бросают бомбы на мирные города. Им никого не жалко, они думают только про свою выгоду.
— Ну, а как ты лично отвечаешь на поджигательскую политику капиталистов? — спросил Вася Андронов.
— Я лично сделал досрочно пять гаечных ключей, имею отличную оценку по практике и у меня нет ни одной тройки по предметам.
Если бы сейчас в комнате комитета ВЛКСМ присутствовал какой-нибудь сторонний, совершенно объективный наблюдатель, он бы с предельной ясностью почувствовал, что мальчик Митя Власов из Лебедяни, ученик ремесленного училища, вступил в непримиримую борьбу с врагами мира на земле. И он бы почувствовал, сторонний наблюдатель, что Митя пользуется в этой борьбе благородными и честными приемами, чего никак нельзя сказать о его врагах.
— Какое твое семейное положение? — спросила Таня Созина, единственная девочка в комитете.
— Мать живет в Лебедяни.
— А отец?
— Убит на войне.
— Кто рекомендовал Власова в комсомол?
— Комсорг группы Ворончук и Сергей Бойков.
Сначала поднялся Сережа и сказал, что он уже около года знает Власова. Они даже спят рядом. Власов — человек, на которого вполне можно положиться. В трудную минуту не подведет. Недавно группе дали делать универсальные зажимы. Очень ответственное государственное задание. Власов сдал их на «отлично» и на два часа раньше срока. Значит, он сэкономил государству рубли. Разбирается в международных вопросах. Достоин быть членом ВЛКСМ.
Потом встал Сеня Ворончук. Он сказал, что в основном присоединяется к мнению Бойкова, но комитету надо говорить правду до конца. «Не для того мы здесь собираемся, чтобы хвалить друг друга. А у Власова есть недостатки, которые надо искоренять. Взрослый человек, пятнадцать лет, имеет третий разряд, а в столовую скатывается по перилам с четвертого этажа. Это несерьезно, и с этим пора кончать. В умывалке брызгаться водой тоже не дело. Ты не ребенок, Митя Власов».
Сеня, нападая, всегда увлекался. Его во время выступлений «заносило», как машину на большой скорости по скользкой дороге. Сейчас, говоря о Мите, он уже не мог затормозить, перечисляя его недостатки.
— Постой, Ворончук, — остановила его секретарь комитета. — Так ты всё-таки рекомендуешь Власова или нет?
— Горячо рекомендую, — ответил Сеня.
— Что-то не видно, — сказал Вася Андронов.
— Так, товарищи, он же сознательный парень и свои недочеты учтет и исправит. Как, Власов, — обратился к Мите Ворончук, — искоренишь недочеты?
— Водой я один раз брызгался, — смутился Митя.
— А комсомольские задания будешь выполнять безоговорочно? — спросил Вася.
— Ясно, буду.
— Есть предложение, товарищи, — поднялась секретарь комитета, — принять Дмитрия Власова в члены ВЛКСМ. Кто за это предложение, прошу поднять руку.
Митя опустил глаза, боясь увидеть, что кто-нибудь из членов комитета не поднял руки. «До чего ж глупо, — с болью думал он. — Всё так хорошо было, а тут вспомнили про перила. Как дурак, езжу в столовую, как будто дойти нельзя…»
— Единогласно, — сказала секретарь комитета. Поздравляю тебя, Власов. Не роняй никогда чести комсомольца.
И она пожала ему руку.
— Надо будет завтра же сбегать на завод, —
подумал Митя, — и в анкете рядом с графой «партийность» написать: «член ВЛКСМ».
Шестая глава
1
Приближались экзамены.
По еле уловимым признакам можно было заметить, что всё училище насторожилось, стало собраннее.
Вечерами в общежитии Митя быт нарасхват: прошел слух по комнатам, что он хорошо диктует. Дело даже не том, что он как-нибудь особенно выразительно читает, но у него «легкая рука». Стоит вечером написать страничку под его диктовку — и утром сдашь русский как по маслу.
От него правда, требовали невероятной ясности произношения: он должен был диктовать чуть ли не по складам, чтобы бы то точно известно, где надо писать «о», а где «а», где одно «н», а где два.
Ходил Митя не только к своим слесарям, но и к токарям, к фрезеровщикам. Зазвали его однажды и девочки: в училище была одна группа девочек-токарей. Таня Созина, староста группы и член комитета, сказала как-то Мите.
— Ты, говорят, хорошо диктуешь? Заходи сегодня к нам, а то я за своих девчат немножко беспокоюсь.
Мите очень не хотелось итти к девочкам, — потом поднимутся разговоры. Но он хорошо знал Таню: не пойдешь добром, она заставит прийти через комитет.
Стоило только в чем-нибудь обойти ее группу, как она поднимала шум на всё училище. Именно то, что девочек была всего одна группа, давало Тане неоценимое преимущество; на любом собрании, в кабинете любого начальника она могла вставить бронебойную фразу:
— Ну, конечно, нас мало, — значит, о нас можно забывать.
Таня была вечно чем-нибудь недовольна. Она всегда разговаривала так, как будто кто-то уже успел обойти ее группу.

Может быть, суровость и ранняя взрослость Тани объяснялась тем, что в деревне она осталась после войны сиротой с маленькой сестренкой на руках. Сестренка умерла в прошлом году от скарлатины, и Таня уехала в Москву, в ремесленное. Ко всем своим соученицам Таня относилась, как к младшим сестрам, которыми она должна командовать и за которыми она присматривает.
Митя думал всё-таки увильнуть в этот вечер от диктовки, но ровно в восемь часов в дверь заглянула Таня Созина и строгим голосом сказала:
— Ты что ж, Власов? У меня люди ждут.
Взяв книжку, он нехотя пошел.
На пороге комнаты девочек Таня сказала ему:
— Вытри, пожалуйста, ноги.
Как будто он мог из своей комнаты натащить грязи!..
Действительно, у девчонок было на удивление чисто. Висели над кроватями фотографии, портреты, коврики, вышивки. Тумбочки были в белых чехлах, как в больнице. За длинным столом, покрытым скатертью, сидели девочки, раскрыв тетради.
Таня оглядела девочек и тоже села за стол.
Для Мити была приготовлена тумбочка неподалеку от стола, на тумбочке — стакан воды и одна конфета.
Он начал диктовать. Когда он делал слишком длинную паузу. Таня подозрительно посматривала на него и говорила:
— Диктуй, пожалуйста, всё подряд, ничего не пропускай.
Она боялась, что мальчишкам он диктует одно, а ее девочкам — другое, менее трудное.
Диктовал Митя действительно хорошо. Он так тянул букву «н» в тех случаях, когда она писалась дважды, что трудно было ошибиться. Запятые с его голоса выставлялись сами собой.
Постепенно он освоился, вышел из-за тумбочки, стал прохаживаться вдоль стола, заглядывая через головы в тетради.
Обычно он проверял одну-две тетради, а по ним сверяли остальные, но тут Таня потребовала, чтобы он, не уходя, проверил все.
— И съешь конфету, — строго сказала Таня. — Девочки, принесите Власову чаю.
Митя проверил все диктовки. Таня с волнением следила за его карандашом, подчеркивающим ошибки. Она была довольна Митей: он отнесся к своему делу вполне серьезно, без поблажек и глупых шуток.
— Как ты думаешь, какое место займет на экзаменах наша группа?
— Не знаю.
— Ну, ты же всё-таки и в других группах диктуешь. Где больше ошибок?
— По-разному, — уклончиво ответил Митя. Не будет же он выдавать чужие тайны.
— Скрываешь, — укоризненно сказала Таня. — Нравится тебе наша комната?
— Ничего.
Митя слегка разомлел от горячего чая с конфетой. Как ни странно, ему вовсе не хотелось сейчас уходить из этой комнаты. Может быть, ему нравилось, что его здесь принимают, как почетного гостя (хотя Таня и попросила его вытереть ноги).
— А почему у тебя пуговицы на рукаве нет? — спросила Таня. — Давай пришью.
— Я сам.
Но если уж Таня Созина чего-нибудь хотела, то она привязывалась к человеку с таким упорством, что отвязаться нельзя было. Пришила пуговицу, и не в две нитки, как шьют мальчики, а в одну, но зато гораздо обстоятельнее: она обматывала как-то нитку вокруг пуговицы, продевала конец в петлю, а потом отстригала ее.
Ушел Митя несколько смущенный и ничего смешного у себя в комнате о девчонках рассказать не смог.
С этого дня он стал замечать Таню в коридорах. Он даже иногда здоровался с ней. Оглянется быстро и, если никого поблизости нет, скажет:
— Здравствуй, Созина.
А она отвечала довольно сурово:
— Здравствуй, Власов.
И ему казалось, что они немножко поговорили.
Пуговица держалась крепко…
Начались экзамены. В это время только и было разговоров, — какая группа на каком месте идет и что нужно сделать, чтобы ее обогнать. Наступили беспокойные дни; было не важно, вызван ли ты к доске или нет: сидя за партой, чувствуешь почти то же самое, что твой товарищ у доски. И когда его спрашивают, и он почему-то молчит, то хочется силой своей мысли внушить ему правильный ответ.
Шестая группа соревновалась с одиннадцатой — слесаря с фрезеровщиками. Любое происшествие, случившееся у слесарей, немедленно становилось известным у фрезеровщиков. Еще только Сережа Бойков «плавал» у доски по математике, и можно было поклясться, что ни один человек не выходил из класса, как чудом в другом этаже, в одиннадцатой группе, уже поговаривали, что у Бойкова по математике тройка. Еще только Коля Белых подходил к макету штангенциркуля, а в шестой группе слесарей уже обсуждали, что нониус штангеля поставлен на 57,8.
Каким путем новости распространялись с такой молниеносной быстротой — никто не мог бы объяснить.
Переходящее знамя стояло в мастерской фрезеровщиков. Оно было завоевано одиннадцатой группой на зимних экзаменах. Сейчас на переменках к фрезеровщикам повадились забегать слесаря, осматривали знамя со всех сторон и громко советовались:
— Куда бы его у нас поставить?
Староста фрезеровщиков мрачно выпроваживал гостей, а они на прощание говорили:
— Зря только оно у вас тут пылится.
По чести говоря, ни та, ни другая группа не была полностью уверена в своей победе, но, чем больше сомнений закрадывалось в душу ребят, тем увереннее они вели себя со своими «противниками»
Единственное место, где говорилось всё начистоту, высказывалась самая горькая правда, — это на комсомольских групповых собраниях. Собирал Сеня Ворончук комсомольцев своей группы сразу после занятий почти каждый день. Короткое сообщение, удар по отстающим, меры по исправлению недостатков.
— Ребята! За неделю экзаменов у нас накопилась одна тройка. И это в группе, где двадцать комсомольцев! Вот сидит между нами Сережа Бойков. Пусть он выйдет и расскажет, почему у него по математике тройка.
Встал Сережа, обычно веселый и общительный парень, а сейчас ему трудно поднять глаза, потому что отвечать надо не Сене, с которым он спит в одной комнате; не Мите, с которым он любит бродить по Москве; не Пете, который приглашал его к себе на лето в деревню, а комсомольскому собранию.
— Обещаю пересдать, — говорит Сережа. — Я в двух местах вместо минуса поставил плюс. По рассеянности…
— Это не рассеянность, — говорит с места Петя Фунтиков. — Это плохая подготовка. Ты за два дня до экзамена по математике книжки в руки не брал.
Митя Власов самый молодой комсомолец в группе. Это всего третье или четвертое собрание в его жизни. Ему жалко Сережу. Ему кажется, что не надо так строго при всех допекать его. Ну зачем Фунтиков рассказал, что Сережа не брал учебника по математике в руки? Ведь Петя знает это только потому, что живет с Сережей в одной комнате. А разве так уж нужно рассказывать на собрании все мелочи, касающиеся жизни твоего товарища?
— Не готовился Бойков как следует, — продолжает Фунтиков. — Мы его предупреждали: и я и Власов. Скажи, Митя, говорил ты ему, что надо повторить математику?
— Мы вообще разговаривали, — отвечает Митя, глядя в сторону.
— Как это «вообще»? — спрашивает Ворончук.
— Ну, вообще про экзамены.
— А насчет математики ты ему говорил?
— Точно не помню.
— Значит, Фунтиков говорит неправду?
Митя лихорадочно ищет подходящий безобидный ответ, чтобы и Сережины дела остались в порядке, чтобы Фунтиков не оказался лжецом и чтоб сам Митя не был в глупом положении.
Нет в природе такого ответа.
Будут еще в жизни Мити Власова такие комсомольские собрания, на которых он поднимется и скажет в лицо своим товарищам горькую правду; будут собрания, на которых эту правду скажут и ему ближайшие его друзья. И, наверное, он вначале обидится, не заснет в эту ночь, и только на другой день, может быть, поймет, что ему хотели добра, что кому ж тогда и говорить правду, если не близким друзьям комсомольцам! И не только с глазу на глаз, когда можно найти тысячу мелких оправданий. Нет, имей мужество вынести до конца суровое комсомольское собрание. Тебя ругают твои близкие товарищи, твой характер лежит, как на операционном столе, и всем видно, где гнездится твоя болезнь, в которой даже себе ты не хотел признаваться.
Он поймет, молодой комсомолец Митя Власов, что на комсомольском собрании совсем неубедительно звучат те слова, которые кажутся такими вескими в комнате; в комнате можешь, например, сказать, что тебе не нравится математика или черчение, что такой-то парень, по-твоему, несимпатичный, а на собрании всё это выглядит детскими жалобами, как будто разговариваешь с мамой.
— Власов, ты живешь с Бойковым в одной комнате. Как ты считаешь, он достаточно готовился к экзамену по математике?
— Недостаточно, — сказал вдруг сам Сережа Бойков. — Я не повторял правила знаков.
— Значит, ошибся не по рассеянности? — спрашивает Фунтиков.
— Нет, не по рассеянности. Даю слово, — пересдам.
И получилось, что глупее всех вел себя Митя Власов.
Это было его первым боевым крещением.
Больше всего он не хотел, чтобы о его странном поступке узнала Таня Созина. Она, конечно, и не могла узнать об этом, но он почему-то последние дни привык, делая что-нибудь, думать так: «Вот бы сейчас сюда Таню Созину!» или иначе: «Только бы она сейчас сюда не вошла…»
Внешние отношения Мити и Тани даже ухудшились. Встречаясь, они здоровались попрежнему, но, когда она однажды попросила его снова зайти и дать девочкам диктовку «на приставки», он грубо ответил:
— Ну, еще чего не хватало! Мне самому готовиться надо.
Таня пожала плечами, назвала его эгоистом и сказала, что они обойдутся без него. Он хотел догнать ее и сказать, что пошутил, но она уже быстро спускалась по лестнице.
В этот вечер Митя раз двадцать поднимался в коридор общежития, этажом выше, но Таня из комнаты не показывалась. А ведь ему надо было придумать и для себя и для ребят столько поводов к тому, чтобы ежеминутно выбегать в коридор, да еще на другой этаж; там, к счастью, стоял «титан», и Митя в этот вечер таскал кипяченую воду во все комнаты, а в своей — переменил в графине раз пять.
Он злился на Таню за то, что ему приходилось так унизительно вести себя. Хорошо она ему отплатила за диктовку и проверку всех тетрадей! Пусть теперь повозится со своими девчонками. Вот как получат на экзамене тройки и двойки, тогда узнает, как задаваться. Что, ей трудно, что ли, выйти в коридор? Шуток не понимает. А еще член комитета. Ей, наверное, безразлично, что в ее группе будут плохие оценки по русскому языку. Ей бы только за своими косичками следить — завязывать их сзади кренделем. Ну, а ему, например, совсем не безразлична судьба целой группы девочек. Он даже читал в одной книжке, что нельзя свое личное ставить выше общественных интересов.
Вспомнив эту важную мысль, Митя очень обрадовался. И хотя ему было немножко стыдно, что он таким сложным путем старается оправдать свое желание подняться в комнату девочек, тем не менее он взял учебник и направился к дверям. На пороге он столкнулся с Таней.
— Я тебя в последний раз спрашиваю: идешь ты или не идешь?
— А я не обязан, — сказал Митя. — Ладно, не плачьте, сейчас приду, — крикнул он вдогонку, увидев, что косички исчезают за поворотом.
Вошел он к девочкам с очень занятым и очень недовольным видом. Сколько бы людей ни было в комнате, он прежде всего видел Таню. И даже если он поворачивался спиной, всё равно он точно знал, где Таня стоит. Вообще-то он не любил поворачиваться к ней спиной: ему сразу начинало казаться, что у него какая-то смешная походка или сзади топорщится гимнастерка.
Диктовка прошла хорошо, а потом Митя проверил все тетради и, дойдя до Таниной, стал особенно придирчиво искать ошибки. В одном месте он нашел «пре» вместо «при», но Таня сказала, что она написала «при» Митя густо два раза подчеркнул ошибку.
Он хотел, чтобы она рассердилась, а она не рассердилась. И можно было уже уходить, а он не уходил.
— Конечно, какого-нибудь особенного места на экзаменах вы не займете, — сказал Митя, обращаясь ко всем девочкам. — Так, серединка на половинку.
— У вас семь классов, а в моей группе и шесть есть и пять — ответила Таня.
Помолчали. И, чтоб не уходить, Митя сказал:
— Здо́рово научились вышивать.
Девочки обрадовались, что их похвалили, и стали показывать свои работы. Таня сидела и читала какой-то журнал.
— Вообще-то говоря, Созина, — сказал Митя, — у тебя, кажется, действительно было написано «при», так что можно это за ошибку не считать.
— А я и не считаю, — ответила Таня.
Вокруг Мити на столе лежали вязанья и вышивки, он хвалил всё подряд.
— Это что! — сказала одна из девочек, такая курносая, что Мите показалось, будто она всё время смотрит в потолок. — Вот у нас Таня коврик делает!.. Покажи, Таня.
Таня сделала недовольное лицо, нехотя встала и достала из своей тумбочки длинную полосу материи. Положила на стол, даже не развернув. Курносая девочка развернула материю перед Митей.
Все работы мгновенно померкли в Митиных глазах. Он ничто не понимал в этом деле, но, по его мнению, такой коврик можно было прибить в метро на самой красивой станции.
— Довольно красиво, — сказал Митя равнодушным голосом. — А это кто?
И он указал на вышитого охотника, целящегося в лебедя.
— Человек, — ответила Таня.
— Знакомый какой-нибудь? — спросил Митя.
— Фантазия, — ответила Таня.
Она была недовольна не Митей, а своими девочками. Зачем они расхвастались перед ним рукодельем? Завтра он разнесет по всему училищу, что токари вышивают гладью и крестиками, а потом от мальчишек проходу не будет. Знает она этого Власова: сейчас сидит смирный, как на именинах, но это он только прикидывается. И, главное, зачем они рассказали, что она делает коврик? Он еще подумает, что она для себя. И вовсе не для себя, — Зина попросила…
Но Митя ничего не рассказал ребятам. Ему даже не показалось смешным, что староста токарей вышивает коврик.
Когда он вернулся к себе в комнату, на него набросились:
— Где тебя носит, Митька? Весь дом обыскали…
— Я был там, — неопределенно показал он рукой не то вбок, не то вниз.
— За тобой всё время от фрезеровщиков прибегают. Беги к ним, у них там какая-то задачка не получается.
Митя был рад, что его так суматошно встретили: никто не поинтересовался, где же он действительно пропадал.
В комнате фрезеровщиков настроение было отчаянное. Известно, какое настроение может быть, когда полчаса решают задачу, а она не получается. Тем более, что кто-то пустил слух, что именно эта задача будет завтра дана на контрольной по математике. Никто в этот слух не верил, но каждый думал: а вдруг… Задачу мучали по-всякому, пробовали решать с начала, с конца, бросали карандаши на пол, с грохотом ложились на постели, ссорились. Кто-то уже сказал, что она «из высшей математики», кто-то упрямо повторял, что ошибка в условии…
Митю так долго ждали, что даже не обернулись, когда он вошел.
— Чего там, — только сказал Коля Белых. — И у тебя ничего не получится.
Комсорг фрезеровщиков Ваня Тихонов показал Мите условие задачи.
— Да он и стараться-то особенно не будет, — буркнул с постели Белых. — Ему что? Ему даже выгодно, чтоб мы на контрольной засыпались. Они всё время ходят, паше знамя облюбовывают.
Митя ничего не ответил. Чего отвечать на глупую подначку? Он переписал условие. Задача не показалась ему трудной. Он любил математику еще в школе и к бассейнам, поездам и пешеходам относился, как к действительно существующим. Гораздо проще решить задачу, если видишь мчащийся паровоз, который сам не знает, в котором часу он придет на станцию «В». А когда сразу из трех кранов хлещет в бассейн вода, то ответ должен быть найден очень быстро, иначе вода хлынет через край.
— Только знаешь что, Ваня? — сказал Митя. — Я просто так решить не смогу. Я должен кому-нибудь объяснять, тогда я и сам понимаю.
Он начал объяснять, и сначала всё шло гладко, а потом вдруг затерло. И, как назло, именно в это время набились в комнату ребята. С испугом он вдруг заметил, что у стола стоит Таня Созина. Всем стало известно, что Власов решает фрезеровщикам очень трудную задачу.
— Теперь попробуем иначе, — сказал Митя, как будто по началу он нарочно решал неправильно, а сейчас хочет решить правильно.
Опять пошло гладко, а потом вдруг Ваня вежливо спросил:
— А почему здесь на 4 делим?
Если б в комнате не было Тани, Митя, вероятно, просто сказал бы, что он снова ошибся, но сейчас вместо этого он стал что-то объяснять, не узнавая своего голоса. Он уже видел, что Ваня жалеет его и из жалости поддакивает, хотя объяснение было совершенно дурацкое.
— Да что его слушать, — сказал Белых. — Он нарочно нас путает, чтоб мы завтра засыпались.
Ребята засмеялись, а Митя продолжал объяснять, уже ясно понимая, что задача не получается. Постепенно все стали расходиться, и только Ваня, чтобы не обидеть его, продолжал повторять:
— Понимаю, понимаю. Ясно…
А Таня стояла и стояла у стола и, как казалось Мите, уничтожающе смотрела на него. У него уже было такое ощущение, что в том месте затылка, куда она смотрит, высверливается отверстие.
— Может быть, отдохнем? — осторожно спросил Ваня. — А то ты устал.
— Ни капельки, — сказал Митя. — Просто я не люблю, когда посторонние мешают.
Таня недовольно хмыкнула и сказала:
— Тут никаких уравнений не надо. Это задача на пропорциональное деление. Не умеешь, так не берись.
И быстро вышла из комнаты. Он провозился еще с полчаса, почти до самого отбоя, чувствуя, что даже Ваня хочет, чтоб он ушел.
Еще долго перед сном у него мелькали в голове цифры и знаки; умножалось, делилось, извлекались корни, и всё с остатком.
Ночью он внезапно проснулся. Сел на постели, пощупал отсвет уличного фонаря, лежащий на одеяле, и вдруг вспомнил задачу. Удивительно простая задачка. Чего было возиться с ней? Там же никаких уравнений нет, решается способом пропорционального деления. И тут же он с ужасом сообразил, что ведь, говорят, эту задачу завтра дадут в одиннадцатой группе на контрольной. Неужели Колька Белых серьезно подумал, что Митя нарочно не решил ее?
Он вскочил с постели, подбежал к подоконнику, где отсвет фонаря был еще яснее и шире, и на клочке старого конверта быстро записал вычисления. Всё великолепно сокращалось, — в ответе семь, как и полагается.
Митя порылся в тумбочке и вырвал лист из тетради; написал решение с вопросами, а внизу подписался «Власов». Потом, так и не надевая брюк, в трусах, босиком пробежал по коридору и подсунул под дверь фрезеровщиков листок с задачкой. Хотел было приписать специально для Кольки: «Не мерь всех на свой аршин», но передумал.
В контрольной этой задачи не оказалось.
2
Костя Назаров сорвал «молнию».
Он сделал это не таясь, не исподтишка, а на глазах у ребят.
«Молнию» повесил с утра в коридоре учебного корпуса Митя Власов. Рядом с расписанием занятий висел лист разлинованной бумаги, на котором было написано:
«Позор Константину Назарову из шестой группы. Он получил на экзаменах двойку. Позор!»
Утром Костя прошел мимо этого объявления спокойно. То есть на душе-то у него делалось бог знает что, но по крайней мере у него хватило силы воли не обнаружить этого перед ребятами из своей группы.
Вначале он решил не выходить на перемену в коридор, чтобы не видеть лишний раз эту разлинованную бумагу на стене, но подумал, как бы ребятам не показалось, что он струсил. Поэтому сразу после звонка он появился в коридоре и стал прохаживаться под самой «молнией». Иногда для пущей лихости он останавливался так, чтобы видели ребята, и, небрежно улыбаясь, читал в двадцатый раз две коротеньких строчки, написанные о нем.
Он даже поднялся на цыпочки и подправил карандашом хвостик у буквы «П» в слове «позор». Неважно, что он чувствовал в это время, важно, что человек десять видело, как он презирает «молнию».
Именно в эту минуту проходил мимо главный механик училища. Он увидел, как Костя подправлял хвостик у буквы, на секунду задержался и сказал:
— Эх ты, гусар!
И прошел мимо. Костя не знал, что такое гусар, но догадался, что это что-то дурное, имеющее прямое к нему отношение.
«Ну и что ж! Ну и гусар, — со злостью подумал Костя. — Кому-нибудь надо же быть гусаром».
Когда Костю много и часто ругали, им овладевали злость и отчаяние: «Ах, раз так, раз я такой, то плевать мне на всё!»
Ему даже иногда хотелось быть хуже, чем о нем говорили. «Подумаешь, шум подняли из-за двойки. Я им такое покажу, что они ахнут».
И когда с ним поровнялись Митя Власов и Сеня Ворончук и, как показалось Косте, презрительно на него посмотрели, он вдруг подскочил и рванул «молнию» со стены. В это мгновение его и охватил тот порыв отчаяния, который приводил его всегда к самым дурным поступкам; в таком состоянии он даже чувствовал себя героем, хотя понимал, что делает что-то ужасное.
Ему хотелось сейчас, когда он держал лист бумаги в руках, чтобы все закричали, забегали, затопали ногами; он озирался по сторонам, прислонившись к стене, как человек, готовящийся к нападению.
Прозвучал звонок, ребята торопились на занятия в классы, и поэтому должного эффекта не получилось. Постояв секунду с «молнией» в руках, Костя бросил ее на пол и побрел в класс.
Был урок литературы. Около преподавателя стоял Митя Власов и отвечал на вопрос — характеристика прапорщика Грушницкого из «Героя нашего времени». Сначала Костя не очень прислушивался к тому, что говорит Митя, но вдруг ему показалось, что Митя сказал фразу не о прапорщике Грушницком, а о нем, о Косте Назарове.
— Он любил во что бы то ни стало производить на окружающих сильное впечатление и делал для этого глупости и подлости.
«И не только он!» — подумал с горечью Костя Назаров.
Как всегда с ним бывало после того, как он совершал какой-нибудь проступок, у него появилось чувство равнодушия к окружающему; вроде бы он свое дело сделал, а дальше надо просто терпеливо ждать ту кару, которая обрушится на его голову. Только бы не прозевать момент, когда она начнет обрушиваться, чтобы это не застало его врасплох. Вообще, лучше всего было, если наказание следовало сразу за проступком, тогда сгоряча Костя почти не ощущал его, как в пылу сражения человек не чувствует боли от раны.
А кара всё не приходила. Кончился урок русского языка, потом были политзанятия, на которых преподаватель тоже вызывал ребят и спрашивал их о положении рабочего класса в России в конце девятнадцатого века.
На некоторые вопросы преподавателя мог бы ответить и Костя. Ему даже хотелось, чтобы его вызвали, когда речь шла о том, как рабочие в отчаянии, не находя правильного выхода, ломали машины на заводах и устраивали мелкие неорганизованные бунты. Костя мог бы ответить гораздо лучше, чем Сеня Ворончук, который тянул изо рта фразы, как будто они застревали в горле.
Но Костю не вызвали к доске. Его всегда умудрялись вызывать именно тогда, когда он ничего не знал. Другим как-то везло: знают на копенку, их как раз на эту копейку и спрашивают. А когда человек в кои веки мог бы отлично ответить, в его сторону даже не смотрят, а потом еще возмущаются, если он нахватает двоек.
Несколько раз Костя собирался поднять руку, когда преподаватель задавал вопрос, но из гордости так и не сделал этого. Не станет он выскакивать и подлизываться.
Для того чтобы подготовиться к сопротивлению, ему очень важно было сейчас копить всё больше и больше обид. Не зря он сорвал «молнию»; сами виноваты, довели его до этого, а теперь, пожалуйста, расхлебывайте.
Насторожившись, он ждал, что на большой перемене его уж непременно потянут к директору, к замполиту, к завучу или по крайней мере кто-нибудь из ребят, скорее всего Петя Фунтиков или Митя Власов, начнет его укорять, и тогда он им так ответит, что чертям тошно станет.
Нет, его никуда не звали и никто к нему не обращался. Заглядывала в класс секретарь комитета комсомола, разговаривала о чем-то с Фунтиковым, с комсоргом Ворончуком, но в сторону Кости они даже не смотрели.
После занятий было какое-то комсомольское собрание в группе, но вряд ли там стоял вопрос о Назарове; его не просили остаться, хотя он нарочно всё время старался попадаться на глаза, ощетинившийся и готовый к отпору.
Так он и ушел домой.
Чтобы хоть на ком-нибудь сорвать злость и неудовлетворенное самолюбие, Костя вечером сказал уставшей матери:
— Я сегодня «молнию» сорвал.
— Какую молнию, Костенька? — не поняла мать.
Сообразив по его тону, что он совершил что-то недозволенное, мать на всякий случай ахнула.
— Ну, чего? — грубо сказал Костя, который только того и ждал, чтобы кто-нибудь начал его укорять.
Но измываться над матерью ему вдруг стало неинтересно; она слишком скоро начинала плакать, победа доставалась легко и без боя.
Он только предупредил ее:
— Завтра парадное платье надевай, к директору позовут.
И назавтра тоже ничего не произошло. «Притаились, — думал Костя, — измором берут».
Был день практики, делали ножовку. После истории с загубленным молотком прошло много времени, и Костя с тех пор работал, как говорили ребята, прилично. Отношение мастера Матвея Григорьевича к нему было сдержанным. Если Костя делал работу хорошо, Матвей Григорьевич хвалил его, но, как казалось Косте, в слишком коротких выражениях. Во всяком случае, когда его ругали, разговоры бывали гораздо длиннее.
Костя ждал всё время, что мастер-то наверняка скажет ему что-нибудь о вчерашнем происшествии. Матвей Григорьевич действительно раза три проходил мимо Кости, вдоль верстака, осматривая работу ребят, но замечания его касались только Костиной ножовки: здесь правильно, а здесь надо подпилить. И всё.
На линейке в мастерской перед обедом Матвей Григорьевич объявил предварительные результаты экзаменов.
И опять фамилия Назарова не была названа. Сказано было только, что в группе имеется двойка, а уж Костя сам догадался, что она принадлежит ему.
Он начал уже уставать от этого двухдневного напряжения и поэтому почти обрадовался, когда его позвали наконец к замполиту (так по привычке продолжали называть в училище заместителя директора по культурно-просветительной работе.)
— Назаров! — радостно сказал замполит, когда Костя остановился на пороге кабинета. — Вот хорошо, что ты пришел.
Это прозвучало так, как будто Костя зашел случайно в гости.
И еще одну мелочь отметил Костя: замполит говорил ему «ты», что он делал только в неофициальных, дружеских беседах.
— Давай-ка поближе, — сказал замполит и обратился к мастеру группы фрезеровщиков: — Простите, Николай Михайлович, у нас тут с Назаровым срочное дело, я вас попрошу зайти попозже.
Мастер сразу вышел, а замполит повернулся к Косте всем своим могучим корпусом и продолжал:
— Понимаешь, какое дело, Назаров: если ты нас не выручишь, нехорошо получится.
«Что, он не знает про «молнию»?» — с досадой подумал Костя, но замполит не давал ему опомниться.
— Экзамены подходят к концу, дело, сам понимаешь, серьезное, а у нас, как на грех, задерживается выпуск газеты. Групповые выходят, «молнии» выпускаем…
«Знает! Начинается!..» — пронеслось в Костиной голове.
— …а училищная газета задерживается. Будь другом, Назаров, выручи. Я тебе весь материал отдам, все заметки, а ты только оформи покрасивее. Краски, линейку, клей, что там еще требуется для художника, это всё купишь в магазине культтоваров. Держи деньги, не забудь взять счет, а то меня повесят в бухгалтерии.
Он протянул Косте пятьдесят рублей и, когда тот не взял их, положил деньги перед ним на стол, а сам другой рукой быстро сиял телефонную трубку и позвонил директору.
— Виктор Петрович? Ну, кажется, ушли от позора. Назаров берется в два дня всё сделать. Да нет, он уверяет, что за два дня вполне справится. Нам же важно поспеть к районному смотру стенгазет…
Замполит взял со стола пухлую папку, сунул в нее деньги и придвинул ее к Косте.
— Здесь заметки, статьи, стихи. Когда выйдешь, скажешь Николаю Михайловичу, что я его жду.
Уже с папкой в руках, Костя сказал:
— Василий Яковлевич, я «молнию» сорвал…
Замполит, очевидно, не расслышал, он просматривал какие-то бумаги и, не поднимая головы, пробурчал:
— Великолепно. Очень хорошо.
Костя вышел.
Когда через минуту в кабинет вошла управделами, Василий Яковлевич умоляющим голосом попросил ее:
— Пришлите, пожалуйста, монтера: с утра телефон не работает.
Для того чтобы его не расспрашивали, что это за папка, Костя отнес ее на вешалку, на свой номерок. Деньги он вынул и положил в карман.
Послеобеденные часы в мастерской прошли незаметно. Работа не мешала ему думать. Сейчас даже было приятно, что к нему никто не обращался. У него было дело, о котором никто не знал. Если замполит и директор никому не расскажут, он-то сам будет молчать, как рыба; пусть так никто и не узнает, что именно ему поручено выручить всё училище из трудного положения. Небось, Сеньку Ворончука не попросили, Митю Власова не попросили, а без него, без Кости Назарова, вот и не обошлись. Сенька как-то сказал, что у них на Полтавщине такому парню коров не доверили бы пасти. Он ему покажет коров. Он выпустит такую газету, что ее пошлют на выставку и повесят в рамс. Пожалуйста, потом исключайте из училища за сорванную «молнию», а он всё-таки покажет, чего он стоит.
По дороге домой Костя зашел в магазин культтоваров.
Прежде всего он оглядел витрины, соображая, что ему нужно. Был длинный и очень строгий разговор с продавщицей, которая явно не понимала, насколько серьезны покупки Кости Назарова. Трижды, металлическим голосом Костя объяснял ей, что все принадлежности художника нужны ему лично не для альбомных рисуночков, а для чрезвычайно важного дела, о котором он пока не имеет права говорить, но она, вероятно, через некоторое время об этом услышит.
Когда покупки были завернуты, Костя, глядя ей прямо в глаза, сказал:
— Напишите счет. А то меня повесят в бухгалтерии.
Матери дома не было. Костя разложил на столе заметки, но, прежде чем читать их, решил подумать над заглавным рисунком.
Паровоз не годится. Пароход и самолет тоже не годятся. Во-первых, таких стенгазет с паровозами и самолетами сотни, а во-вторых, у них-то в училище всего этого не делают. Тиски нарисовать — скучно; для этого вовсе не надо быть художником Назаровым. Токарный станок, — с какой стати? Костя-то учится на слесаря. Хорошо бы изобразить море с волнами, чаек, грозу, молнию… Когда он представил себе яркую, ломаную молнию, у него вдруг засосало под ложечкой оттого, что он вспомнил, что групповую «молнию» он всё-таки сорвал. Отогнав неприятные воспоминания, Костя продолжал придумывать заглавный рисунок.
Лес, речка, луна не годятся. Надо нарисовать человека. Это правильно. От человека всё зависит. Долго выбирая, каков же должен быть этот человек, Костя решил, что самое правильное, если он будет ремесленник в парадной форме. И поскольку ремесленники бывают и девочки, он нарисует справа крупно мальчика, а слева — девочку.
Он нарисовал черновик. Костя не знал, что у художников это называется эскизом. Лицом ремесленник получился похожим на Петю Фунтикова; Костя несколько раз переделывал черновик, но получался то Сеня Ворончук, то Сережа Бойков. Девочка не была похожа ни на кого. Девочка как девочка.
Расположив на огромном листе на полу все заметки, стихи и статьи, Костя придумал к ним рисунки.
Труднее всего было с тем отделом, который назывался в стенгазете: «Колючки». Здесь были собраны пять-шесть коротеньких критических заметок. Нужно было нарисовать к заметкам смешные рисунки.

Перед Костей Назаровым лежала заметка о Косте Назарове. Он отложил ее в сторону и посмотрел, как выглядит газета без нее. Ничего, прилично. Он даже прикрыл эту заметку толстым куском картона, чтобы она всё время не попадалась ему под руку. Но то, что там было написано, стояло перед его глазами.
Мать пришла поздно и застала сына ползающим по полу, вымазанным красками и конторским клеем. Она настолько не привыкла видеть его за каким-нибудь делом, что стала говорить топотом:
— Ужинал?
— Не хочу.
Чтобы она не начала расспрашивать, Костя сердито буркнул:
— Ложись спать. Я поздно лягу.
Тихонько поев на краю стола, мать, двигаясь на цыпочках, начала приготавливать постель. Ей казалось, что если она сделает неосторожное, громкое движение, то вдруг всё исчезнет: лист, разложенный на полу, и сын, занятый работой. Когда она уже легла. Костя спросил:
— Где моя фотография?
— Какая, Костенька?
— Ну, та, что от училища осталась, когда я поступал.
Он взял у матери в сумочке свою фотографию. Она была темноватой, но всё-таки лицо можно было узнать.
Приложил снимок к той заметке, где было написано, что Косте Назарову позор за то, что он получил двойку.
Мать перегнулась с постели, увидев, что Костя собирается наклеивать карточку на огромную и очень красивую стенгазету.
— Костенька, — сказала мать радостным голосом. — Поздравляю тебя, сынок.
Он проглотил слюну и смолчал. Потом взял большие тупые ножницы и со злостью начал отрезать свою голову от фотографии. К этой голове он пририсовал нелепое туловище в неаккуратно заправленной гимнастерке без подворотничка. Внизу самым своим лучшим почерком он написал:
КОНСТАНТИН НАЗАРОВ
Утром, когда мать поднялась на работу, она увидела сына спящим на полу, рядом с готовой, ярко разрисованной стенгазетой. Он спал, прикрыв рукой отдел «Колючки».
Он спал, как человек, совершивший подвиг, — один из самых трудных подвигов, на которые способен человек в мирное время: Костя победил самого себя.
Ему казалось только, что он вел эту трудную и кровопролитную борьбу один на один. Он не догадывался, что все ребята, замполит, директор, мастера — всё училище с надеждой и трепетом ждало исхода этой битвы за человека.
Костя не знал, что в тот же день, когда он сорвал со стены «молнию», комсорг группы Сеня Ворончук созвал внеочередное комсомольское собрание. На собрание пришли замполит и секретарь комитета.
Василий Яковлевич вначале молчал, слушая, что говорят комсомольцы. Поднимались один за другим ребята и честили Костю Назарова.
— Уберите его от нас, — говорил Сеня Ворончук. — Он нам всю группу портит.
— Куда убрать? — спросил Василий Яковлевич.
— Ну, куда-нибудь в другую группу.
— А там он что, украшением будет?
— Так мы же с ним, Василий Яковлевич, сколько возимся! На каждом групповом собрании прорабатываем.
— А может, на каждом и не нужно? — сказал замполит.
— Ему наши слова — что слону дробина, — заметил староста Петя Фунтиков. — Хорошо еще, что работает ничего себе. С ним поговорить, так главнее его на свете нет.
— А много ты с ним разговаривал? — спросила секретарь комитета.
— Мы его раз даже к себе в общежитие вызывали. Вот хоть у ребят спросите.
— Сколько раз вызывали?
— Один.
— Ого! Много, — серьезно сказал замполит.
— Вот, пожалуйста, давайте его хоть сейчас позовем, он в коридоре ходит, — предложил Сеня Ворончук. — Посмотрите, какой это тип. Ему всё нипочем.
— Таких ребят не бывает, которым всё нипочем.
— Ну, вот вызовем, Василий Яковлевич, — сами увидите.
— А о чем ты с ним собираешься разговаривать? — спросил замполит.
— Как о чем? Он «молнию» сорвал.
— Значит, опять ругать будем?
— А как же! Пусть пишет объяснительную директору.
— Да он десять штук напишет, — сказал Петя Фунтиков.
— Вот, вот, — подхватил замполит. — Конечно, напишет. А вы его оставьте в покое. Не трогайте его сейчас.
— Значит, он будет нарушать, а мы должны на него смотреть?
— Ему сейчас плохо, — сказал Василий Яковлевич. — Очень плохо.
— Жалеть его надо, что ли? — спросил Сеня.
— Нет, не жалеть, а сделать, чтобы ему еще хуже было. Оставьте его дня на два в покое. Пусть помучается. Он думает, что мы его сейчас опять ругать начнем, а мы помолчим. Вот скажите, пожалуйста, товарищ комсорг, что он любит, Костя Назаров?
— Ничего.
— Так не бывает. Петь умеет?
Все ребята удивленно посмотрели на замполита.
— Я серьезно спрашиваю. Вас двадцать человек комсомольцев, лучшая часть группы; неужели никто из вас не знает, чем увлекается, к какому делу лежит сердце вашего товарища? Танцевать, петь, заниматься спортом, играть в драмкружке, — что он любит, Костя Назаров?
Митя Власов вспомнил, что Костя часто перед уроками рисует на доске карикатуры на учителей.
— Хорошо рисует? — спросил Василий Яковлевич. — Смешно? Похоже?
— Иногда похоже, — смущенно ответил Митя.
— Ему за это тоже надо как следует всыпать, — сказал Сеня Ворончук.
— А ты, брат, строгий, — заметил Василий Яковлевич.
Договорились, что пока никто не будет разговаривать с Костей о его проступке. Больше всех был огорчен этим решением Сеня Ворончук. Он любил, чтобы протокол собрания был ясен: постановили то-то и то-то. А тут даже записать нечего было…
Прошел день, прошел еще один день, а в ночь на третьи сутки Костя Назаров заснул под утро у себя в комнате на полу, прикрыв рукой «Колючки», где изобразил себя самого в очень смешном и неприглядном виде.
3
К концу экзаменов время вдруг помчалось с необыкновенной быстротой. Не успеешь проснуться в понедельник утром, как уже снова воскресенье. И каждый день должно произойти событие, которого ждешь с нетерпением и страхом. Не всегда даже это событие касается тебя, но ты уже разучился понимать, где кончаются твои интересы и где начинаются интересы группы.
Например, пересдает двойку Костя Назаров. Как будто это и не касается Мити Власова — во всяком случае после конца занятий можно уйти домой, — но почему-то вся группа остается в училище. В классе сидят только трое: преподаватель спецтехнологии, мастер Ильин и Костя.
А в коридоре у дверей стоит Митя. Он заглядывает в замочную скважину, прикладывает к ней ухо и даже пытается тихо, без скрипа, слегка приоткрыть дверь. Как в эстафете, метрах в десяти от Мити нетерпеливо переминается другой ученик; дальше на таком же расстоянии дежурит Ворончук; и вся эта цепочка стекает вниз по лестнице к раздевалке, где скопились остальные ребята.
Послушав мгновенье у замочной скважины, поглядев в нее, Митя шепчет свистящим шопотом Сереже:
— Встал. Пошел к доске.
Эти четыре слова бегут по цепочке в раздевалку.
— Взял в руки гайку и шгангель, — шепчет Митя.
И в раздевалке у кого-то из ребят руки непроизвольно принимают такое положение, как будто они держат гайку и штангенциркуль.
— Иван Лукич улыбнулся, — сообщает Митя, и ребята ломают голову, пытаясь разгадать, чем вызвана улыбка преподавателя: ошибкой Кости или его верным ответом. Ругают Митьку за то, что он так отрывочно и нелепо подает сигналы. Бежит снизу фраза:
— Говори толком.
Митя увлечен и думает, что эту фразу он должен передать от имени группы экзаменующемуся Косте Назарову. Только полная невозможность сделать это удерживает его от необдуманного поступка.
В коридоре тихо; Мите удается расслышать вопрос, заданный Косте:
— Что такое допуск и припуск?
Вниз по ступенькам лестницы летит вопрос преподавателя. Все ждут продолжения, но вместо чего-нибудь дельного приходит:
— Лоб вытирает.
Опять пойди догадайся, кто именно вытирает лоб. Если Костя, то это неплохо, а если Иван Лукич, то хуже быть не может. Что хорошего, если преподаватель вспотел от бестолковости ученика?
Когда, наконец, распахивается дверь класса, то не к Косте бросается Митя, не к преподавателю, а к мастеру.
— Матвей Григорьевич, ну как?
И сразу вниз по лестнице:
— Ребята, четверка!
Это уже не по цепочке, а во весь голос.
А мастер всегда спокоен. Он только, выйдя из класса в коридор, в две затяжки выкурил папиросу до самой «фабрики». Да еще оказалось, что лоб вытирал именно он, Матвей Григорьевич Ильин…
Чего только не пришлось Матвею Григорьевичу вытерпеть в этом году от Назарова! Вернее, не от него, а из-за него. На каждом партийном и комсомольском собрании, на каждом педсовете, на родительских совещаниях только и слышалась фамилия Назарова. Говорили, конечно, и о других учениках, но Ильин слышал фамилию Кости, даже если она и не произносилась вслух.
Матвей Григорьевич был едва ли не самым молодым коммунистом в партийной организации училища. Может быть, поэтому ему особенно болезненно представлялось, что именно он виноват, он один отвечает за проступки Кости Назарова. Нет для него, для молодого коммуниста, более важного партийного задания, чем воспитание учеников. И это задание партии он пока не сумел выполнить полностью.
Может быть, молодой мастер «запустил» его, просмотрел в начале учебного года?
Ильин отлично знал, как много значит начало работы в новой группе. Ему нравилось то острое ощущение, которое охватывало его, когда он входил в класс или в комнату общежития, заполненную еще незнакомыми ребятами, которых он, молодой мастер, должен вести два года всё вперед и вперед.
Сначала, при первом знакомстве, все они кажутся одинаковыми, — стриженые мальчики, неловко носящие непривычную форму, робкие, не освоившиеся в новой обстановке. Угадай тут, кто из них хороший, кто похуже; да и сами эти понятия очень подвижные: был примерный — стал плохой, и
наоборот.
Ильин знал, что в первые дни ученики так же осторожно присматриваются к мастеру. Иногда от поведения мастера в первые несколько дней зависит его авторитет, его положение в группе. Его испытывают, как металл, на крепость, на упругость. Уж так устроены мальчишеские души, что они прежде всего подмечают слабые стороны воспитателя; поэтому, в особенности на первых порах, слабых сторон не должно быть вовсе.
Он должен стать совершенно необходимым для своих учеников; они должны хотеть обращаться к нему не только в мастерских, не только по вопросам работы, но и с тем, что у них на душе сокровенного. Если ученик сам не расскажет своему мастеру, что ему пишут из дому, как ему там жилось и к чему он стремится, то такой мастер, может быть, и научит ребят ремеслу, но в том, что они стали настоящими строителями жизни, его доля участия невелика.
И есть только один путь, который приводит мастера к цели: любовь и вера; любовь к этим разным и непонятным в первые дни юношам, и вера в то, что из них получатся настоящие, нужные Родине люди.
Когда Ильин вызывал к себе сильно провинившегося парня и тот упорствовал, иногда грубил, иногда отказывался выполнить распоряжение мастера, Ильин возмущался, но верил, что из мальчишки выйдет толк.
Этой верой он жил. Без этой веры не может жить ни один хороший воспитатель.
Пожалуй, лучше всего чувствовал себя Матвей Григорьевич в мастерской. Помимо того, что здесь ученики всегда были заняты делом, — у них не хватало тут времени на баловство. Молодому мастеру нравилось, что этому полезному делу учит их он, Ильин.
А давно ли он сам, стриженный под «нулевку», угловатый и неумелый, бился у тисков, стараясь изо всех сил, чтобы напильник шел так, как показывал мастер?
Ну и трудно же ему было иногда! Сейчас невозможно представить себе, что он делал кронциркуль больше шести часов подряд. Намучился он с этим кронциркулем!.. Но, может быть, именно потому, что Ильин отлично помнил, каких мук творчества стоили ему все эти изделия, он умел особенно терпеливо и подробно объяснять ученикам каждую мелочь.
Нелегко ему бывало в первый год работы. Он отдавал не раз ребятам распоряжения и тут же думал: «А вдруг не выполнят? Что я буду делать тогда?» У него всё время было ощущенье, что он чего-то не знает, что-то самое важное пропустил, недодумал…
Иногда, придя домой после работы, уже раздевшись, он вдруг спохватывался и снова бежал в училище. Чувство покоя наступало только тогда, когда мальчики были на его глазах.
Постепенно они становились разными для него, не похожими друг на друга. Пете Фунтикову можно было тихо, между делом, дать любое поручение, — и он его выполнит. Мите Власову следовало для подкрепления объяснить, насколько важно выполнить это поручение. Сеня Ворончук особенно любил делать то, что имело прямую связь с его комсомольской работой. Сережа Бойков был легкомысленен; ему следовало приказать построже, и так, чтобы он знал, что, не выполнив приказа, он подведет этим своего мастера.
Нелегко еще было Ильину первое время и потому, что он пришел мастером в то училище, где многие знали его мальчишкой. Как на зло, и голос у него был недостаточно низкий — он говорил почти тенорком — и борода, будь она неладна, росла нестерпимо медленно, да еще какими-то светлыми кустиками.
Многие из старых мастеров и служащих училища по привычке говорили ему «ты», а он отвечал им «вы» и ловил себя на том, что ему хочется вскочить, когда к нему обращаются.
Не сразу привык он и к тому, что его называют по имени, отчеству… К счастью еще, он был высокого роста, а то в шинели, со спины, его смело можно было принять за ученика.
Сейчас он с улыбкой вспоминал, как в первые дни, в отчаянии от своей мальчишеской внешности, он пытался дома перед маленьким зеркальцем хмурить лицо, грозно сдвигать брови, чтобы потом уже весь день в училище ребята видели, какой недоступно строгий у них мастер.
Однажды замполит, встретив его в коридоре, молча взял под руку и повел к себе в кабинет. Войдя, он закрыл дверь на ключ.
— Вот, значит, мастер, какие дела, — сказал замполит, словно продолжая давно начатый разговор. — Говоришь, трудновато тебе?
— Нет, ничего. Спасибо.
— Ну, и неправда, — рассердился Василий Яковлевич. — Работать всегда нелегко. В особенности, если хорошо работать… А хотел я тебя спросить не об этом. Что это у тебя такое лицо стало, будто ты съел что-то не то горькое, не то кислое? Болен?
— Нет, я здоров, — покраснел Ильин.
— Может, тебе твоя работа не нравится?
— Почему не нравится? — обиженно ответил мастер. — Чего б я за нее брался, если б не нравилось? Что у нас, работы не хватает?
— Ну, а если дело по душе, то ты и ходи так, чтоб это было видно. Веселей ходи… А то у тебя такой вид, словно хуже твоего труда и нет на земле.
— Да я не поэтому… — Ильин секунду помялся. — Молодой я, понимаете, Василий Яковлевич…
— Вот оно что! — расхохотался Василий Яковлевич. — Значит, для солидности?.. Думаешь: злее буду, больше будут уважать?.. Да они ж всё равно видят, что ты прикидываешься. Они, брат, всё видят. Ох, это народ!.. Что ты, себя забыл, что ли?..
Он потрепал вдруг мастера, как мальчишку, по вихрам (как делал это когда-то, когда Ильин был учеником) и тотчас же стал серьезным.
— Уважают, дорогой Матвей…
— …Григорьевич, — торопливо подсказал Ильин.
— Уважают, дорогой Матвей Григорьевич, — повторил замполит, — не за выраженье лица, а за уменье и за душу. Это ж такой народ — ребята: пока они не докопаются до твоей души, пока не поверят в тебя, можешь хоть с лицом министра ходить, а уважать не будут…
Давно состоялся этот разговор, и нынче вспоминает о нем Ильин с улыбкой: додуматься же надо, — перед зеркалом рожи корчить!..
Не этим надо было располагать к себе ребят, вызвать их любовь и уважение; гораздо больше помогали книги.
Он много читал. Вынуждала его к этому не только собственная жажда знаний, но и необходимость всегда быть впереди учеников, а ведь многие из них читали запоем.
Ильин раз в неделю приходил к старушке-библиотекарше, которая знала его лет с четырнадцати. Еще тогда, в ученические годы, она относилась к нему с особенной нежностью. И нынче она радостно встречала его, усаживала между высокими книжными полками и расспрашивала, как сына, о всех мелочах его жизни. Зачастую, по старинной привычке, она вдруг доставала из кармана вязаной кофты леденец и протягивала мастеру:
— Ешь… Не выдумывай, не обижай старуху.
Пожалуй, она была единственным человеком, при котором Ильин, не стесняясь, чувствовал себя совсем мальчишкой. Она отбирала для него книги, рассказывала, что читают ребята, что вышло новенького; давала ему свежие журналы, отмечая в оглавлении те произведения, которые следовало прочесть в первую очередь.
Он любил сидеть здесь, между высоченными полками книг, и слушать тихий голос Марьи Васильевны. Примерно раз в год она жаловалась ему, и лицо у нее было обиженное, как у маленькой девочки:
— Дали всего восемь тысяч на год… Вчера директор утверждает смету, я ему говорю: «Виктор Петрович, у меня шестьсот ребят». Он мне отвечает: «У нас, Марья Васильевна, у всех по шестьсот ребят». Я говорю: «Ну, хорошо, небось инструментов у них вдоволь, одного какого-нибудь станка и хватит, вы до Совета министров дойдете, — так неужели для вас Пушкин или Шолохов менее важны, чем ножовки?..» Он говорит: «Вы неправильно ставите вопрос». Я ему говорю: «Если я стала неправильно ставить вопросы, то вы меня, Виктор Петрович, увольте». А он смеется. «Мы вас, — говорит, — Марья Васильевна, любим…» Мне его любовь совершенно не нужна, мне нужны книжки для ребят.
— Я с ним поговорю, — обещал Ильин.
Она посмотрела на молодого человека с нежностью и недоверием: ей казалось, что вряд ли директор прислушается к словам мальчика. Увидев в ее глазах улыбку недоверия, Ильин с неожиданной твердостью сказал:
— Я с ним на партийном собрании поговорю.
И он действительно добился того, что на покупку книг дали больше денег.
С этих пор Марья Васильевна обращалась с ним, как со взрослым, у которого даже в случае нужды можно найти защиту. Теперь уже зачастую с получки мастер приносил в кармане конфеты и потчевал старуху, зная ее пристрастие к сладостям.
Сначала робея, а потом всё смелее и резче он вмешивался в училищные дела. Ему нравилась широта его профессии: с юным задором он считал, что вообще нет профессии лучше, чем мастер училища. Он должен быть в курсе всего, что делается вокруг; трудно даже представить себе, по какому поводу и сколько вопросов могут задать своему мастеру тридцать любознательных учеников.
На партийных собраниях, на педсоветах уже начали привыкать к тому, что совсем молодой коммунист Ильин, преодолевая робость, может ввязаться в спор с опытными людьми, отстаивая свою точку зрения.
Кстати, Костя Назаров и попал в группу к Ильину после одного из таких партийных собраний. На этом собрании отчитывался в своей работе пожилой мастер Завьялов, воспитывавший в свое время Матвея Григорьевича.
Старик Завьялов промучился уже с Назаровым месяца полтора и сейчас с некоторым раздражением говорил:
— О Назарове, товарищи, мы беседуем не первый раз. Его хорошо знают и преподаватели, и комсомол, и дирекция. Недаром, понимаете, его два раза выгоняли из школы. Нехорошо с ним получается… Комсомол за него принимался, разговаривали с ним по-всякому: и добром, и лаской, и как хотите… И я хотел предупредить вас, чтоб потом с меня не очень за него спрашивали…
— Андрей Трифонович, — волнуясь, с места сказал Ильин, — а ведь это вы, по-моему, неправильно говорите…
Седой мастер посмотрел на своего недавнего ученика, обиженно пожевал губами и полунасмешливо произнес:
— Ну что ж, неправильно, так ты поправишь. Я тебя два года поправлял, нынче можешь меня поучить.
Ильин поднялся и, волнуясь, сказал:
— Мне кажется, что мы не имеем права так просто снимать с себя ответственность… Иначе что ж получается? Каждый мастер в начале учебного года будет заявлять, что он не ручается за такого-то ученика… И преподаватели будут то же самое заявлять. Мы и так уже часто спорим, кто отвечает за поведение ученика на уроке; если парень ведет себя хорошо, преподаватель говорит, что за него отвечает он, а если озорничает, то тогда говорят, что ответственность лежит на мастере… А спор этот в корне неверный, вредный… Все за всех отвечаем…
— Очень тебя касается мой Назаров, — проворчал Завьялов.
— Конечно, касается, — возмутился Ильин. — Я вас очень уважаю, Андрей Трифонович, и благодарен…
Андрей Трифонович совсем надулся на своего бывшего ученика и, не отвечая ему, только произнес, обращаясь неизвестно к кому:
— Болтать все умеют. А вот попался бы ему такой экземпляр…
— Я не болтаю, — звонко сказал Ильин. — А если б попался, так выучил бы.
— Ну, и бери его к себе. Еще спасибо скажу…
Молодой мастер говорил сгоряча, не совсем представляя себе, какой груз взвалится на его неокрепшие плечи в результате этою спора.
Через несколько дней директор и замполит, посоветовавшись друг с другом и вызвав Ильина к себе, переели Костю Назарова к нему в группу.
Несмотря на свое внешнее спокойствие, Матвей Григорьевич иногда приходил в отчаяние. Подбирая «ключи» к Назарову, он испробовал, казалось, всё. Бывало и так, что, поговорив с Костей, мастер уходил домой в полной уверенности, что ученик понял, наконец, свою вину и с нынешнего дня начнет исправляться. Но через неделю Костя выкидывал какую-нибудь новую штуку. Чаще всего это случалось на теории.
Стоило Ильину войти в учительскую, как непременно поднимался с дивана кто-нибудь из преподавателей и подступал к мастеру:
— Матвей Григорьевич, я больше не могу с вашим Назаровым.
— Товарищ Ильин, уймите вы вашего Назарова. Я знаю, что вы сейчас скажете, что он не ваш, а наш общин…
И приходилось Ильину выслушивать, что сегодня Костя облил чернилами соседа по парте; что у Назарова абсолютно нет тетрадей; что он свистел на уроке; не вышел из класса, когда преподаватель, наконец, предложил ему удалиться.
Мастер оставлял Назарова после занятий, говорил с ним сурово, горячо и долго. Костя тут же писал объяснительную записку мастеру, замполиту, директору — ему было всё равно, кому писать. В объяснительной он подробно и честно перечислял свои провинности. Да, он вылил чернила на гимнастерку Носова. Да, он свистел на уроке песню «Помирать нам рановато». Он изорвал свои тетради. Не вышел из класса, несмотря на требование преподавателя. Дает слово, что больше не будет. Подпись, точка.
Таких объяснительных записок в деле Назарова было штук десять.
Заставлял его мастер извиняться на линейке перед группой. Извинялся.
Ясно, — эти «ключи» не подходят. Чем труднее парень, тем на большее количество запоров закрыт его характер, думал Ильин. Да еще главный замок с каким-нибудь секретом.
Конечно же, Ильин знал и самое важное: воздействие коллектива на трудного ученика. Но это ведь легко сказать — воздействие коллектива. В жизни не всегда бывает так: вот коллектив, вот Назаров, — действуйте. В жизни случается и иначе: есть группа хороших ребят, есть Костя Назаров; и вот этот самый Назаров начинает воздействовать на группу. Вокруг него могут сплотиться дурные силы. Думаете, какой-нибудь Носов сильно огорчен, что Костя облил чернилами его гимнастерку? Нисколько. Думаете, какому-нибудь Носову не кажется, что Костя храбрец, раз он посмел у всех на глазах сорвать «молнию»? Стоит Косте как-нибудь особенно лихо, грубо и насмешливо ответить преподавателю, как может расхохотаться чуть не весь класс.
Иногда приходится думать не столько об исправлении Назарова, сколько о том, чтобы уберечь группу от его дурного влияния.
Сравнительно нетрудно заставить Костю хорошо работать в мастерской — практику любят все ребята, и хорошие и дурные, — но ведь училище должно выпустить полноценного, сознательного рабочего, опору и надежду государства. Одними тисками или фрезерным станком тут не обойдешься.
Ходил Ильин к Назарову домой, разговаривать с его матерью. Разговор был почти бесполезный: мать только и поняла, что мастер относится к ее Костеньке несправедливо. Может быть, она поняла бы и больше, но тогда ей пришлось бы признаться самой себе, что она дурно воспитала сына, а на такое признание способна не всякая мать.
Ее вызывали несколько раз в училище. Она плакала в кабинете директора, в кабинете замполита. Костя стоял рядом, глядя в пол.
К мастеру она уже ходила запросто и без вызова. Пробовала умаслить его по-всякому. Однажды, уходя из мастерской, даже «забыла» на его столе пол-литра водки и коробку консервов. Ильин понял, к чему это, и дождался ближайшего родительского собрания.
Когда собрание подходило к концу — уже были высказаны все взаимные претензии преподавателей и родственников, — Матвей Григорьевич попросил слова. Он поставил пол-литра и коробку консервов на середину стола.
— Вот. Это мне принесли в мастерскую, — сказал мастер. — Мать моего ученика дала мне взятку.
Голос его на мгновение прервался.
— Фамилия? — спросили сразу несколько голосов.
— Не важно, — ответил Ильин. — Ее здесь на собрании нет. — Он посмотрел прямо в глаза Назаровой. — Как же может мать доверить воспитание своего сына такому мастеру, который берет взятки? Что она думает? Куда она отдала своего сына? В советское училище или частному сапожнику в «мальчики»? Неужели ей не стыдно? — почти плача от обиды, спросил Ильин.
— Вы подумайте, какая дрянная мать! — наклонилась к Назаровой пожилая женщина, племянник которой учился в Костиной группе.
Матвей Григорьевич так и не назвал собранию фамилии Назаровой.
Она сидела и слушала всё, что о ней здесь говорилось. Слушала и ежилась, как под ударами, и уже не чувствовала себя, — словно бы стул пустой, на нем никто не сидит.
Мог ли Ильин рассчитывать на помощь Костиной матери в воспитании ее сына?
Женщина не очень грамотная, несчастливая в семейной жизни, трудолюбивая, но, повидимому, и в труде беспомощный человек — шесть лет работает, а дальше сторожихи не пошла.
Медленно нащупывал мастер те стороны Костиного характера, за которые можно было бы ухватиться.
Действовать надо было через ребят. Если бы только Костя знал, сколько комсомольских и групповых собраний были посвящены специально ему! Ведь далеко не на все эти собрания его приглашали. А сколько раз подходили к нему Митя и Сережа на переменках, будто просто так поболтать, а на самом деле именно им часто поручалось и комсомольской организацией и мастером «взять Назарова в работу».
Когда Костя пересдавал спецтехнологию, то это Сережа Бойков держал свои руки так, как будто в одной из них штангель, а в другой — гайка. А у Мити сердце замирало у дверей класса. Оба они почти силой «натаскивали» Костю по спецтехнологии.
И вот почему оказалось, что сдавал-то экзамен Назаров, а лоб вытирал мастер Ильин.
Седьмая глава
Училище готовилось к большому вечеру: первый класс закончил экзамены, а в это время, по традиции, устраивалась встреча бывших учеников двадцать восьмого училища с нынешними первоклассниками.
Уже месяца полтора директор и замполит писали множество писем по самым разным, далеким и близким адресам. В ответ приходили телеграммы, письма, открытки, раздавались междугородные звонки по телефону, да и просто так, вдруг появлялись в училище какие-то посторонние взрослые люди, которые говорили гардеробщице:
— Здравствуйте, тетя Паша.
И при этом у каждого было такое лицо, как будто тетя Паша действительно их родная тетя.
Комитет комсомола созвал комсоргов групп первого и второго года обучения. Им предложено было на групповых комсомольских собраниях избрать по одному, по два ученика для подготовительной работы к вечеру. Создан был штаб встречи…
Мите Власову и Сереже Бойкову поручили пригласить директора одного из московских заводов. Василий Яковлевич вручил им красиво отпечатанные пригласительные билеты и сказал:
— Чтоб был у нас на вечере во что бы то ни стало. — Он неожиданно шутливо подмигнул ученикам. — В крайнем случае скажете, что, если не придет, я ему выговор в приказе объявлю и зачитаю на линейке перед строем. Но это только в крайнем случае, сразу его не пугайте… Пропуска на завод я вам закажу.
Косте Назарову поручили художественно оформить огромную доску, на которую заносили имена бывших выпускников двадцать восьмого училища, успевших прославиться за эти годы.
Таня Созина и второклассник Вася Андронов заведовали приглашением родственников; городских они ходили приглашать по домам, иногородним отправляли письма.
Митя хотел поменяться с Андроновым, чтобы работать с Таней, но это никак не получалось. Диктовки, к сожалению, кончились, и теперь с Таней можно было только здороваться в коридоре.
Ходили один раз всем училищем в Большой театр на «Бориса Годунова», и вот тогда-то Мите удалось при помощи тройного обмена добиться того, что он сидел в одном ряду с Таней.
Перед началом спектакля ребята осматривали театр.
В фойе Митя вдруг наткнулся на огромное, во всю стену, зеркало. Он смутился, увидев себя совсем не таким, каким представлял. В зеркале он был маленьким и складка на выутюженных под матрацем брюках лежала вовсе не так ровно, как ему казалось дома. Вообще перед этим зеркалом долго задерживаться неловко.
Лепные украшения и картины на потолках были прекрасны; Мите они казались явлениями природы: действительное небо, и по нему летают младенцы с крыльями, настоящие фрукты и настоящие облака.
Он хотел найти Таню и показать ей всё это, но она куда-то исчезла. Только в зрительном зале он увидел ее через несколько стульев от себя. Они сидели на балконе. От люстры нельзя было оторвать глаз; и она тоже была как явление природы, не мертвая вещь, прикрепленная к потолку, а сказочное растение, выращенное волшебником. «Всё это, конечно, чепуха», — попробовал одернуть себя Митя, но представить себе, что люстру можно сделать обыкновенными руками, он всё-таки не смог.
Он посмотрел на Таню и хотел указать ей пальцем на люстру, но Таня в это время смотрела на занавес, а когда Митя тоже посмотрел на занавес, она уже любовалась люстрой. Потом свет угасал в люстре медленно-медленно.
Заиграл оркестр.
В таком театре Митя был впервые в жизни. Его как будто взяли на руки и понесли далеко и высоко в такое место, где каждая следующая секунда сулит неожиданности. Здесь ничего нельзя предвидеть заранее, что с тобой произойдет.
Сначала было страшно, что артисты поют, а не разговаривают; хотя он много раз слушал по радио отрывки из опер, но тут люди ходили по сцене на его глазах и пели друг другу. В некоторых местах он терял нить действия и ему становилось скучновато, но кругом — и на сцене и в зале — было столько вещей, на которые так интересно смотреть, что скука не ощущалась, просто внимание переключалось на другое.
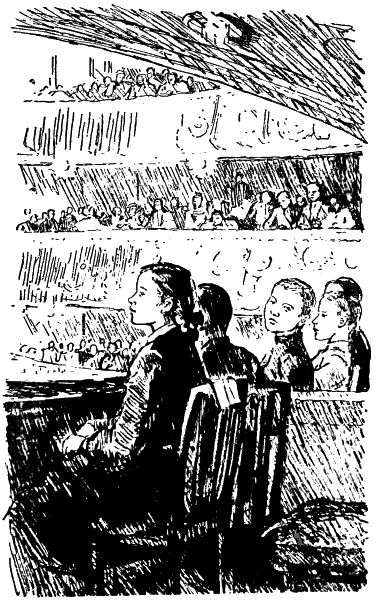
Нравился Мите самозванец. Когда он удирал через окно корчмы, Митя был с ним, торопил его, чтоб его не догнали.
В антракте, после знаменитой сцены у фонтана, Митя подошел к Тане и сказал:
— Давай погуляем.
Если б не самозванец, Митя никогда не решился бы сказать эту фразу. Они гуляли по фойе, и Митя старательно обходил ту стенку, где было зеркало.
— Нравится тебе люстра? — спросил он.
— Почему именно люстра? — пожала плечами Таня. — Я, кажется, пришла смотреть «Бориса Годунова».
— Конечно, — смутился Митя. — Но, между прочим, люстра тоже замечательная.
— Нэлепп хорошо играет, — сказала Таня.
— Ты что, его знаешь? — спросил Митя.
— Ни капельки.
— Да, мне тоже понравилось, как он играет, — сказал Митя. — Самозванца, между прочим, потом поймали и казнили.
— Известно без тебя, — ответила Таня. — Я проходила историю.
— Сколько осталось до нашего вечера? — спросил Митя, чтобы переменить тему.
— Восемь дней.
— Я завтра к директору завода иду.
— С письмом?
— Почему с письмом? Лично надо побеседовать. Ты на каникулы домой едешь?
— Еще не решила. У меня ж там родных нет.
— С тобой Фунтиков не говорил?
— Нет. А что?
— Да он ребят подговаривает ехать к нему в Отрадное.
— Чего я там не видала?
— Вот с тобой никогда нельзя по-человечески поговорить, — громко сказал Митя, потому что как раз в это время его оттерли от Тани и раздался третий звонок.
В следующем антракте поговорить уже не удалось. Ребята потащили Митю пить газированную воду с сиропом, а потом рассматривали фотографии загримированных артистов.
После конца спектакля Митя оказался рядом с Таней Они спускались по лестнице. Мите хотелось, чтобы лестница была подлиннее. Ему надо было рассказать Тане, как ему понравился театр, спектакль, Нэлепп; надо было объяснить, что Фунтиков приглашает не в гости, а просит ребят помочь колхозу достроить электростанцию.
Таня спускалась по лестнице слишком быстро, и хотя было шумно, Митя отчетливо слышал, как ее каблуки стучат по ступенькам.
Он спросил:
— Ты коврик закончила?
— Нет еще, — ответила Таня. — Неохота.
Впереди оставалось всего два марша лестницы, уже видны были ребята, стоящие вокруг воспитательницы.
— Зря, — сказал Митя. — Красивый коврик.
— Правда? — удивилась Таня.
И они уже были внизу.
Восемь дней, оставшиеся до вечера, заполнились хлопотами. Занятия, работа в мастерской и тысяча мелких дел, связанных с вечером встречи.
Ходили Митя и Сережа приглашать директора завода. На улице была теплынь, но они выпросили у воспитательницы парадные шинели. Заранее условились, кто что будет говорить, но, конечно, всё получилось иначе, чем они предполагали.
Митя хорошо помнил свою фразу: «От имени дирекции, партийной и комсомольской организации приглашаем вас, Степан Игнатьевич, на вечер встречи с учениками двадцать восьмого ремесленного училища». Сережа Бойков должен был подхватить: «Как бывшего ученика нашего училища просим прийти вас, Степан Игнатьевич, непременно. Начало в девятнадцать часов». Дальше Митя протягивает красиво отпечатанный билет, оба хором говорят: «С приветом» — и уходят.
В приемной секретарша попросила их снять шинели и подождать. Митя вел себя солидно и с достоинством, он сел на стул у стены, а Сережа растерялся оттого, что так быстро сбылась его мечта: на дверях кабинета бы то написано «Директор завода С. И. Вавилин», и этот С. И. Вавилин кончил то же ремесленное, в котором сейчас учится Сережа Бойков.
Минут через десять раздался звонок из кабинета, секретарша заглянула туда и, выйдя, сказала:
— Заходите, товарищи.
Митя и Сережа переступили порог кабинета.
Хуже всего, что не было ни одной секунды на то, чтоб осмотреться.
Сделав два маленьких шажка, Митя обратился к седому полному человеку с недовольным лицом, сидевшему в кресле у стола.
— От имени дирекции, партийной и комсомольской организации приглашаем вас, Степан Игнатьевич…
— Это ко мне, ребята, — сказал голос слева, и Митя, обернувшись, увидел молодого мужчину; расхаживающего по кабинету.
Повторять сейчас всё с начала Митя от смущения не стал, а только протянул сразу билет, и Сережа, сбившись, подхватил:
— Начало в девятнадцать часов.
Затем они хором сказали:
— С приветом.
Вавилин весело рассмеялся.
— Запутались?
— Немножко, — сказал Митя.
— Токари?
— Мы слесари-инструментальщики.
— Ну, садитесь, слесари-инструментальщики. Как там у вас Виктор Петрович живет?
— Хорошо.
— А Василий Яковлевич?
— Тоже. Он сказал, чтоб вы непременно приходили на вечер.
— Непременно приду. У меня к нему дело есть. Не слыхали, ребята, как там у вас выпускники в этом году — хорошие? Какая группа лучше всех работает?
— Степан Игнатьевич, — сказал пожилой человек с недовольным лицом (это был сменный мастер), — что вы их про выпускников спрашиваете? Выпускников давно расхватали. Нам как дали тринадцать человек, так больше и не получим. Это загодя надо беспокоиться. А лучшую группу второго года я вам и без них скажу. Семнадцатая.
— Правильно, — подтвердил Митя.
— Там у фрезеровщиков золотые руки. Этот, как его… Васька Андронов, он у них по семьсот оборотов в училище дает. А разве у них настоящие станки?
— Конечно, настоящие, — обиделся Сережа за фрезеровщиков.
— Не видал ты, сват, настоящих станков, — сказал сменный мастер. — Степан Игнатьевич, можно, я их немножко поспрошаю для пользы дела?
— Так они ж первогодки, в будущем году только кончают, — улыбнулся директор.
— А неважно. Пригодятся. Пошли, ребята.
Сменный мастер молча, сохраняя всё то же недовольное выражение лица, повел их по цехам. У мастера всюду оказывались дела и знакомые.
Он оставлял учеников на «одну минутку», возвращался то действительно скоро, то через полчаса, и вел их дальше.
Мальчики нисколько не были огорчены этими задержками.
В кузнечном цехе огромный пневматический молот поднимался и падал на раскаленную болванку. Он так весело и, казалось, легко поколачивал ее, что было странно видеть, как она изменяла под его ударами свою форму. Кузнец, в очках и переднике до полу, длинными клещами ловко подкладывал болванку под молот, и в те короткие секунды, когда молот уходил наверх, кузнец поворачивал клещами раскаленный металл, подставляя его разными сторонами.
Он делал это с такой точностью и даже изяществом, что, как всякая работа, выполняемая без видимых усилий, она представлялась Мите совсем нетрудной.
Бац! Подложил болванку вдоль. Бац! Подложил поперек.
Если б не совестно было, Митя попросил бы у него на секунду клещи и попробовал бы сделать то же самое.
Гигантский кран, опять-таки без видимых усилий крановщика, проносил над головой какую-то ферму, и снова эта работа не представлялась тяжелой.
Митя не знал еще, что когда работаешь совершенно точно, то правильные движения становятся привычными, привычные — легкими, а ощущение легкости и есть то прекрасное, что поражает нас в подлинном умении.
В фрезерном цехе ребята застыли у порога. Где-то высоко в поднебесье был выгнутый потолок, стянутый толстенными рельсами на гигантских болтах. Ряды станков, сверкающих темным металлом, дышащих, двигающихся, уходили в бесконечную даль цеха.
Запахи машинного масла, теплой стали, железа, чугуна — всё это соединялось для Мити в единый, острый и заманчивый запах работы, труда и его новой профессии. И хотя этот огромный цех был неизмеримо больше училищной мастерской, хотя Митя был слесарем, а не фрезеровщиком, но сейчас ему казалось, что он попал в то место, где ему хотелось бы находиться очень долго, где он чувствовал себя не мальчишкой, а взрослым и нужным человеком.
Поблизости, за густой проволочной сеткой, работал станок, разбрызгивая искры во все стороны; он словно злился, что его поместили за сеткой.
Сначала Митя и Сережа даже не заметили фрезеровщика. Они только услышали, как мастер, перекрывая шум, спросил кого-то:
— Сколько, Александр Петрович?
И тоненький голос в ответ:
— Пока тысяча пятьсот.
Поглядев в направлении этого голоса, Митя увидел Александра Петровича — подростка настолько маленького роста, что он стоял на ящике, чтобы дотянуться до шпинделя. Мастер называл его по имени-отчеству без шуток, это было видно по лицам обоих.
— Шатуны я расточил, — сказал маленький фрезеровщик и неожиданно сварливо добавил: — Что ж но, Егор Иванович, получается? Разметчики запаздывают: сказали, к двенадцати часам тридцать заготовок будет, а сейчас половина первого, — они мне только шестнадцать прислали.
— Так у тебя ж еще хватает, — сказал мастер, указывая на небольшую горку поковок.
— Что значит «хватает»? — обиделся фрезеровщик. — Я вам официально заявляю, Егор Иванович, они миг график срывают. Вы посмотрите на оправку, — я по шесть штук за один раз обрабатываю…
— А не много надел? — спросил мастер, присматриваясь к оправке, на которой было закреплено шесть заготовок.
— Для меня как раз, — ответил фрезеровщик. — Вы им скажите, что я на комитете вопрос поставлю. Будут валять дурака — снимут их с обработки деталей для крупных ГЭС. Вот они тогда попляшут!
По началу Митя и Сережа, заметив маленького фрезеровщика, не сговариваясь, попытались принять самый независимый вид, чтобы этот Александр Петрович понял, что он для них просто самый обыкновенный Санька, но, увидев, как он «распекает» мастера, ребята невольно подтянулись.
Фрезеровщик, повидимому, уже отошел, успокоился; он выслушал строгие указания мастера; шум заглушал их разговор, но вдруг Митя услышал, как фрезеровщик спросил:
— Это что, пацаны к нам?
Спросил он вполне дружелюбно, по-деловому, как взрослый взрослого, и мастер так же по-деловому ответил:
— Слесари. Присматриваюсь… на тот год.
Александр Петрович поманил ребят пальцем, и они мгновенно оказались у его станка.
— Первогодки?
Митя кивнул.
— Какого училища?
— Двадцать восьмого. А вы какое кончали? — спросил Митя, ругая себя за то, что у него вырвалось «вы» вместо «ты».
— Седьмое, — ответил фрезеровщик. — Два года назад. Я ваше училище хорошо знаю, мы ваших ребят в сорок восьмом на соревнованиях в волейбол обыграли.
— Ну, это в сорок восьмом, а сейчас бы не вышло, — сказал Митя.
Александр Петрович осмотрел его с высоты своего ящика и вдруг по-мальчишески улыбнулся.
— Всяко бывало. Бывало, что и ваши выигрывали. Ты скажи ребятам, чтоб к нам на заводскую спортплощадку приходили. Спросите Александра Петровича Боброва. Это я.
Разговор был окончен. Фрезеровщик повернулся к станку.
«Важный какой, — подумал Митя, — вот встретимся через год, тогда поговорим».
Честно говоря, он считал, что у Боброва были несомненные преимущества перед ним. Он, Митя Власов, только читал в газетах о Куйбышевском гидроузле, а Санька Бобров (мысленно Митя именно так упрямо называл фрезеровщика) уже давно работал для этого гидроузла. Как-то уж так неудачно складывается жизнь, что повсюду он опаздывает и про всё ему только приходится читать в книжках: гражданская война, Великая Отечественная война, строительство Московского университета…
Очевидно, и Сережа был расстроен по тем же самым причинам, потому что он наклонился к Мите и крикнул сквозь шум:
— Вот это работа! А мы ножовку делаем.
— А ты что хотел? — рассердился вдруг Митя. — Без году неделю у верстака стоим — и сразу турбину монтировать?
Почему-то, когда его собственные мысли высказал Сережа, они показались ему необдуманными и легковесными.
Снова откуда-то из недр цеха появился мастер и повел их дальше. Они прошли вдоль длинного ряда станков, и теперь уже цепкие взгляды ребят останавливались не на машинах, а вылавливали тех парней, на которых лежала печать ремесленного училища.
Дело было не только в возрасте того пли иного рабочего; иногда парень выглядел совсем взрослым, но Митя мгновенно находил в его внешнем виде какую-нибудь мелочь: то бляшку на ремне, то форменную пуговицу на пиджачке, которая безошибочно указывала на недавнее прошлое фрезеровщика. Таких ребят было много. Митя повеселел.
В слесарном цехе мастер подошел к одному из рабочих и взял с верстака кальку.
— Чертежи читаете?
— Читаем, — ответил Митя.
— Давайте. Сначала ты.
Митя нашел вид сверху и вид сбоку. Разобрал и назвал размеры. Сказал, какой здесь возможен допуск.

— Инструменты? — спросил мастер. — Что тебе потребуется для обработки этой детали?
— Пила драчовая. Пила шлифная. Купорос для разметки. Керн. Чертилка. Наждак.
— Точнее. Это, сват, не училище: тут самому надо из кладовой всё заказывать и по двадцать раз туда людей не гонять.
— Шлифная пила круглая… — добавил Митя.
— А отверстие пальцем будешь сверлить?
— Сверло надо… Плашки. Метчики.
Мастер взял другой чертеж, показал Сереже и опять подробно расспросил, с какой операции надо начинать работу, какие размеры, инструменты. Потом вынул из шкафчика поковку неправильной формы и велел найти центр.
Если ученики отвечали не совсем точно или слишком затягивали ответ, лицо мастера принимало мучительное выражение, словно ему сверлили зуб.
Очевидно, он под конец остался доволен ребятами, но ничего положительного не сказал им: пока они не работали на его заводе, он не считал нужным расхваливать их.
Он только как бы мимоходом спросил:
— Из общежития?
— Да.
Опять лицо его скривилось, как от зубного сверла, и он сказал Мите ноющим голосом:
— Ну что ты, сват, честное слово, неужели во всей Москве родичей нет?
— Тетка есть.
— Родная? — обрадовался мастер. — На крайний случай можешь у нее временно устроиться?
Митя ответил, что вряд ли это может получиться: тетка уехала на Дальний Восток.
— Ну, что с вами делать, ребята? — сокрушался мастер. — Ладно, через год еще корпус построим.
Он говорил так, словно вопрос о поступлении на его завод этих слесарей, которые еще и не были настоящими слесарями, уже давно решен и остаются только мелочи оформления.
— Значит, придете с четвертым разрядом. Через полгода-год сдадите на пятый, а там рукой подать до шестого. В вечернюю школу ходите?
— Нет, в этом году опоздали.
— Ну, что вы, честное слово, ребята! Вы же мне всю картину портите.
Митя сказал, что с этой осени они собираются непременно пойти в вечернюю школу. Поахав по поводу потерянного года жизни, мастер проводил их до проходной, где сказал вахтеру:
— Мои ребята. Постоянный пропуск через год оформим.
Жадность сменного мастера к молодым рабочим была ненасытна. Стоило ему увидеть, что парнишка старательно и умело справляется с делом или же толково разбирается в работе, еще не умея как следует ее производить, уж в голове Егора Ивановича начинали роиться планы, как бы закрепить этого парнишку за своим заводом.
Задолго до окончания практики (на инструментальном заводе проходили практическое обучение многие ремесленники) Егор Иванович начинал обивать пороги в кабинетах начальства.
Прежде всего он упорно и настойчиво одолевал начальника цеха. Он сначала только издали указывал на ремесленника, хлопотавшего около тисков или за фрезерным станком.
— Видали парня? — спрашивал он.
— А не увлекаетесь, Егор Иванович? — Начальник цеха уже знал, куда клонит сменный мастер.
— Кто? Я? Да что он мне — сват или брат! Я вам дело говорю, Илья Александрович. У парня абсолютно золотые руки. Я ему вчера дал фасонную деталь и нарочно не рассказал, как ее крепить. Сказал: придумай сам приспособления. Прихожу — работает. Закрепил согласно технологического процесса, базу правильно выбрал, и, знаете, на каких оборотах работает? Тысяча триста.
— Пятьсот прибавил? — улыбнулся начальник цеха.
— Честное слово, тысяча. Вот вы хоть у их мастера производственного обучения спросите. Парнишка не курит, школу посещает, аккуратный… Разве можно, Илья Александрович, такое золото из рук выпускать?
Егор Иванович «долбил» и «долбил» начальнику цеха до тех пор, пока тот не соглашался пойти к директору завода. К этому времени обычно оказывалось, что уже не один ученик — «золотые руки», а пятеро или шестеро.
Директора убеждали вдвоем, хором и вразбивку. Собственно, убеждать особенно не приходилось, был только один подводный камень, который следовало обойти: общежитие.
— Ну, хорошо, — говорил директор. — Вы меня не агитируйте. Скажите только, Егор Иванович: они у вас общежитейские или городские?
Вот тут-то мастер и начинал вертеться, словно в стуле вдруг оказывался гвоздь.
— С такими орлами я вам берусь горы своротить. Это ж через полгода верные скоростники.
— Я про общежитие спрашиваю: есть у них где жить или нет?
— Да я в точности не интересовался, — уклонялся он всеми силами от прямого ответа. — Но производят такое впечатление, что семья у них имеется.
— Где семья? Здесь, в Москве?
— Степан Игнатьевич, у нас же к лету новый корпус общежития будет готов, — вступал в разговор начальник цеха.
— Корпус еще строится, а мы его давно не только перенаселили, а даже кое-кто уже обменивается площадью.
И в этот момент, когда казалось, что всё потеряно из-за отсутствия жилья, Егор Иванович применял последнее средство.
— Я думаю так, Степан Игнатьевич: раз мы этого дела поднять не можем, давайте смотреть государственно: есть шесть хороших кадровых рабочих, надо их хотя бы не потерять из системы нашего главка. Я поговорю со своим дружком, мастером соседнего инструментального завода, напишем ребятам отличную характеристику; пусть хоть тот завод даст заявку на этих ребят. А вы, конечно со своей стороны напомните директору, он вам только спасибо скажет.
— А что, верно хорошие ребята? — с неожиданной жадностью спрашивает директор.
— Поискать таких, — говорил начальник цеха.
— Золотые руки! — восклицал сменный мастер.
И он в ярких красках рисовал радужные перспективы соседнего завода в связи с оформлением на работу шести молодых фрезеровщиков и слесарей.
Директор слушал, слушал, слушал, а потом срочно вызывал машину и ехал в управление трудовых резервов, чтобы загодя закрепить учеников за своим тавотом. По дороге он ловил себя на том, что уже боится, не опоздал ли он, не распределены ли такие ценные рабочие в другие руки.
Какой-нибудь парнишка второго года обучения еще только проходил практику на заводе он и стоял-то около станка на возвышении, иначе ему было не дотянуться до фрезы, — а уж в это время в директорских кабинетах склонялась его фамилия, уже спорили из-за него, рассчитывали на него, прикидывали, в каком цехе он будет работать, в какой комнате общежития будет жить.
И оставалось только этому парнишке одно: хорошо и старательно одолевать учение, а всё остальное лежало у его ног, как приданое у богатой невесты, всё остальное принадлежало ему задолго до того, как он это по-настоящему заслужил.
Восьмая глава
1
С утра в этот день всё общежитие готовилось к празднику.
Еще накануне Митя бегал в угловую булочную к телефону-автомату звонить в бюро погоды. Встреча с бывшими выпускниками должна была происходить в закрытом клубе училища, но Фунтиков всё-таки попросил выяснить возможную погоду на завтра. В последний день все лихорадочно выискивали, что бы еще следовало сделать; забывали иногда основное дело и вместо него хлопотали без конца о мелочах, которые неожиданно выползали на свет.
С утра в день встречи по всей лестнице ребята яростно чистили ботинки. В комнатах пришивали подворотнички. В умывальнях натирали пуговицы зубным порошком. Каждый ученик пробегал по коридору с таким видом, что казалось, если его остановить, задержать на мгновение, то весь предполагаемый праздник рухнет в тартарары.
В просторном классе спецтехнологии заканчивалось устройство выставки изделий первоклассников. Были три огромных витрины: слесарей, токарей и фрезеровщиков.
Митя раз десять с утра пробегал мимо слесарной витрины, на которой была прибита ножовка его работы. Отличная, сверкающая ножовка (солнечный луч упирался в нее, как указка). Теперь Митя уже не думал о том, как она будет лежать в магазине на полке, это глупые мальчишеские мечты. Нет, ножовка сделана по заказу инструментального завода, она попадет в опытные руки слесаря. Если бы этот слесарь, которого Митя ощущал как близкого человека, знал, сколько груда, мук творчества и любви вложил ученик в простую ножовку, он работал бы ею с особенной старательностью и умением. Ведь Митя же не делал ее, а изобретал, словно не было до него никогда ножовки.
Когда бы Митя ни забегал в класс спецтехнологии, он сталкивался там с фрезеровщиком Колей Белых. Они ни за что не признались бы друг другу, для чего бесчисленное количество раз оказываются у витрин.
— Ты что?
— Да ничего, за мелом зашел. А ты?
— Стул надо взять.
Забегала сюда и Таня Созина в костюме феи: она примеряла его к вечернему выступлению на сцене. Таня считала, что, во-первых, витрина токарен висит как-то в тени и, во-вторых, на этой ширине слишком мало изделий девочек.
Ни у одной феи в мире не было такого румянца от висков до подбородка, как у Тани Созиной. Митя, увидев ее в сказочном наряде, растерялся и сказал:
— Здравствуйте, Созина.
— Ты что здесь делаешь? — спросила Таня.
— Гуляю, — глупо ответил Митя и сразу же рассердился на себя за растерянность. — Что это ты напялила на себя?
— Почему «напялила»? — обиделась Таня и стала разглаживать складки на шелковой юбке. — Выражения какие-то у тебя,
Власов.
— Выступаешь вечером?
— У нас специальные танцы поставлены. А ты?
— Я гостей встречаю на лестнице.
— А-а, — сказала Таня.
По сравнению с ее костюмом и с тем, что она должна сегодня танцевать на сцене, Митин заурядный вид и его участие в празднике были незавидными.
— Витрины смотрела? — небрежно спросил Митя. — Ножовка тут моя.
— Видела. А кольца для цилиндра мои.
— Ох, у тебя и характер! — заметил Митя. — Давай сегодня не будем с тобой ругаться?
— А я в не собираюсь, — пожала плечами Таня.
Ее кто-то кликнул из коридора, и она выбежала.
Митя пошел помогать Косте Назарову. Они взобрались на две стремянки у входа в училище и прибили надпись: «Добро пожаловать, дорогие товарищи!»
В вестибюле поставили огромный щит с портретами выдающихся выпускников училища. По другую сторону двери на щите были изображены отличники учебы.
Костину мать пригласили дня два назад. Ходили ее приглашать Таня и второклассник Вася Андронов. Когда они явились, Костя был в комнате, но сразу же ушел на это время из дому. Мать хотела напоить гостей чаем, показать альбом, где Костенька совсем маленький лежит животиком на подушечке, но ребята торопились и поэтому пить чай не стали, а альбом перелистали быстро и невнимательно.
Костя скоро вернулся и, увидев пригласительный билет на столе, сказал:
— Нечего тебе на этот вечер ходить.
Лицо матери сделалось испуганным и жалким, и Костя, может быть впервые в жизни, подумал, что никогда еще с ней по-хорошему не разговаривал. Он даже не знал, как это делается. Столько хороших людей, взрослых и ребят, он перерисовал за последние дни своей собственной рукой с маленьких фотографий, столько хвалебных слов написал под портретами, а вот у себя дома не мог придумать ни одного слова для родной матери.
— Ну, чего тебе итти? — хмуро сказал он. — Там людям грамоты будут выдавать, а твоему сыну — шиш.
— Обошли тебя, Костенька? — неуверенно спросила мать. — Ты же последнее время старался…
— Непутевые мы с тобой, мама, — ответил Костя и пошел ставить на плитку чайник.
Украшая училище, он твердо решил сделать всё, что положено, и вечером перед приходом гостей уйти домой.
Но тут, как назло, подошел мастер и сказал, что Назаров назначается в ту бригаду ребят, которая должна встречать гостей.
— Всё закончишь, помоешься как следует, и вот с Власовым будете распоряжаться в вестибюле.
За Митей вдруг прибежали из учебной части. Он поднялся наверх и около дверей учительской увидел паренька с узелком в руках. Паренек оглянулся, смущенно улыбаясь.
— Здравствуй, Митя. Я ж тебе говорил тогда на станции, что приеду.

У Мити даже сердце екнуло. Подлинневший Витька Карпов, милый по лебедянским воспоминаниям и какой-то удивительно неприкаянный оттого, что он одет не в форму ремесленника, протягивал Мите узелок.
— Мать просила гостинец передать. Кланялась тебе.
— Ты насовсем приехал? — радостно спросил Митя.
Оказалось, что Витька Карпов приехал со своей матерью в Москву на три дня, к каким-то своякам, что ли. Заодно привезли продать сало, закололи свинью еще к праздникам.
Ох, как всё это было далеко от Мити! У него чуть было даже не вырвалось: «Разве за этим в Москву ездят?» Он во-время сдержался, чтобы приятель не подумал, что он здесь сильно зазнался. Витька и сам понял, что Мите не надо рассказывать, как он стоял около матери на рынке и получал от покупателей деньги.
Митя повел его сначала в общежитие, показал свою комнату, познакомил с забежавшими на минутку Сережей Бойковым и Сеней Ворончуком. Рассказал, что сегодня такая суетня из-за предстоящего вечера, и просил непременно прийти, — билет он достанет.
Потом он повел Витьку обратно в училище и показал выставку. Ему было немножко жаль приятеля, и поэтому он решил не говорить, что ножовка его собственная работы, но это как-то невольно вырвалось само собой; правда, он тут же добавил:
— Дело нехитрое, каждый сумеет, если захочет.
Показал свой комсомольский билет. Витька, как известно, всегда любил перечить собеседнику, но успехи приятеля были настолько очевидны, он так богат ими, что даже не к чему было придраться. В слесарном цехе они осмотрели Митины тиски и инструменты. Что мог противопоставить всему этому Витя Карпов?
Честное слово, Митя водил приятеля по училищу вовсе не за тем, чтобы выхваляться перед ним. Он ведь даже и не думал, что достиг какого-нибудь особенного совершенства. Наоборот, заметив восхищенное и вместе с тем подавленное настроение друга, Митя всячески давал ему понять, что каждый ученик располагает такими же богатствами, как и Митя.
— Ты непременно поступай к нам. Ну, хочешь, я сам с твоей матерью поговорю?
Витька рассказал лебедянские новости. Дом культуры выстроили, на днях будет открытие. Володя Петренко писал родителям из Рязани, что в этом году кончает ремесленное по пятому разряду и его направляют токарем под Куйбышев на строительство гидростанции. (Тут слегка засосало под ложечкой и у Мити.) Мишка Зайцев передавал поклон, он в шестом классе. Мать здорова, скучает по Мите, просила тоже передать поклон и чтоб был хорошим человеком, здоровье просила беречь, ждет на каникулы домой.
— Старенькая она? — спросил Митя.
— Так особенно незаметно. Знаешь, какие матери бывают.
Они поговорили еще, а потом Витька ушел, пообещав прийти вечером.
Никаких дел у Мити уже, в сущности, не было, но он слонялся по училищу, не признаваясь себе, что свободен, и выдумывая причины, по которым ему надо зайти в клуб, в комитет, приоткрыть дверь к замполиту, бегать по лестнице от первого до четвертого этажа.
В клубе из боковых комнат доносились звуки духового оркестра, хорового пения, топот танцующих ног. На сцене стоял длинный стол, покрытый красным сукном. Позади во всю стену висела приготовленная к вечеру декорация — молодые березки и река.
Он заглянул во все комнаты по очереди, и отовсюду его прогнали, но он нисколько не обиделся; посидел в пустом зале в первом ряду, взобрался на сцену и представил себе, что зал полон народу, а ему, Власову, надо обратиться к людям с речью.
Оглянувшись и увидев, что кругом пусто, Митя громко сказал:
— Товарищи!
Голос прогудел в пустом зале.
— Здравствуйте, — сказал уже потише Митя. — Поздравляю вас, я окончил первый класс на «отлично».
Дальше речь не выдумывалась, он только вспомнил одну фразу: «Не будем успокаиваться на достигнутом…»
— Куда ты пропал, Власов? — раздался голос из темного конца зала. — Когда не надо, вертишься, а когда надо, не найти.
Секретарь комитета Антонина Васильевна появилась в проходе. Митя, смущенный, соскочил в зал.
— Садись, — сказала Антонина Васильевна голосом, который не предвещал ничего хорошего. — У меня в комитете народ, а мне надо с тобой серьезно поговорить. Ты сегодня отвечаешь за вестибюль?
— Отвечаю.
— Костя Назаров в твоей бригаде?
— В моей.
— А почему ты ничего не сказал мне о его нездоровых настроениях? Ты знал, что он собирается итти домой и не приходить на наш вечер?
— Знал. Он говорит, что у него болит голова.
— Ничего у него не болит. Блажь. Воспаление самолюбия.
Митя улыбнулся.
— А ты не смейся, — сказала Антонина Васильевна. — Сам тоже хорош. Тебе кажется, что если твоя ножовка висит на выставке, так ты уж готовый, сознательный, кадровый слесарь? Я к тебе, Власов, давно присматриваюсь. Думаешь, я не поняла, почему ты тогда на комсомольском собрании не сказал, что Бойков плохо готовился к экзамену по математике? Выдавать товарища не хотел! Это не дружба, а равнодушие к судьбе друга. И на Назарова тебе тоже наплевать…
— Антонина Васильевна, я ему по русскому языку помогал…
— Это твоя обязанность, и хвастать тут нечем. Сдать теорию и практику — для комсомольца еще только поддела. Ты насчет своего характера серьезно подумай. Вот, что, Власов, — поднялась Антонина Васильевна, — во-первых, ты отвечаешь за то, что Костя Назаров сегодня будет на вечере; во-вторых, на групповом комсомольском собрании через неделю сделаешь доклад о дружбе.
Антонина Васильевна неожиданно улыбнулась:
— Речи со сцены ты уже произносить умеешь, — значит, и с докладом у тебя будет всё в порядке.
2
Гости начали съезжаться часам к семи.
Сначала они проходили мимо Мити и Кости поодиночке, так, что их можно было подробно рассмотреть — кто в шляпе, кто в кепке, кто в офицерском мундире; а потом они стали толпиться в дверях, шли подряд, и тут уж было совсем не разобраться.
Тетя Паша, гардеробщица, только и успевала здороваться и всплескивать руками, — господи, да это ж Юрка Сазонов; милые мои, никак Витя Горохин; постой-постой, да тебя ребята Бубликом звали!
Сдавать на вешалку почти нечего было — погода стояла летняя, но никто не хотел миновать тетю Пашу.
До Мити доносились все эти радостные возгласы, и, по правде сказать, он даже не очень понимал, почему встреча с гардеробщицей вызывает такую буйную радость.
Не приходилось ему еще возвращаться в то место, где он вырос, в тот дом, где его знали мальчишкой.
Какой-то человек вошел, вытер пот со лба и спросил:
— Не опоздал? Встреча-то у вас сегодня? Здравия желаю, тетя Паша.
Гардеробщица пристально осмотрела гостя.
— Погоди, я вас чтой-то не признаю.
— Сейчас признаете, — успокоил ее гость. И, к Митиному удивлению, он тихонечко засвистел на какой-то залихватский мотив.
Тетя Паша прислушалась.
— Вася Коробов! — воскликнула она и заплакала. — Ты ж к нам в сорок первом в ситцевых штанах пришел. Вот такой махонький…
Пока тетя Паша хлопотала в гардеробе с одеждой Коробова, до Мити доносились обрывки разговора: какой был озорник Вася, вон то стекло на лестнице выбил, отобрал шинель и фуражку у какого-то первогодка, в эвакуации рвал с чужого огорода огурцы…
— Кто ж ты теперь такой? — спросила тетя Паша.
— Инженер. Был вот в Чехословакии, а сейчас на Волгу еду. Женился. Дочка есть.
Гостей стало приходить всё больше и больше. Иногда тут же, в вестибюле бросались навстречу два взрослых человека, называя друг друга смешными прозвищами, останавливались, хлопали один другого по плечу и говорили, с точки зрения Мити, всякую чепуху, от которой оба приходили в умиление и восторг.
Вообще некоторые гости вели себя странно; какой-то усатый человек спросил, например, у Мити:
— Общежитейский? В каком этаже живешь?
— Во втором.
— Слушай, друг, а кто в третьей комнате справа живет?
— Мы, — удивился Митя. — Вам кого-нибудь из наших ребят позвать?
Усатый человек переждал, пока мимо Мити прошло несколько гостей, и снова строго спросил:
— На той кровати, что возле правого окна, кто теперь спит?
— Я.
Человек вдруг пожал Митину руку.
— На моей постели спишь. Каждый год прихожу сюда на этот праздник и обязательно выясняю, кто занимает мою кровать.
Он внимательно и пристрастно осмотрел ученика.
— Официальная справочка, — сказал он снова строгим голосим, — за десять лет ни один лодырь на моем месте не лежал. Три техника, два инженера, четыре бригадира и вот я, один лекальщик. Ясно?
Он поднялся по лестнице в клуб.
Митя вошел в зал после третьего звонка, — уже можно было покинуть пост в вестибюле. Костя Назаров шел вместе с ним. Митя сказал ему, что если он будет валять дурака со своей головной болью, то больше никто нянчиться с ним не станет, никому неинтересно из-за него получать выговоры, и вообще накануне коммунизма со всеми этими Костиными штуками надо кончать. Проговорив всё это одним духом, Митя взял товарища за руку и умоляющим голосом сказал:
— Слышишь, Назаров, мне же за тебя влетит. Не подводи, Костя…
Может быть, помогло еще и то, что в самый последний момент пришел Витька Карпов и Митя, познакомив его с Костей, сказал:
— Это наш главный художник.
В зале уже был погашен свет. За длинным столом расположился президиум.
Митя примостился в дальнем конце зала и шопотом, указывая пальцем, объяснял Витьке Карпову, кто где сидит на сцене.
Впервые в жизни сидели в президиуме Петя Фунтиков, Сеня Ворончук и Ваня Тихонов. Кто его знает, как полагается вести себя в президиуме! Иногда хочется радостно улыбнуться и делаешь поэтому строгое, суровое лицо; не знаешь, куда девать руки, всё время шевелишь ими, меняя их положение; различаешь лица знакомых ребят в полусумраке зала, отводишь глаза в сторону, поднимаешь их к потолку, — трудно сидеть в президиуме.
А из зала смотрят на сцену добрых шестьсот человек.
Смотрят ученики на сцену, как в волшебное зеркало; в такое зеркало, которое показывает их будущее. Вот сидят за столом президиума гости — инженеры, техники, бригадиры, искусные мастера, сидят молодые коммунисты. Когда-то, совсем недавно, и они сидели внизу, вон там на стульях, в зрительном зале. Это их прошлое, ранняя юность смотрит на них из притихшего зала. И если бы кто-нибудь из учеников начал писать свою биографию, то любой из гостей президиума мог бы продолжить ее с того места, на котором ученик остановился.
Виктор Петрович прочитал приказ по училищу. Первое место заняла шестая группа — староста Петр Фунтиков, комсорг Семен Ворончук.
Митя аплодирует с такой силон, что у него немеют ладони. Он отыскивает глазами фрезеровщиков и придирчиво наблюдает за ними; они ведут себя прилично, хлопают изо всех сил. Красное знамя выносят на сцену; вот оно уже в руках Фунтикова. Великолепное бархатное знамя, жаль, что нет ветра, нет бури, от которой затрепетало бы алое полотнище. Первое знамя, завоеванное Митей. Сквозь грохот аплодисментов он кричит Косте Назарову:
— Наша взяла!
А на Ваню Тихонова смотрит с умилением, благодарностью и жалостью. Какая-то путаница противоречивых мыслей проносится у него в голове. «Милые, славные фрезеровщики, хорошие ребята, как же они теперь будут без знамени!»

Фунтиков сжимал древко знамени так крепко, что побелел кулак. Он уже успел пошептаться с Ворончуком, что завтра же надо собрать комсомольское собрание: решим, куда поставить знамя, и, главное, предупредим ребят, что завоевать — это еще полдела, важно не выпустить его из рук. Теперь можно с легкой душой ехать домой, в Отрадное. Эх, сфотографироваться бы так и привезти матери карточку!..
Мать Кости Назарова сказала сидевшей рядом женщине, что ее сын учится в шестой группе. Он рисовал все картины в вестибюле, он оформляет стенгазеты училища. Какое это счастье — иметь хорошего сына! Что бы ему такое завтра подарить?
Фрезеровщик Коля Белых аплодировал, подавляя в себе досаду. Ладно. Хорошо же. На этот раз ваша взяла. Важно-то ведь, кто завоюет знамя во втором году обучения. Померяемся силами на заводе. Он уже было совсем успокоился, но вдруг луч света упал на знамя, находящееся в чужих руках. У Коли Белых защемило сердце, и он стал хлопать еще сильнее, чтобы заглушить боль.
Смотрел на ребят замполит. Много раз он бывал на таких вечерах, но от этого не притупились его ощущения. И вот о чем думал Василий Яковлевич, аплодируя старосте шестой группы:
…Сотни поездов прибывают каждый день в Москву, Ленинград, Киев, Тбилиси, Свердловск. Из бесплацкартных вагонов выходят парнишки с сундучками в руках. Они идут с толпой до привокзальной площади, здесь замирают на какой-то срок от вида большого города и затем сразу начинают действовать.
У них нет на руках ни рекомендательных писем, ни адресов родичей и земляков, ни больших денег. Метрика, свидетельство об окончании шести-семи классов, справка из колхоза, что такой-то и такой-то отпущен в город на учебу, — вот всё, что зашито, по совету матери, в пояс штанов или в нагрудный карман куртки.
Деревенскому хлопцу четырнадцать-пятнадцать лет. Иной не выезжал из своей деревни дальше районного центра. Оробел ли он, приехав в Москву, в Ленинград, в Киев?.. Конечно, ему не по себе от грохота, шума, высоченных домов, мелькания проносящихся машин, трамваев, троллейбусов.
Но это обычная робость человека, попавшего в непривычные условия. Хлопцу и в голову не придет, что он пропадет здесь, — куда же он, бедняга, денется, да кому же он, бедняга, нужен?..
Огромные щиты стоят на привокзальных площадях. Парнишка подхватывает свой сундучок и подходит к щиту. Стоит только бегло просмотреть то, что там написано, и ты сразу убеждаешься, что нужен в этом громадном городе: тебя ждали и ждут.
Наступает решающая минута в жизни пятнадцатилетнего хлопчика. Вот сейчас здесь, на вокзальной площади, определяется его судьба. Он стоит как богатырь на перекрестке. Но у него есть огромное преимущество перед сказочным богатырем: в какую бы сторону ни пошел он, его поджидает удача.
И расходятся от этого щита приезжие мальчики в разные стороны. Они еще и не догадываются, что все их пути сойдутся…
Кто, подумав, выбирает завод, о котором написано, что он обеспечивает общежитием. Кто долго и тщательно выискивает тот самый сельскохозяйственный техникум, который он облюбовал, будучи еще в шестом классе школы; кто ищет на доске адрес мореходного училища, и даже одно это романтическое название заставляет его сердце биться учащеннее. Но большинство ребят внимательнее всего читают и списывают адреса ремесленных училищ.
Было время, совсем недавно, разъезжали по периферийным городам и селам вербовщики трудовых резервов. После долгих уговоров, со слезами решались матери отправить своего сына или дочь в незнакомые места.
Разношерстная, шумная, иногда отчаянная толпа ребят расползалась по училищам. Нелегко было мастерам и преподавателям справиться с этим потоком. В одной и той же группе сидели великовозрастные, семнадцатилетние парни, с трудом запихивающие себя за парту — от них часто несло махоркой, — и рядом тринадцатилетние ребята.
Трудно было первые годы мастерам и преподавателям ремесленных училищ. Никаких традиций, никакого опыта. Два года обучения — это очень короткий срок, если за это время надо из тридцати неумелых подростков, иногда малограмотных, воспитать и выучить тридцать квалифицированных рабочих.
Бились, ошибались и побеждали мастера; воспитывал комсомол, превращая простых ребят в организованных, сознательных рабочих. Ученик настолько круто и за такой короткий срок менял свою биографию, что если бы удалось показать какому-нибудь выпускнику, каким он был два года назад, вероятно, тот не поверил бы и, возможно, обиделся.
Первые годы мастерами производственного обучения были в училищах пожилые люди, старые рабочие, добывшие свой седьмой-восьмой разряд многолетним трудом. Им принадлежит честь зачинателей этого славного и трудного дела. Они первые научились прививать зачастую бесшабашным ребятам любовь к умному труду; они развивали в подростках чувство ответственности перед своим государством.
И, пожалуй, лучшей наградой за их труд было то, что через пять-шесть лет в училище стали возвращаться их бывшие ученики мастерами производственного обучения.
Возник опыт, возникли традиции.
Сейчас уже нет никакой разверстки, никого не надо уговаривать, доказывать — слава молодых рабочих, воспитанников училищ, облетела всю страну. В биографии многих знаменитых людей есть слова: «Окончил ремесленное училище». Когда на заводе задумывают какое-нибудь новаторское дело, то проводниками его, исполнителями бывают в первую очередь недавние ремесленники…
Может быть, и не так подробно думал замполит, аплодируя шестой группе слесарей, но примерно эти мысли волновали его…
После передачи знамени директор прочел фамилии учеников, награжденных ценными подарками. Сменный мастер инструментального завода, Егор Иванович, торопливо записывал фамилии отличников, каждый раз делая большие глаза своему директору завода, сидящему в президиуме.
Ребята поднимались на сцену, и секретарь комитета вручала им подарки.
Когда директор назвал фамилию «Власов», Митя вздрогнул и, не рассчитав своего голоса, слишком громко выкрикнул: «Есть!» Витька Карпов изумленно посмотрел на него, но он уже ничего не видел и пробирался к сцене через весь зал. Он как будто нырнул в воду с открытыми глазами; было тихо, очертания людей были неточными, расплывчатыми…
Антонина Васильевна протянула Мите шахматы. Он взял их и прошептал: «Спасибо», а потом поклонился куда-то вбок, не то в зал, не то президиуму.
Вернуться на свое место ему уже не удалось, — он застрял между скамьями. Шахматы ходили по рукам, доска исчезала и появлялась.
Вышел на трибуну Василий Яковлевич и сказал короткую речь. Он сказал, что пять миллионов выпускников-ремесленников, которые получает Родина за пятилетку, это армия борцов за светлое будущее.
— Ваше ремесло — это не просто слесарное, токарное или фрезерное дело. Хорошие, квалифицированные мастера своего дела бывали и раньше, они есть и не только в Советском Союзе. Но нигде нет и никогда еще не было металлиста — строителя коммунизма; это высшая квалификация рабочего.
Он сказал, что еще в училище ребята должны держать равнение на эту почетную квалификацию, еще в училище надо проверять свои поступки этой мерой. Через две недели первый класс поедет домой на каникулы. Дома, попав в знакомую и любимую обстановку, они сами поймут, как изменились за этот год. Они не смогут сидеть сложа руки. Они будут вести себя в селе, в колхозе так, что люди скажут: «Да, к нам приехали настоящие помощники. Мы не зря отпускали их в училище, не зря государство тратит десятки миллионов на наших детей».
— А теперь я обращаюсь к вам, второклассники, к вам, будущие выпускники. Остались считанные дни до начала работы квалификационной комиссии. Вам будут присвоены разряды, вы получите направления на работу. Помните, что и от вас будут зависеть сроки строительства коммунизма. Кто плохо работает, кто не вкладывает в свое дело всю свою душу, тот срывает эти сроки, тот отдаляет коммунизм, отдаляет эпоху, за которую бились и погибали лучшие люди мира. Помните: где бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы должны быть умелыми строителями коммунистического общества.
Зал поднялся. Аплодировали своему будущему, оно ощущалось сейчас совсем рядом, вот тут, за дверью училища. В эту минуту и Митя Власов, и Сережа Бойков, и Коля Белых — все юноши чувствовали себя уже не первоклассниками, а людьми, от которых вся страна ожидает больших и славных дел.
И только самый маленький гость на этом празднике, Витя Карпов, казался себе еще меньше и незначительнее, чем он был на самом деле.
Но разве настоящий друг, когда он счастлив до краев, не становится щедрым, разве ему не хочется, чтобы его приятель был так же богат, как и он?
— Слушай, Витя, ты только на год от меня отстанешь, поступай к нам в училище, — честное слово, не пожалеешь!.. Хочешь, я тебя с замполитом познакомлю?
И во время антракта Митя водил приятеля повсюду за собой, представляя его всем подряд:
— Витя Карпов. Из Лебедяни. К нам поступает.
Но когда началась художественная часть, он забыл обо всем. Сначала он волновался, не зная, скоро ли выйдет на сцену Таня Созина. Потом беспокоился, не заметят ли ребята, что он чувствует, когда она танцует. Ах, какой это был танец! Внутри Мити тоненько дрожала какая-то струнка, ему даже казалось, что он слышит, как она дребезжит. Он не позволил себе хлопать, когда фея закончила танец. И был бесконечно благодарен Витьке за то, что тот хлопал изо всех сил.
После концерта художественной самодеятельности «общежитейские» ребята пошли провожать городских по домам.
Костя Назаров заранее предупредил мать, чтоб она его не ждала, — он придет попозже.
Мать перед уходом разыскала мастера Матвея Григорьевича, отвела его в сторону и сказала:
— За сына спасибо, Матвей Григорьевич. А за другое, сами знаете за что, простите.
В город пошли веселой гурьбой. Шли с легким сердцем, дружелюбные, возбужденные, готовые на шалость и на подвиг.
Погода, еще с утра «заказанная» Митей в метеорологическом бюро, была такой великолепной, что все корабли мира смело отошли б от причала в кругосветное плавание.
Маленьким хозяевам своей большой судьбы сейчас всё казалось возможным и доступным. И только хотелось, чтоб время бежало быстрее, чтоб будущий год наступил завтра.
Есть такое время года в каждом большом городе, когда вечерами по улицам шагают юноши и девушки в удивительном настроении — одинаковом у всех и разном у всех. Никакая весна с ее капелью и почками не может сравниться с этой порой. Эта пора — конец экзаменов.
Ты шагнул на одну ступеньку вверх. Тебе виднее, что впереди. На этом рубеже будущее становится твоим настоящим.
У них еще нет никаких дипломов и званий, орденов и знаков различий, постоянного адреса, но именно в эту пору шагают по улицам будущие ученные, новаторы, писатели и полководцы.
На берегу Москвы-реки ремесленники встретились со школьниками.
— Здоро́во! — крикнул школьник. — Как экзамены?
— Сдали. А вы?
— Понемножку. Токари?
— Строители, — ответил Митя, вспомнив слова замполита.
— Ну, счастливо, ремесло!
Митя улыбнулся, как взрослый улыбается маленькому, и сказал:
— Счастливо. А ремесло у нас с тобой одинаковое.

Оглавление
Первая глава
Вторая глава
Третья глава
Четвертая глава
Пятая глава
Шестая глава
Седьмая глава
Восьмая глава