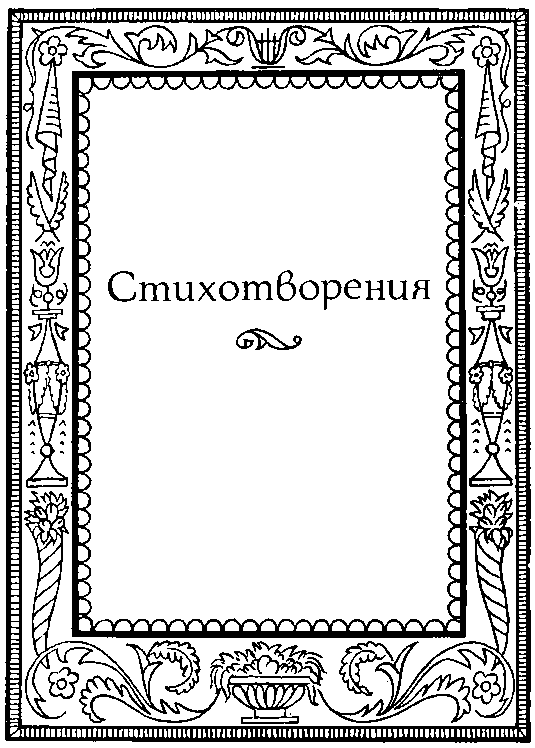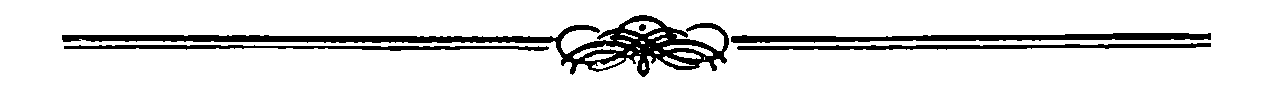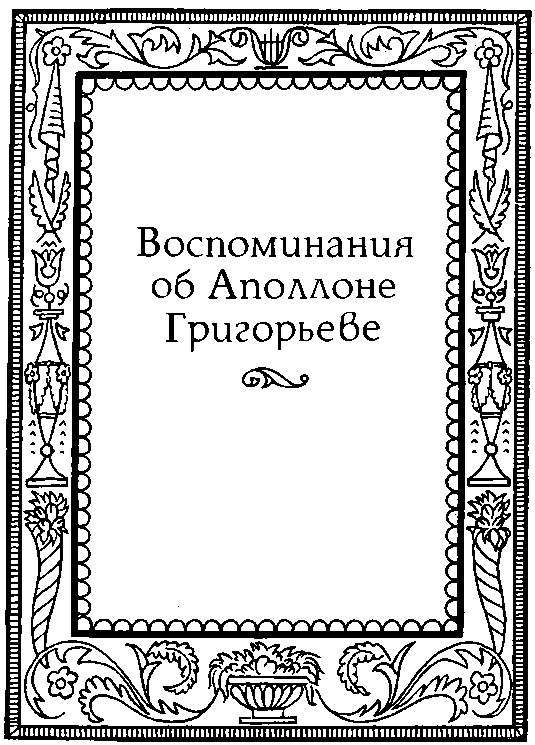Аполлон Григорьев
Одиссея последнего романтика{1}
Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз его был слышен лирный глас.
А. А. Палицын
«Послание к привете»


Поэмы
Стихотворения
Драма
Проза
Письма
Воспоминания об Аполлоне Григорьеве
Составление, вступительная статья и примечания
Л. Л. Осповата

К портрету Аполлона Григорьева
Личность Григорьева сформировалась на самом излете романтической эпохи, и он смолоду ощутил себя одиноким, несменяемым хранителем ее ценностей и обычаев.
Этому культурному статусу соответствовало «метеорское» (по его собственному слову) жизнеповедение, почти никогда не подчинявшееся общепринятым нормам и почти всегда непредсказуемое. Как бы со стороны разглядывая тот человеческий тип, который он представлял едва ли не в единственном числе, Григорьев высказался весьма откровенно: «Столь упорной воли с величайшей бесхарактерностью, горячей веры с безобразным цинизмом, искренних убеждений с отсутствием всяких прочных основ в жизни… право, я не умею иначе назвать, как хаосом моего последнего романтика»
[1]. По отзыву близкого к нему в начале 1860-х гг. Н. Н. Страхова, Григорьев «старался возводить свои мысли и чувства до идеальной глубины и чистоты; если же обрывался в этих усилиях, то прямо переходил в противоположную крайность и погружался в беспорядок жизни с каким-то сладострастием цинизма»
[2].
Следует, однако, уточнить: движение от «высокого» к «низкому» (как и возвратное) отнюдь не всегда было безостановочным. Григорьев опытным путем изучил состояние «хандры», подразумевавшее и обыкновенную апатию, и то, «что у хороших людей зовется угрызениями совести», и такое томление духа и души, которое в русской романтической традиции — вслед немецкой — именовалось Sensucht. Другое дело, что и этой тоской Григорьев, по выражению Достоевского, заболевал «весь, целиком,
всем человеком, если позволят так выразиться»
[3].
Столь интенсивное («во вся распашку») переживание жизни, сам склад его натуры, которой владели неуемные страсти, исключали всякую надежду на благоустройство дел — личных, бытовых, профессиональных. В глазах большинства современников Григорьев выглядел романтическим поэтом именно из-за своей непрактичности; когда он пускался в расчеты или рассуждал о выгодных занятиях, то походил на совершенного ребенка. «Неумелый человек одно только умел, — свидетельствовал Страхов, — следить за умственным и эстетическим движением нашим, чувствовать и понимать все явления в нашем мире искусства и мысли. Сюда были устремлены все силы его души; здесь была его радость и печаль, долг и гордость»
[4].
Кто слезы лить способен о великом,
Чье сердце жаждой истины полно,
В ком фанатизм способен на смиренье,
На том печать избранья иль служенья.
Впрочем, шагать в ногу с двумя-тремя единомышленниками он тоже не умел; постоянно выбивался из строя и гораздо больше дорожил «своими самодурными убеждениями»
[5], нежели единством тесного кружка. Незадолго до смерти он заспорил о чем-то со Страховым. «Может быть, ты, однако же, более прав», — заметил под конец Страхов. «Прав я или не прав, — перебил его Григорьев, — этого я не знаю; я — веяние»
[6].
Название этой книги принадлежит Григорьеву: некоторые его произведения, вышедшие на рубеже 1850—1860-х гг., имеют повторяющийся подзаголовок — «Из «Одиссеи о последнем романтике». Но, в сущности, свою «Одиссею» он безотрывно писал с тех самых пор, как взялся за перо; автобиографическое начало доминирует в его поэзии, прозе, публицистических статьях, не говоря уже о мемуаристике.
Собственно воспоминания Григорьева обрываются на «эпохе, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья». В 1838 г., шестнадцати лет, Григорьев поступил в Московский университет, который блестяще окончил в 1842 г. Университет предоставил ему необременительную службу, но вскоре, испытав глубокое потрясение (Антонина Корш, предмет его любви, предпочла К. Д. Кавелина), он буквально бежал из Москвы; намечен был дальний маршрут, однако Григорьев осел в Петербурге, где и вступил на литературное поприще.
Почти три года, проведенные им в столице, — «полоса жизни совершенно фантастическая»; он поочередно или даже одновременно увлекался самыми различными философскими системами и идейными течениями (включая шеллингианство, масонство, христианский социализм и многое другое), и у Блока, который в начале XX в. заново открыл эту фигуру для читательской аудитории, были резоны, чтобы заключить: «Григорьев петербургского периода, в сущности, лишь прозвище целой несогласной компании…»
[7] Отметим здесь повышенную интеллектуальную восприимчивость и такую же готовность ревизовать и осмеивать чуть ли не каждую доктрину — это признаки вырабатывающегося адогматизма Григорьева. Уже в середине 1840-х гг. он скептически оценивает славянофильство и западничество как замкнутые идеологические структуры, предполагавшие четкое разделение людей на «наших» и «не наших», а также канонизировавшие свои опорные постулаты, по отношению к которым (внутри соответствующей структуры) не допускалось ни сомнения, ни иронии. И недаром в «Кратком послужном списке…», составленном Григорьевым за три недели до кончины, под 1846 г. отмечено: «…городил в стихах и повестях ерундищу непроходимую. Но зато свою — не кружка»
[8].
Атмосферу тревожной взвинченности, которая окружала Григорьева в Петербурге, лучше всего передает его повествовательная и очерковая проза 1840-х гг. Внимание автора занимают преимущественно два человеческих типа. Это, во-первых, рефлектирующие индивидуалисты, «которые, слишком рано предавшись наслаждениям, теряют вкус ко всем»
[9], обрекая себя на двойной разлад — и с миром, и с собственной жизнью. Выводя подобных персонажей, Григорьев словно откликался на призыв глубоко чтимой им Ж. Санд «описать болезнь тех, кто жил» (одним из главных симптомов этого общеевропейского недуга, распространившегося в первую половину XIX в., являлась «ярость сил, которые стремились все постичь, всем обладать, но от которых все ускользает, даже воля…»
[10]). Второй тип, довольно полно обрисованный в григорьевской прозе, — демонические личности, которые порвали с будничной моралью, исповедуя тот вид романтического максимализма, что признает лишь высшую, «эксцентрическую», форму страсти («Истинно и сильно только то, что ничего не знает истиннее и сильнее себя; любовь, например, только тогда любовь, когда ее ничто не остановит…»
[11]) и санкционирует любую акцию, совершенную по ее внушению («Пусть я погублю ее — я ее люблю…»
[12]).
Эти типы соотносятся с двумя центральными темами в творчестве Григорьева 1840-х гг. — страдания и рока. Однако в прозе, наиболее отягощенной литературными штампами, сами понятия
страдание и
рок часто ограничены буквальными значениями. Истинное представление о смысловой вместимости этих понятий у Григорьева дают его лирика и стихотворная драма:
Нет! есть страдание без страха и смиренья,
Есть непреклонное величие борьбы,
С улыбкой гордою насмешки и презренья
На вопль душевных сил, на бранный зов судьбы…
Состязательные отношения между активным, «бесстрашным» страданием и роком («судьбой») — это и есть
борьба; такова внутренняя тема и название цикла, который стал вершинным достижением Григорьева-поэта.
Этот цикл был написан в Москве, куда Григорьев вернулся в самом начале 1847 г. «Начинается настоящая молодость, — вспоминал он позже, — с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами». Через полгода после возвращения на родину Григорьев женился на Лидии Корш (сестре Антонины), и первые годы их брака еще не предвещали того непоправимого семейного разлада, который для обоих обернулся жизненной трагедией. В 1850 г. Григорьев сблизился с кружком Островского и вошел в «молодую редакцию» «Москвитянина»: здесь «нашлись» все его «дотоле смутные верования» и в полной мере реализовалась «энергия деятельности» как критика и переводчика
[13]. «В эту же эпоху, — подчеркнул он в «Кратком послужном списке…», — писались известные стихотворения, во всяком случае, замечательные искренностью чувства»
[14]. Лирические произведения, впоследствии составившие цикл «Борьба», были навеяны новой несчастливой страстью: в начале 1850-х гг. Григорьев «до низости, до самоунижения»
[15] влюбился в Леониду Визард, дочь своего сослуживца по Московскому воспитательному дому.
Цикл «Борьба», который рассматривают как «метафорический аналог к жизни самого поэта»
[16], включает стихотворения, заметно отличающиеся друг от друга и стилевыми особенностями, и ритмико-интонационным рисунком. Но даже на фоне этой общей «незаглаженности» резко выделяются два образца романской лирики — «О, говори хоть ты со мной…» и «Цыганская венгерка». Григорьев достиг здесь редкого эмоционального эффекта, потому что, пройдя по тонкой грани, разделяющей поэзию и кабацкую декламацию, впервые озвучил тот безнадежный надрыв, который не имел в литературе права голоса:
Уж была б она моя,
Крепко бы любила…
Да лютая та змея,
Доля, — жизнь сгубила.
По рукам и по ногам
Спутала-связала,
По бессонныим ночам
Сердце иссосала!
В 1856 г. Л. Визард вышла замуж за начинающего драматурга М. Н. Владыкина, и около этого времени распалась «молодая редакция» «Москвитянина». Летом 1857 г. Григорьев отъехал за границу, а когда вернулся в Россию, то большей частью жил в Петербурге. Его последним сильным увлечением была М. Ф. Дубровская, в прошлом барышня легкого поведения, обладавшая очень тяжелым характером; этот изнурительный роман, длившийся почти до смерти Григорьева, отозвался в строфах, которые удержали мгновенно испаряющуюся естественность разговорной речи:
Хотя по-своему любила
Она меня, и верю я…
Ведь любит борова свинья,
Ведь жизнь во всё любовь вложила.
В поэме «Вверх по Волге», только что процитированной, лирический герой вспоминает женщину, в которую «везде влюблен», — свой «далекий, светлый призрак». К «далекому призраку» — Леониде Визард — обращено и последнее стихотворение Аполлона Григорьева, внезапно скончавшегося 25 сентября 1864 г.
Повторим: уже в 1840-е гг. Григорьеву не по пути ни с западниками, ни со славянофилами. Его мышление становилось, как он позднее выразился, «калейдоскопическим». Это означало, что на вооружение бралась любая мысль, исходившая из того или иного лагеря, если она была «живорожденная», то есть укорененная в жизненной эмпирии. В известном смысле идея отчуждалась от породившего ее контекста, вследствие чего представала в особом качестве: «А ведь мысль, не прикованная к теории, такой свободой своей ужасно много теряет в своей
силе, хотя, может быть, и много выигрывает в своей
правде» (курсив наш. —
А. О.).
В начале 1850-х гг., когда «молодая редакция» «Москвитянина» устанавливала руководящие принципы будущей деятельности, Григорьев предложил опираться только на инстинктивный демократизм и непосредственное чувство
[17]. За этим стояло убеждение, что все доктрины — как существующие, так и проектируемые — умозрительны, неадекватны реальным жизненным процессам. Через несколько лет, в статье «После «Грозы» Островского», он втолковывал широкой аудитории:
«Теории, как итоги, выведенные из прошедшего рассудком, правы только в отношении к прошедшему, на которое они, как на жизнь, опираются; а прошедшее есть всегда только труп <…> в котором анатомия доберется до всего, кроме души»
[18]. А в письме к М. П. Погодину от 7 марта 1858 г., в очередной раз признаваясь во «вражде к теории, к той самой теории, которая есть результат жизненного истощения» в мире, Григорьев наметил фундаментальную оппозицию:
«Теория и
жизнь, вот запад и восток в настоящую минуту»
[19].
Так закладывался фундамент почвенничества, которое объединило верования Григорьева и Достоевского (вместе с братом издававшего в начале 1860-х гг. журналы «Время» и «Эпоха»). Под влиянием Григорьева Достоевский, по словам Страхова, видел в почвенничестве «совершенно новое, особенное направление, соответствующее той новой жизни, которая видимо начиналась в России, и долженствующее упразднить или превзойти прежние партии западников или славянофилов»
[20]. Почвенники действительно ориентировались на саму жизнь в ее полноте и текучести (а на рубеже 1850—1860-х гг. очень остро ощущался слом традиционного уклада), и попытки опередить мыслью движение нации они считали бессмысленными, отражающими ничем не подкрепленные амбиции славянофилов и западников.
В манифестах почвенничества, написанных Достоевским, варьировалась мысль о необходимости «примирения цивилизации с народным началом», приобщения всех носителей образованности «к родной почве»
[21]; именно этот тезис своеобразно прокламировался Григорьевым еще в 1856 г.: «Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы народ». Данное высказывание и целый ряд ему аналогичных свидетельствуют, однако, о том, что в григорьевском понимании субстанция истинного почвенничества должна была бы раствориться без остатка во всем бытии русской нации, а его контуры — раздвинуться до бесконечности. Достоевский же хорошо понимал, что ни один журнал не мог существовать на такой основе; активно поддерживаемый (и, возможно, подталкиваемый) М. М. Достоевским и Страховым, он сужал «беспредельный» идеал, стремясь придать «Времени» и «Эпохе» сколько-нибудь определенное лицо. По ходу дела выяснилось также, что почвеннические издания, как и прочие печатные органы, учитывали весьма изменчивую конъюнктуру тех лет: заключались временные союзы с идейными противниками, допускались компромиссы, публиковались материалы, безразличные общему направлению.
Здесь и коренилась причина конфликта Григорьева с Достоевским: на взгляд «ненужного человека», его единомышленники подменяли поиск «абсолютной правды» кружковым и журнальным политиканством. «Да — я не деятель, Федор Михайлович! — восклицал Григорьев, — <…> я способен пить мертвую,
нищаться, но не написать в свою жизнь ни одной строки, в которую я бы не верил от искреннего сердца…» На эту тираду Достоевский — уже по смерти друга и оппонента — ответил не менее прямодушно: «Я полагаю, что Григорьев не мог бы ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. А если б у него был свой журнал, то он бы утопил его сам, месяцев через пять после основания»
[22].
Существенно, однако, что реальное содержание почвенничества отнюдь не исчерпывалось общественно-политическими декларациями, печатавшимися во «Времени» и «Эпохе». В пору кризиса славянофильства и западничества — двух
идеологических структур, противостояние которых определяло духовную атмосферу предшествующих десятилетий, — почвенничество выступило в качестве органа русской
культуры, осознавшей свою историческую роль в судьбе нации. Почвенники (Григорьев, а за ним Достоевский и Страхов) верили в возможность «примирения <…> всех наших теперешних, по-видимому столь враждебно раздвоившихся сочувствий»
[23] прежде всего потому, что в России это однажды уже осуществил творческий гений Пушкина. Именно такой смысл имеет самая известная и, к сожалению, немыслимо затрепанная формула Григорьева: «…Пушкин — наше всё»
[24]. «…Сочувствия старой русской жизни и стремления новой, — читаем дальше, — все вошло в его полную натуру <…> Когда мы говорим здесь о русской сущности, о русской душе, — мы разумеем не сущность народную допетровскую и не сущность послепетровскую, а органическую целость: мы верим в Русь, какова она есть <…> Пушкин-то и есть наша такая, на первый раз очерком, но полно и цельно обозначившаяся душевная физиономия…»
[25]
И поэтому, рисуя картину будущего, где «могучая односторонность исключительно народного» начала дополнится «сочетанием других, тревожных, пожалуй, бродячих, но столь же существенных элементов народного духа», Григорьев тем самым ставил перед русской литературой задачу восстановить
«царственное значение» — повторить пушкинский подвиг.
Л. Л. ОСПОВАТ

Поэмы
И был вам странен смысл его речей;
Но вполовину понятые речи
Вас увлекали странностью своей
И, всё одни, при каждой новой встрече
Бывали вам понятней и ясней…
Аполлон Григорьев
Аполлон Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности.
Константин Леонтьев


Олимпий Радин{2}
Рассказ
1
Тому прошло уж много лет,
Что вам хочу я рассказать,
И я уверен — многих нет,
Кого бы мог я испугать
Рассказом; если же из них
И есть хоть кто-нибудь в живых,
То, верно, ими всё давно
Забвению обречено.
И что до них? Передо мной
Иные образы встают…
И верю я: не упрекнут,
Что их неведомой судьбой,
Известной мне лишь одному,
Что их непризнанной борьбой
Вниманье ваше я займу…
2
Тому назад лет шесть иль пять,
Не меньше только, — но в Москве
Еще я жил… Вам нужно знать,
Что в старом городе я две
Отдельных жизни различать
Привык давно: лежит печать
Преданий дряхлых на одной,
Еще не скошенных досель…
О ней ни слова… Да и мне ль
Вам говорить о жизни той?
И восхищаться бородой,
Да вечный звон колоколов
Церквей различных сороков
Превозносить?.. Иные есть,
Кому охотно эту честь
Я уступить всегда готов;
Их голос важен и силен
{3}В известном случае, как звон
Торжественный колоколов…
Но жизнь иную знаю я
В Москве старинной…
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
3
Из всех людей, которых я
В московском обществе знавал,
Меня всех больше занимал
Олимпий Радин… Не был он
Умом начитанным умен,
И даже дерзко отвергал
Он много истин, может быть;
Но я привык тот резкий тон
Невольно как-то в нем любить;
Был смел и зол его язык,
И беспощадно он привык
Все вещи звать по именам,
Что очень часто страшно нам…
В душе ль своей, в душе ль чужой
Неумолимо подводить
Любил он под итог простой
Все мысли, речи и дела
И в этом пищу находить
Насмешке вечной, едко-злой,
Над разницей добра и зла…
В иных была б насмешка та
Однообразна и пуста,
Как жизнь без цели… Но на нем
Страданья гордого печать
Лежала резко — и молчать
Привык он о страданьи том…
В былые годы был ли он
Сомненьем мучим иль влюблен —
Не знал никто; да и желать
Вам в голову бы не пришло,
Узнав его, о том узнать,
Что для него давно прошло…
Так в жизнь он веру сохранил,
Так был он полон свежих сил,
Что было б глупо и смешно
В нем тайну пошлую искать,
И то, что им самим давно
Отринуто, разузнавать…
Быть может, он, как и другой,
До истин жизненных нагих,
Больной, мучительной борьбой,
Борьбою долгою достиг…
Но ей он не был утомлен,—
О нет! из битвы вышел он
И здрав, и горд, и невредим…
И не осталося за ним
Ни страха тайного пред тем,
Что разум отвергал совсем,
Ни даже нá волос любви
К прошедшим снам… В его крови
Еще пылал огонь страстей;
Еще просили страсти те
Не жизни старческой — в мечте
О жизни прошлых, юных дней,—
А новой пищи, новых мук
И счастья нового… Смешон
Ему казался вечный стон
О ранней старости вокруг,
Когда он сам способен был
От слов известных трепетать,
Когда в душе его и звук,
И шорох многое будил…
Он был женат… Его жена
Была легка, была стройна,
Умела ежедневный вздор
Умно и мило говорить,
Подчас, пожалуй, важный спор
Вопросом легким оживить,
Владела тактом принимать
Гостей и вечно наполнять
Гостиную и, может быть,
Умела даже и любить,
Что, впрочем, роскошь. Пол-Москвы
Была от ней без головы,
И говорили все о ней,
Что недоступней и верней
Ее — жены не отыскать,
Хотя, признаться вам сказать,
Как и для многих, для меня,
К несчастью, нежная жена —
Печальный образ… — Но она
Была богата… Радин в ней
Нашел блаженство наших дней,
Нашел свободу — то есть мог
Какой угодно вам порок
Иль недостаток не скрывать
И смело тем себя казать,
Чем был он точно…
4
Я ему Толпою целою друзей
Представлен был, как одному
Из замечательных людей
В московском обществе… Потом
Видался часто с ним в одном
Знакомом доме… Этот дом
Он постоянно посещал,
Я также… Долго разговор
У нас не ладился: то был
Или московский старый спор
{4}О Гегеле, иль просто вздор…
Но слушать я его любил,
Затем что спору никогда
Он важности не придавал,
Что равнодушно отвергал
Он то же самое всегда,
Что перед тем лишь защищал.
Так было долго… Стали мы
Друг другу руку подавать
При встрече где-нибудь, и звать
Меня он стал в конце зимы
На вечера к себе, чтоб там
О том же вздоре говорить,
Который был обоим нам
Смешон и скучен… Может быть,
Так шло бы вечно, если б сам
Он не предстал моим глазам
Совсем иным…
5
Тот дом, куда и он, и я
Езжали часто, позабыть
Мне трудно… Странная семья,
Семья, которую любить
Привыкла так душа моя —
Пусть это глупо и смешно, —
Что и теперь еще по ней
Подчас мне скучно, хоть равно,
Без исключений, — прошлых дней
Отринул память я давно…
То полурусская семья
Была
{5},— заметьте: это я
Вам говорю лишь потому,
Что, чисто-русский человек,
Я, как угодно вам, вовек
Не полюблю и не пойму
Семейно-бюргерских картин
Немецкой жизни, где один
Благоразумно-строгий чин
Владеет всем и где хранят
До наших пор еще, как клад,
Неоцененные черты
Печально-пошлой чистоты,
Бирсуп
{6} и нежность… Русский быт,
Увы! совсем не так глядит, —
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно
{7}, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного… О старине
Рассказов много знаю я,
И память верная моя
Тьму песен сохранила мне,
Однообразных и простых,
Но страшно грустных… Слышен в них
То голос воли удалой,
Всё злою долею женой,
Всё подколодною змеей
Опутанный, то плач о том,
Что тускло зимним вечерком
Горит лучина, — хоть не спать
Бедняжке ночь, и друга ждать,
И тешить старую любовь,
Что ту лучину залила
Лихая, старая свекровь…
О, верьте мне: невесела
Картина — русская семья…
Семья для нас всегда была
Лихая мачеха, не мать…
{8}Но будет скучно вам мои
Воззрения передавать
На русский быт… Мы лучше той
Не чисто русскою семьей
Займемся…
Вся она была
Из женщин. С матери начать
Я должен… Трудно мне сказать,
Лет сорок или сорок пять
Да и к чему? В душе моей
Хранятся так ее черты,
Как будто б тридцать было ей…
Такой свободной простоты
Была она всегда полна,
И так нежна, и так умна,
Что становилося при ней
Светлее как-то и теплей…
Она умела, видя вас,
Пожалуй, даже в первый раз,
С собой заставить говорить
О том, о чем не часто вам
С другим придется, может быть;
Насмешке ль едкой, иль мечтам
Безумно-пламенным внимать
С участьем равным; понимать
Оттенки все добра и зла
Так глубоко и так равно,
Как женщине одной дано…
Она жила… Она жила
Всей бесконечной полнотой
И мук, и счастья, — и покой
Печально-глупый не могла
Она от сердца полюбить…
Она жила, и жизни той
На ней на всей печать легла,
И ей, казалось, не забыть
Того, чего не воротить…
И тщетно опыт многих лет
Рассудка речи ей шептал
Холодные, и тщетно свет
Ее цепями оковал…
Вам слышен был в ее речах
Не раболепно-глупый страх
Пред тем, что всем уже смешно,
Но грустный ропот, но одно
Разуверенье в гордых снах…
И между тем была она
Когда-то верная жена
И мать примерная потом,
Пример всегда, пример во всем.
Но даже добродетель в ней
Так пошлости была чужда,
Так благородна, так проста,
Что в ней одной, и только в ней,
Была понятна чистота…
И как умела, боже мой!
Отпечатлеть она во всем
Свой мир особый, — и притом
Не быть хозяйкой записной,—
Не быть ни немкою, и речь
Вести о том, как дом беречь,
Ни русской барыней кричать
В огромной девичьей… О нет!
Она жила, она страдать
Еще могла, иль сохранять,
По крайней мере, лучших лет
Святую память… Но о ней
Пока довольно: дочерей,
Как я умею, описать
Теперь, мне кажется, пора…
Их было две, и то была
Природы странная игра:
Она, казалось, создала
Необходимо вместе их,
И нынче, думая о них,
Лишь вместе — иначе никак —
Себе могу представить их.
Их было две… И, верно, так
Уж было нужно… Создана
Была, казалося, одна
Быть вечной спутницей
{10} другой,
Как спутница земле луна…
И много общих черт с луной
Я в ней, особенно при той,
Бывало, часто находил,
Хоть от души ее любил…
Но та… Ее резец творца
Творил с любовью без конца,
Так глубоко и так полно,
И вместе скупо, что одно
Дыханье сильное могло
Ее разбить… Всегда больна,
Всегда таинственно-странна,
Она влекла к себе сильней
Болезнью странною своей…
И я так искренно любил
Капризы вечные у ней —
Затем ли, что каприз мне мил
Всегда, во всем — и я привык
Так много добрых, мало злых
Встречать на свете, — или жаль
Цветка больного было мне,
Не знаю, право; да и льзя ль,
И даже точно ли дано
Нам чувство каждое вполне
Анализировать?.. Одно
Я знаю: с тайною тоской
Глядел я часто на больной,
Прозрачный цвет ее лица…
И долго, долго без конца,
Тонул мой взгляд в ее очах,
То чудно ярких, будто в них
Огонь зажегся, то больных,
Полупогасших… Странный страх
Сжимал мне сердце за нее,
И над душой моей печаль
Витала долго, — и ее
Мне было долго, долго жаль…
Она страдать была должна,
Страдать глубоко, — не одна
Ей ночь изведана без сна
Была, казалось; я готов
За это был бы отвечать,
Хоть никогда б не отыскать
Вам слез в очах ее следов…
Горда для слез, горда и зла,
Она лишь мучиться могла
И мучить, может быть, других,
Но не просить участья их…
Однако знал я: до зари
Сидели часто две сестры,
Обнявшись, молча, и одна
Молиться, плакать о другой
Была, казалось, создана…
Так плачет кроткая луна
Лучами по земле больной…
Но сухи были очи той,
Слова молитв ее язык
Произносить уже отвык…
Она страдала: много снов
Она рассеяла во прах
И много сбросила оков,
И ропот на ее устах
Мне не был новостью, хотя
Была она почти дитя,
Хоть часто был я изумлен
Вопросом тихим и простым
О том, что детям лишь одним
Ново; тем более, что он
Так неожиданно всегда
Мелькал среди ее речей,
Так полных жизнию страстей…
И вдвое, кажется, тогда
Мне становилося грустней…
Ее иную помню я,
Беспечно-тихое дитя,
Прозрачно-легкую, как тень,
С улыбкой светлой на устах,
С лазурью чистою в очах,
Веселую, как яркий день,
И юную, как детский сон…
Тот сон рассеян… Кто же он,
Который первый разбудил
Борьбу враждебно-мрачных сил
В ее груди и вызвал их,
Рабов мятежных власти злой,
Из бездны тайной и немой,
Как бездна, тайных и немых!
6
Безумец!.. Знал или не знал,
Какие силы вызывал
Он на страданья и борьбу,—
Ho он, казалось, признавал
Слепую, строгую судьбу
И в счастье веровать не мог,
И над собою и над ней
Нависший страшно видел рок…
То был ли в нем слепых страстей
Неукротимый, бурный зов,
Иль шел по воле он чужой —
Не знаю: верить я готов
Скорей в последнее, и мной
Невольный страх овладевал,
Когда я вместе их видал…
Мне не забыть тех вечеров,
Осенних, долгих… Помню я,
Как собиралась вся семья
В свой тесный, искренний кружок,
И лишь она, одна она,
Грозой оторванный листок
{11},
Вдали садилась. Предана
Влиянью силы роковой,
Всегда в себя погружена,
И, пробуждался порой
Лишь для того, чтоб отвечать
На дважды сделанный вопрос,
И с гордой грустию молчать,
Когда другому удалось
Ее расстройство увидать…
Являлся он… Да! в нем была —
Я в это верю — сила зла:
Она одна его речам,
Однообразным и пустым,
Давала власть. Побывши с ним
Лишь вечер, грустно было вам,
Надолго грустно, хоть была
Непринужденно-весела
И речь его, хоть не был он
«Разочарован и влюблен»…
Да! обаянием влекло
К нему невольно… Странно шло
К нему, что было бы в другом
Одной болезнью иль одним
Печально-пошлым хвастовством,
И взором долгим и больным,
И испытующим она
В него впивалась, и видна
Во взгляде робость том была:
Казалось, трудно было ей
Поверить в обаянье зла,
Когда неумолим, как змей,
Который силу глаз своих
Чутьем неведомым постиг,
Смотрел он прямо в очи ей…
7
А было время… Предо мной
Рисует память старый сад,
Аллею лип… И говорят
Таинственно между собой,
Качая старой головой,
Деревья, шепчутся цветы,
И, озаренные луной,
Огнями светятся листы
Аллеи темной, и кругом
Прозрачно-светлым, юным сном
Волшебным дышит всё… Они
Идут вдали от всех одни
Рука с рукой
{12}, и говорят
Друг с другом тихо, как цветы…
И светел он, и кротко взгляд
Его сияет, и возврат
Первоначальной чистоты
Ему возможен… С ней одной
Хотел бы он рука с рукой,
Как равный с равною, идти
К высокой цели… В ней найти,
Лишь в ней одной найти он мог
Ту половину нас самих,
Какую с нами создал бог
Неразделимо. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
8
То был лишь сон один… Иных,
Совсем иных я видел их…
Я помню вечер… Говорил
Олимпий много, помню я,
О двух дорогах бытия,
О том, как в молодости был
Готов глубоко верить он
В одну из двух… и потому
Теперь лишь верит одному,
Что верить вообще смешно
{13},
Что глупо истины искать,
Что нужно счастье, что страдать
Отвыкнуть он желал давно,
Что даже думать и желать —
Напрасный труд и что придет
Для человечества пора,
Когда с очей его спадет
Безумной гордости кора,
Когда вполне оно поймет,
Как можно славно есть и пить
И как неистинно любить…
С насмешкой злобною потом
Распространялся он о том,
Как в новом мире все равны
{14},
Как все спокойны будут в нем,
Как будут каждому даны
Все средства страсти развивать,
Не умерщвляя, и к тому ж
Свободно их употреблять
На обрабатыванье груш.
Поникнув грустно головой,
Безмолвно слушала она
Его с покорностью немой,
Как будто власти роковой
И неизбежной предана…
Что было ей добро и зло?
На нем, на ней давно легло
Проклятие; обоим им
Одни знакомы были сны,
И оба мучились по ним,
Еще в живых осуждены…
Друг другу никогда они
Не говорили ни о чем,
Что их обоих в оны дни
Сжигало медленным огнем, —
Обыкновенный разговор
Меж ними был всегда: ни взор,
Ни голос трепетный порой
Не обличили их…
Лишь раз
Себе Олимпий изменил,
И то, быть может, в этот час
Он слишком искренно любил…
То было вечером… Темно
В гостиной было, хоть в окно
Гляделся месяц; тускло он
И бледно-матово сиял.
Она была за пьяно; он
Рассеянно перебирал
На пьяно ноты — и стоял,
Облокотяся, перед ней,
И в глубине ее очей
С невольной, тайною тоской
Тонул глазами; без речей
Понятен был тот взгляд простой:
Любви так много было в нем,
Печали много; может быть,
Воспоминания о том,
Чего вовек не возвратить…
Молчали тягостно они,
Молчали долго; начала
Она, и речь ее была
Тиха младенчески, как в дни
Иные… В этот миг пред ним
Былая Лина ожила,
С вопросом детским и простым
И с недоверием ко злу…
И он забылся, верить вновь
Готовый в счастье и любовь
Хоть на минуту… На полу
Узоры странные луна Чертила…
Снова жизнью сна,
Хотя больного сна, кругом
Дышало всё… Увы! потом,
К страданью снова возвращен,
Он снова проклял светлый сон…
9
Его проклясть, но не забыть
Он мог — хоть гордо затаить
Умел страдание в груди…
Казалось, с ним уже всему
Былому он сказал прости,
Чему так верил он, чему
Надеялся не верить он
И что давно со всех сторон
Рассудком бедным осудил…
Я помню раз, в конце зимы,
С ним долго засиделись мы
У них; уж час четвертый был
За полночь; вместе мы взялись
За шляпы, вместе поднялись
И вышли… Вьюга нам в глаза
Кидалась… Ветер грустно выл,
И мутно-темны небеса
Над нами были… Я забыл,
С чего мы начали, садясь
На сани: разговора связь
Не сохранила память мне…
И даже вспомнить мне о нем,
Как о больном и смутном сне,
Невольно тяжко; об одном
Я помню ясно: говорил
К чему-то Радин о годах
Иных, далеких, о мечтах,
Которым сбыться не дано
И от которых он не мог —
Хоть самому ему смешно —
Отвыкнуть… Неизбежный рок
Лежал на нем, иль виноват
Был в этом сам он, но возврат
Не для него назначен был…
Он неизменно сохранил
Насмешливый, холодный взгляд
В тот день, когда была она
Судьбой навек осуждена…
10
Ее я вижу пред собой…
Как ветром сломанный цветок,
Поникнув грустно головой,
Она стояла под венцом…
И я… Молиться я не мог
{15}В тот страшный час, хоть все кругом
Спокойны были, хоть она
Была цветами убрана…
Или в грядущее проник
Тогда мой взгляд — и предо мной
Тогда предведеньем возник,
Как страшный сон, обряд иной —
Не знаю, — я давно отвык
Себе в предчувствиях отчет
Давать, но ровно через год,
В конце другой зимы, на ней
Я увидал опять цветы…
Мне живо бледные черты
Приходят в память, где страстей
Страданье сгладило следы
И на которых наложил
Печать таинственный покой…
О, тот покой понятен был
Душе моей, — печать иной,
Загробной жизни; победил,
Казалось, он, святой покой,
Влиянье силы роковой
И в отстрадавшихся чертах
Сиял в блистающих лучах…
11
Что сталось с ним? Бежал ли он
Куда под новый небосклон
Забвенья нового искать
Или остался доживать
Свой век на месте? — Мудрено
И невозможно мне сказать;
Мы не встречались с ним давно
И даже встретимся едва ль…
Иная жизнь, иная даль,
Необозримая, очам
Моим раскинулась… И свет
В той дали блещет мне, и там
Нам, вероятно, встречи нет…
1845
Es ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu[26]
1
Опять они, два призрака опять…
Старинные знакомцы: посещать
Меня в минуты скорби им дано,
Когда в душе и глухо, и темно,
Когда вопрос печальный не один
На дно ее тяжелым камнем пал
И вновь со дна затихшую подъял
Змею страданий… Длинный ряд картин
Печальною и быстрой чередой
Тогда опять проходит предо мной…
То — образы давно прошедших лет,
То — сны надежд, то — страсти жаркий бред,
То радости, которых тщетно жаль,
То старая и сладкая печаль,
То всё — чему в душе забвенья нет!
И стыдно мне, и больно, и смешно,
Но стонов я не в силах удержать
И к призракам, исчезнувшим давно,
Готов я руки жадно простирать,
Ловить их тщетно в воздухе пустом
И звать с рыданьем…
2
Вот он снова — дом
Архитектуры легкой и простой,
С колоннами, с балконом — и кругом
Раскинулся заглохший сад густой.
Луна и ночь… Всё спит; одно окно
В старинный сад свечой озарено,
И в нем — как сон, как тень, мелькнет подчас
Малютка ручка, пара ярких глаз
И детский профиль… Да! не спит она,—
Взгляните — вот, вполне она видна —
Светла, легка, младенчески чиста,
Полуодета… В знаменье креста
Сложились ручки бледные!.. Она
В молитве вся душой погружена…
И где ей знать, и для чего ей знать,
Что чей-то взгляд к окну ее приник,
Что чьей-то груди тяжело дышать,
Что чье-то сердце мукою полно…
Зачем ей знать? Задернулось окно
Гардиною, свеча погашена…
Немая ночь, повсюду тишина…
3
Но вот опять виденье предо мной…
Дом освещен, и в зале небольшой
Теснятся люди; мирный круг своих
Свободно-весел… Ланнера
{17} живой
Мотив несется издали, то тих,
Как шепот страсти, то безумья полн
И ропота, как шумный говор волн,
И вновь она, воздушна и проста,
Мелькает легкой тенью меж гостей,
Так хороша, беспечна так… На ней
Лишь белизной блестит одной убор…
Ей весело. Но снова чей-то взор
С болезненным безумием прильнул
К ее очам — и словно потонул
В ее очах: молящий и больной,
За ней следит он с грустию немой…
4
И снова ночь, но эта ночь темна.
И снова дом — но мрачен старый дом
Со ставнями у окон: тишина
Уже давным-давно легла на нем.
Лишь комната печальная одна
Лампадою едва озарена…
И он сидит, склонившись над столом,
Ребенок бледный, грустный и больной…
На нем тоска с младенчества легла,
Его душа, не живши, отжила,
Его уста улыбкой сжаты злой…
И тускло светит страшно впалый взор,—
Печать проклятья, рока приговор
Лежит на нем… Он вживе осужден,
Зане и смел, и неспособен он
Ценой свободы счастье покупать,
Зане он горд способностью страдать.
5
Старинный сад… Вечернею росой
Облитый весь… Далекий небосклон…
Как будто чаша, розовой чертой,
Зари сияньем ярко обведен.
Отец любви!.. В священный ночи час
Твой вечный зов яснее слышен в нас.
Твоим святым наитием полна,
Так хороша, так девственна она,
Так трепетно рука ее дрожит
В чужой руке — и робко так глядит
Во влаге страсти потонувший взгляд…
Они идут и тихо говорят.
О чем? Бог весть… Но чудно просветлен
Зарей любви, и чист, и весел…
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
6
Опять толпа… Огнями блещет зал,
Огромный и высокий: светский бал
Веселостью натянутой кипит,
И масок визг с мотивом вальса слит.
Всё тот же Ланнер страстный и живой,
Всё так же глуп, бессмыслен шум людской,
И средь людей — детей или рабов
Встречает он, по-прежнему суров,
По-прежнему святым страданьем горд —
Но равнодушен, холоден и тверд.
И перед ним — она, опять она!
И пусть теперь она осквернена
Прикосновеньем уст и рук чужих,—
Она — его, и кто ж разрознит их?
Не свет ли? Не законы ли людей?..
Но что им в них? — Свободным нет цепей…
Но этот робкий, этот страстный взгляд,
Ребячески-пугливый, целый ад
В его груди измученной зажег.
О нет, о нет! не люди — гневный бог
Их разделил… Обоим дико им
Среди людей встречаться, как чужим,
Но суд небес над ними совершен,
И холоден взаимный их поклон,
Едва заметный, робкий.
7
И опять
Видение исчезло, чтобы дать
Иному место. Комната: она
Невелика, но пышно убрана
Причудливыми прихотями мод…
В замерзшее окно глядит луна,
И тихо всё, ни голоса… но вот
Послышался тяжелый чей-то вздох.
Опять они… и он у милых ног,
С безумством страсти в очи смотрит ей…
Она молчит, от головы своей
Не отрывает бледных, сжатых рук.
Он взял одну… он пламенно приник
Устами к той руке — но столько мук
В ее очах: больной их взгляд проник
Палящим, пожирающим огнем
В его давно истерзанную грудь…
Он тихо встал и два шага потом
К дверям он сделал… он хотел вздохнуть,
И зарыдал, как женщина… и стон,
Ужасный стон в ответ услышал он.
И вновь упал в забвении у ног…
И долго слов никто из них не мог
На языке найти — и что слова?
Она рыдала… на руки опять
Горячая склонилась голова…
Она молчала… он не мог сказать
Ни слова… Даль грядущего ясна
Была обоим и равно полна
Вражды, страданья, тайных, жгучих слез,
Ночей бессонных… Смертный приговор
Давно прочтен над ними, и укор
Себе иль небу был бы им смешон…
Она страдала, был он осужден.
8
Исчезли тени… В комнате моей
По-прежнему и пусто, и темно,
Но мысль о нем, но скорбь и грусть о ней
Мне давят грудь… Мне стыдно и смешно,
А к призракам давно минувших дней
Готов я руки жадно простирать
И, как ребенок, плакать и рыдать…
28 января 1846
Предсмертная исповедь{18}
And lives as saints have died — a martyr.
Byron[27].
1
Он умирал один, как жил,
Спокойно горд в последний час;
И только двое было нас,
Когда он в вечность отходил.
Он смерти ждал уже давно;
Хоть умереть и не искал,
Он всё спокойно отстрадал,
Что было отстрадать дано.
И жизнь любил, но разлюбил
С тех пор, как начал понимать,
Что всё, что в жизни мог он взять,
Давно, хоть с горем, получил.
И смерти ждал, но верил в рок,
В определенный жизни срок,
В задачу участи земной,
В связь тела бренного с душой
Неразделимо; в то, что он
Не вовсе даром в мир рожден;
Что жизнь — всегда он думал так —
С известной целью нам дана,
Хоть цель подчас и не видна,—
Покойник страшный был чудак!
2
Он умирал… глубокий взгляд
Тускнел заметно; голова
Клонилась долу, час иль два
Ему еще осталось жить,
Однако мог он говорить.
И говорить хотел со мной
Не для того, чтоб передать
Кому поклон или привет
На стороне своей родной,
Не для того, чтоб завещать
Для мира истину, — о нет!
Для новых истин слишком он
Себе на горе был умен!
Хотел он просто облегчить
Прошедшим сдавленную грудь
И тайный ропот свой излить
Пред смертью хоть кому-нибудь;
Он также думал, может быть,
Что, с жизнью кончивши расчет,
Спокойней, крепче он уснет.
3
И, умирая, был одним,
Лишь тем одним доволен он,
Что смертный час его ничьим
Участьем глупым не смущен;
Что в этот лучший жизни час
Не слышит он казенных фраз,
Ни плача пошлого о том,
Что мы не триста лет живем,
И что закрыть с рыданьем глаз
На свете некому ему.
О да! не всякому из нас
Придется в вечность одному
Достойно, тихо перейти;
Не говорю уже о том,
Что трудно в наши дни найти,
Чтоб с гордо поднятым челом
В беседе мудрой и святой,
В кругу бестрепетных друзей,
Среди свободных и мужей,
С высоким словом на устах
Навек замолкнуть иль о той
Желанной смерти, на руках
Души избранницы одной,
Чтобы в лобзании немом,
В минуте вечности — забыть
О преходящем и земном
И в жизни вечность ощутить
{19}.
4
Он умирал… Алел восток,
Заря горела… ветерок
Весенней свежестью дышал
В полуоткрытое окно,—
Лампады свет то угасал,
То ярко вспыхивал; темно
И тихо было всё кругом…
Я говорил, что при больном
Был я один… Я с ним давно,
Почти что с детства, был знаком.
Когда он к невским берегам
Приехал после многих лет
И многих странствий по пескам
Пустынь арабских, по странам.
Где он — о, суета сует! —
Целенье думал обрести
И в волнах Гангеса святых
Родник живительный найти
И где под сенью пальм густых
Набобов видел он одних,
Да утесненных и рабов,
Да жадных к прибыли купцов.
Когда, приехавши больной,
Измученный и всем чужой
В Петрополе, откуда сам,
Гонимый вечною хандрой,
Бежал лет за пять, заболел
Недугом смертным, — я жалел
О нем глубоко: было нам
Обще с ним многое; судить
Я за хандру его не смел,
Хоть сам устал уже хандрить.
5
Его жалел я… одинок
И болен был он; говорят,
Что в этом сам он виноват…
Судить не мне, не я упрек
Произнесу; но я слыхал,
Бывало, часто от него,
Что дружелюбней ничего
Он стад бараньих не видал.
«Львы не стадятся», — говорил,
Бывало, часто он, когда
И горд, и смел, и волен был;
Но если горд он был тогда,
За эту гордость заплатил
Он, право, дорого: тоской
Тяжелой, душной; он родных
Забыл давно уже; друзей,
Хоть прежде много было их,
Печальной гордостью своей
И едкой злостию речей
Против себя вооружил.
И точно, в нем была странна
Такая гордость: сатана
Его гордее быть не мог.
Он всех так нагло презирал
И так презрительно молчал
На каждый дружеский упрек,
Что только гений или власть
Его могли бы оправдать…
А между тем ему на часть
Судьба благоволила дать
Удел и скромный, и простой.
Зато, когда бы мог прожить
Спокойно он, как и другой,
И с пользой даже, может быть,
Он жил, томясь тоскою злой,
И, словно чумный, осужден
Был к одинокой смерти он.
6
Но я жалел о нем… Не раз,
Когда, бездействием томясь,
В иные дни он проклинал
Себя и рок, напоминал
Ему о жизни я былой
И память радостных надежд
Будил в душе его больной,
И часто, не смыкая вежд,
Мы с ним сидели до утра
И говорили, и пора
Волшебной юности для нас,
Казалось, оживала вновь
И наполняла, хоть на час,
Нам сердце старая любовь
Да радость прежняя… Опять
Переживался ряд годов
Беспечных, счастливых; светлей
Нам становилось: из гробов
Вставало множество теней
Знакомых, милых… Он рыдал
Тогда, как женщина, и звал
Невозвратимое назад;
И я любил его, как брат,
За эти слезы, умолял
Его забыть безумный бред
И жить, как все, но мне в ответ
Он улыбался — этой злой
Улыбкой вечною, змеей
По тонким вившейся устам…
Улыбка та была страшна,
Но обаятельна: она
Противоречила слезам,
И, между тем, я даже сам
Тогда смеяться был готов
Своим словам: благодаря
Змее-улыбке смысл тех слов
Казался взят из букваря.
Так было прежде, и таков
Он был до смерти; вечно тверд,
Он умер зол, насмешлив, горд.
7
Он долго тяжело дышал
И бледный лоб рукой сжимал,
Как бы борясь в последний раз
С земными муками; потом,
Оборотясь ко мне лицом,
Сказал мне тихо: «Смертный час
Уж близок… правда или нет,
Но в миг последний, говорят,
Нас озаряет правды свет
И тайна жизни нам ясна
Становится — увы! навряд!
Но — может быть! Пока темна
Мне жизнь, как прежде». И опять
Он стал прерывисто дышать,
И ослабевшей головой
Склонился… Несколько минут
Молчал и, вновь борясь с мечтой,
Он по челу провел рукой.
«Вот наконец они заснут —
Изочтены им были дни —
Они заснут… но навсегда ль?» —
Сказал он тихо. — «Кто они?» —
С недоуменьем я спросил.
«Кто? — отвечал он. — Силы! Жаль
Погибших даром мощных сил.
Но точно ль даром? Неужель
Одна лишь видимая цель
Назначена для этих сил?
О нет! я слишком много жил,
Чтоб даром жить. Отец любви,
Огня-зиждителя струю,
Струю священную твою
Я чувствовал в своей крови,
Страдал я, мыслил и любил —
Довольно… я недаром жил».
Замолк он вновь; но для того,
Чтоб в памяти полней собрать
Пути земного своего
Воспоминанья, он отдать
Хотел отчет себе во всем,
Что в жизни он успел прожить,
И, приподнявшися потом,
Стал тихо, твердо говорить.
Я слушал… В памяти моей
Доселе исповедь жива;
Мне часто в тишине ночей
Звучат, как медь, его слова.
8
«Еще от детства, — начал он,—
Судьбою был я обречен
Страдать безвыходной тоской,
Тоской по участи иной,
И с верой пламенною звать
С небес на землю благодать.
И рано с мыслью свыкся я,
Что мы другого бытия
Глубоко падшие сыны.
Я замечал, что наши сны
Полней, свободней и светлей
Явлений бедных жизни сей;
Что нечто сдавленное в нас
Наружу просится подчас
И рвется жадно на простор;
Что звезд небесных вечный хор
К себе нас родственно зовет;
Что в нас окованное ждет
Минуты цепи разорвать,
Чтоб целый новый мир создать,
И что, пока еще оно
В темнице тела пленено,
Оно мечтой одной живет;
И, чуть лишь враг его заснет,
В самом себе начнет творить
Миры, в которых было б жить
Ему не тесно… То мечта
Была пустая или нет,
Мне скоро вечность даст ответ.
Но, правда то или мечта,
Причина грез моих проста:
Я слишком гордым создан был,
Я слишком высоко ценил
В себе частицу божества,
Ее священные права,
Ее свободу; а она
Давно, от века попрана,
И человек, с тех пор как он,
Змеей лукавой увлечен
{20},
Добро и зло равно познал,
От знанья счастье потерял.
9
Я сам так долго был готов
Той гордости иных основ
Искать в себе и над толпой
Стоять высоко головой,
И думал гения залог
Носить в груди, и долго мог
Себя той мыслью утешать,
Что на челе моем печать
Призванья нового лежит,
Что, рано ль, поздно ль, предлежит
Мне в жизни много совершить
И что тогда-то, может быть,
Вполне оправдан буду я;
Потом, когда душа моя
Устала откровений ждать,
Призванья нового, мечтать
И грезить стал я как дитя
О лучшей участи, хотя
Не о звездах, не о мирах,
Но о таких же чудесах:
О том, что по природе я
К иным размерам бытия
Земного предназначен был,
Что гордо голову носил
Недаром я и что придет
Пора, быть может, мне пошлет
Судьба богатство или власть.
Увы, увы! так страшно пасть
Давно изволил род людской,
Что не гордится он прямой
Единой честию своей,
Что он забыл совсем о ней,
И что потеряно навек
Святое слово — человек.
10
Да — этой гордостью одной
Страдал я… Слабый и больной,
Ее я свято сохранил,
И головы не преклонил
Ни перед чем: печален, пуст
Мой бедный путь, но ложью уст
Я никогда не осквернил,
Еговы имени не стер
Я чуждым именем с чела;
И пусть на мне лежит укор,
Что жизнь моя пуста была.
Я сохранил, как иудей,
Законы родины моей,
Я не служил богам иным,
Хотя б с намереньем благим,
Я жизни тяжесть долго нес,
Я пролил много жгучих слез,
Теряя то, чем мог владеть,
Когда б хотел преодолеть
Вражду к кумирам или лгать
Себе и людям; но страдать
Я предпочел, я верен был
Священной правде, и купил
Страданьем право проклинать…
Не рок, конечно, нет, ему
Я был покорен одному
И, зная твердо наперед,
Что там иль сям, наверно, ждет
Потеря новая, на зов
Идти смиренно был готов.
11
Я был один, один всегда,
Тогда ль, как в детские года
Подушку жарко обнимал
И ночи целые рыдал;
Тогда ль, как юношей потом,
Глухой и чуждый ко всему,
Что ни творилося кругом,
Стремился жадно к одному
И часто всем хотел сказать:
«О Марфа, Марфа! есть одно,
Что на потребу нам дано…
Пора благую часть избрать!
{21}»
Тогда ль, когда, больной и злой,
Как дикий волк, в толпе людской
Был отвергаем и гоним,
И эгоистом прозван злым,
И сам вражды исполнен был,
Вражды ко псам, вражды жида,
Зане я искренно любил;
Я был один, один всегда.
Увы! кто прав, кто виноват?
Другие, я ли? Но, как брат,
Других любил я, и прости
Мне гордость, боже, но вести
К свободе славы божьих чад
Хотел я многих… Сердце грусть
Стесняет мне при мысли той;
Любил я многих, молодой,
Святой любовью, да — и пусть
Я был непризнанный пророк,
Но не на мне падет упрек,
Когда досель никто из них
Нейдет дорогой божьих чад;
И пусть из уст безумцев злых
Вослед проклятья мне гремят
И обвиненья за разврат;
Я жил недаром!»
12
Смолкнул он
И вновь склонился, утомлен,
Отягощенной головой.
Молчал я… Грустно предо мной
Годов минувших длинный ряд,
Прожитых вместе, проходил,
И понял я, за что любил
Его я пламенно, как брат.
Да, снова всё передо мной
Былое ожило… и он,
Ребенок бледный и больной,
Судьбой на муки обречен,
Явился мне: предстал опять
Тогда души моей очам
Старинный, тесный, мрачный храм,
Куда он уходил рыдать,
Где в темноте, вдали, в углу,
Моленье жаркое лилось,
Где, распростертый на полу,
Он пролил много жгучих слез,
Где он со стоном умолял
Того, чей лик вдали сиял,
Ему хоть каплю веры дать
И где привык он ожидать
Явлений женщины одной…
Я видел снова пред собой
Патриархально-тихий дом
И мук семейных целый ряд,
Упреки матери больной,
Однообразных пыток ряд
И ряд печальных сцен порой…
Молчал я, голову склоня,
В раздумье тяжком, для меня
Он был оправдан… Тяжело
Вздохнул опять тогда больной,
И вновь горячее чело
Он обмахнул себе рукой.
13
«Но ты любил», — я начал речь,
Желая мысль его отвлечь
От слишком тяжких бытия
Вопросов к грезам юных лет,
С которыми, как думал я,
Покинуть веселее свет.
«Любил ты, кажется, не раз?» —
Я продолжал; но он в ответ
Как будто грезил тихо: «Нас,—
Он говорил, — еще детей
Друг другу прочили, и с ней
Мы свыклись… Бедный ангел мой!
Теперь ты снова предо мной
Сияешь, девственно-чиста
И простодушна… Вот места,
Знакомые обоим нам,—
Пригорок, роща; там и сям
Еще не смолкли голоса
И стад мычанье, хоть роса
Ночная падает… горит
Зарею алой неба свод,
И скоро ярко заблестит
Звезд величавый хоровод;
И мы одни: привольно нам,
Как детям, под шатром небес,
И вместе странно… Близок лес,
Вечерний шепот по ветвям
Уж начался, и робко мне
Ты руку жмешь, и локон твой,
Твой длинный локон над щекой
Скользит моей; она в огне.
Не видишь ты, она горит,
По телу сладостно бежит
Досель неведомая дрожь…
Мы были дети, да и кто ж
Нас разлучал тогда? Росли
Мы вместе… бедный ангел мой,
Моей сестрой, моей женой
Тебя от детства нарекли
{22},
Чтобы с бесчувственностью злой
Обоим нам потом сказать:
«Прошла ребячества пора,—
Ведь это всё была игра;
Идите врозь теперь страдать».
14
И говорят, я сам виной,
Как и всего, потери той…
Не та беда, что одинок
Я в божьем мире брошен был,
Что слишком долог был бы срок,
Когда бы я соединил
Свою судьбу с ее судьбой…
И это правда, может быть;
Но свято гордости служить
Привык я, бедный ангел мой,
Любя тебя, тебе одной
Служа безумно… Ты могла
Любить того лишь, чье чело
Всегда подъято и светло.
Ты так горда, чиста была!
В тебе я сам же разбудил
Борьбу души мятежных сил,
Любовь к избранникам богов,
Презрение к толпе рабов.
О да! ты мною создана,
И ты со мной осуждена.
Меня, быть может, проклинать
В часы недуга ты могла;
Но ты не властна презирать
Того, чья жизнь всегда была
Неукротимою борьбой…
И чист, и светел образ мой
Среди вражды, среди клевет,
Быть может, пред одной тобой,
Мой бедный ангел лучших лет.
15
И помню: душно, тяжело
Обоим было нам; легло,
Казалось, что-то между нас.
Одни в гостиной, у окна
Мы были; но за нами глаз
Следил чужой; была больна,
Была, как тень, бледна она,
И лихорадки блеск больной
Сверкал в задумчивых очах…
Мне было тяжко; мне во прах
Упасть хотелось перед ней
И руку бледную прижать
К горячей голове моей
И, как дитя, пред ней рыдать.
Но странен был наш разговор.
В ее лице немой укор
Порой невольно мне мелькал…
Укор за то, что я не лгал
Перед другими, перед ней,
Пред гордой совестью своей;
Укор за то, что я любил,
Что я любимым быть хотел,
Всей полнотой душевных сил
Любимым быть, что, горд и смел,
Хотел пред ней всегда сиять,
Хотел бороться и страдать;
Но вечно выше быть судьбы
Среди страданий и борьбы…
Молчали грустно мы… Потом
Я говорить хотел о том,
Что нас разрознило; она
Безмолвно слушала — грустна,
Покорна, голову склоня;
И вдруг, поднявши на меня
Болезненно сверкавший взгляд,
Сказала тихо, что «навряд
Другие это всё поймут»,
Что «так на свете не живут»,
16
Я долго по свету бродил,
С тех пор как рок нас разделил;
Но, видно, так судил уж бог,—
Ее я позабыть не мог,
Не потому, чтобы одна
Была любима мной она,
Не потому, чтоб истощил
Избыток весь душевных сил
Я в страсти той; еще не раз
Любил я, может быть, сильней
И пламенней, но каждый час
Страданья с мыслию о ней
Сливался странно… Часто мне
Она являлася во сне,
Почти всегда в толпе чужих,
Почти всегда больна, робка,
С упреком на устах немых;
И безотрадная тоска
Меня терзала. Ты видал,
Что я, как женщина, рыдал
В часы иные… Или есть
Родство существ? Увы! бог весть!
Но знаю слишком я одно,
Что было бытие мое,
Назло рассудку, без нее
Отравлено и неполно.
Но будет… вновь меня тоска
Начнет терзать, а смерть близка.
В себе присутствие ее
Я начинаю ощущать…
Зачем земное бытие
В устах с проклятьем покидать?
Благословение всему,
Благословение уму,
За то что он благословлять
До смерти жизнь нам запретил.
Благословение судьбе,
Благословение борьбе,
Хотя бесплодной, наших сил!
Дай руку мне… открой окно,
Прекрасно… так! Еще темно,
Но загорелась неба твердь…
Туда, туда! Авось хоть смерть
С звездами нас соединит,
И к бездне света отлетит
Частица светлая моя..
Авось ее недаром я,
Как клад заветный, сохранил.
Но, так иль иначе, я жил!»
17
И с этим словом на устах
Замолк он: больше не слыхал
Ни звука я; в моих руках
Я руку хладную держал
И думал, что забылся он.
И точно, будто в тихий сон
Он погрузился… Ничего
В чертах измученных его
Не изменилось; так же зла
Улыбка вечная была,
И так же горд и грустен взгляд.
Мне было тяжко… Никогда
Лучу дневному не был рад
Я так от сердца, как тогда;
Вставало солнце, и в окно
Блеснуло, юное всегда,
Всегда прекрасное равно,
И озарило бедный прах,
Мечтавший так же, как оно,
Лучами вечными сиять,
И на измученных чертах
Еще не стертую печать,
Недавней мысли грустный след,
Всему насмешливый привет.
Февраль 1846
Посвящается А. Фету
Рассказ в стихах
1
Опять Москва, — опять былая
Мелькает жизнь передо мной,
Однообразная, пустая,
Но даже в пустоте самой
Хандры глубоко безотрадной
В себе таящая залог,—
Хандры, которой русский бог
{24}Души, до жизни слишком жадной,
Порывы дерзкие сковал,—
Зачем? Он лучше, верно, знал,
Предвидя гордую замашку
Жить чересчур уж нараспашку,
Перехвативши на лету
И пережив почти задаром,
Что братья старшие в поту
Чела, с терпением и жаром
Века трудились добывать,
. . . . . . . . . . . .
2
Одни верхушки, как известно,
Достались нам от стран чужих.
И что же делать? Стало тесно
Нам в гранях, ими отлитых.
Мы переходим эти грани,
Но не уставши, как они:
От их борьбы, от их страданий
Мы взяли следствия одни.
И русский ум понять не может,
Что их и мучит, и тревожит,
Чего им рушить слишком жаль…
Ему, стоящему на гранях,
С желаньем жизни, с мощью в дланях,
Ясней неведомая даль,
И видит он орлиным оком
В своем грядущем недалеком
Мету совсем иной борьбы —
3
Теперь же — зритель равнодушный
Паденья старых пирамид —
С зевотой праздною и скучной
На мир спросонья он глядит,
Как сидень Муромец, от скуки
Лежит да ждет, сложивши руки…
Зачем лежит? чего он ждет?
То знает бог… Он воззовет
К работе спящий дух народа,
Когда урочный час придет!
Недаром царственного рода
Скалы недвижней в нем оплот…
Недаром бдят неспящим оком
Над ним преемники Петра! —
Придет та славная пора,
Когда в их подвиге высоком
Заветы господа поймет
Избранный господом народ!
4
И пусть покамест он зевает,
В затылке роется подчас,
Хандрит, лениво протирает
Спросонья пару мутных глаз.
Так много сил под ленью праздной
Затаено, как клад, лежит,
И в той хандре однообразной
Залог грядущего сокрыт,
И в песни грустно-полусонной,
Ленивой, вялой, монотонной
Порыв размашисто-живой
Сверкает молнией порой.
То жажда лесу, вольной воли,
Размеров новых бытия —
Та песнь, о родина моя,
Предчувствие великой доли!..
Проснешься ты, — твой час пробьет,
Избранный господом народ!
5
С тебя спадут оковы лени,
Сонливость праздной пустоты;
Вождем племен и поколений
К высокой цели встанешь ты.
И просияет светом око,
Зане, кто зрак раба приял,
Тебя над царствами высоко,
О Русь, поставить предызбрал.
И воспарит орел державный,
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
6
Но в срок великого призванья,
Всё так же степь свою любя,
Ты помянешь, народ избранья,
Хандру, вскормившую тебя,
Как нянька старая, бывало…
Ты скажешь: «Добрая хандра
За мною по пятам бежала,
Гнала, бывало, со двора
В цыганский табор, в степь родную
{26}Иль в европейский Вавилон
{27},
Размыкать грусть-кручину злую,
Рассеять неотвязный сон».
Тогда тебе хандры старинной,
Быть может, будет даже жаль —
Так степняка берет печаль
По стороне своей пустынной;
Так первый я — люблю хандру
И, вероятно, с ней умру.
7
Люблю хандру, люблю Москву я,
Хотел бы снова целый день
Лежать с сигарою, тоскуя,
Браня родную нашу лень;
Или, без дела и без цели,
Пуститься рыскать по домам,
Где все мне страшно надоели,
Где надоел я страшно сам
И где, приличную осанку
Принявши, с повестью в устах
О политических делах,
Всегда прочтенных наизнанку,
Меня встречали… или вкось
И вкривь — о вечном Nichts и Alles
[28]Решали споры
{28}. Так велось
В Москве, бывало, — но остались
В ней, вероятно, скука та ж,
Вопросы те же, та же блажь,
8
Опять проходят предо мною
Теней китайских длинный ряд,
И снова брошен я хандрою
На театральный маскарад.
Театр кончается: лакеи,
Толчками все разбужены,
Ленивы, вялы и сонны,
Ругая барские затеи,
Тихонько в двери лож глядят
И карт засаленных колоды
В ливреи прячут… Переходы
И лестницы уже кипят
Толпой, бегущею заране
Ко входу выбраться, — она
Уж насладилася сполна
И только щупает в кармане,
Еще ль фуляр
{29} покамест цел
Или сосед его поддел?
9
А между тем на сцене шумно
Роберта-Дьявола
{30} гремит
Трио последнее: кипит
Страданием, тоской безумной,
Борьбою страшной… Вот и
он{31},
Проклятьем неба поражен
И величав, как образ медный,
Стоит недвижимый и бледный,
И, словно вопль, несется звук:
Gieb mir mein Kind, mein Kind zurück!
[29]И я… как прежде, я внимаю
С невольной дрожью звукам тем
И, снова полон, болен, нем,
Рукою трепетной сжимаю
Другого руку… И готов
Опять лететь в твои объятья —
Ты, с кем мы долго были братья,
Певец хандры, певец снегов!..
{32}
10
О, где бы ни был ты и что бы
С тобою ни было, но нам,
Я верю твердо, пополам
Пришлось на часть душевной злобы.
Разубеждения в себе,
Вражды ко псам святого храма,
И, знаю, веришь ты борьбе
И
добродетели Бертрама
{33},
Как в годы прежние…
{34} И пусть
Нас разделили эти годы,
Но в час, когда больная грусть
Про светлые мечты свободы
Напомнит нам, я знаю, вновь
Тогда является пред нами
С ее прозрачными чертами,
С сияньем девственным чела,
Чиста, как луч, как луч, светла!
11
Но вот раздался хор финальный,
Его не слушает никто
{36},
Пустеют ложи; занято
Вниманье знати театральной
Совсем не хором: бал большой
В известном доме; торопливо
Спешат кареты все домой
Иль подвигаются лениво.
Пустеет кресел первый ряд,
Но страшно прочие шумят…
Стоят у рампы бертрамисты
И не жалеют бедных рук,
И вновь усталого артиста
Зовет их хлопанье и стук,
И вас (о страшная измена!)
Вас, петербургская Елена
{37},
С восторгом не один зовет
Московской сцены патриот.
12
О да! Склонился перед вами,
Искусством дивным увлечен,
Патриотизм; он был смешон,
Как это знаете вы сами.
Пред вами в прах и строгий суд
Парижа пал —. . . . . . . .
Так что же вам до черни праздной,
До местных жалких всех причуд?
Когда, волшебница, в Жизели
{38}Эфирным духом вы летели
Или Еленою — змеей
Вились с вакхическим забвеньем,
Своей изваянной рукой
Зовя Роберта к наслажденьям,
То с замирающей тоской,
То с диким страсти упоеньем,—
Вы были жрицей! Что для вас
Нетрезвой черни праздный глас?
13
Смолкают крики постепенно,
Всё тихо в зале, убрались
И бертрамисты, но мгновенно
От кресел очищают низ,
Партер сливается со сценой,
Театр не тот уж вовсе стал —
И декораций переменой
Он обращен в громадный зал,
И отовсюду облит светом,
И самый пол его простой,
Хоть не совсем глядит паркетом,
Но всё же легкою ногой
По нем скользить, хоть в польке шумной,
Сумеют дамы… Но увы!
Не знать красавицам Москвы
Парижа оргии безумной.
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
14
Уж полночь било… масок мало,
Зато — довольно много шляп…
Вот он, цыганский запевало
И атаман — son nom m'echappe
[30]Одно я знаю: всё именье
Давно растратив на цыган,
Давно уж на чужой карман
Живет, по общему он мненью;
А вот — философ и поэт
В кафтане, в мурмолке старинной…
{39}С физиономиею длинной,
Иссохший весь во цвете лет,
И целомудренный, и чинный…
Но здесь ему какая стать?
Увы — он ходит наблюдать:
Забавы умственной, невинной
Пришел искать он на балу,
И для того засел в углу.
15
Вот гегелист — филистер вечный,
Славянофилов лютый враг,
С готовой речью на устах,
Как Nichts и Alles бесконечной,
В которой четверть лишь ему
Ясна немного самому.
А вот — глава славянофилов
Евтихий Стахьевич Панфилов,
С славянски-страшною ногой,
Со ртом кривым, с подбитым глазом,
И весь как бы одной чертой
Намазан русским богомазом.
С ним рядом маленький идет
Московский мистик, пожимая
Ему десницу, наперед
Перчатку, впрочем, надевая…
Но это кто, как властелин,
Перед толпой прошел один?
16
Он головой едва кивает
На многих дружеский привет,
Ему философ и поэт
С смущеньем руку пожимает,
В замену получает он
Один сухой полупоклон,
Да нагло резкий, нагло длинный
На синий охабень старинный
Насмешки злобной полный взгляд,
И дико пятится назад
Пред ним славянофил сердитый,
Нечесаный и неумытый…
Но прямо он идет к нему
С улыбкою великодушной,
Дивится он его уму,
Потом «зевает равнодушно,
Лишь только тот разинул рот,
И дальше чрез толпу идет.
17
Кто он? — вы спросите, читатель,—
Кто он? — Во-первых, мой герой,
Потом — хороший мой приятель,
Сергей Петрович Моровой.
Родясь полуаристократом —
Немного с левой стороны,—
Он, говоря витиеватым
Казенным слогом, в дни весны,
Хандрою мучась беспощадной,
Свой миллионный капитал
В четыре года промотал
И, наслаждений вечно жадный,
Кругом в долгах, еще живет,
Как прежде, весело, покойно,
Пустых не ведая забот
И думая, что недостойно
С умом и волею людей
Перед судьбой упасть своей.
18
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Не одного уж язвой дома
Его признал степенный град;
И не один, дотоле мирный,
Семейный круг расстроил он,
И не один рогато-смирный
Супруг покоя им лишен.
Его бранят и проклинают,
Он — давний ужас всех старух,
И между тем — таков уж дух! —
Его радушно принимают
Во всех порядочных домах
Богоспасаемого града,
Где он на всех наводит страх,
И в нем Москва — скандалу рада,
Хотя по сказкам — шулер он.
. . . . . . . . . . . .
19
Лукавство вкрадчивого змея.
И математика расчет,
И медный лоб, который лжет
Спокойно, гордо, не краснея,
И обаятельная речь,
И злость насмешки страшно едкой,
Всегда губительной и меткой,
И способ верный в сеть увлечь,
Владенье вечное собою —
Вот что герою моему
Дало влиянье над толпою,
Всегда покорною уму.
Он к людям не скрывал презренья —
Но их природу он постиг
И нагло требовал от них,
Как от рабов, повиновенья,—
И, сам не зная почему,
Покорен каждый был ему,
20
Его победам нет и счета,
Как говорит молвы язык,—
Но от любви уж он отвык
И любит только из расчета
Или из прихоти; зато
В искусстве дивном обольщенья
С ним не сравняется никто,
И он избытком пресыщенья,
И сердца хладом ледяным,
И зорким взглядом, вечно верным
И равнодушно-лицемерным,
Терпеньем старческим своим
Царит над женскою толпою…
Над ней лишь только тот один
Всевластный, гордый властелин,
Кто отжил жизнью молодою
И чует хлад в своей крови,
И только требует любви.
21
Его расчет был слишком верен,
И план рассчитан наперед.
В себе вполне он был уверен
И знал,что в прах он не падет
Холодно-гордой головою
Ни пред какою красотою
Иль чистотой, ни пред каким
Порывом девственно-святым.
Давно отвык он удивляться,
Давно не верил ничему,
Давно не мог он предаваться
Порыву сам ни одному,
И, тактик вечно равнодушный,
В порыве каждом видел он
Открытье слабых лишь сторон,
Да слишком длинный, слишком скучный
Маневров и усилий ряд,
Чему он вовсе не был рад.
22
И тихо, верно, постепенно
Умел до цели он дойти,
И выжидал почти смиренно,
Пока сокрытая в груди
Страсть жертвы бедной незаметно
Пробьет последний свой оплот,
Пока безумно, беззаветно
Она на грудь его падет.
Но и тогда, собой владея,
Он принимал холодный тон
И, сострадательно жалея,
Читал ей проповеди он;
Он не любил ловить мгновенья,
Он безгранично-роковой
Хотел преданности одной,
А не безумного забвенья.
Притом — упреков не любил
И нервами расстроен был.
23
Совсем иным его видали
С девоткой строгой и сухой
И с резвой, свежей, молодой,
Еще не ведавшей печали
Благоухающей душой.
Любовью пламенной и томной,
И с маской чуть ли не святой,
И речью тихою и скромной
Ловил он первую;. . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Но был с другою он другой:
Он с ней свободно обращался,
Брал на руки, как пожилой,
Над ней, как над дитей, смеялся,
И постепенно, день от дня,
Вливал в нее струю огня.
24
Взгляните: вот он, гордый, стройный,
Во фраке английском своем,
Вполне комфортном и простом,
С физиономиею знойной,
С бездонной пропастью очей,
Как ночь таинственная, темных
И полных пламенем страстей,
С его лениво-беззаботной
Походкой, с вечною хандрой
И с речью вялой, неохотной,
Но иронической и злой.
Взгляните: вот, толпу раздвинув,
Он в угол устремил лорнет,
От коего спасенья нет,
И, взглядом масок рой окинув,
Уже вдали узнал одно
С зеленой веткой домино.
25
Подходит он, — но как-то робко
И странно руку подает
То домино ему; идет
С ним неохотно и неловко,
А он свой беззаботный вид
Хранит по-прежнему; играя
Цепочкой, что-то говорит
Спокойно, строго, и, сгорая
Под маской злостью и стыдом,
Его молчать уж умоляют,
Но, с сожаленьем незнаком,
Он тихо проповедь читает,
За сплетню сплетней платит злой
И дамы маленькую руку
Он щиплет в кровь своей рукой.
Потом, окончив эту муку,
Уходит, поклонившись ей,
Влюбленной спутнице своей.
26
Идет он дальше… Писком шумным
Знакомых масок окружен,
Болтаньем их неостроумным
И сплетнями скучает он.
Уже зевать он начинает,
Готов отправиться домой,
Но вот одно его рукой
Из домино овладевает.
Он смотрит долго — кто оно,
Таинственное домино?
И видит только, из-под маски
Блестят полуденные глазки.
Она воздушна и мала,
Ее рука бледна, бела,
И кончик ножки из-под платья —
Из общих дамских ног изъятье.
И должен он сознаться в том,
Что с нею вовсе незнаком.
27
Была пора — и я когда-то
Любил безумно маскарад…
Годам минувшим нет возврата,
Но память их будить я рад.
И снова вы передо мною,
С своей живою красотою,
Царица масок, пронеслись!..
В ушах как будто раздались
И ваша речь, и смех ваш звонкой,
И остроумно-милый вздор,
Блестящий, светский разговор
И прелесть шутки вашей тонкой.
Философ jusqu'au bout de doigts,
[31]Как вы меня назвали сами,
Заветы мудрости едва
Не забывал я вовсе с вами,
Чуть не терял я головы,
Когда шутили только вы!..
28
Но я увлекся… О герое
Я позабыл моем. Идут
Они давно уж вместе двое
И разговор живой ведут;
Но, равнодушный постоянно
И вечно дерзкий, мой герой,
Сергей Петрович Моровой,
Невольно ожил как-то странно,
И маски лепет внемлет он
С живым участьем… Неужели
Он также может быть влюблен?
О нет, о нет — но, в самом деле,
Полузагадочная речь
И тон таинственный намека
Опять могли его увлечь
К тому, что уж давно далеко,
К его забытым юным дням,
К его любви, к его мечтам…
29
И тщетно он припоминает
Событий прошлых длинный ряд,—
Так много их! Но озаряет
Его одно — и странный хлад
При мысли той бежит невольно
По телу… судорожно ей
Жмет руку он рукой своей
И, кажется, довольно больно;
Но так же весело она
Хохочет, та же речь живая
В устах, то страстная, то злая…
Она причудливо-странна,
И, околдован обаяньем,
Ей молча внемлет Моровой,
И вновь уносится душой
К своим былым воспоминаньям.
Но вот из рук его, змеей
Скользнувши к домино другой,
30
Она исчезла… Изумленный
Остался он; за нею вслед,
Встревоженный, почти смущенный,
Идти он хочет; но лорнет
В углы он тщетно направляет,—
Она исчезла, словно сон…
И сам он плохо доверяет
Тому, что здесь не грезит он.
Как? неужели это снова
Она, погибшая давно?..
То не она… твердит одно
Ему рассудок, но готово
Поверить сердце даже в вздор…
Но этот лепет, этот взор,
Как пламя яркий, долгий, нежный,
Но этот страстный и мятежный,
Причудливый и злой язык?..
Он знает их… он к ним привык!
31
Пред ним опять старинной сказки,
Волшебной сказки вьется нить,
Опять ребяческие ласки
В лобзанья страсти обратить
Он жаждет… Пылкий и богатый,
Препятствий он не хочет знать.
Но не объятия разврата
Он ищет златом покупать.
Нет! Вызывать в душе невинной
Потребность жить, любить, страдать
Вот цель его… И в вечер длинный,
Когда заснет старушка мать,
Он начинает понемногу
Змеиной хитростью речей
В душе неопытной страстей
Будить безумную тревогу
И краску первого стыда
Сгонять лобзаньями тогда.
32
Ее ланиты рдеют жаром,
Она дрожит в его руках,
Опалена страстей пожаром,
И сердце ей стесняет страх.
Но равнодушно перед нею
Он держит зеркало…
Она Взглянуть боится… сожжена
Стыдом и страстию своею…
Но он спокоен, он глядит
Ей прямо в очи, говорит
Свободно… Жарко ей, неловко,
И темно-русая головка
На грудь склоняется к нему…
Прерывисто ее дыханье,
И внятен страстный вздох ему,
И жарких персей колыханье —
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
33
И что ж потом? Увы! укором
Встает прошедшее пред ним,—
Ребенка грустным, скорбным взором,
Старухи камнем гробовым…
Поражена стыдом разврата,
Ребенок бедный, умерла
Или исчезла ты куда-то?
А он! Ужели ты была
Одною искреннею страстью
В эгоистически-сухой
И пресыщением больной
Душе его? Ужели счастью
С тобой одною верил он?
И вот опять твой детский лепет
Услышан им — и пробужден
В его душе бывалый трепет.
Но ты ли точно? Иль обман
Ему на миг судьбою дан?
34
Стоит он грустный и суровый,
Сложивши руки на груди,
И смотрит — но народ всё новый
Напереди и назади;
Один лишь атаман цыганский,
Приятель карточный его,
Известный публике Рыганский,
Проходит мимо. «Отчего
Ты нынче невесел?» — с вопросом
Казенным подступает он
И, резким взглядом огромлен,
Ворча, уйти уж хочет с носом.
Но вдруг, припомня что-то вмиг,
Опять к нему он добродушно:
«Не знал я всех проказ твоих,
Ты ходишь с ней!» Но равнодушно,
Досаду скрывши, Моровой
В ответ махнул ему рукой.
35
«А чудо женщина, ей-богу,
Цыганки лучше!» — продолжал,
Одушевляясь понемногу,
Неумолкающий нахал.
«Да кто она? скажи, пожалуй»,—
Спросил спокойно Моровой.
«Эге! ну, славный же ты малый,
Не знаешь Кати!..» Как чумой,
Мгновенным хладом пораженный,
Сергей Петрович отступил
И, страшным словом огромленный,
Истолкованья не просил.
Довольно!.. Всё ему понятно…
Сказали гнусные уста
Ее названье… Чистота
Ее погибла безвозвратно!
И дальше он скорей спешит,
Растерзан и почти убит,
36
Она погибла… Кто ж виною?
Не сам ли ты, кто разбудил
В ее груди начало злое?
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Она погибла… Боже мой!
И знал другой ее объятья!
Молчит он… но в груди больной
Стесняет страшный стон проклятья.
И тихо, медленно идет
Под тихим бременем мученья,
И до дверей дошел… Но вот
Он чует вновь прикосновенье
Руки иной к руке своей,
И вновь она, и вновь он с ней…
37
Она влечет его… Послушно
Идет за нею он… Увы!
Где прежний гордо-равнодушный
Герой и властелин Москвы?
Он снова внемлет эти речи,
Он снова, снова, если б мог,
Упал у этих милых ног,
Лобзал с безумством эти плечи…
Он забывается опять
Под этот лепет детски-страстный,
Уж он не может проклинать,
Уж он влюблен опять, несчастный!
Он позабыл, что чуждых уст
Осквернена она лобзаньем,
Что мир и наг ему, и пуст
И что испытан он страданьем.
Он снова верит, снова он
Безумен, счастлив и влюблен!
38
«Пускай погибла… что за дело?
Так судит свет. . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . И есть родные степи,
В степях иное небо есть.
Туда, туда! Мы позабудем
С тобою света жалкий суд,
Свободны, вольны, горды будем».
{40}Так говорит он — жадно льнут
Его болезненные взгляды
Под маски траурный покров…
Нетерпеливый, он готов
Сорвать несносные преграды…
Но вот; далеко от людей,
Они в фойе садятся с ней.
39
Упала маска, с упоеньем
Он видит прежние черты —
Печать нездешней красоты.
Она молчит, его моленьям,
Его порывистым речам
Внимает тихо, как, бывало,
Дитя покорное внимало
Его властительным словам.
Его она не прерывает,
С него не сводит влажный взор
И, как бывало, понимает
Его мольбу, его укор;
В его душе ей всё понятно.
Но то, что было, — то прошло,
Оно прекрасно и светло,
Но, к сожаленью, невозвратно.
Меж ними опыт долгих лет…
И говорит она в ответ:
40
«Безумец, с вечной волей рока
Оставь надежду враждовать:
На нас лежит его печать,
На нас обоих; пусть жестоко
Решенье воли роковой,
Но — рока суд не суд людской;
Печален путь, избранный мною,
Но он, как все, ведет к покою…
Нам не дано с тобой любить
И мир иным и лучшим видеть,
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
41
Как жрица древняя, сияла
Она волшебной красотой,
И мерно речь ее звучала
Какой-то силою иной.
Эллады юной изваяньем
Ему казалася она…
Пред ним, перед его рыданьем
Была она светла, сильна…
И гордо встал он… Молча руку
Ей подал он, не на разлуку —
На путь свободно-роковой,
На путь борьбы, хотя бесславной,
На путь, в который, равный с равной,
Пошли они рука с рукой…
И вот уж снова пред толпою
Они идут спокойно двое,
Равно презренья к ней полны,
Равно судьбой осуждены.
42
Они идут — для них дорога
Давно пустынна и ровна.
За ними — прожитого много,
Пред ними — смерти тишина…
Им нет на завтра упованья;
На них печальное легло
Всей безнадежностью сознанья,
И пусть подъято их чело
Всегда невозмутимо-гордо
Пред ликом истины нагим,
Но жизнь пуста обоим им,
Хотя спокойно, тихо, твердо
Рука с рукой они идут,
Отринув радость и страданья,
И сердца суд, и света суд,
И даже суд воспоминанья…
Им прозвучал уж суд иной
Своей последнею трубой.,
Март 1846
Первая глава из романа «Отпетая»{41}
1
О мой читатель… вы москвич прямой
И потому, наверно, о Коломне
{42}Не знаете… конечно, не о той
Я говорю, которая, как помню,
Лежит в стране, и мне, и вам родной,
Верст за сто от Москвы, да, впрочем, что мне
До счета верст — и вам, конечно… Есть
Другая — дай ей небо вечно цвесть!
2
В Коломне той вы, верно, не бывали.
Вы в Петербург езжали по делам —
Иль, ежели за делом приезжали,
То, вероятно, не селились там…
Литовский замок
{43}, впрочем, вы видали —
Я говорю без оскорбленья вам,—
О нет, вы не сидели в заключеньи,
Ни — даже за долги в известном отделеньи
{44}.
3
Но, может быть, вы в северную ночь
Болезненно-прозрачную бродили
По городу, как я… когда невмочь
От жару, от тоски, от страшной пыли
Вам становилось… Вас тогда томили
Бесцельные желанья — вы бежали прочь
От этих зданий, вытянутых фронтом,
От длинных улиц с тесным горизонтом.
4
Тогда, быть может, память вас влекла
Туда, где «ночь над мирною Коломной
Тиха отменно»
{45}; где в тиши цвела
Параша красотой своею скромной;
Вы вспоминали, как она была мила,
Наивно любовавшаяся томной
Луной, мечтавшая бог весть о чем…
И, думая о ней, вы думали о нем.
5
О том певце
{46} с младенческой душою,
С божественною речью на устах,
С венчанной лаврами кудрявой головою,
С разумной думой мужеской в очах;
Вы жили вновь его отрадною тоскою
О тишине полей, о трех соснах,
Тоской, которой даже в летах зрелых
Страдал «погибший рано смертью смелых».
{47}
6
Иль нет — простите, я совсем забыл —
Вы человек другого поколенья:
Иной вожатый вас руководил
{48}В иные страсти, муки и волненья;
Другой вожатый верить вас учил…
И вы влюбились в демона сомненья,
Вблизи Коломны Пушкина — увы! —
С тем злобным демоном бродили вечно вы!
7
А может быть, и вовсе не бродили,
Что даже вероятней… По ночам
Вы спали, утром к должности ходили
И прочее, как следует… Но вам
Европеизм по сердцу… Выходили
Из оперы вы часто, где певцам,
Желая подражать приемам европейским,
С остервенением вы хлопали злодейским.
8
Зимой, конечно, было это; нос
Вы в шубу прятали — и не глядели
Кругом… и гнал вас северный мороз
Скорей — но не домой и не к постели —
На преферанс… Но, верно, удалось,
Когда вы на санях к Морской
{49} летели,
Вам видеть замок с левой стороны…
И дальше вы теперь идти со мной должны.
9
В Коломне я искать решился героини
Для повести моей… и в том не виноват.
В частях других, как некие твердыни,
Все дамы неприступны… как булат
Закалены… в китайском
{50} тверды чине…
Я добродетели их верить очень рад —
Им только семь в червях представить могут
грезы,
Да повесть Z… исторгнуть может слезы
10
А героиня очень мне нужна,
Нужнее во сто тысяч раз героя…
Герой? герой известный — сатана…
Рушитель вечный женского покоя,
Единственный… Последняя жена,
Как первая, увлечена змеею —
Быть может… демон ей сродни,
И понял это в первые же дни…
11
По-старому над грешною землей,
Неистощимой бездною страданий,
Летает он, князь области мирской…
По-старому, заклятый враг преданий,
Он вечно к новому толкает род людской,
Хоть старых полон сам воспоминаний.
Всегда начало сходится с концом,
И змей таинственным свивается кольцом.
12
Он умереть не может… Вечность, вечность
Бесплодных мук, бессмысленных страстей
Сознание и жажды бесконечность!..
И муки любит старый враг людей…
И любит он ту гордую беспечность
Неисправляемых Адамовых детей,
С которою они, вполне как дети,
Кидаются в расставленные сети…
13
. . . . . . . . . . . . . . .
14
Но что до ней, что до него?.. С зарею
Слилась заря… и влагою облит
Прозрачною, туманной, водяною —
Петрополь весь усталый мирно спит;
Спят здания, спят флаги над Невою;
Спит, как всегда, и вековой гранит;
Спит ночь сама… но спит она над нами
Сном ясновидящей с открытыми очами.
15
Болезненно-прозрачные черты
Ее лица в насильственном покое.
То жизнь иль смерть? Тяжелые мечты
Над ней витают… Бытие иное
В фосфоре глаз сияет… Страшной красоты
Полна больная… Так и над Невою
Ночь севера заснула чутким сном…
Беда, кто в эту ночь с бессонницей знаком!
16
Беда тебе, дитя мое больное!..
Зачем опять сидишь ты у окна
И этой ночи влажное, сырое
Дыхание впиваешь?.. Ты больна,
Дитя мое… засни, господь с тобою…
Твой мир заснул… и ты не спишь одна…
Твой мир… и что тебе за дело до иного?
Твой мир — Коломна, к празднику обнова.
17
Известный круг, балки, порою офицер
Затянутый, самодовольно-ловкой…
Мечтай о нем… об этом, например,
С усами черными… займись обновкой…
Вот твой удел; цвет глаз твоих так сер,
Как небо Петербурга… Но головкой
Качаешь ты, упрямица, молчишь,
С досадой детской ножкой в пол стучишь.
18
Чего ж тебе?.. Ты точно хороша —
Утешься… Эти серенькие глазки
Темны, облиты влагой… в них душа
И жажда жизни светится. Но сказки
Пока тебе любовь и жизнь… Дыша
Прерывисто, желанья, грезы, ласки
Передаешь подушке ты одной…
Ты часто резвишься, котенок бедный мой!
19
Гони же прочь бессонницу, молю я:
Тебе вредна болезненная ночь,
Твои уста так жаждут поцелуя,
И грудь твоя колышется точь-в-точь,
Как сладострастная Нева… Тоскуя,
Ведь ты сама тоски не хочешь превозмочь.
Засни, засни… и так уж засверкали
Твои глаза холодным блеском стали.
20
Погибнешь ты… меж ночью и тобой
Родство необъяснимое заметно…
Забудь о нем… Удел прекрасен твой,
Со временем и он блеснет тебе приветно
В лице супруга с Анной, даже со звездой,
{51}Чего тебе… Но тщетно, тщетно, тщетно!
Погибла ты… и чей-то голос над тобой
Звучит архангела судебною трубой.
21
Не слышишь ты, но вся природа внемлет
Ему в забвении, как первая жена,
И чутким сном под этот голос дремлет.
Таинственного трепета полна,
Тоска ее глубокая объемлет…
Князь области воздушной, сатана,
В сей час терзается тоскою бесконечной
И говорит с своей ирониею вечной:
1
«Мелеет он, Адамов род,
И чем быстрей бежит вперед,
Тем распложается сильней,
И с каждым шагом человек
Дробится мельче на людей.
Я жду давно — который век! —
Разбить запор тюрьмы моей,
Пробиться всюду и во всем
Всепожирающим огнем,
Проклятием, объявшим всех…
. . . . . . . . . . . .
2
Был век великий, славный век,
Когда меня лицом к лицу
Почти увидел человек;
Мои страдания к концу,
Казалось, близились… Во всем
Я разливаться начинал,
И вместе с чернью с торжеством
Дубов верхушки обрезал.
Мне надоело в них сиять
Лучами славы и борьбы,
Хоть было жалко обрезать
Те величавые дубы…
Я в них страдал, я в них любил,
И, как они же, полон был
Презренья к мелочи людской
И враждования с землей…
Мне стало жаль… мне гнусен стал
Пигмеев кровожадный пир…
Я с чернью пьянствовать устал
И заливать без цели мир
Старинной кровью… Я узнал,
Что вечный рок сильней меня,
Что есть один еще оплот,
Что он созданье бережет
От разрушителя огня.
3
. . . . . . . . . . . . . .
4
Но близок час… огонь пробьет
Последний, слабый свой оплот,
И, между тем, меня печаль
Терзает, и тебя мне жаль…
Мне страшно грустен образ твой;
Тебя я с бешеной хулой
Влеку к паденью… чистота
Твоя исчезла, и бежит
С твоих ланит хранитель — стыд;
Не облит влагой тихий взор —
Холодным блеском светит он;
Вошла ты также с небом в спор;
Из груди также рвется стон
Проклятий гордых на судьбу.
Как я, отвергла ты закон,
Как я, забыла ты мольбу,
И скоро для обоих нас
Пробьет покоя вечный час…»
22
В таком ли точно тоне говорил
Князь области воздушной, я наверно
Сказать вам не могу: сатаниил —
Поэт не нам чета, и лишь примерно
Его любимый ритм я здесь употребил —
Ритм Байрона
{52} — хотя, быть может, скверно.
Не в этом дело, впрочем: смысл же слов,
Ручаюсь головою, был таков.
23
Любил не раз он — это вам известно —
По крайней мере, вам то Мейербер
И Лермонтов открыли — очень лестно
Для женщин это… надоел размер
Страстей обыкновенных им — и тесно
Им в узких рамках. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
24
В наш век во вкусах странен Евин род;
Ни красота, тем меньше добродетель,
Ни даже ум в соблазн его влечет:
К уродам страсть бывает… Не один свидетель
Тому найдется. Дьявольский расчет
И равнодушие (в глуши ль то будет, в свете ль)
С известной степенью цинизма — вот
Что нынче увлекает Евин род.
25
Жуанов и Ловласов племя ныне
Уж вывелось — героев больше нет;
Герой теперь сдал место героине,
И не Жуан — Жуана ныне свет
Дивит своим презрением к святыне
Любви и счастья, дерзостью побед…
Змеиной гибкостью души своей и стана,
Пантеры злостию — вперед, вперед, Жуана.
26
Вперед, Жуана… путь перед тобой
Лежит отныне ровный и свободный…
Иди наперекор себе самой
В очах с презрением и дерзостью холодной,
В страдающей груди с глубокою тоской,
Иди в свой путь, как бездна, неисходный,
Не знаешь ты, куда тот путь ведет,—
Но ты пошла — что б ни было — вперед!
27
Светлеет небо… близок час рассвета,
А всё моя красотка у окна…
Склонившись головой, полураздета,
Полусидит, полулежит она,
Чего-то ждет… Но ожиданье это
Обмануто… Она тоски полна,
Вот-вот на глазках засверкают слезы,
Но нет… смежает сон их… Снова грезы…
28
И девочке всё грезится о нем,
О ком и думать запретили б строго…
Герой ее танцклассам всем знаком,
Играет в карты, должен очень много…
С ним Даша часто видится тайком;
Он проезжает этою дорогой
В извозчичьей коляске на лихих,
Немного пьян — но вечно мимо них.
29
Андрей Петрович… но о нем потом…
Семнадцать лет моей шалунье было,
Родительский ей страшно скучен дом,
В ней сердце жизни да любви просило,
Рвалось на волю… Вечно мать с чулком,
Мораль с известной властию и силой;
Столоначальник, скучный, как жених,
Который никогда не ездит на лихих.
30
И в будущем всё то же, вечно то же,
Всё преферанс в копейку серебром,
Всё так на настоящее похоже —
Так страшно глупо смотрит целый дом.
Нет, нет, не создана она, мой боже!
К тому, что многим кажется добром,
И не бывать ей верною подругой…
Притом уже она просвещена подругой.
31
От наставлений матушки не раз,
От этой жизни праздной и унылой
С подругою она тайком в танцкласс
Зимою ездила… Подруге было
Лет двадцать… Даже не в урочный час
Они домой являлись. Но сходило
Всё это с рук. Умела веру дать
В сердечной простоте всему старушка мать.
32
Жених-столоначальник глуповато
Смотрел на всё: он был совсем готовый муж,
Чуждался сильно всякого разврата,
Особенно карманного, к тому ж
Доверчивостью был он одарен богато,
Носил в себе одну из допотопных душ
И, несмотря на то, что родился в столице,
Невинностью подобен был девице.
33
Поутру, вставши, пил он скверный чай,
Смотрел в окно, погоду замечая,
И собирался к должности, там рай
И ад свой весь прескромно заключая.
Но пред уходом в свой обетованный край
Он в книжке отмечал, «что будет кушать чаю
Такой-то у него», и книжку клал;
Потом: «со сливками» — подумав, прибавлял.
34
Вы спросите: зачем? Уж я не знаю —
Есть разные привычки. Так текла
Вся жизнь его. Ему всех благ желаю —
Но страшно ведь глупа она была
Во все периоды: и до и после чаю…
И Дашу бедную такая жизнь ждала,
Когда б так называемый злой гений
Ей не дал мук, желаний и волнений.
35
Пускай она заснула — в ней не спят
Безумные, тревожные волненья;
Уста полураскрытые дрожат,
Облиты глазки влагою томленья.
Что снится ей?.. Соблазна полные виденья
Над нею видимо летают и кружат…
А чей-то голос слышен из-за дали,
Исполненный таинственной печали.
Дитя мое! очей твоих
Так влажно-бархатен привет…
Не звездный свет сияет в них —
Кометы яркий свет…
Лукавой хитрости полна
Улыбка детская твоя,
И гибок стан твой, как волна…
И вся ты, как змея.
Ты так светла, что не звездам
Спокойным вечно так сиять;
Ты так гибка, что разгадать
В тебе легко сестру змеям.
Дитя мое! так много их
По тверди неба голубой
Светил рассыпано благих,—
О, будь кометой роковой!
И дольний мир — ваш мир земной —
Богат стадами душ простых…
В нем много добрых, мало злых,—
О, будь же, будь змеей!
36
Тот голос был ли внятен ей?.. Она
Едва ль могла понять слова такие
Мудреные, хоть и весьма простые.
Прочла она в свой век Карамзина
Две повести
{53}, да две Марлинского
{54} другие
(«Фрегат "Надежда"», помнится, была
Одна из них). Отборно объясняться
Привыкла потому — я должен вам признаться.
37
Но странно, что ее тревожил сон
Не Гремин
{55} с пламенной душою и с усами…
Ее герой усами не снабжен —
Он, вероятно, сталкивался с вами,
Читатель мой, быть может, часто. Он
Играет, я сказал; со многими домами
Знаком поэтому; ни дурен, ни хорош
Собой особенно — на всех людей похож.
38
Чиновник он — и жить не мог иначе,
Москвич — но с Петербургом ужился,
Привык зимой к театру, летом к даче,
Хоть молод, но серьезно занялся
Устройством дел карманных и тем паче
Служебных: рано он за ум взялся,
Как истый петербуржец. Был ласкаем
Почтенными людьми и всеми уважаем.
39
Играл же он, во-первых, потому,
Что этим путь в дома чиновнической знати
Открыл себе свободный — хоть в палате
Служил какой-то… а притом ему,
Как, верно, русскому не одному,
Разгул по сердцу был — а здесь и кстати.
Играл он ловко, нараспашку жил
И репутацию с тем вместе заслужил.
40
На женщин он смотрел с полупрезреньем,
От добродетельных чиновниц прочь
Бежал всегда… Искать любви терпеньем
Ему казалось глупо и невмочь,
В чем был он прав… Свободным наслажденьям
Любил он посвящать гораздо лучше ночь.
Он был герой, и даже очень пылкой,
В танцклассе и с друзьями за бутылкой.
41
И там-то Даша встретилася с ним.
Он был хорош, особенно вполпьяна;
В минуту эту мог он быть любим;
Разочарован был, казалось, очень рано,
И, дорожа мгновением одним,
Безумствовал. Чем не герой романа,
Особенно когда другого нет?
Ведь было ей всего семнадцать лет.
42
Он дерзостью какой-то начал с нею.
Она краснела, хоть не поняла…
Переглянувшись с менторшей своею,
Ему на польку руку подала
И улыбнулася ему, злодею…
Потом уж с ним шампанское пила
И глупости девчонка лепетала,
Хоть вся, как лист, от страха трепетала.
43
А стоил ли он трепета любви? —
Другой вопрос… Не в этом, впрочем, дело,
Он был любим… Увы! в твоей крови,
Дитя мое, страсть бешено кипела,
Рвалась наружу… а глаза твои
Сияли слишком ярко, хоть несмело,
Стыдливо опускались… ты была в огне…
Пусть судит свет — судить тебя не мне!
44
А свет свершит свой строго-неизбежный
И, может быть, свой справедливый суд,
И над твоей головкою мятежной,
Быть может, многие теперь произнесут
Свой приговор бесстрастный и безгрешный;
Быть может, камень многие возьмут,
И в том сама виновна ты, конечно…
Ты жизни предалась безумно и беспечно.
45
А впрочем, что ж? Да разве ты одна
Осуждена толпой безгрешной и бесстрастной.
За то, что ты, как женщина, страстна?
Утешься — и не в этом твой ужасный
Удел, дитя мое… Иное ты должна
Узнать еще… Покамест, сладострастно
Раскинувшись… ты грезам предана…
. . . . . . . . . . . . . .
46
Но вот она проснулась… С Офицерской
{56}Коляска мчится… точно, это он,
Кому от матушки иного нет, как «мерзкой»,
Названия… Завоеватель дерзкой,
Он, как всегда, разгулен и хмелен…
Его немножко клонит даже сон…
Но, тем не менее, зевая, он выходит
Из экипажа — и к окну подходит.
47
Зевая — правду вам, читатель мой,
Я говорить обязан, — да-с, зевая,
«Здорово!» — он сказал ей… На такой
Привет что отвечать, почти не зная,
Она «здорово!» с странною тоской
Сказала также… Он, не замечая,
С ней начал говорить о том, как он играл
И как на рысака пари держал.
48
И Даша молча слушала…
И в очи Ему смотрела робко… чуть дыша…
При тусклом свете петербургской ночи
Она была так чудно хороша…
Собой владеть ей не ставало мочи,
Из груди вон просилась в ней душа;
Болезненно и сладостно тоскуя…
Уста ее просили поцелуя…
49
И вот в окошко свесилась она
И обвила его прозрачными руками,
И, трепета безумного полна,
К его устам прижалася устами…
И в полусонных глазках так видна
Вся страсть ее была… что, небесами
Клянусь, я отдал бы прохладу светлых струй,
Как некогда поэт, за этот поцелуй.
50
О поцелуй!.. тебя давно не пели
Поэты наши… Злобой и тоской
{57}Железные стихи их нам звенели —
Но стих давно уж не звучал тобой…
На божий мир так сумрачно глядели
Избранники, нам данные судьбой,
И Лермонтов и Гоголь… так уныло,
Так без тебя нам пусто в мире было!
51
Мы знали все — я первый, каюсь, знал
Безумство влажного вакханок поцелуя…
И за него я душу отдавал,
Когда она, болезненно тоскуя,
Томилась жаждой… Но иной люблю я,
Иной я поцелуй теперь припоминал…
То первый поцелуй, упругий, острый, жгучий,
Как молния, прорезавшая тучи.
52
Как молния, по телу он бежит
Струею сладкого, тревожного томленья…
Как детский сон, он быстро пролетит —
Похищенный украдкой… Но волненья,
Оставленного им, — ничто не заменит,
Но рад бы каждый, хоть ценой спасенья…
Так робко, нежно, девственно опять
Тот поцелуй с упругих уст сорвать.
53
О Ромео и Юлия! Вы были
Так молоды, так чисты: целый мир
Вы в поцелуе первом позабыли…
За что же вас и люди, и Шекспир,
Насмешник старый, злобно так сгубили
За этот поцелуй?.. Безжалостный вампир
Был автор ваш… наполнил вас любовью,
Чтобы вкусней упиться вашей кровью.
54
О Ромео и Юлия!.. Не раз
Ночь, ночь Италии, я вижу пред собою,
Лимонов запах слышу, вижу вас
Под тенью их стыдливою четою,
С ресницами опущенными глаз,
Увлажненных безумной, молодою,
На всё готовой страстью… Божий мир
Благословлял вас… дьявол был Шекспир!
55
Вот поцелуй куда красотки нашей
Завел меня… Что делать? виноват,
И каюсь в том: быть может, слишком Дашей
Я занимаюсь… Но часы летят,
И веет утром… Тот, кто полной чашей
Любви блаженство пьет, едва ли утру рад…
Его наивно Даша проклинала,—
Со мною, с вами это же бывало.
56
Андрей Петрович был, напротив, рад
Успокоению от жизненных волнений;
Любил он крепко стеганый халат
И сладкий сон без всяких сновидений…
Они простились… Сел он — быстро мчат
Его лихие кони… и мгновений
Любви не жаль ему… По думал он о чем
Дорогою — узнаете потом.
57
Она же долго вдаль с тоской глядела,
Потом окно закрыла и легла,
Всё думала, и хоть заснуть хотела,
Но и заснуть бедняжка не могла…
Уж солнце встало… Ложками гремела
Старушка мать, и к ней потом вошла,
Неся с собой свой кофе неизбежный
Да вечную мораль родительницы нежной,
58
И снова день, бесплодно-глупый день
С уборкою того, что убирать не надо,
И с вечной пустотой, которой лень
И праздность жизни прикрывать так рада
Была старушка… Вновь ночную тень
Зовет моя красотка… Хуже ада
Такая жизнь… со сплетнями, с чулком,
И с кофеем, и с глупым женихом.
<1847>
Venezia la bella [32]{58}
Дневник странствующего романтика
…Beatrice, loda di Dio vera,
Che non soccorri quei cho t'amo tanto.
Ch'uscio per te della volgare schiera?
Non odi tu la pieta del suo pianto?
Non vedi tu la morte, ch'cl combatte
Su la fiuraana, onde'l mar non ha vanto?
Dante «Inferno», Canto II[33]
(Отрывок из книги: «Одиссея о последнем романтике»)
1
Есть у поэтов давние права,
Не те одни, чтоб частосамовольно
Растягивать иль сокращать слова
Да падежи тиранить произвольно;
Есть и важнее: тем, кого едва
Назвать вы смеете — и с кем невольно
Смущаетесь при встрече, слова два
С трудом проговорите… смело, вольно
Вы можете эпистолы писать…
Я выбрал формы строгие сонета;
Во-первых, честь Италии воздать
Хоть этим за радушие привета
Мне хочется, а во-вторых, в узде
Приличной душу держат формы те!
2
И ты прочтешь когда-нибудь (вступаю
Я в давности права и слово ты
С тревогой тайной ставить начинаю,
С тоской о том, что лишь в краях мечты
Мои владенья), ты прочтешь, я знаю,
Чего, о жрица гордой чистоты,
Какой тебя поднесь воображаю,
В твоей глуши, средь праздной суеты
И тишины однообразно-пошлой,—
Ты не прочла бы, судорожно смяв,
Как лист завялый, отзыв жизни прошлой,
Свой пуританский чествуя устав,
Когда б мольбы, призывы и упреки
В размеренные не замкнулись строки!
3
«Но благородно ль это?» — может быть,
Ты скажешь про себя, сей бред тревожный
Читая… В самом деле, возмутить
Пытаться то, что нужно осторожно
В тебе беречь, лелеять, свято чтить…
Да! это безобразно и ничтожно…
Я знаю сам… Но так тебя любить
Другому, кто б он ни был, — невозможно…
Где б ни был я, куда б судьба меня
Ни бросила — с собой мечту одну я
Ношу везде: в толпе ли, в шуме ль дня,
Один ли, в ночь бессонную тоскуя,
Как молодость, как свет, как благодать,
Зову тебя! Призыв мой услыхать
4
Должна же ты!.. Увы! я верю мало,
Чтоб две души беседовать могли
Одна с другой, когда меж ними стало
Пространство необъятное земли;
Иль искренней сказать: душа устала
Таинственному верить; издали
Она тебя столь часто призывала,
Что звезд лучи давно бы донесли,
Когда б то было делом их служенья,
Тебе и стон, и зов безумный мой…
Но звезды — прехолодные творенья!
Текут себе по тверди голубой
И нам бесстрастно светят в сей юдоли.
Я им не верю больше… А давно ли
5
Я звал тебя, трикраты звал, с мольбой,
С томленьем злой тоски, всей силой горя
Бывалого, всей жаждой и тоской
Минуты?.. Предо мной царица моря
{59}Узорчатой и мрачной красотой
Раскидывалась, в обаяньи споря
С невиданною неба синевой
Ночного… Вёсел плеск, как будто вторя
Напевам гондольера, навевал
На душу сны волшебные… Чего-то
Я снова жаждал, и молил, и ждал,
Какая-то в душе заныла нота,
Росла, росла, как длинный змей виясь…
И вдруг с канцоной
{60} страстною сплелась!
6
То не был сон. Я плыл в Риальто, жадно
Глядя на лик встававших предо мной
Узорчатых палаццо. С безотрадной,
Суровой скорбью памяти немой
Гляделся в волны мраморный и хладный,
Запечатленный мрачной красотой,
Их старый лик, по-старому нарядный,
Но плесенью подернутый сырой…
Я плыл в Риальто
{61} от сиявших ярко
Огней на площади святого Марка,
От праздника беспутного под звон
Литавр австрийских…
{62} сердцем влекся в даль я,
Туда, где хоть у волн не замер стон
И где хоть камень полн еще печалью!
7
Печали я искал о прожитом,
Передо мной в тот день везде вставала,
Как море, вероломная в своем
Величии La bella. Надевала
Вновь черный плащ, обшитый серебром,
Навязывала маску, опахало
Брала,
{63} шутя в наряде гробовом,
Та жизнь, под страхом пытки и кинжала
Летевшая каким-то пестрым сном,
Та лихорадка жизни с шумно-праздной
И пестрой лицевою стороной,
Та греза сладострастья и соблазна,
С подземною работою глухой
Каких-то сил, в каком-то темном мире
То карнавал, то Ponte dei sospiri
[34]{64}.
8
И в оный мир я весь душой ушел,—
Он всюду выжег след свой: то кровавый,
То траурный, как черный цвет гондол,
То, как палаццо дожей, величавый.
Тот мир не опочил, не отошел…
Он в настоящем дышит старой славой
И старым мраком; память благ и зол
Везде лежит полузастывшей лавой:
Тревожный дух какой-то здесь живет,
Как вихрь кружит, как вихрь с собой уносит;
И сладкую отраву в сердце льет,
И сердце, ноя, неотступно просит
Тревожных чувств и сладострастных грез,
Лобзаний лихорадочных и слез.
9
Я плыл в Риальто. Всюду тишь стояла:
В волнах канала, в воздухе ночном!
Лишь изредка с весла струя плескала,
Пронизанная месяца лучом,
И долго позади еще мелькала,
Переливаясь ярким серебром.
Но эта тишь гармонией звучала,
Баюкала каким-то страстным сном,
Прозрачно-чутким, жаждущим чего-то.
И сердце, отозвавшись, стало ныть,
И в нем давно не троганная нота
Непрошенная вздумала ожить
И быстро понеслась к далекой дали
Призывным стоном, ропотом печали.
10
Тогда-то ярко, вольно разлилась
Как бы каденца
{65} из другого тона,
Вразрез с той нотой сердца, что неслась
Печали ропотом, призывом стона,
Порывисто сверкая и виясь,
Божественной Италии канцона,
Которая как будто родилась
Мгновенно под колоннами балкона,
В час ожиданья трепета полна,
Кипенья крови, вздохов неги сладкой,
Как страстное лобзание звучна,
Тревожна, как свидание украдкой…
В ней ритм не нов, однообразен ход,
Но в ней, как встарь, волкана
{66} жизнь живет,
11
Ты вырвалась из мощного волкана,
Из груди гордым холмом поднятой,
Широкой, словно зыби океана,
Богатой звука влагою густой
И звонкостью и ясностью стеклянной,
И силой оглушительной порой;
И ты не сжалась в тесный круг избранный,
А разлилась по всей стране родной,
Божественной Италии канцона!
Ты всем далась — от славных теноров
До камеристки и до ладзарона
{67},
До гондольеров и до рыбаков…
И мне, пришельцу из страны туманной,
Звучала ты гармонией нежданной.
12
К нам свежий женский голос долетал,
Был весь грудной, как звуки вьолончели;
Он страстною вибрацией дрожал,
Восторг любви и слезы в нем кипели…
Мой гондольер всё ближе путь держал
К палаццо, из которого летели
Канцоны звуки. Голос наполнял
Весь воздух; тихо вслед ему звенели
Гитарные аккорды. Ночь была
Такая, что хотелось плакать — много
И долго плакать! Вод сырая мгла,
Вся в блестках от лучей луны двурогой,
Истому — не прохладу в грудь лила.
Но неумолчно северная нота
Всё ныла, ныла… Это было что-то
13
Подобное германских мастеров
Квартетам, с их глубокою и странной
Постройкою, с подземной, постоянно
Работающей думой! Средь ходов
Веселых поражающий нежданно
Таинственною скорбью вечный зов
В какой-то мир, погибший, но желанный;
Подслушанная тайна у валов
Безбрежного, мятущегося моря,
У леса иль у степи; тайный яд
Отравы разъедающего горя…
И пусть аккорды скачут и звенят,
Незаглушим в Бетховена иль Шпора
{68}Квартете этот вечный звук раздора.
14
Ты помнишь ли один, совсем больной,
Квартет глухого мастера
{69}? Сидела,
Как статуя, недвижно ты, с слезой
В опущенных очах. О! как хотела
Ты от себя прогнать меня, чтоб мой
Язык, тебе разоблачавший смело
Весь новый мир, владеющий тобой,
Замолк! Но тщетно: делал то же дело
Квартет. Дышал непобедимой он,
Хотя глухой и сдавленною страстью,
И слышалось, что в мир аккордов стон
Врывался с разрушительною властью
И разъедал основы строя их,
И в судорожном tremolo
[35] затих.
15
О, вспомни!.. И нельзя тебе забыть!
Твоя душа так долго, так сурово
Возобладать собою допустить
Боялася всему, что было ново.
Ты не из тех, которые шутить
Спокойно могут с тайным смыслом слова,
Которым любо век себя дразнить,
Которым чувство каждое обнова…
Ты не из тех! И вечно будь такой,
Мой светлый сильф
{70}, с душой из крепкой стали,
Пусть жизнь моя разбита вся тобой,
Пусть в душу мне влила ты яд печали,—
Ты права!.. Но зачем у ног твоих
Я не могу, целуя страстно их,
16
Сказать, что, право, честно ты решила
Вопрос, обоим, может быть, равно
Тяжелый нам? Безмолвна, как могила,
Твоя душа на зов моей давно…
Но знай, что снова злая нота пыла
В разбитом сердце, и оно полно
Всё той же беззаконной жажды было.
Где б ни был я — во мне живет одно!
И то одно старо, как моря стоны,
Но сильно, как сокрытый в перстне яд:
Стон не затих под страстный звук канцоны,
Былые звуки tremolo дрожат,
Вот слезы, вот и редкий луч улыбки —
Квартет и страшный вопль знакомой скрипки!
17
За то, чтоб ты со мной была в сей миг,
За то, чтобы, как встарь, до нервной дрожи
Заслушавшись безумных грез моих,
Ты поняла, как внутренно мы схожи,
Чтобы, следя за ходом дум твоих
И холод их искусственный тревожа,
Овладевать нежданно нитью их…
О! я за это отдал бы, мой боже,
Без долгих справок всё, что мне судил
Ты в остальном грядущем!.. Было б пошло
Назвать и жертвой это. Тот, кто жил
Глубоким, цельным чувством в жизни прошлой
Хоть несколько мгновений, — не мечтай
Жить вновь — благодари и умирай!
18
Один лишь раз… о да! сомнений нет —
Раз только — хаос груди проникает
Таинственный глагол: «Да будет свет!»
{71}Встает светило, бездну озаряет,
И всё, что в ней кипело много лет,
Теплом лучей вкруг центра собирает.
Что жить должно — на жизнь дает ответ;
В чем меры нет — как море опадает;
Душевный мир замкнут и завершен:
Не темная им больше правит сила,
А стройно, мерно двигается он
Вокруг животворящего светила.
Из бездны темной вырвавшись, оно
Всё держит властно, всё живит равно.
19
О, не зови мечтанием безумным
Того, что сердцу опытом далось!
Едва ль не всё, что названо разумным,
Родилося сначала в царстве грез,
Явясь на свет, встречалось смехом шумным
Иль ярым кликом бешеных угроз,
Таилось в тишине благоразумным
И кровью многих смелых полилось.
И вновь нежданно миру представало,
И, бездны мрак лучами озаря,
Блестящим диском истины сияло,
А греза — то была его заря!
То было бездны смутное стремленье
Создать свой центр, найти определенье.
20
Нет! не зови безумием больным
Того, что ты, пугливою борьбою
Встречая долго и мечтам моим
Отдаться медля, чуткою душою
Поймешь, бывало, ясно той порою,
Когда пойдут по небесам ночным
Лампады зажигаться над землею!
В тот час к земле опущенным твоим
Ресницам длинным было подниматься
Вольнее — и, борьбой утомлена,
Решалася ты вере отдаваться,
И, девственно-светла, чиста, нежна,
Ты слушала с доверчивостью жадной
То проповедь, то ропот безотрадный!
21
Как я любил в тебе, мой серафим,
Борьбу твою с моею мыслью каждой,
Ту робость, что лишь избранным одним
Душам дается, настоящей жаждой
Исполненным… Приходит вера к ним
Не скоро, но, поверивши однажды,
Они того, что истинно-святым
Признали раз, не поверяют дважды.
Таких не много. Их благословил
Иль проклял рок — не знаю. В битву смело
Они идут, не спрашиваясь сил.
Им жизнь не сон, а явь, им слово — дело,
И часто… Но ведь есть же, наконец,
Всеправящий, всевидящий отец!
22
И что мне было в этих слепо-страстных
Иль страстно-легкомысленных душах,
Которых вечно можно влечь, несчастных,
Из неба в ад, с вершины в грязь и прах,
Которых, в сердца чувствиях невластных,
Таскай куда угодно, — в тех рабах,
Привыкших пыл движений любострастных
Цитатами и в прозе и в стихах
Раскрашивать? Душе противно было
Слепое их сочувствие всегда,
Пусть не одна из них меня любила
С забвеньем долга, чести и стыда,
Бессмысленно со мною разделяя
И тьму и свет, и добрая и злая!
23
Но ты… Нервический удар в тот час,
Когда б сбылись несбыточные грезы,
Разбил бы полнотой блаженства нас,
Деливших всё: молитву, думы, слезы…
Я в это верю твердо… Но не раз
Я сравнивал тебя с листом мимозы
Пугливо-диким, как и ты подчас,
Когда мой ропот в мрачные угрозы
Переходил, и мой язык, как нож,
В минуты скорби тягостной иль гнева,
Мещанство, пошлость, хамство или ложь
Рубил сплеча направо и налево…
Тогда твои сжималися черты,
Как у мимозы трепетной листы.
24
Прости меня! Романтик с малолетства
До зрелых лет — увы! я сохранил
Мочаловского времени наследство
И, как Торцов, «трагедии любил».
{72}Я склонность к героическому с детства
Почувствовал, в душе ее носил
Как некий клад, испробовал все средства
Жизнь прожигать и безобразно пил;
Но было в этом донкихотстве диком
Не самолюбье пошлое одно:
Кто слезы лить способен о великом,
Чье сердце жаждой истины полно,
В ком фанатизм способен на смиренье,
На том печать избранья и служенья.
25
А всё же я «трагедии ломал»
{73},
Хоть над трагизмом первый издевался…
Мочаловский заветный идеал
Невольно предо мною рисовался;
Но с ужасом я часто узнавал,
Что я до боли сердца заигрался,
В страданьях ложных искренно страдал
И гамлетовским хохотом смеялся,
Что билася действительно во мне
Какая-то неправильная жила
И в страстно-лихорадочном огне
Меня всегда держала и томила,
Что в меру я — уж так судил мне бог —
Ни радоваться, ни страдать не мог!
26
О вы, насмешкой горько-ядовитой
Иль шуткой меткой иль забавно-злой
Нередко нарушавшие покой
Скрываемой и часто ловко скрытой,
Но вечной язвы, вы, кому душой,
Всей любящей без меры, хоть разбитой
Душой, я предавался — раны той,
Следов борьбы не стихшей, но прожитой,
Касались вы всегда ли в добрый час,
Всегда ль с сознаньем истины и права?
Иль часто брат, любивший братски вас,
Был дружескому юмору забава?..
Что б ни было — я благодарен вам:
Я в юморе искал отрады сам!
27
Но ты… тебя терзать мне было любо,
Сознательно, расчетливо терзать…
Боль сердца — как нытье больного зуба
{74}Ужасную — тебе я передать
Безжалостно хотел. Я был сугубо
Виновен — я, привыкший раздувать
В себе безумство, наслаждался грубо
Сознанием, что в силах ты страдать,
Как я же! О, прости меня: жестоко
Наказан я за вызов темных сил…
Проклятый коршун памяти глубоко
Мне в сердце когти острые вонзил.
И клювом жадным вся душа изрыта
Nell mezzo del cammin di mia vita!
[36] {75}
28
Я не пою «увядший жизни цвет»
{76},
Как юноша, который сам не знает
Цены тому, что он, слепец, меняет
На тяжкое наследье зол и бед.
Обновка мрачной скорби не прельщает
Меня давно — с тех пор, как тридцать лет
Мне минуло… Не отжил я — о нет!..
И чуткая душа не засыпает!
Но в том и казнь: на что бы ни дала
Душа свой отзыв — в отзыве таится
Такое семя будущего зла,
Что чуткости своей она боится,
Но и боясь, не в силах перестать
Ни откликаться жизни, ни страдать.
29
Порой единый звук — и мир волшебный
Раскрылся вновь, — и нет пределов снам!
Порою женский взгляд — и вновь целебный
На язвы проливается бальзам…
И зреет гимн лирически-хвалебный
В моей душе, вновь преданной мечтам;
Но образ твой, как хлад зимы враждебной,
Убийствен поздней осени цветам.
Из опьяненья сердце исторгая
Явленьем неожиданным своим,
Всей чистотой, всей прелестью сияя,
Мой мстительный и светлый серафим
То тих и грустен, то лукав и даже
Насмешлив, шепчет он: «Я та же, та же
30
Твоя звезда в далекой вышине,
Твой страж крылатый и твое творенье,
Твой вздох в толпе, твой вопль наедине,
Твоя молитва и твое сомненье;
Я та же, та же — мне, единой мне,
Принадлежит и новое волненье.
Вглядись, вглядись!.. Не я ли в глубине
Стою, светла, за этой бледной тенью:
И в ней моей улыбки ищешь ты,
Моих ресниц, опущенных стыдливо,
Моей лукаво-детской простоты,
Отзывчивости кротко-молчаливой…
Зачем искать? Безумец! Я одна
Твоей сестрой, подругой создана.
31
Не верь во мне — ни гордости суровой,
Ни равнодушной ясности моей.
Припомни, как одно, бывало, слово
Изобличит всю ложь моих речей.
Вглядись, вглядись! Я в мире жизни новой
Всё тот же лик волшебницы твоей,
На первый зов откликнуться готовой,
На песню первую бывалых дней!
Твоим мольбам, мечтам, восторгам, мукам
Отвечу я, сказавшись чутко им
Фиалки скромной запахом ночным,
Гитары тихим, таинственным звуком.
Ты знаешь край?
{77} О! мы опять пойдем
В тот старый сад, в тот опустелый дом!»
32
И жадно я знакомым звукам внемлю,
И оболыценья призрака порой
За тайный зов души твоей приемлю,
И мнится мне, я слышу голос твой,
Чрез горы и моря в чужую землю
Ко мне достигший из земли родной…
Но пробудясь — ясней умом объемлю
Всю бездну мук души своей больной:
Мысль о тебе железом раскаленным
Коснется ран, разбередит их вновь,
Разбудит сердце и взволнует кровь.
И нет тогда конца ночам бессонным
Или горячке безотвязных снов…
То — пса тоска, то — мука злых духов!
33
Да, пса тоска! Тот жалобно-унылый,
Однообразный вой во тьме ночей,
Что с призраками ночи и с могилой
Слился в пугливой памяти людей…
У сладостных певцов «тоской по милой»
На нежном языке бывалых дней
Звалась опа, — но кто со всею силой
Ее изведал, тот зовет верней.
Правдивое, хоть грубое названье
Пришло давно мне в голову… Оно
Разлуками, отравами свиданья
Да осени ночами создано…
Глядишь, как сыч, бывало… сердце ноет,
А пес так глупо, дико, жалко воет!
34
Из тех ночей особенно одна
Мне памятна дождливая. — Проклятья
Достаточные от меня она
Терпела. В этот вечер увидать я
Тебя не мог — была увезена
Куда-то ты, — но дверь отворена
В твой уголок, дышавший благодатью,
В приют твой девственный была, и платье
Забытое иль брошенное там
Лежало на диване… С замираньем
Сердечным, с грустью, с тайным содроганьем
Я прижимал его к моим устам,
И ночь потом — сколь это ни обидно —
Я сам, как пес, выл глупо и бесстыдно!у
35
И здесь, один, оторванный судьбой
От тягостных вопросов, толков праздных,
От дней, обычной текших чередой,
От дружб святых и сходок безобразных,
Я думы сердца, думы роковой
Не заглушил в блистательных соблазнах
Былых веков, встававших предо мной
Громадами чудес разнообразных…
Хоть накануне на хребте своем,
На тихом, бирюзово-голубом,
Меня адриатические волны
Лелеяли… хоть изумленья полный
Бродил я день — душою погружен
В великолепно-мрачный пестрый сон.
36
Царица моря предо мной сияла
Красой своей зловещей старины;
Она, как море, бездны прикрывала
Обманчивым покровом тишины…
По сих-то бездн душа моя алкала!
Пришлец из дальней северной страны,
Хотел сорвать я жадно покрывало
С закутанной в плащ бархатный жены…
У траурных гондол дознаться смысла
Их тайны сладострастно-гробовой…
И допроситься, отчего нависло
С ирониею сумрачной и злой
Лицо палаццо старых над водою,
И мрак темниц изведать под землею…
37
В сей мрак подземный, хладный и немой,
Сошел я… Стоном многих поколений
Звучал он — их проклятьем и мольбой…
И мнилось мне: там шелестели тени!
И мне гондолы траур гробовой
Понятен стал. День страстных упоений
В той, как могила, мрачной и немой
Обители плывучей наслаждений
Безумно-лихорадочных — прием
Волшебного восточного напитка…
Нажиться жизнью в день один… Потом
Холодный мрак тюрьмы, допрос и пытка,
Нежданная, негаданная казнь…
О! тут исчезнет всякая боязнь.
38
Тут смолкнут все пугливые расчеты.
Пока живется — жизни дар лови!
О том, что завтра, — лишние заботы:
Кто знает? chi lo sa?..
[37] В твоей крови
Кипит огонь?.. Лишь стало бы охоты,
А то себе безумствуй и живи!
Какой тут долг и с жизнью что за счеты!
Пришла любовь?.. Давай ее, любви!
О милый друг! Тогда под маской черной
Ты страсти отдавалась бы смелей.
И гондольер услужливо проворный
Умчал бы нас далеко от людей,
От их суда, нравоучений, крика…
Хоть день, да наш! а там — суди, владыка!
39
Хоть день, да наш! Ужели ж лучше жить
Всей пошлостию жизни терпеливо,
А в праздники для отдыха кутить
(И то, чтоб уж не очень шаловливо!).
Так только немец может с сластью пить
В Тиргартене своем берлинском пиво —
А нам — увы! — в Тиргартен не ходить!
На русский вкус, хотя неприхотливый,
Но тонкий от природы, — ни гроша
Тиргартен
{78} их с хваленой дешевизной
Не стоит. Наша странная душа
Широкою взлелеяна отчизной…
Уж если пить — так выпить океан!
Кутить — так пир горой и хор цыган!
40
А там — что будет, будет! И могла же
Ты понимать когда-то, ангел мой,
Что ничего не выдумаешь гаже
Того, в чем немцы видят рай земной;
Что «прожиганье жизни» лучше даже
Их праздничной Аркадии
{79}, сухой
Иль жирно-влажной… Ты всё та же, та
Стоишь полна сочувствий предо мной…
И молодую грудь твою колышет
Тревожно всё, в чем мощь и широта,
Морская безграничность жизни дышит,
Любви, надежды, веры полнота:
Свободы ли и правды смелой слово,
Стих Пушкина иль звуки песни новой.
41
Ты предо мной всё та же: узнаю
Тебя в блестящем белизной наряде
Среди толпы и шума… Вновь стою
Я впереди и, прислонясь к эстраде,
Цыганке внемлю, — тайную твою
Ловлю я думу в опущенном взгляде;
Упасть к ногам готовый, я таю
Восторг в поклоне чинном, в чинном хладе
Речей, — а голова моя горит,
И в такт один, я знаю, бьются наши
Сердца — под эту песню, что дрожит
Всей силой страсти, всем контральтом Маши…
Мятежную венгерки
{80} слыша дрожь!
42
Как в миг подобный искренности редкой
Бывала ты чиста и хороша!
Из-под ресниц, спадавших мягкой сеткой,
Столь нежная, столь кроткая душа
Глядела долгим взглядом… Если ж едкой
Тоски полна и, тяжело дыша,
Язвила ты насмешливой заметкой
Иль хладом слов того, кто, пореша
Вопрос души заветнейший, тобою,
Твоим дыханьем девственным дышал,
Твоей молился чистою мольбою,
Одной твоей тоскою тосковал…
О, как тогда глаза твои блистали
Безжалостным, холодным блеском стали!
43
Да! помню я тебя такою! Но
И блеск стальной очей, и хлад поклона —
Всё это было муками дано,
Изучено в борьбе как оборона.
Хоть быть иначе было не должно
И не могло в тебе во время оно:
С своей душою кроткой суждено
Тебе бороться было, Дездемона!
И ты боролась честно!.. Из борьбы
С задумчивым, но не смущенным взором
Ты вышла — слава богу!.. До судьбы
Другой души, зловещим метеором
На небосклоне девственном твоем
Горевшей мутным вражеским огнем,
44
Что нужды?.. Но зачем же лик твой снова
С печалью тихой предо мной стоит…
Зачем опять не гордо и сурово,
А скорбно так и робко он глядит?
Из-под ресниц слеза сбежать готова,
Рука тревожно, трепетно дрожит,
Когда язык разлуки вечной слово
Неумолимо строго говорит.
Опять окно и столик твой рабочий,
Канва шитья узорного на нем,
С печальным взором поднятые очи,
И приговор в унылом взгляде том…
И мнится — вновь я вижу с содроганьем,
Как голову склоняешь ты с рыданьем!
45
Ты знаешь ли?.. Я посетил тот дом.
Я посетил и тот другой, старинный,
С его балконом ветхим, с залой длинной
И с тишиной безлюдною кругом…
Тот старый дом, тот уголок пустынный,
Где жизнь порой неслась волшебным сном
Для нас обоих, где таким огнем,
Такой любовью — под завесой чинной,
Под хладной маской — тайный смысл речей
Пылал порой, где души говорили
То песнию, то молнией очей!
Молил я, помнишь, чтобы там застыли
Иные речи в воздухе навек…
Глуп иногда бывает человек!
46
Я посетил… Отчаянная смелость
Войти в сей мир заглохший и немой
Минувшего, с душой еще больной,
Нужна была. Но мне собрать хотелось,
Прощаяся с родимой стороной,
Хотя на миг сухие кости в целость,
Облечь скелет бывалой красотой…
И если б в них хоть искра жизни тлелась,
В сухих костях, — они на вопль души
Отозвались бы вздохом, звуком, словом,
Хоть шелестом, хоть скрежетом гробовым,
Хоть чем-нибудь… Но в сумрачной тиши
Дышало всё одной тоской немою,
Дом запустел, и двор порос травою!
47
Заглохло всё… Но для чего же ты
По-прежнему, о призрак мой крылатый,
Слетаешь из воздушных стран мечты
В печальный, запустением объятый,
Заглохший мир, где желтые листы,
Хрустя, шумят, стопой тяжелой смяты;
Сияя вся как вешние цветы
И девственна, как лик Аннунциаты
{81},
Прозрачно-светлый догарессы лик,
Что из паров и чада опьяненья,
Из кнастерного
{82} дыма и круженья
Пред Гофманом, как светлый сон, возник —
Шипок расцвесть готовящейся розы,
Предчувствие любви, томленье грезы!
48
Аннунциата!.. Но на голос мой,
На страстный зов я тщетно ждал отзыва.
Уже заря сменялася зарей
И волны бирюзовые залива
Вдали седели… Вопль безумный мой
Одни палаццо вняли молчаливо,
Да гондольер, встряхнувши головой,
Взглянул на чужеземца боязливо,
Потом гондолу тихо повернул,
И скоро вновь Сан-Марко
{83} предо мною
Своей красой узорчатой блеснул.
Спи, ангел мой… да будет бог с тобою.
А я?.. Давно пора мне привыкать
1857
Вверх по Волге{84}
Дневник без начала и без конца
(Из «Одиссеи о последнем романтике»)
1
Без сожаления к тебе,
Без сожаления к себе
Я разорвал союз несчастный…
Но, боже, если бы могла
Понять ты только, чем была
Ты для моей природы страстной!..
Увы! мне стыдно, может быть,
Что мог я так тебя любить!..
Ведь ты меня не понимала!
И не хотела понимать,
Быть может, не могла понять,
Хоть так умно подчас молчала.
Жизнь не была тебе борьба…
Уездной барышни судьба
Тебя опутала с рожденья…
Тщеславно-пошлые мечты
Забыть была не в силах ты
В самих порывах увлеченья…
Не прихоть, не любовь, не страсть
Заставили впервые пасть
Тебя, несчастное созданье…
То злость была на жребий свой,
Да мишурой и суетой
Безумное очарованье.
Я не виню тебя… Еще б
Я чей-то медный лоб
Винил, что лоцко он и смело
Пустить и блеск, и деньги мог,
И даже опиума сок
В такое «миленькое» дело…
Старо всё это на земли…
Но помнишь ты, как привели
Тебя ко мне?.. Такой тоскою
Была полна ты, и к тебе,
Несчастной, купленной рабе,
Столь тяготившейся судьбою,
Больную жалость сразу я
Почуял — и душа твоя
Ту жалость сразу оценила;
И страстью первой за нее,
За жалость ту, дитя мое,
Меня ты крепко полюбила.
Постой… рыданья давят грудь,
Дай мне очнуться и вздохнуть,
Чтоб передать любви той повесть.
О! пусть не я тебя сгубил,—
Но, если б я кого убил,
Меня бы так не грызла совесть.
Один я в городе чужом
Сижу теперь перед окном,
Смотрю на небо: нет ответа!
Владыко боже! дай ответ!
Скажи мне: прав я был иль нет?
Покоя дай мне, мира, света!
Могла столь адская печаль
Терзать. Душа болит и ноет…
Вина, вина! Оно одно,
Лиэя
{86} древний дар — вино,
Волненья сердца успокоит.
2
Я не был в городе твоем
{87},
Но, по твоим рассказам, в нем
Я жил как будто годы, годы…
Его черт три года искал,
И раз зимою подъезжал,
Да струсил снежной непогоды,
Два раза плюнул и бежал.
Мне видится домишко бедный
На косогоре; профиль бледный
И тонкий матери твоей.
О! как она тебя любила,
Как баловала, как рядила,
И как хотелось, бедной, ей,
Чтоб ты как барышня ходила.
Отец суров был и угрюм,
Да пил запоем. Дан был ум
Ему большой, и желчи много
В нем было. Горе испытав,
На жизнь невольно осерчав,
Едва ль он даже верил в бога
(В тебя его вселился нрав).
Смотрел он с злобою печальной —
Предвидя в будущности дальной
Твоей и горе, и нужду,—
Как мать девчонку баловала,
И как в ней суетность питала,
И как ребенку ж на беду
В нем с детства куклу развивала.
И был он прав, но слишком крут;
В нем неудачи, тяжкий труд
Да жизнь учительская съели
Все соки лучшие. Умен,
Учен, однако в званьи он
Ни проку не видал, ни цели…
Он даже часто раздражен
Бывал умом твоим пытливым,
Уже тогда самолюбивым,
Но знанья жаждавшим. Увы!
Безумец! Он и не предвидел,
Что он спасенье ненавидел
Твоей горячей головы,—
И в просвещеньи зло лишь видел.
Работы мозг лишил он твой…
Ведь если б, друг несчастный мой,
Ты смолоду чему училась,
Ты жизнь бы шире понимать
Могла, умела б не скучать,
С кухаркой пошло б не бранилась,
На светских женщин бы не злилась.
Ты поздно встретилась со мной.
Хоть ты была чиста душой,
Но ум твой полон был разврата.
Тебе хотелось бы блистать,
Да «по-французскому» болтать —
Ты погибала без возврата,
А я мечтал тебя спасать.
Вновь тяжко мне. Воспоминанья
Встают, и лютые терзанья
Мне сушат мозг и давят грудь.
О! нет лютейшего мученья,
Как видеть, что, кому спасенья
Желаешь, осужден тонуть,
И нет надежды избавленья!
Пойду-ка я в публичный сад:
Им славится Самара-град…
Вот Волга-мать передо мною
Катит широкие струи,
И думы ширятся мои,
И над великою рекою
Свежею, крепну я душою.
Зачем я в сторону взглянул?
Передо мною промелькнул
Довольно милой «самарянки»
Прозрачный облик… Боже мой!
Он мне напомнил образ твой
Каким-то профилем цыганки,
Какой-то грустной красотой.
И вновь изменчивые глазки,
Вновь кошки гибкость, кошки ласки.
Скользящей тени поступь вновь
Передо мной… Творец! нет мочи!
Безумной страсти нашей ночи
Вновь ум мутят, волнуют кровь…
Опять и ревность, и любовь!
Другой… еще другой… Проклятья!
Тебя сожмут в свои объятья…
Ты, знаю, будешь холодна…
Но им отдашься всё же, всё же!
Продашь себя, отдашься… Боже!
Скорей забвенья, вновь вина…
И завтра, послезавтра тоже!
3
Писал недавно мне один
Достопочтенный господин
И моралист весьма суровый,
Что «так и так, дескать, ты в грязь
Упал: плотская эта связь,
И в ней моральной нет основы».
О старый друг, наставник мой
И в деле мысли вождь прямой
{88},
Светильник истины великий,
Ты страсти знал по одному
Лишь слуху, а кто жил — тому
Подразделенья ваши дики.
Да! было время… Я иной
Любил любовью
{89}, образ той
В моей «Venezia la bella»
Похоронен; была чиста,
Как небо, страсть, и песня та —
Чтоб снова миг хоть пережить
Той чистой страсти, чтоб вкусить
И счастья мук, и муки счастья,
Без сожаленья б отдал я
Остаток бедный бытия
И все соблазны сладострастья.
А отчего?.. Так развилось
Во мне сомненье, что вопрос
Приходит в ум: не оттого ли,
Что не была моей она?..
Что в той любви лишь призрак сна
Все были радости и боли?
Как хорошо я тосковал,
Как мой далекий идеал
Меня тревожно-сладко мучил!
Как раны я любил дразнить,
Как я любил тогда любить,
Как славно «псом тогда я скучил»!
Далекий, светлый призрак мой,
Плотскою мыслью ни одной
В душе моей не оскорбленный!
Нет, никогда тебя у ног
Другой я позабыть не мог,
В тебя всегда, везде влюбленный.
Но то любовь, а это страсть!
Плотская ль, нет ли — только власть
Она взяла и над душою.
Чиста она иль не чиста,
Но без нее так жизнь пуста,
Так сердце мучится тоскою.
Вот Нижний под моим окном
В великолепии немом
В своих садах зеленых тонет;
Ночь так светла и так тиха,
Что есть для самого греха
Успокоение… А стонет
Всё так же сердце… Если б ты
Одна, мой ангел чистоты,
В больной душе моей царила…
В нее сошла бы благодать,
Ее теперь природа-мать
Радушно бы благословила.
Да не одна ты… вот беда!
От угрызений и стыда
Я скрежещу порой зубами…
Ты всё передо мной светла,
Но прожитая жизнь легла
Глубокой бездной между нами.
И Нижний-город предо мной
Напрасно в красоте немой
В своих садах зеленых тонет…
Напрасно ты, ночная тишь,
Душе забвение сулишь…
Душа болит, и сердце стонет.
Былого призраки встают,
Воспоминания грызут
Иль вновь огнемтерзают жгучим.
Сырых Полюстрова
{91} ночей,
Лобзаний страстных и речей
Воспоминаньями я мучим.
Вина, вина! Хоть яд оно,
Лиэя древний дар — вино!..
4
А что же делать? На борьбу
Я вызвал вновь свою судьбу,
За клад заветный убеждений
Меня опять насильно влек
В свой пеной брызжущий поток
Мой неотвязный, злобный гений.
Ты помнишь ли, как мы с тобой
Въезжали в город тот степной
{92}?
Я думал: вот приют покоя;
Здесь буду жить да поживать,
Пожалуй даже… прозябать,
Не корча из себя героя.
Лишь жить бы честно… Бог ты мой!
Какой ребенок я смешной,
Идеалист сорокалетний! —
Жить честно там, где всяк живет,
Неся усердно всякий гнет,
Купаясь в луже хамских сплетней.
В Аркадию собравшись раз
(Гласит нам басенный рассказ),
Волк старый взял с собою зубы…
Взял, не бояся лая псов,
Язык свой вольный, нрав свой грубый,
По хамству скоро гвалт пошел,
Что «дикий» человек пришел
Не спать, а честно делать дело…
Ну, я, хоть вовсе не герой,
А человек весьма простой,
В борьбу рванулся с ними смело.
Большая смелость тут была
Нужна… Коли б тут смерть ждала!
А то ведь пошлые мученья,
Рутины ковы мелочной,
Интриги зависти смешной…
В конце же всех концов лишенья.
Ну! ты могла ль бы перенесть
Всё, что худого только есть
На свете?.. всё, что хуже смерти —
Нужду, скопленье мелких бед,
Долги докучные? О нет!
Вы в этом, друг мой, мне поверьте…
На жертвы ты способна… да!
Тебя я знаю, друг! Когда
Скакала ты зимой холодной
В бурнусе легком, чтоб опять
С безумцем старым жизнь связать,
То был порыв — и благородный!
Иль за бесценок продала
Когда ты всё, что добыла
Моя башка работой трудной,—
Чтоб только вместе быть со мной,
То был опять порыв святой,
Хотя безумно-безрассудный…
Но пить по капле жизни яд,
Но вынесть мелочностей ад
Без жалоб, хныканья, упреков
Ты, даже искренно любя,
Была не в силах… От тебя
Видал немало я уроков.
Я обмануть тебя хотел
Иною страстью… и успел!
Ты легкомысленно-ревнива…
Да сил-то где ж мне было взять,
Чтоб к цели новой вновь скакать?
Я — конь избитый, хоть ретивый!
Ты мне мешала… Не бедна
На свете голова одна,—
Бедна, коль есть при ней другая…
Один стоял я без оков
И не пугался глупых псов,
Ни визга дикого, ни лая.
И мне случалось (не шутя
Скажу тебе, мое дитя)
Не раз питаться коркой хлеба,
Порою кров себе искать
И даже раз заночевать
Под чистым, ясным кровом неба…
Зато же я и устоял,
Зато же идолом я стал
Для молодого поколенья…
И всё оно прощало мне:
И трату сил, и что в вине
Ищу нередко я забвенья.
И в тесной конуре моей
Высокие случались встречи,
Свободные лилися речи
Готовых честно жить людей…
О молодое поколенье!
На Волге, матери святой,
Тебе привет, благословенье
На благородное служенье
Шлет старый друг, наставник твой.
Я устоял, я перемог,
Я победил… Но, знает бог,
Какой тяжелою ценою
Победа куплена… Увы!
Для убеждений головы
Я сердцем жертвовал — тобою!
Немая ночь, и всё кругом
Почиет благодатным сном,
А мне не дремлется, не спится,
Страшна мне ночи тишина:
Я слышу шорох твой… Вина!
И до бесчувствия напиться!
5
Зачем, несчастное дитя,
Ты не слегка и не шутя,
А искренно меня любила.
Ведь я не требовал любви:
Одно волнение в крови
Во мне сначала говорило.
С Полиной, помнишь, до тебя
Я жил; любя иль не любя,
Но по душе… Обоим было
Нам хорошо. Я знать, ей-ей,
И не хотел, кого дарила
Дешевой ласкою своей
Она — и с кем по дням кутила.
Во-первых, всех не перечесть…
Потом, не всё ль равно?.. Но есть
На свете дурни. И влюбился
Один в Полину; был он глуп,
Как говорят, по самый пуп,
Он ревновал, страдал, бесился
И, кажется, на ней женился.
Я сам, как честный человек,
Ей говорил, что целый век
Кутить без устали нельзя же,
Что нужен маленький расчет,
Что скоро молодость пройдет,
Что замужем свободней даже…
И мы расстались. Нам была
Разлука та не тяжела;
Хотя по-своему любила
Она меня, и верю я…
Ведь любит борова свинья,
Ведь жизнь во всё любовь вложила.
А я же был тогда влюблен…
Ах! это был премилый сон:
Я был влюблен слегка, немножко…
Болезненно-прозрачный цвет
Лица, в глазах фосфора свет,
Воздушный стан, испанки ножка,
Движений гибкость… Словом: кошка
Вполне, как ты же, может быть…
Мне было сладко так любить
Без цели, чувством баловаться,
С больной по вечерам сидеть,
То проповедовать, то петь,
То увлекать, то увлекаться…
Но я боялся заиграться…
Всецело жил в душе моей
Воздушный призрак лучших дней:
Молился я моей святыне
И вклад свой бережно хранил
И чувствовал, что свет светил
Мне издали в моей пустыне…
Увы! тот свет померкнул ныне.
Плут Алексей Арсентьев, мой
Личарда верный
{94}, нумерной
Хозяин, как-то «предоставил»
Тебя мне. Как он скоро мог
Обделать дело — знает <бог>
Да он. Купцом московским славил
Меня он, сказывала ты…
А впрочем — бог ему прости!
И впрямь, как купчик, в эту пору
Я жил… Я деньгами сорил,
Как миллионщик, и — кутил
Без устали и без зазору…
Я «безобразие» любил
С младых ногтей. Покаюсь в этом,
Пожалуй, перед целым светом…
Какой-то странник вечный я…
Меня оседлость не прельщает,
Меня минута увлекает…
Ну, хоть минута, да моя!
А там… а там суди, владыко!
Я знаю сам, что это дико,
Что это к ужасам ведет…
Но переспорить ли природу?
Я в жизни верю лишь в свободу,
Неведом вовсе мне расчет…
Я вечно, не спросяся броду,
Как омежной
{95} кидался в воду,
Но честно я тебе сказал
И кто, и что я… Я желал,
Чтоб ты не увлекалась очень
Ни положением моим,
Ни особливо мной самим…
Я знал, что в жизни я не прочен…
Зачем же делать вред другим?
Но ты во фразы и восторги
Безумно диких наших оргий,
Ты верила… Ты увлеклась
И мной, и юными друзьями,
И прочной становилась связь
Между тобой и всеми нами.
Меня притом же дернул черт
Быть очень деликатным. Горд
Я по натуре; не могу я,
Хоть это гнусно, может быть,
По следствиям, — переварить
По принужденью поцелуя.
И сам увлечься, и увлечь
Всегда, как юноша, хочу я…
А мало ль, право, в жизни встреч,
В которых лучше, может статься,
Не увлекать, не увлекаться…
В них семя мук, безумства, зла,
Быть может, в будущем таится:
За них расплата тяжела,
От них морщины вдоль чела
Ложатся, волос серебрится…
Но продолжаю… Уж не раз
Видал я, что, в какой бы час
Ни воротился я, — горела
Всё свечка в комнатке твоей.
Горда ты, но однажды с ней
Ты выглянуть не утерпела
Из полузамкнутых дверей.
Я помню: раз друзья кутили
И буйны головы сложили
Повалкой в комнате моей…
Едва всем места доставало,
А всё меня раздумье брало,
Не спать ли ночь, идти ли к ней?
Я подошел почти смущенный
К дверям. С лукаво-затаенной,
Но видной радостью меня
Ты встретила. Задул свечу я…
Слились мы в долгом поцелуе,
Не нужно было нам огня.
А как-то раз я воротился
Мертвецки — и тотчас свалился,
Иль сложен был на свой диван
Алешкой верным. Просыпаюсь…
Что это? сплю иль ошибаюсь?
Что это? правда иль обман?
Сама пришла — и, головою
Склонившись, опершись рукою
На кресла… дремлет или спит…
И так грустна, и так прекрасна…
В тот миг мне стало слишком ясно,
Что полюбила и молчит.
Я разбудил тебя лобзаньем,
И с нервно-страстным содроганьем
Тогда прижалась ты ко мне.
Не помню, что мы говорили,
Но мы любили, мы любили
Друг друга оба — и вполне!..
О старый, мудрый мой учитель,
О ты, мой книжный разделитель
Между моральным и плотским!..
Ведь ты не знал таких мгновений?
Так как же — будь ты хоть и гений —
Даешь названье смело им?
Ведь это не вопрос норманской
{96},
Не древность азбуки славянской,
Не княжеских усобиц ряд…
В живой крови скальпель потонет,
Живая жизнь под ним застонет,
А хартии твои молчат,
Неловко ль, ловко ль кто их тронет.
А тут вот видишь: голова
Горит, безумные слова
Готовы с уст опять срываться…
Ну, вот себя я перемог,
Я с ней расстался — но у ног
Теперь готов ее валяться…
Какой в анализе тут прок?
Эх! Душно мне… Пойду опять я
На Волгу… Там «бурлаки-братья
Под лямкой песню запоют»…
{97}Но тихо… песен их не слышно,
Лишь величаво, вольно, пышно
Струи багряные текут.
Что в них, в струях, скажи мне, дышит?
Что лоно моря так колышет?
Я море видел: убежден,
Что есть у синего у моря
Волненья страсти, счастья, горя,
Хвалебный гимн, глубокий стон…
Привыкли плоть делить мы с духом…
Но тот, кто слышит чутким ухом
Природы пульс… будь жизнью чист
И непорочен он пред богом,
А всё же, взявши в смысле строгом,
И он частенько пантеист,
И пантеист весьма во многом.
6
А впрочем, виноват я сам…
Зачем я волю дал мечтам
И чувству разнуздал свободу?
Ну, что бы можно, то и брал…
А я бесился, ревновал
И страсти сам прибавил ходу.
Ты помнишь ночь… безумный крик
И драку пьяную… (Я дик
Порою.) Друг с подбитым глазом
Из битвы вышел, но со мной
Покойник — истинный герой —
Успел он сладить как-то разом:
Он был силен, хоть ростом мал —
Легко три пуда поднимал.
Очнулся я… Она лежала
Больная, бледная… страдала
От мук душевных… Оскорбил
Ее я страшно, но понятно
Ей было то, что я любил…
Ей стало больно и приятно…
Ведь без любви же ревновать,
Хоть и напрасно, — что за стать?
О, как безумствовали оба
Мы в эту ночь… Сменилась злоба
В душе — меня так создал бог —
Безумством страсти без сознанья,
И жгли тебя мои лобзанья
Всю, всю от головы до ног…
С тобой — хоть умирать мы будем —
Мы ночи той не позабудем.
Ведь ты со мной, с одним со мной,
Мой друг несчастный и больной,
Восторги страсти узнавала,—
Ведь вся ты отдавалась мне,
И в лихорадочном огне
Порой, как кошка, ты визжала.
Да! вся ты, вся мне отдалась,
И жизнь, как лава, понеслась
Для нас с той ночи! Доверяясь
Вполне, любя, шаля, шутя,
Впервые, бедное дитя,
Свободной страсти отдаваясь,
Резвясь, как кошка, и ласкаясь,
Как кошка… чудо как была
Ты благородна и мила!
Прочь, прочь ты, коршун Прометея,
Прочь, злая память… Не жалея,
Сосешь ты сердце, рвешь ты грудь…
И каторжник, и тот ведь знает
Успокоенье… Затихает
В нем ад, и может он заснуть.
А я Манфреда
{98} мукой адской,
Своею памятью дурацкой
Наказан… Иль совсем до дна,
До самой горечи остатка
Жизнь выпил я?.. Но лихорадка
Меня трясет… Вина, вина!
Эх! жить порою больно, гадко!
7
В подземном склепе я… Мерцал
Лишь тусклый свет лампад. Но было
Во тьме и тишине немой
Не страшно мне. В душе больной
Заря рассветная всходила.
Презренье к мукам мелочным
Я вдруг почувствовал своим —
И тем презреньем очищался,
Я крепнул духом, сердцем рос…
Молитве, благодати слез
Я весь восторженно отдался.
Хотелось снова у судьбы
Просить и жизни, и борьбы,
И помыслов, и дел высоких…
Хотелось, хоть на склоне дней,
Из узких выбравшись стезей,
Идти путем стезей широких.
А ты… Казалось мне в тот миг,
Что тайну мук твоих постиг
Я глубоко, что о душе я
Твоей лишь, в праздной пустоте
Погрязшей, в жалкой суете
Скорблю, как друг, как брат жалею…
Скорблю, жалею, плачу… Да —
О том скорблю, что никогда
Тебе из праха не подняться,
О том жалею, что, любя,
Я часто презирал себя,
Что должно было нам расстаться.
Да! что тебе ни суждено —
Нам не сойтись… Так решено
Душою. Пусть воспоминаний
Змея мне сердце иссосет,
{100}—
К борьбе и жизни рвусь вперед
Я смело, не боясь страданий!
Страданья ниже те меня…
Я чувствую, еще огня
Есть у души в запасе много…
Пускай я сам его гасил,
Еще я жив, коль сохранил
Я жажду жизни, жажду бога!
8
Дождь ливмя льет… Так холодна
Ночь на реке и так темна,
Дрожь до костей меня пробрала.
Но я… я рад… Как Лир, готов
Звать на себя я и ветров,
И бури злобу — лишь бы спала
Змея-тоска и не сосала.
Меня знобит, а пароход
Всё словно медленней идет,
И в плащ я кутаюсь напрасно.
Но пусть я дрогну, пусть промок
Насквозь я — позабыть я мог
О ней, о ней, моей несчастной.
Надолго ль? Ветер позатих…
Опять я жертва дум своих.
О, неотвязное мученье!
Коробит горе душу вновь,
И горе это — не любовь,
А хуже, хуже: сожаленье!
И снова памяти моей
Из многих горестных ночей
Одна, ужасная, предстала…
Одна некрасовская ночь,
Без дров, без хлеба… Ну, точь-в-точь,
Как та, какую создавала
Поэта скорбная душа,
Тоской и злобою дыша…
{101}Ребенка в бедной колыбели
Больные стоны моего
И бедной матери его
Глухие вопли на постели.
Всю ночь, убитый и немой,
Я просидел… Когда ж с зарей
Ушел я… Что-то забелело,
Как нитки, в бороде моей:
Два волоса внезапно в ней
В ту ночь клятую поседело.
Дня за два, за три заезжал
Друг старый… Словом донимал
Меня он спьяну очень строгим;
О долге жизни говорил,
Да связь беспутную бранил,
Коря меня житьем убогим,
Позором общим — словом, многим…
Он помощи не предлагал…
{102}А я — ни слова не сказал.
Меня те речи уязвили,
Через неделю до чертей
С ним, с старым другом лучших дней,
Мы на Крестовском
{103} два дня пили —
Нас в часть за буйство посадили.
Помочь — дешевле, может быть,
Ему бы стало… Но спросить
Он позабыл или, имея
В виду высокую мораль,
И не хотел… «Хоть, мол, и жаль,
А уж дойму его, злодея!»
Ну вот, премудрые друзья,
Что ж? вы довольны? счастлив я?
Не дай вам бог таких терзаний!
Вот я благоразумен стал,
Союз несчастный разорвал
И ваших жду рукоплесканий.
Эх! мне не жаль моей семьи…
Меня все ближние мои
Так равнодушно продавали…
Но вас, мне вас глубоко жаль!
В душе безвыходна печаль
По нашей дружбе… Крепче стали
Она казалась — вы сломали.
А всё б хотелось, чтоб из вас
Хоть кто-нибудь в предсмертный час
Мою хладеющую руку
Пришел по-старому пожать
И слово мира мне сказать
На эту долгую разлуку,
Чтоб тихо старый друг угас…
Придет ли кто-нибудь из вас?
Но нет! вы лучше остудите
Порывы сердца; помяните
Меня одним… Коль вам ее
Придется встретить падшей, бедной,
Худой, больной, разбитой, бледной,
Во имя грешное мое
Подайте ей хоть грош вы медный.
Монета мелкая, но всё ж
Ведь это ценность, это — грош.
{104}Однако знобко… Сердца боли
Как будто стихли… Водки, что ли?
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
<1862>

Стихотворения
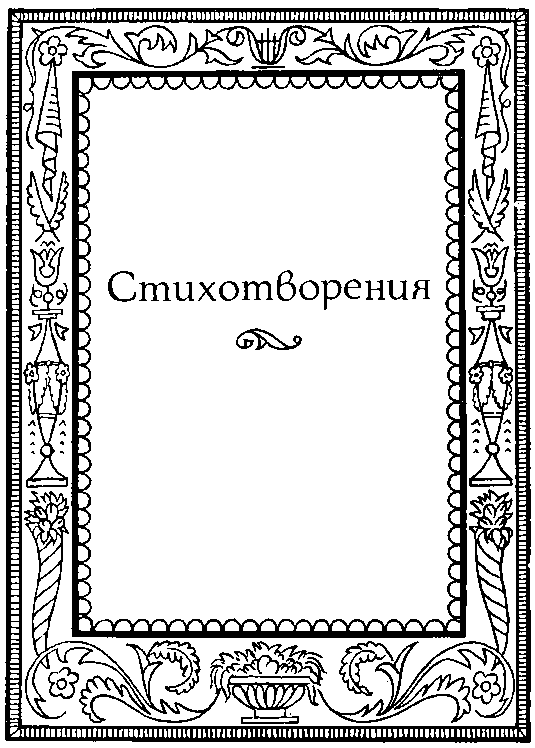
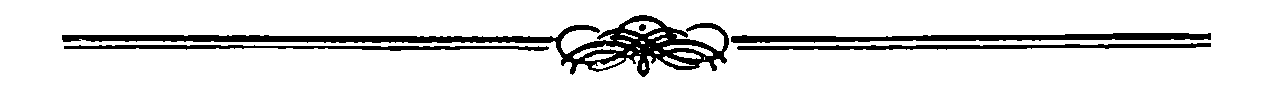
Да, я знаю, что с тобою
Связан я душой;
Между вечностью и мною
Встанет образ твой.
И на небе очарован
Вновь я буду им,
Всё к чертам одним прикован,
Всё к очам одним.
Ослепленный их лучами,
С грустью на челе,
Снова бренными очами
Я склонюсь к земле.
Связан буду я с землею
Страстию земной,—
Между вечностью и мною
Встанет образ твой.
1842
«Нет, за тебя молиться я не мог…»{106}
Нет, за тебя молиться я не мог,
Держа венец над головой твоею.
Страдал ли я, иль просто изнемог,
Тебе теперь сказать я не умею, —
Но за тебя молиться я не мог.
И помню я — чела убор венчальный
Измять венцом мне было жаль: к тебе
Так шли цветы… Усталый и печальный
Я позабыл в то время о мольбе
И всё берег чела убор венчальный.
За что цветов тогда мне было жаль —
Бог ведает: за то ль, что без расцвета
Им суждено погибнуть, за тебя ль —
Не знаю я… в прошедшем нет ответа…
А мне цветов глубоко было жаль…
1842
Доброй ночи{107}
Спи спокойно — доброй ночи!
Вон уж в небесах
Блещут ангельские очи
В золотых лучах.
Доброй ночи… Выдет скоро
В небо сторож твой
Над тобою путь дозора
Совершать ночной.
Чтоб не смела сила злая
Сон твой возмущать:
Час ночной, пора ночная —
Ей пора гулять.
В час ночной, тюрьмы подводной
Разломав запор,
Вылетает хороводной
Цепью рой сестер.
Лихорадки им прозванье;
Любо им смущать
Тихий сон — и на прощанье
В губы целовать.
Лихоманок-лихорадок,
Девяти подруг,
Поцелуй и жгуч, и сладок,
Как любви недуг.
Но не бойся: силой взора
С неба сторож твой
Их отгонит — для дозора
Светит он звездой.
Спи же тихо — доброй ночи!..
Под лучи светил,
Над тобой сияют очи
Светлых божьих сил.
Июнь 1843
Безумного счастья страданья
Ты мне никогда не дарила,
Но есть на меня обаянья
В тебе непонятная сила.
Когда из-под темной ресницы —
Лазурное око сияет,
Мне тайная сила зеницы
Невольно и сладко смыкает.
И больше все члены объемлет
И лень, и таинственный трепет,
А сердце и дремлет, и внемлет
Сквозь сон твой ребяческий лепет.
И снятся мне синие волны
Безбрежно-широкого моря,
И, весь упоения полный,
Плыву я на вольном просторе.
И спит, убаюкано морем,
В груди моей сердце больное,
Расставшись с надеждой и горем,
Отринувши счастье былое.
И грезится только иная,
Та жизнь без сознанья и цели,
Когда, под рассказ усыпляя,
Качали меня в колыбели.
Июнь 1843
Когда средь сонма звезд, размеренно и стройно,
Как звуков перелив, одна вослед другой,
Определенный путь свершающих спокойно,
Комета полетит неправильной чертой,
Недосозданная, вся полная раздора,
Невзнузданных стихий неистового спора,
Горя еще сама и на пути своем
Грозя иным звездам стремленьем и огнем,
Что нужды ей тогда до общего смущенья,
До разрушения гармонии?.. Она
Из лона отчего, из родника творенья
В созданья стройный круг борьбою послана,
Да совершит путем борьбы и испытанья
Цель очищения и цель самосозданья.
Июнь 1843
«Вы рождены меня терзать…»{110}
Вы рождены меня терзать —
И речью ласково-холодной,
И принужденностью свободной,
И тем, что трудно вас понять,
И тем, что жребий проклинать
Я поневоле должен с вами,
Затем что глупо мне молчать
И тяжело играть словами.
Вы рождены меня терзать,
Зане друг другу мы чужие.
И ничего, чего другие
Не скажут вам, мне не сказать.
Июнь 1843
«О, сжалься надо мной!.. Значенья слов моих»{111}
О, сжалься надо мной!.. Значенья слов моих
В речах отрывочных, безумных и печальных
Проникнуть не ищи… Воспоминаний дальных
Не думай подстеречь в таинственности их.
Но если на устах моих разгадки слово,
Полусорвавшись с языка,
Недореченное замрет на них сурово
Иль беспричинная тоска
Из груди, сдавленной бессвязными речами,
Невольно вырвется… молю тебя, шепчи
Тогда слова молитв безгрешными устами,
Как перед призраком, блуждающим в ночи.
Но знай, что тяжела отчаянная битва
С глаголом тайны роковой,
Что для тебя одной спасительна молитва,
Неразделяемая мной…
29 июля 1843
Волшебный круг{112}
Тебя таинственная сила
Огнем и светом очертила,
Дитя мое.
И всё, что грустно иль преступно,
Черты боятся недоступной,
Бежит ее.
И всё, что душно так и больно
Мне давит грудь и так невольно
Перед тобой
Порою вырвется невнятно,—
Тебе смешно иль непонятно,
Как шум глухой…
Когда же огненного круга
Коснется веянье недуга,—
Сливаясь с ним
И совершая очищенья,
К тебе несет оно куренья
Июль 1843
«Нет, никогда печальной тайны…»{114}
Нет, никогда печальной тайны
Перед тобой
Не обнажу я, ни случайно,
Ни с мыслью злой…
Наш путь иной… Любить и верить —
Судьба твоя;
Я не таков, и лицемерить
Не создан я.
Оставь меня… Страдал ли много,
Иль знал я рай
И верю ль в жизнь, и верю ль в бога —
Не узнавай.
Мы разойдемся… Путь печальный
Передо мной…
Прости, — привет тебе прощальный
На путь иной.
И обо мне забудь иль помни —
Мне всё равно:
Забвенье полное давно мне
Обречено.
Июль 1843
«Над тобою мне тайная сила дана…»{115}
Над тобою мне тайная сила дана,
Это — сила звезды роковой.
Есть преданье — сама ты преданий полна —
Так послушай: бывает порой,
В небесах загорится, средь сонма светил,
Небывалое вдруг иногда,
И гореть ему ярко господь присудил —
Но падучая это звезда…
И сама ли нечистым огнем сожжена,
Или, звездному кругу чужда,
Серафимами свержена с неба она,—
Рассыпается прахом звезда;
И дано, говорят, той печальной звезде
Искушенье посеять одно,
Да лукавые сны, да страданье везде,
Где рассыпаться ей суждено.
Над тобою мне тайная сила дана,
Эту силу я знаю давно:
Так уносит в безбрежное море волна
За собой из залива судно,
Так, от дерева лист оторвавши, гроза
В вихре пыли его закружит,
И, с участьем следя, не увидят глаза,
Где кружится, куда он летит…
Над тобою мне тайная сила дана,
И тебя мне увлечь суждено,
И пускай ты горда, и пускай ты скрытна,—
Эту силу я понял давно.
Август 1843
К Лавинии
«Что не тогда явились в мир мы с вами…»
{116}
Что не тогда явились в мир мы с вами,
Когда он был
Еще богат любовью и слезами
И полон сил?..
Да! вас увлечь так искренно, так свято
В хаос тревог
И, может быть, в паденье без возврата
Тогда б я мог…
И под топор общественного мненья,
Шутя почти,
С таким святым порывом убежденья
Вас подвести…
Иль, если б скуп на драмы был печальный
Всё так же рок,
Всё ж вас любить любовью идеальной
Тогда б я мог…
А что ж теперь? Не скучно ль нам обоим
Теперь равно,
Что чувство нам, хоть мы его и скроем,
Всегда смешно?..
Что нет надежд, страданий и волненья,
Что драмы — вздор
И что топор общественного мненья —
Тупой топор?
Сентябрь 1843
Вся сетью лжи причудливого сна
Таинственно опутана она,
И, может быть, мирятся в ней одной
Добро и зло, тревога и покой…
И пусть при ней душа всегда полна
Сомнением мучительным и злым —
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?
Но в этот сон так верить мы хотим,
Как никогда не верим в бытие…
Волшебный круг, опутавший ее,
Нам странно-чужд порою, а порой
Знакомою из детства стариной
На душу веет… Детской простотой
Порой полны слова ее, и тих,
И нежен взгляд, — но было б верить в них
Безумием… Нежданный хлад речей
Неверием обманутых страстей
За ними вслед так странно изумит,
Что душу вновь сомненье посетит:
Зачем и кем так лживо создана
Она, дитя причудливого сна?
Декабрь 1843
К Лавинии
«Для себя мы не просим покоя…»{118}
Для себя мы не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы,
И к небесному своду мы двое
Не пошлем бесполезной мольбы…
Нет! пусть сам он над нами широко
Разливается яркой зарей,
Чтобы в грудь нам входили глубоко
Бытия полнота и покой…
Чтобы тополей старых качанье,
Обливаемых светом луны,
Да лепечущих листьев дрожанье
Навевали нам детские сны…
Чтобы ухо средь чуткой дремоты,
В хоре вечном зиждительных сил,
Примирения слышало ноты
И гармонию хода светил;
Чтобы вечного шума значенье
Разумея в таинственном сне,
Мы хоть раз испытали забвенье
О прошедшем и будущем дне.
Но доколе страданьем и страстью
Мы объяты безумно равно
И доколе не верим мы счастью,
Нам понятно проклятье одно.
И проклятия право святое
Сохраняя средь гордой борьбы,
Мы у неба не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы…
Декабрь 1843
По мере горенья
Да молится каждый
Молитвой смиренья
Иль ропотом жажды,
Зане, выгорая,
Горим мы недаром
И, мир покидая
Таинственным даром,
Как дым фимиама,
Всё дальше от взоров
Восходим до хоров
Громадного храма.
По мере страданья
Да молится каждый
Тоскою желанья
Иль ропотом жажды!
1843
Тайна скуки{120}
Скучаю я, — но, ради бога,
Не придавайте слишком много
Значенья, смысла скуке той.
Скучаю я, как все скучают…
О чем?.. Один, кто это знает,—
И тот давно махнул рукой.
Скучать, бывало, было в моде,
Пожалуй, даже о погоде
Иль о былом — что всё равно…
А нынче, право, до того ли?
Мы все живем с умом без воли,
Нам даже помнить не дано.
И даже… Да, хотите — верьте,
Хотите — нет, но к самой смерти
Охоты смертной в сердце нет.
Хоть жить уж вовсе не забавно,
Но для чего ж не православно,
А самовольно кинуть свет?
Ведь ни добра, ни даже худа
Без непосредственного чуда
Нам жизнью нашей не нажить
В наш век пристойный… Часом ране
Иль позже— дьявол не в изъяне,—
Не в барышах ли, может быть?
Оставьте ж мысль — в зевоте скуки
Душевных ран, душевной муки
Искать неведомых следов…
Что вам до тайны тех страданий,
Тех фосфорических сияний
От гнили, тленья и гробов?..
1843
Памяти В***{121}
Он умер… Прах его, истлевший и забытый,
В глуши, как жизнь его печальная, сокрытый,
Почиет под одной фамильною плитой
Со многими, кому он сердцем был чужой…
Он умер — и давно… О нем воспоминанье
Хранят немногие, как, старое преданье,
Довольно темное… И даже для меня
Темнее и темней тот образ день от дня…
Но есть мгновения… Спадают цепи лени
С измученной души — и память будит тени,
И длинный ряд годов проходит перед ней,
И снова он встает… И тот же блеск очей
Глубоких, дышащих таинственным укором,
Сияет горестным, но строгим приговором,
И то же бледное высокое чело,
Как изваянное, недвижно и светло,
Отмечено клеймом божественной печати,
Подъемлется полно дарами благодати —
Сознания борьбы, отринувшей покой,
И року вечному покорности немой.
1843
К ***
«Мой друг, в тебе пойму я много…»{122}
Мой друг, в тебе пойму я много,
Чего другие не поймут,
За что тебя так судит строго
Неугомонный мира суд…
Передо мною из-за дали
Минувших лет черты твои
В часы суда, в часы печали
Встают в сиянии любви,
И так небрежно, так случайно
Спадают локоны с чела
На грудь, трепещущую тайно
Предчувствием добра и зла…
И в робкой деве влагой томной
Мечта жены блестит в очах,
И о любви вопрос нескромный
Стыдливо стынет на устах…
1843
Восстань, о боже! — не для них,
Рабов греха, жрецов кумира,
Но для отпадших и больных,
Томимых жаждой чад твоих, —
Восстань, восстань, спаситель мира!
Искать тебя пошли они
Путем страдания и жажды…
Как ты
лима савахванй{124}Они взывали не однажды,
И так же видели они
Твой дом, наполненный купцами,
И гордо встали — и одни
Вооружилися бичами…
Январь 1844
Памяти одного из многих{125}
В больной груди носил он много, много
Страдания, — но было ли оно
В нем глубоко и величаво-строго,
Или в себя неверия полно —
Осталось тайной. Знаем мы одно,
Что никогда ни делом, ниже словом
Для нас оно не высказалось новым…
Вопросам, нас волнующим, и он,
Холодности цинизма не питая,
Сочувствовал. Но, видимо страдая,
Не ими он казался удручен.
Ему, быть может, современный стон
Передавал неведомые звуки
Безвременной, но столь же тяжкой муки.
Хотел ли он страдать, как сатана,
Один и горд — иль слишком неуверен
В себе он был, — таинственно темна
Его судьба; но нас, как письмена,
К себе он влек, к которым ключ потерян,
Которых смысл стремимся разгадать
Мы с жадною надеждой — много знать.
А мало ль их, пергаментов гнилых,
Разгадано без пользы? Что ж за дело!
Пусть ложный след обманывал двоих,
Но третий вновь за ним стремится смело…
. . . . . . . . . . . . . . .
Таков удел, и в нем затаено
Всеобщей жизни вечное зерно.
И он, как все, он шел дорогой той,
Обманчивой, но странно-неизбежиой.
С иронией ли гордою и злой,
С надеждою ль, волнующей мятежно,
Но ей он шел; в груди его больной
Жила одна, нам общая тревога…
Страдания таилось много, много.
И умер он — как многие из нас
Умрут, конечно, — твердо и пристойно;
И тень его в глубокой ночи час
Живых будить не ходит беспокойно.
И над его могилою цветут,
Как над иной, дары благой природы;
И соловьи там весело поют
В час вечера, когда стемнеют воды
И яворы старинные заснут,
Качаяся под лунными лучами
В забвении зелеными главами.
8 февраля 1844
Лежала общая на них
Печать проклятья иль избранья,
И одинаковый у них
В груди таился червь страданья.
Хранить в несбыточные дни
Надежду гордую до гроба
С рожденья их осуждены
Они равно, казалось, оба.
Но шутка ль рока то была —
Не остроумная нимало,—
Как он, горда, больна и зла,
Она его не понимала.
Они расстались… Умер он,
До смерти мученик недуга,
И где-то там, под небом юга,
Под сенью гор похоронен.
А ей послал, как он предрек,
Скупой на всё, дающий вволю,
Чего не просят, мудрый рок
Благополучнейшую долю:
Своя семья, известный круг
Своих, которые играли
По грошу в преферанс, супруг,
Всю жизнь не ведавший печали,
Романов враг, халата друг,—
Ей жизнь цветами украшали.
А всё казалось, что порой
Ей было душно, было жарко,
Что на щеках горел так ярко
Румянец грешный и больной,
Что жаждой прежних, странных снов
Болезненно сияли очи,
Что не одной бессонной ночи
Вы б доискались в ней следов.
Август 1844
Зимний вечер{127}
Душный вечер, зимний вечер;
Все окно заволокло,
Нагорели тускло свечи —
Не темно и не светло…
Брось «Дебаты»
{128}, ради бога!
Брось заморское!.. Давно
В «Москвитянине» престрого
Слушай лучше… Тоном выше
Тянет песню самовар,
И мороз трещит на крыше —
Оба, право, божийдар,—
В зимний вечер, в душный вечер…
Да и вечер нужен нам,
Чтоб без мысли и без речи
Верный счет вести часам.
1844
I only know — we loved in vain —
I only feel — farewell, farewell!
Byron[41]
Прости!.. Покорен воле рока,
Без глупых жалоб и упрека,
Я говорю тебе: прости!
К чему упрек? Я верю твердо,
Что в нас равно страданье гордо,
Что нам одним путем идти.
Мы не пойдем рука с рукою,
Но память прошлого с собою
Нести равно осуждены.
Мы в жизнь, обоим нам пустую,
Уносим веру роковую
В одни несбыточные сны.
И пусть душа твоя нимало
В былые дни не понимала
Души моей, любви моей…
Ее блаженства и мученья
Прошли навек, без разделенья
И без возврата… Что мне в ней?
Пускай за то, что мы свободны,
Что горды мы, что странно сходны,
Не суждено сойтиться нам;
Но всё, что мучит и тревожит,
Что грудь сосет и сердце гложет,
Мы разделили пополам.
И нам обоим нет спасенья!..
Тебя не выкупят моленья,
Тебе молитва не дана:
В ней небо слышит без участья
Томленье скуки, жажду счастья,
Мечты несбыточного сна…
Сентябрь 1844
Да, я люблю его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозираю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное.
Пусть почву шаткую он заковал в гранит
И защитил ее от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
Волненье радости и горя,
И пусть его река к стопам его песет
И роскоши, и неги дани,—
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.
И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки,—
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумно страшных стонов муки!
Страдание одно привык я подмечать,
В окне ль с богатою гардиной,
Иль в темном уголку, — везде его печать!
Страданье — уровень единый!
И в те часы, когда на город гордый мой
Ложится ночь без тьмы и тени,
Когда прозрачно всё, мелькает предо мной
Рой отвратительных видений…
Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо всё
вокруг,
Пусть всё прозрачно и спокойно,—
В покое том затих на время злой недуг,
И то — прозрачность язвы гнойной.
1 января 1845
К Лавинии
Он вас любил как эгоист больной…»{132}
Он вас любил как эгоист больной,
И без надежд, и без желаний счастья;
К судьбе своей и к вашей без участья,
Он предавался силе роковой…
И помните ль, как он, бывало, вам
Передавал безумно, безотрадно
Свою тоску — и вы к его словам
Прислушивались трепетно и жадно?..
Он понимал, глубоко понимал,
Что не пустым, бесплодно-громким звуком
Его слова вам будут… Обрекал
Он вас давно неисцелимым мукам…
И был вам странен смысл его речей;
Но вполовину понятые речи
Вас увлекали странностью своей
И, всё одни, при каждой новой встрече
Бывали вам понятней и ясней…
И день от дня сильнее обаяли
Вас речи те, как демонская власть,
День ото дня страдание и страсть
Всё новые вам тайны открывали…
И реже стал, и реже с каждым днем
Доверчивый и детски простодушный
Вопрос о жизни, о любви, о том,
Зачем так плакать хочется и скучно…
И всё с ланит заметней исчезал
Румянец детства, глупый и здоровый…
Зато на них румянец жизни новой
Порою ярким пламенем пылал.
И демон жизни с каждым новым днем
Всё новые нашептывал вам сказки,
И стало груди тесно… и огнем,
Огнем соблазна засияли глазки.
И помните ль, как ночь была ясна,
Как шелест листьев страстного лобзанья
Исполнен был… как майская луна
На целый мир кидала обаянье
Несбыточно-восторженного сна?
И помните ль, потупив тихо очи,
Но с радостью, хоть тайной и немой,
Вы слушали — и бред его больной
О полноте блаженства этой ночи,
И то, что он томим недугом злым
И что недуг его неизлечим.
Что он теперь как будто детской сказке
Внимает, что значенье сказки той
Глубоко, но затеряно душой…
И, говоря, он в голубые глазки
Смотрел спокойно, тихо, — а потом
Он говорил так искренно о том,
Что вы — неразрешимая загадка,
Что вы еще не созданы, — и вас
Еще ничто не мучило в тот час,
А с ним была невольно лихорадка…
И лгал ли он пред вами и собой,
Или ему блеснула вера в счастье —
Что нужды вам? зачем ему участье?
Он вас любил как эгоист больной…
И сон любви, и сон безумной муки
Его доныне мучит, может быть,
Но, думаю, от безысходной скуки…
По-моему, пора бы позабыть!
Январь 1845
Отрывок из сказаний об одной темной жизни{133}
1
С пирмонтских вод приехал он,
Всё так же бледный и больной,
Всё так же тяжко удручен
Ипохондрической тоской…
И, добр по-прежнему со мной,
Он только руку мне пожал
На мой вопрос, что было с ним,
Скитальцем по краям чужим?
Но ничего не отвечал…
Его молчанье было мне
Не новость… Он, по старине,
Рассказов страшно не любил
И очень мало говорил…
Зато рассказывал я сам
Ему подробно обо всех,
Кого он знал; к моим словам
Он был внимателен — и грех
Сказать, чтоб Юрий забывал,
Кого он в старину знавал…
Когда ж напомнил я ему
Про Ольгу… к прошлому всему
Печально-холоден, зевнул
Мой Юрий и рукой махнул…
2
Бывало, часто говорил
Он мне, что от природы был
Он эгоистом сотворен,
Что в этом виноват не он,
Что если нет в душе любви
И веры нет, то не зови
Напрасно их, — спасен лишь тот,
Кто сам спасенья с верой ждет,—
Что неотступно он их звал,
Что, мучась жаждою больной,
Всё ждал их, ждал — и ждать устал…
И, разбирая предо мной
Свои мечты, свои дела,
Он мне доказывал, что в них
Не только искры чувств святых,
Но даже не было и зла.
{134}Он говорил, что для других
В преданьях прошлого — залог
Любви и веры, — а ему
Преданий детства не дал бог;
Что, веря одному уму,
Привык он чувство рассекать
Анатомическим ножом
И с тайным ужасом читать
Лишь эгоизм, сокрытый в нем,
И знать, что в чувство ни в одно
Ему поверить не дано.
3
Одну привязанность я знал
За Юрием… Не вспоминал
О ней он после никогда;
Но знаю я, что ни года,
Ни даже воля — истребить
Ее печального следа
Не в силах были: позабыть
Не мог он ни добра, ни зла;
И та привязанность была
Так глубока и так странна,
Что любопытна, может быть,
И вам покажется она…
Не думайте, чтоб мог любить
Он женщину, хотя в любовь,
Бывало, веровал вполне,
Хоть в нем кипела тоже кровь…
Но неспособен был вдвойне
И в те лета влюбиться он:
Он был и ветрен, и умен.
Зато в душе иную страсть
Носил он. . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
4
Его я знал… Лицо его
Вас поразить бы не могло;
Одно высокое чело
Носило резкую печать
Высоких дум… Но угадать
Вам было б нечего на нем…
Да взгляд его сиял огнем…
Как бездна темен и глубок,
Тот взгляд одно лишь выражал —
Высокий помысл иль упрек…
На нем так ясно почивал
Судьбы таинственный призыв…
К чему — бог весть! Не совершив
Из дум любимых ни одной,
В деревне, при смерти больной,
Он смерти верить не хотел —
И умер… И его удел
Могилой темною сокрыт…
Но цвет больной его ланит
Давно пророчил для него
Чахотку — больше ничего!
5
Его я знал, — и никого,
И никогда не уважал
Я так глубоко, хоть его
Почти по виду только знал,
Иль знал, как все, не больше… Он
Ко всем был холоден равно
И неприступно затаен
От всех родных и чуждых; но
Та затаенность не могла
Вас оттолкнуть, — она влекла
К себе невольно. Но о нем
Довольно… К делу перейдем.
6
Одно я знаю: Юрий мой
Был горд до странности смешной;
Ко многим — к тем, кто выше был
Его породой, или слыл
Аристократом (но у нас,
Скажите, где же высший класс?) —
Не слишком ездить он любил…
Но к князю часто он езжал
И свой холодный, резкий тон
С ним в разговоре оставлял…
Хоть с Юрием, быть может, он
Был даже вдвое холодней,
Чем с прочими, — в любви хвоей
Был Юрий мой неизменим
И, вечно горд, в сношеньях с ним
Был слаб и странен, как дитя…
Да! он любил его, хотя
На сердца искренний привет
Встречал один сухой ответ…
7
Он помнил вечер… Так ясна
Плыла апрельская луна,
Такой молочной белизной
Сияла неба синева,
Так жарко жизнью молодой
Его горела голова,
Так было грустно одному,
И так хотелося ему
Открыться хоть кому-нибудь
И перелить в чужую грудь
Хоть раз один, что он таил,
Как злой недуг, в себе самом,
Чему он с верою служил
И что мучительным огнем
Его сжигало, — и теперь,
В груди его открывши дверь,
На божий мир взглянуло раз
И с ним слилося в этот час
В созвучьи тайном… В этот миг
Зачем судьба столкнула их?
Бог весть!..
8
Случалось вам видать,
Когда начнут издалека
Сбегаться к буре облака
И ветром их начнет сдвигать
Одно с другим? Огонь и гром
Они несут — и ожидать
Сдвиженья страшно вам… Потом
Противный ветер разнесет
Их по противным сторонам…
Скажите: грустно было вам
Иль было весело?..
<1845>
«Когда в душе твоей, сомнением, больной…»{135}
Que celui a qui on a fait tort ta salue[42].
Когда в душе твоей, сомнением, больной,
Проснется память дней минувших,
Надежд, отринутых без трепета тобой
Иль сердце горько обманувших,
И снова встанет ряд первоначальных снов,
Забвенью тщетно обреченных,
Далеких от тебя, как небо от духов,
На небеса ожесточенных,
И вновь страдающий меж ними и тобой
Возникнет в памяти случайно
Смутивший некогда их призрак роковой.
Запечатленный грустной тайной,—
Не проклинай его… Не сожалей о них,
О снах, погибших без возврата.
Кто знает, — света луч, быть, может,
уж проник
Во тьму страданья и разврата!
О, верь! Ты спасена, когда любила ты…
И в час всеобщего восстанья,
Восстановления начальной чистоты
Глубоко падшего созданья,—
Тебе любовию с ним слиться суждено,
В его сияньи возвращенном,
В час озарения, как будут два одно,
Одним божественным законом…
Апрель 1845
Героям нашего времени{136}
Facit indignatio versum.
Horatius [43]
Нет, нет — наш путь иной… И дик, и страшен вам,
Чернильных жарких битв копеечным бойцам,
Подъятый факел Немезиды;
Вам низость по душе, вам смех страшнее зла,
Вы сердцем любите лишь лай из-за угла
Да бой петуший за обиды!
И где же вам любить, и где же вам страдать
Страданием любви распятого за братин?
И где же вам чело бестрепетно подъять
Пред взмахом топора общественных понятий?
Нет, нет — наш путь иной, и крест не вам нести:
Тяжел, не по плечам, и вы на полпути
Сробеете пред общим криком,
Зане на трапезе божественной любви
Вы не причастники, не ратоборцы вы
О благородном и великом.
И жребий жалкий ваш, до пошлости смешной,
Пророки ваши вам воспели…
За сплетни праздные, за эгоизм больной,
В скотском бесстрастии и с гордостью немой,
Без сожаления и цели,
Безумно погибать и завещать друзьям
Всю пустоту души и весь печальный хлам
Пустых и детских грез, да шаткое безверье;
Иль целый век звонить досужим языком
О чуждом вовсе вам великом и святом
С богохуленьем лицемерья!..
Нет, нет — наш путь иной! Вы не видали их,
Египта древнего живущих изваяний,
С очами тихими, недвижных и немых,
С челом, сияющим от царственных венчаний.
Вы не видали их, — в недвижных их чертах
Вы жизни страшных тайн бесстрашного сознанья
С надеждой не прочли: им книга упованья
По воле вечного начертана в звездах.
Но вы не зрели их, не видели меж нами
И теми сфинксами таинственную связь…
Иль, если б видели, — нечистыми руками
С подножий совлекли б, чтоб уравнять их
с вами,
В демагогическую грязь!
мая 1845
Песня духа над Хризалидой{137}
1
Ты веришь ли в силу страданья,
Ты веришь ли в право святого восстанья,
Ты веришь ли в счастье и в небо, дитя?
О, если ты веришь — со мною, за мною!
Я дам тебе муки и счастья, хотя
От тебя я не скрою,
Что не дам я покою,
Что тебя я страданьем измучу, дитя!..
2
Ты ждешь ли от сна пробужденья,
Ты ждешь ли рассвета, души откровенья,
Ты чуешь ли душу живую, дитя?
О, если ты чуешь — со мною, за мною!
Сведу тебе с неба я душу, хотя
От тебя я не скрою,
Что безумной тоскою
По отчизне я душу наполню, дитя.
3
Меня ль одного ты любила,
Моя ль в тебе воля, моя ль в тебе сила,
Мое ли дыханье пила ты, дитя?
О, если мое, — то со мною, за много!
Во мне ты исчезнешь любовью, хотя
От тебя я не скрою,
Что тобой не одною
Возвращусь я к покою и свету, дитя.
Июль 1845
«Нет, не тебе идти со мной…»{138}
Нет, не тебе идти со мной
К высокой цели бытия,
И не тебя душа моя
Звала подругой и сестрой.
Я не тебя в тебе любил,
Но лучшей участи залог,
Но ту печать, которой бог
Твою природу заклеймил.
И думал я, что ту печать
Ты сохранишь среди борьбы,
Что против света и судьбы
Ты в силах голову поднять.
Но дорог суд тебе людской,
И мненье дорого рабов,
Не ненавидишь ты оков,—
Мой путь иной, мой путь не твой.
Тебя молить я слишком горд,—
Мы не равны ни здесь, ни там,
И в хоре звезд не слиться нам
В созвучий родственных аккорд.
И пусть твой образ роковой
Мне никогда не позабыть,—
Мне стыдно женщину любить
И не назвать ее сестрой.
Июль 1845
(А. Е. Варламову)
Опять они… Звучат напевы снова
Безрадостной тоской…
Я рад им, рад! они — замена слова
Душе моей больной.
Они звучат безумными мечтами,
Которые сказать
Смешно и стыдно было бы словами,
Которых не прогнать.
Они — звучат прошедшим небывалым
И снами светлых лет —
Стремлением напрасным и усталым
К теням, которых нет…
Август 1845
Проходят годы длинной полосою,
Однообразной цепью ежедневных
Забот, и нужд, и тягостных вопросов;
От них желаний жажда замирает,
И гуще кровь становится, и сердце,
Больное сердце, привыкает к боли;
Грубеет сердце: многое, что прежде
В нем чуткое страданье пробуждало,
Теперь проходит мимо незаметно;
И то, что грудь давило прежде сильно
И что стряхнуть она приподнималась,
Теперь легло на дно тяжелым камнем;
И то, что было ропотом надежды,
Нетерпеливым ропотом, то стало
Одною злобой гордой и суровой,
Одним лишь мятежом упорным, грустным,
Одной борьбой без мысли о победе;
И злобный ум безжалостно смеется
Над прежними, над светлыми мечтами,
Зане вполне, глубоко понимает,
Как были те мечты несообразны
С течением вещей обыкновенным.
Но между тем с «одним лишь не могу я
Как с истиной разумной примириться,
Тем примиреньем ненависти вечной,
В груди замкнутой ненависти… — Это
Потеря без надежды, без возврата,
Потеря, от которой стон невольный
Из сердца вырывается и трепет
Объемлет тело, — судорожный трепет!..
Есть призрак… В ночь бессонную ль, во сне
Мучительно-тревожном он предстанет,
Он — будто свет зловещей, но прекрасной
Кометы — сердце тягостно сжимает
И между тем влечет неотразимо,
Как будто есть меж ним и этим сердцем
Неведомая связь, как будто было
Возможно им когда соединенье.
Еще вчера явился мне тот призрак,
Страдающий, болезненный… Его я
Не назову по имени; бывают
Мгновения, когда зову я этим
Любимым именем все муки жизни,
Всю жизнь… Готов поверить я, что демон,
Мой демон внутренний, то имя принял
И образ тот… Его вчера я видел…
Она была бледна, желта, печальна,
И на ланитах впалых лихорадка
Румянцем жарким разыгралась; очи
Сияли блеском ярким, но холодным,
Безжизненным и неподвижным блеском…
Она была страшна… была прекрасна…
«О, вы ли это?» — я сказал ей. Тихо
Ее уста зашевелились, речи
Я не слыхал, — то было лишь движенье
Без звука, то не жизнь была, то было
Иной и внешней силе подчиненье —
Не жизнь, но смерть, подъятая из праха
Могущественной волей чуждой силы.
Мне было бесконечно грустно… Стоны
Из груди вырвались, — то были стоны
Проклятья и хулы безумно-страшной,
Хулы на жизнь… Хотел я смерти бледной
Свое дыханье передать, и страстно
Слились мои уста с ее устами…
И мне казалось, что мое дыханье
Ее насквозь проникло, — очи в очи
У нас гляделись, зажигались жизнью
Ее глаза, я видел…
Смертный холод
Я чувствовал…
И целый день тоскою
Терзался я, и тягостный вопрос
Запал мне в душу: для чего болезнен
Сопутник мой, неотразимый призрак?
Иль для чего в душе он возникает
Не иначе… Иль для чего люблю я
Не светлое, воздушное виденье,
Но тот больной, печальный, бледный призрак?..
Август 1845
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Уехал он. В кружке, куда, бывало,
Ходил он выливать всю бездну скуки
Своей, тогда бесплодной, ложной жизни,
Откуда выносил он много желчи
Да к самому себе презренья; в этом
Кружке, спокойном и довольном жизнью,
Собой, своим умом и новой книгой,
Прочтенной и положенной на полку,—
Подчас, когда иссякнут разговоры
О счастии семейном, о погоде,
Да новых мыслей, вычитанных в новом
Романе Сайда (вольных, страшных мыслей,
На вечер подготовленных нарочно
И скинутых потом, как вицмундир),
Запас нежданно истощится скоро,—
О нем тогда заводят речь иные
С иронией предоброй и преглупой
Или с участием, хоть злым, но пошлым
И потому нисколько не опасным,
И рассуждают иль о том, давно ли
И как он помешался, иль о том,
Когда он, сыну блудному подобный,
Воротится с раскаяньем и снова
Придет в кружок друзей великодушных
И рабствовать, и лгать…
Тогда она,
Которую любил он так безумно,
Так неприлично истинно, она
Что думает, когда о нем подумать
Ее заставят поневоле? — То ли,
Что он придет, склонив главу под гнетом
Необходимости и предрассудков,
И что больной, но потерявший право
На гордость и проклятие, он станет
Искать ее участья и презренья?
Иль то, что он, с челом, подъятым к небу,
Пройдет по миру, вольный житель мира,
С недвижною презрительной улыбкой
И с язвою в груди неизлечимой,
С приветом ей на вечную разлуку,
С приветом оклеветанного гордым,
Который первый разделил, что было
Едино, и подъял на раменах
Всю тяжесть разделения и жизни?
Сентябрь 1845
Немая ночь, сияют мириады
Небесных звезд — вся в блестках синева:
То вечный храм зажег свои лампады
Во славу божества.
Немая ночь, — и в ней слышнее шепот
Таинственных природы вечной сил:
То гимн любви, пока безумный ропот
Его не заглушил.
Немая ночь; но тщетно песнь моленья
Больному сердцу в памяти искать…
Ему смешно излить благословенья
И страшно проклинать.
Пред хором звезд невозмутимо-стройным
Оно судьбу на суд дерзнет ли звать,
Или своим вопросом беспокойным
Созданье возмущать?
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
О нет! о нет! когда благословенья
Забыты им средь суетных тревог,
Ему на часть, в час общий примиренья,
Послал забвенье бог.
Забвение о том, что половиной,
Что лучшей половиною оно
В живую жертву мудрости единой
Давно обречено…
Сентябрь 1845
Владельцам альбома{143}
Пестрить мне страшно ваш альбом
Своими грешными стихами;
Как ваша жизнь, он незнаком
Иль раззнакомился с страстями.
Он чист и бел, как светлый храм
Архитектуры древне-строгой.
Где служат истинному богу,
Там места нет земным богам.
И я, отвыкший от моленья,
Я — старый нравственности враг —
Невольно сам в его стенах
Готов в порыве умиленья
Пред чистотой упасть во прах.
О да, о да! не зачернит
Его страниц мой стих мятежный
И в храм со мной не забежит
Мой демон — ропот неизбежный.
Пускай больна душа моя,
Пускай она не верит гордо…
Но в вас я верю слишком твердо,
Но веры вам желаю я.
Ноябрь 1845
О боже, о боже, хоть луч благодати твоей,
Хоть искрой любви освети мою душу больную;
Как в бездне заглохшей, на дне всё волнуется в ней,
Остатки мучительных, жадных, палящих страстей…
Отец, я безумно, я страшно, я смертно тоскую!
Не вся еще жизнь истощилась в бесплодной борьбе:
Последние силы бунтуют, не зная покою,
И рвутся из мрака тюрьмы разрешиться в тебе!
О, внемли же их стону, спаситель! внемли их мольбе,
За не я истерзан их страшной, их смертной тоскою.
Источник покоя и мира, — страданий пошли им скорей,
Дай жизни и света дай зла и добра разделенья —
Освети, оживи и сожги их любовью своей,
Дай мира, о боже, дай жизни и дай истощенья!
<1846>
1. «Привет тебе, последний луч денницы…»
Привет тебе, последний луч денницы,
Дитя зари, — привет прощальный мой!
Чиста, как свет, легка, как божьи птицы,
Ты не сестра душе моей больной.
Душа моя в тебе искала жрицы
Святых страданий, воли роковой,
И в чудных грезах гордостью царицы
Твой детский лик сиял передо мной.
То был лишь сон… С насмешливой улыбкой
Отмечен в книге жизни новый лист
Еще одной печальною ошибкой…
Но я, дитя, перед тобою чист!
Я был жрецом, я был пророком бога,
И, жертва сам, страдал я слишком много.
2. «О, помяни, когда тебя обманет…»
О, помяни, когда тебя обманет
Доверье снам и призракам крылатым
И по устам, невольной грустью сжатым,
Змея насмешки злобно виться станет!..
О, пусть тогда душа твоя помянет
Того, чьи речи буйством и развратом
Тебе звучали, пусть он старшим братом
Перед тобой, оправданный, восстанет.
О, помяни… Он верит в оправданье,
Ему дано в твоем грядущем видеть,
И знает он, что ты поймешь страданье,
Что будешь ты, как он же, ненавидеть,
Хоть небеса к любви тебя создали,—
Что вспомнишь ты пророка в час печали.
1 декабря 1845
А. Е. Варламову{146}
(При посылке стихотворений)
Да будут вам посвящены
Из сердца вырванные звуки:
Быть может, оба мы равны
Безумной верой в счастье муки.
Быть может, оба мы страдать
И не просить успокоенья
Равно привыкли — и забвенье,
А не блаженство понимать.
Да, это так: я слышал в них,
В твоих напевах безотрадных,
Тоску надежд безумно жадных
И память радостей былых.
1845
К Лелии {147}
(А. И. О.)
Я верю, мы равны… Неутолимой жаждой
Страдаешь ты, как я, о гордый ангел мой!
И ропот на небо мятежный — помысл каждый,
Молитва каждая души твоей больной.
Зачем же, полные страданья и неверья
В кумиры падшие, в разбитые мечты,
Личину глупую пустого лицемерья
Один перед другим не сбросим я и ты?
К чему служение преданиям попранным
И робость перед тем, что нам смешно давно.
Когда в грядущем мы живем обетованно,
Когда прошедшее отвергли мы давно?
Хотела б тщетно ты мольбою и слезами
Душе смирение и веру возвратить…
Молитва не дружна с безумными мечтами,
Страданьем гордости смиренья не купить…
И если б даже ты нашла покой обмана,
То верь, твоя душа, о гордый ангел мой,
Отринет вновь его… И поздно или рано —
Но мы пойдем опять страдать рука с рукой.
1845
«Расстались мы — и встретимся ли снова…»{148}
Расстались мы — и встретимся ли снова,
И где и как мы встретимся опять,
То знает бог, а я отвык уж знать,
Да и мечтать мне стало нездорово…
Знать и не знать — ужель не всё равно?
Грядущее — неумолимо строго,
Как водится… Расстались мы давно,
И, зная то, я знаю слишком много…
Поверье то, что знание беда,—
Сбывается. Стареем мы прескоро
В наш скорый век. Так в ночь, от приговора,
Седеет осужденный иногда.
1845
(Посвящается И. А. Манну)
Великолепный град! пускай тебя иной
Приветствует с надеждой и любовью,
Кому не обнажен скелет печальный твой,
Чье сердце ты еще не облил кровью
И страшным холодом не мог еще обдать,
И не сковал уста тяжелой думой,
И ранней старости не положил печать
На бледный лик, суровый и угрюмый.
Пускай мечтает он над светлою рекой
Об участи, как та река, широкой,
И в ночь прозрачную, любуйся тобой,
Дремотою смежить боится око,
И длинный столб луны на зыби волн следит,
И очи шлет к неведомым, палатам,
Еще дивясь тебе, закованный в гранит
Гигант, больной гниеньем и развратом.
Пускай, по улицам углаженным твоим
Бродяг без цели, с вечным изумленьем,
Еще на многих он встречающихся с ним
Подъемлет взор с немым благоговеньем
И видеть думает избранников богов,
Светил и глав младого поколенья,
Пока лицом к лицу не узрит в них глупцов
Или рабов презренных униженья.
Пускай, томительным снедаемый огнем,
Под ризою немой волшебной ночи,
Готов доверить он, с притворством незнаком,
В зовущие увлажненные очи,
Готов еще страдать о падшей красоте
И звать в ее объятьях наслажденье,
Пока во всей его позорной наготе
Не узрит он недуга истощенье.
Но я — чужд тебе, великолепный град.
Ни тихих слез, ни бешеного смеха
Не вырвет у меня ни твой больной разврат,
Ни над святыней жалкая потеха.
Тебе уже ничем, не удивить меня —
Ни гордостью дешевого безверья,
Ни коловратностью бессмысленного дня,
Ни бесполезной маской лицемерья.
Увы, столь многое прошло передо мной:
До слез, до слез страдание смешное,
И не один порыв возвышенно-святой,
И не одно великое земное
Судьба передо мной по ветру разнесла,
И не один погиб избранник века,
И не одна душа за деньги продала
Свою святыню — гордость человека.
И не один из тех, когда-то полных сил,
Искавших жадно лучшего когда-то,
Благоразумно бред покинуть рассудил
Или погиб добычею разврата;
А многие из них навеки отреклись
От всех надежд безумных и опасных,
Спокойно в чьи-нибудь холопы продались
И за людей слывут себе прекрасных.
Любуйся ж, юноша, на пышный, гордый град,
Стремись к нему с надеждой и любовью,
Пока еще тебя не истощил разврат
Иль гнев твое не обдал сердце кровью,
Пока еще тебе в божественных лучах
Сияет всё великое земное,
Пока еще тебя не объял рабский страх
Иль истощенье жалкое покоя.
1845 или 1846
«Нет, не рожден я биться лбом…»{150}
Нет, не рожден я биться лбом,
Ни терпеливо ждать в передней,
Ни есть за княжеским столом,
Ни с умиленьем слушать бредни.
Нет, не рожден я быть рабом,
Мне даже в церкви за обедней
Бывает скверно, каюсь в том,
Прослушать августейший дом.
И то, что чувствовал Марат,
Порой способен понимать я,
И будь сам бог аристократ,
Ему б я гордо пел проклятья…
Но на кресте распятый бог
Был сын толпы и демагог
{151}.
1845 или 1846
Всеведенье поэта
О, верь мне, верь, что не шутя
Я говорю с тобой, дитя.
Поэт — пророк, ему дано
Провидеть в будущем чужом.
Со всем, что для других темно,
Судьбы избранник, он знаком.
Ему неведомая даль
Грядущих дней обнажена,
Ему чужая речь ясна,
И в ней и радость, и печаль,
И страсть, и муки видит он,
Чужой подслушивает стон,
Чужой подсматривает взгляд,
И даже видит, говорят,
Как зарождается, растет
Души таинственный цветок,
И куклу — девочку зовет
К любви и жизни вечный рок,
Как тихо в девственную грудь
Любви вливается струя,
И ей от жажды бытия
Вольнее хочется вздохнуть.
Как жажда жизни на простор
Румянца рвется в ней огнем
И, утомленная, потом
Ей обливает влагой взор,
И как глядится в влаге той
Творящий душу дух иной…
И как он взглядом будит в ней
И призывает к бытию
На дне сокрытую змею,
Змею страданий и страстей —
Змею различия и зла…
Дитя, дитя, — ты так светла,
В груди твоей читаю я,
Как бездна, движется она,
Как бездна, тайн она полна,
В ней зарождается змея.
<1846>
Тебя я жду, тебя я жду,
Сестра харит, подруга граций;
Ты мне сказала: «Я приду
Под сень таинственных акаций».
Облито влагой всё кругом,
Немеет всё в томленьи грезы,
Лишь в сладострастии немом
Благоуханьем дышат розы,
Да ключ таинственно журчит
Лобзаньем страстным и нескромным,
Да длинный луч луны дрожит
Из-за ветвей сияньем «томным.
Тебя я жду, тебя я жду.
Нам каждый миг в блаженстве дорог;
Я внемлю жадно каждый шорох
И каждый звук в твоем саду.
Листы ли шепчутся с листами,
На тайный зов, на тихий зов
Я отвечать уже готов
Лобзаний жадными устами.
Сестра харит, — тебя я жду;
Ты мне сама, подруга граций
{153},
Сказала тихо: «Я приду
Под сень таинственных акаций».
<1846>
В альбом В. С. М<ежеви>ча{154}
Чредою быстрой льются годы,—
Но, боже мой, еще быстрей
И безвозвратней для людей
Проходят призраки свободы,
Надежды участи иной,
Теней воздушных легкий рой!
И вы — не правда ль? — вы довольно
На свете жили, чтобы знать,
Как что-то надобно стеснять
Порывы сердца добровольно,
Зане — увы! кто хочет жить,
Тот должен жизнь в себе таить!
Блажен, блажен, кто не бесплодно
В груди стремленья заковал,
Кто их, для них самих, скрывал;
Кто — их служитель благородный —
На свете мог хоть чем-нибудь
Означить свой печальный путь!
И вы стремились, вы любили
И часто, может быть, любя
Себя — от самого себя —
С сердечной болью вы таили!
И, верьте истины словам,
«По вере вашей будет вам!»
И пусть не раз святая вера
Была для вас потрясена,
Пусть жизнь подчас для вас полна
Страдания — награды мера!
И кто страданием святым
Страдал — тот возвеличен им!
Да! словом веры, божьим, словом,
На новый жизни вашей год
Я вас приветствую! Пройдет
Для вас, я верю, он не в новом
Стремленьи — хоть одной чертой
Означить бедный путь земной!
26 февраля 1846
Прощание с Петербургом{155}
Прощай, холодный и бесстрастный,
Великолепный град рабов,
Казарм, борделей и дворцов,
С твоею ночью гнойно-ясной,
С твоей холодностью ужасной
К ударам палок и кнутов,
С твоею подлой царской службой,
С твоим тщеславьем мелочным,
С твоей чиновнической…,
Которой славны, например,
И Калайдович, и Лакьер,
С твоей претензией — с Европой
Идти и в уровень стоять…
Будь проклят ты…!
Февраль 1846
«Когда колокола торжественно звучат…»{156}
Когда колокола торжественно звучат
Иль ухо чуткое услышит звон их дальний,
Невольно думою печальною объят,
Как будто песни погребальной,
Веселым звукам их внимаю грустно я,
И тайным ропотом полна душа моя.
Преданье ль темное тайник взволнует груди
Иль точно в звуках тех таится звук иной,
Но, мнится, колокол я слышу вечевой,
Разбитый, может быть, на тысячи орудий,
Властям когда-то роковой.
Да, умер он, давно замолк язык народа,
Склонившего главу под тяжкий царский кнут;
Но встанет грозный день, но воззовет свобода
И камни вопли издадут,
И расточенный прах и кости исполина
Совокупит опять дух божий воедино.
И звучным голосом он снова загудит,
И в оныйсудный день, в расплаты час кровавый,
В нем новгородская душа заговорит
Московской речью величавой…
{157}И весело тогда на башнях и стенах
Народной вольности завеет красный стяг…
1 марта 1846
Москва
1. «В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым…»
В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым
Или делом бесплодным — делом хуже безделья,—
Я под кров свой вхожу — и с какой-то тоской озираю
Стены, ложе да стол, на котором по глупой,
Старой, вечной привычке ищу поневоле глазами,
Нет ли вести какой издалёка, худой или доброй
Всё равно, лишь бы вести, и роюсь заведомо тщетно —
Так, чтоб рыться, — в бумагах… В час, когда
обливает
Светом серым своим финская ночь комнату, — снова
Сердце болит и чего-то просит, хотя от чего-то
Я отрекся давно, заменил неизвестное что-то —
Глупое, сладкое что-то — суровым, холодно —
печальным
Нечто… Пусть это нечто звучит душе одномерно,
Словно маятник старых часов, — зато для желудка
Это нечто здоровей… Чего тебе, глупое сердце?
Что за вестей тебе хочется? Знай себе, бейся
ровнее,
Лучше будет, поверь… Вести о чем-нибудь малом,
Дурны ль они, хороши ль, только кровь понапрасну
волнуют.
Лучше жить без вестей, лучше, чтоб не было даже
И желаний о ком да о чем-нибудь знать. И чего же
Надо тебе, непокорное, гордое сердце, — само ты
Хочешь быть господином, а просишь всё уз да неволи,
Женской ласки да встречи горячей… За эти
Ласки да встречи — плохая расплата, не всё ли
Ты свободно любить, ничего не любя… не завидуй.
Бедное сердце больное — люби себе всё, или вовсе
Ничего не любя — от избытка любви одиноко,
Гордо, тихо страдай, да живи презрением вволю.
2. «Будет миг… мы встретимся, это я знаю — недаром…»
Будет миг… мы встретимся, это я знаю — недаром
Словно песня мучит меня недопетая часто
Облик тонко-прозрачный с больным лихорадки
румяпцем,
С ярким блеском очей голубых… Мы встретимся —
знаю,
Знаю всё наперед, как знал я про нашу разлуку.
Ты была молода, от жизни ты жизни просила,
Злилась на свет и людей, на себя, на меня еще
злилась…
Злость тебе чудно пристала… но было бы трудно
ужиться
Нам обоим… упорно хотела ты верить надеждам
Мне назло да рассудку назло… А будет время иное,
Ты устанешь, как я, — усталые оба, друг другу
Руку мы подадим и пойдем одиноко по жизни
Без боязни измены, без мук душевных, без горя,
Да и без радости тоже — выдохшись поровну оба,
Мудрость рока сознавши. Дает он, чего мы не просим,
Сколько угодно душе — но опасно, поверь мне, опасно
И просить, и желать — за минуты мы платим
Дорого. Стоит ли свеч игра?.. И притом же
Рано иль поздно — устанем… Нельзя ж поцелуем
Выдохнуть душу одним… Догорим себе тихо,
Но, догорая, мой друг, в пламень единый сольемся.
3. «Часто мне говоришь ты, склонясь темно-русой…»
Часто мне говоришь ты, склонясь темно-русой
головкой,
Робко взор опустив, о грустном и тяжком бывалом.
Бедный, напуганный, грустный ребенок, о, верь мне:
Нас с тобою вполне сроднило крепко — паденье.
Если б чиста ты была — то, знай, никогда б головою
Гордой я не склонился к тебе на колени и страстно
Не прильнул бы ни разу к маленькой ножке устами.
Только тому я раб, над чем безгранично владею,
Только с тобою могу я себе самому предаваться,
Предаваясь тебе… Подними же чело молодое,
Руку дай мне и встань, чтобы мог я упасть пред тобою.
Май 1846
Была пора… В тебе когда-то,
Как и во многих, был готов
Я признавать по духу брата…
Еще тогда себя за злато
Не продал ты в рабы рабов.
Еще тогда тоской стремленья,
Тоскою общею томим,
Ты не чертил… для примиренья
Обычно-глупого теченья
Желаньям бешеным своим.
Была пора… но осквернили
Мы оба праздною враждой
Свое прошедшее, и ты ли,
Иль я был прав — мы оба были
Рабами глупости смешной.
И вновь мы в стретилися оба,
Свела случайно нас судьба,
Давно ребяческая злоба
Прошла… но, видно, уж до гроба
Мы вечно будем два раба.
Боясь узнать один другого,
Стыдясь взаимной клеветы,
Из-за тщеславия пустого
Один другому руку снова
Не подадим — ни я, ни ты.
20 июля 1846
Старые песни, старые сказки{160}
Посвящены С-е Г — е К.
1. «Книга старинная, книга забытая…»
Книга старинная, книга забытая,
Ты ли попалась мне вновь —
Глупая книга, слезами облитая,
В годы, когда, для любви не закрытая,
Душа понимала любовь!
С страниц пожелтелых, местами разорванных,
Что это веет опять?
Запах цветов ли, безвременно сорванных,
Звуки ли струн, в исступлении порванных,
Святой ли любви благодать?
Что бы то ни было, — книга забытая,
О, не буди, не тревожь
Муки заснувшие, раны закрытые…
Прочь твои пятна, годами не смытые,
И прочь твоя сладкая ложь!
Ждешь ли ты слез? Ожидания тщетные! —
Ты на страницах своих
Слез сохранила следы неисчетные;
Были то первые слезы, заветные,
Да что ж было проку от них?
В годы ли детства с моления шепотом,
Ночью ль бессонной потом,
Лились те слезы с рыданьем и ропотом,—
Что мне за дело? Изведай я опытом,
С надеждой давно незнаком.
Звать я на суд тебя, книга лукавая,
Перед рассудком готов —
Ты содрогнешься пред ним как неправая:
Ты облила своей сладкой отравою
Ряд даром прожитых годов…
2. «В час томительпого бденья…»
В час томительпого бденья,
В час бессонного страданья
О тебе мои моленья,
О тебе мои стенанья.
И тебя, мой ангел света,
Озарить молю я снова
Бедный путь — лучом привета,
Звуком ласкового слова.
Но на зов мой безответна —
Тишина и тьма ночная…
Безраздельна, беспредметна
Грусть бесплодная, больная!
Или то, что пережито,
Как мертвец, к стенаньям глухо,
Как эдем, навек закрыто
Для отверженного духа?
Отчего же сердце просит
Всё любви, не уставая,
И упорно память носит
Дней утраченного рая?
Отчего в часы томленья,
В ночь бессонную страданья
О тебе мои моленья,
О тебе мои стенанья?
3. «Бывают дни… В усталой и разбитой…»
Бывают дни… В усталой и разбитой
Душе моей огонь, под пеплом скрытый,
Надежд, желаний вспыхнет… Снова, снова
Больная грудь высоко подыматься,
И трепетать, и чувствовать готова,
И льются слезы… С ними жаль расстаться,
Так хороши и сладки эти слезы,
Так верится в несбыточные грезы.
Одной тебе, мой ангел, слезы эти,
Одной тебе… О, верь, ничто на свете
Не выжмет слез из глаз моих иное…
Пускай любви, пускай я воли жажду,
В спокойствие закован ледяное,
Внутри себя я радуюсь и стражду,
Но образ твой с очами голубыми
Встречаю я рыданьями глухими.
4. «То летняя ночь, июньская ночь то была…»
То летняя ночь, июньская ночь то была,
Когда они оба под старыми липами вместе бродили,—
Казенная спутница страсти, по небу плыла
Луна неизбежная… Тихо листы говорили —
Всё было как следует, так, как ведется всегда,
Они только оба о вздоре болтали тогда.
Две тени большие, две тени по старой стене
За ними бежали и тесно друг с другом сливались.
И эти две тени большие — молчали оне,
Но, видно, затем, что давно уж друг другу сказались;
И чуть ли две тени большие в таинственный миг
Не счастливей были, умней чуть ли не были их.
Был вечер тяжелый и душный… и вьюга в окно
Стучала печально… в гостиной свеча нагорела —
Всё было так скучно, всё было так кстати темно —
Лицо ее ярким румянцем болезни алело;
Он был, как всегда, и насмешлив, и холодно зол,
Зевая, взял шляпу, зевая, с обычным поклоном ушел.
И только… Он ей не сказал на разлуку прости.
Комедией глупой не стал добиваться признанья,
И память неконченной драмы унес он в груди…
Он право хотел сохранить на хулу и роптанье —
И долго, и глупо он тешился праздной хулой,
Пока над ним тешился лучше и проще другой.
5. «Есть старая песня, печальная песня одна…»
Есть старая песня, печальная песня одна,
И под сводом небесным давно раздается она.
И глупая старая песня — она надоела давно,
В той песне печальной поется всегда про одно.
Про то, как любили друг друга — человек и жена,
Про то, как покорно ему предавалась она.
Как часто дышала она тяжело-горячо,
Головою склонялся тихо к нему на плечо.
И как божий мир им широк представлялся вдвоем,
И как трудно им было расставаться потом.
Как ему говорили: «Пускай тебя любит она—
Вы не пара друг другу», а ей: «Ты чужая жена!»
И как умирал он вдали, изнурен, одинок,
А она изнывала, как сорванный с корня цветок.
Ту глупую песню я знаю давно наизусть,
Но — услышу ее — на душе безысходная грусть.
Та песня — всё к тем же несется она небесам,
Под которыми весело-любо свистать соловьям,
Под которыми слышен страстный шепот листов
И к которым восходят испаренья цветов.
И доколе та песня под сводом звучит голубым,
Благородной душе не склониться во прахе пред ним.
Но, высоко поднявши чело, на вражду, на борьбу,
Видно, звать ей надменно всегда лиходейку-судьбу.
6. «Старинные, мучительные сны!..»
Старинные, мучительные сны!
Как стук сверчка иль визг пилы железной,
Как дребезжанье порванной струны,
Как плач и вой о мертвом бесполезный,
Мне тягостны мучительные сны.
Зачем они так дерзко неотвязны,
Как ночи финские с их гнойной белизной,—
Зачем они терзают грудь тоской?
Зачем безумны, мутны и бессвязны,
Лишь прожитым одним они полны —
Те старые, болезненные сны?
И от души чего теперь им надо?
Им — совести бичам и выходцам из ада,
Со дна души подъявшимся змеям?
Иль больше нечего сосать им жадно там?
Иль жив доселе коршун Прометея,
Не разрешен с Зевесом старый спор,
И человек, рассеять дым не смея,
Привык лишь проклинать свой страшный приговор?
Или за миром призрачных явлений
Нам тщетно суждено, бесплодно жизнь губя,
Искать себя, искать тебя,
О разрушения зиждительного гений?
Пора, пора тебе, о демон мировой,
Разбить последние оплоты
И кончить весь расчет с дряхлеющей землей…
Уже совершены подземные работы,
Основы сущего подкопаны давно…
Давно создание творцом осуждено,
Чего ж ты ждешь еще?..
. . . . . . . . . . . . . .
Июль 1846
К * * *
«Ты веришь в правду, и в закон…» {161}
«Ты веришь в правду и в закон,
Скажи мне не шутя?»
«Дитя мое, любовь — закон,
И правда — то, что я влюблен
В тебя, мое дитя».
«Но в благородные мечты
Ты веришь или нет?»
«Мой друг, ты лучше, чем мечты,—
Что благородней красоты?
В тебе самой ответ!»
«Хотя в добро бы иль хотя б
В свободу верил ты?»
«К чему, дитя мое? Тогда б
Я не был счастлив, не был раб
Любви и красоты».
«Хотя бы в вечную любовь
Ты верить, милый, мог?»
«Дитя мое! волна — любовь,
Волна с волной сойдется ль вновь —
То знает только бог!»
«Ну, если так — то верь хоть в страсть,
Предайся ей вполне!»
«Тебе ль не знать, что верю в страсть?
Но я, храня рассудка власть,
Блаженствую вдвойне!»
Август 1846
Когда, как женщина, тиха
И величава, как царица,
Ты предстоишь рабам греха,
Искусства девственного жрица,
Как изваянье холодна,
Как изваянье, ты прекрасна,
Твое чело — спокойно-ясно;
Богов служеныо ты верна.
Тогда тебе ненужны дани
Вперед заказанных цветов,
И выше ты рукоплесканий
Толпы упившихся рабов.
Когда ж и их-восторг казенный
Расшевелит на грубый взрыв
Твой шепот, страстью вдохновленный,
Твой лихорадочный порыв,
Мне тяжело, мне слишком гадко,
Что эта страсти простота,
Что эта сердца лихорадка
И псами храма понята.
Октябрь 1846
«С тайною тоскою…»{163}
С тайною тоскою,
Смертною тоской,
Я перед тобою,
Светлый ангел мой.
Пусть сияет счастье
Мне в очах твоих,
Полных сладострастья,
Томно-голубых.
Пусть душой тону я
В этой влаге глаз,
Всё же я тоскую
За обоих нас.
Пусть журчит струею
Детский лепет твой,
В грудь мою тоскою
Льется он одной.
Не тоской стремленья,
Не святой слезой,
Не слезой моленья —
Грешного хулой.
Тщетно на распятье
Обращен мой взор —
На устах проклятье,
На душе укор.
1846(?)
Серебряный тополь, мы ровни с тобой,
Но ты беззаботно-кудрявой главой
Поднялся высоко; раскинул широкую тень
И весело шелестом листьев приветствуешь день,
Ровесник мой тополь, мы молоды оба равно
И поровну сил нам, быть может, с тобою дано —
Но всякое утро поит тебя божья роса,
Ночные приветно глядят на тебя небеса.
Кудрявый мой тополь, с тобой нам равно тяжело
Склонить и погнуть перед силою ветра чело…
Но свеж и здоров ты, и строен и прям,
Молись же, товарищ, ночным небесам!
6 июля 1847
Автору «Лидии» и «Маркизы Луиджи»{165}
Кто б ни был ты, иль кто б ты ни была,
Привет тебе, мечтатель вдохновенный,
Хотя привет безвестный и смиренный
Не обовьет венцом тебе чела.
Вперед, вперед без страха и сомнений;
Темна стезя, но твой вожатый — гений!
Ты не пошел избитою тропой.
Не послужил ты прихоти печальной
Толпы пустой и мелочной,
Новейшей школы натуральной,
До пресыщенья не ласкал
Голядкина любезный идеал.
{166}
Но прожил ты, иль прожила ты много,
И много бездн душа твоя прошла,
И смутная живет в тебе тревога;
Величие добра и обаянье зла
Равно изведаны душой твоей широкой.
И образ Лидии, мятежной и высокой,
Не из себя ль самой она взяла?
Есть души предызбранные судьбою:
В добре и зле пределов нет для них;
Отмечен помысл каждый их
Какой-то силой роковою.
И им покоя нет, пока не изольют
Они иль в образы, иль в звуки
Свои таинственные муки.
Но их немногие поймут.
Толпе неясны их желанья,
Тоска их — слишком тяжела,
И слишком смутны ожиданья.
Пусть так! Кто б ни был ты, иль кто б ты ни была,
Вперед, вперед, хоть по пути сомнений,
Кто б ни был твой вожатый, дух ли зла,
Или любви и мира гений!
Декабрь 1848
[Дневник любви и молитвы]{167}
1
Марта 25, 18.. года
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist,
Nenn's Glück, Liebe, Gott!
Ich kenne keinen Namen
Dafür. Gefühl ist alles…
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmelsglut[44]
I
И снова он, старинный, мрачный храм,
И тихий свет лампады одинокой,
И в куполе Всевидящее Око,
И лики длинные, как тени по стенам.
И образы святых над царскими дверями
Парящих в небо стройными рядами.
И выше всех Голгофа. И на ней
Распятый Бог, страдалец за людей.
II
И вспомнил я, как часто в храме том,
Лет за восемь, молился я с отцом,
И снова видел я мольбу его святую,
Восторженный и вместе кроткий взор.
И слышал речь Евангельски-простую,
О чудесах Господних разговор…
Как часто он молился со слезами
И «верую» с восторгом повторял,
И голову смиренно преклонял
Под выход с страшными и тайными дарами!..
Тогда и я все ясно понимал
И символ веры набожно читал…
И пению и смыслу дивных слов
Вторил торжественно раскат колоколов…
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
И долго был я думой погружен
В былое, пролетевшее как сон.
III
Но я взглянул… И лики предо мною,
Казалось, ожили, но жизнью мертвецов,
И было ли то звон колоколов
Иль смутный сон владел моей душою,
Но слышались мне звуки странных слов.
Казалось мне, ряды святых как хоры
Гласили песнь, печальную, как стон,
И вторил им унылый, страшный звон.
Их лики бледные… Недвижимые взоры
И песнь проклятия… То был ужасный сон…
И между них я видел лик знакомый,
Чертами он отца напоминал
И горестным спокойствием сиял…
. . . . . . . . . . . . . . .
Очнулся я… и было грустно мне,
Но страшно не было. Лишь милой старине
Я отдал дань невольными мечтами;
А вздох сдавил, скрестивши грудь руками.
IV
И между тем народ уж находил
И, набожно крестясь, на место становился.
И служба началась, и ряд паникадил
Сиянием свечей мгновенно озарился.
Вдали от всех я у стены стоял
И, ко всему святому равнодушный,
Над верою толпы, живой и простодушной,
В душе, как демон, злобно хохотал.
V
И стало скучно мне… Ленивою душой
Ни мысль единая, ни чувство не владели.
И проклял я удел блаженный свой,
И мирный быт, и хладный свой покой,
И вечное стремление без цели,
И книжной мудрости на полках длинный ряд,
И споры школьные, и мысли напрокат.
И — почему, зачем — того не знал я,
Но дни младенчества предстали предо мною,
И, словно наяву, я видел пред собою
Картины лучшего, былого бытия.
И видел я в волшебном сновиденье
И детскую постель, и в окна лунный свет,
И над постелью матери портрет,
И образ на стене — ее благословенье.
И вспомнил я, с каким благоговеньем
Я «Отче наш», ложася спать, читал
И на луну смотрел — и тихо засыпал.
И погружался я душой в воспоминанье
И свиток прошлого внимательно следил.
{168}И, наконец, с тоской и трепетом открыл
Страницу грустную блаженства и страданья.
{169}И ожил снова я… и первую любовь,
И слезы, и мечты душа постигла вновь.
И снова видел я — и мраморные плечи,
И ножку легкую, и девственную грудь,
И снова слышал я пленительные речи
Все так же, как и в день минутной нашей встречи.
Да! ты была одна, с которой жизни путь
Не труден был бы мне… И озарен сияньем
Звезды моей, могучий упованьем,
Я шел бы с верою путь скорби и труда!..
Но ты была падучая звезда…
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Не в силах удержать и дум и чувств избыток,
Закрыл я холодно воспоминанья свиток.
VI
И стал я на народ смотреть… Но прежних лиц
Мой взор искал напрасно. Предо мною
Ряд старых дам да чопорных девиц…
А назади с смиренной простотою,
С поклонами земными — ряд купцов
Да жен и дочек их. Признаться, пустотою
Душа страдала. Я уж был готов
Идти скучать домой. Но теснотою
Удержан был. Ленив я как-то стал
И до дверей толкаться не желал.
И вот опять я стал смотреть. Случайно
(А может быть, по воле неба тайной)
Мой взгляд упал налево…
VII
Там одна
Близ гроба Искупителя стояла,
Молилася так пламенно она,
Смиренно так колена преклоняла.
Невольно к ней я взоры приковал
И отвести не мог… И думать стал:
Зачем она в тиши уединенья,
Вдали от всех, хотя и лучше всех?..
И от души ли было то моленье
Или расчет кокетства? Горький смех
При мысли той невольный подавляя,
Я все смотрел. Меня не замечая,
Все так же пламенно молилася она
И никуда свой взор не обращала
И к миру дольнему была так холодна.
И признаюсь, за смех мне стыдно стало.
Ее прекрасное и бледное лицо,
Сиявшее тоскою и надеждой,
Тень локонов, свивавшихся в кольцо,
И очи черные, и черный цвет одежды —
Все было дивно в ней… Печальна и бледна,
Мне Божьим Ангелом явилася она:
Казалось, он по небесам грустил
И небеса за грешников молил.
VIII
И каждый раз, когда, колена преклоня,
Она свой взор на небо обращала,
Мечталось мне: она молилась за меня
И грешника молитвою спасала.
И странно! Сам давно забытые слова
Я лепетал греховными устами
И крест творил — и гордая глава
Склонялася во прах пред образами.
IX
И предо мной иконостас сиял,
И лики весело и радостно смотрели,
И Распятый, казалось, призывал
Словами кроткими к Себе, к Единой цели
И блеск свечей на стенах озарял
Изображения святые —
И видел я — и ясли те простые,
Откуда Свет народам воссиял,
И мудрых пред Младенцем поклоненье,
И Ангелов средь пастырей явленье,
{170}И ночь страдания, когда на Элеон
В последний раз пришел молиться он,
Последнюю с земным где выдержал он битву…
И тяжкий крест, и за врагов молитву.
{171}
X
И помню я: свет черных, жгучих глаз
Во мрак души моей проник тогда не раз…
И взор ее сиял мне примиреньем.
И всякий раз, когда его встречал,
Казалось, я из праха восставал
И постигал святое вдохновенье.
2
Марта 27, 18.. года
Верую, Господи, и исповедую, яко
ты еси Христос, Сын Бога Живого,
пришед в мир грешныя
спасти, от них же первый есьмь аз.
I
И подошла она, смиренно-величава,
И вместе с прочими пред чашей пала в прах.
И осияла всех, казалось, Божья слава,
И я почувствовал в душе невольный страх,
И дряхлыми, но твердыми руками
Служитель Вышнего открыл Святой фиал,
И средь молитвы всех — молитву он читал —
Я голову склонил… и с верой и слезами
Его слова тихонько повторял.
И верил я, что Сын Живого Бога,
Пришедший в мир погибшия взыскать,
Недаром счастья мне послал с небес так много,
Недаром дал любви и веры благодать.
II
Марта 28
Отец Любви! Перед тобой
Теперь склоняюсь я в смиренье
Когда-то полною сомненья,
Когда-то гордой головой.
Я не ропщу на мой удел,
На бытие без назначенья…
Путем страданья к просветленыо
Идти Божественный велел.
И я, страдая и тоскуя,
Тоской стремлюсь куда-нибудь —
Куда-нибудь ведет мой путь…
Цель жизни, может быть, найду я.
III
И брожу я с надеждой, с любовью, с тоской
Мимо дома ее, мимо милых мне окон
И смотрю — не сияют ли очи за рамой двойной.
Не белеет ли ручка, не чернеет ли локон?
И когда луч очей из окна на меня упадет,
Он мне сердце, как свечку, к молитве зажжет.
И сгорает и тает оно перед ним
И довольно, как факел, сгораньем своим.
IV
Простите мне! Порывы чувства
Вас оскорбили, может быть,—
Но я не ведаю искусства
В груди прекрасное таить.
Простите мой невольный трепет,
Восторга страсти полный взгляд,
Смятение и странный лепет.
Простите мне — я виноват.
Я забывал, встречая вас,
Что есть толпа, что есть другие,
Что мир разъединяет нас,
Что друг для друга мы чужие.
V
Дитя, дитя! Не смейся надо мной,
На плечи не спускай небрежно черный локон,
Не улыбайся мне улыбкою живой,
Когда, смятенья полн, поникнув головой,
С надеждой робкою брожу я мимо окон.
Дитя! Не знаешь ты, что страшною ценой
Я покупаю счастья миг единый,
Что лучшею души и жизни половиной
Я заплатил за взгляд единый твой,
Звездою тихою горя над миром шумным.
Свое сияние ты льешь на всех равно —
А я?.. я веровал, что счастье быть бездумным
От взгляда твоего мне одному дана.
VI
Прости, прости! Ни вздохом, ни слезой
Не вспомнишь ты страну, тебе чужую,
Душой давно, быть может, в край иной
Стремилась ты.
О чем же я тоскую,
Чего мне жаль? Сиянья ли очей —
Сиянья звезд блестящих и холодных,
Мечтаний ли, бессонных ли ночей,
На ветер брошенных порывов благородных?
Вот есть о чем жалеть! Прощайте, добрый путь!
Что нужды вам, что в сердце чьем-нибудь
Вы лучшие сгубили упованья,
Что чья-нибудь больна чахоткой грудь,
Что вам вослед несется вздох страданья?
Блаженны вы. Вам не о чем вздохнуть…
Прощайте же, прощайте — добрый путь!
VII
Прочь, демон, прочь! Недаром были
Даны мне слезы и мечты,
Что небеса мне возвратили,
Того отнять не можешь ты.
Исчезло дивное виденье,
Но им душа еще полна.
Прочь, демон, прочь! Во мне Она,
А надо мною — Провиденье.
<Начало 1850-х гг.>
Послание к друзьям моим А. О., Е. Э. и Т. Ф.{172}
В давно прошедшие века, «во время оно»
Спасенье (traditur
[45]) сходило от Сиона…
И сам я молод был и верил в благодать,
Но наконец устал и веровать, и ждать,
И если жду теперь от господа спасенья,
Так разве в виде лишь огромного именья,
И то, чтоб мог иметь и право я, и власть
Хандрить и пьянствовать, избрать благую часть.
Теперь, друзья мои, и рад бы я, конечно,
Хандрить и пьянствовать, пожалуй, даже вечно,
Да бедность не велит… Как века сын прямой,
С самолюбивою родился я душой.
Мне в высшей степени бывает неприятно,
Когда меня хандра случайно посетит,
Услышать про себя: «Хандрит? Ну да! Хандрит!»
Он «домотался», вероятно.
Известно, отчего хандрит наш брат бедняк,
Известно, пьянствуя, он заливает горе,
Известно, пьяным всем нам по колено море.
Но я б хотел хандрить не так,
Хандрить прилично, благородно,
И равнодушно, и свободно…
Хандрить и пьянствовать! Ужель
Одну ты видишь в жизни цель,
Мне возразишь печально, строго
Ты ci-devant
[46] социалист
И беспощадный атеист,
А ныне весь ушедший в бога,
{173}Ф<илиппов> мой, кого на памяти моей
Во Ржеве развратил премудрый поп Матвей.
{174}Хандрить и пьянствовать! Предвижу уреканья
Я даже от тебя, души моей кумир,
Полу <нрзб> полу-Шекспир,
Распутства с гением слепое сочетанье.
{175}Хандрить и пьянствовать! Я знаю наперед,
Что мне по Бенеке
{176} опровергать начнет
Евгений Э<дельсон> печальное ученье
И сам для вящего напьется наставленья…
Начало 1850-х годов
Подражания
1. Песня в пустыне{177}
Пускай не нам почить от дел
В день вожделенного покоя —
Еговы
{178} меч нам дан в удел,
Предуготованным для боя.
И бой, кровавый, смертный бой
Не утомит сынов избранья;
Во брани падших ждет покой
В святом краю обетованья.
Мы по пескам пустым идем,
Палимы знойными лучами,
Но указующим столпом
Егова сам идет пред нами.
{179}
Егова с нами — он живет,
И крепче каменной твердыни,
Несокрушим его оплот
В сердцах носителей святыни.
Мы ту святыню пронесли
Из края рабства и плененья —
Мы с нею долгий путь прошли
В смиренном чаяньи спасенья.
И в бой, кровавый, смертный бой
Вступить с врагами мы готовы:
Святыню мы несем с собой —
И поднимаем меч Еговы.
2. Проклятие{180}
Да будет проклят тот, кто сам
Чужим поклонится богам
И — раб греха — послужит им,
Кумирам бренным и земным,
Кто осквернит Еговы храм
Служеньем идолам своим,
Или войдет, подобный псам,
С нечистым помыслом одним…
Господь отмщений, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.
Да будет проклят тот вдвойне,
Кто с равнодушием узрит
Чужих богов в родной стране
И за Егову не отмстит,
Не препояшется мечом
Иль укоснит изгнать бичом
Из храма торжников и псов.
{182}Господь отмщений, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.
Да будет трижды проклят тот,
Да будет проклят в род и в род,
Кто слезы лить о псах готов,
Жалеть о гибели сынов:
Ему не свят святой Сион,
Не дорог Саваофа храм,
Не знает, малодушный, он,
Что нет в святыни части псам,
Что Адонаи, предков бог,
Ревнив, и яростен, и строг.
1852
Искусство и правда.{183}
Элегия-ода-сатира
О, как мне хочется смутить веселье их
И дерзко бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!
Лермонтов
1
Была пора: театра зала
То замирала, то стонала,
И незнакомый мне сосед
Сжимал мне судорожно руку,
И сам я жал ему в ответ,
В душе испытывая муку,
Которой и названья нет.
Толпа, как зверь голодный, выла,
То проклинала, то любила…
Всесильно властвовал над ней
Могучий, грозный чародей.
{184}
Я помню бледный лик Гамлета,
Тот лик, измученный тоской,
С печатью тайны роковой,
Тяжелой думы без ответа.
Я помню, как пред мертвецом
С окаменившимся лицом,
С бессмысленным и страшным взглядом,
Насквозь проникнут смертным хладом,
Стоял немой он… и потом
Разлился всем душевным ядом,
И слышал я, как он язвил,
В тоске большой и безотрадной,
Своей иронией нещадной
Всё, что когда-то он любил…
А он любил, я верю свято,
Офелию побольше брата!
Ему мы верили; одним
С ним жили чувством, дети века,
И было нам за человека,
За человека страшно с ним!{185}
И помню я лицо иное,
Иные чувства прожил я:
Еще доныне предо мною
Тиран — гиена и змея,
С своей язвительной улыбкой,
С челом бесстыдным, с речью гибкой,
И безобразный, и хромой,
Ричард коварный, мрачный, злой.
Его я вижу с леди Анной,
Когда, как рая древний змей,
Он тихо в слух вливает ей
Яд обаятельных речей,
И сам над сей удачей странной
Хохочет долго смехом злым,
Идя поговорить с портным…
Я помню сон и пробужденье,
Блуждающий и дикий взгляд,
Пот на челе, в чертах мученье,
Какое знает только ад.
И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!»{186}
Его у трупа Дездемоны
В нездешних муках я видал,
Ромео плач и Лира стоны
Волшебник нам передавал…
Любви ли страстной нежный шепот,
Иль корчи ревности слепой,
Восторг иль грусть, мольбу иль ропот —
Всё заставлял делить с собой…
В нескладных драмах Полевого,
{187}Бывало, за него сидишь,
С благоговением молчишь
И ждешь: вот скажет два-три слова,
И их навеки сохранишь…
Мы Веронику с ним любили,
За честь сестры мы с Гюгом мстили,
{188}И — человек уж был таков —
Мы терпеливо выносили,
Как в драме хвастал Ляпунов.
{189}
Угас волкан, окаменела лава…
Он мало жил, но много нам сказал,
Искусство в нем нам не была забава;
Страданием его повита слава…
Как Промифей, он пламень похищал,
Как Промифей, он был терзаем враном…
Действительность с сценическим обманом
Сливались так в душе его больной,
Что жил вполне он жизнию чужой
И верил сердца вымышленным ранам.
Он трагик был с людьми, с собой один,
Трагизма жертва, жрец и властелин.
Угас волкан, но были изверженья
Так страшны, что поддельные волненья
Не потрясут, не растревожат нас.
Мы правду в нашем трагике любили,
Трагизма правду с ним мы хоронили;
Застыла лава, лишь волкан погас.
Искусственные взрывы сердцу чужды,
И сердцу в них нет ни малейшей нужды,
Покойся ж в мире, старый властелин…
Ты был один, останешься один!
2
И вот, пришла пора другая…
Опять в театре стон стоит;
Полусмеясь, полурыдая,
На сцену вновь толпа глядит,
И с нею истина иная
Со сцены снова говорит.
Но эта правда не похожа
На правду прежнюю ничуть;
Она простее, но дороже,
Здоровей действует на грудь…
Дай ей самой здоровье, боже,
Пошли и впредь счастливый путь.
Поэт, глашатай правды новой,
{190}Нас миром новым окружил
И новое сказал он слово,
Хоть правде старой послужил.
Жила та правда между нами,
Таясь в душевной глубине;
Быть может, мы ее и сами
Подозревали не вполне.
То в нашей песне благородной,
Живой, размашистой, свободной,
Святой, как наша старина,
Порой нам слышалась она,
То в полных доблестей сказаньях
О жизни дедов и отцов,
В святых обычаях, преданьях
И хартиях былых веков,
То в небалованности здравой,
В ума и чувствачистоте,
Да в чуждой хитрости лукавой
Связей и нравов простоте.
Поэта образы живые
Высокий комик
{191} в плоть облек…
Вот отчего теперь впервые
По всем бежит единый ток,
Вот отчего театра зала,
От верху до низу, одним
Душевным, искренним, родным
Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой.
Комедия ль в нем плачет перед нами,
Трагедия ль хохочет вместе с ним,
Не знаем мы и ведать не хотим!
Скорей в театр! Там ломятся толпами,
Там по душе теперь гуляет быт родной,
Там песня русская свободно, звонко льется,
Там человек теперь и плачет и смеется,
Там — целый мир, мир полный и живой…
И нам, простым, смиренным чадам века,
Не страшно — весело теперь за человека!
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь,
Любим Торцов душе так прямо кажет путь!
Великорусская на сцене жизнь пирует,
Великорусское начало торжествует,
Великорусской речи склад
И в присказке лихой, и в песне игреливой,
Великорусский ум, великорусский взгляд —
Как Волга-матушка, широкий и гульливый!
Тепло, привольно, любо нам,
Уставшим жить болезненным обманом…
3
Театра зала вновь полна,
Партер и ложи блещут светом,
И речь французская слышна
Привыкших шаркать по паркетам.
Французский и произносить
Тут есть охотников немало
(Кому же обезьяной быть
Ума и сметки не ставало?).
Но не одни
бонтоны{192} тут:
Видна мужей ученых стая;
Похвальной ревностью пылая,
Они безмездно взяли труд
По всем эстетикам немецким
Втолковывать героям светским,
Что есть трагизм и то и сё,
Корпель и эдакое всё…
Из образованных пришли
Тут два-три купчика в немецком
(Они во вкусе самом светском
Себе бинокли завели).
Но бросим шутки тон… Печально, не смешно —
Что слишком мало в нас достоинства, сознанья,
Что на эффекты нас поддеть немудрено,
Что в нас не вывелся, бичеванный давно,
Дух рабского, слепого подражанья!{193}
Пускай она талант, пусть гений! — дай бог ей!
Да нам не ко двору пришло ее искусство…
В нас слишком девственно, свежо и просто чувство,
Чтобы выкидывать колена почудней.
Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной…
Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют себе находит
Всё то, что человека благородит.
{194}
Пусть дети старые, чтоб праздный ум занять,
Хлам старых классиков
для штуки{195} воскрешают…
Но нам за ними лезть какая будет стать,
Когда иное нас живит и занимает?
Пускай боролися в недавни времена
И Лессинг там, и Шиллер благородный
С ходульностью (увы — как видится, бесплодно!) —
Но по натуре нам ходульность та смешна.
Я видел, как Рислей детей наверх бросает…
И больно видеть то, и тяжко было мне!
Я знаю, как Рашель по часу умирает,
{196}И для меня вопрос о ней решен вполне!
Лишь в сердце истина: где нет живого чувства,
Там правды нет и жизни нет…
Там фальшь — не вечное искусство!
И пусть в восторге целый свет,
Но наши неуместны восхищенья.
У нас иная жизнь, у нас иная цель!
Америке с Европой мы — Рашель,
Столодвижение
{197}, иные ухищренья
(Игрушки, сродные их старческим летам)
Оставим… Пусть они оставят правду нам!
1854
«За Вами я слежу давно…»{198}
За Вами я слежу давно
С горячим, искренним участьем,
И верю: будет Вам дано
Не многим ведомое счастье.
Лишь сохраните, я молю,
Всю чистоту души прекрасной
И взгляд на жизнь простой и ясный,
Всё то, за что я Вас люблю!
Первая половина 1850-х годов
«Трагедия близка к своей развязке…»{199}
Трагедия близка к своей развязке,
И прав неумолимого закон,
Вольно же сердцу верить старой сказке,
Что приходил взыскать погибших Он.
{200}
Свершают непреложные законы
Все бренные создания Твои,
И Ты глядишь, как гибнут миллионы,
С иронией божественной любви.
Так что же вопль одной визгливой твари,
Писк устрицы иль стон душевных мук,
Проклятья страсти в бешеном разгаре
Благодарящий иль клянущий звук.
А все порой на свод небесный взглянешь
С молитвой, самому себе смешной,
И детские предания вспомянешь,
И чудо, ждешь, свершится над тобой.
Ведь жили ж так отцы и деды прежде
И над собой видали чудеса
И вырастили нас в слепой надежде,
Что для людей доступны небеса.
Кого спасал от долгого запоя
Господь чудесным сном каким-нибудь,
Кому среди Очаковского боя
Крест матери закрыл от раны грудь.
Пришлося круто так, что вот немножко
Еще — так тут ложись да умирай.
Вдруг невидимо посылал в окошко
Великий чудотворец Николай.
Навеки нерушимые бывали
Благословенья в тот счастливый век.
И силой их был крепче лучшей стали
Теперь позорно слабый человек.
Отцов моих заветные преданья,
Не с дерзким смехом вызываю вас,
Все праотцов святые достоянья
Хотел в душе собрать бы я хоть раз.
Чтоб пред Тобой с молитвою живою,
Отец любви, упавши, зарыдать,
Поверить, что покров Твой надо мною,
Что ты пришел погибшее взыскать.
Трагедия близка к своей развязке,
Пришел конец мучительной борьбе.
Спаситель! Если не пустые сказки
Те язвы, что носил ты на себе,
И ежели Твои обетованья
Не звук один, не тщетный только звук…
Спаситель! Есть безумные страданья,
Чернеет сердце, сохнет мозг от мук.
Спаситель! Царь Земли в венце терновом,
С смирением я пал к Твоим ногам,
Молю тебя Твоим же вечным словом:
Ты говорил: «Просите, дастся вам».
{201}
23 января 1855
Отрывок из неконченного собрания сатир{202}
Я не поэт, а гражданин!
Сатиры смелый бич, заброшенный давно,
Валявшийся в пыли, я снова поднимаю:
Поэт я или нет — мне, право, всё равно,
Но язвы наших дней я сердцем понимаю.
Я сам на сердце их немало износил,
Я сам их жертвою и мучеником был.
Я взрос в сомнениях, в мятежных думах века,
И современного я знаю человека:
Как ни вертися он и как ни уходи,
Его уловкам я лукавым не поверю,
Но, обратясь в себя, их свешу и измерю
Всем тем, что в собственной творилося груди.
И, зная наизусть его места больные,
Я буду бить по ним с уверенностью злой
И нагло хохотать, когда передо мной
Драпироваться он в страдания святые,
В права проклятия, в идеи наконец,
Скрывая гордо боль, задумает, подлец…
23 августа 1855
Москва
1. «Я ее не люблю, не люблю…»{204}
Я ее не люблю, не люблю…
Это — сила привычки случайной!
Но зачем же с тревогою тайной
На нее я смотрю, ее речи ловлю?
Что мне в них, в простодушных речах
Тихой девочки с женской улыбкой?
Что в задумчиво-робко смотрящих очах
Этой тени воздушной и гибкой?
Отчего же — и сам не пойму —
Мне при ней как-то сладко и больно,
Отчего трепещу я невольно,
Если руку ее на прощанье пожму?
Отчего на прозрачный румянец ланит
Я порою гляжу с непонятною злостью
И боюсь за воздушную гостью,
Что, как призрак, она улетит.
И спешу насмотреться, и жадно ловлю
Мелодически-милые, детские речи;
Отчего я боюся и жду с нею встречи?..
Ведь ее не люблю я, клянусь, не люблю.
<1853, 1857 >
2. «Я измучен, истерзан тоскою…»{205}
Я измучен, истерзан тоскою…
Но тебе, ангел мой, не скажу
Никогда, никогда, отчего я,
Как помешанный, днями брожу.
Есть минуты, что каждое слово
Мне отрава твое и что рад
Я отдать всё, что есть дорогого,
За пожатье руки и за взгляд.
Есть минуты мучений и злобы,
Ночи стонов безумных таких,
Что, бог знает, не сделал чего бы,
Лишь упасть бы у ног у твоих.
Есть минуты, что я не умею
Скрыть безумия страсти своей…
О, молю тебя — будь холоднее,
И меня и себя пожалей!
<1857>
3. «Я вас люблю… что делать — виноват!..»
Я вас люблю… что делать — виноват!
Я в тридцать лет так глупо сердцем молод,
Что каждый ваш случайный, беглый взгляд
Меня порой кидает в жар и холод…
И в этом вы должны меня простить,
Тем более, что запретить любить
Не может власть на свете никакая;
Тем более, что, мучась и пылая,
Ни слова я не смею вам сказать
И принужден молчать, молчать, молчать!..
Я знаю сам, что, были бы преступны
Признанья или смысла лишены:
Затем, что для меня вы недоступны,
Как недоступен рай для сатаны.
Цепями неразрывными окован,
Не смею я, когда порой, взволнован,
Измучен весь, к вам робко подхожу
И подаю вам руку на прощанье,
Сказать простое слово: до свиданья!
Иль, говоря, — на вас я не гляжу.
К чему они, к чему свиданья эти?
Бессонницы — расплата мне за них!
А между тем, как зверь, попавший в сети,
Я тщетно злюсь на крепость уз своих.
Я к ним привык, к мучительным свиданьям…
Я опиум готов, как турок, пить,
Чтоб муку их в душе своей продлить,
Чтоб дольше жить живым воспоминаньем…
Чтоб грезить ночь и целый день бродить
В чаду мечты, под сладким обаяньем
Задумчиво опущенных очей!
Мне жизнь темна без света их лучей.
Да… я люблю вас… так глубоко, страстно,
Давно… И страсть безумную свою
От всех, от вас особенно таю.
От вас, ребенок чистый и прекрасный!
Не дай вам бог, дитя мое, узнать,
Как тяжело любить такой любовью,
Рыдать без слов, метаться, ощущать,
Что кровь свинцом расплавленным, не кровью,
Бежит по жилам, рваться, проклинать,
Терзаться ночи, дни считать тревожно,
Бояться встреч и ждать их, жадно ждать;
Беречься каждой мелочи ничтожной,
Дрожать за каждый шаг неосторожный,
Над пропастью бездонною стоять
И чувствовать, что надо погибать,
И знать, что бегство больше невозможно.
<1857>
4. «Опять, как бывало, бессонная ночь!..»
Опять, как бывало, бессонная ночь!
Душа поняла роковой приговор:
Ты Евы лукавой лукавая дочь,
Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер.
Чего ты хотела?.. Чтоб вовсе с ума
Сошел я?.. чтоб всё, что кругом нас, забыл?
Дитя, ты сама б испугалась, сама,
Когда бы в порыве я искренен был.
Ты знаешь ли всё, что творилось со мной,
Когда не холодный, насмешливый взор,
Когда не суровость, не тон ледяной,
Когда не сухой и язвящий укор,
Когда я не то, что с отчаяньем ждал,
Во встрече признал и в очах увидал,
В приветно-тревожных услышал речах?
Я был уничтожен, я падал во прах…
Я падал во прах, о мой ангел земной,
Пред женственно-нежной души чистотой,
Я падал во прах пред тобой, пред тобой,
Пред искренней, чистой, глубокой, простой!
Я так тебя сам беззаветно любил,
Что бодрость мгновенно в душе ощутил,
И силу сковать безрассудную страсть,
И силу бороться, и силу не пасть.
Хоть весь в лихорадочном был я огне,
Но твердости более достало во мне —
Ни слова тебе по душе не сказать,
И даже руки твоей крепче не сжать!
Зато человека, чужого почти,
Я встретил, как брата лишь встретить мог брат,
С безумным восторгом, кипевшим в груди…
По-твоему ж, был я умей невпопад.
Дитя, разве можно иным было быть,
Когда я не смею, невправе любить?
Когда каждый миг должен я трепетать,
Что завтра, быть может, тебя не видать,
Когда я по скользкому должен пути,
Как тать, озираясь, неслышно идти,
Бессонные ночи в тоске проводить,
Но бодро и весело в мир твой входить.
Пускай он доверчив, сомнений далек,
Пускай он нисколько не знает тебя…
Но сам в этот тихий земли уголок
Вхожу я с боязнью, не веря в себя.
А ты не хотела, а ты не могла
Понять, что творилось со мною в тот миг,
Что если бы воля мне только была,
Упал бы с тоской я у ног у твоих
И током бы слез, не бывалых давно,
Преступно-заглохшую душу омыл…
Мой ангел… так свято, глубоко, полно
Ведь я никого никогда не любил!..
При новой ты встрече была холодна,
Насмешливо-зла и досады полна,
Меня уничтожить хотела совсем…
И точно!.. Я был безоружен и нем.
Мне раз изменила лишь нервная дрожь,
Когда я в ответ на холодный вопрос,
На взгляд, где сверкал мне крещенский мороз,—
Борьба, так борьба! — думал грустно, — ну что ж!
И ты тоже Евы лукавая дочь,
Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер.
И снова бессонная, длинная ночь,—
Душа поняла роковой приговор.
20 января 1847 (?)
5. «О! кто бы ни был ты, в борьбе ли муж созрелый…»{206}
Oh! Qui que vous soyez,
jeune ou vieux, riche ou sage.
V. Hugo[47]
О! кто бы ни был ты, в борьбе ли муж созрелый
Иль пылкий юноша, богач или мудрец —
Но если ты порой ненастный вечер целый
Вкруг дома не бродил, чтоб ночью наконец,
Прильнув к стеклу окна, с тревожной лихорадкой
Мечтать, никем не зрим и в трепете, что вот
Ты девственных шагов услышишь шелест сладкий,
Что милой речи звук поймаешь ты украдкой,
Что за гардиною задернутой мелькнет
Хоть очерк образа неясным сновиденьем
И в сердце у тебя след огненный прожжет
Мгновенный метеор отрадным появленьем…
Но если знаешь ты по слуху одному
Иль по одним мечтам поэтов вдохновенных
Блаженство, странное для всех непосвященных
И непонятное холодному уму,
Блаженство мучиться любви палящей жаждой,
Гореть на медленном, томительном огне,
Очей любимых взгляд ловить случайный каждый,
Блаженство ночь не спать, а днем бродить во сне…
Но если никогда, печальный и усталый,
Ты ночь под окнами сиявшей ярко залы
Неведомых тебе палат не проводил,
Доколе музыка в палатах не стихала,
Доколь урочный час разъезда не пробил
И освещенная темнеть не стала зала;
Дыханье затаив и кутаясь плащом,
За двери прыгая, не ожидал потом,
Как отделялся от пошлой черни светской,
Вся розово-светла, мелькнет она во мгле,
С усталостью в очах, с своей улыбкой детской,
С цветами смятыми на девственном челе…
Но если никогда ты не изведал муки,
Всей муки ревности, когда ее другой
Свободно увлекал в безумный вальс порой,
И обвивали стан ее чужие руки,
И под томительно-порывистые звуки
Обоих уносил их вихорь круговой,
А ты стоял вдали, ревнующий, несчастный,
Кляня веселый бал и танец сладострастный…
Но если никогда, в часы, когда заснет
С дворцами, башнями, стенами вековыми
И с колокольнями стрельчатыми своими
Громадный город весь, усталый от забот,
Под мрачным пологом осенней ночи темной,
В часы, как смолкнет всё и с башни лишь огромной,
Покрытой сединой туманною веков,
Изборожденной их тяжелыми стонами,
Удары мерные срываются часов,
Как будто птицы с крыш неровными толпами;
В часы, когда на всё наляжет тишина,
В часы, когда, дитя безгрешное, она
Заснет под сенью крил хранителей незримых,
Ты, обессилевший от мук невыразимых,
В подушку жаркую скрываясь, не рыдал
И имя милое сто раз не повторял,
Не ждал, что явится она на зов мученья,
Не звал на помощь смерть, не проклинал рожденья…
И если никогда не чувствовал, что взгляд,
Взгляд женщины, как луч таинственный сияя,
Жизнь озарил тебе, раскрыл все тайны рая;
Не чувствовал порой, что за нее ты рад,
За эту девочку, готовую смеяться
При виде жгучих слез иль мук твоих немых,
Колесования мученьям подвергаться,—
Ты не любил еще, ты страсти не постиг.
<1853, 1857>
6. «Прости меня, мой светлый серафим…»{207}
Прости меня, мой светлый серафим,
Я был на шаг от страшного признанья;
Отдавшись снам обманчивым моим,
Едва я смог смирить в себе желанье
С рыданием упасть к ногам твоим.
Я изнемог в борьбе с безумством страсти,
Я позабыл, что беспощадно строг
Закон судьбы неумолимой власти,
Что мера мук и нравственных несчастий
Еще не вся исполнилась… Я мог
За звук один, за милый звук привета,
За робкий звук, слетевший с уст твоих
В доверчивый самозабвенья миг, —
Взять на душу тяжелый гнет ответа
Перед судом небесным и земным
В судьбе твоей, мой светлый серафим!
Мне снился сон далеких лет волшебный,
И речь младенчески приветная твоя
В больную грудь мне влагою целебной
Лилась, как животворная струя…
Мне грезилось, что вновь я молод и свободен…
Но если б я свободен даже был…
Бог и тогда б наш путь разъединил,
И был бы прав суровый суд господень!
Не мне удел с тобою был бы дан…
Я веком развращен, сам внутренне развратен;
На сердце у меня глубоких много ран
И несмываемых на жизни много пятен…
Пускай могла б их смыть одна слеза твоя,
Ее не принял бы правдивый судия!
<1857>
7. «Доброй ночи!.. Пора!..»{208}
Доброй ночи!.. Пора!
Видишь: утра роса небывалая там
Раскидала вдали озера…
И холмы поднялись островами по тем озерам.
Доброй ночи!.. Пора!
Посмотри: зажигается яркой каймой
На востоке рассвета заря…
Как же ты хороша, освещенная утра зарей!
Доброй ночи!.. Пора!
Слышишь утренний звон с колоколен церквей;
Тени ночи спешат до утра,
До урочного часа вернуться в жилище теней…
Доброй ночи!.. Засни.
Ночи тайные гости боятся росы заревой,
До луны не вернутся они…
Тихо спи, освещенная розовой утра зарей.
1843,
<1857>
8. «Вечер душен, ветер воет…»{209}
Вечер душен, ветер воет,
Воет пес дворной;
Сердце ноет, ноет, ноет,
Словно зуб больной.
Небосклон туманно-серый,
Воздух так сгущен…
Весь дыханием холеры,
Смертью дышит он.
Всё одна другой страшнее
Грезы предо мной;
Всё слышнее и слышнее
Похоронный вой.
Или нервами больными
Сон играет злой?
Но запели: «Со святыми,—
Слышу, — упокой!»
Всё сильнее ветер воет,
В окна дождь стучит…
Сердце ломит, сердце ноет,
Голова горит!
Вот с постели поднимают,
Вот кладут на стол…
Руки бледные сжимают
На груди крестом.
Ноги лентою обвили,
А под головой
Две подушки положили
С длинной бахромой.
Темно, темно… Ветер воет…
Воет где-то пес…
Сердце ноет, ноет, ноет…
Хоть бы капля слез!
Вот теперь одни мы снова,
Не услышат нас…
От тебя дождусь ли слова
По душе хоть раз?
Нет! навек сомкнула вежды,
Навсегда нема…
Навсегда! и нет надежды
Мне сойти с ума!
Говори, тебя молю я,
Говори теперь…
Тайну свято сохраню я
До могилы, верь.
Я любил тебя такою
Страстию немой,
Что хоть раз ответа стою…
Сжалься надо мной.
Не сули мне счастье встречи
В лучшей стороне…
Здесь — хоть звук бывалой речи
Дай услышать мне.
Взгляд один, одно лишь слово…
Холоднее льда!
Боязлива и сурова
Так же, как всегда!
Ночь темна и ветер воет,
Глухо воет пес…
Сердце ломит, сердце ноет!..
Хоть бы капля слез!..
<1857>
9. «Надежду!» — тихим повторили эхом…»{210}
«Надежду!» — тихим повторили эхом
Брега, моря, дубравы… и не прежде
Конрад очнулся. «Где я? — с диким смехом
Воскликнул он. — Здесь слышно о надежде!
Но что же песня?.. Помню без того я
Твое, дитя, счастливое былое…
Три дочери у матери вас было,
Тебе судьба столь многое сулила…
Но горе к вам, цветы долины, близко:
В роскошный сад змея уже проникла,
И всё, чего коснулась грудью склизкой,
Трава ль, цветы ль — краса и прелесть сада, —
Всё высохло, поблекло и поникло,
И замерло, как от дыханья хлада…
О, да! стремись к минувшему мечтою,
Припоминай те дни, что над тобою
Неслись доселе б весело и ясно,
Когда б… молчишь?.. Запой же песнь проклятья:
Я жду ее, я жду слезы ужасной,
Что и гранит прожечь, упавши, может…
На голову ее готов принять я:
Пусть падает, пускай палит чело мне,
Пусть падает! Пусть червь мне сердце гложет,
И пусть я всё минувшее припомню
И всё, что ждет в аду меня, узнаю!»
— «Прости, прости! я виновата, милый!
Пришел ты поздно, ждать мне грустно было:
Невольно песнь какая-то былая…
Но прочь ее!.. Тебя ли упрекну я?
С тобой, о мой желанный, прожила я
Одну минуту… но и той одною
Не поменялась бы с людской толпою
На долгий век томлений и покоя…
Сам говорил ты, что судьба людская
Обычная — судьба улиток водных:
На мутном дне печально прозябая,
В часы одних волнений непогодных,
Однажды в год, быть может, даже реже,
Наверх они, на вольный свет проглянут,
Вдохнут в себя однажды воздух свежий,
И вновь на дно своей могилы канут…
Не для такой судьбы сотворена я:
Еще в отчизне, девочкой, играя
С толпой подруг, о чем-то я, бывало,
Вздыхала тайно, смутно тосковала…
Во мне тревожно сердце трепетало!
Не раз, от них отставши, я далеко
На холм один взбегала на высокой
И, стоя там, просила со слезами,
Чтоб божьи пташки по перу мне дали
Из крыл своих — и, размахнув крылами,
Порхнула б я к небесной синей дали…
С горы бы я один цветок с собою,
Цвет незабудки унесла, высоко
За тучи, с их пернатою толпою
Помчалася — ив вышине далекой
Исчезла!.. Ты, паря над облаками,
Услышал сердца пылкое желанье
И, обхватив орлиными крылами,
Унес на небо слабое созданье!
И пташек не завидую я доле…
Куда лететь? исполнено не всё ли,
Чего просили сердца упованья?
Я божье небо в сердце ощутила,
Я человека на земле любила!»
<1857>
10. «Прощай, прощай! О, если б знала ты…»{211}
Прощай, прощай! О, если б знала ты,
Как тяжело, как страшно это слово…
От муки разорваться грудь готова,
А в голове больной бунтуют снова
Одна другой безумнее мечты.
Я гнал их прочь, обуздывая властью
Моей любви глубокой и святой;
В борьбу и в долг я верил, веря счастью;
Из тьмы греха исторгнут чистой страстью,
Я был царем над ней и над собой.
Я, мучася, ревнуя и пылая,
С тобою был спокоен, чист и тих,
Я был с тобою свят, моя святая!
Я не роптал — главу во прах склоняя,
Я горько плакал о грехах своих.
Прощай! прощай!.. Вновь осужден узнать я
На тяжкой жизни тяжкую печать
Не смытого раскаяньем проклятья…
Но, испытавший сердцем благодать, я
Теперь иду безропотно страдать.
<1857>
11. «Ничем, ничем в душе моей…»{212}
Ничем, ничем в душе моей
Заветной веры ты не сгубишь…
Ты можешь полюбить сильней,
Но так легко ты не разлюбишь.
Мне вера та — заветный клад,
Я обхватил его руками…
И, если руки изменят,
Вопьюсь в безумии зубами.
Та вера — жизнь души моей,
Я даром не расстанусь с ней.
Тебя любил я так смиренно,
Так глубоко и так полно,
Как жизнью новой озаренной
Душе лишь раз любить дано.
Я всё, что в сердце проникало
Как мира высшего отзыв,
Что ум восторгом озаряло,—
Передавал тебе, бывало,
И ты на каждый мой порыв
Созвучьем сердца отвечала.
Как в книге, я привык читать
В душе твоей и мог по воле
Всем дорогим мне наполнять
Страницы, белые дотоле.
И с тайной радостью следил,
Как цвет и плод приносит ныне
То, что вчера я насадил
В заветной, девственной святыне.
Я о любви своей молчал,
Ее таил, как преступленье…
И жизни строгое значенье
Перед тобой разоблачал.
А всё же чувствовали сами
Невольно оба мы не раз,
Что душ таинственная связь
Образовалась между нами.
Тогда… хотелось мне упасть
К твоим ногам в порыве страсти…
Но сила непонятной власти
Смиряла бешеную страсть.
Нет! Но упал бы я к ногам,
Не целовал бы след твой милый,
Храня тебя, хранимый сам
Любви таинственною силой…
Один бы взгляд, один бы звук,
Одно лишь искреннее слово —
И бодро я пошел бы снова
В путь одиночества и мук.
Но мы расстались без прощанья,
С тоской суровой и немой,
И в час случайного свиданья
Сошлись с холодностью сухой;
Опущен взгляд, и чинны речи,
Рука как мрамор холодна…
А я, безумный, ждал той встречи,
Я думал, мне простит она
Мою тоску, мои мученья,
Невольный ропот мне простит
И вновь в молитву обратит
Греховный стон ожесточенья!
<1957>
12. «Мой ангел света! Пусть перед тобою…»{213}
Мой ангел света! Пусть перед тобою
Стихает всё, что в сердце накипит;
Немеет всё, что без тебя порою
Душе тревожной речью говорит.
Ты знаешь всё… Когда благоразумной,
Холодной речью я хочу облечь,
Оледенить души порыв безумный —
Лишь для других не жжется эта речь!
Ты знаешь всё… Ты опускаешь очи,
И долго их не в силах ты поднять,
И долго ты темней осенней ночи,
Хоть никому тебя не разгадать.
Один лишь я в душе твоей читаю,
Непрошеный, досадный чтец порой…
Ты знаешь всё… Но я, я также знаю
Всё, что живет в душе твоей больной.
И я и ты равно друг друга знаем,
А между тем наедине молчим,
И я и ты — мы поровну страдаем
И скрыть равно страдание хотим.
Не видясь, друг о друге мы не спросим
Ни у кого, хоть спросим обо всем;
При встрече взгляда лишнего не бросим,
Руки друг другу крепче не пожмем.
В толпе ли шумной встретимся с тобою,
Под маскою ль подашь ты руку мне —
Нам тяжело идти рука с рукою,
Как тяжело нам быть наедине.
И чинны ледяные наши речи,
Хоть, кажется, молчать нет больше сил,
Хоть так и ждешь, что в миг подобной встречи
Всё выскажешь, что на сердце таил.
А между тем, и ты и я — мы знаем,
Что мучиться одни осуждены,
И чувствуем, что поровну страдаем,
На жизненном пути разделены.
Молились мы молитвою единой,
И общих слез мы знали благодать:
Тому, кто раз встречался с половиной
Своей души, — иной не отыскать!
<1857>
13. «О, говори хоть ты со мной…»{214}
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
Вон там звезда одна горит
Так ярко и мучительно,
Лучами сердце шевелит,
Дразня его язвительно.
Чего от сердца нужно ей?
Ведь знает без того она,
Что к ней тоскою долгих дней
Вся жизнь моя прикована…
И сердце ведает мое,
Отравою облитое,
Что я впивал в себя ее
Дыханье ядовитое…
Я от зари и до зари
Тоскую, мучусь, сетую…
Допой же мне — договори
Ты песню недопетую.
Договори сестры твоей
Все недомолвки странные…
Смотри: звезда горит ярчей…
О, пой, моя желанная!
И до зари готов с тобой
Вести беседу эту я…
Договори лишь мне, допой
Ты песню недопетую!
<1857>
14. Цыганская венгерка{215}
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли…
С детства памятный напев,
Старый друг мой — ты ли?
Как тебя мне не узнать?
На тебе лежит печать
Буйного похмелья,
Горького веселья!
Это ты, загул лихой,
Ты — слиянье грусти злой
С сладострастьем баядерки —
Ты, мотив венгерки!
Квинты резко дребезжат,
Сыплют дробью звуки…
Звуки ноют и визжат,
Словно стоны муки.
Что за горе? Плюнь, да пей!
Ты завей его, завей
Веревочкой горе!
Топи тоску в море!
Вот проходка по баскам
С удалью небрежной,
А за нею — звон и гам
Буйный и мятежный.
Перебор… и квинта вновь
Ноет-завывает;
Приливает к сердцу кровь,
Голова пылает.
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!
Замолчи, не занывай,
Лопни, квинта злая!
Ты про них не поминай…
Без тебя их знаю!
В них хоть раз бы поглядеть
Прямо, ясно, смело…
А потом и умереть —
Плевое уж дело.
Как и вправду не любить?
Это не годится!
Но, что сил хватает жить,
Надо подивиться!
Соберись и умирать,
Не придет проститься!
Станут люди толковать:
Это не годится!
Отчего б не годилось,
Говоря примерно?
Значит, просто всё хоть брось…
Оченно уж скверно!
Доля ж, доля ты моя,
Ты лихая доля!
Уж тебя сломил бы я,
Кабы только воля!
Уж была б она моя,
Крепко бы любила…
Да лютая та змея,
Доля, — жизнь сгубила.
По рукам и по ногам
Спутала-связала,
По бессонныим ночам
Сердце иссосала!
Как болит, то ли болит,
Болит сердце — ноет…
Вот что квинта говорит,
Что басок так воет.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Шумно скачут сверху вниз
Звуки врассыпную,
Зазвенели, заплелись
В пляску круговую.
Словно табор целый здесь,
С визгом, свистом, криком
Заходил с восторгом весь
В упоеньи диком.
Звуки шепотом журчат
Сладострастной речи…
Обнаженные дрожат
Груди, руки, плечи.
Звуки все напоены
Негою лобзаний.
Звуки воплями полны
Страстных содроганий…
Басан, басан, басана,
Басаната, басаната,
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата…
Что за дело? ты моя!
Разве любит он, как я?
Нет — уж это дудки!
Доля злая ты моя,
Глупы эти шутки!
Нам с тобой, моя душа,
Жизнью жить одною,
Жизнь вдвоем так хороша,
Порознь — горе злое!
Эх ты, жизнь, моя жизнь…
К сердцу сердцем прижмись!
На тебе греха не будет,
А меня пусть люди судят,
Меня бог простит…
Что же поешь ты, мое
Ретиво сердечко?
Я увидел у нее
На руке колечко!..
Басан, басан, басана,
Басаната, басаната!
Ты другому отдана
Без возврата, без возврата!
Эх-ма, ты завей
Веревочкой горе…
Загуляй да запей,
Топи тоску в море!
Вновь унылый перебор,
Звуки плачут снова…
Для чего немой укор?
Вымолви хоть слово!
Я у ног твоих — смотри —
С смертною тоскою,
Говори же, говори,
Сжалься надо мною!
Неужель я виноват
Тем, что из-за взгляда
Твоего я был бы рад
Вынесть муки ада?
Что тебя сгубил бы я,
И себя с тобою…
Лишь бы ты была моя,
Навсегда со мною.
Лишь не знать бы только нам
Никогда, ни здесь, ни там
Расставанья муки…
Слышишь… вновь бесовский гам,
Вновь стремятся звуки…
В безобразнейший хаос
Вопля и стенанья
Всё мучительно слилось.
Это — миг прощанья.
Уходи же, уходи,
Светлое виденье!..
У меня огонь в груди
И в крови волненье.
Милый друг, прости-прощай,
Прощай — будь здорова!
Занывай же, занывай,
Злая квинта, снова!
Как от муки завизжи,
Как дитя от боли,
Всею скорбью дребезжи
Распроклятой доли!
Пусть больнее и больней
Занывают звуки,
Чтобы сердце поскорей
Лопнуло от муки!
15. «Будь счастлива… Забудь о том, что было…»{216}
Будь счастлива… Забудь о том, что было,
Не отравлю я счастья твоего,
Не вспомяну, как некогда любила,
Как некогда для сердца моего
Твое так безрассудно сердце жило.
Не вспомяну… что было, то прошло…
Пусть светлый сон души рассеять больно,
Жизнь лучше снов — гляди вперед светло.
Безумством грез нам тешиться довольно.
Отри слезу и подними чело.
К чему слеза? раскаянье бесплодно…
Раскаянье — удел души больной,
Твое же сердце чисто и свободно,
И пусть мое измучено борьбой,
Но понесет свой жребийблагородно…
О, полюби, коль можешь ты, опять,
Люби сильней и глубже, чем любила…
Не дай лишь сердца силам задремать,
Живым душам бесстрастие — могила,
А на твоей — избрания печать.
Будь счастлива… В последний раз мне руку
Свою подай; прижав ее к устам,
Впервые и на вечную разлуку
В лобзаньи том тебе я передам
Души своей безвыходную муку.
В последний раз натешу сердце сном,
Отдамся весь обманчивому счастью,
В последний раз в лобзании одном
Скажусь тебе всей затаенной страстью
И удалюсь в страдании немом.
И никогда, ни стоном, ни мольбою,
Не отравлю покоя твоего…
Я требую всего, иль ничего…
Прости, прости! да будет бог с тобою!
<1857>
16. «В час томительного бденья…»{217}
В час томительного бденья,
В ночь бессонного страданья
За тебя мои моленья,
О тебе мои страданья!
Всё твои сияют очи
Мне таинственным приветом,
Если звезды зимней ночи
Светят в окна ярким светом.
Тесно связанный с тобою,
Возникает мир бывалый,
Вновь таинственной мечтою
Он звучит душе усталой.
Вереницей ряд видений
Призван к жизни странной властью:
Неотвязчивые тени
С неотвязчивою страстью!
Пред душевными очами
Вновь развернут свиток длинный…
Вот с веселыми жильцами
Старый дом в глуши пустынной,
Вот опять большая зала
Пред моим воспоминаньем,
Облитая, как бывало,
Бледных сумерек мерцаньем;
И старик, на спинку кресел
Головой склонясь седою,
О бывалом, тих и весел,
Говорит опять со мною;
Скорой смерти приближенье
Он встречает беззаботно.
От него и поученье
Принимаешь так охотно!
И у ног его склоняся,
Вся полна мечты случайной,
Ты впервые отдалася
Грез волшебных силе тайной,
Бледных сумерек мерцанью
Простодушно доверяясь,
Подчинилась обаянью,
Не лукавя, не пугаясь,
Ты мне долго смотришь в очи,
Смотришь кротко и приветно,
Позабыв, что лунной ночи
Свет подкрался незаметно,
Что в подобные мгновенья
Ясно всё без разговора,
Что таится преступленье
Здесь в одном обмене взора.
О ребенок! ты не знала,
Что одним приветным взглядом
Ты навеки отравляла
Жизнь чужую сладким ядом.
Так меня воспоминанья
В ночь бессонную терзают,
И тебя мои стенанья
Снова тщетно призывают,
И тебя, мой ангел света,
Озарить молю я снова
Грустный путь лучом привета,
Звуком ласкового слова…
Но мольбы и стоны тщетны:
С неба синего сверкая,
Звезды хладно-безответны,
Безответна ночь глухая.
Только сердце страшно ноет,
Вызывая к жизни тени,
Да собака дико воет,
Чуя близость привидений.
<1857>
17. «Благословение да будет над тобою…»{218}
Благословение да будет над тобою,
Хранительный покров святых небесных сил,
Останься навсегда той чистою звездою,
Которой луч мне мрак душевный осветил.
А я сознал уже правдивость приговора,
Произнесенного карающей судьбой
Над бурной жизнию, не чуждою укора, —
Под правосудный меч склонился головой.
Разумен строгий суд, и вопли бесполезны,
Я стар, как грех, а ты, как радость, молода,
Я долго проходил все развращенья бездны,
А ты еще светла, и жизнь твоя чиста.
Суд рока праведный душа предузнавала,
Недаром встреч с тобой боялся я искать:
Я должен был бежать, бежать еще сначала,
Привычке вырасти болезненной не дать.
Но я любил тебя… Твоею чистотою
Из праха поднятый, с тобой был чист и свят,
Как только может быть с любимою сестрою
К бесстрастной нежности привыкший с детства брат.
Когда наедине со мною ты молчала,
Подняв глубокою, хоть детскою душой,
Какая страсть меня безумная терзала,
Я речь спокойную умел вести с тобой.
Душа твоя была мне вверенной святыней,
Благоговейно я хранить ее умел…
Другому вверено хранить ее отныне,
Благословен ему назначенный удел.
Благословение да будет над тобою,
Хранительный покров святых небесных сил,
Останься лишь всегда той чистою звездою,
Которой краткий свет мне душу озарил!
<1857>
18. «О, если правда то, что помыслов заветных…»{219}
О, если правда то, что помыслов заветных
Возможен и вдали обмен с душой родной…
Скажи: ты слышала ль моих призывов тщетных
Безумный стон в ночи глухой?
Скажи: ты знала ли, какою скорбью лютой
Терзается душа разбитая моя,
Ты слышала ль во сне иль наяву минутой,
Как проклинал и плакал я?
Ты слышала ль порой рыданья, и упреки,
И зов по имени, далекий ангел мой?
И между строк для всех порой читала ль строки,
Незримо полные тобой?
И поняла ли ты, что жар и сила речи,
Что всякий в тех строках заветнейший порыв
И правда смелая — всё нашей краткой встречи
Неумолкающий отзыв?
Скажи: ты слышала ль? Скажи: ты поняла ли?
Скажи — чтоб в жизнь души я верить мог вполне
И знал, что светишь ты из-за туманной дали
Звездой таинственною мне!
<1857>
Посвящение перевода комедии
«Сон в летнюю ночь» Шекспира
1. «Титания! пусть вечно над тобой…»
Титания! пусть вечно над тобой
Подруги-сильфы светлые кружатся,
Храня тебя средь суеты дневной,
Когда легко с толпой душе смешаться,
Баюкая в безмолвный час ночной,
Как тихим сном глаза твои смежатся.
Зачем не я твой дух сторожевой?
Есть грезы… Им опасно отдаваться.
Их чары сильны обаяньем зла,
Тревожными стремленьями куда-то;
Не улетай за ними, сильф крылатый,
Сияй звездой, спокойна и светла,
В начертанном кругу невозмутима,
Мучительно, но издали любима!
2. «Титания! недаром страшно мне…»
Титания! недаром страшно мне:
Ты, как дитя, капризно-прихотлива,
Ты слишком затаенно-молчалива
И, чистый дух, — ты женщина вполне.
Перед тобой покорно, терпеливо
Душа чужая в медленном огне
Сгорала годы, мучась в тишине…
А ты порой — беспечно-шаловливо
Шутила этой страстию немой,
Измученного сердца лучшим кладом,
Блаженных грез последнею зарей;
Порою же глубоким, грустным взглядом,
Душевным словом ты играть могла…
Титания! Ужели ты лгала?
3. «Титания! я помню старый сад…»
Титания! я помню старый сад
И помню ночь июньскую. Равниной
Небесною, как будто зауряд,
Плыла луна двурогой половиной.
Вы шли вдвоем… Он был безумно рад
Всему — луне и песне соловьиной!
Вдруг господин… припомни только: вряд
Найдется столько головы ослиной
Достойный… Но Титания была
Титанией; простая ль шалость детства,
Иль прихоть безобразная пришла
На мысли ей, — осел ее кокетства
Не миновал. А возвратясь домой,
Как женщина, в ту ночь рыдал другой.
4. «Титания! из-за туманной дали…»
Титания! из-за туманной дали
Ты всё, как луч, блестишь в мечтах моих,
Обвеяна гармонией печали,
Волшебным ароматом дней иных.
Ему с тобою встретиться едва ли;
Покорен безнадежно, скорбно-тих,
Велений не нарушит он твоих,
О, чистый дух с душой из крепкой стали!
Он понял всё, он в жизнь унес с собой
Сокровище, заветную святыню:
Порыв невольный, взор тоски немой,
Слезу тайком… Засохшую пустыню
Его души, как божия роса,
Увлажила навек одна слеза.
5. «Да, сильны были чары обаянья…»
Да, сильны были чары обаянья
И над твоей, Титания, душой,—
Сильней судьбы, сильней тебя самой!
Как часто против воли и желанья
Ты подчинялась власти роковой!
Когда, не в силах вынести изгнанья,
Явился он последнего свиданья
Испить всю горечь, грустный и больной,
С проклятием мечтаньям и надежде —
В тот мирный уголок, который прежде
Он населял, как новый Оберон,
То мрачными, то светлыми духами,
Любимыми души своей мечтами,—
Всё, всё в тебе прочел и понял он.
6. «Титания! не раз бежать желала…»
Титания! не раз бежать желала
Ты с ужасом от странных тех гостей,
Которых власть чужая призывала
В дотоле тихий мир души твоей:
От новых чувств, мечтаний, дум, идей!
Чтоб на землю из царства идеала
Спуститься, часто игры детских дней
Ты с сильфами другими затевала.
А он тогда, безмолвен и угрюм,
Сидел в углу и думал: для чего же
Бессмысленный, несносный этот шум
Она затеяла?.. Бессмыслен тоже
И для нее он: лик ее младой
Всё так же тайной потемней тоской.
7. «Титания! прости навеки. Верю…»
Титания! прости навеки. Верю,
Упорно верить я хочу, что ты —
Слиянье прихоти и чистоты,
И знаю: невозвратную потерю
Несет он в сердце; унеслись мечты,
Последние мечты — и рая двери
Навек скитальцу-другу заперты.
Его скорбей я даже не измерю
Всей бездны. Но горячею мольбой
Молился он, чтоб светлый образ твой
Сиял звездой ничем не помраченной,
Чтоб помысл и о нем в тиши бессонной
Святыни сердца возмутить не мог,
Которое другому отдал бог.
<1857>* * *
«Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи…»{221}
Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи
Вы мне напомнили одно из милых лиц
Из самых близких мне в гнуснейшей из столиц…
Но сходство не было так ярко с первой встречи…
Нет — я к вам бросился, заслыша первый звук
На языке родном раздавшийся нежданно…
Увы! речь женская доселе постоянно,
Как электричество, меня пробудит вдруг…
Мог ошибиться я… нередко так со мною
Бывало — и могло в сей раз законно быть…
Что я не облит был холодною водою,
Кого за то: судьбу иль вас благодарить?
6 декабря 1857
Флоренция
Интродукция к альбому Ольги Александровны{222}
(пока таковой еще не существовал)
В несуществующий альбом —
Заклятый враг готовых —
Пишу я — в нем, как и во всем,
Краев искатель новых.
Начав шутливо продолжать
Хандрою беспощадной,
Готов я правду вам сказать
Со злостию отрадной.
Желать ли мне, чтоб в нем всегда
Страницы чисты были…
Иль чтобы страсть, любовь, мечта
Их смело исчертили.
Две доли в жизни нам даны:
Тревоги страшной доля
И доля глупой тишины,
Покойная неволя.
Глупа одна, чтоб от души
Я написал желанье,
А про другую напиши —
Заслужишь нареканье!
И справедливое!.. Зачем
Extravagances
[48] поэта?
Нет! Лучше буду глуп и нем,
Когда возможно это.
<Начало декабря 1857. Флоренция
Альбому в день его рождения{223}
Имею честь тебя, альбом,
Поздравить с днем рожденья!
Что ты не будешь дураком,
Не нужны уверенья.
Ума и чувства есть печать,
На многих очевидно…
Уму ж и чувству в жизни спать,
Поверь мне, очень стыдно.
Декабря 11. <1>857. <Флоренция>
«Когда пройдя, бывало, Гибеллину…»{224}
«Когда пройдя, бывало, Гибеллину
И выбравшись на площадь
Триниту{225},
Дороги к вам свершу я половину
{226}И всё бодрей, и веселей иду.
Воображая важную картину,
Которую, наверное, найду;
Такую же, как и всегда и прежде,
А именно: тревожный дух в Надежде
Филипповне (сей первый дух забот —
Неутомливый дух самогрызенья),
А в Вас зато — отсутствие хлопот
И жажду важную движенья
(Что к Вам так удивительно идет
И на меня наводит умиленье).
Когда, бывало, этот мир, — с душой
Сроднившийся, в душе несешь с собой,
И, входя к Вам, он наяву предстанет,
То сердцу странника или скорей
Бездомного бродяги — как же станет
Отрадно и тепло… но, видно, сей
Прекрасный мир, как всякий мир, обманет.
Вы едете… Хоть глупо, но ей-ей…
По Вас мы псами очень безобразно
Завоем от хандры однообразной…
Известно Вам — завоем мы вдвоем,
В обоих нас развилось много дури…
Мы будем выть, поверьте, обо всем
И даже о нескладной «рассикуре»!
{227}
1858. Февр<аля> 21. Firenze
Импровизации странствующего романтика
1. «Больная птичка запертая…»{228}
Больная птичка запертая,
В теплице сохнущий цветок,
Покорно вянешь ты, не зная,
Как ярок день и мир широк,
Как небо блещет, страсть пылает,
Как сладко жить с толпой порой,
Как грудь высоко подымает
Единство братское с толпой.
Своею робостию детской
Осуждена заглохнуть ты
В истертой жизни черни светской.
Гони же грешные мечты,
Не отдавайся тайным мукам,
Когда лукавый жизни дух
Тебе то образом, то звуком
Волнует грудь и дразнит слух!
Не отдавайся… С ним опасно,
Непозволительно шутить…
Он сам живет и учит жить
Полно, широко, вольно, страстно!
25 января 1858
2. «Твои движенья гибкие…»{229}
Твои движенья гибкие,
Твои кошачьи ласки,
То гневом, то улыбкою
Сверкающие глазки…
To лень в тебе небрежная,
То — прыг! поди лови!
И дышит речь мятежная
Всей жаждою любви.
Тревожная загадочность
И ледяная чинность,
То страсти лихорадочность,
То детская невинность,
То мягкий и ласкающий
Взгляд бархатных очей,
То холод ужасающий
Язвительных речей.
Любить тебя — мучение,
А не любить — так вдвое…
Капризное творение,
Я полон весь тобою.
Мятежная и странная —
Морская ты волна,
Но ты, моя желанная,
Ты киской создана.
И пусть под нежной лапкою
Кошачьи когти скрыты —
А всё ж тебя в охапку я
Схватил бы, хоть пищи ты…
Что хочешь, делай ты со мной,
Царапай лапкой больно,
У ног твоих я твой, я твой —
Ты киска — и довольно.
Готов я все мучения
Терпеть, как в стары годы,
От гибкого творения
Из кошачьей породы.
Пусть вечно когти разгляжу,
Лишь подойду я близко.
Я по тебе с ума схожу,
Прелестный друг мой — киска!
6 (18) февраля 1858
Citta dei Fiori
3. «Глубокий мрак, но из него возник…»{230}
Глубокий мрак, но из него возник
Твой девственный, болезненно-прозрачный
И дышащий глубокой тайной лик…
Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной
Выходишь, как лучи зари, светла;
Но связью страшной, неразрывно-брачной
С тобой навеки сочеталась мгла…
Как будто он, сей бездны мрак ужасный,
Редеющий вкруг юного чела,
Тебя обвил своей любовью страстной,
Тебя в свои объятья заковал
И только раз по прихоти всевластной
Твой светлый образ миру показал,
Чтоб вновь потом в порыве исступленья
Пожрать воздушно-легкий идеал!
В тебе самой есть семя разрушенья —
Я за тебя дрожу, о призрак мой,
Прозрачное и юное виденье;
И страшен мне твой спутник, мрак немой;
О, как могла ты, светлая, сродниться
С зловещею, тебя объявшей тьмой?
В ней хаос разрушительный таится.
1858
4. «О, помолись хотя единый раз…»{231}
О, помолись хотя единый раз,
Но всей глубокой девственной молитвой
О том, чья жизнь столь бурно пронеслась
Кружащим вихрем и бесплодной битвой,
О, помолись!..
Когда бы знала ты,
Как осужденным заживо на муки
Ужасны рая светлые мечты
И рая гармонические звуки…
Как тяжело святые сны видать
Душам, которым нет успокоенья,
Призывам братьев-ангелов внимать,
Нося на жизни тяжкую печать
Проклятия, греха и отверженья…
Когда бы ты всю бездну обняла
Палящих мук с их вечной лихорадкой,
Бездонный хаос и добра и зла,
Всё, что душа безумно прожила
В погоне за таинственной загадкой,
Порывов и падений страшный ряд,
И слышала то ропот, то моленья,
То гимн любви, то стон богохуленья,—
О, верю я, что ты в сей мрачный ад
Свела бы луч любви и примиренья…
Что девственной и чистою мольбой
Ты залила б, как влагою целебной,
Волкан стихии грозной и слепой
И закляла бы силы власть враждебной.
О, помолись!..
Недаром ты светла
Выходишь вся из мрака черной ночи,
Недаром грусть туманом залегла
Вкруг твоего прозрачного чела
И влагою сияющие очи
Болезненной и страстной облила!
27 января (10 февраля) 1858
Флоренция
5. «О, сколько раз в каком-то сладком страхе…»{232}
О, сколько раз в каком-то сладком страхе,
Волшебным сном объят и очарован,
К чертам прозрачно-девственным прикован,
Я пред тобой склонял чело во прахе.
Казалось мне, что яркими очами
Читала ты мою страданий повесть,
То суд над ней произнося, как совесть,
То обливая светлыми слезами…
Недвижную, казалось, покидала
Порой ты раму, и свершалось чудо:
Со тьмой, тебя объявшей отовсюду,
Ты для меня союз свой расторгала.
Да! Верю я — ты расставалась с рамой,
Чело твое склонялось надо мною,
Дышала речь участьем и тоскою,
Глядели очи нежно, грустно, прямо.
Безумные и вредные мечтанья!
Твой мрак с тобой слился неразделимо,
Недвижна ты, строга, неумолима…
Ты мне дала лишь новые страданья!
1858
«Страданий, страсти и сомнений…»{233}
Страданий, страсти и сомнений
Мне суждено печальный след
Оставить там, где добрый гений
Доселе вписывал привет…
Стихия бурная, слепая,
Повиноваться я привык
Всему, что, грудь мою сжимая,
Невольно лезет на язык…
Язык мой — враг мой, враг издавна…
Но, к сожаленью, я готов,
Как христианин православный,
Всегда прощать моих врагов.
И смолкнет он по сей причине,
Всегда как колокол звуча.
Уж разве в «метеорском чине»
Иль под секирой палача…
Паду ли я в грозящей битве
Или с «запоя» кончу век,
Я вспомнить в девственной молитве
Молю, что был-де человек,
Который прямо, беззаветно
Порывам душу отдавал,
Боролся честно, долго, тщетно
И сгиб или усталый пал.
16 февраля 1858
Флоренция
Песня сердцу{234}
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist
Nenns Glück, Liebe, Gott!
Ich kenne keinen Namen
Dafür. Gefühl ist alles…
Name ist Schall und Rauch
Umnebelnd Himmelsglut.
Göthe. Faust. I Teil[49]
Над Флоренцией сонной прозрачная ночь
Разлила свой туман лучезарный.
Эта ночь — точно севера милого дочь!
Фосфорически светится Арно…
Почему же я рад как дурак, что грязна,
Как Москва, и Citta dei Fiori?
[50]Что луна в облаках, как больная, бледна,
Смотрит с влагою тусклой во взоре?
О владыка мой, боже! За душу свою
Рад я всею поющей душою;
Рад за то, что я гимн мирозданью пою
Не под яркой полудня луною…
Что не запах могучих полудня цветов
Душу дразнит томленьем и страстью,
Что у неба туманного, серого — вновь
Сердце молит и требует счастья;
Что я верю в минуту, как в душу свою,
Что в душе у меня лучезарно,
Что я гимн мирозданью и сердцу пою
На сыром и на грязном Лунг-Арно.
Тихо спи под покровом прозрачно-сырой
Ночи, полной туманных видений,
Мой хранитель таинственный, странный, больной,
Мое сердце, мой северный гений,
17 февраля 1858
Флоренция
Отзвучие карнавала{235}
Помню я, как шумел карнавал,
Завивался змеем гремучим,
Как он несся безумно и ярко сверкал,
Как он сердце мое и колол и сжимал
Своим хоботом пестрым и жгучим.
Я, пришелец из дальней страны,
С тайной завистью, с злобой немою
Видел эти волшебно-узорные сны,
Эту пеструю смесь полной сил новизны
С непонятно-живой стариною.
Но невольно я змею во власть
Отдался, закружен его миром, —
Сердце поняло снова и счастье, и страсть,
И томленье, и бред, и желанье упасть
В упоеньи пред новым кумиром.
Май 1858
Чивитта-Веккиа
Из Мицкевича{236}
Прости-прощай ты, страна родная!
Берег во мгле исчезает;
Шумит и стонет бездна морская,
В воздухе чайка ныряет.
Дальше за солнцем, куда покатилась
Его голова золотая.
Солнце до завтра с нами простилось.
Прощай, страна ты родная!
Завтра я снова румяную зорю,
Солнце увижу я снова.
Увижу небо, увижу море…
Не узрю лишь края родного.
Замок, где мы пировали толпою,
Вечное горе покроет…
Двор прорастет зеленой травою,
Глухо пес верный завоет.
<1858>
«Прощай и ты, последняя зорька…»{237}
Прощай и ты, последняя зорька,
Цветок моей родины милой,
Кого так сладко, кого так горько
Любил я последнею силой…
Прости-прощай ты и лихом не вспомни
Ни снов тех ужасных, ни сказок,
Ни этих слез, что было дано мне
Порой исторгнуть из глазок.
Прости-прощай ты — в краю изгнанья
Я буду, как сладким ядом,
Питаться словом последним прощанья,
Унылым и долгим взглядом.
Прости-прощай ты, стемнели воды…
Сердце разбито глубоко…
За странным словом, за сном свободы
Плыву я далеко, далеко…
Июнь 1858
Флоренция
К Мадонне Мурильо в Париже{238}
Из тьмы греха, из глубины паденья
К тебе опять я простираю руки…
Мои грехи — плоды глубокой муки,
Безвыходной и ядовитой скуки,
Отчаянья, тоски без разделенья!
На высоте святыни недоступной
И в небе света взором утопая,
Не знаешь ты ни страсти мук преступной,
Наш грешный мир стопами попирая,
Ни мук борьбы, мир лучший созерцая.
Тебя несут на крыльях серафимы,
И каждый рад служить тебе подножьем.
Перед тобой, дыханьем чистым, божьим
Склонился в умиленьи мир незримый.
О, если б мог в той выси бесконечной,
Подобно им, перед тобой упасть я
И хоть с земной, но просветленной страстью
Во взор твой погружаться вечно, вечно.
О, если б мог взирать хотя со страхом
На свет, в котором вся ты утопаешь,
О, если б мог я быть хоть этим прахом,
Который ты стопами попираешь.
Но я брожу один во тьме безбрежной,
Во тьме тоски, и ропота, и гнева,
Во тьме вражды суровой и мятежной…
Прости же мне, моя святая Дева,
Мои грехи — плод скорби безнадежной.
36 июля 1858
Париж
«Мой старый знакомый, мой милый альбом!..»{239}
Мой старый знакомый, мой милый альбом!
Как много безумства посеяно в нем!
Как светит в нем солнце Италии яркое,
Как веет в нем жизни дыхание жаркое
Из моху морского, из трав и цветов,
Из диких каракуль и диких стихов.
Мой старый знакомый, мой милый альбом,
Как будто поминки творю я по нем,
Как будто бы севера небо холодное
Все светлое, яркое в нем и свободное
Туманом своим навсегда облекло…
Как будто навек все что было — прошло!
7 ноября 1858
С.
Петербург
«И всё же ты, далекий призрак мой…»{240}
И всё же ты, далекий призрак мой,
В твоей бывалой, девственной святыне
Перед очами духа встал немой,
Карающий и гневно-скорбный ныне,
Когда я труд заветный кончил свой.
Ты молнией сверкнул в глухой пустыне
Больной души… Ты чистою струей
Протек внезапно по сердечной тине,
Гармонией святою вторгся в слух,
Потряс в душе седалище Ваала —
И всё, на что насильно был я глух,
По ржавым струнам сердца пробежало
И унеслось — «куда мой падший дух
Не досягнет»
{241} — в обитель идеала.
26 июля 1864



Два эгоизма
Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и хладны их краткие речи.
Лермонтов
Драма в четырех действиях, в стихах
Действующие:
Степан Степанович Донской, московский барин, член Английского клуба.
Марья Васильевна, его жена.
Любовь Степановна, или
Эме, сестра его, 30-летняя дева.
Владимир Петрович Ставунин, молодой неслужащий человек.
Николай Ильич Столетний, капитан в отставке.
Борис Федорович Вязмин, 18-летний юноша.
Кобылович, заезжий петербургский чиновник.
Баскаков, философ-славянофил.
Мертвилов, философ-гегелист.
Петушевский, фурьерист из Петербурга.
Раскатин, молодой поэт, подающий большие надежды.
Ломберов, поэт безнадежный.
Подкосилов, опасный сосед.
Отец семейства.
Постин, богатый откупщик.
Корнет.
Доктор Гольдзелиг.
Вера Вязмина.
Елена.
Дама под вуалем.
Незнакомец.
Маски.
Действие — в Москве.
Действие первое
Аванзала Благородного собрания, налево ряд колонн. Маски и лица без масок входят почти беспрестанно. Из залы несутся звуки «Hoffnungs Strahlen»[51].
Ставунин в маске и шляпе выходит из залы и медленно идет к креслам направо. Вскоре за ним Капуцин.
Ставунин
(про себя)
Безумец! та же дрожь и нетерпенье то же,
Как за пять лет тому назад.
И для чего я здесь? Чего ищу я, боже!..
Чего я трепещу, чему я глупо рад?..
Пять лет… Давно, давно… Иль не дано забвенья
Душе измученной моей?..
Иль в пустоте ее сильнее и сильней
Воспоминания мученья?..
Иль есть предчувствие! Иль точно было нам
Не суждено расстаться без признанья,
И равнодушного страданья
Мы выпьем чашу пополам?
Капуцин
(ударяя его по плечу, тихо)
Ставунин
(спокойно вглядываясь в него)
Вы ошиблись, вероятно,
Святой отец!
Капуцин
Что, верно, не совсем
Memento mori нравится вам всем?
Напоминанье неприятно?
Ставунин
Ступай к другим, тебе я незнаком.
Капуцин
Бог ведает, но дело лишь в одном
Memento mori. Час расплаты,
Быть может, близок, быстрым сном
Бегут минуты без возврата.
Ставунин
Я старых истин не люблю,
Ступай других морочить ими…
Капуцин
Я так не говорю с другими,—
На уду их другую я ловлю…
Ставунин
(оборачиваясь к нему спиною)
Капуцин
(тихо)
Ставунин… В час последний
Ты также ль скажешь «В добрый час»?..
Ставунин
(быстро оборачиваясь, но твердо и спокойно)
А отчего же нет? Давно не раб я бредней,
И удивить меня труднее во сто раз,
Чем знать, что многие не знают.
Капуцин
Memento mori — повторяют
Уставы братства моего…
Ставунин
И что же? Верно, оттого
Гораздо легче умирают?
Капуцин
Ставунин
Знаешь ли — тебе обязан я
За развлечение…
Капуцин
Давно душа твоя
Искала мира и забвенья,—
Ты их найдешь…
Ставунин
Капуцин
Ставунин
(задумчиво)
Но тайны разрешенья
Добиться ль мне?..
Капуцин уходит.
Кто он? Но что за дело мне?
Смутить меня не мог он речью страшной…
Ведь к жизни ль, к смерти ль — постоянно
Я равнодушен — и вполне.
(Садится.)
Вязмин и
Столетний в костюме петуха, рука об руку.
Столетний
Ты видишь, милый мой… я плохо как-то верю
В эманципацию — и в этом вовсе я
Для странности не лицемерю.
По-моему, для женщины семья
Есть дело первое. Донская,
Положим, и умна, как бес, и хороша…
Ставунин
(вздрагивая, про себя)
Столетний
Но поверь, моя душа, Что мужу-то с ней каторга прямая…
Вязмин
(с жаром)
Молчи — не оскорбляй, чего не в силах ты
Понять и оценить. Вгляделся ль ты глубоко
В ее болезненно-прозрачные черты?
В ее страданием сияющее око?..
Да! женщины судьбу готовы вы всегда
Понять по-своему — и гнусного суда
Неотменимы приговоры…
Зачем она чиста, зачем она горда,
Зачем больна она? Зачем пустые вздоры
Ее не могут занимать…
Зачем ей гадок муж? Как смеет презирать
Она рабов общественного мненья?
Столетний
Не то, совсем не то… Ведь мужа жизнь — мученье;
Его не знаешь ты, добрейший человек;
Немного лгать привык — и то, когда женился;
Водой не замутит — и без нее бы ввек
С ним никогда никто не побранился.
Уходят оба в залу.
Ставунин
Я узнаю ее… Проклятия печать
Лежит на ней — ей суждено страдать,
И мучить суждено. Но, боже, эти муки
Мне возврати скорей… Бежал я тщетно их,
Ни здесь, ни в небе нет разлуки
Для нас двоих!
Ставунин, Розовое домино
Розовое домино
(вглядываясь, про себя)
Да, это точно он, меня не обманули.
(Ему.)
Je vous connais, beau masque.
[53]
Ставунин
Едва ль.
А если так, то очень жаль…
Розовое домино
Ставунин
Вы вспомянули
Некстати слишком старину.
Скажу вам истину одну,
Увы! печальную, быть может:
Я знаю вас…
Розовое домино
Ставунин
Это вас тревожит?
Не правда ли?… Но верьте, между нас
Давным-давно печальною развязкой
Окончилась комедия, — одно
Скажу я вам: расстались мы давно.
Розовое домино
(с видимым волнением)
Хотите ль, вас я позабавлю сказкой,
И длинною?
Ставунин
(спокойно подавая стул)
Садитесь — всё равно —
Я слушаю.
Розовое домино
(с трепетом)
Ставунин
(улыбаясь)
Она и он — заглавие старо…
Розовое домино
(сквозь слезы)
О, знаю я, что вам ничто не свято,
Что надо всем вы шутите остро,
Но умоляю вас, как брата,
Как друга, выслушать…
Ставунин
Известно вам, что слез
Я не терплю, — воспоминаний тоже.
Розовое домино
Ставунин… я была тогда моложе
Ставунин
И, кроме детских грез,
Из жизни ничего не вынесли вы, боже!
О, мне вас жаль, глубоко жаль,
Розовое домино
Ставунин
Розовое домино
(схватывая его за руку)
Ставунин
Розовое домино
Ставунин
Розовое домино
Ставунин
Розовое домино
(грустно)
Ставунин
Розовое домино
Чему же?
Мне разве лучше оттого,
Что для тебя на свете хуже?..
Ты женщин знаешь, может быть,
Но не совсем…
Ставунин
Любить и мстить —
Вот общий их девиз…
Розовое домино
О, нет… любить, любить,
И только… Ты бежишь…
Ставунин
(вставая)
Розовое домино
Минуту: обещал ты — что же сказка?
Ставунин
Розовое домино
Ставунин
Так пусть нежданно он придет.
(Уходит.)
Розовое домино, потом Капуцин.
Розовое домино
Безумная!.. искать, что отвергала прежде,
И глупо верить так несбыточной надежде…
О боже, боже! пала я…
Но, что бы ни было, слезами и тоскою
Ужель хоть миг один забвения с тобою
Не заслужила я?..
Капуцин
Розовое домино
Капуцин
(Говорит ей на ухо.)
Розовое домино
(с смущением)
Капуцин
Розовое домино
Капуцин
(тихо)
Розовое домино
Капуцин
Твою мечту пустую. Тебя не любит он.
Розовое домино
Капуцин
Розовое домино
Капуцин
Розовое домино
Скажите,
Что нужно вам: молений, слез?.. Кого
Он любит?.. Говорите, говорите…
Капуцин
Розовое домино
Капуцин
Подает ей руку; они уходят.
Вязмин, Баскаков, рука об руку.
Баскаков
Семья — славянское начало,
Я в диссертации моей
Подробно изложу, как в ней преобладала
Без примеси других идей
Идея чистая, славянская идея…
Читая Гегеля с Мертвиловым вдвоем,
Мы согласились оба в том,
Что, чувство с разумом согласовать умея,
Различие полов — славяне лишь одни
Уразуметь могли так тонко и глубоко…
У них одних, от самой старины,
Поставлена разумно и высоко
Идея мужа и жены…
Жена не res
[54] у них, не вещь, но нечто; воля
Не признается в ней, конечно, но она
Законами ограждена…
Муж может бить ее, но убивать не смеет:
Над ней духовное лишь право он имеет,
И только частию in corpore
[55] притом,
Глубокий смысл в преданьи том,
Иль, лучше, в мысли той о власти над женою.
Пусть проявляется под жесткою корою,
Под формою побой; что форма? Признаюсь,
Семья меня всегда приводит в умиленье…
Власть мужа, и жены покорное смиренье…
Чета славянская — я ей не надивлюсь!
{244}
Те же. Петушевский, Мертвилов.
Мертвилов
Баскаков, — вот рекомендую,
Мсье Петушевский…
Петушевский и Баскаков кланяются друг другу и проницают один другого взглядами.
Петушевский
Вас узнать
Давно хотелось мне… Я истины искать
Привык во всем, и мненья чту я.
Баскаков
Петушевский
Да, субъекты изучать,
Как анатомик, я в виду имею…
Семейства, слышал я, штудируя идею,
О нем хотите вы писать?
Вы «Новый мир» Фурье изволили читать?
{245}
Баскаков
(вспыльчиво)
Фурье, сударь… ужель отсталое ученье?
Петушевский
(оскорбленный)
Баскаков
Тем хуже вам — вы в заблужденьи.
Петушевский
(насмешливо)
Не вы ль, скорей, московский гегелист?
Мертвилов
(становясь между ними)
Messieurs
[56], помилуйте… За мненья!
Петушевский
Но мненье
И человек — одно и то ж…
Мертвилов
Э, полноте шутить — ну кто ж
Серьезно верит в убежденье?
Те же, Донской, Донская, за нею два поэта.
Донская
(обращаясь к ним)
Bonsoir, messieurs!
[57]
Мертвилов
(давая ей дорогу)
Донская
(к Баскакову)
Петушевский
(красуясь)
Донская
(небрежно)
Вязмин
Донская
(подавая ему руку)
Вязмин
(робко и почтительно)
Донская
(к трем философам)
Они безмолвно кланяются.
(Мужу.)
Etienne, поправьте мне боа…
Как душно, боже мой…
(Мужу и двум поэтам.)
Messieurs, suivez moi
[59]
Баскаков, Мертвилов, Петушевский.
Мертвилов
(в середине)
Петушевский
Мертвилов
(a parte[60])
(Вслух.)
Я также гегелист.
Как он, как все в Москве… здесь редкость фурьерист.
Подайте ж руки мне…
(Соединяет их руки.)
Обоих вас везу я
Отсюда в Английский…
{246}За ужином скорей
Сойдутся крайности идей…
Уходит под руку с обоими; Баскаков, видимо, недоволен.
Столетний
(выходит из залы)
И вот он, их кумир!.. За них мне, право, стыдно!
Как мальчиков, она трактует их,
А им нисколько не обидно…
Презренье женщины, ее насмешек злых
Они совсем не замечают…
Эх, жаль мне Вязмина — им женщины играют,
Как куклою…
(Садится.)
Капуцин
(подходит к нему)
Кричи скорей, петух.
Зови скорее час рассвета…
Столетний
Гм! Кажется, что мне знакома маска эта…
Кто вы?
Капуцин
Столетний
Пусть будет так… Что ж дальше?
Капуцин
Пробужденье
От сна любви, от жизни сна
Подчас невесело… Лови скорей мгновенье
У женщины — как вольная волна,
Лобзает грудь твою она,
Потом уходит вдаль, упасть на грудь иную…
Столетний
Капуцин
Разгадать успеешь скоро сам…
Скажу одно — не верь волнам…
Столетний
Каким волнам?.. Оставь игру пустую.
Капуцин
Ты веришь? Да… но веру потерять
Придется, может быть…
Столетний
(бледнея)
Те же. Подкосилов. Капуцин уходит.
Подкосилов
Моншер, не скроешься… У Ваньки я справлялся,
В чем ты сегодня отправлялся…
Ну, молодец же, петухом!
Да что же ты молчишь?.. Ну полно же, кутнем
Сегодня мы с тобой?
Столетний
(хочет идти за Капуцином)
Подкосилов
Куда ты?
Что Верочка твоя?.. Ее я видел брата
Недавно… Что с тобой?
Столетний
(с нетерпением)
Подкосилов
Пойдем
Отсюда! Скучно здесь… Кутнем, душа, кутнем…
Развеселись же, брат!.. Ты обещал недавно
Со мною покутить… Мы дернем на лихих.
Столетний
Подкосилов
Мы в табор хватим вмиг,
И «Я на лавочке сижу…» отдернуть славно.
Поедем же.
Столетний
Подкосилов
«Пойду, пойду косить…»
Эх, черт меня возьми… Душа, тебя люблю я…
Поедем же… Ну, что ты за подлец!
Сам для тебя вприсядку отдеру я…
Поедем, милочка…
Те же. Ломберов с неестественно растрепанною физиономией).
Ломберов
(не замечая никого)
Итак, всему конец…
Непризнанный людьми, обманутый любовью…
О! я обиду смою кровью!
Подкосилов
(подходя к нему и корча одного комика)
Ломберов
Эх, боже мой, — всё те же вечно шутки.
Подкосилов
(подмигивая)
Ломберов
Подкосилов
Дудки!
Ведь ты — поэт, ведь ты — душа!
Ну, пусть Донская хороша.
Да Груша, Груша-то чего-нибудь да стоит!
Ломберов
Когда б ты знал… Молокосос
У ней какой-то там.
Подкосилов
Эх, плюнь, душа, — не стоит!
Зацепим лихача.
Ломберов
Подкосилов
Вот вопрос! Известно уж куда!
Ломберов
Я твой… Живую душу
Я утоплю в вине.
Подкосилов
(Уходит под руку с Ломберовым, напевая вполголоса.)
С тобой на поле чести,
С тобою неразлучно…
С тобою встретим вместе
Победу или смерть…
Столетний
Мне душно… голова горит.
Кто эта маска?.. Что за речи?..
Быть может, вздор, но кровь моя кипит…
Пойду искать с ним новой встречи.
(Уходит.)
Донская об руку с Ставуниным.
Ставунин
Но если для кого забвенья нет,
Но если для кого и муки даже сладки?..
Донская
Поверьте мне, что вот уж много лет
Я не больна болезнью лихорадки…
Ставунин
(с иронией)
Я верю вам… я верить вам готов
Во всем, хотя бы вы сказали мне, что в счастье
Вы верите, что любите глупцов,
Что в них вы ищете участья…
О, верьте мне, во всем я верить вам готов…
И как не верить вам?
Донская
Мне кажется, вы сами
Теперь играете словами?
Ставунин
Не правда ли?.. О да! вам это лучше знать,
Вы так в игре искусны этой…
Донская
(задумчиво идя с ним)
Вы странны, как всегда… Законов света
Вы так упорно не хотите знать?
Ставунин
А вы их знаете?.. Скажите, ради бога,
Давно ль? Послушайте: я знал вас слишком много,
Чтобы теперь вас также знать,
К чему притворство вам со мною?..
Я вас не стану упрекать
Иль тешить праздною хвалою…
Я знаю вас.
Донская
(играя концом боа)
Ставунин
Донская
(бросая на него испытующий взгляд)
Ставунин
Донская
Ставунин
Зачем? Я сам не знаю…
Есть слово: так! Я всё им объясняю.
Донская
(качая головою)
Ставунин
Всегда.
Себе я верен… Кстати, хоть случайно,
Собою вы бываете ль когда?
Донская
Ставунин
Донская
Ставунин
Донская
Ставунин
Есть час один, когда вполне собою
Я буду.
Ставунин
Донская
Ставунин
Донская
Ставунин
Донская
Ставунин
Донская
Ее я жду с покорностью немою.
Ставунин
А ежели она нежданно встретит вас?
Донская
(грустно)
Те же. Донской, Раскатин, еще несколько молодых людей.
Донская
(идя к ним навстречу)
Вот мой муж… Этьен, рекомендую,
Знакомый старый мой, monsieur Ставунин.
Донской
(дружески тряся руку Ставунина)
Рад,
Душевно рад… Вас в клубе не видать?
Ставунин
Донской
Я вас баллотирую…
Пожалуй, завтра же… Вы завтра, верно, к нам?
Донская
Ставунин
Раскатин
(лорнируя, про себя)
Ставунин… Qu est ce que c est?
[61] Соперник неопасный.
Донской
(Ставунину)
Ведь вы играете, надеюсь?
Ставунин
Донской
Теперь бы партию составить.
Ставунин
Я всегда
К услугам вашим.
Донской берет его под руку и ведет с собою. Донская садится у колонны и рассеянно смотрит им вслед. Раскатин лорнирует и красуется.
Раскатин
(a parte)
Труд напрасный
Припоминать…
(Донской)
Вам кажется скучна
Веселость общая… Быть может, вы устали?
Донская
(вздрагивая)
Ах, боже мой, меня вы напугали.
Раскатин
Донская
(подавая ему руку)
Идут и встречают Капуцина об руку с Розовым домино.
Капуцин
(останавливаясь у колонны и показывая глазами на Донскую)
Розовое домино пристально смотрит на Донскую.
Действие второе
Гостиная Донских. Мебель рококо; по местам козетки. Освещено. 9 часов вечера.
Донской
(с сигарой прохаживается взад и вперед, заложив руку на спину)
Чтоб черт его побрал!.. Его я жду с утра…
И в клуб не удалось… Неужто, как вчера,
Обманет он? Ну, ну, тогда я славный малый!
Блажен, стократ блажен, кто может отдавать
Имение в залог… Ну то ли, как бывало,
Лишь в Опекунский
{247} заезжать?
А то гоняй себе по всем концам столицы
Иль дома целый день сиди,
Зевай, кури и спи — да аферистов жди…
И что за тон, и что за лица
У этих всех господ? Ей-богу, на порог
Я не пустил бы их к себе в другую пору…
А вот теперь попутал бог —
Всем кланяйся и без разбору…
На спекуляцию надеяться пришлось…
Акционером быть… Именье
Разорено, хоть просто брось…
А надо поддержать общественное мненье.
Женатый человек — нельзя ж без вечеров!
Женатый, боже мой, — да это не во сие ли
Уж делается всё?.. Но нет, от этих слов
Седеет голова… И для какой мне цели
Жениться вздумалось?.. Зачем и для чего?
Женат не для себя, живу не для себя я;
Жена умна как бес, но в женщине ума я
Терпеть не мог давно: довольно своего…
Донской, Донская, совершенно одетая.
Донская
(тихо)
Вы так встревожены; что с вами?
Донской
(бросая сигару)
Ничего.
Жду кой-кого теперь… Mon ange
[62], вы очень кстати,
Я с вами говорить хотел.
Донская
(с удивлением)
Донской
Я был вчера в палате,
Хотелось ускорить раздел
С кузином… Дело в том, к необходимой трате
Всё это повлекло.
Донская
(холодно)
Донской
Придется заложить нам тульское именье…
Донская
(пристально смотря на него)
Скажите мне, Этьен, зачем вы лжете мне?
Донской
(с видом оскорбленного достоинства)
Донская
(презрительно)
Вам правда — оскорбленье…
Но дело в том — к чему без нужды лгать?..
Вчера, наверно, вам случилось проиграть…
Но мне-то что до этого за дело?
Зачем же прямо вам и смело,
Иль лучше вовсе не сказать?..
Донской, уничтоженный, садится на козетку, Донская на диван.
Слуга
(входит)
Донской
(поспешно вставая)
Слуга
Донской
(уходя)
Вели закладывать! Поеду я в карете.
Донская
(одна)
Несчастный человек! Его мне часто жаль!
Но виновата ль я в моем к нему презреньи?
Друг другу чужды мы — едва ль
Не будем вечно так: чужое униженье
Мне слишком тягостно… сама я для смиренья
Не создана, о нет, мой боже, нет!..
Что будет далее?.. Я чувствую, больна я,
Быть может, зла… Мечты минувших лет
Меня преследуют… День каждый, засыпая,
Молюся я о вечном сне…
Мечты прошедшего гоню я — но оне
Меня тоскою безотрадной
Неумолимо-долго жгут…
И снова образы встают,
И сердце просится так жадно
Вздохнуть вольней — любить хоть что-нибудь,
Надеяться, молиться, плакать, верить…
Но день встает — и снова лицемерить,
И снова сдавлена моя больная грудь…
Он часто говорил, я помню: мы одною
Идем дорогою, и вы когда-нибудь
Меня поймете… Этот путь
Теперь, как он, уже прошла я,
Теперь его насмешка злая,
Его проклятие безумное всему…
Его неверие и искренность сухая,
Бывало, вредная ему,
Они понятны мне.
Донская, Любовь Степановна, или Эме, вся в розовом.
Эме
Cher ange…
[63] Вы замечтались…
Я испугала вас.
Донская
(равнодушно)
Эме
Готова я…
А вы еще не одевались?
Донская
Эме
Советовала б я
Надеть вам черное… вы в нем чудесно милы…
Блондинкам черное пристало a merveille…
[64]Но вы сегодня так унылы…
Так бледны — et faut-il que je vous conseille?
[65]Вам просто надобно лечиться…
Донская
(рассеянно)
Эме
Цвет у вас совсем больной…
Донская
Эме
Cher ange… Вы скрытны…
Не годится
Так скрытной быть с сестрой.
Донская
(с улыбкою)
Эме, сегодня вас, наверно, ждут победы?
Эме
(скромно потупляя глаза)
Донская
Мертвилов входит фатом.
Мертвилов
Bonsoir, mesdames
[66] я к вам
Сегодня рано — с званого обеда.
Донская
Мертвилов
(разваливаясь подле нее на козетке)
(доставая porte de cigares[67])
Vous permettez, madame?
[68]
Донская
Мертвилов
Донская
О нет, напротив, по делам.
Мертвилов
Сегодня много вам готовлю я смешного.
Донская
Мертвилов
Кого ж иного?
Во-первых, явится он к вам
В костюме истинно славянском.
Донская
Мертвилов
Мы с ним друзья. В театре итальянском
Его вчера уже я многим показал.
Он будет в охабне: за вход сюда свободный
Уже за вас я слово дал.
Он чудно сановит в одежде благородной,
Приедет вместе с ним заезжий фурьерист…
Донская
Мертвилов
Я умываю руки
И, как Пилат, хочу быть в этом чист.
{248}Еще кто будет к вам? Наверно, Кобылович?
Li est habitue chez vous…
[69]
Эме
(облокачиваясь на спинку козетки)
Кто это? Николай Петрович?
Мертвилов
Я злым у вас давно слыву,
А всё не в силах удержаться,
Чтоб русской правды не сказать…
В Москве я не встречал, признаться,
Подобной глупости; за деньги я казать
Его готов, как редкость, — любоваться
Им надобно — он просто клад,
Его всегда я видеть рад,
Чтоб Петербургу удивляться,
Как дураками он богат,
Эме
Он что-то медлит здесь… По важным приказаньям…
Мертвилов
По государственным… Так говорит он сам
За тайну всем, а чудесам
Здесь верят свято, по преданьям…
Донская
Смотрите! — Он известный дуэлист.
Мертвилов
Уж он вам сказывал?.. Слыхал я, перед боем
Он удивительно речист…
Глядит решительно героем
И не один последний лист
С рапортом или отношеньем
В последний раз успел уж подписать
С трагическим телодвиженьем.
Дивлюсь я, как он уцелел
В несостоявшихся дуэлях…
Донская
Мертвилов
Да! — всё о высших целях
Толкует он. И даже он умел
Под ум подделаться; о нем слыхал он много,
Донская
Скажите мне, вы ум встречали ли когда?
Мертвилов
Донская
Мертвилов
Эме
Ах, перестаньте ради бога:
Вы в чувстве не судья.
Мертвилов
Сужу я слишком строго…
Что делать… Но умы — их всех наперечет
Я знаю, — два иль три, не больше: остальное
С чужого голосу поет.
Донская
Мертвилов
Его я
Имел сейчас в виду… Знаком он вам?
Донская
Мертвилов
Он дьявольски умен, но дело только в том,
Что, к сожалению, картежным игроком
Он сделался…
Донская
(равнодушно)
Мертвилов
Лет пять иль шесть. Именье
Он проиграл давно; общественное мненье…
С тех пор…
Донская
С тех пор, когда именье проиграл?
Не правда ли? — добавьте прямо.
Мертвилов
Почти что так; но нет, он мнением играл
Непозволительно упрямо…
Наперекор идя всему,
Рассудку, чести и преданьям,
И веря одному уму…
За то общественным наказан он изгнаньем…
Те же, Вязмин (одет довольно изысканно).
Вязмин
Простите — без докладу к вам
Вошел я нынче…
Мертвилов
(протягиваясь на козетке)
Стыд и срам!
Что говорите вы, мой милый?..
(Пожимает ему руку.)
Донская
Я очень рада вам… Садитесь! Вы давно
Мне ничего не говорили
О ваших.
Вязмин
(садясь против нее на кресло)
От сестры — я с сентября одно
Всего лишь получил письмо.
Донская
И отвечали?..
Молчите… Верно, нет, — ну, как не стыдно вам?
Мертвилов
Вас en flagrant delit, mon cher ami
[70], поймали.
Вперед остерегайтесь дам…
Вы курите — хотите ли сигару?
Берите же смелей…
Донская
Вязмин
Донская
Мертвилов
И угару
Вы не боитесь уж давно,
Не правда ли?
Те же, Кобылович, разодетый в пух, входит с уверенностью.
Кобылович
(кланяясь)
Mesdames, messieurs, сейчас лишь дело
Окончил, — тотчас к вам… Мне редко суждено
Свободно подышать… У вас, скажу я смело,
Совсем забудешься.
Донская
(грациозно улыбается)
Кобылович
(садясь)
Да — оно,
Когда хотите, так; в Москву для излеченья
Приехал я, — рассеянье, забвенье
Мне нужно было бы зимой,
Пророчил мне чахотку доктор мой…
Да что прикажете?.. Когда же мне лечиться?
Андрей Михайлыч навязал
Мне поручений тьму; работой, наповал
Я завален и здесь. Решительно кружится
От дел различных голова…
У вас в Москве совсем не знают, как трудиться.
Чужим трудом живет Москва…
Ей до практических вопросов
И дела нет — она абстрактами живет,
И каждый здесь сидит и ждет
Доходов с пашни, с сенокосов
И прочего… Прощался со мной,
Мне говорил Андрей Михайлыч мой,
Что он и воздуха московского боится…
Но, видно, мне не заразиться
Московской праздностью… Я страшною хандрой
Томлюсь в бездействии, — мне дела вечно мало…
Андрей Михайлыч говорит,
Что он, хоть так же мало спит,
Но больше моего… Me croirez-vous?
[72] Бывало,
Двенадцать сряду я часов
Был просидеть всегда готов,
Потом куда-нибудь на вечер отправляться.
И там всё та ж потребность заниматься…
Не сладить с глупою хандрой…
Что ж делал я?.. Чтоб силам дать движенье,
Я занимал себя азартною игрой…
Всё это что-нибудь, всё это раздраженье,
А не восточный ваш покой…
И раз Андрей Михайлыч мой…
Донская
(которая слушала все это, видимо, рассеянно)
Вы были в Лючии?.. Как Сальви
{249} вам в сравненья
Кобылович
Да кстати! здесь и мненья
Общественного нет, — у нас
Гарсисты есть, кастелянисты
{251},
Есть жизнь, есть общество — у вас
Ничто нейдет: одни лишь гегелисты
С абстрактами! Андрей Михайлыч раз…
Мертвилов
(перебивая его)
Скажите, говорят, у вас в ходу букеты,—
Возами возят их на сцену, слышал я?
Кобылович
Бросают даже и браслеты,
Особенно Вьярдо… и точно, должен я
Сознаться, есть за что… Не понимал нимало
Я вкусу в музыке, бывало,—
Но с итальянцами… я к пению привык,
И даже понимал язык —
Так мелодичен он… Мне говорил недавно
Андрей Михайлович, что слух развил я славно.
Те же, Елена с мужем.
Донская
(вставая и идя к ней навстречу)
Que vous etes obligeante!
[73]
Елена
Я вам плачу визит…
Без церемонии — мой муж, рекомендую.
Донская
(ведет ее на диван)
Елена
(садясь)
Донская
Сегодня жду Madame Приклонскую.
Елена
Она
Недели с две была больна
И уж давно не выезжала…
Донская
Она помолвлена. C est une nouvelle du jour…
[75]
Мертвилов
(громко)
C est un scandale du jour
[76].
Елена
(увидя его)
Вы вечно с сплетнями, — сначала
Я не видала вас.
Мертвилов
(вставая)
Приклонской суждено
Переживать мужей. Одно
Готов я предвещать, что много два, три года
Осталось Постину прожить…
Муж Елены
Ему — помилуйте, для этого народа,
Откупщиков, и смерть нетрудно подкупить.
Те же, Стaвутин; при появлении его Мертвилов принимает еще более небрежную позу; Кобылович оправляет галстук и идет к огню закуривать сигару.
Донская
Ставунин
Виноват, простите, ради бога,
Меня за медленность винить
Я умоляю вас не строго:
В Москве мне так давно не приходилось быть,
И я обычаев салонных
Успел так много позабыть…
Донская
Ставунин
(Садится и взглядывает на всех равнодушно.)
Скажите, где ж monsieur Донской?
Донская
Перебирает конец шарфа. Минута общего молчания, во время которого Елена оставляет свое место на диване и садится на креслах подле Ставунина так, что он сидит между ней и Донской.
Ставунин
(с иронией)
Я с Москвой
Расстался так давно; в ней многое и многих
Не узнаю теперь, что шаг, то новость мне.
Скажите, в ней по старине
Полны ли все приличий строгих?
Мертвилов
(Эме)
Удар назначен, верно, мне,
Но я вам говорил…
Ставунин
(равнодушно и спокойно)
Давно уж с удивленьем
Я раззнакомился совсем,
И удивляться, между тем,
Теперь учуся я с терпеньем,
Как учатся иные удивлять.
Минута молчания.
Елена
(громко и смело)
Вы и сами удивить, как кажемся, забвеньем
Хотите здесь меня?
Муж Елены смотрит на нее чуть ее с изумлением ужаса. Мертвилов иронически улыбается. Эме опускает глаза в землю.
Кобылович поправляет галстук.
Ставунин
О! памятью скорей
Меня вы так нежданно изумили. Merci, merci, madame…
[78]Я думал, вы забыли…
Елена
Не стыдно ль забывать старинных всех друзей?
Ставунин
О! дружбу женщины ценю я слишком свято.
Елена
(добродушно-насмешливо)
Ставунин
(наклонясь к ее уху)
Тебя я понял — и вполне,
О добрый ангел мой…
Мертвилов
(комически с пафосом Кобыловичу)
Не правда ль? век разврата.
Те же, Донской.
Донской
(входя)
Je vous salue, messieurs…
[79] Простите, по делам
Я хлопотал, теперь… Monsieur Ставунин, вам
Глубокий мой поклон за вист вчерашний, — ныне
Мы сядем, верно, вновь?
Ставунин
Играть?
Простите, не могу…
Донская
(быстро приподнимая голову)
Ставунин
Донской
(которому человек раздает карты)
Мертвилов
Донской
(с маленьким неудовольствием)
Насильно я играть не заставляю.
Вы, Николай Петрович?
Кобылович
Нет,—
И я сегодня не играю.
Донской
Вот странность, господа, у вас один ответ.
Так как же партию?..
(Мужу Елены.)
Фома Ильич, мы с вами.
Да вот monsieur Ставунин, и втроем
Сыграем пульку мы?
Муж Елены
(нехотя)
Те же, Постин, Петушевский, Баскаков в красных шароварах, бархатном охабне, с мурмолкой под мышкой
{252}.
Донской
(с радостью)
Вчетвером!
Брависсимо!
ИванИгнатьич с нами.
Постин
(раскланиваясь с неловкостью)
Мое почтение… Я часом опоздал,
Да вот господ к себе всё долго поджидал.
Баскаков и
Петушевский
(в один голос)
Pardon, mesdames
[80].
Мертвилов
(подавая им руки)
Друзья! Я говорил, с Москвою
Сойдется Петербург и с Гегелем Фурье.
Петушевский
(Донской, вынимая книгу из кармана)
Имел я честь вам обещать Минье
{253}.
Донская
Донской
(подавая Постину карту)
Иван Игнатьич, вы со мною
Уходя под руку с Ставуниным, за ними идут Постин и муж Елены.
Петушевский
(вынимая porte de cigares, Донской)
Вас не обеспокою
Я пахитоскою?
Донская
Fumez, je vous en prie
[83].
Кобылович
(Мертвилову, показывая на уходящего Ставупипа)
Ведь надо ж, — front d'airain!
[84]Нет, что ни говори, А мненье общества…
Мертвилов
(громко)
Общественное мненье
Есть воля общества живая и оплот
Цивилизации, — и горе, кто пойдет
Бороться с волею истории.
Баскаков
Смиренье
Пред этой волею славяне лишь одни
Способны понимать.
Кобылович
И кто же в наши дни
Серьезно верует в какие убежденья?
Бороться с обществом!..
Петушевский
Позвольте… различать
Привык я мнения от мнений,
Иное можно защищать,
Иное же не стоит защищений,
А ваше таково… Я слышал про оплот
Цивилизации… Ну стоит ли хлопот
Цивилизация?
Кобылович
Позвольте наперед
Вам о приличии напомнить… Защищений
Не стоит мнение мое,
Сказали вы?
Meртвилов
(с хохотом)
Опять конфликт противных мнений.
Laissez done vos folies, messieurs
[85].
Донская
(поднимаясь с места)
Здесь душно, chere amie
[86], пойдемте в залу.
Она и Елена уходят, за ними Вязмин.
Мертвилов
(оглядываясь)
Mais vous chassez les dames…
[87] и боже, как отстало
От века это всё, к чему враждебный тон,
За дамами пойдемте лучше в залу.
Кобылович
Мертвилов
Все уходят, кроме Мертвилова и Эме, которые сидят у окна.
Мертвилов
Ставунин с вашею сестрою
Знаком давно?
Эме
(с досадою)
Мертвилов
Вы скажете, я зол… но я от вас не скрою,
Что странно это всё.
Эме
(со скромностью потупляя глаза)
Мертвилов
Послушайте, ведь есть всему границы.
Когда в ваш дом такие лица
Являться будут…
Эме
(со властью)
Мертвилов
Да старина забудется, конечно…
Эме
Но согласитесь, что не вдруг.
Мертвилов
Эме
Мертвилов уходит. Эме одна.
Эме
Так вот оно… Его я поняла.
Да, да — она горда и зла,
Но не для всех… И что в ней все находят?
И что за вкус у всех дурной?
О, хорошо! Ее приводят
В пример… Хорош пример… А! это братец мой,
Донской
(входя)
Эме
Mon frere…
[88] Два слова.
Донской
Скорее, матушка, — там партия готова,
Эме
Кого вы в дом к себе изволили принять?
Донской
(с изумлением)
Кого? Но я тебя не понимаю.
Эме
Нетрудно будет вам понять,
Когда я вам скажу, что знаю…
Известный он игрок.
Донской
Эме
(злобно)
Приятель новый ваш, друг дома…
Донской
Говорите,
Эме, понятнее… Мне странен этот тон.
Эме
Ах, братец, вы себя стыдите…
Но тише…
Те же, Мертвилов.
Мертвилов
Партия расстроилась совсем,
Играть никто теперь не хочет.
Напрасно братец ваш хлопочет…
Да вот и сам он…
Донской
Так совсем
Расстроилась?.. Эме, скажите, ради бога…
Эме
Пойдемте, вам сказать мне нужно много.
(Уходят в кабинет направо.)
Мертвилов
Как это всё смешно! Удача нынче мне:
Во-первых, общая тревога, Как будто целый дом в огне,
Потом, в душонке престарелой девы
Поднял я столько зависти и гнева.
(Уходит.)
Елена, Ставунин
Ставунин
Зачем ты здесь, зачем играть
Так бесполезно общим мненьем…
Зачем привязанность пустую показать!
Ведь я сказал тебе: забвеньем
Пора окончить всё давно.
Елена
Нет, мне забвенье не дано.
Но что тебе до этого за дело!
Ставунин
Мне? Видишь ли: я сам, могу я смело
И гордо голову поднять…
Но ты — к чему тебе страдать?
Елена
Владимир, есть блаженство и в страданьи,
Ты знаешь сам.
Ставунин
Елена
Ты шел один твоим путем,
Теперь пойдем рука с рукою…
Ставунин
Нет, нет, — оставь меня.
Безумною, больною,
Неизлечимой страстью болен я.
Елена
Я знаю… Мы больны болезнию одною…
Лечиться вместе нам.
Ставунин
Дитя, оставь меня…
Бороться не тебе с стоглавой гидрой мненья!..
Когда, когда кругом тебя раздастся грозный клик
Ожесточенного гоненья,
Тогда что скажешь ты?
Елена
Ставунин
О, я привык
Презреньем отвечать на общее презренье,
А твой удел иной, оставь меня, дитя…
Дай руку на прощанье.
Я мог бы, над тобой презрительно шутя,
Как эгоист, тебя увлечь в мои страданья…
Елена
(с отчаянием)
Ставунин
(оглядываясь)
Сюда идут, — скорей. Оставь меня.
Елена
(уходя)
Ставунин
За гробом, если есть за гробом для людей
Хоть что-нибудь…
Безумец бедный,
Ужель всё прошлое, как призрак грустно-бледный,
Способно обдавать меня одной тоской?
И ни один порыв святой
Не в силах отзыва найти во мне: ужели
Я вовсе чужд всему? Иль точно в самом деле
Осталось мне лишь смерть лицом к лицу узнать?
Да, правду он сказал — пора мне умирать.
Одно живет во мне, одно во мне покоя
Не знает: эгоизм… то не любовь, о пет,
Мне нужно лишь одно — ее прямой ответ…
Страдал недаром я… Что б ни было, его я
Так или иначе, но вырву… Много лет
Меня вопрос неразрешенный
Преследовал, как труд недовершенный!
Пора окончить всё, пора испить до дна
Всю чашу бытия… Но тише, вот она.
Донская, Ставунин
Донская
Ставунин
Минута молчания.
Донская
(в замешательстве)
Я вас просить хотела
Мне объяснить… Когда в вас память прежних лет
И прежних дружб…
Ставунин
Я знаю… Мой ответ
Короток будет вам и груб, но что за дело?..
Я презираю всё — и презираю смело.
Донская
Ставунин
(спокойно)
Минута молчания. Донская опускает глаза.
Ставунин
(так же спокойно)
Да — я таков… я даже не скрываю
Презренья ко всему, ко всем…
Идти с собой
Я никого не принуждаю…
Но с вами б я хотел идти рука с рукой.
Донская
Ставунин
Да, с вами, только с вами…
Вы миру чужды, как и я,
Вы надо всем смеетесь сами…
И вы давно — сестра моя…
За вас одних я не боюсь страданий,
И вам одним готов я целый ад
Мук без конца, без упований
Желать бестрепетно, как брат…
Вам чужд такой язык, как чужды эти речи…
Но вспомните одно — я вами жил одной,
Всю жизнь я жаждал этой встречи,
Чтоб всё безумие любви моей больной
Вам высказать хоть раз, бестрепетно и прямо,
Я к смерти близок был, но жить хотел упрямо.
И жив, вы видите…
Донская
Молчите… Смерти час
Еще не близок… Между нами
Есть жизнь и люди… Так вы сами
Сказали мне в последний раз,
Когда надолго мы прощались с вами…
Страдала ль я, любила ль я… Вам не узнать…
(Хочет идти.)
Ставунин
(останавливается)
Я это знаю…
Моя любовь — сестра моя…
Донская
(вырывая свою руку)
Есть час один, я повторяю,
Когда собою буду я.
Идет. Ее встречают гости, которые идут в гостиную.
Мертвилов
(иронически)
Донская
(равнодушно)
Вы, верно, извините
Мое отсутствие.
(Подавая руку Ставунину, который берет безмолвно шляпу и раскланивается.)
Monsieur Ставунин, вы спешите?
Увидимся.
Эме
(выходя из кабинета с Донским, тихо)
Mais quelle horreur! О cieux!
[89]
Ставунин уходит. Все в каком-то неподвижном изумлении смотрят на Донскую.
Действие третье
Картина первая
Комната Ставунина, у письменного стола кресла; Ставунин лежит в них и дремлет, из отворенной двери слышны звуки рояля и голос Веры. Вечер.
Голос Веры
Когда без движенья
И без речей,
В безумстве забвенья,
С твоих очей
Очей не сводя, я
Перед тобой
Томлюсь и сгораю,
О милый мой…
И долгие ночи
Без слов и сна
Очами я в очи
Погружена…
О, знай — я читаю
В очах твоих,
И верь — я страдаю,
Читая в них…
Ты скрытен глубоко,
О милый мой,
Но светлое око
Предатель твой…
И пусть я страдаю
Тоской твоей,
Но я понимаю
Язык очей…
Голос Веры становится все тише и тише.
Ставунин
(просыпаясь)
Проклятый сон… так душно! Вера, Вера!
Вера
(входя тихо)
Ставунии
Нет, давно
Пора уж встать.
Вера
(подавая ему письмо)
Письмо.
Ставунин
Вера
От курьера,
По городской…
Ставунин
Подай сюда, — окно
Нельзя ли отворить?
Вера
Ставунин
(Пробегая письмо и бросая его на стол.)
Вера
(садясь на табурет, почти у ног его)
Ставунин
Вера
Ставунин
(играя ее волосами)
Нет, нет… на память мне
Пришли теперь ребяческие годы…
(Как бы говоря с самим собою.)
Одну тоску я помню в старине…
Всё так же душно было мне,
И всё хотелося свободы,
И всё сжимало что-то грудь,
И всё просило что-то воли…
И что-то сжатое свободнее вздохнуть
Хотело… Боже мой… широкой, светлой доли
Молил я жадно… жил во мне недуг
Неизлечимый вечно — а вокруг
Всё было пусто так и душно…
Тогда я подходил к замерзшему окну
Взглянуть на звезды… Звезды равнодушно
Сияли мне… И что-то в вышину
Просилось — здесь ему казалось скучно…
Над этим сам смеялся я потом…
Но что же делать? Жил я долго сном,
Не жизнию… и верил долго вздору,
И вздор один сменил на вздор другой,
Такой же странный…
И другую пору
Я помню: стал мне гадок шум людской…
Среди людей, как и с самим собою,
Мне стало душно… был я одинок
Средь их толпы, меня с рожденья рок
Наполнил глупою тоскою…
И в жизни также жил я сном,
И также пусто было всё кругом…
В сравненьи с этим сном так вяло, бледно,
Так злом и горем бедно…
К звездам я не стремлюся… но не мог
Владеть я тем, что грудь мою давило…
Во мне по-прежнему неведомая сила
Искала расширенья… На Восток
Помчался я искать успокоенья,—
Надежда тщетная… но верю, близок срок,
Когда и я дождуся примиренья…
Вера
(поднимая на него глаза)
Ставунин
Бедное дитя!
Зачем тебя увлек я в путь страданья?
Ты жить могла б, жить долго…
Вера
Ставунин
(берет ее руку)
Вера
(спокойно и тихо)
Страдала я с тобой одной тоскою,
От жизни жизни так же я ждала,
Но я любила, я жила…
Жила с тобой, жила тобою!..
Ставунин
(грустно)
Вера
Ты дал мне жизнь… ее я прожила
В одном мятежно-страстном поцелуе…
Чего мне ждать? Пускай теперь умру я:
Земля мне всё в мгновении дала…
В мгновеньи вечность я вкусила…
{254}Я знаю полноту и радость бытия…
Довольно, больше я от неба не просила,
Его я поняла…
Ставунин
А я?
Чего я ждал, чему я верил?..
Что жизнью долгой нажил я?..
Зачем разувереньем мерил
Мой грустный путь… и лицемерил
С людьми… с тобою, наконец?..
Давным-давно живой мертвец,
Зачем я жил? Зачем надежде
Безумной долго предан был,
Что всё, чему я верил прежде,
Что всё, что прежде я любил,
Предстанет мне в иной одежде,
Просветлено, озарено
Лучами света и свободы…
Чего я ждал? Промчались годы…
Всё было душно и темно
Во мне, за мной, передо мною…
Не веря в чувство ни в одно,
От скуки я играл твоей душою…
Вера
Ставунин
Вера
Ставунин
Вера
Обман
Иль правда было то, но смело
Я шла за роком… Что за дело,
Что краткий срок блаженству дан?
Ставунин
Вера
Да… за счастие мученья,
За миг единый сбывшегося сна
Благодарю тебя, о милый… Пусть одна
Любила я, без разделенья…
Любила я… довольно. Решена
Моя судьба. Пред вечным роком
Смиренно голову склоня,
Его не оскорблю упреком…
Любила я…
Ставунин
И для меня
Отвергла ты семейство, счастье…
Вера
(иронически)
Ставунин
Да — счастье тишины, спокойствия…
Вера
Ставунин
Пожалуй, да — цепей участья,
Цепей любви, цепей связей…
Вера
Ставунин
Но много жил я с ними
И отстрадал глубоко в них…
И смело разорвал… зане ужиться с ними
Всю невозможность я постиг,
И что ж?.. Рассудком понимая,
Как жалок человек — великий житель рая,
В стране отцов и матерей…
Изведав связи те, отринув без возврата,
И одинок среди других людей,
Я часто был готов за миг минувших дней
Всю славу гордого разврата,
Всю жизнь страданий и страстей
Отдать за миг один… хоть миг забыться сладко
Среди друзей, средь братьев и родных,
Но я — чужой в толпе чужих…
Пусть сладок сон, но пробужденье — гадко,
Я слишком знаю ласки их.
Нет! есть страдание без страха и смиренья,
Есть непреклонное величие борьбы,
С улыбкой гордою насмешки и презренья
На вопль душевных сил, на бранный зов судьбы…
Погружается в задумчивость; Вера сидит у его ног, склонивши ему голову на колена. Колокольчик раздается у дверей через несколько минут.
Вера
(испуганная вскакивает)
Ставунин
Ко мне? Кому же
Быть в этот час?..
Ставунин, Вера за креслом его. Незнакомая дама под вуалем.
Ставунин
(всматриваясь)
(сбрасывая вуаль)
Ставунин
(изумленный, но спокойно)
Минутное молчание.
Дама
(глубоко тронутым голосом, почти с рыданиями)
Прошло так много лет…
Владимир…
Ставунин
Да, что вспомнить вы о муже
От скуки вздумали. Прекрасно! Ваш визит
Приятен очень мне, садитесь. Садитесь же…
Дама садится безмолвно против него.
Дрожите, вы боитесь…
Чего, скажите мне?.. Какая вам грозит
Опасность страшная?..
Дама
(в сильном движении)
Вы тот же равнодушный,
Холодный человек… Вам так же дела нет
До слез моих.
Ставунин
Увы! мне слезы скучны…
Притом же, право, целый свет
Вы ими залили бесплодно.
Дама
Смеетесь вы — как это благородно!..
(Возвышая голос.)
Но вы смеяться можете — и
Готова всё сносить, — да, смейтесь как угодно…
Мои права, обязанность моя,
Долг матери…
Ставунин
Дама
Ставунин
Чего ж вам, пятой доли
Или которой там, седьмой,
Из моего именья?
Дама
(с отчаянием)
Ставунин
Чего же, говорите смело…
Люблю не слезы я, а дело…
Дама
(с усилием)
Ставунин… сжальтесь надо мной…
Была неправа я.
Ставунин
(насмешливо)
Дама
(с силою)
Была неправа я… Но боже, боже мой…
Страдала долго я…
Ставунин
Не я ваш демон злой —
А воспитание и нравы.
Чего ж хотите вы, Евгения?.. На вас
Женился я почти случайно,
Судьба свела обоих нас,
Увы, с ирониею тайной…
Любви хотели вы — я дать ее не мог,
Вступивши в брак почти по договору…
К капризам вашим был я строг.
Что ж делать? исстари уж я не верю вздору,
Друг друга мучить стало нам
Обоим тягостно, решились мы расстаться…
Свободу предоставив вам,
Я сам свободно мог предаться
Другим и планам, и связям…
Богаты были вы — и промотать именье
Я ваше так же б скоро мог,
Как и свое. Но я вас не увлек
Ни в нищету, ни в разоренье.
Чего же нужно вам?
Дама
(падая перед ним на колена)
О! вашего прощенья,
Владимир…
Ставунин
Но за что?.. какой у вас упрек
Лежит на совести? Общественное мненье
Горой стоит за вас давно,
И им мне изверга названье
Так правосудно придано…
Дама
Но я любила вас… Быть может, в наказанье,
За что бы ни было… но я любила вас…
Владимир… Боже мой, вы верите в страданье!
Ставунин
Я был обманут — и не раз,
Но если б даже так — положим, даже верить
Любви способен вашей я…
Утомлена душа моя
Необходимостью печальной лицемерить…
Нет, нет, Евгения, я эгоист большой,
Оставь меня, иди своей дорогой,
Моя же кончена… Дай руку — пред тобой
Не судия уж больше строгой,
Но брат, страдающий, как ты… В последний раз
Мы видимся… и слово примиренья
Я говорю тебе, но нет соединенья
До часа смертного для нас…
Дама молча встает с места и идет, в дверях она встречается с Незнакомцем.
Те же и Незнакомец.
Незнакомец
Простите, к вам вошел я без докладу…
Ставунин
(пораженный, про себя)
О! этот голос помнить смертный час
Мне завещал…
Что нужно вам?
Незнакомец
(садясь)
Ставунин
(вставая и приветливо делая знаки прощания жене, которая наконец уходит)
Я кончил… И для вас
Готов к услугам.
Незнакомец
(мрачно)
Ставунин
Незнакомец
Кто? — Человек, вам услужить готовый…
Довольно вам… Видались мы иль нет,
Я не берусь решить — подумайте вы сами,
Есть у меня для вас секрет,
И говорить мне нужно с вами.
Угодно ль ехать вам со мной?
Ставунин
Куда?.. Но всё равно… я еду… Пред судьбой
Напрасно отступать…
Незнакомец
(идя к двери)
Ставунин берет со стола шляпу и следует за ним.
Картина вторая
Вечер у откупщика Постина. Большая диванная с аркой вместо дверей, в которую видна анфилада освещенных комнат. Посередине комнаты пять карточных столов; за одним сидят несколько стариков, за другим Столетний, муж Елены, Кобылович. На диванах, по стенам комнаты, гости сидят в разных положениях, курят, пьют пунш и т. п. В огромных креслах подле стола, за которым играют Столетний и прочие, лежит сам Постин с сигарой; Мертвилов, также с сигарой, ходит по комнате. Налево от зрителей, в отворенных дверях, виден хор цыган и в самых дверях Подкосилов, который в неистовстве поет и пляшет с ними; вместе с ним, прислонясь к дверям, стоит безнадежный поэт и мрачно смотрит; оба беспрестанно пьют пунш. Цыгане поют: «Я пойду, пойду косить во зеленый луг».
Столетний
Муж Елены
(кладя карты)
Кобылович
Постин
(Столетнему)
Столетний
Но только что это за глупая игра?
Постин
Кобылович
А кстати, вот забавно!
Я страшно счастлив в банк и в горку… До утра
Играл я раз — и всё на даму…
И мне везло… Андрей Михайлыч мне
Заметил, впрочем, раз…
Мертвилов
(наклонясь к Постину)
Кобылович
Что упрямо,
Как дамы, счастие — и так же, как оне,
Обманчиво…
Столетний
Однако вы забыли,
Что ваша очередь сдавать.
Подкосилов
(кричит)
Иван Ильич!.. вели подать
Чего-нибудь сюда… Чудесно откосили!
Корнет
(за другим столом)
Постин
(обращаясь туда)
Корнет
(меча карты, с презрением)
Отец семейства
(за одним столом с корнетом)
Ну, было — не было! последнюю ребром!
Постин
(обращаясь к нему)
Эй, брось играть… Домой придется воротиться!
Отец семейства
Ну, что бы ни было, косить, так уж косить!..
Вот угораздил черт меня жениться…
Да, впрочем, что тут говорить,
Валяй, коси, руби… Вели мне дать хватить
Скорее «ромео»… да пусть поют цыганы…
Постин
А вот за этим к атаману
Мы обратимся… Эй ты, любезный друг…
Подкосилов
(подходит, немного шатаясь, к Столетнему)
Столетний
(ставя карту)
Подкосилов
Иван Ильич, вели подать туда съестного.
Постин
Распоряжайся сам, да кстати, атаман,
Вели — «Лови, лови!»
{255}.
Подкосилов
(ревет неестественно в пифическом восторге)
Те же, доктор Гольдзелиг.
Постин
(вставая)
А! гостя дорогого
Я только что и ждал — садитесь на диван,
Ложитесь лучше, вы устали,
Я думаю…
Гольдзелиг
(подавая ему руку)
День целый я гонял…
Минуты просто нет свободной…
(Постину тихо.)
Постин
(насмешливо)
Народ всё благородный,
И даже столбовой.
Гольдзелиг
Постин
Гольдзелиг
Постин
Мертвилов
(подходя к Гольдзелигу)
Гольдзелиг
(сухо)
Мертвилов
Гольдзелиг
(так же сухо)
Мертвилов
Разве нынче вам
Эме о том не рассказала?
Гольдзелиг
(почти презрительно)
Не каждый же к ее вестям,
Как вы, внимателен.
Мертвилов
(насмешливо)
Забыл я, извините,
Что влюблены вы, и давно.
Гольдзелиг
(вспыльчиво)
Мертвилов, если вы не замолчите…
Мертвилов
(с хохотом)
Monsieur, мы будем драться?
Гольдзелиг
Мертвилов
Да как же нет — вы мне простите,
Но это странно — медик вы,
Должны людей лечить, а убивать хотите!
(Отходит.)
Гольдзелиг
(про себя)
(Постыну)
Постин
(презрительно)
Помилуйте, они играют по полтине!
Вот подождем Ставунина, тогда…
Кобылович
(который кончил сдавать, к Постыну)
Послушайте, когда я был в Волыни…
Подкосилов
(подходя об руку с безнадежным поэтом, оба уже сильно пьяные)
Безнадежный поэт
Оставь, всё это души
Холодные.
Подкосилов
(Столетнему)
Те же, Ставунин и Незнакомец.
Ставунин
(Постину)
Я опоздал к вам — виноват.
Рекомендую вам: двоюродный мой брат.
Незнакомец молча кланяется.
Я к вам его привез без церемоний, прямо.
Постин
Обязан много. Очень рад знакомству вашему.
(Пожимает руку Незнакомца.)
Ставунин
(Пожимая ему руку.)
Гольдзелиг
(отводя его в сторону)
Ты упрямо
Искал свидания — и что же?
Ставунин
Гольдзелиг
Ты знаешь, верно, сам, — она больна.
Ставунин
Гольдзелиг
Может быть… у ней давно чахотка,
Cette femme mourra d'une mort subite,—
Ставунин
(как бы про себя)
Да, безмятежно, кротко
Она заснет!..
Гольдзелиг
Ставунин
(изменяясь в лице)
Гольдзелиг
Да — болезнь такого рода,
Что случай незначительный, пустой
Способен ускорить…
Ставунин
(про себя)
Да, видно, час свободы
И для нее настал со мной…
Постин
(садясь за стол)
Владимир Федорыч, я понтирую…
Кто с нами, господа?
Корнет
Постин
Отец семейства
Столетний
(вставая)
Корнет
Ставунин
(садится у стола, за ним становится Незнакомец.)
Постин
(мечет)
Ставунин
На пе.
Цыгане поют, слышен топот и свист, Подкосилов и безнадежный поэт пляшут вприсядку с цыганами.
Столетний
Держу я…
Уймите этот шум,
Постин
(мечет)
Нельзя, — питомец муз
И атаман неудержимы стали…
Вот счастье!.. Вы, Столетний, проиграли.
Столетний
Те же, входит поспешно Вязмин.
Вязмин
Столетний
(слыша его голос)
Зачем ты, подожди,
Борис Владимирыч… На пе…
Вязмин
(схватывая его руку)
Столетний
Вязмин
(Тихо.)
Столетний
(быстро вскакивает со стула)
Вязмин
(увлекая его в угол)
Боже мой!.. Гляди,
Письмо от матушки.
Падает на диван в волнении. Столетний, пробегая письмо, бледнеет и остается долго немым.
Столетний
(приходя в себя)
О! я убью злодея.
Вязмин
(бледный)
Он здесь… он здесь… Ставунин!
Столетний
(пораженный)
Вязмин
Сестра моя… О боже! это сон,
Ужасный сон!
Столетний
(с сосредоточенным гневом, подходя к Ставунину)
Ставунин
(спокойно)
Столетний
Сказать,
Что вы… что вы… но вам не ново
Прозванье ни одно.
Ставунин
Но я хотел бы знать,
Что значит это всё?
Столетний
Вы знаете… Пред вами
Жених и брат.
Ставунин
(холодно)
Вязмин
(вставая)
Так вы деретесь с нами
На чем угодно вам.
Ставунин
Простите, господа,
Но, к сожалению, скажу я,
Что не дерусь я никогда…
Столетний
Ставунин
Посмотрим… Метко бью я
И верно, мне не страшен пистолет;
Но, к сожалению, я должен отказаться,—
Я не дерусь.
Столетний
Ставунин
Последний… или нет: когда нам нужно драться
И нужно умереть кому-нибудь из двух,
Есть средство лучшее.
Столетний
Ставунин
Столетний
Ставунин
Вязмин
(Столетнему)
Мой друг,
Но он со мною должен рассчитаться…
Столетний
Со мною прежде — и обоим вдруг
Нельзя.
Ставунин
Так, если будет вам угодно…
Играем мы, но прежде благородно
Поговорим… чтоб наша смерть была
Полезна для нее… чтоб то, что честью в свете
Зовется, — возвратить онамогла.
Есть у меня жених для Веры на примете.
Когда мои условья примет он,
Деремся мы, monsieur Столетний, с вами.
(Вязмину)
А с вами я пред светом примирен,
Не правда ль!
Столетний
Вязмин
(презрительно)
Жених? Но кто же он?
Не вы ль?
Ставунин
Нет, я женат — но здесь он, между нами.
(Столетнему)
Садитесь же за стол, я буду к вам сейчас.
(Подходя к Мертвилову.)
Не можете ли вы поговорить со мною?
Мертвилов
(принужденно)
Que vous plaÎt-il, monsieur?
[92]
Ставунин
(Вязмину)
Оставьте нас.
Вот видите ль, заметил в вас давно я
Так много редкого ума и вместе с тем
Мертвилов кланяется.
Так много редкого презренья
К различным предрассудкам. Так зачем
Мертвилов кланяется.
Мне предисловие… Общественного мненья
Боитесь вы немного, вот одно,
О чем хотелось мне поговорить давно.
Вы сами знаете, что главное — именье
На этом свете, да?
Мертвилов
Я вас благодарю…
За мнение… но в чем же дело?
Ставунин
Угодно слушать вам? Итак, я говорю.
И говорю без предисловий, смело;
Скажите, если б вам нежданно получить
Хоть тысяч двести, так, задаром?
Мертвилов
Я вижу, что со мной хотите вы шутить…
Ставунин
Мертвилов
Если так… я их бы принял с жаром,
Конечно…
Ставунин
Если б вам сосватал я жену?
Мертвилов
(не много думая)
Ставунин
Мне кажется, друг друга
Мы поняли…
Мертвилов
Но просьбу я одну
Имею к вам: мне звание супруга
Нейдет.
Ставунин
Вы можете в Карлсбад
Отправиться. Итак?
Мертвилов
Ставунин
(берет его руку)
(Подходит к Вязмину с ним. Вязмину.)
Брат вашей будущей жены,
Monsieur Мертвилов…
(Оставляя их, идет к столу.)
Постин
Ставунин и Столетний становятся друг против друга, за Ставуниным Незнакомец. Мертвое молчание.
Постин
Направо туз… Ну-ну — вы созданы
Под счастливой звездой.
Ставунин
(про себя)
Столетний
(ему мрачно и язвительно)
Ставунин
(грустно)
Столетний
(тихо ему)
Ей упрека
Не посылаю я… Желаю счастья ей.
Уходит. Вязмин хочет идти за ним, он его удерживает.
Ставунин
(про себя)
Да! рок привык играть минутами людей!
Незнакомец
Но игры рока — тайны рока!
Неистовая песня раздается в соседней комнате, с притоптыванием, со свистом и припевом: «Жизнь для нас копейка!»
Действие четвертое
Гостиная Донских; вечер.
Донская
(одна сидит на диване, сжавши голову руками, перед ней книга)
Так страшно-тяжело! Тоска, одна тоска,
И впереди одно и то же.
Больна я, но от гроба далека…
Мне жить еще судил ты долго, боже.
(Бросая книгу.)
О, для чего раскрыты предо мной
Страданьем говорящие страницы…
Зачем они насмешливо с судьбой
Зовут меня бороться?.. Вереницы
Забытых призраков роятся вкруг меня—
Мне душно, душно… Сжалься надо мною,
Дай мира мне, дай мира и покоя,
Источник вечного огня…
Боролась я… у мира сожаленья
Я не просила… я перед тобой
Горда, чиста… но есть предел терпенья.
Возьми меня, о вечный, в твой покой…
Страдала я… конца моим страданьям
Я не просила… я любила их.
Любила ропот гордый — но роптаньям
Пределы есть в объятиях твоих…
Любила я… мне равное любила,
Не низшее иль высшее меня…
В обоих нас присутствовала сила
Единая палящего огня…
Любила я… свободно, безнадежно
Любила я… любили оба мы…
Мы разошлись, и знаю — неизбежно
Расстаться было нам… не созданы
Равно мы оба были для смиренья,
Любили мы друг друга, как судьбу,
Страдания, как гордую борьбу
Без отдыха, без сладкого забвенья…
Без чудных снов земного бытия…
Отец, отец, — в борьбе устала я,
Дай мира мне и дай успокоенья…
Донская, Донской.
Донской
Донская
(выходя из самопогружения)
Донской
Вы помните… Про тульское именье
Я говорил третьего дня — хоть нам
Оно доход порядочный приносит,
Но что же делать?..
Донская
Донской
Вот видите ль, Marie: для формы просит
Мой кредитор доверенность. Одни
(Вынимает из кармана доверенность.)
Лишь формы… это — подписать…
Донская
(Подписывает.)
Донской
Благодарю вас, ангел мой, Marie.
(Смотрит.)
Вы так добры… Еще здесь слова три
Необходимы.
Кончено… Позвольте
Теперь проститься с вами…
Донская
(презрительно)
Донской
(с ужимкою)
Увы! Притом же вам авось не будет скучно,
(Насмешливо.)
И без меня найдете, верно, вы
Теперь кого-нибудь: я равнодушно
Смотрю на всё…
Донская
(с оскорбленным достоинством)
Донской
(насмешливо пожимая плечами)
Донская
Донской
Пол-Москвы…
Но мне до вас нет вовсе дела,
Вы можете и жертвовать собой,
И с предрассудками бороться смело…
Я человек, известно вам, простой,
Не карточный игрок отъявленный, не гений,
Не понимаю высших я воззрений,
И предпочел давно всему покой.
(Уходит.)
Донская
О боже, боже мой…
Так судит свет… Что, если бы для света
Любовь мою я в жертву принесла?..
Как жалко бы я пала… как ответа
И даже б веры в свете не нашла…
Но я давно общественному мненью
В лицо взглянула прямо, без страстей,
Давно уже я каждому влеченью
Свободно предавалась — для людей
Не жертвовала я ничем…
Душой моей
Пожертвовала я давно уж воле рока…
И перед ним чиста я, без упрека,
И перед ним горда я…
Скоро ль путь
Окончу я!.. Скорее бы вздохнуть
Свободнее… Скорее б духу крылья,
Чтоб, разорвав сожженную им грудь,
За гордую борьбу, за тщетные усилья
В объятиях отца он мог бы отдохнуть.
(Погружается в задумчивость.)
Донская, Ставунин входит тихо.
Донская
(быстро взглядывает на него)
Ставунин
(с покойною холодностью)
Проститься с вами.
Донская
Ставунин
Донская
Хотите вы лечить себя водами…
Ставунин
(садясь)
Лечиться глупо кажется для вас
И для меня… Теперь в последний раз
Мы видимся.
Донская
(подавая ему руку)
Ставунин
(отдергивая руку быстро)
О нет, о нет, врагами же скорей!
От вас любовь или вражду возьму я —
Но дружбу — нет…
Донская
(отнимая руку, печально)
Ставунин
Но одну я
Имею просьбу к вам.
Донская
(чертя по столу пальцем)
Ставунин
Вот видите ль… Прошедшее у вас
Изгладилось иль нет из памяти, не знаю —
Но я — я помню вас… Вы помните ли, раз —
То было вечером.
Донская
(как бы пораженная)
Ставунин
Вы пели песню — песня та была
Исполнена таинственной надежды,
Покоя смерти… Под нее бы вежды
Закрыть хотелось мне всегда… Светла
И так полна печали песня эта…
И так мольбой покоя дышит, — вы
Ее забыли?.. Я стихи поэта
Напомню вам, но звуки, звуки — вы
Найдете в памяти… они просты
И глубоки.
Донская
(твердо и тихо)
(Выходит в другую комнату)
Раздаются звуки рояля.
Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой…
Не пылит дорога,
Не дрожат листы,
Подожди немного,
Ставунин
(по уходе Донской быстро вскакивая и схватывая стакан с лимонадом на ее столике)
Мгновенье
В моих руках… прости меня, прости,
Источник жизни, если преступленье
Я совершил.
Бросает яд; слышно: «Отдохнешь и ты».
Да, да — мы отдохнем,
Мы отдохнем с тобою оба…
Мы жили врозь, но вместе мы умрем,
Соединит нас близость гроба.
Донская
(входит и бросается на диван в сильном волненьи, грудь ее сильно поднимается)
Ставунин… мы расстаться навсегда
Теперь должны…
Ставунин
Донская
Ставунин
Донская
Нам больше никогда
Не встретиться… Быть может, я жестоко
Играла вами, вашею душой…
Что ж делать, час последний мой
Еще не близок… Душно мне,
(Пьет.)
Ставунин
(вставая медленно и торжественно)
Для вас
Теперь он пробил…
Донская
Ставунин
Донская смотрит на него неподвижно.
Донская
(как бы потрясенная электрическою искрою, с радостью)
Ставунин
Ты яд пила, Мари… Безумной цели
Достиг я… я у берега.
Донская
О нет,
Не верю я… вы обмануть хотите
Меня, Ставунин… Искупленье, свет,
Свобода… Говорите, говорите,
Го правда ли?
Ставунин
(падая у ног ее)
О да, дитя мое…
Прости меня… тебя любил я странно,
Болезненно, безумно, постоянно,
Тебя любил я — бытие свое
Я приковал давно к одной лишь цели,
К тебе одной… Не спрашивай меня,
Зачем я жил так долго, — и тебе ли
Об этом спрашивать?.. Давно, со дня
Разлуки нашей, мыслию одной
Я жил — упасть у ног твоих хоть раз…
Хоть раз один тебе спокойно в очи
Смотреть, в больные очи… Смертный час
Твой пробил… ты свободна; вечной ночи
Добыча ты — ты кончила расчет
С людьми и миром…
Донская
О! как страшно жжет
Мне грудь твой яд…
Ставунин
(у ног ее)
Мгновение мученья
Пройдет, дитя…
Донская
(слабым голосом)
Проходит… Добрый друг,
Благодарю тебя; освобожденье
Я чувствую… почти затих недуг…
Свободна я… Владимир, руку, руку,
Дай руку мне!
Ставунин
На вечную разлуку,
Дитя мое, мой ангел… навсегда!
Прости… прости…
Донская
Владимир, до свиданья!
Свиданье есть… я чувствую… о да,
Свиданье есть… кто гордо нес страданье,
Тот в жизнь его иную унесет…
Мне кажется, заря теперь встает,
И дышит воздух утренней прохладой,
И мне дышать легко, легко… отрадой
Мне жизнь иная веет…
Ставунин
О! не умирай,
Еще одно, еще одно мгновенье,
Последнее дыханье передай
В лобзаньи мне последнем, первом…
Долгий поцелуй, после которого Донская вдруг отрывается от него.
Донская
(слабо и прерывисто)
Пробужденье…
Любовь… Свобода… Руку!..
(Умирает.)
Ставунин
(Склоняется головою на ее колени; потом через несколько минут приподнимается.)
Всё кончено… теперь скорей с судьбою
Кончать расчет…
(Бросается, но останавливается на минуту и снова падает у ног ее.)
Нет, жить ты не могла,
Дитя мое, — обоих нас с тобою
Звала судьба!.. Но ты мертва, мертва…
Мари, Мари, — ужели ты не слышишь?..
Мертва, бледна… О боже, голова
Моя кружится… Ты нема, мертва…
Мари, дитя мое, мертва, не дышишь…
О, это страшно… Но твои слова
Я понимаю: до свиданья, до свиданья…
О, если бы!..
(Встает и идет медленно к дверям; тихо.)
Ставунин и доктор Гольдзелиг
Гольдзелиг
Ставунин
(тихо)
Гольдзелиг
Ставунин
(с страшною улыбкою)
Гольдзелиг
(бросаясь к ней)
Ставунин
Минута молчания.
Гольдзелиг
(оставляя ее руку, мрачно и грустно)
Ее, как ты, любил я, — но роптанья
Безумны будут; над тобой, над ней
Лежит судьба.
Ставунин
Гольдзелиг
Ставунин
Молча пожимают друг другу руки. Ставунин уходит, в последний раз поцеловавши руку Донской. Гольдзелиг садится и долго смотрит на мертвую.
Гольдзелиг
Да, это странно, странно… Налегла
На них печать страданья и проклятья,
И тем, которых жизнь навеки развела,
Открыла смерть единые объятья…
Донской
(входя с Кобыловичем)
(Подходит и с удивлением обращается к доктору.)
Гольдзелиг
(спокойно)
Донской
(с удивлением)
(С горестью ударяя себя в лоб.)
А я об завещаньи
Не хлопотал, — седьмая часть одна
Мне по закону следует.
Кобылович
Она
Скоропостижно так скончалась… Здесь нужна
Полиция… Ничто без основанья
Законного не должно делать вам…
Мне часто говорил Андрей Михайлыч сам…
Занавес падает при последних словах.
1845

Проза


Лючия.{257}
Из воспоминаний дилетанта
I
Почему-то судьба предназначила мне сталкиваться на моем
жизненном пути, говоря
высоким слогом, с более или менее замечательными личностями: вознаграждала ли меня это
благая судьба за недостаток собственной, весьма небогатой событиями жизни, хотела ли она дразнить меня чужой жизнию, так или иначе, только на муку читателей «Репертуара» вот уж второй год я рассказываю им
повести: без начала, без конца и без морали;{258} повести о моих знакомых, преимущественно —
хороших. Не знаю, нравится ли это им, — то есть и моим читателям, и моим знакомым, но сам я, давно не читая ровно ничего, привык с наслаждением читать живые, ходячие книги и передавать прочтенное мною другим. В этом деле я дилетант в полном смысле слова…
Итак, вот вам еще одна из моих
встреч.
Это было осенью 1844 года. Петербург еще не бросил своих глупых дач, а погода уже была прескверная. До открытия оперы оставалось еще две добрых недели. Мне, человеку par excellence
[94] праздному на свете, решительно некуда было деваться.
Но у меня образовалась привычка,
чудовище привычка, как называет ее Гамлет
{259},— привычка два раза в неделю непременно бывать в
одном довольно грязном трактире на
одном из островов петербургских и постоянно внимательно смотреть на эквилибрически-акробатические представления и восхождения по канату. К этому роду удовольствия приучил меня один мой добрый приятель Ф. В., которого русская хандра и богатство сделали чистым англичанином, которому приелось решительно все, кроме акробатических довольно грязноватых представлений и круглого бильарда. Его жизненная философия была очень проста: он любил больше всего есть и даже объедаться; пить он не любил, потому что вино уничтожает власть рассудка, когда объеденье, напротив, производит то же чувство отупения, но отупения сознательного, — и я, право, был готов иногда согласиться с ним, что в этом единственно выражается торжество духа над природою. Но дело не в этом моем приятеле, хотя его личность также чрезвычайно замечательна, а в другом…
Кроме нас двоих самым постоянным посетителем
вышеупомянутого заведения было еще одно лицо, на которое не мог даже не обратить внимания и мой сплинический товарищ, хотя, надобно сказать правду, ни в лице этого
лица, ни в его наружности не было ничего особенно ярко выдающегося. Одет он был как все или, по крайней мере, как многие; там, где мы его встречали, он всегда являлся сверху донизу застегнутый в черное триковое пальто, в белой фуражке, с сигарой, никогда не выходившей изо рту; физиономия его, бледная и облитая желчью, была очерчена резцом природы чрезвычайно тонко и вместе угловато, — взгляд, неподвижный и отупелый, был тяжел невыносимо, когда в него, бывало, всмотришься. Мне еще прежде случалось встречать этого человека в одном знакомом мне доме, я даже мельком слышал его фамилию и помнил, что мое любопытство узнать ее было возбуждено именно этим
отупелым взглядом, о котором беспрестанно говорила одна очень умная и милая женщина. После я услышал, что какие-то скандальные сплетни занесли туда присутствие этого странного человека, и больше о нем не заботился.
В островском трактире он был всегда как будто прикован к одному месту, он сидел всегда у окна, ближайшего к семейству странствующих артистов, расположившемуся на вечные времена в одном из углов довольно большой комнаты, курил сигары, пил беспрестанно огромные стаканы чаю и неподвижно, мутно, бесцельно и бессмысленно глядел вдаль… Когда кто-либо из членов странствующей семьи музыкантов по окончании пьесы, обходя всех для получения подаяния, подходил и к нему, он, почти не оборачиваясь, вынимал из кармана пальто мелкую серебряную монету, клал на тарелку и продолжал по-прежнему смотреть вдаль.
— Чем занимается этот человек на свете? — спросил меня однажды Ф. В., уставши наконец смотреть на фарсы паяца.
— Вероятно, ничем, — отвечал я.
— Он постоянно здесь?
— Как вы и я.
— Странно!
— Почему же странно?.. неужели вы думаете, что только мы с вами и хандрим?
— Пойдемте слушать арфисток, — сказал мой приятель, не отвечая на мой вопрос.
— Пожалуй.
И, оставив балкон, мы вошли в общую залу.
Зала была почти пуста… Летний вечер обливал ее в окно грустными, запоздалыми лучами солнца, падавшими прямо в тот угол, где поместилась бедная кочующая семья музыкантов, — и в этом свете ярко обозначалась вся грустная бедность, все страдательное положение артистов. Мы стали у дверей, прямо против большой арфы, из-за золотистых струн которой мелькал бледный образ с яркими голубыми глазами, да маленькая, грациозно обутая нога, да красный цвет кашмирового платья. Перед нами из этой грязи возникло какое-то радужное видение, болезненно-грустное, наводящее тоску, неисходную тоску на сердце.
— А ведь она хороша, — сказал мой приятель, улыбнувшись жирною улыбкой человека, который наконец очнулся от хорошего обеда; но то, что он думал, он передал не мне, а трактирному слуге, который только улыбнулся на слова, сказанные ему шепотом.
— Кто она? арфистка? — спросил я, всматриваясь в решетку струн.
— Да… и я думаю… — продолжал мой приятель. Мне стало гадко.
Артисты кончили свою пьесу, и вслед за тем девушка в красном платье вышла из-за арфы. Она была чудно сложена, ее голые руки были белы как мрамор, ее бюст был совершенно античный, ее большие темно-голубые глаза сияли, как две звезды, самая усталость и истощение, отпечатлевшиеся на ее еще молодом лице, обливали ее ореолою падения и страдания.
Когда она подошла к моему приятелю, он с улыбкою положил ей на тарелку депозитку
{260}. Она взглянула на него без удивления, тоже с улыбкою.
Знаете ли вы, что такое улыбка, готовая всегда, на всякий случай, запасная улыбка падшей женщины, страшная хула на жизнь и на радость?..
Очередь дошла наконец до господина в пальто, также неподвижно сидевшего у окна.
Но девочка прошла мимо его.
Он обернулся, однако, и, привставши с места, положил на тарелку мелкую монету.
Арфистка на него взлянула с удивлением, — потом, наклонившись к нему, шепнула:
— Mein lieber Негг, wollen sie, dass wir etwas aus «Lucia»…
[95]
— О nein… — перервал было он, но девушка быстро подошла к арфе и взяла аккорд прелюдии знаменитой «Fra poco mi ricovero…»
[96]{261}.
Симфония странствующих артистов немилосердно драла человеческие уши; один мой приятель дожидался ее конца с флегматическим спокойствием, да господин в пальто судорожно сжимал себе подбородок.
Я уехал один, потому что Ф. В. почему-то решился пробыть долее обыкновенного.
II
Я еще не слыхал итальянской оперы. Рубини удалось мне слышать в концерте в Москве; но он не произвел на меня особенного впечатления.
Сезон наконец открылся; открылся, разумеется, «Лючиею»
{262}, торжеством бергамского соловья
{263}, как говорили, по крайней мере. Я не любил и не понимал итальянской музыки, еще менее видел толку в маэстро Донидзетти и даже в его chef d'oeuvre, в его «Лючии». Что мне за дело до этой сладенькой любви, до этого самоубийства самца от потери самки? Так, по крайней мере, я думал, потому что из Москвы привез с собою запас идей о человечестве, понятий о любви как о борьбе двух личностей…
{264} Любить — значит враждовать, проклинать, мы не можем любить, потому что любить женщину стыдно, потому что есть иные интересы жизни, к которым человек должен быть привязан, — вот те квакерские
убеждения, с которыми я приехал в Петербург. После, конечно, я добрался до той мысли, что любить нельзя потому только, что любить
некого и нечего, что без хлеба и женщины для человечества нет интересов, — ну, да это после.
Я, однако, взял билет на «Лючию», потому что итальянская опера входила также в число
социальных интересов. Волею рока и за недостатком больших финансов на ту пору я поместился в высшие сферы театра.
Народу было столько, что становилось душно, несмотря на то, что я поместился на очень выгодное место к самой балюстраде, потому что успел прийти за три четверти часа до поднятия занавеса. Ждать вообще чрезвычайно скучно, и я уже сильно досадовал на свой проклятый дилетантизм. И добро еще я забрался так рано для «Роберта»
{265}, для этой исполинской трагедии, где дьявол — герой и жертва, а то для «Лючии», для бесцветного создания какого-то итальянского маэстро: что мне за дело до сумасбродного Равенсвуда, до его Лючии, до всей этой старинной шотландской баллады?
Внизу меня, на балконе, сидел опять господин в пальто, которого я встречал в одном доме и в островском трактире. Он часто привставал и оборачивался с нетерпением; его как будто что, как говорится, ломало или била неотвязная лихорадка. Бледные черты его были судорожно искажены.
Поднялся наконец занавес. Я прослушал равнодушно превосходную бравурную арию Тамбурини… но вот появился Эдгар… При первых звуках этого, кажется, устарелого голоса меня подрало морозом по коже, по мне пробежало какое-то новое, доселе не испытанное впечатление… Мой знакомый незнакомец чуть не перевесился за барьер… Все молчало или разражалось неистовыми рукоплесканиями только по окончании арии, только когда совершенно замирало самое эхо этого мучительного голоса… То была сцена любовного свидания, полного надежд, страсти, радости, полного клятв и уверений, — простая дочь дикой Шотландии, она клялась ему, своему избранному сердцем, в вечной любви, в вечной верности: небо слышало эти клятвы, ибо небо знает, что возможна вечная любовь двух половинных существ, ибо небо создало их из одного светила, ибо оно готовило им полное, уничтожающее противоречия слияние за пределами гроба… Зачем же люди встали между ними, люди с их враждою за какие-то семейные предания, с их неотвязною любовью, которая хуже вражды, с их китайским уставом приличий, с их цепями и палачами? Они заставили ее забыть свои клятвы, ее, бедную, слабую Лючию… Но вот является Эдгар под звуки грозного военного марша, ему непонятно все, что происходит перед его глазами, непонятно потому, что противоречит его здравому рассудку… Она
его Лючия, и кто же смеет сказать, что она не
его?.. Кто?.. Она сама… И он разражается странным, раздирающим душу проклятием.
{266}
Внизу меня послышались глухие рыдания… господин в пальто бесновался; когда я взглянул на его искаженные черты, мне не нужно стало добиваться истолкования его жизни. Над ним, как и над многими, отяготела старая, глупая песня о Лючии и Эдгаре, о Ромео и его Юлии…
{267} отяготела безысходной, все уничтожающей тоской, подъевшей все другие интересы существования.
Да и где они, эти другие интересы?.. Не все ли стоны человечества сливаются в один стон о хлебе и женщине — не вздор ли все остальное, не средства ли только все остальное?
Я полюбил этого больного человека, рыдавшего без стыда от раздирающих стонов Эдгара, я полюбил этого Эдгара, когда он замирающим, переходящим в вечность голосом пел:
Di bell'alma innamorata…
[97]
Да, да — неудовлетворенный на земле, он переносил в иную жизнь свое вечное стремление, с укором земле, с надеждою на небо… на то лучшее бытие, где окованное и стесненное не знает цепей и преград, но сияет свободно, спокойно и вечно.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И этого человека, пояснившего мне страшную драму любви мужчины и женщины, я назвал с той минуты братом.
Я с ним сошелся, я о нем расскажу вам когда-нибудь.
Москва и Петербург: заметки зеваки{268}
1. Вечер и ночь кочующего варяга в Москве и Петербурге
Прежде всего и паче всего прошу покорнейше читателей этих беглых впечатлений — если только найдутся для них читатели — не обольщаться громким названием «Москва и Петербург», не ждать здесь полной, систематической характеристики головы и сердца России, — предуведомление, впрочем, кажется, лишнее, благодаря терпению добрых русских читателей, давно уже испытанному и громкими названиями, и огромными предприятиями. Мои заметки в полном смысле — впечатления зеваки, не французского фланера, который фланирует для того, чтобы видеть и замечать, потому что живет гораздо более жизнию других, чем собственною, — не немца-путешественника, который и смотрит-то на что-нибудь не иначе, как с научною целию, — не англичанина-туриста, который возит всюду только самого себя и показывает только собственную особу, — нет, это беспритязательные, простые заметки русского зеваки, зевающего часто для того, чтобы зевать, зевать на все — и на собственную лень, и на чужую деятельность. Зевота как искусство для искусства, искусство само по себе служащее целию — найдено только русской природой, выражаясь словом господ, зевающих на собственную лень, — и никаким уже образом не есть порождение лукавого Запада, употребляя принятый термин других господ, зевающих на чужую деятельность.
Но дело не в зевоте, не в хандре — дело в Москве и Петербурге, хотя, право, в иную минуту оба эти города кажутся представителями двух этих различных родов зевоты.
Случалось ли вам когда-нибудь ездить по Москве зимней ночью — зимою в Москве и в семь часов уже ночь. Перед вами вереницами и рядами тянутся длинные заборы дворов, то большие, то небольшие дома — на улице ни души, изредка только полозья саней прорежут полосу на рыхлом снеге, да по маленькому тротуару пройдет прохожий, кутаясь в шубу. Все тихо — но отчего так полна для вас жизни эта тишина, не той жизни, которой все интересы сосредоточены в повышениях и партии преферанса, — нет, иной какой-то жизни, забытой вами или, может быть, даже вовсе неиспытанной, но понятной, но доступной вашей русской природе. Посмотрите, сквозь ставни этих уютных маленьких домиков прорезывается приветная полоса света, цельные стекла этих изящных одноэтажных домов освещены ярко, так, кажется, и обливают вас роскошью своего освещения; приподнимитесь немного на ваших санях, остановитесь, если вам нечего делать, некуда спешить, и в цельное окно хорошенького домика вы увидите и стол с стоящим на нем самоваром, и целый круг семьи, столпившейся около этого самовара… и мало ли что вы еще увидите — быть может, свеженькую, алебастровую ручку, грациозно подающую стакан крепкого чаю кому-нибудь из братьев, быть может, рассеянные, подернутые влагой глазки, которые невольно оборачиваются к окну, в то время как их хозяйка, по-видимому, занята только разливанием чаю, глазки, в которых прочтете все нетерпение, каким снабжена русская женщина. И если вы бездомник, если вы варяг в этом славянском мире, если вы не имеете части в семейном самоваре, зачем, за что и почему обоймет вас хандра неодолимая, зачем, как Репетилов, готовы вы сказать своему кучеру: вези меня куда-нибудь…
{269} Но куда, куда? еще только шесть часов — вас не тянет ни в театр, надоевший вам до смерти, ни в клуб, в котором просидели вы целое после-обеда, ни к таким же, как вы, бездомникам — вам хочется звуков, вам хочется выражений для этой неопределенной, непонятной тоскливой хандры, — и если у вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые вы можете кинуть задаром, — о! тогда, уверяю вас честью порядочного зеваки, — вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно странных песен
{270}, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать мою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу странною песнию или когда бешеный, неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина
{271}: «Ах? ты слышишь ли, разумеешь ли?..» Не эвал, не эвоэ — но другое, скажете вы, распустивши русскую душу во всю распашку… Но ваша душа чересчур переполнилась, вы снова кидаетесь в сани, вы велите ехать куда-нибудь, на одни из тех вечеров, где принимают всякого, даже и варяга, если только известно, что он в состоянии сказать какую-нибудь новую истину, потому что Москва с жадностию бросается на всякую новую истину, как будто Москве нужны новые истины, нужнее, чем для Петербурга ясное небо и чистый воздух. У! Боже мой! какая атмосфера или, скорее, какая разнообразная атмосфера ума окружит вас, как только вы очутитесь в центре такого кружка, — слой ума западного, с его подразделениями на французский и немецкий, слой ума восточного, слой, наконец, ума чисто прадедовского, с памятью жирных пиров доброго старого времени. Но отчего — если только вы пожаловали на такой вечер с свежею, еще не отуманенною вполне московской жизнию, головой, — отчего, говорю я, чем-то странным повеет на вас от этого ума и от этих важных вопросов, которых вы наслушаетесь? — ведь вопросы эти в самом деле очень важны? ведь сочувствие к ним — величайший признак развития?.. Но что до них, бьет полночь — а сегодня театральный маскарад, и вы как порядочный зевака любите, разумеется, толкаться с своею хандрою везде, где только она может получить пищу. — Ну, вот вы и там, вы ходите между масок и домино, но в числе этих домино тщетно будете вы искать хоть один волнообразный стан, хоть одну алебастровую ручку, которые грезились вам в цельное окно хорошенького домика; под этими масками не увидите вы живых и быстрых глазок, которые подернуты были влагою беспредметного нетерпения; куда же стремилось это нетерпение… никуда, о, верьте, никуда: оно родилось и замерло в семейном кружке; оно не помчалось сюда, легкое и воздушное, как сильф; оно тихо заснуло на своем одиноком девственном ложе — и Бог его ведает, что ему грезится теперь, этому юному нетерпению. Что до него?.. а между тем вас объяла опять цыганская вакханалия с томительно-нежною песней — «Полюби меня, душа девица!» — что до него?.. а между тем вся душа так и рвется на простор, так и ищет цели, любви, жизни… Кругом вас пошлые физиономии, бесстрастно-продажные ласки и бессмысленный кутеж… И снова мчат вас сани по пустынным улицам, и снова утомленному взгляду вашему хотелось бы успокоиться на кроткой семейной картине, на девственном образе — но все тихо, все тихо… изредка только, быть может, в одиноком покое девочки брезжит лампада перед ликом Пречистой Девы.
Иная, совсем иная ночь в городе, который называют головой России…
Вы отобедали (обыкновенно очень плохо); вас, разумеется, тоже выгнало что-то из дому, но это что-то не хандра русского человека, не бесконечная жажда жизни, не беспредметная любовь — нет, просто пошлая, бесстрастная скука, просто врожденное во всяком истом петербургце отвращение от домашнего очага. Да и какой, в самом деле, это очаг? Этот очаг просто-напросто, как известно моим читателям-варягам, — комната со столом и прислугою, изобретенье, нарочно придуманное для кочевья… Вы оставили ваше кочевье и пошли туда, куда имеете привычку ходить ежедневно, — в один из кафе-ресторанов Невского проспекта. Вы там, вы закрыли свою физиономию огромным листом «Дебатов» или «Прессы»
{272}, вы погрузились в речь Гизо — и прекрасно! Разумеется, что вы, в своей совести, сами смеетесь над своим участием к вопросам, отстоящим от вас на тысячу миль пространства, — ведь пьют же турки опиум; вредно, может быть, да хорошо! грезишь себе да грезишь, грезишь до тех пор, пока пройдет состояние организма, бывающее обыкновенно после обеда, грезишь, пока не проснется жажда какой-нибудь деятельности… но какой же, какой? — деятельность ваша, даже и деятельность своекорыстия, деятельность наслаждения так определенна, так размерена, — деятельность в пользу других (не забудьте, почтеннейший читатель, что я употребляю выражения, которыми вы сами любите себя обманывать), эта деятельность еще определеннее, она кончилась в четыре часа… перед вами реестр ваших наслаждений — перед вами Мартынов, Плесси
{273} и итальянцы
{274}. Куда-нибудь — не все ли равно?.. И вот вы хоть в Александрии, и даровитый Мартынов
{275} заставит вас смеяться, хоть бы вы были скучнее осеннего петербургского вечера, — но что-то натянутое есть в вашем смехе, — и вот вы в Михайловском, и перед вами чудная артистка, великолепная Дона Флоринда — кого не расшевелит ее страстный шепот, ее то медленная, то сыплющаяся искрами речь… Но отчего на всех этих окружающих вас физиономиях написан какой-то заказной восторг, какое-то недоверие к возможности и разумности наслаждения, отчего самое наслаждение давит вас самих зевотой пресыщения? Отчего, отчего? Тяжелый вопрос — мимо его! Вы вышли из театра… тяжело как-то давят вас громады зданий с их великолепным лицом, с их черными боками; они сами, эти здания, как-то тяготеют к болотистой почве, они как-то и освещены скудно, несообразно с своею величиною — да и зачем освещаться чему-нибудь в этих зданиях, кроме магазинов и кондитерских, — семейства прячутся как будто вовнутрь дворов; они не приглашают радушно к своему самовару, а если и приглашают, то приглашают церемонно, с известною целию. Скучно вам! только в верхних этажах виден подозрительно-гостеприимный свет; скучно вам, но не жаждою иной, лучшей жизни отзывается эта скука… где ее взять, этой иной, родственной вам сферы жизни; а негде взять, так и делать нечего… Идите себе перекинуть пульку или два преферанса, чтобы окончательно уходиться за таким полезным занятием, — ну а если ваша натура не уходится и от этого, вас ждет еще ряд наслаждений — сегодня одна почтенная дама зовет целый Петербург в свое танцевальное собрание. Вы там: в ушах ваших дребезжат польки с тамтамами и без тамтамов, польки-мазурки, и две-три пары неистовствуют под их звуки, для удовольствия господ зевающих и господ, вымещающих удаль на бутылках шампанского. Чего же вам?.. жизнь, кажется, полная — кудри вьются по плечам, — завитые, разумеется, Домергом или Видалем, — щеки горят — magasin cosmetique снабжает отличным румянцем, — движения прилично неистовы, — но из-под длинных платьев глядят немецкие ноги, но глаза не горят на этих рыбьих физиономиях, — и становится вам неприятно — но цель ваша достигнута, вы утомлены и спите…
Да не подумают читатели, что в
наших беглых впечатлениях преднамеренно очерк московского вечера и московской ночи как-то если не представляет более жизни, то, по крайней мере, хоть говорит о жажде жизни… Прежде всего, это только впечатление, это только вид издали — приближтесь-ка, попробуйте, к каждому явлению в особенности, хотя к семейному началу, которого присутствие так ярко в Москве везде и повсюду… посмотрю я тогда, что вы скажете, — это семейное радушие, эти обеды — знаете ли, что при случае, пожалуй, хлебосол вам припомнится… Эти живые глазки, подернутые влагой, они, может быть, состоят непосредственно на ловле мужа — ибо ни в ком столько, как в московской барышне, ловля мужа не перешла в тело и кровь, — с ней опасно говорить, с московской барышней; ибо, если она уж говорит с вами… Но я не обязан объяснять вам, что это значит, — я передаю вам только беглые, летучие впечатления кочующего варяга. Зачем рыться далеко вглубь, зачем некстати возобновлять последний монолог Чацкого?
{276}
Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах{277}
I
Едва я дал слово редактору «Сына отечества» принять на себя обязанность извещать многочисленных читателей его журнала о современных явлениях нашей словесности и (наипаче) нашей журналистики, плодящейся и множащейся у нас не по годам и месяцам, а по дням и по часам, — едва я дал такое слово, как уже почувствовал и страх, и нечто похожее на раскаяние и угрызения совести. Есть ли возможность, — подумал я невольно, — в сжатых, но между тем в возможно полных очерках, — еженедельно и непременно к сроку, — непременно к середе, роковой середе («не позже середы» — гласило редакторское распоряжение), — представлять все разнообразное движение разнообразной нашей письменности?.. Потому что, во всяком случае, приходилось литературу принять в широком смысле, в смысле письменности, — иначе грозила опасность попасть в другое, тоже крайне неприятное положение. Попробуй-ка посмотреть на литературу, как на искусство, — за недостатком материалов в два, в три месяца раз напишешь статью. Статья выйдет, пожалуй, и широковещательная, пожалуй, и серьезная, да читатели не будут довольны и, надо сказать правду, — по всей справедливости не будут довольны. Они хотят отчета о современном движении умственном и нравственном, а я их буду угощать только тем, что мне лично нравится, меня лично занимает или шевелит, во мне пробуждает умственную и душевную работу.
В крайне колеблющемся, гамлетическом состоянии духа пришел я к приятелю моему, Ивану Ивановичу.
Но ведь никто не обязан знать: кто такой Иван Иванович?.. Положим, что с его любезною мне личностью уже знакомил я читателя… но увы! читателей другого журнала
{278}, но увы! так давно… в начале прошлого года: а бытие рассказа, почиющего в журнале, — если рассказ не выдается резко из ряда других, — похоже на бытие шекспировских сильфов «Сна в летнюю ночь», для которых треть минуты служит единицею измерения времени… но еще более увы! рассказ был только началом без продолжения; стало быть, — и та небольшая доля силы, которая была в нем, — если только была, — парализована.
А между тем мне необходимо познакомить читателей с моим Иваном Ивановичем. Он разрешил — как разрешал часто и прежде — все мои недоумения, разрешил, сам о том не думая, разрешил не мудрыми советами, а просто собственною своею особою…
Приходится прибегнуть к простейшему средству показать читателям Ивана Ивановича только с тех сторон, которые нужны для начатого мною дела.
Иван Иванович — мой старый знакомец, знакомец с детских лет. Мы чуть что не родились вместе — а росли так уж истинно вместе. Мы с ним и потом, выйдя из отроческих лет, живали полосами — и довольно частыми полосами — общею жизнию. Временами — и довольно надолго — я терял его из виду: случалось мне даже думать, что я навсегда потерял его из виду, — и вдруг он совершенно неожиданно возник передо мною, вечно тот же, вечный и последний романтик…
В 1858 году, в октябре месяце, я расстался с ним в Берлине
{279}, где встретил его точно так же неожиданно, как и всегда… Возвращаясь в любезное отечество, я покидал его там в положении, весьма похожем на положение тургеневского Рудина в эпилоге этой повести, — в положении, которому помочь никак не мог, к крайнему моему прискорбию: покидал больного, желчного, хандрящего, витающего по земле, — да еще вдобавок по чужой земле, да еще, кроме того, по немецкой земле, без средств и без дели, и в январе 1859 года опять увидал его в Петербурге… живого, здорового и по-старому —
прожигающего жизнь. Да! я решительно убежден, что над Хлобуевыми, — ибо мой Иван Иванович столько же Хлобуев
{280}, сколько Рудин
{281} и Веретьев
{282},— что над Хлобуевыми, говорю я, носится какая-то особенная, хранящая их сила…
Не стану описывать вам — даже и вкратце — похождений Ивана Иваныча в Петербурге. Вся жизнь этого странного господина сплетена из романтических историй: на ловца ли зверь бежит, сам ли он создает вокруг себя эти истории, но только это не так… До этой чисто жизненной стороны его личности читателям в настоящую минуту нет, впрочем, никакого дела, ибо она к предмету не относится.
Я люблю Ивана Ивановича в особенности за самостоятельность его ума, за ту полную самостоятельность, которой я не встречал ни в ком, кроме его, изо всех моих знакомых.
Самостоятельность эта, — если хотите, — капризна; в ней, кроме того, проглядывает подчас какая-то для нас всех, более или менее добрых и честных мещан или напрягающих себя на ярый фанатизм теоретиков, — страшная отрешенность от множества положений, признаваемых за непоколебимые. Один общий наш с Иваном Ивановичем приятель серьезно упрекал не раз при мне Ивана Ивановича в положительном отсутствии того, что на языке обыкновенных смертных зовется нравственностью и что Иван Иванович зовет
индравственностью. Тот же самый весьма остроумный общий наш с Иваном Ивановичем приятель шутя, но сознательно говаривал часто, что у хороших людей зовется угрызениями совести, у Ивана Ивановича носит романтическое название хандры; он, пожалуй, и прав, наш общий приятель, — но за что же он любит Ивана Ивановича… если уже, впрочем, не разлюбил? За что я его люблю — я это очень хорошо знаю и не обинуясь отвечу: за особую складку его ума и за его искренность во всем, в дурном и хорошем. Еще я люблю его за то, что он вовсе не теоретик, а человек жизни, что ему под сорок, а он все еще, даже до сих пор, — вера в жизнь и жажда жизни, что под этим словом «жизнь» разумеет он не слепое веяние минуты, а великую, неистощающуюся, всегда единую тайну… Некоторого рода трансцендентализм — роднит нас с Иваном Ивановичем, хотя я никогда не могу идти так смело и так последовательно по пути этого трансцендентализма, как мой приятель… ни в жизни, ни в мысли, когда дело дойдет до приложений мысли к явлениям — каким бы то ни было, — хотя бы даже литературным.
Иван Иванович сам не окунулся в литературу, хотя пишет стихи по старой памяти. Стихи его — это какие-то клочки живого мяса, вырванного прямо с кровью из живого тела. Право! лучше сравнения я не нахожу, и потому они имеют значение только для тех, кто знает жизнь Ивана Ивановича, стало быть, для очень немногих, да и этим немногим известны только полосы жизни, а не вся жизнь Ивана Ивановича. Природа вообще, кажется, собиралась создать из Ивана Иваныча артиста, но почему-то не докончила своего зачинания. Чтоб быть артистом, Ивану Ивановичу нужно было сосредоточиться в самого себя, а он любил всегда лучше переживать жизнь в жизни, чем, переживая и перерабатывая ее в сознании, передавать в письме, образе или звуке…
Вообще странный и оригинальный субъект мой Иван Иванович, оригинальный, впрочем, как хаос, а не как стройное явление. Столь упорной воли с величайшей бесхарактерностью, горячей веры с безобразным цинизмом, искренних убеждений с отсутствием всяких прочных основ в жизни… право, я не умею иначе назвать, как хаосом, моего последнего романтика… Да и
последний ли он, вот что часто приходило и приходит мне в голову…
Но об этом речь еще, может быть, впереди.
Дело в том, что к этому самому Ивану Ивановичу направился я из редакции «Сына отечества» — в вышеупомянутом мною тревожном состоянии духа.
Иван Иванович живет довольно далеко от места, где помещается редакция «Сына отечества». Он вообще не любит Петербурга, хоть и живет в нем теперь, хоть и проживет, может быть, долго, — и в самом Петербурге основался в такой стороне его, которая лежит к Москве или «тянет» к Москве, употребляя выражение наших старинных юридических актов. «Все как будто к Москве ближе», — говорит он с улыбкою тем, которые жалуются на дальность расстояния его Гончарной улицы. В сущности, впрочем, не одна привязанность к Москве и вражда к Петербургу причиною тому, что он предпочитает Гончарную улицу другим улицам Петербурга. Стоит он в нумерах
{283} и, несмотря на то, что платит втридорога, простоит в них, вероятно, долго. Почему именно — я когда-нибудь расскажу в подробности читателям, если они найдут интерес в знакомстве с моим героем. Покамест скажу только то, что номера эти, содержимые каким-то новгородским мещанином, дышат невероятным безобразием, а Иван Иванович может с таким же правом сказать: «я люблю безобразие, господа!», как Тарас Скотинин говорил: «я люблю свиней, сестрица!»
{284}
Когда я вошел, меня встретил почтенный хозяин Ивана Ивановича, с красными, вероятно от постоянной чувствительности, глазами, и с каким-то чухонским шепелянием в языке напевал, сидя на диване и царапая большим пальцем по струнам отличной гитары Ивана Ивановича:
Не годится
Так стыдиться
В любви, в любви нам нет стыда,—
сильно ударяя на окончания возвратных голосов и давая их чувствовать — что вот-де они какие… Иван Иванович стоял у окна спиною к дверям и смотрел… Вероятно, на каланчу Каретной части, ибо не на что более смотреть на Гончарной улице. Заслышав мои шаги, он оборотился, Демьян Арсентьев тоже встрепенулся, бросил гитару и, по своему любезному расположению ко всегдашней чувствительности, умиленно осклабился, здороваясь со мной, и с какой-то осторожностью стал складывать мое пальто и бережно класть его на стул, как будто боясь, чтобы оно не ушиблось…
— Что вы это, Демьян Арсентьевич, пели? — спросил я после обычных здорований с ним и с Иваном Ивановичем.
Демьян Арсентьич, вместо ответа, опять умиленно осклабился, непосредственно затем подошел к столу-косячку, стоявшему в переднем углу, бережно приподнял стоявший на нем графин, налил содержавшегося в нем в рюмку — причем я заметил в руках его некоторое дрожание — и, поднося мне, произнес лаконически:
— Водочки-с!
На отрицание мое он только покачал головою с добродушнейшим сожалением — и выпил сам. Процессом этого выпивания им водки мы всегда наслаждаемся с Иваном Ивановичем. Горло, что ли, у него так устроено или другое что, только водка не проходит к нему прямо во внутренность; предварительно она им еще смакуется и бурчит у него во рту.
— Вы говорите, что он пел? — отвечал Иван Иванович. — Известно что: не годится… как, Демьян Арсентьич?..
Демьян Арсентьич крякнул, сел на диван и опять стал бряцать на гитаре…
— Правду говаривал мне мой приятель Д., — продолжал Иван Иванович, — про семиструнную гитару, что она отличный инструмент на купеческих свадьбах: как ни ударь — все аккорд выходит. Вот послушайте, Демьян Арсентьев под один и тот же аккорд выкликает голосами разными.
— Что это вы нынче злобитесь на свою приятельницу? — заметил я. — Вы вообще что-то
выглядите злобно.
Я нарочно употребил слово
выглядите, чтобы подразнить Ивана Ивановича, который терпеть его не может, — но на этот раз он не обратил ни малейшего внимания на неприятный ему термин.
— Кто? я нынче злобен? — ответил он. — Я злобен? — и Иван Иванович подошел ко мне очень близко. — Да я нынче, напротив, доволен, бог знает как доволен, — продолжал он, — всем доволен, решительно всем, бряцаньем Демьяна Арсентьевича и каланчою Каретной части… Со мною редко бывает, что было сегодня, — по крайней мере, давно этого не бывало.
— Что, что такое? — спросил я с невольным любопытством, зная, что в самом деле многое нужно для того, чтобы
совсем расшевелить Ивана Ивановича, хотя и очень немногое и очень неважное может расшевелить его наполовину, — привыкши верить в его искренность и, стало быть, верить ему на слово, привыкши дорожить в нем теми минутами, когда он вполне доволен или чересчур недоволен.
— Что я? — сказал Иван Иванович. — А вот что!..
Он схватил со стола-косячка лежавшую на нем книгу, я даже не успел и взглянуть, какая это книга, сел на диван подле продолжавшего неумолчно бряцать Демьяна Арсентьевича, положил книгу на сафьянную подушку и начал читать своим лучшим и редким, именно тихим и вместе страстным топом:
Осень землю золотом одела,
Холодея, лето уходило,
И земле, сквозь слезы, улыбаясь,
На прощанье тихо говорило.
Я уйду — ты скоро позабудешь
Эти ленты и цветные платья,
Эти астры, эти изумруды
И мои горячие объятья.
Я уйду — роскошная смуглянка,
И к тебе на выстывшее ложе
Низойдет любовница другая
И свежей, и лучше, и моложе.
У нее алмазы в ожерелье,
Платье бело и синеет льдами,
Щеки бледны, очи неподвижны,
Волоса опушены снегами.
О, мой друг! оставь ее спокойно
Жать тебя холодною рукою!
Я вернусь, согрею наше ложе,
Утомлю и утомлюсь с тобою.
Иван Иванович сел ко мне боком, читая эти стихи и весь искренно отдаваясь им. Когда он оборотился, лицо его горело. Демьян Арсентьев, во время чтения оставивший бряцание на гитаре, по окончании промолвил только:
— Э! отец!.. Вот у меня какой отец — истинно отец! Денег надо? к кому? к отцу… Ну и даст.
Затем он направился к столу-косячку. Прочитанные стихи действительно поразили меня.
— Что? — начал Иван Иванович, вперяя в меня тихий и мягкий взгляд. — Понимаете ли вы, — и взгляд его мгновенно оживился, — понимаете ли вы, — продолжал он, — что струею свежего, совсем свежего воздуха брызнули на меня эти стихи…
Я еще несколько не доверял своему впечатлению, относя долю его к глубоко симпатическому чтению моего приятеля. Я взял у него из рук книгу, прочел стихи молча: впечатление то же.
— Несколько капризно! — заметил я. — Вредит, если вы хотите, еще то, что лето у нас среднего рода, а зима женского, — как вредит, пожалуй, лермонтовской переделке известного гейневского стихотворения то, что сосна и пальма женского рода
{285}. Но действительно свежо, оригинально — и обаятельно…
— Ну и капризность-то самая, — прервал меня Иван Иванович с тем же одушевлением, — похожа ли на чью-нибудь чужую капризность? хотя бы, например, на фетовскую?.. А вот на это что вы скажете, послушайте-ка.
И Иван Иванович прочел из той же книги, особенно рельефно выдавая некоторые стихи:
Над озером тихим и сонным,
Прозрачен, игрив и певуч,
Сливается с камней на камни
Холодный железистый ключ.
Над ним молодой гладиатор,
Он ранен в тяжелом бою,
Он силится брызнуть водою
В глубокую рану свою.
Как только затеплятся звезды
И ночь величаво сойдет,
Выходят на землю туманы,
Выходит наяда из вод.
И к статуе грудь прижимая,
Косою ей плечи обвив,
Томится она и вздыхает,
Глубокие очи закрыв..
И видят полночные звезды,
Как просит она у него
Ответа, лобзанья и чувства
И как обнимает его.
И видят полночные звезды
И шепчут двурогой луне,
Как холоден с ней гладиатор
В своем заколдованном сне.
И долго два чудные тела
Белеют над спящей водой…
Лежит неподвижная полночь,
Сверкая алмазной росой.
Сияет торжественно небо,
На землю туманы ползут,
И слышно, как мхи прорастают,
Как сонные травы цветут.
Под утро уходит наяда,
Печальна, бела и бледна,
И, в сонные волны спускаясь,
Глубоко вздыхает она.
{286}
— Знаете ли что, давно не изведанное физическое чувство испытывал я, читая эти могучие, стальные стихи… Да! стальные, — ораторствовал друг мой, уже вставши, — блестящие, как сталь, гибкие, как сталь, с лезвием, как сталь… У меня от затылка вдоль по спинному хребту бегали мурашки от множества отдельных стихов и образов — и в жар бросило от целого… Да! Это — сталь, чистая сталь! Пожалуй, господам, избалованным современными
поэзиями, покажутся вещи молодого поэта и холодны, как сталь… Уж я даже слышал от одной барыни — большой любительницы стихотворений Некрасова да от одного господина, приходящего в неистовый восторг от всякого напряжения, что в стихах г. Случевского чувства мало… И слава богу, что
чувствий у него нет: чувствия дешевы; страсть у него есть — без страсти эдакого образа, как наяду с гладиатором, не выдумаешь. Этот господин идёт в творчестве не от
чувствий и даже не от мыслей и впечатлений, а прямо от образов, ярко предстающих его душе, захватывающих ее. Черт ли в них, в
чувствиях? Вон у меня их очень много — девать некуда. Нет, я вам говорю, тут сразу является — поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт, — стремительно заключил Иван Иваныч, а потом, немного отдохнув и проведя рукою по лбу, добавил: — а коли уж на кого похожий — так на Лермонтова.
Я был положительно ошеломлен таким заключением; но прежде чем рассказывать дальнейшую мою беседу с Иваном Ивановичем, должен сделать объяснительное отступление.
Горячее увлечение Ивана Ивановича в особенности изумило меня потому, что относительно поэзии Иван Иваныч судья необыкновенно строгий, даже своеобычливый и капризный. У него на это дело, как и на многое в жизни и в искусстве, совершенно особый взгляд. Лирики, говаривал он не раз, все равно что певцы. У одного большой и отлично обработанный голос, но ему петь нечего, и его песни — академическое показывание сил или этюды. У другого — голос небольшой, но в этом голосе есть глубоко симпатические ноты, и что он поет, то чувствует, и потому его однообразные звуки действуют на слушателей сильно, если не всегда, то, по крайней мере, в известные минуты. Так пел покойный Варламов
{287}. Чем он пел, особенно в последние годы его жизни, — неизвестно, но пел, и глубоко западали в душу его песни: так — поет в стихах Огарев. Есть, наконец, певцы, у которых голос не обширен, но симпатичен и выработал себе особенную манеру, часто причудливую, капризную, но обаятельную, — Полонский, Фет… Взгляд, как вы видите, странный, но имеющий довольно оснований. Иван Иваныч
любит из наших поэтов весьма немногих, кроме Пушкина и Лермонтова, а именно: Тютчева, Фета, Огарева и Полонского, и хотя отдает полную справедливость высокому дарованию Майкова и недавно еще любовался удивительною сменою ярких и колоритных картин Констанцского собора
{288} и назвал Майкова за эту прекрасную вещь Веронезом, — но говорит, что Майков по натуре более живописец, чем певец, что живопись увлекает его в вечную погоню за частностями. В Мее он видит какую-то большую, неустановившуюся силу, какой-то огромный запас средств, расточаемых часто понапрасну, но — большая честь Ивану Ивановичу — он ценит, как немногие, блестящие стороны Мея и был весьма оскорблен статьею, появившеюся в одном из новых журналов, в которой о недостатке внутреннего содержания в поэзии Мея говорилось на двух печатных листах, а о новости его существенных достоинств, о его способности доводить русскую речь до типичности, как в некоторых местах «Ульяны Вяземской» и других произведениях, — одним словом, о Мее как о большом человеке в деле поэтического языка вообще, поэтически-народного в особенности, в деле воспроизведения народных типов — <на> одной страничке
{289}. Иван Иванович, помню, выразился об авторе этой странной критической статьи народною поговоркою:
не рука Макару корову доить. Что касается до одного из главных корифеев нашей современной поэзии, до г. Некрасова, то мнение Ивана Ивановича в этом случае так странно, что, приводя его, я боюсь окончательно скомпрометировать моего героя в глазах читателей и в особенности читательниц, вероятно знающих наизусть превосходные стихотворения о Ваньке ражем и о купце, у коего украден был калач
{290}. Иван Иванович говорит странные вещи: Некрасов, по его мнению, замечательный, может быть, по задаткам натуры высокий поэт, но стихотворения его не поэзия: в них (по мнению Ивана Ивановича) носится, видимо, какая-то сила, по сила эта извращена и напряжена… Если слушать Ивана Ивановича, то г. Некрасов так-де убивает эстетическое чувство в увлекающихся им юношах и женщинах, как г. — бов
{291} убивает в своих последователях мыслящую способность. Пытался я обо всех этих пунктах спорить с моим романтиком, но его не переспоришь! А между тем он уже раз чуть не со слезами читал:
Умолкни, муза мести и печали…
Я сон чужой тревожить не хочу.
Довольно мы с тобою проклинали,
Один я умираю и молчу.
{292}
Он же без волнения не может прочесть:
Еду ли ночью по улице темной.
{293}
Хотя вместе с тем говорит не обинуясь, что исход этого стихотворения есть клевета на русскую жизнь и клевета на человеческую душу, что этот исход не общерусский, типический, а результат желчи и морального раздражения поэта… Напрасно многие весьма образованные госпожи читали ему эти стихи, закатывая глаза под лоб, с пафосом, с
заскоком, употребляя его технический термин! Иван Иванович оставался и остается до сих пор при своем. Он раз пришел в истинный ужас, когда одна очень современная и развитая барыня, желая показать «в лучшем виде» — как говорят сидельцы про товар — необычайные способности своего восьмилетнего Петруши, или Пьерчика, заставила его прочесть перед Иваном Ивановичем с толком и чувством:
У бурмистра Власа бабушка Ненила.
{294}
А когда я упрекнул его по этому поводу в моральном мещанстве — он расхохотался и объяснил мне, что он смотрит на дело не с нравственной точки зрения, а с эстетической, что самое стихотворение в нравственном смысле и обще-правильно и обще-чисто, но что Пушкин, а не Некрасов должен провожать русского человека в жизнь от колыбели до могилы, — на этом мы тогда и помирились: он ловко тронул мою чувствительную струну, мое религиозное поклонение величайшему представителю русской физиономии…
Ясно, что в Иване Ивановиче — столь своеобычливом в оценке современного лиризма — чрезмерное увлечение стихами, хотя и прекрасными, хотя и действительно вполне поэтическими, но, во всяком случае, только что появившимися в «Современнике» с подписью имени совершенно неизвестного, — меня изумило, а открытое им сходство молодого поэта с Лермонтовым — ошеломило окончательно.
— Как на Лермонтова! — заметил я почти что с ужасом на его речь.
— Да, на Лермонтова, — отвечал, нимало не смущаясь, мой последний романтик. — На Лермонтова, — повторил он, — да только по силе, по
стали мысли, образов и стиха, но это и не Лермонтов, а это, говоря словами Лермонтова,—
Другой,
Еще не ведомый избранник.
{295}
Да-с! Говорю вам это прямо. Тут размах силы таков, что из его, вследствие случайных обстоятельств, или ровно ничего не будет, или уж если будет, то что-нибудь большое будет. Да-с! Это не просто высокодаровитый лирик, как Фет, Полонский, Майков, Мей, это даже не великий, но замкнутый в своем одиноком религиозном миросозерцании поэт, как Тютчев… Это сила, сударь мой, это сила идет, новая, молодая сила. Она может разлететься прахом или создать новый мир, прекрасный мир, самобытный мир, что-нибудь из двух — среднего быть не может…
Я смотрел во все глаза на Ивана Ивановича. Он был совершенно в здравом уме и твердой памяти, — но нервы на его висках напряглись, глаза сверкали, движения были судорожны. Таков он был после третьего акта «Отелло», когда мы с ним видели великого Сальвини…
{296} Таков он был еще в одну минуту, по поводу воспоминания о которой я опять ударюсь в маленькое отступление.
Это было в славном городе Флоренске вскоре после того, как мы с ним видели Сальвини в «Отелло»… Вставши рано в одно прекрасное — это здесь говорится не для красоты слога — утро и налюбовавшись вдоволь молоденькою свеженькою зеленью в Кашинах, я побрел пить чай к Ивану Ивановичу. Он жил в это время на площади Santa Maria Novella в camere ammobiliate
[98] которые содержала огнеокая синьора Джузеппина, — та самая, которая сказала нам о Сальвини: amarlo un giorno e poi morir
[99], с которой мой романтик как-то потом сошелся, встретившись с ней в Prato, куда мы с ним поехали смотреть католическую церемонию il volo d'asino
[100], и которую он убедил еще гораздо лучше полюбить его на несколько дней и жить весело, чем Сальвини один день и умереть. Мне была страшная потребность видеть его в это утро. Накануне мы с ним читали «старую, вечно юную песню» — песню об Одиссее и из ее «морем шумящих страниц» черпали жизнь и упоение. Иван Иванович был в этот вечер решительно «богоравным мужем»
{297}, он наглядно, очевидно показывал, как Гомер выпускает перед слушателями статую за статуею, то колоссальные изваяния, то легкие и светлые, — и какой-то ряд античных мраморных изваяний с незряще-зрящими сынами окружил нас — а через три дня назначен был нам с ним отъезд в вечный, как Одиссея, Рим: и нам было хорошо, и рады мы были и Одиссее и тому, что увидим вечный Рим, и тому даже, что огнеокая синьора Джузеппина лепетала контральтным тембром без толку и без умолку.
Ивана Ивановича застал я в то утро лежащим на софе у открытого окна и вдыхавшим в себя яркое итальянское утро. Едва я вошел, как он закричал мне: «А какой я нынче сон видел, caro amico!»
[101] — и пустился рассказывать свой сон так поэтически, как мне не передать. Ему привиделось, что явился поэт давно-жданный, давно-желанный, — и поэт был на какой-то высокой башне в странной, фантастической одежде, — и что подходил он к нему уже не как к простому смертному и смотрел на него не как на простого смертного. И полились, рассказывал он, звуки, какие он не знает, но звуки, звуки то восторгающие, то томящие, то пылающие… Глаза его горели тогда таким же точно блеском, как в передаваемую мною ныне беседу… И как тогда, так и теперь я не прерывал, я слушал Ивана Ивановича, хотя, конечно, ни он, ни я не воображали, что явился именно такой поэт, какой пригрезился ему во сне.
— Слушайте, — продолжал он, опять взявши «Современник», — вы, неверующий или раз усумнившийся верить с тех пор, как вас пощипали за
новое слово Островского
{298}. Слушайте. — И он прочел мне остальные стихотворения г. Случевского.
— Только ведь всего шесть стихотворений, — сказал он, кончивши чтение, — но их довольно. Тут есть все: и настоящая страстность, и умение рисовать намеками и широкими чертами, как в «Весталке», — и простота приема, простирающегося до дерзости, как в этом наивном сопоставлении жизни живых с жизнию мертвеца, скребущего землю и грызущего корни, — и фантастическое, как в «Вздохах»
{299}, и, наконец, глубокий юмор, как в этом ветре, который
ходит избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом сыплет калачи
Ведь эта последняя пьеска — ведь это просто шалость, по какая смелая, свободная и размашистая по приему и глубокая по цельному чувству шалость! Так шалят только люди с огромными силами… А эти вздохи, собирающиеся
С горящего сном молодого лица,
С остынувших щек старика-мертвеца,
{301}
эти вздохи — сильфы, которые
Венцы отливают в холодном свету.
В этой вещи фетовское сливается с тютчевским и образует нечто совершенно особое. Тут есть, пожалуй, своего рода капризность, своевольство, но капризность прелестная и своевольство могучее…
Тут раздается звонок, и вслед за ним в комнату ввалились трое господ, из которых двое вели одного под руки.
Я схватился поскорее за шапку, наскоро простился и пустился домой, оставив Ивана Иваныча в
жертву вечернюю — постоянным и неутомимым товарищам его загулов.
Дома я успел пробежать многое в «Современнике» и в особенности остановился на поэтической, задушевно-глубокой статье Тургенева: «Гамлет и Дон-Кихот». Господа! Нам долго не нажить такого симпатического писателя, как Тургенев, писателя, который бы так искренно вкладывал всю свою душу в каждое свое произведение…
А потом я опять перечел стихи г. Случевского и…
Я ведь каюсь в этом публично — я почти согласен с Иваном Ивановичем, т. е. согласен с ним в том, что является новая
сила, а какой ей будет исход — не возьму на себя дерзости решать заранее. Видимое дело только, что это —
сила. Силе же и подобающий почет
{302}, потому что она — божье дело, а не человеческое.
II
Но я должен рассказать читателям, как Иван Иванович воротился в отечество после трех лет странствований по иностранным государствам, и как он поселился в нумерах Демьяна Арсентьева, и что такое именно эти нумера, и почему мой эксцентрический приятель избрал их своим постоянным местопребыванием или, лучше сказать, почему он никак не может расстаться с этими нумерами.
Как я имел уже честь объявить в прошлый раз, я покинул в октябре месяце предпрошлого 1858 года моего романтика в Берлине, в крайне странном положении.
{303} Стоял он во граде Берлине на Kurstrasse, близехонько от известной церкви, построенной учеными немцами в подражание готическому стилю и делающей неприятный эффект плохой декорации или вообще всего, сочиненного нарочно, — в отеле «Красного орла» и был там уже с месяц кругом должен, потому что в Париже допил, как Рудин, последний грош, а впрочем, жил как следует и как, по заветным преданиям, приличествует жить благородному российскому путешественнику, пользовался как кредитом в общем столе, так и почтением кельнера отеля, красивейшего и глупорылейшего брюнета, полагавшего, что Trinkgeld
[102] служит необманчивым признаком благосостояния кармана
высокого гостя, истреблял ежедневно немалое количество кисленького рейнвейну и ежедневно виделся с Fräulein Linchen, которая — несмотря на дальность расстояния (она жила на Besserstrasse) — прибывала «на своих на двоих», как говорится, с аккуратностью немки, в три часа пополудни в общий стол отеля и разделяла с Иваном Ивановичем обычную трапезу общего стола, состоявшую из блюд, приправленных самыми неестественными украшениями — и сочиненными немцами так же нарочно, как вымышленная мною декорация, — украшениями вроде сладкояблочного соуса к сосискам, и заключавшуюся всегда ломтиками нашего русского черного хлеба, вывезенного из-за моря и засушенного, с сквернейшего свойства сыром. Впрочем, Fräulein Linchen пожирала с большим удовольствием все нарочно сочиненные блюда трапезы, а Иван Иванович ел, как волк, — скоро, порывисто и выбирая только куски пожирней и побольше. Он не только не был гастрономом, но от всей души презирал гастрономию. Он и в ней был, как во всем, — романтик; есть жадно, есть много, есть до излишества — как, бывало, едал он на купеческих свадьбах и именинах — он нисколько не считал противным идеализму, убежденный, что всякое чисто естественное удовлетворение не противоречит духовному нашему бытию, — но возведение еды в науку, в утонченное и хитрое наслаждение, равно как и множество других успехов нашего века по части комфорта, — называл он постыдным служением маммоне. За это, как и за многое другое, его называли циником, но, в сущности, он циником не был, — белье его всегда было безукоризненно свежо и чисто, одевался он всегда хорошо, хотя несколько эксцентрично и обходясь со своим платьем, как запорожцы с их бархатными шароварами. Множество женщин даже любили в нем эту небрежность; вообще женщины, если они настоящие, простые женщины, любят не то, что приписывают им в любовь мужчины; они не считали даже моего приятеля циником, потому что знали его лучше и ближе нас, мужчин, — они, пожалуй, смеялись вместе с нами над небрежностью и странностью его костюма, но в смехе их часто отзывалось вот что: «ничего-то, мол, вы, господа, не знаете — совсем он не циник, и лучше вас, нисколько об этом не думая, знает, что к нему идет и что нет. Он только не цирюльная вывеска — да ведь цирюльные вывески правятся только дамам полусвета да неестественным госпожам, любящим развивать и
подымать до себя (техническое выражение) личности, которые они полагают стоящими на низшей против себя ступени развития». Так не только думали, так даже говаривали иные женщины, говоря со мной об Иване Ивановиче.
Но — к делу.
Fräulein Linchen — если вам сколько-нибудь интересно знать об этой, впрочем весьма обыкновенной, личности — была
словлена Иваном Ивановичем в присутствии моем и в присутствии другого моего приятеля, старого грешника
{304}, постоянно распаленного сладострастием и распалявшегося таковым даже при созерцании картин и статуй, потому что самое наслаждение изящным обратилось для него в духовное сладострастие, по казенному порядку в Тиргартене угощена сквернейшим глинтвейном и увезена на известном экипаже, именуемом Droschki, — к крайнему огорчению моего милейшего старого сатира, оставленного Иваном Ивановичем в очистительную жертву ужаснейшей
харите, непозволительной тому
рожру, — перезрелой сопутнице Fräulein Linchen, от которой милый сатир едва мог отделаться…
С этого вечера в Тиргартене Fräulein Linchen сделалась самым обычным явлением в номере гастгауза «Zum Rothen Adler»
[103] занимаемом Иваном Ивановичем, и, как истая немка, привязалась не к одним прусским талерам, — а к многим качествам Ивана Ивановича, соединяя с полезным приятное и делая так, чтобы и критическим целям было не противно и на schones Gefuhl
[104], на сладкое чувствие любви похоже… Как истая немка, она изливала свою душу в ласкательных прозвищах, как-то: «meine schöne Puppe»
[105] и других, расточаемых ею даже на отдельные части особы Ивана Ивановича, вроде руки, носа и проч.; Ивану Ивановичу таковые изъявления чувствий были ужасно противны, по ему нужно было присутствие женщины, а я не находил даже этого и противным, ибо как в немцах, так и в немках не видал никогда ничего естественного: стало быть, одной неестественностью больше, одной меньше — не все ли равно. На мои глаза, даже Fräulein Linchen во сто крат была сноснее парижской приятельницы моего приятеля, рыжей m-lle Henriette, от которой, кроме постоянных жалоб на portier
[106] ее квартиры, жалоб, излагаемых всегда в выражениях весьма энергических и даме не совершенно приличных, постоянных сплетен про какую-то m-lle Estelle, тревожившую ее своими успехами в château de fleurs
[107], да толков о доблестных качествах души доктора Риккора, почему-то особенно ей любезного, я ничего не слыхивал. А в ней, в этой худой, сухой сердцем, исполненной пошлейших претензий m-lle Henriette, Иван Иванович ухитрялся находить особенного рода грацию, змеиные свойства и проч. и проч.
Да что же это, наконец, такое? — может возопить гласом велиим редакция «Сына отечества». Я вас пригласила (так
она может сказать — абстракция, моральное лицо, называемое редакциею), — я вас, милостивый государь, пригласила обозревать еженедельно ход русской словесности, а наипаче российской журналистики, а вы пишете мне малоназидательные истории о вашем приятеле Иване Ивановиче, забывая, что я, редакция, — лицо моральное в двояком смысле. На это я могу ответить только, что, во-первых, я обязанности своей не забуду и в мраке забвения явлений русской словесности не оставлю, — только всякой вещи есть время под солнцем; и во-вторых, что рассказы мои получат со временем и достодолжную назидательность, хотя и в настоящем случае они в назидательности нисколько не уступают — уступая, конечно, во всем другом — рассказам Нового Поэта о Миннах Антоновнах
{305}, Александрах Васильевнах, Шарлоттах Карловнах и других госпожах, пользующихся повсеместной известностью и составляющих часто questions palpitantes
[108] фельетонов нисколько не подозрительного в отношении к нравственности журнала «Nord»
{306} — под рубрикой Russie, — насущный хлеб, несомненно, даровитого писателя, известного под именем Нового Поэта, частый предмет ювеналовской желчи или болезненной скорби г. Некрасова… Помилуйте! Почему же я один лишен буду сладкого права говорить о полусвете
{307}?.. Нет, нет! Anche io son pittore
[109] — я тоже современный человек… Положим, что я прежде вопиял на излишество занятий этим достолюбезным предметом, — это ничего, я повинуюсь веянию минуты, я современный человек, по крайней мере, хочу, во что бы то ни стало
хочу быть современным человеком. Что значит, что я прежде говорил другое? Я развиваюсь, я уже развился под влиянием блистательнейших примеров перемен мнений, подаваемых в наше время людьми, идущими вперед. Ведь напечатал же, например, «Современник», и напечатал с большим почетом, стихотворение г. Бенедиктова, над которым он нахальнейшим образом глумился тому назад год с небольшим
{308}. Вы скажете, что он глумился не над такими стихотворениями, какие напечатаны им в январской книжке. Нет, эта шутка стара, ее бросить пора, как говорит Любим Карпыч Торцов. Глумление, и самое неистовое, производилось над стихотворениями, писанными г. Бенедиктовым именно в таком духе, в каком писаны стихотворения его, напечатанные в январской книжке. А другой столь же блистательный пример перемены мнений, подаваемый этою же январской книжкою «Современника», — относительно вопроса «о происхождении Варягов — Руси». В апреле 1859 года, по поводу выхода книжки г. Васильева, глумление самое ядовитое насчет выводов происхождения Варягов — Руси из балтийского славянского поморья, а не из Скандинавии, — стояние за Шлецера самое ратоборственное. В январе 18(50 года появляется в январской книжке статья Н. И. Костомарова, и — ветер переменяется. Статья Н. И. Костомарова действительно превосходная: в ней покончено, кажется, дело с Скандинавией, по крайней мере сильно подорвано, но в ней есть и свой хвостик — спорный хвостик, именно: литовское происхождение Руси. И вот рецензенты «Современника», в той же самой книжке, в которой помещена статья Н. И. Костомарова, — уверовали в нее, как в несомненную истину, и глумление, подобное лаю, раздается на Погодина за то, что он выводит Русь из Скандинавии
{309}. Замечательная способность у «Современника»: быстро и пламенно уверовать. Да и один ли «Современник»? А
покаятельная статья
{310} 1-го № «Отечественных записок» об Островском? Положим, что статья написана серьезнейшим из наших критиков, непричастным к лаю на Островского, неумолчно раздававшемуся в «Отечественных записках» в продолжение нескольких лет, но ведь статья напечатана в этом журнале и в отношении к журналу является истинно
покаятельною… А надгробное слово, произносимое честно над «Русскою беседою» фельетоном «С.-Петербургских ведомостей»
{311},— может быть, впрочем, потому, что надгробное слово над честно и со славою павшим борцом, бесполезное ему, не вредит и никому из живых?.. Все таковые примеры, как хотите, ужасно соблазнительны. Вот и я развился, вот и я говорю, и говорю с сластью о том, о чем — по прежним моим понятиям — «нелеть есть человеку глаголати», — оттого, что и я развился, и я пошел вперед вместе с веком. «Ничего, можно!» — говорю я вместе с нашими журнальными Антипами Аптипычами Пузатовыми.
А давно ли думал иначе?.. Давно ли, неразвитый человек, писал я к друзьям издалека следующее… Вы позволите мне эту маленькую выдержку из памятной книжки моих странствований и так характеризующую мой тогдашний неразвитый и несовременный взгляд.
«Пароход тронулся… Скоро Петербург стал обращаться в страшную и безразличную массу строений… Помянуть мне его чем-нибудь хорошим в этот приезд было вовсе не за что — да и вообще, «как волка не корми, он все к лесу глядит»; та же история со всяким москвичом в отношении к Петербургу. Единственное впечатление, которое Петербург оставил во мне на этот раз, было вот какое. Ездил я, не помню уже куда, право: в Виллу Боргезе или к Излеру, — дело в том, что как в Вилле Боргезе, так и у Излера равно скучно и что в оба эти места печальных удовольствий ездят на пароходах… Итак, возвращался с которого-то из них: ночь была хоть и убийственно холодная (в июле!), даже морозная, больным глазам моим хоть и страшно вреден был дым пароходного топлива, который ветром относило прямо в мою сторону, — полусвет (demi-monde) петербургский, который в последнее время
сделался для литературы журнальной столь важен, что — поверить ей, так он есть уже существенная, а не наносная язва нашей общественной жизни, — полусвет, я говорю, и на гулянье и на пароходе действительно один метался в глаза… Все, одним словом, способно было породить желчную хандру, если она еще не родилась в душе, и значительно развить ее, уже родившуюся… А все-таки холодная ночь была прекрасна, и прекрасны были острова по Неве, и величава была сама Нева… Не знаю, что говорил полусвет, потому что я ушел от него на маленькую верхнюю палубу маленького парохода, но знаю, что сидевшие со мною весьма солидные господа рассуждали о производствах и повышениях, — разговор, может быть, и весьма назидательный, но мало соответствовавший фантастически-странной морозной июльской ночи… Мне думалось: как бы, кажется, не повеселиться людям от души, как иногда веселятся еще у нас в Москве, не повеселиться, пожалуй, хоть с загулом…
Много передумал я тогда. Уже самое то, что литература в наше время могла
упасть до того, чтобы как с действительно существующим врагом бороться с
полусветом, да и полно, бороться ли? — не скорее ли тешить и читателей и себя его изображениями под благопристойным и по-видимому благородным предлогом обличений, в сущности же, по несчастной, укоренившейся в душе привычке жить и дышать его приторным воздухом… Уже самый этот факт не принадлежит к числу весьма утешительных. А тут припомнилось еще и представилось с ясностью, что и другая сторона слишком загромоздила собою нашу мысль, что первый Гоголь в «Невском проспекте», с одной стороны, и в «Шинели», с другой, — поддался слишком желчному, хандрящему, болезненному чувству в отношении к тому, что есть не явление жизни, а только мираж ее, и что вслед за тем мы все более и более или менее поддаемся тому же… Все это именно в таком смутном, для меня самого еще не разъясненном виде пронеслось в эту ночь в моей душе, а больные глаза мои горели, и сердце как-то странно ныло. Да, с недобрыми впечатлениями покидал я Петербург, с впечатлениями, похожими на зловредный дым каменного угля.
А Петербург, пока поверял я свои впечатления этого приезда, уже исчез из моих глаз, и вдали, как темное пятно, начал показываться Кронштадт, Поверял же я впечатления по той простой причине, что иного решительно мне было нечего делать. И на пароходе, по крайней мере до Кронштадта, — перед глазами моими мелькал все тот же полусвет».
Вот что я писал тому назад не очень давно, если мерить время по-старому, и ужасно давно, если мерить его
развитием «Современника».
Как оскорблялся я, старый юноша, уже бывши и за границей, прекрасными фельетонами «Норда»
{312}, этого благодетеля нашего, этого великодушного журнала, удостаивающего заниматься медвежьею нашею жизнью, — фельетонами, повествовавшими о цветах нашей юной образованности, о судьбах и приключениях героев и героинь полусвета… Мне же, неблагодарному, эти цветы еще казались клеветой на нашу
земскую жизнь, клеветой на великий и свежий силами народ, у которого — думал я тогда — есть широкая гульба…
До поры,
До утренней до зари,
Гульба по душе, гульба
Весеннюю ночку, весь денечек,
Осеннюю ночку до светочку…
которого женщина скажет иную пору:
Меня молоду домой свекор кличет,
Уж ты кличь не кличь, я домой не буду,
Буду ль, нет ли, я завтра поутру…
но который мало понимает утонченную прелесть «мраморных дев», — пожалуй, в порывах своего разгула, своей душевной макарьевской ярмарки, горстями бросит им золото, но с омерзением отвернется от этого мира в сознании и плюнет на его интересы.
Вот еще какой я был дикарь тогда. Но я развился — даю вам честное, благородное слово, что я развился, — а Иван Иванович, напротив, остался в этом отношении по-старому романтиком. Да вы не смейтесь… Это так. Он говорит всегда, как езуитские проповедники: делайте, что я говорю, а не то, что я делаю… Да и на деле-то, и в самой-то жизни — он только внешним образом отдается обаянию современного прогресса. Вот я вам расскажу в следующий раз, какую беседу имел я с ним по поводу стихотворения г. Некрасова, напечатанного в 1-м № «Современника»
{313}.
Безвыходное положение{314}
(Из записок ненужного человека)
Я начинаю писать эти записки в Долговом отделении
{315}. Вероятно, в нем же я их и окончу, если только когда-нибудь окончу.
Цель моя — чисто назидательная, а вовсе не художественная. Художником я решительно быть не способен, хоть во мне, как все мои знакомые говорили и как сам я, говоря без ложной скромности, очень хорошо знаю, — много художественного понимания и, что, может быть, еще лучше, — художественного чутья: «нос у тебя есть», — говаривал мне не раз один даровитый поэт. А все-таки мне-то от этого не легче…
Ведь, изволите видеть, — будь я художником, я уже не был бы ненужным человеком. В том-то и беда великая, в том-то и «горе-злосчастье» всей моей жизни, что я
все, совершенно
все понимаю, — и
ничего, совершенно
ничего не произвожу.
Для того чтобы быть художником, нужна сосредоточенность, нужно спокойствие, нужна способность переживать жизнь только внутри себя, а я всегда ненасытно-жадно стремился пережить ее, жизнь-то, — как можно более в действительности. Не то чтоб сильна или широка очень была моя натура, а так уж больно падка до жизни!
А с другой стороны, я и не мыслитель в строгом смысле этого слова. Мышление мое — какое-то калейдоскопическое. Право, так! Я никогда не могу видеть предмета с какой-нибудь одной его стороны и не могу поэтому состроить о нем какой-нибудь определенной теории. Что за притча такая? Другим, посмотришь, так легко даются теории — и главное-то дело, так легко верится в теории, — а мне вот нет как нет!
А ведь мысль, не прикованная к теории, такой свободой своей ужасно много теряет в своей силе, хоть, может быть, и много выигрывает в своей правде. Чтобы пробить стену, нужно бить постоянно в одно место. Теория так и делает — бьет что есть мочи в одну точку, потому что, кроме этой точки, ничего другого не видит.
Я, наконец, не мог быть никогда и ученым, а остался целую жизнь человеком, который все понимает, потому что всего нанюхался и ничего не знает основательного, «durch und durch»
[110], как говорят немцы.
И вот поверхностный, хоть и довольно широкий, но все-таки поверхностный энциклопедизм, — в ту минуту нашего века, которая требует дела и знания какого-нибудь дела, неминуемо, рано или поздно, должен был поставить меня в крайне конфузное, тяжелое и безвыходное положение.
Великая минута дела
{316} застала меня и множество других праздных людей совершенно врасплох. «Приидет день господен, яко тать в нощи» — это слово не мимо сказано.
День страшного суда создал пролетариев не из одного только класса бюрократов и чиновников. Он «упразднил» значительное количество «развитых и образованных» людей. Да-с! Множество из них, кроме тех, разумеется, которым бабушка ворожила при их рождении и кого дражайшие родители снабдили «на помин души» достаточным родовым или благоприобретенным, — множество из них, говорю я, — подверглось или подвергается участи если не столь трагикомической, как моя, то в таком же роде.
Мы, люди энциклопедического образования и философских идей, нужны были для того, чтобы будить, шевелить, дразнить и тревожить спавшую тупым сном жизнь.
Дело наше покончено…
Жизнь просыпается: здоровая, простая, с силами, требующими деятельности, и в нас она не нуждается: мы— «упразднены».
Что же, друзья и братья мои по участи и по духу, или даже по одному только духу, ибо ведь вы, пользующиеся полною или неполною обеспеченностию, — сознаетесь, вероятно, что без внешних, чисто случайных условий обеспеченности вы, подобно мне, были бы, как «ненужные» люди, пролетариями в настоящую минуту, — что же, говорю я, — не должны ли мы радоваться за жизнь?..
Не мы ли звали всеми помыслами нашими, всеми нашими стремлениями великую минуту? Ведь мы звали ее все, да? не правда ли? Мы, мыслившие, страдавшие, вопившие, «выкликавшие голосами разными» люди! Ну вот она и наступила, эта давно жданная, жарко званная, страстно желанная минута…
Но увы! нам, столько о ней хлопотавшим, нам, юродивым кликушам во времена застоя, решительно
нечего делать в минуту настоящего дела. Нам тревожить, шевелить нечего. Все само тревожится и шевелится, или, лучше, все — спокойно, сознательно просыпается к жизни.
Сознаёте ли вы все это, братья мои по духу, господа «ненужные» люди?.. Ежели не сознаёте, то сознаете: одни раньше, другие позже. Радуетесь ли вы этому?
Я вот на радостях решился сделать хоть одно полезное дело, в назидание будущим потомкам.
Вы скажете, может быть, что я принял сию благородную решимость от скуки, оттого, что, сидя в «Тарасовом доме», нельзя же вечно погружаться в индийское самоуглубление или, по выражению одного из знаменитых поэтов «Искры», — вечно
…играть своей глоткою
Водкою.
Но, братья мои по духу и вы купно с ними, знаменитые обличительные и скорбные и всяческие поэты
{317} «Искры», ведь если только вы не запаслись внешними средствами благоденствия и процветания или не снабжены ими судьбою при самом рождении, ведь я только опередил вас двумя-тремя, ну! куда ни шло? — пятью, шестью годами… Подумайте-ка об этом. Ведь и ваше время пройдет, и, пожалуй, еще скорей пройдет, чем прошло наше.
Запасайтесь же, запасайтесь в эти остальные для вас годы внешними средствами благоденствия или, если нельзя этого и если силы ваши еще не окончательно расслабли, — займитесь вы делом каким-нибудь! Ну, хоть сапоги учитесь шить, только выучитесь шить их так, чтобы сапоги ваши были «нужны», а стало быть, чтоб и вы сами были нужны. Тогда вы утвердитесь в жизни на крепком и незыблемом основании, а не на «вольнодумной химере юности».
А то ведь знаете ли что? Ведь можно, пожалуй, встать в положение, невыносимое для всякого честного человека… Ведь можно, пожалуй, дойти до сокровенных желаний продолжения бывалого застоя, ибо в нем, в застое-то, есть что шевелить, есть что отрицать… Да вы не обижайтесь, пожалуйста! Поставлен же был один умный человек, да не из обыкновенных умников, не нам с вами чета; нет! из генералов от ума, — в такое адское положение. Назначен был «генерал от ума» — начальствующим или заведующим там, что ли, в каком-то предполагавшемся месте. Вдруг место «упразднилось» еще до своего рождения, ибо, к счастью, обнаружилась его явная бесполезность. Место упразднилось: ergo, дело ясное, сознано было ненужным, а упразднению всего ненужного, «даром бременящего землю» порядочный человек должен внутри души радоваться. Но ведь «генерал от ума» получал с этим местом обеспеченное, покойное и блестящее положение… Что же? Ведь он не то что внутренне был недоволен благоразумною мерою «упразднения» проектированного места, — но и наружно-то не сумел скрыть своего неудовольствия. Вон оно что, господа и братия!
Время-то теперь такое, что надо что-нибудь делать, а мы родились и воспитались в такое, когда надо было только вид один показывать, что делаешь дело.
Мы и вопияли на это, и ужиться с этим не могли, за что нам и честь и хвала; но ведь мы всосали в себя с молоком матери или кормилицы отравленные соки прошлого. Нас воспитывали, т. е. выкармливали, для того, чтобы в мутной воде рыбу ловить, а мутная-то вода расчищается и является насущная необходимость настоящего, дельного рыболовства как честного промысла.
Это так нас воскармливали, в таких понятиях, а учили нас, и вечная память тем, которые нас учили! — совершенно другому. Хорошему нас учили, враждовать с неправдой нас учили. Та только беда, что нас учили отвлеченно, вообще враждовать с неправдой… Ну, пока отвлеченная борьба была нужна, мы и были борцы хорошие и, ненавидя зло и ложь, пламенно верили, что
…благ Господь. Он знает срок
И вышлет утро на восток.
И вот — заря занимается, свежим воздухом повеяло… Великий народ пробуждается к великой жизни и, только что пробудясь, уже учит нас, как жить по-божески, по-земски: честно, незазорно, нешумно, неблазно.
Я вот сижу себе да покуриваю, да размышляю на досуге, в месте злачном, в месте покойном. Стремления, надежды, желания, все во мне замерло: жизнь покончена, и звучит только в ушах однообразно-унылая песня: «ты, брат, ненужный человек».
Не то ведь, что тургеневский «лишний человек», не то, что эта загнанная, добрая, смирная натура, оказавшаяся лишнею по несостоятельности средств сравнительно с стремлениями… нет! Ты «ненужный человек», т. е. нет в тебе надобности, потому что миновала в тебе надобность…
А утешься, ты был нужен, когда-то ты был очень нужен, энергически разрушавший свои собственные кровные связи с омутом жизни напоказ, тиною лжи и лакейства… Ты был нужен, ты был прекрасен, когда благородно нес всего себя в жертву новому великому будущему. Ты был прекрасен, хотя никогда не был могуч: могучи были только идеи, поднимавшие тебя, как орлы на крыльях, в мир простора и света, сам же ты, ты этого не знал, бедный, сам ты всем существом своим был связан с родным тебе омутом… Ты шел с слепою верою, слабый, но благородный фанатик, и пусть шатался, колебался ты в вере, вера будет вменена тебе в заслугу. Твое сердце не раз обливалось кровью, ты не раз просиживал бессонные ночи, мучась каинскою тоскою, ты не раз сомневался во всем, даже в искренности твоих стремлений, и будет с тебя: отстрадал, значит, и успокоился.
А хорошая вещь покой, каков бы он ни был и чем он ни был он куплен, лишь бы не беззаконием и преступлением!
Но вы, может быть, братии мои по духу, если не по участи, сомневаетесь в том, что есть какое-либо
беззаконие? Ведь вы, т. е. мы все, во всем сомневались, — мы ни перед чем не робели в сознании… Вот то-то и дело, что не робели мы только в сознании, а как дело доходило до беззаконных отношений и положений в жизни, мы или каински мучились, или подло вертелись, стараясь как-нибудь помирить бога с маммоном…
{318} Нет, господа и братия, в беззаконии каком бы то ни было, общественном или нравственном, ничего нет хорошего. Просто неудобно даже жить в беззаконии человеку… Это я вам говорю, я, вкусивший
сладостей всякого беззакония. В бывалые годы, вооружаясь яростно на все, хоть бы, например, на семейное начало
{319}, мы разве на него собственно вооружались? Вооружались, разумеется, на ту тину, с которой разорвались, вооружались за идеалы, которые в нас выросли, и, последовательные в мысли, во имя идеалов готовы были исторгать с плевелами и пшеницу. Но являлась жизнь с своими тяжкими уроками: смущалась наша душа страшным сомнением в искренности нашего отрицания, в правоте его, и снова мы хватались даже за плевелы, желая сберечь пшеницу.
Потому жизнь — дело страшно таинственное: в ней есть ироническое начало, она какой-то двулицый Янус; разбейте молотом обломовщину, вы получите штольцовщину, а штольцовщина, сами вы это чувствуете, гораздо хуже обломовщины. Вот и стоим мы как одурелые и готовы причитать и выть по обломовщине, как по родной матери…
Но дело покамест не в том; дело в том, что на досуге, на покое, которых так долго я искал и к которым привел меня достопочтенный друг мой, Казимир Антонович Лаздовский
{320} (добродетельный муж не знал, какое благо он мне делает, внося за меня
кормовые), — задумал я написать «Записки ненужного человека» — в назидание потомству и на утешение современникам, или, наоборот, в назидание современникам и на утешение потомству, это нам все равно, как вам будет угодно…
Пред другими ненужными людьми я имею то преимущественное право на исповедь, что не родился в сорочке и что мне бабушка не ворожила. Я должен был завоевывать жизнь, как я ее завоевывал, это другая статья, и завоевывал ли я ее даже, это — третья статья, но я родился, вырос и воспитался в такой среде общества, которой нечем иным и жить, как завоеваниями, законными и незаконными. Другие ненужные люди, как, по крайней мере, являются они в разных повествованиях, не имеют в жизни иной задачи, кроме задачи мыслить, страдать, влюбляться и безобразничать, последнее как-то более или менее, смотря по характеру и темпераменту. Бабушка, по воле их авторов, ворожит им при рождении, потому, вероятно, что ворожила их авторам. Но я сын бедных и хотя благородных, но не высокоблагородных и тем менее высокородных родителей. Мне, судя по всем данным моего рождения
{321}, следовало бы быть теперь полицеймейстером в губернском городе или секретарем гражданской палаты, нажить каменный дом либо два на дворянской улице какого-нибудь богоспасаемого града Тугоуховска, быть женатым на дочери соборного протоиерея и питаться сладкою надеждой перейти на службу в Москву и восстановить бывалый блеск не весьма, впрочем, древнего рода Волоколамских, перекупивши у нового владельца дома покойного дедушки Ивана Григорьевича на Малой Дмитровке, проданные в развалинах после французского нашествия
{322}… Вот каким следовало бы мне быть теперь, а я, как изволите видеть, попал в ненужные люди, и сижу в Долговом отделении, и не знаю решительно, что я буду делать в «широком божьем мире» по выпуске моем из этого благодетельного института, убежища страждущей невинности и гонимой добродетели.
Любезные братья мои, господа ненужные люди, вы, развившиеся до этой высокой степени, после которой остается только одна совершеннейшая: «метеорское звание»
{323} Любима Торцова, повторяю вам, что мы свой век отжили. Мы, как филины и совы, были зрячи и голосисты только во мраке хаоса и ночи! Не знаю, как вы, а я давно, очень давно начал сознавать это, еще раньше предчувствовать. И уже чего-чего я ни придумывал, чтобы переменить свой высокий ранг на ранг хотя и не столь блистательный, но менее скользкий. Правда, и в этом надобно отдать честь удивительной последовательности матери природы в образовании ею монстров, все выходы, какие я ни придумывал, были до крайности, до возмутительной крайности нелепы… Мне все казалось, что назначение мое манкировано, что я родился, изволите видеть, артистом, и то сбирался удрать на провинциальный театр трагическим актером, то в не очень уже юные лета хотел сделаться знаменитым гитаристом и с ожесточенным упорством выламывал и до мозолей доводил пальцы на экзерцициях Сихры
{324}. Может быть, и в том и в другом стремлении я был прав. Каким-нибудь артистом я был точно рожден и, может быть, поступил бы вовсе не безрассудно, приведя в исполнение первое свое намерение, т. е. отправясь в трагические актеры в провинцию… но… надобно вам рассказать следующие обстоятельства.
Мне было еще двадцать три года, когда я вздумал вступить на театр в провинции. Я пришел к одному приехавшему тогда в Петербург провинциальному трагику: посоветоваться насчет моего положения. «Отлично, батюшка, сделаете, — сказал он мне осиплым от трагедии, а может быть и от иных причин, голосом, — вас там не то что напоят, засыплют, батюшка, шампанским…» Такая перспектива, сколь она ни была утешительна, предстояла, однако же, одинаково и в Петербурге, как в провинции, в обычной жизни, как на сцене, и вследствие этого я предпочел далекой поездке простейшее удовольствие
обсыпаться с моим приятелем, провинциальным трагиком, в Петербурге хоть и не шампанским, но все равно ромом или зорной водкой, напитками, — как это экспертами достаточно познано, ведущими, собственно, к одной с шампанским цели, только путем быстрейшим… В другой раз, когда я серьезно разучивал роль Гамлета и собирался дебютировать под руководством человека, в сценическом деле весьма высоко стоявшего… Но, впрочем, это такое чувствительное происшествие, которое найдет себе когда-нибудь достойное место в моих записках. Что касается до моей гитарной игры, то, во-первых, несмотря на несомненные музыкальные способности, я принялся за дело слишком поздно, а во-вторых, лучшее употребление этой семиструнной игры нашел бы я разве только в «метеорском» звании, как остроумно заметил раз один из лучших моих друзей, счастливый и жениным капиталом вполне обеспеченный ненужный человек. «Старайся, старайся, Иван Иванович», — заметил он раз, играя в трынку, когда я, уставши играть в эту прекрасную, хотя, к сожалению, не принятую в высшем обществе игру, взялся за гитару, сел в уголок и начал выламывать в сто пятьдесят седьмой раз первую Si-минорную экзерцицию Сихры, — «старайся! — повторил он, — по погребам играть будешь, купцы угощать станут!» — оно ведь и так. Но, видит бог, что я, как ребенок, думал создать себе силою воли какое-нибудь, только бы согласное с моими наклонностями и честное занятие.
Честное… При этом слове передо мною восстает из гроба исчахлая тень одного из самых горьких метеоров, жалкого в особенности, потому что бог не обделил его ни умом, ни талантом, ни остроумием. Это было несчастное лицо, известное под именем Межевого
{325}… Каких мерзостен он ни делал и каких страшных поруганий ни вытерпливал он за эти мерзости! Привязанный искренно к своим благодетелям, они-то и были ругатели и истязатели, он, бывало, обличаемый, трагически колотил себя в грудь, вырывал из головы клоки бледно-желтых жидких волос и восклицал: «Да, я подлец, но стремления мои всегда честные!»
Боже, а сколько таких межевых кроется между нами, друзья мои, ненужные люди! Мир праху твоему, наш брат! Благодарю моего господа, что я ни разу не оскорбил тебя!..
Мало честных стремлений, господа и братия, надо, чтоб дело было честно.
А что мы можем делать? Ну-ка, скажите, милостивые государи, предполагаю, разумеется, тех из вас, которым уже под тридцать…
Землю пахать мы не умеем, да и что мы напашем с нашими физически не развитыми силами. Все наше занятие будет только курам на смех. К рукомеслу мы ни к какому не приготовлены, дрожайшие родители приготовляли нас, как Кукушкина своих дочерей, Полину и Юлиньку, к занятиям благородным, дворянским. Торговлей заняться? Какой, позвольте спросить? Той ли, к которой приучается сызмалолетства Тишка под руководством Лазаря Елизарыча, выдержавшего, в свою очередь, экзамен на степень магистра под ферулою великого доктора этой науки, Самсона Силыча
{326}? Но мы к такой торговле неспособны, не по благородству наших чувствий, нет! это дело десятое, а просто потому, что не практические люди, не сумеем, хоть бы и захотели, сплутовать, смошенничать, ловко съерничать. Какой же? Торговлей в европейском смысле? да ведь для этого надо дело знать, милостивые государи, а мы никакого дела не знаем; мы умеем только выкликать «голосами разными», ненавидеть неправду и ждать рассвета!
Эх! филины мы, горькие филины!
А между тем, что ж тут делать, я вас спрашиваю, любезные мои собратия, ненужные люди?.. Ведь неумолимая логика фактов ответит нам словами Неуеденова Бальзаминову
{327}: «А по-моему, такому человеку, который не умеет достать ничего, не то что в богатстве жить, а и вовсе жить не за чем». И когда Бальзаминов спрашивает его: «Куда ж их девать-то?» — Неуеденов отвечает спокойно: «В черную работу, землю копать. Это дело всякий умеет. Сколько выработал, столько и денег бери…»
Да ведь это говорится Бальзаминову, скажете вы? Не обольщайтесь, друзья мои, господа ненужные люди. Мы также упразднены или будем в скором времени упразднены, как бальзаминовы!..
Говоря это, я не «колена выкидываю» и не «штуки отмачиваю», как Любим Торцов, а говорю вам сущую, хоть и горькую, правду. Будет с нас, попировали. Не все коту масленица. Великая, деятельная, разумная жизнь начинается, и на пиру ее мы не гости, а разве Лазари, питающиеся крупицами подаяния.
Мы люди вообще развитые и образованные, да разве не видите вы, что прошло то время, когда общее образование и общее развитие давало значение в обществе?.. Воспитателями и наставниками, что ли, способны мы быть? Да скажите по совести, можно ли нам щенка, не то человеческую душу, доверить на воспитание? Люди страсти, люди тревоги, люди разрыва и сомнения, мы и в это дело годимся только на то, чтобы шевелить и будить…
Служить, наконец, скажете вы, хватаясь за последнюю соломинку.
Служить! Да! к этому приготовляли нас большею частию и отцы наши… И они, образовывая нас на последние гроши, считали, что мы, как вот только выпустят нас из университетов, займем всегда вакантные и нарочито для нас приготовленные места директоров или, по крайней мере, вице-директоров различных департаментов…
А ведь лучше б они сделали, когда бы образовали из нас дельцов, хороших подьячих; потому чиновничество явление преходящее, а подьячество чуть ли не вечная стихия нашей общественной жизни. Ведь оно только облагородится сознанием и не умрет. Один мой очень умный, хотя привыкший с университетской скамьи выражаться темно и отвлеченно приятель
{328} не раз говаривал мне, что чиновники эксплуатируют жизнь ради абстрактного и темного для нас, точно так же как и для всех, божества, называемого законом, а подьячие эксплуатируют темный для всех, но не для них закон в пользу живой жизни… Ему же, этому моему старому приятелю, после всякого представления «Ревизора» приходила в голову комедия с совершенно обратным содержанием. «Ну, — говаривал он, — представь ты себе, что является ревизор настоящий; все эти беззаконные судии и правители отрешены от должностей; на места же их посажены новые, с незыблемою честностью, с знаниями, о которых удостоверяют аттестаты разных специальных юридических заведений… Представь ты себе, — продолжал он, обыкновенно с большим одушевлением, — ты, который знаешь с детства и мир подьячества, и мир купечества и ознакомился в Петербурге с процветающим там миром бюрократии, до какого комизма может дойти взаимное непонимание между городским сословием и героями отвлеченного закона и к каким трагическим последствиям поведет служение отвлеченному закону!..» Комедии мой приятель не написал, потому что ему было все некогда; он был нужный человек, не подьячий и не чиновник, а ходатай по делам, знавший закон во всех его изгибах и извивах, понимавший отношения земщины к закону не по-книжному, не по-ученому, а живьем. Он был, между прочим, великий почитатель Островского и считал его нашим самым большим после Пушкина писателем; но не за то, за что жарким почитателем Островского является, например, даровитый автор статей о темном царстве
{329}. Он, мой приятель и тоже — Иван, только не Иваныч, а Дорофеич, Поплевакин, почитал Островского за то, что этот писатель, первый, по его мнению, отнесся без желчи и сатиры к миру земской жизни и, между прочим, к подьячеству, законному чаду этой жизни, чаду, порожденному ею давно, еще во времена татарства, а может быть, и раньше, по нужде и в опору. Он указывал на спокойное изображение Максима Беневоленского и прибавлял, что по делу купца Пересемкииа с малолетними наследниками купчихи Незамайкиной, которое доходило до правительствующего Сената, вследствие которого Беневоленский получил тяжеловесную табакерку, — Беневоленским, вероятно, обе стороны остались довольны. Он приводил Добротворского, старого, безгрешного взяточника, потому что был же ведь Добротворский
{330} взяточником, нет сомнения, — с его действительно симпатическими и человеческими свойствами. Когда мы с ужасом читали в «Доходном месте» речи Юсова о спокойствии его совести, рассуждения о колесе фортуны и еще с большим ужасом видели, что падение Вишневского и собственное падение возбуждало в Юсове чувство раскаяния только по отношению к тому пункту, что он забывал нищую братию, — Иван Дорофеич покачивал только головой и потом с хохотом спрашивал нас: да в чем же бы иначе он стал и раскаиваться?.. Обратите поборы и взятки, — проводил он до крайних границ свой ужасающий парадокс, — в свободно условленную между обществом и подьячими плату, и беззаконие исчезает.
А между тем сам Иван Дорофеич был истинным рыцарем, даже Дон-Кихотом честности, и когда он, после сильного загула 1 мая в Сокольниках, прошлого весною скончался, после него ничего, кроме поношенного платья да двух растрепанных томов Свода законов, десятого и одиннадцатого, не осталось. Он был герой нашей весьма не героической общественной жизни, живое оправдание одного из героических лиц Островского, Досужева, в «Доходном месте».
Я припомнил некоторые из его парадоксов для того только, чтобы точнее обозначить разницу между дельцами и служащими, припомнил вам в назидание, собратий мои, господа ненужные люди, а вовсе уж, конечно, не выдавая их за истины… Я хотел только вам сказать, что
дельцами мы быть не способны, а
служащих и без нас с вами много; ими, как говорится, хоть пруд пруди, — хотел яснее и точнее указать вам на ту безвыходную бездну, к краю которой мы все подходим: один раньше, другие позже, но положительно все.
Есть, наконец, как говорит другое ироническое лицо Островского, благородный собрат наш Любим Карпыч Торцов, «есть ремесло хорошее, коммерция выгодная — воровать». Да не гожусь я, он же и прибавляет, «на это дело, совесть есть; опять же и страшно: никто этой промышленности не одобряет».
То есть я говорю вам не о воровстве в собственном смысле, не о том воровстве, в одобрении которому сомневается Любим Карпыч. Воровство — понятие очень широкое. В старом нашем языке оно и имело весьма обширный смысл. Ведь тушинцы не крали, по крайней мере, не занимались этим специально, и Заруцкий не крал, и Михайло Глебович Салтыков не крал, и Федька Андронов
{331} также не крал, а между тем всех их звали ворами, и от всех этих воров оберегали люди порядка Московское государство.
Господа и братия! Ведь и для нас есть своего рода тушинский стан мышления
{332}, есть адский выход в такого рода воровство. Ведь и мы можем
своровать, т. е. поступить против совести.
Ведите отрицание до крайних его границ, не останавливаясь пи перед чем, не ужасаясь ничего: хорошо будет! Попадете на точку, говоря языком Любима, — будете вертеться на этой линии. Жить весело будет. Право, почитайте-ка хоть у Авраамия Палицына
{333}, сколь в Тушине весело жили, но только честно ли, господа и братия?.. Неустрашимые отрицатели бывают часто люди превеселые.
Да ведь совесть зазрит, ведь обломовщина, когда вы станете ее, как бычка, «свежевать», скажется нам самим родной матерью!.. Вот оно что!..
Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли{334}
(Из записок ненужного человека)
По духу времени и вкусу
Я ненавижу слово раб.
Грибоедов
Liberie, egalite, fralernite — ou la mort![111]
Формула деспотизма 1792 года
Есть люди, которые не только по духу времени, но и по личному вкусу ненавидят, как покойный Грибоедов, слово — раб; но вместе с тем ненавидят столько же и знаменитую формулу всех теоретиков, от великого теоретика Калигулы до другого великого теоретика Робеспьера… Куда этим людям деваться во времена особенного свойства?.. во времена, когда повсюду поставляется неумолимая логическая дилемма.
Но не пугайся, о доблестная редакция! Поставивши вопрос так трагически-грандиозно, я хотел только немножко «форсу задать»… Я, как Антип Антипыч, — «шутки шучу».
С трагических ходуль сведем наш вопрос в простые житейские и литературные области.
Я, например, твой покорнейший слуга, ненужный человек, — представляю для самого себя любопытный психический феномен… В то время как всякий стоит под каким-нибудь знаменем, я решительно ни под одно стать не могу. Я сочувствую всем вообще, но ни одному исключительно, а решительно всем, без исключения всем. Заметь это, благородная редакция!.. Но позволь лучше изложить тебе по пунктам мои сочувствия.
Во-первых, я тебе сочувствую. За что? — спросишь ты с лукавою, но перворожденности твоей приличною скромностью. Знаешь ли что? Ведь, собственно, за то, что ты еще молода. О, не дай бог, чтобы к тебе шли слова пушкинского Карлоса к Лауре:
Ты молода и будешь молода
Еще лет пять иль шесть…
{335}
Нет — будь вечно молода или сумей умереть в пору!
Ромео умер — с ним Джульетта:
Шекспир знал жизнь, как бог…
Сохрани лучше, даже с недостатками, свою молодость с неопределенностью, неясностью твоих честных стремлений!.. Право, ведь не все то хорошо, что ясно. Посмотри: до чего ясен стал «Русский вестник»
{336}…
А вот кстати — я и ему, и «Русскому вестнику», сочувствовал когда-то, да еще как! Самым сильным образом сочувствовал, — но только не в том, в чем он стал теперь так ясен. Англию я очень люблю; но англоманию, как всякую манию, терпеть не могу, потому что всякая мания есть рабство. На литературу я тоже не могу смотреть глазами «Русского вестника», т. е. на русскую литературу. Я ее уважаю, а он ее
игнорирует (учтивый ученый термин для выражения глубокого презрения). Но в том, в чем он еще доселе неясен, — в его вражде к централизации, в его отношении к народности — весьма я ему сочувствую.
Но это еще не беда: по крайней мере, не большая беда, что я сочувствовал много и во многом «Русскому вестнику». Я и господину Аскоченскому
{337} во многом сочувствовал. Не ужасайся, почтенная, хотя недавно рожденная редакция! Или прежде, чем ужасаться, разбери ты в чем дело. Я человек, по натуре и по развитию, — религиозный, даже не философски, а просто православно-религиозный. Начала, из которых выходит г. Аскоченский, для меня, как и для множества русских людей, святы и несомненны. В приложениях начал он — чистый «рèrе Duschêne»
[112]{338} мракобесия, постоянно находящийся bougrement en colère
[113] циник, не останавливающийся ни перед чем. Когда эти для нас, для многих, возвышенные начала сводит он в непроходимую грязь, он служит уже не этим началам, а грязи и мраку; но пока он держится на высоте своих начал, он, на мои глаза, стоит и уважения и сочувствия. Теоретик, как все теоретики, он виноват в моих глазах только тем, что его теории не модные. Его же, г. Аскоченского, я взял нарочно в представители положительно-религиозного взгляда именно потому, что в сочувствии ему не всякий признается, а мне непременно хочется диалектическую дерзость выкинуть, «коленце» сделать. Я не только его началам сочувствую, я иногда манере его сочувствую, его дюшеневски-циническому остроумию. Он выдумал же, например, отличное слово:
«человечина», разоблачающее отвлеченное «человечество». Этим словом он резко, а главное, верно отметил окончательный результат прогресса, как его понимают теоретики другого сорта. Это слово не умрет. В нем схвачена целая система. Другой вопрос, что собственная система Виктора Ипатьевича для меня «мерзость запустения, стояща на месте святе».
Прежде чем ругать меня подлецом, подумай ты хорошенько о том, что я говорю, моя честная редакция, а главное, будь последовательна и не виляй хвостом.
Ведь ты сама знаешь очень хорошо, что в мире, в котором луна соединится с землею
{339}, места духу и духовным потребностям быть не может. Уж я не говорю о высших духовных потребностях, нет, — о тех только, которые одухотворяют земную жизнь, об искусстве, о философии как искании абсолютного. Нечего петь будет и нечего искать будет.
Ты это не только хорошо знаешь, но ты явно этому миру не сочувствуешь. Сочувствуй ты ему, идеалу теоретиков, ты бы не существовала как отдельная особая редакция, ты бы примкнула к теоретикам. Ты ведь, надеюсь и верю, обособилась потому, что хочешь сказать нечто свое, особое… Вот ты сразу Пушкина защищаешь, поэзию защищаешь; вон ты, наконец, даже (о, ужас!) над божками посмеиваешься. Это не значит, чтобы ты г. Аскоченскому сочувствовала, даже настолько, насколько я сочувствую; но будь настолько смела, чтобы, где г. Аскоченский по-своему прав, сказать, что г. Аскоченский по-своему прав, где он в борьбе с материалистами остроумен, что г. Аскоченский остроумен. Что? ведь не будешь так смела? А?
Да вот тебе, между прочим, проба, о моя честная редакция. В «Сыне отечества» было в позапрошлом году перепечатано письмо к «Страннику», подписанное буквами А. Ф.
{340} Это уж не г. Аскоченский, кажется, а ведь в письме-то, между прочим, брались под защиту и юродство, и даже Иван Яковлевич
{341}. Сила в том:
как и
с каких точек брались под защиту… Ну-ка, покажи свою правду. А посмела ли бы ты не то что сочувствовать письму, подписанному буквами А. Ф., сочувствия никто с тебя не спрашивает, а в свое время не поглумиться при случае над этим письмом?.. Посмела ли бы ты, если б уже существовала в то время, — даже
смолчать о нем; а если и посмела бы, то почему бы ты смолчала?.. Допросись самое себя, доищись источника. Ведь источник-то будет куда как мутный. Есть, например, юродство модное, американское, спиритизм; о нем и говорить можно, даже, пожалуй, — коли и всурьез говорить станешь, то тебе кое-как спустят, не заподозревая в тебе гуманности, современности и прочих «обязательных» добродетелей, ставших в наше время казенными. А Иван Яковлевич — юродство старое, исконное, — письмо в защиту значения этого факта сочинено не какой-нибудь английской барыней, а уединенным мыслителем, аскетом и пущено в свет не Теккереем, а «Странником» и г. Старчевским. Никто на тебя не навязывает сочувствия не только к юродству, но даже и к этому письму, но всякий вправе ждать от тебя последовательности. Согласись, что, с точки зрения голого рационализма,
спиритуализм — выйдет даже погрубее юродства. Ты скажешь, что сотни тысяч народа занимаются спиритуализмом? Сотни тысяч народа перебывали в больнице умалишенных, где жил покойный Иван Яковлевич, сотни тысяч народа шли за гробом. То, дескать, народ образованный, американцы и англичане, а это не люди, а звери. Ага! так вот ты какова, моя почтенная редакция? От своей любви и уважения к народу ты уж на попятный двор!.. Для тебя уж есть звери и люди в человечестве, для тебя уж
человечество «есть»?
А все-таки ты постой, мать моя! Я тебя и с другой стороны доеду. Ты ведь, кажется, в искусство веришь? Ведь веришь: не правда ли? Ну, как же ты в него веришь? Конечно, не так, как г. Дружинин
{342} и поборники эстетического взгляда, т. е. не как в гастрономическое наслаждение. Ты веришь в его значение жизненное, в его серьезность, не так ли? Т. е. что это значит? Ты веришь, что искусство, сводя в фокус разнородные явления жизни, осмысливает их, что, с другой стороны, типы, создаваемые искусством, суть жизненные типы, — что тип
поэтический, величавый или
трогательный в создании художника имеет и в самой жизни, в самых явлениях свои
поэтические, величавые или
трогательные стороны. Ведь это так?..
Ну, прекрасно!.. Я уверен, что в отроческие годы свои ты плакивала над фальшиво-сентиментальным изображением юродивого Мити в «Юрии Милославском»
{343}. Положим, что теперь ты не заплачешь, да и я уж не заплачу. Но главу об юродивом в «Детстве» Толстого ведь ты не обвинишь в фальшивости, ведь ты и теперь придешь в восторг от ее поэтической правды?.. А что ты, например, тоже насчет юродивого Островского в «Минине», каких мыслей?.. А ведь поэзия — либо ложь, либо самая дорогая жизненная правда. Если она ложь, так бросим же ее вместе с теоретиками, если она самая дорогая правда, так будем же серьезно доискиваться значения тех фактов жизни, которые выводит она перед нами в своих типах.
Будем… хорошо сказать: будем!.. А что скажут гг. Лука Вариантов
{344} и tutti quanti?
[114] Будем! А кто будет на нашей стороне?.. Славянофильство, опозоренное «Искрой», да разве новые «Отечественные записки»
{345}, из чтения «Духовных стихов» г. Варенцова и песен, набранных у разных собирателей г. Якушкиным, извлекшие новое учение о народности… Плохая опора! А я тебе скажу, кто будет на твоей стороне, когда ты изъявишь честно и не виляя хвостом презрение к тону гг. Луки Вариантова и Прыжова
{346} и начнешь о серьезном факте говорить серьезным образом. Народ будет, вот кто! Опять-таки ведь не в то, чтобы верить в Ивана Яковлевича, я тебя тяну, а в то, чтобы в жизнь и ее откровения верить и разъяснять их серьезно. Ты вон посмотри-ка: даже Н. Ф. Павлову, борцу старого западничества, и тому противен тон гг. Луки Вариантова и Прыжова
{347}, противен потому, что он человек серьезный и мало кого боится: сам зубаст.
Хоть бы еще славянофильство. Ты подозреваешь и даже больше чем подозреваешь, ты знаешь положительно мою любовь и уважение к этому серьезному и честному направлению, но знаешь также, что славянофильство в моих глазах такая же теория, как и учение о соединении луны с землею. А все-таки ведь я за мое сочувствие к славянофильству подлец выхожу в глазах хоть, например, «Русского слова», заявившего при первом появлении «Дня» желание, чтобы на Руси было поменьше
таких литераторов, как г. И. Аксаков, или «Искры», сразу поставившей направление славянофильства на одной доске с направлением г. Аскоченского. Конечно, мне от этого ни тепло, ни холодно, тем больше что «Русское слово» мало кто читает, а «Искру» хоть и многие читают, но смотрят на нее, как на мешок, «что положишь, то и несет», да дело-то в том, что ты, моя серьезная редакция, мало будешь возмущаться тоном этих изданий, как-то потому слабо восстанешь на этот
тон! Вот оно что…
А между тем еще раз прошу тебя не костить меня подлецом и вникать в дело.
Вот на слабые стороны славянофильства вы все накидываетесь, а великих-то его сторон как будто нарочно не видите. Читала ли ты, моя милая редакция, начало писем Ю. Ф. Самарина о материализме?
{348} Если не читала, то мало делает тебе чести. Ведь эти письма равно бьют по морде и материализм, и обскурантизм с его кострами, инквизициями и другими менее грандиозными, но столь же действительными орудиями, положением, что всякой человеческой мысли должно быть предоставлено право самоубийства… Больше еще, они, как великий и серьезный мыслитель наших дней А. Ф., видят диалектическую необходимость путей материализма и также верят, что на самом деле разум человеческий вовсе не то, что для «Домашней беседы». Так чье же понимание свободы мысли шире? Славянофильское, представляющее всякой мысли право самоубийства, или понимание теории о соединении луны с землею, преследующей всякое понимание не по шерстке, доходящей временами до желаний халифа Омара?
Твое собственное, например, мнение насчет свободы мысли, я уверен, сходится совершенно с мнением славянофильства, по крайней мере, гораздо более, чем с мнениями последователей учения о соединении луны с землею. Почему я, спросишь ты, так смело уверен в том, в чем ты сама еще, может быть, не уверена? Да все потому же, что ты высказала уже веру в поэзию, философию, историю. С этой верой решительно несовместен деспотизм мысли, и ни с каким деспотизмом, хотя бы он развивал «человечину» до высшего благополучия, до полного блаженства стать на четвереньки, она не помирится. «Попала на эту точку, вертись на этой линии» или поскорей примкни к хору гг. Чернышевского, Антоновича и изринь из недра своего вольнодумные мысли гг. Григорьева, Страхова, Н. Косицы и Ненужного Человека
{349}, отрекись и отплюнься от них. Нехорошие это мысли в их крайнем логическом развитии! Поверь ты мне: я ведь в опасностях диалектики человек опытный, я ведь Гамлет Щигровского уезда
{350}.
Ну, будь ты последовательна в деле о славянофильстве, ведь ты бы сразу же, при первом своем появлении на свет божий, обругалась еще неприличнее «Русского слова», или поострилась бы
площадыжнее «Искры», или сразу же подала бы руку возвышенному и честному направлению, споря с ним серьезно и, пожалуй, хоть до ножей во всех тех пунктах, где оно гнетет народ и жизнь под свою теорию, кастрирует народ и жизнь во имя узкого идеальчика.
Я глубоко сочувствую славянофильству в его любви к быту народа и к высшему благу народа — религии, но и глубоко же ненавижу это старо-боярское направление за его гордость, — так же точно, как глубоко люблю Москву как полный тип русской жизни и не сочувствую некоторым ее историческим несправедливостям… Ведь если, впрочем, ты, молодая и притом петербургская редакция, протянешь руку славянофильству, оно, ослепленное своей татарской гордостью, пожалуй, и не примет твоей руки. Оно только в себя верит, — и, в сущности, оно не народное, а старо-боярское направление. Народ для него — только степной, а не городовой народ: вся жизнь наша, сложившаяся в новой истории, для него— ложь; вся наша литература — кроме Аксакова и Гоголя — вздор. К Пушкину оно равнодушно, Островского не видит, и понятно, почему не видит: он ему хуже рожна на его дороге. Ведь выше князя Луповицкого
{351} славянофильское художество не поднималось, потому что, собственно, и «Семейную хронику» и лучшие вещи Гоголя оттягает у славянофильства русская литература. А без художества — теория пропащее дело. Пусть в это ни славянофильство, ни «Русский вестник», ни «Современник» не верят — да мы-то с тобою, моя милейшая редакция, крепко верим!
Положим, что у славянофильства явен старо-боярский идеальчик; но, во-первых, с этим идеальчиком надобно было бы бороться только тогда, когда бы он имел какую-нибудь силу, — а во-вторых, кто же более славянофильства сочувствовал великому вопросу — даже в те времена, когда сочувствие было по множеству причин
рановременно. А наконец, что же это мы за недоростки такие вечные, что не можем спокойно отнестись к мнениям, не согласным с нашими? Отчего это на Западе— никто не обвинит в подлости даже ультрамонтана Монталамбера
{352}, а мы ершимся за малейшее противоречие?
Противоречие чему?.. Сами-то мы с тобой, моя почтенная редакция, знаем ли еще определенно, чего именно мы хотим, т. е. и объем и содержание нашего идеала? И знаешь ли что? Может быть, твоя сила, твое будущее — в том, что ты еще не отмежевала себе владений, что твой идеал еще расплывается в беспредельности, что он только вера, вера в жизнь и в народ. Вон идеал последователей учения о соединении луны с землею — очень определен и ясен для всякого разумеющего смысл писаний, — да черт ли в нем? Ведь при осуществлении его нам с тобой осталось бы только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых займутся фаланги усовершенствованной человечины. Вон тот идеальчик «Русского вестника» куда как ясен, — да ведь мы… не Англия. Или опять, идеал славянофильства тоже очень определенный; да ведь к старому не возвращаются…
Но ведь вот что: двух первых идеалов народ не поймет совсем, а последний своими формами может быть для него временно обольстителен. Ты этого не забывай… Поройся в глубине собственной души, — и если душа твоя той же складки, как душа, например, Пушкина, Тургенева, Островского, Толстого, — ты в ней обретешь много кровного сочувствия к этим формам.
Поставь ты себе вопрос беспощадно прямо. Ведь действительно: только корению основание крепко и проч…. Нас, — не народ, но нас, —
от корены оторвала реформа, и положение наше, во всяком случае, не нормальное, а болезненное… Но ведь в нас самих две натуры — одна сделанная, и она наружу, и другая, богом данная, и она в нас самих лежит под спудом, целостная и нетронутая, как жизнь народа с XII столетия. Даже в тех из наших деятелей, которых наиболее коснулось веяние чужой жизни, как в Пушкине и Тургеневе, — эта натура все-таки прорезывается, да еще как. «Капитанской дочкой», «Дворянским гнездом»! Почему же в нас-то ей тоже не прорваться из-под спуда. Стоит только освободиться от того, что в нас неискреннее,
напущенное; стоит только отбросить ложный стыд, дать в себе волю кровным сочувствиям… Смирения только побольше, да не бараньего, а человеческого…
Пока мы будем буйствовать и коснеть в том, что в нас напущенное, славянофилы пожалуй что и правы в отношении к нам своей гордостью.
Как же скоро мы отбросим от себя «гнилую часть», — славянофильства нет более. Оно — прошедшее, тяготеющее над настоящим только потому, что настоящее насильственно давит в себе соки прошедшего, чуждается своей почвы… И покамест оно все-таки еще величавое, почтенное прошедшее. Лаяться на него постыдно.
Вот тоже сочувствую я очень многому в новом направлении «Отечественных записок»; не во гнев будь сказано, моя достойнейшая редакция, потому что ты, может быть, будешь с ними в постоянной контре. Открою тебе, между прочим, по секрету, что все ваши журнальные
контры порядочно набили оскомину читателю и что г. Воскобойников
{353} не совсем так смешон, как это показалось «Искре», с своим appel à la pudeur
[115] т. е. с своей статейкой: «Перестаньте драться, литераторы». Он выразил мнение известного круга читателей. Заметь, что я говорю: читателей, а не вообще публики.
Было бы тебе известно, «мать ты моя добродетельная», что я, многогрешный, насчет публики весьма легковерного мнения. Я был в восторге от статейки покойницы славянофильской «Молвы», разделившей два понятия
{354}: публику и народ. Разграничение показалось многим очень обидно, потому что славянофильство не скрыло своего глубокого презрения к так называемой публике. Что оно не скрыло, — в этом оно, разумеется, поступило бестактно. Вообще, к славянофильству частенько можно обратиться с известным присловьем, относящимся, к сожалению, к «дурню-бабню», т. е.
То же бы ты слово,
Да не так бы молвил.
Да не в том дело. Всякое направление, если оно мало-мальски серьезно, внутренно презирает так называемую публику, — да не всякое это выскажет. Что Белинский презирал публику, т. е. то, что «почитывало» Булгарина и Греча и ходило в Александрийский театр хлопать в представлениях.
Драм злодейских,
Патриото-фарисейских,
Водевилей полицейских
И куплетов из лакейских,
что в наши дни покойный Добролюбов презирал, а г. Чернышевский поныне благополучно презирает публику, что «Русский вестник» ее презирает и презирал, что ты сама ее презираешь точно так же потому, что она в наше время такова же, как во времена Белинского, в этом нет ни малейшего сомнения. И в наши дни равно «почитывает» и… что бы?.. ну хоть вещи Толстого, когда они появляются, Писемского, Ф. Достоевского и ерундищу, которую напорол г. Ахшарумов в нескольких книжках «Русского вестника» (несомненно, даже с большим интересом и удовольствием); равно смотрит в театре и драмы Островского, и водевиль с переодеванием!!.. Публика, публика! Знаю я эту публику… Не скверни святого и великого слова «народ» отожествлением его с публикою. Публика — это нравственное мещанство… Я помню, как в одну и ту же зиму шли: «Не в свои сани не садись» и «Купец-лабазник» г. Владыкина, штука вроде штук г. Потехина-junior
[116]{355} (тоже ведь
удовлетворяющих публику), и как то, что называется публикой, находило больше смаку в жалкой, но полной перцу карикатуре г. Владыкина, чем в «Санях», и как
народ, напротив, глубоко понимал своего великого поэта. Я помню также, как давали (раз только) нелепую в художественном отношении, но впервые правдивую, как изображение эпохи, драму Аксакова «Освобождение Москвы», как народ, понимая сердцем правду изображения, сочувствовал этой правде и выражал свое сочувствие и как публика шикала с парикмахерами Кузнецкого моста и блюстителями градского порядка. Все понял тут народ: и величавый лик Прокопия Ляпунова, и земский выбор Пожарского, и религиозный конец драмы, под оклик старых городовых. Ничего не поняла тут публика… Публика! Она едва прочла, я думаю, «Семейное счастье» Толстого и с заскоком читала «Подводный камень» г. Авдеева; она венчала лаврами г. Боборыкина и была холодна к одной из высших драм Островского «Бедной невесте»… Пойми ты или, лучше, сознайся ты, моя честная редакция, что всякое честное литературное дело начинается с презрения к так называемой публике; сознайся в кабинете, конечно, но отнюдь этого не высказывай… Даже советую тебе, ругни меня хорошенько за это в подстрочном примечании… а то ведь на тебя накинутся сотни разных имен, псевдонимов и букв, подписывающих газетные фельетончики и руководящих мнениями публики, говорящих равно как о деле и о драмах Островского, и о фабрикациях г. Чернышева, Потехина и иных, и о Толстом, и о г. Ахшарумове. Все эти гг. обличительные поэты, петербургские Дон-Кихоты и проч…и tutti quanti, им же имя легион. Ведь вот кто, в сущности, уважают публику, уважают потому, что сами плохо различают Островского от г. Чернышева, Мартынова от Бурдина или в другой области, например, Белинского от Добролюбова, даже Добролюбова от г. Антоновича. Они — сами публика, стоят с ней в уровень, а иногда и ниже ее, ma tanto meglio…
[117] Тем они страшнее. Ведь у нас «кто раньше встал да палку взял, тот и капрал»!..
Да ты не думай, пожалуйста, чтобы я им, этим капралам-то, не сочувствовал. Нет! я им сочувствую, только в известной мере и степени. «Благодетельную гласность» хоть и очень в последнее трехлетие опозорить успели, а все-таки она «благодетельная гласность». Всякий голос важен в настоящую минуту, и всякий должен быть принят к сведению. Почем ты знаешь, может быть, и г. Г-ов
{356} посреди своей ерунды обмолвится когда-нибудь путным словом…
А уж «Искре» как я сочувствую, — так этого ты и вообразить себе не можешь. Да и как не сочувствовать — сама ты посуди. В трущобе, где я жил, только и боятся в настоящее время, что «Искры». Завелся у нас обличитель, специальный обличитель нашего града Поганска
{357}. Посмотрела бы ты, моя столичная редакция, какую он силу забрал… И ведь хорошо, что он силу забрал… хоть для виду-то многие стали по разным частям деятельности образ человеческий показывать… Так «Искре» как же не сочувствовать?..
Да только опять-таки сочувствую я ей в известной мере и степени. В этом-то моя и беда. Не сочувствуя вполне, я ведь все-таки перед ней подлец выхожу.
Ну а как я стану вполне сочувствовать? Читаю я это, примерно, опять-таки то, что пишет славянофильство, вижу и дикую статью покойного К. С. Аксакова
{358} о русской литературе, статью, сказать прямо приходится, при всем уважении к памяти благородного деятеля, исполненную одного только тупого самодовольства и всякого посмеяния достойную; читаю я повесть г-жи Кохановской
{359} и с сокрушением сердца готов оплакивать подчинение этого блестящего таланта славянофильские теориям; чувствую неодолимое отвращение к этому палачу самого себя и своей жертвы, Кирилле Петрову, к этому славянофильскому идеальчику русской глубокой натуры, которым г-жа Кохановская, увлеченная теориями своих наставников, думала, вероятно, отмстить за народ, оклеветанный якобы Писемским в лице Ананья
{360}, и которым только доказала всю могучесть и простоту удивительного типа плохой (между нами сказать) драмы. Читаю я все это, но ведь вместе читаю и упомянутое мною письмо г. Ю. Самарина о материализме, отрывки из статей о воспитании Хомякова; читаю множество статей, в которых веет такой дух свободы, явно присутствует такое широкое понимание всякого дела, что ведь «Искре»-то, с ее мещански-ограниченным взглядом, позволительно было бы говорить о «Дне» разве только по дванадесятым праздникам. Ведь это не несчастные поэтики, которых она преследовала по jalousie du métier
[118], не сидельцы долговых отделений, на защиту человеческих прав которых она вооружалась всем своим остроумием, удостоившись, вероятно, всяческой признательности со стороны сажателей. Ведь это люди, о которых мыслители посерьезнее «Искры» выражаются так, например, как при известии о смерти А. С. Хомякова выразился один из писателей, на которых едва ли посягнет даже и «Искра», а именно: «Плохо вынашивает наш Север своих лучших людей»
{361}. Читаешь и глазам своим не веришь! Газета, издаваемая Иваном Аксаковым, газета с именами Хомякова, С. Аксакова, К. Аксакова, Ю. Самарина сведена на одну доску с «Домашнею беседою»… Или это нечестно, или в «Искре» есть alienatio mentis
[119], убеждение, что, кроме трактирных читателей, на Руси нет иных?.. что никому не известны эти имена, столь же благородные и дорогие для честных людей, как имена Чаадаева, Белинского, Грановского; что с этими именами связываются невольно в памяти и возвышенные убеждения, и смелая борьба за убеждения, борьба в те времена, когда «Искра», если бы она родилась, может быть, задумалась бы крепко: к кому ей
выгоднее примкнуть, к Белинскому или к Ф. Булгарину.
Убеждения!.. Да разве, в самом деле, могут быть дороги убеждения для тех, у кого нет убеждений! Разве…
Но лучше остановлюсь. Я человек отсталый, я ненужный человек, я принадлежу к поколению Рудиных, — на личной жизни которых лежит, может быть, много пятен, но которым слово — было святыня, которым убеждение было нечто большее их самих…
Я помню, как раз один из моих собратий рудиных на моих глазах напивался с одним из юных поборников «благодетельной гласности»… Рудин мой был один из самых ярких экземпляров рудиных. На нем тяготело много личных грехов, пожалуй, даже хуже, чем грехов, — неблаговидных по форме поступков: пил он не так, как добрые люди пьют, т. е. не с дилетантизмом, а пил «мертвую», хоть и не запоем, и чем больше пьянел он, тем становился безалабернее: страстные инстинкты его принимали колоссальные размеры, — ходульность доходила до комического; но он явным образом отвлекался от своей личности; он все сильнее и сильнее проникался фанатическою верою в убеждение. Юный поборник гласности, тогда еще рисковавший подчас попасть в долговое отделение, пил так, как пьют весьма многие «поборники гласности», т. е. дилетантски много и дилетантски легко; пил откупную и вчера и сегодня и, можно сказать наверное, пил бы завтра, в ожидании, что послезавтра он, усердно и верно служа «благодетельной гласности», будет в состоянии пить так же легко дорогие иностранные вина. Пьяны они были оба равно, и хоть я вполовину верю известной поговорке: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», ибо движения душевные поднимаются в этом состоянии до крайней точки своего логического развития, но все-таки основы этих движений действительно в душе существуют. Стало быть, я принял к сведению то, что поразило меня в их беседе. «Юбезный, юбезный, — говорил несколько шепелявивший поборник юной гласности, — посьюшай: неужли ты в твои года сурьезно веришь в убеждение?» Так меня, я тебе скажу, — громом и зашибло. Что ж? Ведь на моих глазах преуспел «служитель благодетельной гласности», — капиталистом стал, силой стал… Вот я так только к примеру припомнил, милейшая моя редакция, одного из юных поборников юной гласности. Он на моих глазах процвел «яко жезл Ааронов», — и доселе он, вероятно, благополучнейше процветает, когда последний из рудиных, я думаю, давно уж кончил свою земную Одиссею в далеком краю, куда занесла его служба государская — «да хмелинушка кабацкая»… Вспомнил я о том и о другом потому, что к слову пришлось. А между тем судьба того и другого… весьма поучительная, и в особенности судьба юного поборника юной гласности.
Я помню его еще юным, еще весьма юным. То было в те времена, когда о «благодетельной гласности» еще и в помине не было, и малейшее упущение по части петлиц и погончиков стояло в уровень с самыми криминальными деяниями, — незаконное же произрастание волос на непоказанных местах, как-то пониже уст и над устами, преследовалось наистрожайше потому, что «волос ведь глуп: он где и не следует растет». Юный тогда еще поборник гласности — хоть и готов был писать стихи, даже на именины своих непосредственных начальников, и мог бы при малом поощрении осуществить в действительности певца мандаринов, этот роскошный сон нового поэта, но по части погончиков и петличек весьма либеральничал, думая по младости лет и по неопытности, что это ничего, не повлечет никаких серьезных последствий… Последствия были, однако, очень серьезны: его исключили из службы. Увы! виновники исключения не знали, какой столб отечества могли они приобрести, снисходя несколько к невинным поползновениям юношеского вольномыслия…
Великий нравственный переворот совершился тогда в натуре моего героя. Мысли его, до того колебавшиеся, приняли решительное направление. Певец мандаринов, который мог бы развиться в нем при малейшем поощрении, — погиб в нем, увы! навсегда, тем более что вскоре после этого и воздух переменился.
Он был один из первых, справивших день рождения благодетельной гласности. Он яростно славил ее — славил даже более, чем В. А. Кокорев
{362}. Après tout
[120], едва ли мандарины в нем что-либо и потеряли. Он изменил бы им, забыл бы даже все поощрения, надул бы их в это время, как натура, весьма чувствительная к перемене воздуха…
О, как он начал петь тогда! Соловей в пору своей любви — сравнение слишком обветшалое, да и не выражающее значения песен моего юного друга… Он каркал вороною, ржал жеребчиком и истым вороном накидывался на всякую падаль. Он готов был пародировать, пожалуй, хоть «для берегов отчизны дальней»
{363}, опоганить самый горький из горьких стонов Лермонтова, опошлить самое религиозное из стихотворений Тютчева. К этой-то лирической эпохе относилась рассказанная мною пьяная беседа с последним из рудиных.
Как теперь помню я его, «юного поборника юной гласности», — светозарного, торжествующего, считающего умственно барыши от всякого обнаруженного им скандала, от всякой, публично им данной или — что относительно барышей совершенно все равно — публично полученной им печатной оплеухи. В восторге самозабвения и в «жабвении чувств» Устиньки («Праздничный сон до обеда») — он пугал гласностию трактирщиков за мало-мальски преувеличенный счет, а тем паче за плохие вина. Соединя «приятное с полезным», он умом и чувством понимал, что
выгодно в настоящую минуту «постоять за народ», и принял под свое покровительство, под покровительство «благодетельной гласности» — нахальство лихачей-извозчиков Невского проспекта… С азартом накидывался он на все, на что было возможно выгодно накинуться… Редко изменял ему в этом случае такт и совершенно уже перестал ему изменять с тех пор, как, неловко набросившись на покойного Добролюбова, — он съел зубы. Это был его единственный неосторожный поступок. Затем он сделался «пай-дитя» гласности. Он облаивал, как все, Сорокина, он даже пожертвовал своею прежнею симпатиею к Штукареву
{364} и хватил его раза два вскользь в своих статейках… чем и умыл, как Пилат, руки перед публикой… Какою возвышенною ненавистью преисполнился он к обскурантизму, — как подымал он из-под спуда разные сведения о частной жизни и поведении г. Аскоченского, как ярился он по поводу похорон Ивана Яковлевича… Да, он был ревностный, рьяный поборник прогресса, замечательный орган гласности. Я находил всегда нечто трогательное в его самоотвержении, ибо я действительно видел в нем самоотвержение баядеры. Он и был баядера, только петербургская, а не индийская. В сущности, он не порешил для себя вопроса о том, где свет и где тьма, где просвещение и где обскурантизм, не поручусь даже и за то, что, ярясь против «Домашней беседы» и памяти Ивана Яковлевича, он временами не открещивался от бесов под одеялом. Он фанатически служил неведомому божеству, но только выбрал это божество вовсе не фанатически. Во времена процветания «субботних фельетонов» Ф. Б.
{365}— он, может быть, с равным усердием служил бы в духе, этих фельетонов.
Ну не подлец ли я выхожу, однако, даже и в твоих глазах, моя современная редакция? Нужды нет, что ты не баядера с Гороховой улицы, нужды нет, что ты сама знаешь, что есть такие литературные баядеры, как мною описанная, — все-таки я подлость делаю, я
не вовремя компрометирую честное и великое дело протеста и гласности.
Не вовремя! не могу я, старый, ненужный человек, слышать равнодушно этого любимого слова доктринеров: не вовремя!.. Я верю в старого Шекспира, верю, что
Время
Всегда на то, что происходит в нем.
{366}
Это во-первых, а во-вторых…
Ну представь ты себе, что перед этакой баядерой проходит явление хоть в виде славянофильства. Что она поймет в этом чуждом ей явлении? Оно для нее сольется с «Домашнею беседою», она облает бессмысленно и возвышенное направление, и людей, из которых один в день смерти и болезненных страданий, юноша-старец
{367}, чертит слабою рукою гимн привета возрождению народа, а другой, также в день смерти, занят логическим развитием заветных философских идей
{368}; людей, которые в те дни, когда мы распевали песню о воеводе Пальмерстоне… (я, право, иногда думал, не моя ли баядера сочинила эту песню
{369}), обращались к родной земле со словами честного и правдивого укора, как Хомяков в известном ныне уже и в печати превосходном стихотворении
{370}…
Жаль, что воззрение, свойственное описанной мною в точности баядере, выразилось в «Искре». Жаль потому, что «Искра» бывала нередко полезным органом необходимой гласности! А от чего впадает «Искра» в подобные промахи? Все от несчастного служения «почтенной» публике.
Да! народу надо служить, а не публике, — и честно следует обращаться с словом. Публике служит, служила и будет служить только литературная тля.
Кстати, не думаешь ли ты, моя молодая и сил и веры полная редакция, что тля-то, так правдиво и точно, как будто под диктовку Белинского, воспетая покойным Панаевым, — перевелась в наше время? Она все та же, — смешались только личности. Хочешь, я, смиренный раб твой, воспевший теперь сказание о юном поборнике юной гласности, воспою в следующем письме сказание о новом Гребешкове?
В последующем… Да как-то еще и это пройдет?
Спешу его заключить разъяснением заявленной мною симпатии к «Отечественным запискам», разъяснением, от которого оторвало меня попавшееся мне слово «публика», возбудившее во мне непомерную диалектическую ярость… Ты немало дивишься, конечно, странности моих симпатий? Но успокойся, — не самим «Запискам» я сочувствую, а некоторым умным статьям г. Бестужева-Рюмина; главным же образом сочувствовал я появлявшимся в этом журнале временами историческим исследованиям г. П. Павлова и сочувствую теперь, сочувствую всем сердцем, деятельности г. Щапова. Все, что мы, ненужные люди, некогда гадательно, смутно предчувствовали, насчет русского быта в истории, гг. Павлов и Щапов возводят в ясно сознанные, твердые положения. А связь наша с нашим прошедшим, с нашею почвою, со всем нашим бытовым, т. е. ясное уразумение во всем этом законов нашего организма народного, — дело немалой важности. Не так ли, моя верующая в народ редакция?
Мои литературные и нравственные скитальчества{371}
<Главы из книги>
Посвящается М. М. Достоевскому
Вы вызвали меня, добрый друг, на то, чтобы я написал мои «литературные воспоминания». Хоть и опасно вообще слушаться приятелей, потому что приятели нередко увлекаются, но на этот раз я изменяю правилам казенного благоразумия. Я же, впрочем, и вообще-то, правду сказать, мало его слушался в жизни.
Мне сорок лет, и из этих 2сорока, по крайней мере, тридцать живу я под влиянием литературы. Говорю «по крайней мере», потому что жить, т. е. мечтать и думать, начал я очень рано; а с тех пор как только я начал мечтать и думать, я мечтал и думал под теми или другими впечатлениями литературными.
Меня, как вы знаете, нередко упрекали, и пожалуй основательно, за употребление различных странных терминов, вносимых мной в литературную критику. Между прочим, например, за слово «веяние», которое нередко употребляю я вместо обычного слова «влияние». С терминами этими связывали нечто мистическое, хотя было бы справедливее объяснять их пантеистически.
Столько эпох литературных пронеслось и надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или, лучше, следы на моей душе, что каждая из них глядит на меня из-за дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой особенный цвет и свой особенный запах.
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten
[121],—
взываю я к ним порою и слышу и чую их веяние…
Вот она, эпоха сереньких, тоненьких книжек «Телеграфа» и «Телескопа», с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью тридцатых годов, окружавшей мое детство, — эпоха, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья, — эпоха бессознательных и безразличных восторгов, в которую наравне с этими вечными песнями восхищались добрые люди и «Аммалат-беком». Эпоха, над которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая, в которой отзывается какими-то зловеще-мрачными веяниями тогдашнее время в трагической участи Полежаева. Несмотря на бессознательность и безразличность восторгов, на какое-то беззаветное упоение поэзиею, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настройству… А тут является колоссальный роман Гюго и кружит молодые головы; а тут Надеждин в своем «Телескопе» то и дело поддает романтического жара переводами молодых лихорадочных повестей Дюма, Сю, Жанена…
Яснеет… Раздается могущественный голос, вместе и узаконивающий и пришпоривающий стремления и неясные гадания эпохи, — голос великого борца, Виссариона Белинского. В «Литературных мечтаниях», как во всяком гениальном произведении, схватывается в одно целое все прошедшее и вместе закидываются сети в будущее.
Веет другой эпохой.
Детство мое лично давно уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не было, собственно, и юности. Юность, настоящая юность, началась для меня очень поздно, а это было что-то среднее между отрочеством и юностью. Голова работает как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам, а сердце живет только мечтательною, книжною, напускною жизнью. Точно не я это живу, а разные образы литературы во мне живут. На входном пороге этой эпохи написано: «Московский университет после преобразования 1836 года» — университет Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университет таинственного гегелизма, с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой, — университет Грановского…
A change came over the spirit of my Dream…
[122]
Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Этот мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербуржская литература… В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние, — но с другой стороны я узнал, с его запахом довольно тухлым и цветом довольно грязным, мир панаевской «Тли», мир «Песцов», «Межаков» и других темных личностей, мир «Александрии» в полном цвете ее развития с водевилями г. Григорьева I и еще скитавшегося Некрасова-Перепельского, с
особенным креслом для одного богатого купчика и вместе с высокой артисткой, заставлявшей порою забывать этот странно-пошлый мир.
И затем — опять Москва. Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящяя молодость, с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами. Новые встречи, новые люди, люди, в которых нет ничего или очень мало книжного, люди, которые «продерживают» в самих себе и в других все напускное, все подогретое и носят в душе беспритязательно, наивно до бессознательности веру в народ и народность. Все «народное», даже местное, что окружало мое воспитание, все, что я на время успел почти заглушить в себе, отдавшись могущественным веяниям науки и литературы, — поднимается в душе с нежданною силою и растет, растет до фантастической исключительной меры, до нетерпимости, до пропаганды… Пять лет новой жизненной школы.
И опять перелом.
Западная жизнь воочию развертывается передо мною чудесами своего великого прошедшего и вновь дразнит, поднимает, увлекает. Но не сломилась в этом живом столкновении вера в свое, в народное. Смягчала она только фанатизм веры.
Таков процесс умственный и нравственный.
Не знаю, станет ли у меня достаточно таланта, чтобы очертить эти различные эпохи, дать почувствовать их, с их запахом и цветом. Если для этого достаточно будет одной искренности, — искренность будет полная, разумеется, по отношению к умственной и моральной жизни.
Одно я знаю: я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый исторический интерес.
1862 г. сентября 12
Часть Первая
Москва и начало тридцатых годов литературы
Мое младенчество, детство и отрочество
I. Первые общие впечатления
Если вы бывали и живали в Москве, да не знаете таких ее частей, как, например, Замоскворечье и Таганка, — вы не знаете самых характеристических ее особенностей. Как в старом Риме Трастевере, может быть, не без основания хвалится тем, что в нем сохранились старые римские типы, так Замоскворечье и Таганка могут похвалиться этим же преимущественно перед другими частями громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою. От ядра всех русских старобытных городов, от кремля, или кремника, пошел сначала белый, торговый город; потом разросся земляной город, и пошли раскидываться за реку разные слободы. В них уходила из-под влияния административного уровня и в них сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневоле закисала в застое. Общий закон нашей истории — уход земской жизни из-под внешней нормы в уединенную и упорную замкнутость расколов — повторился и в Москве, то есть в развитии ее быта.
Бывали ли вы в Замоскворечье?.. Его не раз изображали сатирически; кто не изображал его так? — Право, только ленивый!.. Но до сих пор никто, даже Островский, не коснулся его поэтических сторон. А эти стороны есть — ну, хоть на первый раз — внешние, наружные. Во-первых, уж то хорошо, что, чем дальше идете вы вглубь, тем более Замоскворечье тонет перед вами в зеленых садах; во-вторых, в нем улицы и переулки расходились так свободно, что явным образом они росли, а не делались… Вы, пожалуй, в них заблудитесь, но хорошо заблудитесь…
Пойдемте, например, со мною от большого каменного моста прямо, все прямо, как вороны летают. Миновали мы так называемое Болото… да! главное представьте, что мы идем с вами поздним вечером. Миновали мы Болото с казенным зданием винного двора, тут еще нет ничего особенного. Оно, пожалуй, и есть, да надобно взять в сторону на Берсеневку или на Солодовку, но мы не туда пойдем. Мы дошли до маленького каменного моста, единственного моста старой постройки, уцелевшего как-то до сих пор от усердия наших реформаторов-строителей и напоминающего мосты итальянских городов, хотя бы, например, Пизы. Перед нами три жилы Замоскворечья, то есть, собственно, главных-то две: Большая Полянка да Якиманка, третья же между ними какой-то межеумок. Эти две жилы выведут нас к так называемым воротам: одна, правая жила — к Калужским, другая, левая — к Серпуховским. Но не в воротах сила, тем более что ворот, некогда действительно составлявших крайнюю грань городского жилья, давно уж нет, и город-растение разросся еще шире, за пределы этих ворот.
Я мог бы пойти с вами по правой жиле, и притом пойти по ней в ее праздничную, торжественную минуту, в ясное утро 19 августа, когда чуть что не от самого Кремля движутся огромные массы народа за крестным ходом к Донскому монастырю, и все тротуары полны празднично разрядившимся народонаселением правого Замоскворечья, и воздух дрожит от звона колоколов старых церквей, и все как-то чему-то радуется, чем-то живет, — живет смесью, пожалуй, самых мелочных интересов с интересом крупным ли, нет ли — не знаю, но общим, хоть и смутно, но общественным на минуту. И право, — я ведь неисправимый, закоренелый москвич, — хорошая это минута. Общее что-то проносится над всей разнохарактерной толпой, общее захватывает и вас, человека цивилизации, если вы только не поставите себе упорно задачи не поддаваться впечатлению, если вы будете упорно вооружаться против формы.
Но мы не пойдем с вами по этой жиле, а пойдем по левой, при первом входе в которую вас встречает большой дом итальянской, и хорошей итальянской, архитектуры. Долго идем мы по этой жиле, и ничто особенное не поражает вас. Дома как дома, большею частью каменные и хорошие, только явно назначенные для замкнутой семейной жизни, оберегаемой и заборами с гвоздями, и по ночам сторожевыми псами на цепи; от внезапного яростного лая которого-нибудь из них, вскочившего в припадке ревности и усердия на самый забор, вздрогнут ваши нервы. Между каменных домов проскачут как-нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но какие-то запущенные, как-то неприветливо глядящие, как-то сознающие, что они тут не на месте на этой хорошей, широкой и большой улице.
Дальше. Остановитесь на минуту перед низенькой, темно-красной, с луковицами-главами церковью Григория Неокесарийского. Ведь, право, она не лишена оригинальной физиономии, ведь при ее создании
что-то явным образом бродило в голове архитектора, только это
что-то в Италии выполнил бы он в больших размерах и мрамором, а здесь он, бедный, выполнял в маленьком виде да кирпичиком; и все-таки вышло что-то, тогда как ничего, ровно ничего не выходит из большей части послепетровских церковных построек. Я, впрочем, ошибся, сказавши, что в колоссальных размерах выполнил бы свое
что-то архитектор в Италии. В Пизе я видел церковь Santa Maria della Spina, маленькую-премаленькую, но такую узорчатую и вместе так строго стильную, что она даже кажется грандиозною.
Вот мы дошли с вами до Полянского рынка, а между тем уже сильно стемнело. Кой-где по домам, не только что по трактирам, зажглись огни.
Не будем останавливаться перед церковью Успенья в Казачьем. Она хоть и была когда-то старая, ибо прозвище ее намекает на стоянье казаков, но ее уже давно так поновило усердие богатых прихожан, что она, как старый собор в Твери, получила общий, казенный характер. Свернемте налево. Перед нами потянулись уютные, красивые дома с длинными-предлинными заборами, дома большею частью одноэтажные, с мезонинами. В окнах свет, видны повсюду столики с шипящими самоварами; внутри глядит все так семейно и приветливо, что, если вы человек не семейный или заезжий, вас начинает разбирать некоторое чувство зависти. Вас манит и дразнит Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть, может быть, и не существующая на деле.
Идя с вами все влево, я завел вас в самую оригинальную часть Замоскворечья, в сторону Ордынской и Татарской слободы и наконец на Болвановку, прозванную так потому, что тут, по местным преданиям, князья наши встречали ханских баскаков и кланялись татарским болванам.
Вот тут-то, на Болвановке, началось мое несколько-сознательное детство, то есть детство, которого впечатления имели и сохранили какой-либо смысл. Родился я не тут, родился я на Тверской; помню себя с трех или даже с двух лет, но то было младенчество. Воскормило меня, возлелеяло Замоскворечье.
Не без намерения напираю я на этот местный факт моей личной жизни. Быть может, силе первоначальных впечатлений обязан я развязкою умственного и нравственного процесса, совершившегося со мною, поворотом к горячему благоговению перед земскою, народною жизнью.
Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху.
Мне это, коли хотите, даже и легче, потому что давно уже получил я проклятую привычку более рассуждать, чем описывать.
И вот прежде всего я не могу не остановиться на одной личной черте моего раннего развития, которая, как мне кажется, очень характеристична по отношению к целому нашему поколению. Во мне необыкновенно рано началась рефлексия — лет до пяти, именно с того времени, как волею судеб мое семейство переехало в уединенный и странный уголок мира, называемый Замоскворечьем. Помню так живо, как будто бы это было теперь, что в пять лет у меня была уже Аркадия, по которой я тосковал, потерянная Аркадия, перед которой как-то печально и серо — именно серб казалось мне настоящее. Этой Аркадией была для меня жизнь у Тверских ворот, в доме Козина. Почему эта жизнь представлялась мне залитою каким-то светом, почему даже и в лета молодости я с сердечным трепетом проходил всегда мимо этого дома Козина у Тверских ворот, давно уже переменившего имя своего хозяина, и почему нередко под предлогом искания квартиры захаживал на этот двор, стараясь припомнить уголки, где игрывал я в младенчестве; почему, говорю я, преследовала меня эта Аркадия, — дело весьма сложное. С одной стороны, тут есть общая примета моей эпохи, с другой, коли хотите, — дело физиологическое, родовое, семейное.
У всей семьи нашей была своя потерянная Аркадия, Аркадия богатой жизни при покойном деде до французского нашествия, истребившего два больших его дома на Дмитровке; и в особенности одна из моих теток, натура в высшей степени мечтательная и экзальтированная, была полна этим «золотым веком». Разница в том только, что для нее Аркадия была на Дмитровке, для меня — на Тверской, и разница, кроме того, в эпохах.
Я родился в 1822 году. Трех лет я хорошо помню себя и свои бессознательные впечатления. Общественная катастрофа, разразившаяся в это время, катастрофа, с некоторыми из жертв которой мой отец был знаком по университетскому благородному пансиону, страшно болезненно подействовала на мое детское чувство.
Детей большие считают как-то необычайно глупыми и вовсе не подозревают, что ведь что же нибудь да отразится в их душе и воображении из того, что они слышат или видят. Я, например, хоть и сквозь сон как будто, но очень-таки помню, как везли тело покойного императора Александра и какой странный страх господствовал тогда в воздухе…
Да, никто и ничто не уверит меня в том, чтобы идеи не были чем-то органическим, носящимся и веющим в воздухе, солидарным, преемственным…
То, что веяло тогда над всем, то, что встретило меня при самом входе моем в мир, мне никогда, конечно, не высказать так, как высказал это высоко даровитый и пламенный Мюссе в «Confessions d'un enfant du siècle»
[123]. Напомню вам это удивительное место, которым я заключу очерк преддверия моих впечатлений:
«Во времена войн империи, в то время, как мужья и братья были в Германии, тревожные матери произвели на свет поколение горячее, бледное, нервное. Зачатые в промежутки битв, воспитанные в училищах под барабанный бой, тысячи детей мрачно озирали друг друга, пробуя свои слабые
мускулы. По временам являлись к ним покрытые кровью отцы, подымали их к залитой в золото груди, потом слагали на землю это бремя и снова садились на коней.
Но война окончилась; Кесарь умер на далеком острове.
Тогда на развалинах старого мира села тревожная юность. Все эти дети были капли горячей крови, напоившей землю: они родились среди битв. В голове у них был целый мир; они глядели на землю, на небо, на улицы и на дороги, — все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении.
Три стихии делили между собою жизнь, расстилавшуюся перед юношами: за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану, отделяющему старый материк от Америки; не знаю, что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушениями, по временам переплываемое далеким белым парусом или кораблем с тяжелым ходом; настоящий век, наш век, одним словом, который отделяет прошедшее от будущего, который ни то ни другое и походит на то и на другое вместе, где на каждом шагу недоумеваешь, идешь ли по семенам или по праху.
И им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, не день и не ночь; они нашли его сидящим на мешке с костями, закутанным в плащ себялюбия и дрожащим от холода. Смертная мука закралась к ним в душу при взгляде на это видение, полумумию и полупрах; они подошли к нему, как путешественник, которому показывают в Страсбурге дочь старого графа Саарвердена, бальзамированную, в гробу, в венчальном наряде. Страшен этот ребяческий скелет, ибо на худых и бледных пальцах его обручальное кольцо, а голова распадается прахом посреди цветов.
О народы будущих веков! — заканчивает поэт свое вступление. — Когда в жаркий летний день склонитесь вы под плугом на зеленом лугу отчизны, когда под лучами яркого, чистого солнца земля, щедрая мать, будет улыбаться в своем утреннем наряде земледельцу; когда, отирая с мирного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне и вспомните о нас, которых уже не будет более, — скажите себе, что дорого купили мы вам будущий покой; пожалейте нас больше, чем всех наших предков. У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало».
II. Мир суеверий
Хорошая вещь — серьезные и захватывающие жизнь в ее типах литературные произведения. Мало того, что они сами по себе хороши, положительно хороши, — они имеют еще отрицательную пользу: захвативши раз известные типы, художественно и рельефно увековечив их, они отбивают охоту повторять эти типы.
Вот, например, не будь аксаковской «Семейной хроники», я бы неминуемо должен был вовлечься в большие подробности по поводу моего деда, лица, мною никогда не виданного, потому что он умер за год до моего рождения, но по рассказам знакомого мне, как говорится, до точки и игравшего немаловажную роль в истории моих нравственных впечатлений.
Теперь же стоит только согласиться на общий тип кряжевых людей бывалой эпохи, изображенной рельефно и вместе простодушно покойным Аксаковым, да отметить только разности и отличия, и вот образ, если не нарисованный мной самим, то могущий быть легко нарисован читателем.
Дед мой в общих чертах удивительно походил на старика Багрова, и день его, в ту эпоху, когда он уже мог жить на покое, мало разнился, судя по семейным рассказам, от дня Степана Багрова. Чуть что даже калинового подожка у него не было, а что свои талайченки, даже свои собственные калмыки были, это я очень хорошо помню. Разница между ним и Степаном Багровым была только в том, что он, такой же кряжевой человек, поставлен был в иные жизненные условия. Он не родился помещиком, а сделался им, да и то под конец своей жизни, многодельной и многотрудной. Пришел он в Москву из северо-восточной стороны в нагольном полушубке, пробивал себе дорогу лбом, и пробил дорогу, для его времени довольно значительную. Пробил он ее, разумеется, службой, и потому пробил, что был от природы человек умный и энергический. Еще была у него отличительная черта — это жажда к образованию. Он был большой начетчик духовных книг и даже с архиереями нередко спорил; после него осталась довольно большая библиотека, и дельная библиотека, которою мы, потомки, как-то мало дорожили…
Странная вот еще эта черта, между прочим, и опять-таки черта, как мне кажется, общая в нашем развитии, — это то, что мы все маленькие Петры Великие на половину и обломовцы на другую. В известную эпоху мы готовы с озлоблением уничтожить следы всякого прошедшего, увлеченные чем-нибудь первым встречным, что нам понравилось, и потом чуть что не плакать о том, чем мы пренебрегали и что мы разрушали. Мне было уже лет одиннадцать, когда привезли нам в Москву из деревни сундуки с старыми книгами деда. А то была уже эпоха различных псевдоисторических романов, которыми я безразлично упивался, всеми, от «Юрия Милославского» до «Давида Игоревича» и других безвестных ныне произведений, от «Новика» Лажечникова до «Леонида» Рафаила Зотова. Странно повеяли на меня эти старые книги деда в их пожелтелых кожаных переплетах, книги мрачные, степенные, то в лист и печатанные славянским шрифтом, как знаменитое «Добротолюбие», то в малую осьмушку, шрифтом XVIII века, и оригинальные вроде назидательных сочинений Эмина, и переводные вроде творений Бюниана и Иоанна Арндта, и крошечные и полуистрепанные, как редкие ныне издания сатирических журналов: «И то и се», «Всякая всячина». Как теперь помню, как глядел на них с каким-то пренебрежением, как я — а мне отдали право распорядка этой библиотеки — не хотел удостоить их даже чести стоять в одном шкапу с «Леонидами», «Постоялыми дворами», «Дмитриями Самозванцами» и другим вздором, которым, под влиянием эпохи, наполнил я шкап, отделивши от них только сочинения Карамзина, к которому воспитался я в суеверном уважении. Помню, я даже топтал их ногами в негодовании, а все-таки, пожираемый жаждою чтения, заглядывал в них, в эти старые книги, и даже начитывался порою сатирических изданий новиковской эпохи (Рослад и других од, равно как сочинений Княжнина и Николаева одолеть я никогда не мог), и знакомством своим с мыслью и жизнью ближайших предков обязан был я все им же, старым книгам. И как я жалел в зрелые годы об этой распропавшей, раскраденной пьяными лакеями и съеденной голодными мышами библиотеке. Но увы! как и везде и во всем, поздно хватаемся мы за наши предания…
Дед мой был знаком даже с Новиковым, и сохранилось в семье предание о том, как струсил он, когда взяли Новикова, и пережег множество книг, подаренных ему Николаем Ивановичем. Был ли дед масоном — не могу сказать наверное. Наши ничего об этом не знали. Лицо, принадлежавшее к этому ордену и имевшее, как расскажу я со временем, большое влияние на меня в моем развитии, говорило, что был.
Дед и мир, когда-то вокруг его процветавший, мир довольства и даже избытка, кареты четверней, мир страшного, багровского деспотизма, набожности, домашних свар — это была Аркадия для моей тетки, но далеко не была это Аркадия для моего отца, человека благодушного и умного, но нисколько не экзальтированного.
Когда приезжали к нам из деревни погостить бабушки и тетки, я решительно попадал под влияние старшей тетки; о ней, как о лице довольно типическом, я буду говорить еще не раз. Натура страстная и даровитая, не вышедшая замуж по страшной гордости, она вся сосредоточилась в воспоминаниях прошедшего. У нее даже той был постоянно экзальтированный, но мне только уже в позднейшие года начал этот тон звучать чем-то комическим. Ребенком я отдавался ее рассказам, ее мечтам о фантастическом золотом веке, даже ее несбыточным, но упорным надеждам на непременный возврат этого золотого века для нашей семьи.
Была даже эпоха и… я обещался быть искренним во всем, что относится к душевному развитию, буду искренен до последней степени, — эпоха вовсе не первоначальной молодости, когда, под влиянием мистических идей, я веровал в какую-то таинственную связь моей души с душою покойного деда, в какую-то метемпсихозу не метемпсихозу, а солидарность душ. Нередко, возвращаясь ночью из Сокольников и выбирая всегда самую дальнюю дорогу, ибо я любил бродить в Москве по ночам, я, дойдя до церкви Никиты-мученика в Басманной, останавливался перед старым домом на углу переулка, первым пристанищем деда в Москве, когда пришел он составлять себе фортуну, и, садясь на паперть часовни, ждал по получасу, не явится ли ко мне старый дед разрешить мне множество тревоживших мою душу вопросов. На ловца обыкновенно и зверь бежит. С человеком, наклонным к мистическому, случаются обыкновенно и факты, незначительные для других, но влекущие его лично в эту странную бездну. Раза два в жизни, и всегда перед разными ее переломами, дед являлся мне во сне. Дело психически очень объяснимое, но питавшее в душе наклонность ее к таинственному миру.
Суеверия и предания окружали мое детство, как детство всякого большой или небольшой руки барчонка, окруженного большой или небольшой дворней и по временам совершенно ей предоставляемого. Дворня, а у нас именно испокон века велась она, несмотря на то, что отец мой только что жил достаточно, была вся из деревни, и с ней я пережил весь тот мир, который с действительным мастерством передал Гончаров в «Сне Обломова». Когда наезжали родные из деревни, с ними прибывали некоторые члены тамошней обширной дворни и поддавали жара моему суеверному, или, лучше сказать, фантастическому, настройству новыми рассказами о таинственных козлах, бодающихся в полночь на мостике к селу Малахову, о кладе в Кириковском лесу — одной из главных основ надежды моей тетки на возврат Аркадии, о колдуне-мужике, зарытом на перекрестке. Да прибавьте еще к этому старика-деда, брата бабушки, который впоследствии, когда мне было уже десять лет, жил у нас со мной на мезонине, читал все священные книги и молился, даже на молитве и умер, но вместе с тем каждый вечер рассказывал с полнейшею верою истории о мертвецах и колдуньях, да прибавьте еще двоюродную тетку, наезжавшую с бабушкой из деревни, — тетку, которая была воплощение простоты и доброты, умевшую лечить домашними средствами всю окрестность, которая никогда не лгала и между тем сама, по ее рассказам, видала виды…
На безобразно нервную натуру мою этот мир суеверий подействовал так, что в четырнадцать лет, напитавшись еще, кроме того, Гофманом, я истинно мучился по ночам на своем мезонине, где спал я один с Иваном, или Ванюшкой, который был моложе меня годом. Лихорадочно-тревожно прислушивался я к бою часов, а они же притом шипели и сипели страшно неистово, и засыпал всегда только после двенадцати, после крика предрассветного петуха.
С летами это прошло, нервы поогрубели, но знаете ли, что я бы дорого дал за то, чтоб снова испытать так же нервно это сладко-мирительное, болезненно-дразнящее настройство, эту чуткость к фантастическому, эту близость иного, странного мира… Ведь фантастическое вечно в душе человеческой и, стало быть, так как я только в душу и верю, в известной степени законно.
III. Дворня
Но не одно суеверие развило во мне ранние отношения к народу. Один великий писатель в своих воспоминаниях сказал уже доброе слово в пользу так называемой дворни и отношений к ней, описывая свой детский возраст. Немало есть и дурного в этом попорченном отсадке народной жизни, дурного, в котором виноват не отсадок, а виновато было рабство, — немало дурного, разумеется, привилось и ко мне, и привилось главным образом не в пору. Рано, даже слишком рано пробуждены были во мне половые инстинкты и, постоянно только раздражаемые и неудовлетворяемые, давали работу необузданной фантазии; рано также изучил я все тонкости крепкой русской речи и от кучера Василья наслушался сказок о батраках и их известных хозяевах, — и вообще кучера Василья во многих отношениях я должен считать своим воспитателем, почти наполовину с моим первым учителем…
Но была и хорошая, была даже святая сторона в этом сближении с народом, с его даже попорченными элементами. Разумеется, бессознательно поступали мой отец и моя мать, не удаляя меня от самых близких отношений с дворовыми, но, во всяком случае, это делает большую честь их благодушному и простому взгляду, тем более делает честь, что в них, как во всей нашей семье, было ужасно развито чувство дворянской амбиции во всех других жизненных отношениях. В этом же все шло по какому-то исстари заведенному порядку. Надобно сказать также к их чести, что и собственные отношения к дворне по большей части были человеческие, т. е. настолько человеческие, насколько человечность была мыслима и возможна при крепостном праве. Ела у них наша дворня всегда хорошо, работала мало, пила, как мужской пол, так и женский постарше, до крайнейшего безобразия. Раз даже отец не купил весьма выгодно продававшегося с аукциона дома потому только, что подле него был кабак и что тогда, по
основательному возражению матери, Василья с Иваном старшим пришлось бы ежечасно оттуда вытаскивать, да и старуху няньку мою Прасковью точно так же. Между прочим, я сказал, что отношения моих родителей к дворне были человечны
большею частью, и сказал не без основания. В матери моей было в высокой степени развито чувство самой строгой справедливости, но с девяти лет моего возраста я уже не помню ее здоровою. Что за болезнь началась у ней и продолжалась до самой ее смерти, я не знаю. Знаменитый по Таганке и Замоскворечью доктор Иван Алексеич Воскресенский постоянно лечил ее, по более двадцати лет болезнь ее грызла, и несколько дней в месяц она, бедная мать моя, переставала быть человеком. Даже наружность ее изменялась: глаза, в нормальное время умные и ясные, становились мутны и дики, желтые пятна выступали на нежном лице, появлялась на тонких губах зловещая улыбка, и тогда забывалось всякое чувство справедливости… Совершенно лишенная образования, читавшая даже по складам, хотя от природы одаренная замечательным здравым рассудком и даже эстетическим чутьем, — она пела очень хорошо по слуху, — бедная мать моя совершенно извращена была ужасной болезнью. Во время приливов или припадков этой болезни светлые, хорошие стороны ее личности исчезали, свойства, в умеренном виде хорошие, как, например, хозяйственная заботливость и расчетливость, переходили в ужасные крайности: неудовлетворенное, обиженное судьбою самолюбие даровитой, но лишенной средств развития личности выступало дно на месте всех душевных качеств. А бывали минуты, — увы! чем далее шла жизнь, тем становились они реже, — когда она как будто светлела и молодела. Прекрасные и тонкие черты ее лица прояснялись, не теряя, впрочем, никогда некоторой строгости не строгости, а какой-то грустной серьезности; движения теряли резкость и становились гибкими; голос, болезненно надорванный, звучал благородными контральтовыми звуками. О как я любил ее в эти редкие минуты! Откуда являлось у нее вдруг столько женственного такта в разговоре с посторонними, такое отсутствие выжимок и ужимок, ощипываний и одергиваний, отличавшее ее резко от всех других барынь нашего круга, барынь, походивших большею частью на мать Хорькова в «Бедной невесте».
С другой стороны, отец, человек с весьма светлым умом и с благодушием таким, что покойный дед, энергический и кряжевый человек, звал его отчасти любовно, а отчасти насмешливо Израилем; запуганный даже отчасти с детства, иногда, хотя очень редко, раза два в год, повторял в жизни багровские выходки деда. И вовсе ведь не потому, чтобы в это время он был особенно выведен безобразием дворни из границ человеческого терпения. Если бы так, то поводы к выходу из нормального, благодушного состояния представлялись ежедневно. Нет, это было нечто физиологическое, дань чему-то родовому, нечто совсем бешеное и неистовое, нечто такое, чего приливы я сам, конечно, по другим поводам, чувствовал иногда в себе и чему тоже отдавался, как зверь… С летами в нем эти приливы родового неистовства становились все реже и реже. Он был и лицом и характером похож на свою мать, мою бабушку, — бабушку, которую знал я только старушкою и которая всегда являлась мне невозмутимо кроткою, спокойною, глубоко, но никак не до ханжества благочестивою, с разумным словом, с вечною до крайности даже нежною и беспокойною заботливостью о своих бедных дочерях, моих старых тетках, с благоговейною памятью о своем строгом и не всегда ровном Иване Григорьиче и с явными следами на своей натуре влияния этой кряжевой личности, следами, очевидными в ее здравых религиозных понятиях, в ее твердой вере в справедливость… Да! по многому вправе я заключить, что далеко не дюжинный человек был дед. Служа, он, как и все, вероятно, брал если не взятки, то добровольные поборы, но таковы были понятия окружавшей его среды; помимо этих понятий в нем жило крепко чувство добра и чести, и была в нем еще, по рассказам всех его знавших, даже дальних родных и посторонних, необоримая, ветхозаветная вера в бога Израилева, в бога правды, была в нем святая гордость, которая заставляла его не держать языка на привязи где бы то ни было и перед кем бы то ни было… перед архиереями ли, с которыми он любил водиться, перед светскими ли властями, с которыми он поставляем был судьбою в столкновение.
Но я опять увлекся любимым образом моего детства, этим идеалом, с которым я долго-долго сопоставлял моего умного и благодушного, но весьма нехарактерного отца, никак не видя, что у него совсем другая природа, любя его инстинктивно, но не уважая разумно его собственных, личных хороших сторон.
Родовые вспышки отца и ежемесячные припадки болезни матери нарушали обычную распущенность нашей жизни, но они же развили во мне чувство сострадания до болезненности. Я ревел до истерик, когда доставалось за пьянство кучеру Василью или жене его, моей старой няньке, за гульбу по ночам и пьянство человеку Ивану и за гульбу с молодцами моей молодой и тогда красивой няньке Лукерье… Я всегда являлся предстателем в этих случаях, и отец даже в порывах бешенства, по благодушию своей природы, любил во мне это предстательство. Что он любил, это очень хорошо, но напрасно он показывал мне, что он это любит. Это развило во мне какое-то раннее актерство чувством, раннюю способность к подогреванию собственной чувствительности… Помню, — мне было лет девять, — нарыдавшись инстинктивно, я, прежде чем идти к отцу просить за отправленного в часть Василья или Ивана, смотрелся в зеркале, достаточно ли вид у меня расстроен.
Но, во всяком случае, я с дворовыми жил совершенно интимно. У них от меня секретов не было, ибо они знали, что я их не выдам. Лет уже четырнадцати-пятнадцати даже я запирал двери за Иваном, уходившим «в ночную» к своим любовницам, и отпирал их ему в заутрени; уже студентом привозил несколько раз, сам правя лошадью, кучера Василья в своих объятиях поздним вечером, тихонько отворяя ворота…
И они любили меня, разумеется, любили по-своему — любили до тех пор, пока в позднейшую эпоху жизни интересы их не столкнулись с моими. Разумеется, нечего винить их за свою корыстную любовь. Грех не на них, а все-таки на крепостном праве, много развратившем высокую природу русского человека. Одна старая нянька (она же была у нас долгое время и кухаркой, пока не
купили повара) любила меня инстинктивно, сердечно — умерла даже с желанием хотя бы глазком взглянуть на меня, бывшего в Петербурге в минуту ее смерти, — да и то, я думаю, потому, что она была вольная из Арзамаса и по страстной любви, овдовевши после первого брака, вышла за пьяного крепостного кучера Василья…
А много, все-таки много обязан я тебе в своем развитии, безобразная, распущенная, своекорыстная дворня… Нет или мало песен народа, мне чуждых; звучавшие детскому уху, они отдалились, как старые знакомые в поздней молодости, они, на время забытые, пренебреженные, попранные даже, как старые книги деда, восстали потом душе во всей их непосредственной красоте… Во все народные игры игрывал я с нашею дворнею на широком дворе; и в бую, и в лапту, и даже в чехарду, когда случалось, что отец и мать уезжали из дому в гости и не брали меня; все басни народного животного эпоса про лисицу и волка, про лисицу и петуха, про житье-бытье петуха, кота и лисицы в одном доме — переслушал я в осенние сумерки от деревенской девочки Марины, взятой из деревни собственно для забавы мне, — лежа, закутанный в шубку, в старом ларе в сарае…
Наезжали порою мужики из бабушкиной деревни. Вот тут-то еще больше наслушивался я диковинных рассказов — постоянно уже проводя все время с мужиками на кухне. Всех я их знал по рассказам, многих лично; со мной они, предупрежденные дворней, не чинились и не таились… Ужасно я любил их и, провожая почтенных мужиков, как староста Григорий, поминал даже в своих детских молитвах после родных и ближайших окружающих…
IV. Сторона
Да и сторона-то, надобно сказать, была такая, которая могла нарезать на душе неизгладимые следы!
Я начал историю своих впечатлений с общего образа Замоскворечья, рискуя, и, конечно, рискуя сознательно, попасть на зубок нашим различным обличительным изданиям. Я сказал уже, кажется, что Замоскворечье не только особый мир, а соединение разных особых миров, носящих каждый свою отдельную, типовую физиономию.
Встанемте с вами, читатели, бывшие в Москве, на высоте Кремля, с которой огромным полукружием развертывается перед вами юго-восточная, южная и юго-западная часть Москвы. Если я с самого начала не повел вас туда, на кремлевскую гору, то, покаюсь в этом, во избежание рутинного приема. Вид Москвы с кремлевской вершины почти такое же избитое место, как вид ее с Воробьевых гор. И теперь я становлюсь с вами на этом пункте только потому, что так мне нужно…
Панорама пестра и громадна, поражает пестротою и громадностью, но все же в ней есть известные, выдающиеся точки, к которым можно приковать взгляд… Он упирается налево в далекой дали в две огромных колокольни двух монастырей: Новоспасского и Симонова… Старые монастыри — это нечто вроде драгоценных камней в венцах, стягивающих в пределы громадный город-растение, или, если вам это сравнение покажется вычурным, — нечто вроде блях в его обручах… Дело не в цвете сравнения, а в его сущности, и сущность, если вы взглянете без предубеждения, будет верна; старые пласты города стягивает обруч с запястьями-монастырями, состоящими в городской черте: бывшим Алексеевским, который я еще помню и на месте которого высится теперь храм Спасителя, упраздненным Новинским, Никитским, Петровским, Рождественским, Андрониевским; разросшиеся слободы стянуты тоже обручем горизонтальной линии, на которой законными, останавливающими взгляд пунктами являются тоже монастыри: Новоспасский, Симонов, Донской, Девичий…
Я обратил ваше внимание на дальние точки горизонтальной линии, потому что к одному из этих пунктов «тянет», по допетровскому пластическому выражению наших дьяков, та или другая сторона Москвы, сторона с особенным видом и характером. Внутри городской черты монастыри потеряли свое значение притягивающих пунктов, хотя прежде, вероятно, имели его: ведь на обруче Китай-города есть тоже свои бляхи: Знаменский, Богоявленский монастыри и т. д. В Замоскворечье и в Таганке, которая «тянет» наполовину к Аидроньеву, наполовину к «Спасу-новому», типовой характер монастырей уцелел, разумеется, более… Особый характер, особый цвет и запах жизни у юго-восточного Замоскворечья, которое «тянет» к Симонову, и у южного и юго-западного, которые «тянут» к Донскому…
Идя с вами в глубь Замоскворечья, я указал вам на его три или, собственно, две главные жилы, кончающиеся не существующими на деле воротами, но не упомянул о третьей, огромной юго-восточной жиле, о Пятницкой, названной так по церкви мифически-народной святой Пятницы-Прасковеи.
Но не церковь Пятницы-Прасковеи поражает и останавливает ваш взгляд с кремлевской вершины, когда вы, отклоняя постепенно глаза от юго-востока, ведете их по направлению к югу, а пятиглавая, великолепная церковь Климента папы римского. Перед ней вы остановитесь и идя по Пятницкой: она поразит вас строгостью и величавостью своего стиля, своею даже гармониею частей… Но особенно выдается она из бесчисленного множества различных узорочных церквей и колоколен, тоже оригинальных и необычайно живописных издали, которыми в особенности отличается юго-восточная часть Замоскворечья… Путешествуя по его извилистым улицам, заходя дальше и все дальше вглубь, вы натолкнетесь, может быть, на более оригинальный стиль старых, приземистых и узорчатых церквей с главами-луковицами, но издали надо всем властвует, без сомнения, Климент. Около него, по Пятницкой и вправо от нее, сосредоточилась в свои каменные дома и дворы с заборами, нередко каменными, жизнь по преимуществу купеческая; влево жизнь купеческая сплетается с мелкомещанскою, мелкочиновническою и даже, пожалуй, мелкодворянскою. Идя по Пятницкой влево, вы добредете даже до Зацепы, этого удивительного уголка мира, где совершается невозможнейшая с общечеловеческой точки зрения и вместе одна из наидействительнейших драм Островского «В чужом пиру похмелье», где хозяйка честного учителя берет расписку с Андрюши Брускова в женитьбе на дочери своего постояльца, и «Кит Китыч» платится по этой странной расписке, ибо не знает, что могут сделать «стрюцкие», и внутренне боится их, хотя и ломается над пропившимся «стрюцким» Сахаром Сахарычем… Тут, между Зацепой и комиссариатом, две жизни: жизнь земщины и жизнь «стрюцких» живут рядом одна с другою, растительно сплетаются, хоть не смешиваются и тем менее амальгамируются.
Только затем, изволите видеть, я и водил вас на вершину Кремля, чтобы оттуда различить для вас две полосы Замоскворечья. Детство мое прошло в первой, юго-восточной, отрочество и ранняя молодость — в юго-западной.
Жизнь, которая окружала меня в детстве, была наполовину жизнь дворянская, наполовину жизнь «стрюцких», ибо отец мой служил, и служил в одном из таких присутственных мест, в которые не проникал уровень чиновничества, в котором бражничало, делало дела и властвовало подьячество… Эта жизнь «стрюцких» соприкасалась множестом сторон с жизнью земщины, и в особенности в уголке мира, лежащем между комиссариатом, Зацепой и Пятницкой.
Как теперь, видится мне мрачный и ветхий дом с мезонином, полиняло-желтого цвета, с неизбежными алебастровыми украшениями на фасаде и чуть ли даже не с какими-то зверями на плачевно-старых воротах, дом с явными претензиями, дом с дворянской амбицией, дом, в котором началось мое сознательное детство. Два таких дома стояли рядом, и некогда оба принадлежали одному дворянскому семейству, не из сильно, впрочем, родовитых, а так себе… Обитатели дома, в который мы переехали с Тверской, были женские остатки этого когда-то достаточного семейства: вдова-барыня с двумя дочерьми-девицами. Хозяин другого, племянник вдовы, жил где-то в деревне, и дом долго стоял опустелый, только на мезонине его в таинственном заключении жила какая-то его воспитанница. И об этом мезонине, и об этой заключеннице, и о самом хозяине пустого дома, развратнике, по сказаниям, и фармазоне, ходили самые странные слухи.
Оба дома смотрели на церковную ограду Спасо-Болвановской церкви, ничем, впрочем, кроме своего названия, не замечательной, стояли какими-то хмурыми гуляками, запущенными или запустившими себя с горя, в ряду других, крепко сколоченных и хозяйственно глядевших купеческих домов с высокими воротами и заборами. Уныло кивал им симпатически только каменный дом с полуобвалившимися колоннами на конце переулка, дом тоже дворянский и значительно более дворянский.
Мрачность ли этих домов с их ушедшим внутрь и все-таки притязательным дворянским честолюбием подействовала сразу на мое впечатлительное воображение или так уж на роду мне было написано воспитывать в душе двойную, т. е. родовую и свою, мечтательную Аркадию, но все время нашего там пребывания, продолжавшегося года четыре до покупки дома в другой, южной стороне Замоскворечья, я относился к этому жилью и к житью в нем с отвращением и даже с ненавистью и все лелеял в детских мечтах Аркадию Тверских ворот с большим каменным домом, наполненным разнородными жильцами, с шумом и гамом ребят на широком дворе, с воспоминаниями о серых лошадях хозяина, седого купца Игнатия Иваныча, которых важивал он меня часто смотреть в чистую и светлую конюшню; об извозчике-лихаче Дементье, который часто катал меня от Тверских ворот до нынешних Триумфальных, вероятно из симпатии к русым волосам и румяным щекам моей младшей няньки; о широкой площади с воротами Страстного монастыря перед глазами и с изображениями на них «страстей господних», к которым любила ходить со мною старая моя нянька, толковавшая мне по-своему, апокрифически-легендарно, эти изображения в известном тоне апокрифического сказания о «сне богородицы».
Многое, может быть, — и начинавшаяся болезнь матери, и начавшаяся для меня проклятая латинская грамматика Лебедева, к которой до сих пор не могу я отнестись без некоторого, самому мне смешного враждебного чувства, и еще более проклятая арифметика, с которой никогда я не мог помириться, будь она Меморского, как прежняя, или Аллеза, Билли, Пюисана, Будро, как последующая; многое, говорю, навевало на меня, может быть, мрак, — но только враждебно относился я к житью-бытью на Болвановке.
Но странная сила есть у прошедшего, и в особенности на нас, людей былого поколения. Чем дальше отдаляли от меня годы это житье, тем больше и больше светлело оно у меня в памяти. Шляясь часто по вечерам по Москве, я в мои зрелые годы углублялся в левую сторону Замоскворечья, но — увы! — и следов старого не было. Уцелели крепко сколоченные купеческие дома, но отняли колонны у каменного дома, выбелили его и придали ему прилично-истертую наружность новые хозяева, а на место амбиционных дворянских домов в конце переулка выстроились новые, чистые купеческие дома. Самая ограда церкви, вилявшая некогда кривою линиею, отступила на шаг и вытянулась в струнку, по ранжиру…
И понятно, кроме общего закона идеализации прошедшего, по мере его удаления от нас, почему светлело для меня спасо-болвановское житье-бытье.
При старом доме был сад с забором, весьма некрепкого и дырявого качества, и забор выходил уже на Зацепу, и в щели по вечерам смотрел я, как собирались и разыгрывались кулачные бои, как ватага мальчишек затевала дело, которое чем дальше шло, тем все больше и больше захватывало больших. О! как билось тогда мое сердце, как мне хотелось тогда быть в толпе этих зачинающих дело мальчишек, мне, барчонку, которого держали в хлопках, изредка только позволяя (да слава богу, что хоть изредка-то!) играть в игры с дворнею! А в большие праздники водились тут хороводы фабричными, и живо, страстно сочувствовал я нашей замкнутой на дворе дворне, которая, облизываясь, как кот, смотрела на вольно шумевшую вокруг нее вольную жизнь!
V. Последнее впечатление младенчества
Да! меня держали в хлопках; жизнь, окружавшая меня, давала мне только впечатления, дразнила меня, и потому все сильнее и сильнее развивалась во мне мечтательность. На меня порою находила даже какая-то неестественная тоска, в особенности по осенним и зимним долгим вечерам. Игрушками я был буквально завален, и они мне наскучили.
Мне шел седьмой год, когда стали серьезно думать о приискании для меня учителя, разумеется, по средствам и по общей методе подешевле. До тех пор мать сама кое-как учила меня разбирать по складам, но как-то дальше буки-рцы-аз pa-бра (так произносил я склад) я не ходил. Вообще я был безгранично ленив до двенадцати лет возраста.
Стали наконец действительно искать учителя, но прежде всего, по известному русскому обычаю покупать прежде подойник, а затем уже корову, купили неизвестно для каких целей указку. Указка была костяная, прекрасивенькая, и я через день же ее сломал, как ломал всякие игрушки. Помню, как теперь, в осенний вечер, когда уже свечи подали, сидел я на ковре в зале, обложенный игрушками, слушая рассказы младшей няньки про бабушкину деревню и стараясь разгадать, что такое Иван, сидевший тут же на ковре, делает с куколками, показывая их Лукерье, и отчего та то ругается, то смеется, — явился учитель-студент в мундире и при шпаге и бойкою походкою прошел в гостиную, где сидел отец. «Учитель, учитель!» — сказала моя нянька и с любопытством заглянула ему вслед в гостиную. «С форсом!» — добавил Иван и опять стал что-то ей таинственно показывать…
Я заревел…
Насилу меня уняли рассказами о будущей моей невесте и о золотой карете, в которой поеду я венчаться, а между тем через четверть часа отворились двери гостиной и отец, провожая студента, указал ему на меня, потом подозвал меня и прибавил: «Так начинайте с богом во вторник».
А во вторник был день Козьмы и Дамиана бессребреников, день, в который обыкновенно учить начинают, по преданиям…
Но, видно, преданиям вообще суждено было всегда носиться вокруг меня, а не исполняться вполне надо мною. Настал день покровителей учения, посадили меня с азбукой и сломанной указкой у окна и велели ждать учителя. Помню, что бессмысленно и вместе тоскливо, ничего не замечая, ничего даже не думая и ни о чем против обыкновения не мечтая, проглядел я с час на улицу. Било одиннадцать — срок, назначенный для урока, — учитель не являлся. С места меня сняли. Било двенадцать — учителя все не было. Пришел час обеда, воротился отец из присутствия.
Дворянская амбиция в нем заговорила.
Воспитанник бывшего благородного пансиона, товарищ по воспитанию Жуковского и Тургеневых, он, несмотря на здравый ум свой и доброту души, был проникнут каким-то странным пренебрежением к поповичам, тем более странным, что в семье у нас было множество родни духовного чина всяких подразделений: от протоиереев до дьяконов и даже ниже. Впрочем, это был уж общий недостаток отца, старшей тетки и дяди, что они не любили расспросов о степенях родства с дядей их протопопом Андреем Иванычем и другими лицами духовного ведомства. У отца же, кроме того, примешивалась специальная антипатия к поповичам, вынесенная им из университетского благородного пансиона. Рассказывая о своем пребывании в нем, он никогда не забывал упомянуть о том, как они, дворянчики, обязанные слушать последний год университетские лекции, перебранивались на лестницах университета с настоящими студентами из поповичей, ходившими в его время в каких-то желтых нанковых брюках в сапоги и нелепых мундирах с желтыми воротниками.
Надо сказать правду, что и в это время, в 1828 г., некрасив был студенческий мундир: синий с красно-оранжевым воротником, он имел в себе что-то полицейское, и университетская молодежь почти никогда не носила его, ходя даже и на лекции в партикулярном платье.
Для отца, по старой памяти, понятие о студенте сливалось с понятием о поповиче. Притом же амбиция произвела в нем мгновенно родовую вспышку, и, когда студент вился вечером, он принял его весьма сухо и, несмотря на его извинения, отказал от уроков…
Так и не удалось мне начать учиться в день преподобных Козьмы и Дамиана.
Опять по-старому принялась учить меня по складам мать, и так же точно по-старому дальше буки-рцы-аз ра-бра мы не подвигались.
Наконец в одни тоже осенние, но уже ноябрьские сумерки приехал младший товарищ отца по службе, секретарь Дмитрий Ильич, с женою, красивою и крайне веселою поповною, любимой ужасно моей матерью за живой и добрый характер и развлекавшей нередко своей болтовней ее ипохондрические припадки. Объявили они за чаем, что вслед за ними будет их «сродственник», отец Иван, священник одного подмосковного села Перова, с сыном, молоденьким семинаристом, только что вступившим в университет и, разумеется, на медицинский факультет. Точно, не позже как через час какой-нибудь прибыл отец Иван в треухе и заячьей шубе, рослый, но худой старик с значительной лысиной, оказавшейся по снятии треуха. За ним выступал робкою поступью, с потупленными долу очами, с розовыми щеками, юноша, чуть не мальчик, во фризовой шинели. Прехорошенький был он тогда, как я его помню… Меня — а я как теперь его вижу — не поразила даже особенная сахарная сладость его физиономии и масленистость глаз, которые заметил я уже впоследствии. Я даже не заревел.
Отец Иван и Дмитрий Ильич «осадили» в вечер графина с четыре ерофеичу на зверобое. Отец мой не пил с ними, ибо уже лет десять тому назад бросил «заниматься этим малодушеством, пить», но усердно их потчевал, был в духе, а когда он был в духе, он как-то невольно располагал всех к веселости, подшучивал над Сергеем Иванычем, — так звали моего будущего юного наставника. Юный наставник, прикашливая по-семинарски, краснея, запинался в ответах; для придания себе «континенту» обратился он ко мне со спросом, как и чем я до него занимался. Я, помню, отвечал ему без малейшей запинки и весело потащил его в залу показывать мои игрушечные богатства. Он не мог скрыть своего изумления и отчего-то ужасно покраснел, увидавши мою младшую няньку.
Дело было порешено. С завтрашнего же дня Сергей Иваныч должен был перебраться к нам.
Начиналось мое «ученье»…
Детство
<…>
III. Товарищи моего учителя
Да! я помню, живо помню тебя, маленькая низкая проходная комната моего наставника, с окном, выходившим на «галдарейку», над которой была еще другая «галдарейка», галдарейка мезонина и мезонинных барышень, хозяйкиных дочерей, — комната с полинявшими до крайней степени бесцветными обоями, с кожаной софою, изъеденной бесчисленными клопами, и с портретом какой-то «таинственной монахини» в старой рамке с вылинявшею позолотою над этой допотопною софою… Под вечер Сергей Иванович, пока еще не зажигали свечей, в час «между волка и собаки», ложился на нее — и я тоже подле него. Он обыкновенно запускал свою очень нежную и маленькую руку в мои волосы, играл ими и рассказывал мне древнюю историю или фантазировал на темы большею частию очень странные. До неестественности впечатлительный, он не бесплодно слушал отцовское (т. е. моего отца) чтение романов Радклиф или Дюкре-Дюмениля: ему самому все хотелось стать героем какой-нибудь таинственной истории — и почему-то к этой таинственной или просто нескладно дикой истории он припутывал и меня.
Но о нем и его странных беседах со мною — после.
Комнатка под вечер становилась почти каждый день местом сходки студентов, товарищей моего учителя. Его когда-то любили, хоть он и не блистал особенной талантливостью, и к нему ходили, потому что он сам редко выходил из дому. Он вообще долгое время был поведения примерного.
Он был, как я уже сказал, очень молод и, главное, мягок как воск. Кроме того, отец его и его родные отдали его в семейный дом, известный столько же строгостью нравов, сколько радушием и хлебосольством, отдали, так сказать, «под начало» к человеку, который в своем круге считался в некотором роде светилом по уму и образованию и даже по-французски говорил нередко с советниками губернского правления или с самими вице-губернаторами, производившими каждый год так называемую «ревизию» в весьма низменном и невзрачном тогда месте, называвшемся Московским магистратом.
Мой отец действительно имел на своих товарищей, и уже тем более на молоденького семинариста, то, что называл он «асандан»… Да и любил же он, покойник, и употреблять (нередко злоупотреблять) и показывать этот «асандан»… Умный и добрый по природе, он основывал свой, этот милый сердцу его, «асандан» не на уме и доброте, а на плохом французском языке да на лоскутьях весьма поверхностного образования, вынесенного им из университетского благородного пансиона… Кроме того, крепко засела в его натуру, да и в натуру всех членов нашего семейства, честь дворянского сословия, может быть, именно потому крепко засела, что происхождение ее, этой сословной чести, не терялось в неизвестности, как источники Нила, — а просто-напросто сказывалось родством из духовенства по мужской линии да вольноотпущенничества по женской.
И странное это дело! Ну добро бы отец, несмотря на свой ум, все-таки человек весьма прозаический, был заражен этой сословною честью! Старшая тетка, экзальтированная до понимания многих возвышенных вещей, с увлечением читавшая Пушкина и с жаром повторявшая «Исповедь Наливайки», — и та скрывала от себя источники нашего Нила, а дядя — впечатлительный головою до всяческого вольнодумства — терпеть не мог этих источников. Я ведь вот уверен, что, если эти страницы и теперь попадутся моей старшей тетке, которая и сама, может быть, не подозревает, как много она имела влияния на мое отроческое развитие своей по формам странной, но страстной и благородной экзальтацией, — я уверен, говорю я, что моя плебейская искренность и теперь даже сделает на нее очень неприятное впечатление.
Всю эту речь вел я к тому, чтобы объяснить свойство того «асандана», который имел мой отец на моего наставника и которым обусловливалось многое, почти что все в обстановке жизненной этого последнего, — обусловливалось уже всеконечно и его товарищество. Живя в семейном доме, и притом почти как член семьи, откармливаемый на славу и хотя вознаграждаемый денежно весьма скудно, но не имевший возможности найти себе что-либо повыгоднее, — он, конечно, должен был хотя-нехотя сообразоваться со вкусами и привычками дома.
Кто ходил к нему, тот большею частию становился общедомашним знакомым, стало быть, так или иначе приходился «ко двору», а кто ко двору не приходился, тот, наверно всегда можно было сказать, ходил недолго.
А между тем университет, к которому принадлежал мой юный наставник, был университетом конца двадцатых и начала тридцатых годов, и притом университет Московский — университет, весь полный трагических веяний недавней катастрофы и страшно отзывчивый на все тревожное и головокружительное, что носилось в воздухе под общими именами шеллингизма в мысли и романтизма в литературе, университет погибавшего Полежаева и других.
Я бы мог по источникам той эпохи, довольно близко мне знакомым, наговорить много об этом тревожном университетском поколении, но я поставил себе задачею быть историком только тех веяний, которые сам я перечувствовал, передать цвет и запах их, этих веяний, так, как я сам лично припоминаю, и в том порядке, в каком они на меня действовали.
Ясное дело, что ни с Полежаевым, ни с кругом подобных этой волканической личности людей мой Сергей Иванович не был и не мог быть знаком, как по своей
мягкой и ослабленной натуре, так и по своей обстановке, по свойству того «асандана», которому он подчинился.
Ему это, впрочем, и тяжело-то особенно не было. «Романтизм» коснулся его натуры только комическими сторонами, т. е. больше насчет чувствий, да разве изредка насчет пьянства, но ни стоять по вечерам на тротуарных столбиках перед окнами низеньких домов Замоскворечья, ни даже изредка предаваться пьянству «асандан» не воспрещал ему нисколько. Похождения его «асанданом» даже поощрялись, потому что служили немалою потехою в однообразной домашней жизни. А пьянство — как известно всем, «даже не учившимся в семинарии», — и пороком-то вообще не считается в обычном земском быту…
Буйства, буйства в различных его проявлениях, неуважения к существующему боялся мой отец… Вот чего!.. Запуганный сызмальства кряжевым деспотизмом кряжевого человека, каков был мой дед, хоть не физически, но морально забитый до того, что из благородного пансиона никаких впечатлений не вынес он, кроме стихотворения.
Танцовальщик танцовал,
А сундук в углу стоял;
никаких воспоминаний, кроме строгости инспектора, барона Девильдье, — разошедшийся почти тотчас же по выходе из заведения с товарищами, из которых многие стали жертвою катастрофы, и ошеломленный этою катастрофою до ее положительного непонимания, — он если не был убежден в том, что
Ученость — вот чума, ученость — вот причина! —
то зато вполне чувствовал глубокий смысл пословицы, что «ласково телятко две матки сосет», — и как рассудочно-умный человек инстинктивно глубоко разумел смысл нашей общественной жизни, где люди делились тогда очень ярко на две категории: на «людей больших» и «людей маленьких»… Ну, большому кораблю большое и плавание, — а маленькие люди всячески дожны остерегаться буйства.
Буйные люди, стало быть, не ходили к моему наставнику, а ходили всё люди смирные: только некоторые из них в пьяном образе доходили до сношений более или менее близких с городскою полициею, да и такие были, впрочем, у отца на дурном замечании и более или менее скоро выпроваживались то тонкою политикою, то — увы! в случае внезапных приливов самодурства — и более крутыми мерами, от строгих увещаний Сергею Ивановичу до зверообразных взрывов, свойственных вообще нашей весьма взбалмошной, хоть и отходливой сердцем породе.
Но смирным, «нежным» сердцам отец нисколько не мешал. Напротив, сам, бывало, придет, балагурит с ними, неистощимо и интересно рассказывает предания времен Екатерины, Павла, двенадцатого года, сидит чуть не до полночи в табачном дыму, от которого, бывало, хоть «топор повесь» в воздухе маленькой комнатки, — а поймает некоторых, так сказать, своих любимцев и в парадные комнаты позовет — и «торжественным», т. е. не обычным, чаем угощает часов в семь вечера…
Потому точно: люди все были подходящие и уступчивостью и добрыми правилами отличались. Многие даже приятными талантами блистали — и гитара переходила из рук в руки, и молодые здоровые голоса, с особенною крылосною грациею и с своего рода меланхолиею, конечно, более, так сказать, для шику на себя напущенною, воспевали или:
Под вечер осенью ненастной
В пустынных дева шла местах,
или «Прощаюсь, ангел мой, с тобою…», или — с особенною чувствительностию:
Не дивитесь, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался,—
на известный глубоко задушевный народно-хохлацкий мотив, на который доселе еще поется эта песня Раича во всякой стародавней «симандро» (семинарии) и «Кончен, кончен дальний путь…» во всякой лакейской, если лакейские еще не совсем исчезли с лица земли… Отец мой — и это, право, было очень хорошее в нем свойство, как вообще много хороших свойств выступит в нем в течение моего правдивого рассказа, — любил больше заливные народные песни, но с удовольствием слушал и эти тогда весьма ходившие в обороте романсы. Мать моя также в свои хорошие минуты до страсти любила музыку и пение.
Все это было прекрасно, и хорошая нравственность молодых людей, и кротость их, и их песни, и их невинные, приличные возрасту их амурные похождения, которые отец, начинавший уже жить в этом отношении только воспоминаниями, выслушивал с большим любопытством, приговаривая иногда светское присловие: «знай наших камышинских», и которые я, притаившись во тьме какого-нибудь уголка, подслушивал с странной тревогой… Все это было прекрасно, повторяю, — и отец, сберегая Сергея Иваныча от людей буйных и удовлетворяя собственному вкусу к мирным нравам, имел, без сомнения, в виду и во мне развить добрую нравственность, послушание старшим, необходимую житейскую уступчивость и другие добродетели.
Но есть в беспредельной, вечно иронической и всевластной силе, называемой жизнию, нечто такое, что постоянно, злокозненно рушит всякие мирные Аркадии; есть неотразимо увлекающие, головокружащие вихри, которые, вздымая волны на широких морях, подымают их в то же время на реках, речках, речонках и даже ручейках — не оставляют в покое даже болотной тины, — вихри мысли, взбудораживающие самую сонную тишь, вихри поэзии, как водопад, уносящие все за собою… Вихри мирового исторического движения, наконец, оставляющие за собою грозные памятники ломки или величавые следы славы.
Вот ведь во всем этом кружке товарищей моего Сергея Иваныча были только, собственно, две личности, которые всурьез принимали жизнь и ее требования. Одна из этих личностей, глубоко честная, глубоко смиренная личность, которой впоследствии я был обязан всеми положительными сведениями, — пошла нести крест служения науке с упорством любви, с простотою веры. Другая, сколько я ее помню, тем отнеслась сурьезно к требованиям жизни, что наивно, искренно и беззаветно прожигала жизнь до буйства и безобразия, до азарта и цинизма… Все другие осуждены были явным образом на то, чтобы прокиснуть, медленно спиваясь или медленно погружаясь в тину всяческих благонравий.
Но каким образом и этот кружок посредственностей задевали жизненные вихри, каким образом веяния эпохи не только что касались их, но нередко и уносили за собою, конечно только умственно. Ведь дело в том, что если оживлялась беседа, то не о выгодных местах и будущих карьерах говорилось… Говорилось, и говорилось с азартом, о самоучке Полевом и его «Телеграфе» с романтическими стремлениями; каждая новая строка Пушкина жадно ловилась в бесчисленных альманахах той наивной эпохи; с какой-то лихорадочностью произносилось имя «лорд Байрон»… из уст в уста переходили дикие и порывистые стихотворения Полежаева… Когда произносилось это имя и — очень редко, конечно, — несколько других, еще более отверженных имен, какой-то ужас овладевал кругом молодых людей, и вместе что-то страшно соблазняющее, неодолимо влекущее было в этом ужасе, а если в торжественные дни именин, рождений и иных разрешений «вина и елея» компания доходила до некоторого искусственно приподнятого настроения… то неопределенное чувство суеверного и вместе обаятельного страха сменялось какою-то отчаянною, наивною симпатиею — и к тем речам, которых
значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно,—
и к тем людям, которые или «жгли жизнь» беззаветно, или дерзостно ставили ее на карту… Слышались какие-то странные, какие-то как будто и не свои речи из уст этих благонравных молодых людей…
Каким образом даже в трезвые минуты передавали они друг другу рассказы об их, страшных им, товарищах, отдававших голову и сердце до нравственного запоя шеллингизму или всю жизнь свою беснованию страстей! Ведь все они, благонравные молодые люди, знали очень хорошо, что отдача себя в полное обладание силе такого мышления ни к чему хорошему повести не может. Некоторые пытались даже несколько юмористически отнестись к философскому или жизненному беснованию — что, дескать, «ум за разум у людей заходит» — и все-таки поддавались лихорадочно обаянию.
Не «Вестник Европы», а «Телеграф» с его неясными, но лживыми стремлениями жадно разрезывала эта молодежь… не профессоров старого закала слушала, со вниманием, а фанатически увлекалась, увлекалась до «аутос эфе», широтою литературных взглядов Надеждина (тогда еще высказываемых им только на лекциях), фантастическим, но много сулившим миропостроением Павлова в его физике, и, так как эта молодежь, почти что вся, за исключением одного, будущего труженика истории, была молодежь медицинская, увлекалась пением своей сирены, Дядьковского… Это имя всякий день звучало у меня в ушах; оно было окружено раболепнейшим уважением, и оно же было именем борьбы живой, новой науки с старою рутиной… Не могу я, конечно, как неспециалист, хорошо знать заслуги Дядьковского, но знаю то только, что далеко за обычный звонок простирались его беседы и что эти люди все без исключения заслушивались его «властного» слова, как впоследствии мы, люди последующего поколения, тоже далеко за урочный звонок жадно приковывались глазами и слухом к кафедре, с которой — немножко с резкими эффектами, немножко, пожалуй, с шарлатанизмом — звучало нам слово, наследованное от великого берлинского учителя…
Каким образом, повторяю еще, людей, которых ждала в будущем тина мещанства или много-много что участь быть постоянными «пивогрызами», тогда всевластно увлекали веяния философии и поэзии, новые, дерзкие стремления науки, которая гордо строила целый мир одним трансцендентальным мышлением из одного всеохватывающего принципа.
Соблазн, страшный соблазн носился в воздухе, звучавшем страстно сладкими строфами Пушкина. Соблазн рвался в нашу жизнь вихрями юной французской словесности… Поколение выросшее не искало точки покоя или опоры, а только соблазнялось тревожными ощущениями. Поколение подраставшее, надышавшись отравленным этими ощущениями воздухом, жадно хотело жизни, страстей, борьбы и страданий.
IV. Нечто весьма скандальное о веяниях вообще
Если перенестись мысленно за каких-нибудь тридцать с небольшим лет назад, то даже человеку, который сам прожил эти тридцать лет, станет вдруг как-то странно, точно он заехал в сторону, где давным-давно уже не бывал и где все, однако, застыло в том самом виде, в каком было оно им оставлено, — так что, присматриваясь к предметам, он постепенно с большею и большею ясностью воспроизводит свои бывалые впечатления от предметов, постепенно припоминает их вкус, цвет и запах, хотя вместе с тем и чувствует очень хорошо, что эта уже отшедшая жизнь поднимается перед ним каким-то фантастически-действительным маревом.
Но еще страннее должно быть отношение к этой отжившей полосе жизни человека иного, позднейшего поколения, когда он видит перед собою только мертвые, печатные памятники ее, да и то, конечно, далеко не все… да, может быть, и не те даже, в которых та отжившая пора сказалась безоглядочно и непосредственно, вышла перед почтеннейшую публику не во фраке и перчатках, а по-домашнему, как встала, правой или левой ногой с постели.
Еще не далее как вчера вечером, о мой милый Горацио Косица, беседуя с тобою после концерта, где слышали мы 2-ю симфонию старого мастера, который, творя ее, еще не оглох для современной и предшествовавшей ему
столовой камерной музыки, но уже горстями посеял в нее и свои глубокие думы, и свои пантеистические созерцания жизни, пытаясь разъяснить смысл этих очевидных «схваток» чего-то глубоко серьезного и тяжелого, звучащих неожиданными взвизгиваниями скрыпок и виолончелей в allegro patetico, доискиваясь или, лучше, дорываясь значения замедленных тактов в финале, тактов, явно заклейменных какою-то мрачною и важною думою, тактов, снова, хоть не так уж определенно-резко, возникающих в последующем развитии музыкальной ткани, — еще вчера, говорю я, мы договорились с тобою опять до тех веяний, которые так смешны нашим современным мыслителям.
Смешны-то они им смешны, в этом спору нет ни малейшего, равно как нет спору и о том, что умственная жеванина, которой кормят они своих адептов, несравненно доступнее, чем наши трансцендентальные бредни, но тем не меньше (я ведь совершенно согласен с началами, выражающимися в твоем последнем письме), если трансцендентальные мысли возникают в мозгу «выродившихся обезьян», которых невежды, не читавшие Молешотта и иных мудрых, обычно зовут людьми, то нельзя не послать их к «тем особам», с которыми познакомил Фауста ключ Мефистофеля, а если нельзя, то мы с тобою имеем полное право дожить свой век трансценденталистами, Да и то, правду сказать, если бы мы с тобою, устыдясь в некотором роде своей несостоятельности перед великими современными мыслителями, сказали который-нибудь один другому, как Фамусов Чацкому:
Ты завиральные идеи эти брось,—
то, вероятно, мгновенно расхохотались бы, как римские авгуры. Потому трансцендентализм — в своем роде «зарубки Любима Торцова»: попадешь на «эту зарубку, не скоро соскочишь».
Да и совсем даже не соскочишь. Есть у меня приятель, которого и ты знаешь, человек поколения, так сказать, среднего между трансценденталистами и нигилистами, совершенно удовольствовавшийся отрывочными психологическими кунштиками Бенеке, которые столь мало нас с тобою интересуют. Он поведал как-то раз в искренней беседе один свой собственный психологический опыт, весьма любопытный и даже назидательный. Он принимался читать «Систему трансцендентального идеализма» Шеллинга с решимостью «проштудировать» его основательно для доставления себе определенных понятий об этом хотя и отжившем, но все-таки важном в истории мышления философском учении. Ну, как тебе известно, отжившее учение сразу ошарашивает человека по лбу известного рода распутием, потребностью — вывести или все мироздание из законов сознающего
я, или сознающее
я из общих законов мироздания. Конечно, это, в сущности, все равно, почему и является философия тождества, но распутие на первый раз огорошивает, как та стена, на которую жалуется, например, последний герой нашего друга Федора Достоевского. Усердно штудировал и пристально читал мой приятель, с тем же усердием и пристальностью, с какими одолевал он «психологические скиццы» и другие умственные мастурбации Бенеке. Начал он уж переваривать и тот процесс, в котором из нашего непосредственного, так сказать, объективного, еще слитого с предметом познания
я выделяется
я сознающее, в котором из этого сознающего внешний предмет
я выделяется еще
я, которое уже подымается вверх над сознающим внешние предметы
я — и в некотором роде судит это самое, сознающее внешние предметы
я, в котором, наконец… Но тут мой крайне осторожный, рассудительный и весьма не пренебрегающий жизненным комфортом приятель схватился в пору, догадался, что соприкоснулся сфере, в которой начинается поворот головою вниз, что из этого судящего
я, производящего суд и расправу, по каким-либо признанным правилам выделится еще, пожалуй, после многих выделений, уже такое
я, которое никаких правил, кроме тождества с мировою жизнию, знать не захочет,
я трансцендентальное, весьма опасное и безнравственное.
И благоразумный приятель мой закрыл зловредную книгу и таким образом сохранил для отечества полезного члена, хорошего отца семейства, изредка только, в видах необходимого жизненного разнообразия, дозволяющего себе некоторые загулы, наконец, деятеля в литературной области, который, как «дьяк, в приказе поседелый», может
Спокойно зреть на правых и виновных,
не увлекаясь и не впадая в промахи в своих суждениях, — чем всем мы никогда не будем с тобою, о мой Горацио!
В самом деле, что это за страстность такая развита в нас с тобою, что за неправильная жила бьется в нас, людях «трансцендентальной» закваски, что нам ужасно скучно читать весьма ясного и методом естественных наук идущего Бенеке и не скучно ломать голову над «Феноменологией духа». Да не то что скучно Бенеке читать, а просто невероятных усилий стоило; если не тебе, писавшему магистерскую диссертацию о каких-то никому, кроме микроскопа, не ведомых костях инфузорий или о чем-то столь же неподобном, — я ведь наглый гуманист и сам знаю, что ужасные невежества луплю; если не тебе, говорю я, то мне невероятных усилий стоило ловить за хвосты идеи Бенеке, например, — да и тут оказывалось, что ловлей я занимаюсь совсем понапрасну, что, по мнению моего бенекианца, совсем я не тем, чем следует, занимаюсь, что общего хвоста, из которого бы пошли, как из центра, эти маленькие хвостики, как живые змейки, я искать совсем не должен, потому, дескать, и зачем он? — всеохватывающие, дескать, принципы оказались совсем несостоятельными.
Да позволено будет мне в этой совершенно скандальной и неприличной эксцентрической главе — перескакивать, как я хочу, через время и пространство, предупреждать первое и совершенно забывать о существовании второго…
Вот мне на память пришло то время, когда, вняв советам моего благоразумного друга, я со рвением, достойным лучшей участи, принялся «штудировать» психологические скиццы. Не потому я принялся их со рвением «штудировать», чтобы особенно подействовал на меня друг мой своими беседами. Друг мой, точно, очень красноречиво толковал о параллелизме психических и соматических явлений, о заложениях и душевных образованиях; друг мой даже с прекрасными и очень умными дамами вел эти беседы — и, конечно, не без успеха, хотя, к сожалению, сей успех был вовсе не научный, — ибо прекрасные и умные дамы, слушая его, смотрели более на его тогда чрезвычайно умные и голубые глаза и от логического красноречия его делали совсем нелогическую посылку к другим, так сказать, более низменным свойствам его натуры, но дамы вообще уж все таковы и от таких посылок едва ли избавит их даже стрижка кос и рассуждения о женском труде… Меня-то не красноречие друга моего увлекало — и даже не сам- он, а — опять-таки то «веяние», которого он в ту пору был одним из энергических представителей.
Это было в эпоху начала пятидесятых годов, в пору начала второй и самой настоящей моей молодости, в пору восстановления в душе новой или, лучше сказать, обновленной веры в грунт, почву, народ, в пору воссоздания в уме и сердце всего непосредственного, что только по-видимому похерили в них рефлексия и наука, в пору надежд зеленых, как цвет обертки нашего милого «Москвитянина» 1851 года… Я оживал душою… я верил… я всеми отправлениями рвался навстречу к тем великим откровениям, которые сверкали в начинавшейся деятельности Островского, к тем свежим ключам, которые били в «Тюфяке» и других вещах Писемского да в ярко талантливых и симпатических набросках покойного И. Т. Кокорева; передо мной, как будто из-под спуда, возникал мир преданий, отринутых только логически рефлексиею; со мной заговорили вновь, и заговорили внятно, ласково, и старые стены старого Кремля, и безыскусственно высокохудожественные страницы старых летописей; меня как что-то растительное стал опять обвевать, как в года детства, органический мир народной поэзии. Одиночеством я перерождался, — я, живший несколько лет какою-то чужою жизнию, переживавший
чьи-то, но, во всяком случае, не свои, страсти, — начинал на дне собственной души доискиваться собственной самости.
Веяние новой поры влекло меня с неодолимою силою. Есть для меня что-то наивное до смешного и вместе до трогательного в той фанатической вере, с которой я рвался вперед, как все мы, все-таки рвался вперед, хоть и думали мы — что возвращаемся назад… Такой веры больше уж не нажить, и хоть глупо жалеть об этом, а жаль, что не нажить! Хорошо было это все, как утренняя заря, как блестящая пыль на лепестках цветов.
Фанатик до сеидства, я готов был каяться, как в грехе каком-нибудь, в своем трансцендентальном процессе, от него, доставшегося душе недешево, способен был отрицаться, как «от сатаны и от всех дел его»… Но увы! две вещи оказались скоро очень явными: первое дело, что, раз дойдя до того пункта, на котором, по соображению моего приятеля, натура поворачивается вверх тормашкой, — остается повторять с поэтом:
Per me si va nell'eterno dolore…
Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate!
[124] —
а второе дело, что психологические мастурбации Бенеке столь же мало шли к новому веянию жизни, как «к корове седло»… Бенеке попал в «кружок» совсем случайно, и если представителей кружка петербургские критики стали скоро упрекать в «заложениях», то совсем не в тех, какие разумеются в «психологических скиццах» и других сочинениях ученого психолога (философом-то назвать его как-то язык не поворачивается).
Но с каким «в некотором роде торжественным шиком» приступал ко мне мой друг, вручая мне книжку «скицц». Во-первых, он — как теперь помню — допрашивал меня: занимался ли я над собою и над другими — психологическими наблюдениями?.. Ну, жизни, хоть и гальванической, пережито было немало; рыться в собственной душе и в душе других двуногих без перьев, особенно женского пола, тоже случалось немало, но не такого рода психологическую работу и психологические наблюдения разумел мой приятель: гальванически пережитую жизнь он называл весьма правильно напускною и часто, как человек, к счастью, мало «тронутый», относился к ней юмористически, и мои психологические наблюдения над прекрасною половиною двуногого рода он, по добродетели своей, не переваривая моих софистических и собственно к практическим целям направленных бесед с женщинами, называл гусарским к ним «отношением, возведенным только в перл создания и тонкость чувствований»… Поэтому я долго не понимал, каких он от меня исследований психологических добивается. Во всяком случае, я за Бенеке принялся с ожесточенным упорством и даже слепо подчинялся своему руководителю. Лербуха, т. е. системы, он мне в руки не дал, подозревая во мне не без основания охоту к ловле абсолютного хвоста, а отчасти боясь, чтобы в лербухе я не схватил скоро, на лету и, стало быть, поверхностно разных хвостиков.
Потому хоть с известного пункта трансцендентализма и поворотил назад оглобли мой приятель, но ведь он, как недюжинно умный человек, понял вполне ярыжно-глубокою и вместе глубоко-ярыжную мысль великого учителя в «Феноменологии духа», что в деле мысли важен только процесс и что результат есть глубоко безжизненный труп, покинутый живой душой — тенденцией.
И сижу я это, бывало, тогда по целым вечерам зимним над «психологическими очерками» немецкого хера профессора, и мучу я свой бедный мозг не над тем, чтобы понять читаемое, ибо так себе безотносительно взятое, оно все, что читаемое-то, очень просто, но над тем, чтобы внимание приковать к этому читаемому… А за стеной вдруг, как на смех,
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли,
и мятежная дрожь венгерки бежит по их струнам, или шелест девственно-легких шагов раздается над потолком, и образы встают вслед за звуками и шелестом, и жадно начинает душа просить жизни, жизни и все жизни… Так просидел я несколько вечеров, да и возвратил другу книгу с наивнейшим сознанием, что никак не могу я заставить себя ею заинтересоваться. Видит он, что ничего со мной, погибшим человеком, не поделаешь… купил и подарил мне лербух. Лербух я весьма скоро прочел, механику эту всю, значит, усвоил и пошел себе как следует рассуждать о новой системе достаточно ясно, хотя и поверхностно… С меня и будет! — думал я, потому что абсолютный хвост в ней ловить запрещается ее адептами. А черт ли мне в ней, коли я в ней этого-то самого хвоста и не словлю.
Отчего ж это, бывало, в пору ранней молодости и нетронутой свежести всех физических сил и стремлений, в какое-нибудь яркое и дразнящее и зовущее весеннее утро, под звон московских колоколов на святой — сидишь весь углубленный в чтение того или другого из безумных искателей и показывателей абсолютного хвоста… сидишь, и голова пылает, и сердце бьется — не от вторгающихся в раскрытое окно с ванильно-наркотическим воздухом призывов весны и жизни… а от тех громадных миров, связанных целостью, которые органическая мысль, или тяжело, мучительно роешься в возникших сомнениях, способных разбить все здание старых душевных и нравственных верований… и физически болеешь, худеешь, желтеешь от этого процесса… О! эти муки и боли души — как они были отравительно сладки! О! эти бессонные ночи, в которые с рыданием падалось на колена с жаждою молиться и мгновенно же анализом подрывалась способность к молитве, — ночи умственных беснований вплоть до рассвета и звона заутрень — о, как они высоко подымали душевный строй!..
И приходит мне еще в память, как в конце 1856 года мне, лежавшему больным на постели, — уже пережившему и вторую молодость, разбитому и морально и физически, — один из добрых старых могиканов, знаменитый Дон Базилио Педро, прислал в утешение только что вышедший вступительный том в «Философию мифологии» Шеллинга. Приехать благородный Дон побоялся, потому что я был болен запоздавшей оспой, но книгу прислал с запиской и в записке, между прочим, упоминал, что он уже нюхал и что хорошо как-то пахнет… И впился я больными, слабыми глазами в таинственно и хорошо пахнущую книгу — и опять всего меня потащило за собою могучее веяние мысли — и силою покойный отец, ходивший за мною, как нянька, должен был отнимать у меня эту «лихую пагубу».
И в саду итальянской виллы подле Tomba tusca
[125] сидел я по целым часам над этой «лихой пагубой» и ее последующими томами — и опять голова пылала и сердце билось, как во дни студенчества, — и ни запах роз и лимонов, ни боязнь тарантулов, насчет местожительства которых в Этрусской гробнице предварял меня весьма положительный англичанин Белль, гувернер моего ученика князя Т<рубецкого>,— ничто не могло развлечь меня.
Трансцендентальное веяние, sub alia forma,
[126] вновь охватило и увлекло меня…
Запоздалые струи
<VII>
<…>
Моя детская комната была подле спальни отца и матери, и кроватка стояла у самых дверей, так что и старинно-патетическое чтение отца, и сентиментально-дьячковское и монотонное чтение Сергея Иваныча — были мне слышны до слова в продолжение ночи, кроме того уже, что никто не препятствовал мне слушать, прижавшись где-нибудь в уголку, чтение вечером, начинавшееся обычно после пяти часов, т. е. по окончании вечернего чая в моей комнате, служившей вместе и чайною. Разве только отец иногда заметит, да и то больше «для проформы» (как он выражался насчет разных официальностей), «ты бы шел лучше в залу с Маришкой играть», а Маришка, т. е. Марина, была девочка моих лет, нарочито для удовольствия барчонка привезенная из Владимирской деревни; но о непременном выполнении своего замечания отец нисколько не заботился, сам слишком увлекаясь интересом читаемого, да разве если уж что-либо слишком страшное или слишком скандальное очень явно предвиделось в дальнейшем ходе читаемого, то высылал меня вон с авторитетом родительской власти. Да и на то были средства. Коли только вечер был не летний, т. е. коли я, volens-nolens, не должен был отправляться на двор или в сад, я с замиранием сердца, на цыпочках прокрадывался в девичью, находившуюся подле моей комнатки, усаживался около шившей у дверей Лукерьи и, не мешая ей разговорами, прислонялся ухом к дверям и опять-таки, с маленьким перерывом, дослушивал от слова до слова привлекательные уже самою таинственностью своей страхи или скандалы… <…>

Письма


M. П. Погодину
<Июнь 1843—февраль 1844>
Честь имею доставить Вам второй акт моей драмы или, другими словами, сделать на Вас нападение, чему виною, впрочем, Ваша снисходительность… Хотелось бы мне знать, пропустит ли цензура ее завязку на масонстве? Впрочем, масонство здесь чистый факт, субстрат высших нравственных убеждений, которые сами судят Ставунина, заставляя его сказать:
В монахи
Я не гожусь — мне будет так же душно
В монастыре…
Не браните ради бога за его личность — не на каждом ли шагу она встречается, более или менее, конечно… Это сознание о необходимости смерти, как единственной разумной развязки, тяготеет над многими, над иными как момент переходный, над другими как нечто постоянно вопиющее… и мне кажется, что это — момент высший в отношении к моменту апатии и божественной иронии гегелистов, как самосуд, автономия выше рабства. Рабство — тоже самосуд, но только исподтишка, при случае: рабство носит само в себе ложь на себя — самосуд сознает ложь себе признанием неумолимого божественного правосудия… Ему недостает только слова сознания… Эти две лжи — рабство и самосуд отражаются, как мне кажется, во всей истории философии вне Христа: 1) рабство, пантеизм — в лице известных представителей, 2) самосуд — в гностиках, в Бёме, даже в Лютере. Те и другие — лгут, одни, отвергая бога, другие, отвергая мир… С такого момента глубокого аскетизма, аскетизма сатаны, с
знания без любви начинается процесс в душе моего героя. Слово любви, слово ответа — для него в одном прошедшем; без него — он мертв. «Бывалый трепет» чувствует он при встрече с этим прошедшим, но это трепет смерти, трепет мертвой лягушки от прикосновения гальванической нити… Отвратительное, по возможное явление…
глубоко преданный Вам
А. Трисмегистов
7 июня 1847 <Москва>
Милостивейший государь Михайло Петрович!
Вы меня браните за то, что я не умею распоряжаться своими нуждами, и Вы были бы совершенно правы, если бы у меня не было довольно печального прошедшего. Нельзя более меня
желать установиться, желать никого на свете не беспокоить собою, даже Вас, несмотря на Ваше благородное участие; но есть обстоятельства, из которых не слишком скоро выпутаешься, под гнетом которых падает всякое желание добра. Об этих-то обстоятельствах хотел я вчера говорить с Вами как с единственным человеком, в которого я верю и — прибавлю еще — которого доброта может спасти меня; хотел и, к сожалению, не мог. О них и теперь я хочу писать Вам, уверенный, что если Вы и не захотите мне помочь подняться, то, по крайней мере, будете столько добры, чтобы поверить искренности и горькой необходимости этого объяснения — необходимости очень простой и понятной. Вы — единственный человек, перед которым мне не стыдно обнажить и свои душевные язвы, и свои запутанные обстоятельства. Вы понимаете слишком много и смотрите слишком далеко и широко, несмотря на то, что Вас самих благое Провидение предохранило от различных омутов падения.
Крепко запало мне в душу слово Гоголя: «с словом надобно обходиться честно»; книга его осветила для меня всю бездну, в которой я стоял, — бездну шаткого безверия, самодовольных теорий, разврата, лжи и недобросовестности; позорно стало мне звание софиста, стыдно взглянуть на все свое прошедшее… «Лучше быть поденщиком», — сказал я себе, и — видит Бог — я готов бы был камни таскать скорее, чем продолжать говорить самоуверенно то, что отвергает душа моя… Мне надоела и опротивела и бесплодная софистика, и бесплодно-праздная жизнь, и от болезни ли нравственной, от другого ли чего-либо, но среди этих нравственных пыток посещали меня в последнее время минуты, давно незнакомые, минуты, когда опять я чувствовал себя чистым, свободным, гордым… когда я благодарил неведомого за то, что спадает с меня постепенно гниль разочарования и безочарования, что снова способен я пламенно верить в добро… Я чувствую — нет, я знаю, что силы мной не растрачены, что их еще слишком много, но есть путы, которые мешают им. Повторяю, помогите мне нравственно подняться. Путы эти — долги и болезни физические. Для того чтобы я мог запереться в уединение, в самого себя, — надобно разделаться с мелкими, но беспокойными долгами; для того чтобы я светлее взглянул на жизнь, я должен позаботиться о своей физической природе, которая — это назовите, пожалуй, пунктом моего помешательства — слишком тесно связана с нравственной: развитие и поправление своих физических сил кажется мне столько же необходимым, сколько занятие отечественными науками, которому я начал посвящать все свое свободное время.
Вы спросите, отчего я не обращаюсь с моими потребностями к моим домашним? Во-первых, теперь я хочу уже быть обязанным всем себе и своему труду; во-вторых, средства их в настоящую минуту очень плохи; в-третьих, наконец, — простите мне откровенность, — не все то поймется ими, что Вы поймете.
Мне нужны, — но нужны скоро и сполна, — 150 или 100 р. серебром; если Вы дадите мне 100 р. серебром, я заплачу 225 р. должков и буду лечить себя нынешнее лето купаньем и плаваньем; если 150, я буду еще лечить себя гимнастикой.
Состоится ли, нет ли дело о «Москвитянине», но в течение десяти месяцев я уплачу Вам: 1) сто рублей серебром деньгами, по 10 р. серебром в месяц (ибо кроме «Листка» я делаю еще разные работы для детских книжонок Наливкина), 2) пятьдесят — какою Вам угодно будет работою, по 5 р. серебром за печатный лист.
Вот Вам прямое, искреннее мое объяснение — сделайте, как внушит Вам Бог, и как бы Вы ни сделали, верьте только ради Бога в мое беспредельное уважение и вечную преданность. Завтра, т. е. в воскресенье, в шесть часов, позвольте мне быть у Вас.
Покорнейший слуга Ваш
А. Григорьев
Начало июня 1851. Москва
<…> Что делать? Вы видите, я работаю, сколько могу <…> Вот это-то меня и мучит, об этом же, т. е. об устройстве моих дел, и хочется мне поговорить с Вами.
Часто хотелось бы и то и другое сделать, и о том и о другом написать — да придешь домой совсем разбитый, так что никуда уже не годишься. Конечно, на это можно возразить, что надобно потерпеть, оттерпеться. Да, это так! когда оттерпишься, не будешь уже ровно ни к чему годен, упадешь и телом и душою, состаришься прежде времени под гнетом поденной работы, еще более под гнетом тяжелой скорби о том, что беспутной молодостью, с одной стороны, и тяжкою поденщиною в зрелом возрасте погубил много сил в самом себе. Безотрадное, безвыходное положение, когда трудишься, как возовая лошадь, не видя ни пользы в своем труде, ни даже такого материального вознаграждения, которое было бы с ним уравновешено. И поневоле приходят подчас в голову те же самые праздные мысли, какие приходили герою «Медного всадника»:
Ведь есть же праздные ленивцы,
Ума недальнего счастливцы,
Которых жизнь куда легка…
Ну, хорошо: добьюсь я в сорок или даже тридцать пять лет такого положения, когда буду работать меньше, а получать больше, по тому, известному на Руси правилу, что, чем место выше, тем труда и ответственности меньше; да, опять повторяю, куда я буду годиться, когда уже и теперь страдаю одышкой и припадками самой черной ипохондрии, в одну из минут которой и пишу я к Вам эти малозанимательные строки. Между тем выдвинуться пораньше на более ровный путь хоть и трудно, но не невозможно.
Связей у меня нет вовсе. С одними я просто не сошелся, с другими — разошелся; было время, когда и Гран<овский> и другие имеющие вес и влияние люди любили меня, ждали от меня чего-то. В том, что теперь у меня нет связей, виноваты наполовину дурные стороны моего характера и темные пятна моей жизни, а наполовину — хорошие, т. е. моя решительная неспособность принадлежать к приходу и клятвенно отречься от собственной личности. Пытался и я унять себя в этом отношении, да, видно уж, нельзя; рано или поздно — белое покажется мне белым, а не синим и не красным, каким ему быть приказано… С правою стороною не сходился я никогда, и, кажется, нечего объяснять почему (под правою я разумею l'extrême droite
[127]). Между тем особенной неуживчивостью или нетерпимостью я не отличаюсь и весьма способен на различные уступки и примирения.
Всю эту речь я веду к тому, чтобы выразить посерьезнее и пообстоятельнее то, о чем намекал я Вам как-то раз. Так или иначе, пособите мне выбиться вперед, на более обеспеченную и спокойную позицию — на какое-нибудь место, которое давало бы мне возможность отдаваться тому труду, к какому я особенно способен, — труду кабинетному, литературному. У Вас есть связи, есть люди, которые в состоянии вытащить за уши — не вдруг и не сейчас, конечно, но и не в пять же лет или — храни Боже — в десять, в течение которых обратишься в старую тряпку, наживешь, пожалуй, рак в желудке при отсутствии определенного часа для сна и пищи да при вечных тягостных заботах.
Вот все, что я хотел сказать Вам — единственному сколько-нибудь сильному человеку, с которым я не разошелся. Разумеется, что я не говорю: способствуйте вот сейчас тому-то и тому-то — нет! я повторяю только усердную просьбу действовать постепенно, но не до той убийственной постепенности, какая прежде лишит человека всякой энергии, а потом пришлет, как белке, воз орехов.
Начало января 1856. Москва
<…> Между тем, сидя в аду только по уши, я не лишился глаз и ясно вижу, что «Вестник» с первой же книжки «первый блин да комом» — мертвечина, темна вода во облацех воздушных, безжизненный эклектизм или худо скрытое (как в Соловьевой статье) презрение к народности и коренным началам быта, предчувствую (а мои предчувствия куда как все верны), что «Беседа» сойдется с блаженной памяти «Маяком» — в своих последних результатах, что жизненное, народное направление может сказать о себе: «Лиси язвины имут и птицы гнезда, Сын же Человеческий не имат, где главу подклонити». Иногда я очень ясно сознавал вмешательство злого духа в наше предприятие, искусно пользовавшегося самолюбием каждого из нас, от Вас начиная, как головы, и до меня, как до хвоста метущего, включительно, — и я, кажется, говорил Вам об этом.
Я лично истерзан до того, что желаю только покоя смерти, без малейшей фразы; если что еще воздерживает меня от самоубийства, так это, право, не дети, ибо я верю, что Бог, правосудный ко мне, будет милосерд к ним, что их не оставит дед и Евгений. Не страх смерти, не вера в будущую жизнь — ибо как ни вертись, а невольно остаешься с верою не догматическою, а верою в Бога, любовь всепрощающую и всепонимающую, — а вопрос: к чему же дана эта жажда деятельности, эта раздражительная способность жить высшими интересами? Должно же найтись всему этому употребление. О! как бы пламенно поверил я в Бога, как бы я пошел за Ним, если бы хоть раз милосердие, а не одно неумолимое правосудие ответило мне на душевные вопросы!
Письмо мое похоже на исповедь, потому что надобно же хоть раз высказаться совсем — одному из немногих людей, в которых, при всех их недостатках, не утратил еще веры. Не желаю только — и имею право не желать, — чтобы оно, валяясь на Вашем столе или под столом, в сору разной бумаги, служило пищею для праздного любопытства приходящих.
А «Москвитянин» зеленого цвета! Как бы желал я возвратить то время, когда мы все так верили, так надеялись, так любили наше дело. Но и при этих воспоминаниях примешивается у меня желчное чувство. Были минуты, когда Вы выдали меня головою людям, которых любил я не меньше, чем Вы, которым верность и любовь братскую доказывал я и доказываю с смирением фанатика, но которым надобно было показать, что Вы придаете мне какое-либо значение: это было бы полезнее и для них, действовавших тогда под влиянием необузданности и ослепления. Вы выдали меня, повторяю я, и притом тогда, когда год моей энергической деятельности доказал, по Вашим же словам, «что только на меня можно основательно понадеяться». Вы и представить не можете, какую важность в отношении ко всему последующему имел этот факт.
Собственно говоря, я не знаю, что еще в настоящую минуту меня поддерживает. Вера в какие-то чудеса, а чудес не бывает.
Повторяю Вам, что в возможности выхода из положения я обманут легкомыслием и бесхарактерностью человека, мне близкого. Я Вас не обманывал.
Убедившись в том, что все меня обмануло, я впал в отчаяние. В отчаянии вещи, может быть, представляются хуже, чем они на самом деле. Повторяю Вам, что я слоняюсь без деятельности, пожираемый жаждой дела, и не могу ничего делать, хоть убейте: начинаю и не в силах продолжать. Чтобы я делал дело, нужно, чтоб я был спокоен, чтоб я думал о деле, а не о себе. Мысль о себе и вечно о себе — надоела мне страшно. Я рад был бы, чтобы расчистили только мои дела и на три года заперли бы меня (хоть буквально заперли бы) в келью, в тюрьму, пожалуй, с книгами и бумагой и чтобы я знал, что во время такого моего заключения моими трудами в довольстве живут другие. Теперь и это даже невозможно… А я все-таки чего-то надеюсь!
В настоящем случае я надеюсь, впрочем, только на то, что Вы все это поймете: поймете, что горько остаться чем-то вроде подлеца в отношении к человеку, которого с детства ставил высоко, которого я любил с юношества; что ужасно видеть в себе Хлобуева и знать, что только фантазия поэта выручила такую личность каким-то идеальным делом. В этом-то идеализме и ошибка, и вред моральный последнего гоголевского направления. Он, покойник, как я же, дитя его мысли, не мог расстаться с мечтою, что «всякое стремление рано или поздно, благодатию или чудом Божиим, получает себе выход»…
<Весна 1857>
Достопочтеннейший Михаил Петрович!
Опять отношусь к Вам письменно, ибо словесно я редко могу высказывать положительно и ясно то, чего желаю.
В настоящую минуту душевное состояние мое истинно ужасно и дела мои дошли уже до той степени, на которой нужна становится непосредственная помощь Божия. Не толковал бы я, впрочем, ни о состоянии своих дел, если бы, по несчастию, моя больная и, как старый разбитый инструмент, расстроенная личность не связывалась с делом, которое и выше и дороже ее. По несчастию, со мною связано целое направление, направление
пренебрегаемое, не-признаваемое — но явно единственно истинное в настоящую минуту, втихомолку повторяемое теми самыми, которые так сильно ругались, клеветали, позорили нас.
Мысль моя, т. е. наша, вызрела во мне до того уже, что никакой поворот никуда невозможен. Я умру с голоду, прежде чем отдать кому-либо хоть частицу того, что я и Островский считаем нашим исповеданием, — ибо, твердо верю, тут только настоящая правда, правда в меру, правда, не из личных источников вышедшая. Пусть я слаб, как ребенок, иногда, пусть я падок на всякие жизненные увлечения — но никакой слабости и никакому увлечению не отдам я того, что считаю правдою.
Участь этой правды в настоящую минуту совершенно подобна участи Сына Человеческого: «Лиси язвины имут и птицы гнезда; Сын же Человеческий не имат, где главы подклонити».
Правда, которую я исповедую (да, кажется, и Вы), твердо верит вместе с славянофилами, что спасение наше в хранении и разработке нашего народного, типического; но как скоро славянофилы видят народное начало только в одном крестьянстве (потому что оно у них связывается с старым боярством), совсем не признавая бытия чисто великорусской промышленной стороны России, как скоро славянофильство подвергает народное обрезанию и холощению во имя узкого, условного, почти пуританского идеала — так славянофильство, во имя сознаваемой и исповедуемой мною правды, становится мне отчасти смешно, отчасти ненавистно как барство, с одной стороны, и пуританство, с другой.
Правда, мною (да, кажется, и Вами) сознаваемая и исповедуемая, ненавидит вместе с западниками и сильнее их деспотизм государственный и общественный, — но ненавидит западников за их затаенную мысль узаконить, возвести в идеал распутство, утонченный разврат, эмансипированный блуд и т. д. Кроме того, она не помирится в западничестве с отдаленнейшею его мыслию об отвлеченном, однообразном, форменном, мундирном человечестве. Разве социальная блуза лучше мундиров блаженной памяти и<мператора> Н<иколая> П<авловича> незабвенного и фаланстера лучше его казарм? В сущности, это одно и то же.
Как с славянофильством, так и с западничеством расходится исповедуемая мною правда в том еще, что и славянофильство, и западничество суть продукты головные, рефлективные, а она, tant bien que mal,
[128] порождение жизни. Положим, что мы и точно порождение трактиров, погребков и б…. как звали вы нас некогда в порыве кабинетного негодования, — но из этих мест мы вышли с верою в жизнь, с чувством или, лучше, чутьем жизни, с неистощимою жаждою жизни. Мы не ученый кружок, как славянофильство и западничество: мы — народ.
Между тем попробуйте убедить славянофильство, что народ, для которого оно пишет, ничего не понимает в том, что оно пишет, — что мысль холощеная — недействительна, или попробуйте убедить западничество в том, что горбатый Леонтьев или последняя немецкая монография не есть венец разума человеческого!
Посмотрите, какое странное, почти нежное отношение господствует, в сущности, между двумя учеными кружками. Западники, ругая Филиппова, меня, Бессонова, Крылова, спешат всегда оговориться насчет несомненного благородства истинных славянофилов. У них есть в этом и расчет (как вообще, я предполагаю, у них формальный государственный и литературный заговор с Строгановым во главе). Этим они показывают, что умеют различать бар от холопьев, — а бары, по гордости и некоторой тупости, в сущности, сему радуются, выдают и будут всегда выдавать новые элементы, привившиеся к их принципу.
Посмотрите, с другой стороны, как бары (они же — православные и славянофилы) постоянно с глубоким уважением спорят с «Русским вестником» и кадят ему, как ярый К. С. Аксаков торопится извиниться перед Соловьевым за ловкую статью Ярополка!
Что же это все такое? И не правда ли, что участь правды решительно есть в настоящую минуту — участь Сына Человеческого?
Правде нужен орган. Если Вы сознаете это, как я сознаю, так уж и будемте действовать положительно прямо и основательно.
Но прежде всего убедитесь, что Вы можете действовать только с нами или — ни с кем. Все другие, даже и хорошие люди, как Н. И. Крылов, как Н. П. Гиляров, как П. А. Бессонов, как И. Д. Беляев и И. В. Беляев, — да будет только гостем, почетным, с отверстыми объятиями принимаемым гостем. И вот почему — угодно ли Вам выслушать?
1) Н. И. Крылов. Глубокий и оригинальный ум, диалектика могущественная и ядовитая, гениальные, хотя слишком своеобразные идеи; гениальные прозрения даже в то, чего он не знает, в русскую историю, — но (надеюсь, что эта беседа останется между нами) отсутствие всякой способности служить мысли до самопожертвования — своекорыстное стремление к обеспеченному спокойствию, трусость и вследствие этого раздражительность паче меры.
2) Н. П. Гиляров: огромная ученость по его части, ум смелый, прямой и честный, но воспитанный в семинарских словопрениях, ради ergo
[129] готовый на всякий парадокс, — и главное, с отсутствием всякого носа, т. е. всякого чувства изящного.
3) П. А. Бессонов. Его бросило в славянофильство уязвленное самолюбие. Он — пономарь совсем очень ученый, мелочно самолюбивый и мелочно раздражительный.
4) Илья Беляев — сантиментальный семинарист, такой же, как Кудрявцев, — также охотник до размазни и реторики. Робость и запуганность, как у всякого профессора семинарии, — в чувстве православия и народности — больше дилетантизм, чем настоящее дело.
5) Ив<ан> Дм<итриевич>. Ну — этого Вы сами знаете!
Я нарочно исчислял только отрицательные стороны всех сих лиц, из которых ни одно не может быть допущено в духовное хозяйство журнала.
А Вы — из них-то именно собираете Советы. Какое дело Вы хотите с ними делать, позвольте спросить Вас? Им надо показать дело уже совсем конченным и облупленным и с почетом позвать в гости. Они — орудия, хотя все — дорогие.
Самое дело надо уже либо делать, либо не делать.
Делать — значит: 1) отложить известную сумму на год, какую можно, и опять-таки втащить в участие Кокорева, ибо этот совсем наш, настоящий, не деланный; 2) официально объявить, что «Москвитянин» будет выходить под редакцией Вашею (это — необходимо) и моею; 3) собрать нас, оставшихся, и потолковать по душе, по-старому.
А не делать дело — так развяжите же мне руки. Я приму в сентябре условия Дружинина, уеду в Петербург и буду в «Библиотеке» и «Современнике» разливать постепенно яд нашего учения — и, служа им, уничтожу их (в союзе с нашими), как Конрад Валленрод Мицкевича — рыцарский орден. Естественно опять, что все сие — беседа между нами.
С славянофильством (кроме Хомякова) нам сойтись трудно. Мы все-таки что-нибудь да сделали, чтобы позволять поправлять наши статьи — да и зачем же? Петербургские журналы принимают их целиком, с распростертыми объятиями. «Библиотека» печатает с большим чувством мою статью, в которой я всех их обругал, как дела не разумеющих, — и уж давно деньги даже съел я за сию статью.
Теперь обращаюсь чисто к себе и к своим делам, поскольку я и мои дела связаны с делом.
Вера, повторяю Вам, так окрепла и вызрела в душе моей, что я решился все, и покой и обеспечение, поставить на карту. Я уже объявил нашему директору, что я служить не стану. Будь со мною, что Господу угодно, по я не намерен больше оставаться в бесчестном общественном положении, т. е. делать дело, к которому я не призван, грабить государство, и без того обильное грабителями, унижаться или молчать перед неправдою ради сохранения насущного хлеба. Тот, кто позволил просить о хлебе насущном, вероятно, и пошлет его.
Домашние раздоры у меня позатихли. Я могу спокойно работать и опять пишу, пишу, как некая машина. Стало быть, и хлеб будет.
Но — хаос дел моих ужасен. Прежде всего — надобно из него меня вырвать, поколику я связан с делом (опять под тем условием: если делать дело).
Вы писали и пишете послания к разным великим мира сего, требуете в сих посланиях радикальнейших преобразований государственных и наивно удивляетесь, что Вас не слушают, что советов Ваших не исполняют.
Я исписал к Вам горы бумаги о нашем общем деле, требующем преобразований гораздо менее радикальных, и о своем совершенно уже пустячном деле — и Вы ничего не можете или не хотите сделать, хотя убеждены внутреyно, во-первых, в том, что в отношении к общему делу требования мои честны и чутье мое тонко, а во-вторых, в том, что, для того чтобы человек делал дело, нужно, в особенности если он не один на свете, — спокойствие, спокойствие, спокойствие!
Нужна ли моя поездка за границу — в этом я начинаю сомневаться, главным образом по неспособности моей жить в знатном доме, а потом по отношению к «Москвитянину». Что за странный журнал, у которого с самого же начала — один из двух редакторов находится в путешествии, да и уехал-то почти перед самым началом дела!.. С июля месяца должна начаться уже работа, и сильная!
Опять Вам скажу: либо делать дело как следует, либо бросить его.
Вместо всяких Италии дайте мне хоть месяц покою, хоть одно утро, в которое проснулся бы я с мыслию, что я свободен от главных и тягостных долгов… Подумайте, Христа ради, что я прошу денег под вещь, которая стоит, по крайней мере, 2500 рублей, — что эта вещь, если ее не поправить, будет все больше и больше становиться бесполезной, а если ее поправить, прослужит долго. Подумайте также, что эта вещь всегда может быть продана Вами или тем, кто мне даст денег, — и не я вправе на это роптать, отрекаюсь от всякого права роптать; наконец, что этим, без малейшей для себя опасности, Вы спасете человека, нужного для дела.
Итак, опять с тем же и опять к тому же.
1) Прежде всего Вы должны мне дать сами или найти под дом 2200 р. (я обрезал сумму по крайним и последним расчетам).
2) Вместо Италии я отправляюсь в Сокольники и буду пить тресковый жир.
3) С июля месяца я принимаюсь за работы по части программы (коли хотите, и раньше хоть завтра — мне теперь все равно) — писания статей, просмотра материалов и обработки их для журнала, сношений с авторами и лите<ра>торами.
4) До января я не буду у Вас просить ни копейки денег (sub conditione
[130], что дом будет заложен).
5) С января, пока журнал не дойдет до цифры 1200 подписчиков, я получаю определенное содержание, а именно за работы редакторские, мною исчисленные, и за статьи (не менее 4½ листов в месяц, огульно по 20 р. серебром) — сто двадцать пять рублей серебром в месяц. После цифры 1200 подписчиков кроме этой месячной суммы по 1 рублю серебром с каждого подписчика, т. е. менее нежели по десяти процентов с грубого дохода журнала.
6) Борису Николаевичу надобно будет платить прямо за статьи до января. Ему и Эдельсоиу, как мы говорили уже, по 25 р.
Или развяжите мне руки и напутствуйте в Петербург отеческим благословением.
Там обеспечивают мне в год по контракту minimum 2500 р., т. е. 50 листов печатных в два журнала.
<26 августа — 7 октября 1859>
Авг<уста> 26 1850. Полюстрово
Не имея покамест никаких обязательных статей под руками, я намерен изложить Вам кратко, но с возможной полностью все, что случилось со мной внутренне и внешне с тех пор, как я не писал к Вам из-за границы. Это будет моя исповедь — без малейшей утайки.
Последнее письмо из-за границы я написал Вам, кажется, по возвращении из Рима. Кушелев дал мне на Рим и на проч. 1100 пиастров, т. е. на наши деньги 1500 р. Из них я половину отослал в Москву, обеспечив таким образом на несколько месяцев свою семью, да 400 пошло на уплату долгов; остальные промотаны были в весьма короткое время безобразнейшим, но благороднейшим образом на гравюры, фотографии, книги, театры и проч. Жизнь я все еще вел самую целомудренную и трезвенную, хотя целомудрие мне было физически страшно вредно — при моем темпераменте жеребца: кончилось тем, что я равнодушно не мог уже видеть даже моей прислужницы квартирной, синьоры Линды, хоть она была и грязна и нехороша. Теоретическое православие простиралось во мне до соблюдения всяких постов и проч. Внутри меня, собственно, жило уже другое — и какими софизмами это другое согласовалось в голове с обрядовой религиозностью — понять весьма трудно простому смыслу, по очень легко — смыслу, искушенному всякими доктринами. В разговорах с замечательно восприимчивым субъектом, флорентийским попом, и с одной благородной, серьезной женщиной — диалектика увлекла меня в дерзкую последовательность мысли, в сомнение, к которому из 747 ½ расколов православии (у comptant
[131] и раскол официальный) принадлежу я убеждением: оказывалось ясно как день, что под православием разумею я сам для себя просто известное стихийно-историческое начало, которому суждено еще жить и дать новые формы жизни, искусства, в противуположность другому, уже отжившему свой мир, свой цвет началу — католицизму. Что это начало, на почве славянства, и преимущественно великорусского славянства, с широтою его нравственного захвата, — должно обновить мир, — вот что стало для меня уже не смутным, а простым верованием — перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны (тем более что у меня вертится перед глазами такой милый экземпляр их, как Бецкий, — этот пакостный экстракт холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви), — верования же социалистов, которых живой же экземпляр судьба мне послала в лице благороднейшего, возвышенного старого ребенка Демостена Оливье, — ребяческими и теоретически жалкими. Шеллингизм (старый и новый, он ведь все — один) проникал меня глубже и глубже — бессистемный и беспредельный, ибо он — жизнь, а не теория.
Читали Вы, разумеется, брошюру нашего великого софиста: «Derniers mots d'un chrétien orthodoxe…»
[132] Она, кстати, попалась тогда мне в руки, и я уразумел, как он себя и других надувает, наш милейший, умнейший софист! Идея Христа и понимание Библии, раздвигающиеся, расширяющиеся с расширением сознания общины, соборне, в противуположность омертвению идеи Христа и остановке понимания Библии в католичестве и в противуположность раздроблению Христа на личности и произвольно-личному толкованию Библии в протестантизме — таков широкий смысл малой по объему и великой по содержанию брошюрки, если освободить этот смысл из-под спуда византийских хитросплетений.
Духовный отец мой, флорентийский священник, увлекаемый своим впечатлительным сердцем к лжемудрию о свободе и отталкиваемый им же от мудрости Бецкого, ходил все ко мне за разрешением мучительных вопросов, и я воочью видел, сколь нетрудно снискать ореолу православия.
Внешние дела обстояли благополучно. Старуха Трубецкая, как истый тип итальянки, как только узнала, что у меня есть деньги, — стала премилая. Князек любил меня, насколько может любить себялюбивая натура артиста-аристократа. Милая и истинно добрая Настасья Юрьевна, купно с ее женихом, были моими искренними друзьями. Готовились к отъезду в Париж. А я уже успел полюбить страстно и всей душою Италию — хоть часто мучился каинскою тоской одиночества и любви к родине. Да, были вечера, и часто — такой тоски, которая истинно похожа на проклятие каинское; прибавьте к этому — печальные семейные известия и глубокую, непроходившую, неотвязную тоску по единственной путной женщине, которую поздно, к сожалению, встретил я в жизни, страсть воспоминания, если хотите, — но страсть семилетнюю, закоренившуюся, с которой слилась память о лучшей, о самой светлой и самой благородной поре жизни и деятельности… Дальше: мысль о безвыходности положения, отсутствии будущего и проч. В возрождение «Москвитянина» я не верил, кушелевский журнал я сразу же понял как прихоть знатного барчонка… Впереди — ничего, позади — едкие воспоминания, в настоящем — одно артистическое упоение, один дилетантизм жизни. Баста! Я закрыл глаза на прошедшее и будущее и отдался настоящему…
Между мной и моим учеником образовывалось отношение весьма тонкое. Совсем человеком я сделать его не мог — для этого нужно было бы отнять у него его девять тысяч душ, но понимание его я развил, вопреки мистеру Беллю, ничего в, мире так не боявшемуся, как понимания, вопреки Бецкому, ненавидевшему понимание, вопреки Терезе, которая вела свою политику… Я знал, к чему идет дело, — знал наперед, что возврата в Россию и университета не будет, что она свои дела обделает. Воспитанник мой меня часто завлекал своей артистической натурой: он сразу — верно и жарко понял «Одиссею», он критически относился к Шиллеру, что мне и нравилось и не нравилось, — ибо тут был и верный такт художника, но вместе и подлое себялюбие аристократа, холодность маленького Печорина. Страстность развивалась в нем ужасно — и я не без оснований опасался онанизма, о чем тонко, но ясно давал знать княгине Терезе. Тут она являлась истинно умной и простой, здравой женщиной. Вообще я с ней примирился как с типом цельным, здоровым, самобытным. Она тоже видела, что я не худа желаю, и только уже шутила над моей безалаберностью.
Рука устала писать, да и уж два часа ночи. Кончаю на сегодня…
Сент<ября> 19. Петербург
Принимаюсь продолжать — почти через месяц, — ибо все это время истинно минуты свободной, т, е. такой, в которую можно сосредоточиться, не было.
Море было удивительное во все время нашего плавания от Ливорно до Генуи и от Генуи до Марселя… Я к морю вообще пристрастился, начиная еще с пребывания в Ливорно. В Генуе дохнуло уже воздухом свободы. Портреты Мадзини и Гарибальди в трактире немало изумили меня и порадовали… Во Флоренции — я в
одном отношении как будто не покидал отечества. Наш генерал Лазарев-Станишников, или, как прозвал я его, — Штанишников, был совершенно прав, избравши Флоренцию местом успокоения от своих геройских подвигов: он мог дышать воздухом герцогской передней и в Светлый день проходить по Duomo во время обедни строем солдат в своих красных штанах и во всех регалиях…
Второй раз увидал я красавицу Genova
[133] — но с той разницей, что в первый раз я видел ее как свинья — а в этот с упоением артиста, — бегая по ней целый день, высуня язык, отыскивал сокровищ по ее галереям. В своих розысках я держался всегда одной методы: никогда не брать с собой указателей, стало быть, отдаваться собственному чутью… Ну да не об этом покамест речь.
Я вам не путешествие свое рассказываю, а историю своего нравственного процесса.
Стало быть, прямо в Париж.
Приехал я, разумеется,
налегке, т. е. с одним червонцем, и поселился в 5 этаже Hôtel du Maroc (rue de Seine), за 25 франков в месяц. И прекрасно бы там и прожить было… Не стану описывать Вам, как я бегал по Парижу, как я очаровал доброго, но слабоумного Николая Ивановича Трубецкого и его больше начитанную, чем умную половину, как вообще тут меня носили на руках…
На беду, в одну из обеден встречаю я в церкви известного Вам (но
достаточно ли известного?) Максима Афанасьева… Я было прекратил с ним и переписку, и сношение по
многим причинам — главное, потому, что меня начало
претить от его страшных теорий. Этот человек у меня, как народ (т. е. гораздо всех нас умнее), а беспутен больше, чем самый беспутный из нас. Я делал для него всегда все, что мог, даже больше, чем мог, делал по принципу христианства и по принципу служения народу. Не знаю, поймете ли Вы — но чего Вы не поймете, когда захотите? — почему
вид этого человека, один
вид разбил во мне последние оплоты всяких форм. Ведь уж он в
православии-то дока первой степени.
Ну-с! и пустились мы с ним с первого дня во вся тяжкая! И шло такое кружение время немалое. Повторю опять, что все к этому кружению было во мне подготовлено язвами прошедшего, бесцельностью настоящего, отсутствием будущего — злобою на Вас и ко всем нашим, этой злобой любви глубокой и искренней.
Увы! Ведь и теперь скажу я то же… Ведь те поддерживают своих — посмотрите-ка — Кетчеру, за честное и безобразное оранье, дом купили; Евгению Коршу, который везде оказывался неспособным даже
до сего дне, — постоянно терявшему места — постоянно отыскивали места даже
до сего дне. Ведь Солдатенкова съели бы живьем, если бы Валентин Корш (бездарный, по их же при знанию) с ним поссорился,
не входя в разбирательство причин. А вот Вам, кстати,
фактец в виде письма, которое дал мне Боткин, на случай его смерти. Простите эти выходки злобной грусти человеку, который служит и будет служить всегда одному направлению, зная, что в
своих-то — он и не найдет поддержки.
Максим мне принес утешительные известия о том, как ругал меня матерно Островский за доброе желание пособить Дриянскому на счет его «Квартета», продажей этого «Квартета» Кушелеву, — о том, как пьет, распутствует моя благоверная…
Опять сказал я: баста! и, очертя голову, ринулся в омут.
Но если б Вы знали всю адскую тяжесть мук, когда придешь, бывало, в свой одинокий номер после оргий и всяческих мерзостей. Да! Каинскую тоску одиночества я испытывал. — Чтобы заглушить ее, я жег коньяк и пил до утра, пил один, и не мог напиться. Страшные ночи! Веря в Бога глубоко и пламенно, видевши его очевидное вмешательство в мою судьбу, его чудеса над собою, я привык обращаться с ним запанибрата, я — страшно вымолвить — ругался с ним, но ведь он знал, что эти стоны и ругательства — вера. Он один не покидал меня.
Как нарочно, в моем номере висела гравюра с картины Делароша, где Он изображен прощающим блудницу.
Сент<ября> 29
Дикую и безобразно хаотическую смесь представляли тогда мои верования… Мучимый своим неистовым темпераментом, я иногда в Лувре молил Венеру Милосскую, и чрезвычайно искренне (особенно после пьяной ночи), послать мне женщину, которая была бы жрицей, а не торговкой сладострастия… Я Вам рассказываю все без утайки. Венера ли Милосская, демон ли — но
такую я нашел: это факт — факт точно так же, как факт то, что некогда, в 1844 году, я вызывал на распутий дьявола и получил его на другой же день на Невском проспекте в особе Милановского…
Кстати замечу, что в Венере Милосской
впервые запел для меня мрамор, как в Мадонне Мурильо во Флоренции впервые ожили краски. В Риме я, в отношении к статуям, был еще слеп — изучал, смотрел, но не понимал, не любил; нечто похожее на любовь и, стало быть, на понимание пробудилось у меня там в отношении к Гладиатору — но еще очень слабо.
Возвращаюсь опять к рассказу.
Время свадьбы сближало меня с Трубецкими все более и более. План старухи Терезы оставить Ивана Юрьича флорентийским князьком высказывался яснее. Кстати — старшая дочь Софья, и так уже идиотка, доведенная до последних степеней идиотства Бецким, — от зависти ли, от нимфомании ли — начала впадать в помешательство.
Князек давно уже ничего не делал, а только видимо изнывал томлением. Положение мое в отношении к нему было самое странное… Я, по-старому, употреблял на него часа по четыре, выносил снисходительно (даже
слишком снисходительно) праздную болтовню, чтобы хоть на четверть часа сосредоточить его внимание на каком-либо человеческом вопросе и двинуть его мысль вперед. Положение — адски тяжелое! Сергей Петрович Геркен, муж Настасьи Юрьевны, — отличнейший малой, но истинный российский гвардеец (а впрочем, он тут был прав!), — без церемонии гнал его к девкам… Ужасные результаты гнета системы мистера Белля тут только вполне обнаружились. Вот она, эта холодная, резонерская система дисциплины без рассуждения, гнета без позволения возражений.
Я делал
свое дело, дело расшевеливания, растревожения… Я делал его смело, но, может быть, тоже пускался в крайности. Впрочем, в крайности ли… Раз ездили мы в коляске по Bois de Fontainebleau с его теткой. Между прочим разговором — она, отчаянный демагог и атеист в юбке, спросила меня,
как я рассказываю князьку о революции и проч. — В точности, подробности и всюду правду, — отвечал я. — И вы не боитесь? — спросила она. — Чего, княгиня? Сделать демагога из владельца девяти тысяч душ? — И я, и она, мы, разумеется, расхохотались. После этой прогулки она объявила княгине Терезе, «que cet homme a infiniment d'esprit, il ne tarit jamais»
[134].
Вообще я с ними обжился и — cela va sans dire
[135] — занял у князя Николая Иваныча Трубецкого две тысячи франков, которым весьма скоро, как говорится, наварил ухо.
И вот — учитель и ученик — вместе в Jardin <de> Mabille, в Château des Fleurs.
Тереза это знала и только шутя говорила, что за учителем следовало бы так же иметь гувернера, как за учеником.
Тут-то она наконец объявила, что мы едем не в Россию, а назад, во Флоренцию, и предложила мне ехать тоже.
Я согласился. Я полюбил «саrа Italia, suolo beato»
[136], как родину, а на родине не ждал ничего хорошего — как вообще ничего хорошего в будущем.
О, строгие судьи безобразий человеческих! Вы строги — потому что у вас есть определенное будущее, — вы не знаете страшной внутренней жизни русского пролетария, т. е. русского развитого человека, этой постоянной жизни накануне нищенства (да не собственного — это бы еще не беда!), накануне долгового отделения или третьего отделения, этой жизни каинского страха, каинской тоски, каинских угрызений!.. Положим, что я виноват в своем прошедшем, — да ведь от этого сознания вины не легче, — ведь прошедшее-то опутало руки и ноги, — ведь я в кандалах. Распутайте эти кандалы, уничтожьте следы этого прошедшего, дайте вздохнуть свободно, — и тогда, но только тогда, подвергайте строжайшей моральной ответственности.
Это не оправдание беспутств. Беспутства оплаканы, может быть, кровавыми слезами, заплачены адскими мучениями. Это вопль человека, который жаждет жить честно, по-божески, по-православному и не видит к тому никакой возможности!
Я кончаю эту часть моей исповеди таким воплем потому, что он у меня вечный. Особенно же теперь он кстати.
Я дошел до глубокого основания своей бесполезности в настоящую минуту. Я — честный рыцарь безуспешного, на время погибшего дела.
Все соглашаются внутренне, что я прав, — и потому-то — упорно
молчат, обо мне. Те, кто упрекает меня в том, что я в своих статьях не говорю об интересах минуты, — не знают, что эти интересы минуты для меня дороги не меньше их, но что порешение вопросов по
моим принципам — так смело и ново, что я не смею еще с неумытым рылом проводить последовательно свои мысли… За высказанную мысль надобно отвечать перед богом. Я всюду вижу повторение эпохи междуцарствия — вижу воровских людей, клевретов Сигизмунда, мечтателей о Владиславе — вижу шайки атамана Хлопки (в лице Максима Аф<анасьева> et consortes
[137]), — не вижу земских людей, людей порядка, разума, дела.
Брожения — опять отлетели, да и в брожениях-то я никогда не переставал быть православным по душе и по чувству, консерватором в лучшем смысле этого слова, в противуположность этим тушинцам, которые через два года, не больше — огадят и опозорят название либерала! Ведь только
вы…док мог такою слюною бешеной собаки облевать родную мать, под именем обломовщины, и свалить все вины гражданской жизни на самодурство «Темного царства». Стеганул же
их за первую выходку лондонский консерватор: не знаю, раскусит ли он всю
прелесть идеи статей «Темное царство»!..
Да, через два года все это надоест и огадится, все эти обличения, все эти узкие теории!.. Через два года!.. Но будем ли мы-то на что-нибудь способны через два года? Лично я за себя не отвечаю. Православный по душе, я по слабости могу кончить самоубийством.
Сент<ября> 30
Итак, я решился ехать в Италию — сумел заставить скупую Терезу накупить груду книг по истории, политической экономии, древней литературе, убежденный, что в промежутках блуда и светских развлечений — князек все-таки нахватается со мной образования.
Я совершенно уже начал привязываться к ним. Достаточно было Терезе по душе, как с членом семейства, поговорить о болезни Софьи Юрьевны и о прочем, чтобы я помирился с нею душевно — уже не как с типом, а как с личностью — хотя твердо все-таки решился жить в городе Флоренске на своей квартире. А
чем жить — об этом я не думал. Со всем моим безобразием я ведь всегда думал не о себе, а о своей семье, хоть, по безобразию же неисходному, — часто оставлял семью ни с чем!.. Притом же я был тогда избалован тем, кого звал великим банкиром…
Ветреный неисправимо — я в кругу Трубецких совершенно и притом
глупо распустился… В кружке Николая Ивановича —
известные издания привозились молодым князем О<рловым> и читались во всеуслышание — разумеется, с выпуском строк, касавшихся князя О<рлова>
папеньки. Князь Николай пренаивно и пресерьезно проповедовал, que le catholicisme et la liberté
[138] — одно и то же, а я пренаивно
начинал думать, что хорошая душевная влага не портится даже в гнилом сосуде католицизма. В молодом кружке молодых Геркенов я читал свои философские мечтания и наивно собирался читать всей молодежи лекции во Флоренции…
На беду, на одном обеде, на который притащили меня больного, в Пале-Рояле, у Fréres provençaux — я напился как сапожник — в аристократическом обществе… На беду ли, впрочем?
Я знал твердо — что
Тереза этого не забудет… Тут она не показала даже виду — и другие все обратили в шутку — но я чувствовал, что —
упал.
Отчасти это, отчасти и другое было причиною перемены моего решения.
30 августа нашего стиля я проснулся после страшной оргии с демагогами из наших, с отвратительным чувством во рту, с отвратительным соседством на постели цинически бесстыдной жрицы Венеры Милосской… Я вспомнил, что это 30 августа, именины Остр<овского> — постоянная годовщина сходки людей, крепко связанных единством смутных верований, — годовщина попоек безобразных, но святых своим братским характером, духом любви, юмором, единством с жизнию народа, богослужением народу…
В Россию! раздалось у меня в ушах и в сердце!..
Вы поймете это — Вы, звавший нас чадами кабаков и бл. ей, но некогда любивший нас…
В Россию!.. А Трубецкие уж были на дороге к Турину, и там должен я был найти их.
В мгновение ока я написал к ним письмо, что по домашним обстоятельствам и проч.
В Париже я, впрочем, проваландался еще недели две, пока добрый приятель не дал денег.
[Денег стало только до Берлина. В Берлине я написал Кушелеву о высылке мне денег и там пробыл три недели, в продолжение которых Берлин мне положительно огадился.]
Окт<ября> 6-го
Я зачеркиваю не потому, чтобы что-либо хотел скрыть, а потому, что решаюсь развить более подробности.
Денег у меня было мало, так что со всевозможной экономией стало едва ли бы на то, чтобы доехать до отечества. С безобразием же едва стало и до Берлина. Моя надежда была на ящик с частию книг и гравюр, который, полагал я, в
ученом городе Берлине можно заложить все-таки хоть за пятьдесят талеров какому-нибудь из книгопродавцев.
Вечера стояли холодные, и я, в моем коротеньком парижском пиджаке, сильно продрог, благополучно добравшись до города Берлина.
Теплым я — как Вы можете сами догадаться — ничем не запасся. Денег не оставалось буквально ни единого зильбергроша.
«Zum Rothen Adler, Kurstrasse!»
[139] — крикнул я геройски вознице экипажа, нарицаемого droschky и столь же мало имеющего что-либо общее с нашими дрожками, как эластическая подушка с дерюгой… Это я говорю, впрочем, теперь, когда Господь наказал уже меня за излишний патриотизм. А тогда, еще издали — дело другое, тогда мне еще
и дым отечества был сладок и приятен.
Я помню, что раз, садясь с Боткиным в покойные берлинские droschky, я пожалел об отсутствии в граде Берлине наших пролеток. Боткин пришел в ужас от такого патриотического сожаления; а я внутренно приписал этот ужас аффектированному западничеству, отнес к категории
сделанного в их души. Дали же знать мне себя
первые пролетки, тащившие меня от милой таможни до Гончарной улицы, и вообще давали знать себя целую зиму как Немезида — петербургские пролетки, которые, по верному замечанию Островского, самим небом устроены так, что на них вдвоем можно ездить только с блудницами,
обнямшись, — пролетки, так сказать,
буколические.
Zum Rothen Adler! — велел я везти себя потому, что там мы с Бахметевым останавливались en grands seigneurs
[140],— вследствие чего, т. е. вследствие нашего грансеньорства, и взыскали с нас за какой-то чайник из польского серебра, за так называемую Thee-maschine, который мы, заговорившись по русской беспечности, допустили растопиться —
двадцать пять талеров. Там можно было, значит, без особых неприятностей велеть расплатиться с извозчиком.
Так и вышло. «Rother Adler», несмотря на мой легкий костюм, принял меня с большим почетом, узнавши сразу одну из русских ворон.
Через пять минут я сидел в чистой, теплой, уютной комнате. Передо мной была Thee-maschine (должно быть та же, только в исправленном издании) — а через десять минут я затягивался с наслаждением, азартом, неистовством русской спиглазовской крепкой папироской. Враг всякого комфорта, я только и понимаю комфорт в чаю и в табаке (т. е., если слушать во всем глубоко чтимого мною отца Парфения, — в самом-то диавольском наваждении).
Никогда не был я так похож на тургеневского Рудина (в эпилоге), как тут. Разбитый, без средств, без цели, без завтра. Одно только — что в душе у меня была глубокая вера в Промысл, в то, что есть еще много впереди. А чего?.. Этого я и сам не знал. По-настоящему, ничего не было. На родину ведь я являлся
бесполезным человеком — с развитым чувством изящного, с оригинальным, но несколько капризно-оригинальным взглядом на искусство, — с общественными идеалами прежними, т. е. хоть и более выясненными, но рановременными и, во всяком случае, несвоевременными, — с глубоким православным чувством и с страшным скептицизмом в нравственных понятиях с распущенностью и с неутомимою жаждою жизни!..
Окт<ября> 7
Писать эту исповедь сделалось для меня какою-то горькою отрадою. Продолжаю.
В
ученом городе Берлине
либеральный книгопродавец Шнейдер дал мне — ни дать, ни взять, как бы сделал какой-нибудь Матюшин на Щукином дворе, — только двадцать талеров под вещи, стоящие вчетверо более.
С двадцатью талерами недалеко уедешь, а ведь кое-как надо было прожить от вторника до субботы, т. е. до дня отправления Черного <…>
Н. Н. Страхову
М<осква> 1860 г. Сент<ября> 17
Видишь ли, как скоро я собрался писать к тебе, мой милый и постоянно одинаковый ко мне друг, — доказательство: 1) моей любви к тебе и 2) моего отличного поведения.
А между тем все-таки и к тебе хотел бы я писать желчью, а не чернилами. «Маловер! Почто усумнился еси?» Что ты несешь о торжестве теорий «Современника»? В чем эти теории? Допрашивал ли ты себя хорошенько о концах концов этих теорий? Кажется, что нет: иначе ты не побоялся бы бросить в хари тушинской черни твое дивное стихотворение!
Пойми ты раз навсегда, что
1) отвергать значение Пушкина в нашей жизни значит одно из двух:
а) или полагать, что есть действительно какая-то особенная жизнь, таинственная, неведомая у нашего племени, т. е. что мы — не люди, а либо ангелы, либо орангутанги. В таковое безобразие впал друг наш Степан или идет к этому;
б) или полагать, что есть так называемый прогресс и что конец этого прогресса — падение или, лучше, уничтожение искусства, науки, вообще стремления, практичность, человечество в покое, ergo — человечество на четвереньках — идеал Чернышевского и Недо… Согласись, что из этой печальной дилеммы нет выхода.
2) Полагать, что в нас, как в племени, кроме абсолютной гнусности, ничего нет, значит подавать руку централизации, т. е. деспотизму — все равно, николаевскому или робеспьеровскому, что равно гадко.
3) Полагать, что государственная свобода, политические права, наука — вздор и побрякушки, что главное дело— есть, пить и <…>,— значит ты сам знаешь что.
О каком торжестве ты говоришь, о мой маловерный пророк? Торжество зла, плоти, греха (в смысле учения идеализма) всегда бывало и всегда будет…
Что мы на время ненужные люди, это надобно переварить. То, чему мы служили, во что веруем, т. е. дух, истина, прекрасное, стремление, поверь мне, неиссякаемо и еще не раз поднимется к небу если не стройным целым Парфенона и не стрелами готических соборов, то чем-нибудь другим, равно прекрасным, равно свидетельствующим о борьбе и силе духа. Не созданы же пароды (ты знаешь, что я не верю в человечество) только <…> (конечный результат практической жизни).
Теперь слетаю с облаков и поведу речь о себе, ибо я знаю, что мой субъект тебя интересует. Я удрал из Петербурга, потому что там я был абсолютно ненужным человеком. Здесь я хоть с успехом занимаю место литературного чиновника по особым поручениям, веду разные книги, просматриваю входящие рукописи, составляю внутренние известия и т. д. Статья же моя о Пушкине, в ответ на безобразие Степана, которой зрелостью и ясностью ужасно довольна редакция «Вестника» (и что всего важнее— сам я, что редко со мною бывает), пролежит еще, может быть, до января — и винить их не могу. У «Вестника» задачи политические главным образом, а не философские и не эстетические. Политическим их задачам смело может подать руку каждый честный гражданин, и посему я готов быть г….чистом «Вестника». Пусть в отдаленнейших результатах, т. е. в вере в славянство, в народ и т. д., я с ними и разойдусь, да покамест-то они более других правы служением идее self-government
[141], ненавистью к централизации, культом мира, свободы, законности.
Я удрал сначала один. Я хотел испытать, что сделает женщина, когда она любит. Что мне это стоило — это знает Бог, а что ей стоило — знает доктор Захарьин, который едва-едва оправил теперь кое-как ее разбитый организм.
Изо всего Петербурга поистине мне жаль только тебя да Серова — две единственные души, в одно со мною верующие и не преследующие практических целей. Фуй, братец ты мой, какая погань или ветошь все остальное. Это я говорю, я, чуть что не подлец в практической жизни, говорю потому, что в конце концов безобразия мои по смерти забудутся, а уцелеет образ человека, честно верившего и служившего идее, предпочитавшего губить скорее свое честное (гражданское) имя, чем хоть на йоту отступиться от своих верований.
Какая погань и ветошь (в хронологическом порядке) и Яков Полонский, из мелочного самолюбия соперничествовавший со мною, будучи сам и по невежеству и по лени неспособен к делу; и Алексей Филатыч (помнишь «Ипохондрика»?), и благородный джентльмен Дружинин, монополист водяных статей, не пускавший других в пределы своего откупа. А это еще лучшие. А другие-то?.. А все те, подававшие руку Хмельницкому…
Да! и с тех пор как исчезла святая нетерпимость кружка Белинского и Герцена, — с тех пор можно отлично плевать в рожу и быть оплеванным и жить все-таки припеваючи. Чувство чести, чувство нетерпимости зла пропало в передовых людях развития, и результаты нашей гласности — взаимное и безнаказанное мордобитие, привычка общественного мнения к матерщине и т. д. Неужели ты будешь иметь дух сказать, что я преувеличиваю?.. А эта милая «Искра», каждый № преследующая великое общественное зло — талант Случевского и явно продавшая «Современнику» Кокорева, которого прежде не могла коснуться, пока не выплатила занятых у него на издание денег?.. А этот «Свисток», по появлении которого вы все, олимпийцы, соберетесь, посетуете жалобно и разойдетесь. А эта история с «Псковитянкой» Мея, вещью все-таки, по словам даже Тургенева, исполненною первоклассных достоинств. Ведь хотели вы ее читать на литературном вечере— и продали, <…> вашу мать! Погань и ветошь!..
Не думай, чтобы я идеализировал Москву. Москва страждет другим недостатком — фарисейскою гордостью, — но ведь это все-таки лучше.
То, что ты пишешь о Крестовском, меня не удивляет. Малому учиться надобно, а ужасное отсутствие средств к жизни сделало из него писателя. Он постоянно в ложном положении — мой бедный, добрый, но безосновный ребенок!.. Я вот и теперь заплакал горькими слезами (что со мною редко случается), подумавши об нем!..
Скажи Случевскому, когда воротится, чтобы написал ко мне. Это изо всех молодых — единственная Личность, пусть немножко и холодная, пусть и страшно самолюбивая, но личность.
Крепко пожми руку Серову и, главное, — пиши сам. Отвечать я буду всегда. К тебе я не ленив писать.
Твой всегда
Аполлон Григ.
Оренбург. 1801 года. Июня 18
В словах так называемого Писания есть, мой милый, действительно какая-то таинственная сила. Вдумывался ли ты серьезно в книгу Иова, в эти стоны, с глубоким сердцеведением вырванные из души человеческой? Там, между прочим, в этом апокалипсисе божественной иронии, есть слова:
страх, его же убояхся, найде на мя, — страшный смысл которых рано или поздно откроется и тебе, искателю истины, как давно уже раскрылся он мне. Да! чего мы боимся — то именно к нам и приходит…
Ничего не боялся я столько (между прочим), как жить в городе без истории, преданий и памятников.
И вот — я (это — один из многих опытов) именно в таком городе. Кругом — глушь и степь, да близость Азии, порядочно отвратительной всякому европейцу. Город — смесь скверной деревни с казармою. Ни старого собора, ни одной чудотворной иконы — ничего, ничего…
Может быть, ты один, узнавши меня в последнее время достаточно, понимаешь, что причины более глубокие, чем личные невзгоды и разочарование, заставили меня осудить себя на добровольную ссылку, что главная вина, causa causalis моего решения была — сознание своей
ненужности. В сознании этом много, коли ты хочешь, и гордости. Я дошел до глубокого презрения к литературе
Прогресса. Да иначе и быть не могло. Искатель абсолютного, — я столь же мало понимаю рабство перед минутой, рабство демагогическое, как рабство перед деспотами. Лучше я буду киргизов обучать русской грамоте — чем
обязательно писать в такой литературе, в которой нельзя подать смело руку хоть бы даже Аскоченскому в том, в чем он прав, и смело же спорить — хотя бы даже с Герценом, в чем он не прав. Цинизм мысли, право, дошел уже до крайних пределов. Слова человека очень честного и хорошего, каков М. Достоевский: «какие же глубокие мыслители Киреевский, Хомяков, о. Феодор?» — для человека
действительно мыслящего — термометр довольно ужасающий.
«Время» могло сделаться честным, самостоятельным и по тому самому в конце концов
первенствующим органом— но для этого нужно было: 1) принять лозунгом абсолютную
правду; 2) не заводить срамной дружбы с «Современником»; 3) подать руку славянству (не славянофильству, а славянству); 4) не пускать малафьи Кускова и блевотины Минаева, не печатать немецких. евин вроде драмы Геббеля, по рекомендации хорошего человека, Плещеева; 5) отыскать для политического отдела не
Стеньку, то бишь Алексея Разина, а человека нового и свежего, человека с стремлениями к правде и самобытности воззрения, а не к либерализму quand même…
[142]; 6) не загонять, как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. Достоевского, а холить, беречь его и удерживать от фельетонной деятельности, которая его окончательно погубит и литературно и физически…
Благодарю Бога, что я не предался обольщениям и устоял в своей решимости. Да!
честнее гораздо обучать киргизов, чем свирепствовать с тушинцами. Пока не пропер…ся Добролюбовы, не прорыгаются Ерошки, не проблюются Минаевы и не продра…ся Кусковы, — честному и уважающему свою мысль писателю нельзя
обязательно литературствовать. Негде! Рано или поздно мысль его или форма его мысли встретят сильный толчок.
Кажется, я Достоевскому если и останусь должен, то очень немного. Во всяком случае, я скоро напишу статью о Толстом, которую я обещал и которая будет без загогулин. Во всяком случае, я вышлю ее на твое имя, с полномочием поступить с ней как знаешь.
Что же касается до продолжения статей о народности в литературе, то прошу тебя, мой милый, передать кому следует, что:
1) я не могу и не хочу отречься от признания
глубоким мышления Хомякова, Киреевского и о. Феодора;
2) что я не могу и не хочу отречься
даже от права перед именем Погодина выставлять буквы: М. П., т. е. Михаил Петрович, — и от права говорить с уважением о трудах Шевырева, свободно говоря и о его недостатках и смешных сторонах;
3) что, если бы мне случилось в чем-либо признать историческую важность мысли Бурачка, я ее признаю.
Conditio sine qua non
[143] — для продолжения моих статей.
Чтобы кончить разом о делах, скажи Ивану Алексеевичу (Шестакову), что ж это штаб бумаг-то моих не выслал. Ведь без этого мне денег не дают — и без истинно-доброго В. В. Григорьева мне пришлось бы сесть на голые…. и выть волком. У меня же, кстати, М. Ф. родила преждевременно и лежит больная. О, треклятая централизация!
Я намерен писать к тебе еженедельно. Письма мои целиком можешь сообщать при свиданиях и Серову, — ибо то с тобою, то с ним хотел бы я издали перебрасываться разными вопросами.
На первый раз вкратце расскажу тебе наше странствие. Тверь я видел два раза и прежде — но никогда не поражала она меня так, как в этот раз, своею мертвенностью. Точно сказочные города, которые заснули, а у нее была
история — куда ж она подевалась? Только великолепный по стилю иконостас испакощенного местным усердием собора напоминает еще о бывшей жизни. Щедрин, как все Калиновичи, сначала поярился во имя абстрактного закона, потом, как Калиyович, в сущности добрый, — перекидывает, говорят, в картишки с теми самыми, на кого метал перуны, Унковский впал в апатию! А ведь он — вспомни — «человек он был!»…
Ярославль — красоты неописанной. Всюду Волга и всюду история. Тут хотелось бы мне, — так как Москва мне по личным горестным разочарованиям опротивела, — хотелось бы мне покончить свое земное странствие. Тут, кстати, чудотворная икона Толгской божией матери, которой образом благословила меня покойница мать. Четыре дня прожил я в Ярославле и все не мог находиться по его церквам и монастырям, налюбоваться на его Волгу. Да! вот настоящая столица Поволжья, с даровитым, умным, хоть и ерническим народом, с торговой жизнью.
Между Тверью и Ярославлем заходил я вечером в
Корчеву искать отца Феодора. Увы! он уже уехал, как объявил мне сизоносый протопоп, немало, кажется, удивившийся, что я разыскиваю человека, находящегося, по его мнению, под справедливою опалою
святейшего (… его мать!) Синода…
Казань мне не понравилась. Татарская грязь с претензиями на Невский проспект.
От Казани Волга становится великолепна, — но я, романтик,
жалел о ее разбойниках, — тем более что их грабительство en grand
[144] разменялось на мелочь — на грабительство гостиниц, извозчиков и проч., а крик: «Сарынь на кичку» разменялся на бесконечные крики: «На водку!» С Казанью кончаются города и начинаются
сочиненные правительственные притоны, вроде Самары, Бузулука и Оренбурга. Да, мой друг, — это
притоны в полном смысле.
На первый раз довольно.
Вместе с статьею (хотя прежде оной ты получишь от меня еще письмо) возложу на тебя некоторые комиссии.
Кланяйся Серову, Воскобойникову, Шестакову и проч.
Возьми, если можешь, в руки Крестовского. А Серову я завещал взять в руки Вильбую. Кстати, познакомься с этою даровитою, доброю и погибающею от безвыходного положения и от пияиства скотиною. Скотина весьма милая.
Твой
А. Григорьев
М. Ф. тебе кланяется.
Адрес: «Учителю Неплюевского кадетского корпуса, NN в Оренбург».
Оренбург. 1861 г. Сент<ября> 23
Ты можешь быть уверен, что давно уже — со времен юности ни к кому в мире я не писал так много и так часто, как к тебе, мой всепонимающий философ…
В эти две недели воспоследовали опять каинская тоска, приливы желчи и, стало быть… прилив служения Лиэю, не вредивший, однако, делу классов. А теперь, разумеется, я разбит, как старая кобыла.
Да и право, я не больше как старая, никуда уже не годная кобыла. Так мне иногда все, что зовется деятельностью, представляется ничтожным, пустым и мелким в сравнении с тем, что «едино есть на потребу», — все, и Чернышевский, и «Русский вестник», и я сам par dessus le marché…
[145].
Увы! как какой-то страшный призрак — мысль о суете суетствий, мысль безотраднейшей книги Экклезиаста — возникает все явственней, и резче, и неумолимей перед душою.
Боже мой! Неужели же и ты дойдешь до этого?
Сумасшедший ты человек! Жалуешься на то, что не жил? А имеешь ли ты конкретное понятие о тех мрачных Эринниях, которых жизнь насылает на своих конкретных любителей?.. О, да хранит тебя Бог от жизни… Муки во всем сомневающегося ума — вздор в сравнении с муками во всем сомневающегося сердца, озлобленного и само на себя, и на все, что оно кругом себя видело.
Да! я все это видел над собою, и от этого виденного у меня в одну ночь вырастали в бороде и висках седые волосы… Помню я особенно одну такую
милую ночь и помню, каким ужасом поразил меня утром белый как лунь волос, — ужасом перехода морального в физическое.
Что ты мне толкуешь о значении моей деятельности, о ее справедливой оценке? Тут никто не виноват — кроме жизненного веяния. Не в ту струю попал, — струя моего веяния отшедшая, отзвучавшая, — и проклятие лежит на всем, что я ни делал.
Начал было я свой курс в «Русском слове» — вел свою мысль к полнейшему ее разъяснению — длинными, длинными околицами. Сорвалось!
«Гроза» Островского вновь было расшевелила меня. Смело и решительно начал было я новый курс в несчастном «Русском мире» 1859 г., — взял другой прием, кратчайший. Не только сорвалось, — но никто даже не отозвался.
После долгих мук рождения, с новою верою и энергиею, с новых пунктов, облегчив даже, кажется, по возможности, формы, — начал я опять тот же курс во «Времени». Господи! и тут дождался только упрека Стеньки Разина за то, что я пишу так, что его жена не понимает, — нагло-намеренного непонимания, выразившегося в бойком ответе фельетониста «Русского инвалида» на мои заметки ненужного человека, — и, наконец, добродушных шуточек М. Достоевского, что я в «Светоч» даю статьи гораздо интереснее, — шуточек, перешедших в прямое уже неудовольствие на мою последнюю статью…
А омерзительное отношение ко мне «Искры»? А еще более омерзительное обвинение меня человеком серьезным, как Катков, в фальшивом поступке из-за его г…ого перевода «Ромео и Юлии»?.. А отрицательство от меня всех старых друзей?.. А
убеждение дурьей головы Якова Полонского, что я интриговал против него у Кушелева?.. Да, право, и не перечислить всего того скверного, что я над собою видел… В пьяном образе я приподнимал для тебя немного душевную завесу…
Так что тут рассуждать, когда явное проклятие тяготеет над жизнию?
Ну, и опускаются руки — и делать ничего не хочется на бывалом поприще. Не знаю, право, скоро ли допишу я и даже допишу ли статью о Толстом…
Что за дикое, ложное смирение заставляет тебя с каким-то странным недоверием относиться к своей собственной критической деятельности? А я так тебе говорю, положа руку на сердце: кому ж писать теперь, как не тебе? Я читал статью о Писемском… И тонко и ловко схвачена сторона бездвижности в его произведениях, в статье есть и глубокий прием, и
единство мысли, бьющей наверняка.
Известие, сообщенное «Северной пчелой», об окончании Островским «Кузьмы Минина» — вот это событие. Тут вот прямое
быть или не быть положительному представлению народности, — может быть такой толчок вопросу
вперед, какого еще и не предвиделось.
Одна из идей, в которые я пламенно верил, — порешается. Но это только одна сторона моего верования. Если бы я верил только в элементы, вносимые Островским, — давно бы с моей
узкой, но относительно верной и торжествующей идеей я внесся бы в общее веяние духа жизни… Но я же верю и знаю, что одних этих элементов недостаточно, что это все-таки только membra disjecta poetae
[146]— что полное и цельное сочетание стихий великого народного духа было только в Пушкине, что могучую односторонность исключительно народного, пожалуй земского, что скажется в Островском, должно умерять сочетание других, тревожных, пожалуй бродячих, но столь же существенных элементов народного духа в ком-либо другом. Вот когда рука об руку с выражением коренастых, крепких,
дубовых (в каком хочешь смысле) начал пойдет и огненный, увлекающий порыв иной силы, — жизнь будет полна, и литература опять получит свое
царственное значение.
А этого, бог знает, дождемся ли мы! Шутка — чего я жду — того стиха, который бы
Ударил по сердцам с неведомою силой,
того упоения, чтобы «журчанье этих стихов наполняло окружающий нас воздух»… Шутка! Ведь это — вера, любовь, порыв, лиризм…
Не говори мне, что я жду невозможного, такого, чего время не дает и не даст. Жизнь есть глубокая ирония во всем. Во времена торжеств
рассудка она вдруг показывает оборотную сторону медали, посылает Кальостро и проч.; в век паровых машин — вертит столы и приподнимает завесу какого-то таинственного, иронического мира духов странных, причудливых, насмешливых, даже похабных…
Ну, да бросим все это. Давай о положительном. Ты просишь, чтобы я написал тебе,
как я и
что я, что Марья Федоровна и т. д. Живем мы очень мирно и смирно. Марья Федоровна
по подлости характера хочет написать тебе, что я пил две недели, — но это клевета самая гнусная. Жизнь в Оренбурге не очень дешева… да какое тебе, впрочем, философу, дело до дороговизны или дешевизны жизни?
Знаешь, когда я лучше всего себя чувствовал? В дороге. Право, если бы я был богат, я бы постоянно странствовал. В дороге как-то чувствуешь, что ты в руках божиих, а не в руках человеческих. О корпусе и своей в нем деятельности я тебе писал. Общество здешнее я мало знаю, да и знать-то не хочу:…. его в подпупие, — как говаривал покойный Лермонтов! Город прескучный, в особенности для меня. En fait des villes, как говорит один из самых симпатичных мне поэтов, Гюго, — j'aime les vieilles
[147]. Мне старый собор нужен, — старые образа в окладах с сумрачными ликами, — следы истории нужны, — нравы нужны, хоть, пожалуй, и «жестокие», да типические. Мало ли что мне нужно? А иногда так ничего не нужно, — и даже большею частию…
Ну, до свидания!
Марья Федоровна велит тебе написать, что ей в городе тоже скучно, — но ведь это, в сущности, вздор, — что хоть три года проживет, а все не привыкнет (и это тоже вздор).
Твой
An. Григорьев
Оренбург. 1861 г. Дек<абря> 12
<…> Я нисколько не в претензии за то, что ты показываешь мои письма Ф. Достоевскому. Я его, и вообще обоих братьев, очень люблю, — хоть схожусь с ними не во всем, а во многом расхожусь совершенно. По моему мнению, — и они со временем согласятся со мною, — нельзя «работати богу и мамоне», — нельзя
признавать философию, историю и поэзию и дружиться с «Современником», нельзя, уважая себя и литературу, печатать драчбу Кускова и начать фельетоны блевотиной Минаева, нельзя ради дешевого либерализма держать в политике Стеньку Разина, нельзя печатать как нечто
хорошее драму Геббеля и т. д. <…>
Да — я не деятель, Федор Михайлович! (предполагаю, что и Вы будете читать это письмо) и, признаюсь Вам, я горжусь тем, что я не деятель в этой луже — что я не могу купаться в ней купно с Курочкиным, — я горжусь тем, что во времена хандры и омерзения к российской словесности я способен пить мертвую,
пищаться, но не написать в свою жизнь ни одной строки, в которую я бы не верил от искреннего сердца… Вы на меня
яритесь за то, что я уехал, оставил-де свой пост, как Вы называете. Увы! В прочности этого поста я весьма мало убежден и теперь. Вот киргизов русской грамоте обучать, это хоть и скучная адски вещь, да зато прочная и, главное, — всегда одинаково удобная для исполнения.
После сей апострофы — обращаюсь опять к тебе, мой философ… С чем бишь? Да! что за
пустошь роман Полонского? Для меня просто каким-то внутренним
холодом веет от этих прекрасных стихов. Потому — тупоумным от природы людям не следует приниматься за картины
исторические (в широком смысле этого понятия)…
А поэзия — уходит из мира. Вот я теперь с любовью перевожу одного из трех последних настоящих поэтов (т. е. с Мицкевичем и Пушкиным купно), — я переживаю былую эпоху молодости — и
понимаю, с какой холодностью отнесется современное молодое поколение к этим пламенным строфам (все равно, хоть читай оно их по-английски), к этой лихорадочной тревоге, ко всему тому, чем мы
жили, по чему мы
строили свою жизнь… Все это
не нужно. Нужны блевотины Минаева, некрасовский откуп народных слез, статьи Добролюбова и «Искра». Вот что нужно…
А все сдается, что нужно это только до тех пор, пока новый могучий стих
Ударит по сердцам с неведомою силой
и повлечет за собою неистощимую жажду человеческого сердца… и опять туда же in das Idealen-Reich
[148].
Я всегда заговорюсь с тобой, так что для практических дел остается мало места, — да и лучше отложу их до субботы, когда стану посылать посылку. <…>
Твой
А. Григорьев.
8 июня 1864 г. Петербург
Милый Спиноза!
Вчера все-таки толковали мы как-то неопределенно.
Ну, хорошо, — если редакция рада, что я сел в Тараску, чему я и сам рад отчасти, то
1) должна
определительно назначить мне темы занятий (кроме «Записок»). Я бы вот хотел написать
хорошую, основательную статью о
Щедрине и обличительной литературе вообще — для чего мне, конечно, нужны ег-stens
[149] — сочинения Щедрина, т. е. «Губ<ернские> оч<ерки>» и «Сатиры в прозе», а потом, вероятно, еще несколько книг.
2) Должна сразу же несколько успокоить меня насчет
буар, манже и
сортир (буар не в опасном смысле), т. е. прежде всего и паче всего поручительством своим постепенной уплаты возвратить мне скудное достояние мое, находящееся у известной тебе весьма отвратительной и глупой <…> Натальи, что может быть легко сделано через Ваньку — и что крайне необходимо, ибо 1) не пьяный я крайне опрятен и без белья жить не могу; 2) гитара служит мне всегда в трезвой жизни лучшею подругою в часы отдохновения. Затем мне нужно пока не более
трех рублей в неделю.
Вот и все. Письмо это покажи Федору Михайловичу, хоть он—<…> его душу — и считает меня лишенным совести и сердца.
1864 г. Июня 8.
Твой
Безобразник.
Вот на всякий случай реестр вещей:
1) Гитара.
2) Чайник металлический, стакан с поддонником и ложкой.
3) Чайница китайская.
4) Партитура «Роберта» и мой печатный экземпляр его перевода с письменными вставками — да несколько книг.
5) Белье (ad libitum
[150], без поверки) и красная фуфайка.
<Петербург. 26 июля 1864 г.>
Добрый друг!
Что же, наконец, это такое? Узнаю ли я, наконец, решительно — нужен я журналу или статьи мои помещаются из милости, чего я при всей моей бедности вовсе не хочу.
Покойник заказал мне статью о Григоровиче под рубрикою «Отжившие писатели». Написал я ее по крайнему разумению — и, мне кажется, довольно хлестко (по крайней мере, я уверен, что формою своею она понравится читающему люду и даже будет иметь эффект), Федор Мих<айлович> посмотрел вступление и говорит Аверкиеву — что это как-то вяло (уж именно в вялости-то тут меня, как ты увидишь, трудно попрекнуть) и чтобы я поскорее писал письмо об органической критике.
Господи! Один находит, что письмо об органической критике стыдно бы печатать. Другой — требует об отживших писателях, третий — находит и это вялым.
И все это тогда, как человек нездоров, без гроша денег и только по свойственной всякому порядочному человеку гордости представляет себя очень веселым в долговом отделении.
А главное-то, вы все, господа, кажется, ошибаетесь, требуя от меня все чего-то нового. Новое как критик я могу сморозить разве что-нибудь во вкусе Варфоломея Зайцева — и вам, видимо, нужен публицист. Так так бы и говорили.
Еще вот что. Под статьею о театре я подписал «Дача Тарасовка». Неприлично! (Что за мещанство такое напало?) Большинству читателей — ведь эта шутка непонятна, — а меньшинству театральному я нарочно хотел, чтобы это было понятно, равно как и моим литературным приятелям. А покойный Михаила Михайлович прямо хотел, чтобы я написал «Записки о долговом отделении» и прямо начал их так: «Я — русский литератор — немудрено поэтому, что в одно прекрасное утро я попал в долговое отделение».
Понятно, вероятно, тебе, почему тебе, а не Федору Михайловичу пишу я все это. Я сам болен и могу понимать других больных. Но ты выбери безопасную минуту показать ему сие.
Что же мне делать, коли я так болезненно устроен?.. Сообщенное мне Аверкиевым отняло у меня энергию, с которой начинал я второе письмо об органической критике.
И вот еще что. Повторяю прежнюю мою просьбу. Узнай при свидании с Шестаковым об оренбургских делах. Чувствую, что этим опять должно кончиться. Всякие нерешительные отношения мне глубоко надоели.
Во всяком случае — мне нужно просмотреть корректуры.
1864 г. Июля 26. Твой
An. Григорьев
Воскресенье вечером.
Дача Тарасовка.
Петербург 1864 года. Сент<ября> 3
Добрый друг!
В последний раз обращаюсь посредством тебя с просьбою — затем окончательно замолкаю и отдаюсь своей участи.
Дело в том, что если уже нельзя мне освободиться, — то так и быть. По крайней мере — мне нужны обещанные сто рублей, если уж не совсем я стал не нужен редакции. Да совсем-то все-таки не могу я сделаться ненужным. «Записки» мои считал все-таки достаточно интересными покойник — ну я их и буду писать…
Неужели же, друзья мои, — так трудно понять, что не получавши аккуратно даже по пяти обещанных рублей в неделю — и что просивши эти несчастные сто рублей еще до задержания в долговом отделении и, конечно, не получившему <так!> их— человеку вообще беспорядочному, как я, — легко было привести себя уже в безвыходно-гнусное положение…
А с другой стороны, что (не говорю уж о непереносной пище и недостатках в табаке и чае) — задолжавши кругом тут же людям, беспрестанно вертящимся на глазах, — протухши от пота, — ибо белье не отдает прачка, — не имея какого-либо костюма, можно что-либо думать?
Положим, — что у вас есть теперь критик, который вас не окомпрометирует крайностями, которому я сам охотно, любя его всей душой, сдаю все свои обязанности, — но хоть за прежние-то заслуги и за «Записки» — не третируйте меня хуже щенка, покидаемого на навозе.
Повторяю — все это говорится в последний раз.
Твой и ваш всегда
Григорьев,
Сегодня буду сновать из угла в угол по приемной в ожидании.

Воспоминания об Аполлоне Григорьеве{385}
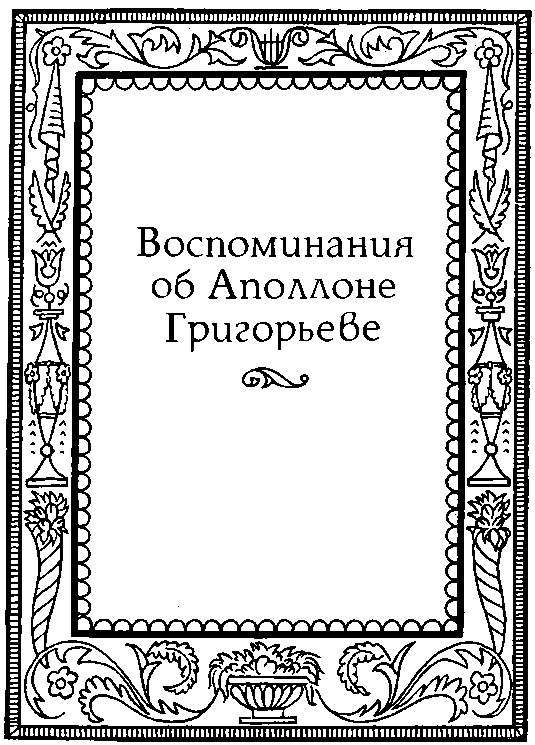

К. Н. Леонтьев
Несколько воспоминаний и мыслей о покойном А.П. Григорьеве
(Письмо к Ник. Ник. Страхову)
М. Г.
Незадолго до кончины Ап. Григорьева я познакомился с ним. Имя его я знавал и прежде — в первой моей молодости я читал его статьи в «Московитянине» и сам тогда не знал, верить ли ему или нет. Слог его я находил смутным и странным; требования его казались мне слишком велики. По критической незрелости моей я тогда был поклонником «Записок охотника», и мне казалась возмутительной строгость, с которой Григорьев относился к первым произведениям Тургенева. (Григорьев отнесся иначе к более зрелым произведениям этого писателя и доказал этим свой критический такт.) Однако многое и из тогдашних его статей осталось у меня в памяти, и суждения не только о наших, но об А. де Мюссе и др. иностранных писателях, я и тогда это чувствовал, были исполнены глубины, изящества. Я чувствовал это и тогда, но отчасти благодаря моей собственной незрелости, отчасти благодаря ширине духа самого Аполлона Григорьева,
с трудом вмещавшегося в слово, я все-таки повторял: «Непонятно, чего хочет этот человек!»
Я не понимал, например, тогда ясно — почему Григорьев, отдавая справедливость дарованию Писемского, столь сильно предпочитает ему Островского. И в том, и в другом я видел лишь комизм. Я не умел тогда понять, что Островский более
положительный писатель, чем Писемский, что положительность его особенно дорога своим реализмом, ибо положительность его изображений была не в
идеале, а в теплом отношении к русской действительности, в любви поэта, с которой относился к нашему полумужицкому купеческому быту, несмотря на его суровые стороны и не скрывая их…
Аполлон Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале; его идеал был — богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до крайних своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности. Так я понимаю его теперь; быть может, я и ошибаюсь, — вам, как ближайшему его другу, предстоит исправить мои ошибки.
А. Григор<ьев> стоял особняком. Оба московские кружки западников и славянофилов одинаково отталкивали его.
Разгульная ли жизнь Григорьева, чувственность ли, дышавшая в статьях его, не нравились строгим славянофилам, известным чистотою своей семейной и личной жизни, но Григорьев близок с ними не был.
Между Аксаковым и Григорьевым была та же разница, какая есть между теми
вполне русскими стихами Кольцова, где дышат нравственность и чистая вера, и теми тоже
вполне русскими стихами Кольцова, где дышат разгул, тоска по разгулу и чувственность.
С славянофилами я лично не был знаком, зато изустные отзывы передовых людей другого рода о Григорьеве были мне хоть урывками, но хорошо известны. Я бывал тогда нередко в одном доме, где встречал Кудрявцева, Грановского, Боткина, Тургенева и др.
Тургенев был всегда блестящим светским человеком, капризно-остроумным в обществе, вроде так хорошо изображенного им Горского («Где тонко, там и рвется»).
Он любил небрежно и даже презрительно отзываться о своей собственной литературной деятельности; ценил высоко только Пушкина и Гоголя, а из современных ему авторов отдавал справедливость всем, не восхищаясь ни одним. Строгость его к другим выкупалась, как я сказал, строгостью его отзывов и о собственных произведениях (тогда еще не были им написаны ни «Рудин», ни «Дворянское гнездо»).
А. Григорьева он называл: «огромный склад сведений и мыслей без всякого регулятора». Раз он сказал при мне: «Я ужасно люблю тех, которые меня бранят; Ап. Григорьев только исключение; он меня бранит — и я его ненавижу…» Боюсь, что в этом причудливом отзыве баловня судьбы и общественного вкуса крылось тайное сознание того, что из немногих порицателей его только один Григорьев был прав.
Что касается до первого отзыва (т. е. «Григорьев есть склад мыслей и познаний без регулятора»), то я не слыхал его от самого Тургенева; мнение это передавал при мне покойный профессор Кудрявцев.
Частная жизнь Григорьева и того круга, к которому, как слышно было, он тогда принадлежал, жизнь, так сказать, неряшливо-разгульная, не нравилась и не могла нравиться тому обществу литераторов, в которое я был вхож. Я по молодости подчинялся тому, что слышал. Даровитые и ученые люди этого круга жили все готовыми, ясными европейскими идеями и вкусами; за ними жил тем же самым и я; мне, по крайней моей молодости, казались одинаково чуждыми и славянофилы и Григорьев, с своим неуловимым идеалом.
Прошло много лет; я долго жил, слава богу, вдали от столиц и от мелкого обмена литературных кружков, — и приехал в Петербург, когда только что стал выходить журнал «Время». Я не стану объяснять здесь подробно, почему «Время» удовлетворило меня сразу более, чем «Современник», «Русский вестник» и «Отечественные записки»; я скажу только, почему «Время» было мне
тогда более по сердцу, чем взгляды московских славянофилов.
Под влиянием отвращения, которое во мне возбуждал «Современник», я стал ближе всматриваться в окружающую меня русскую жизнь и в те проявления ее, которые я встречал во время моих странствий; я начинал уже чувствовать в душе моей зародыши славянофильских наклонностей, — но не дозрел еще, не дорос до отвращения к избитым и стертым, как «крыловский червонец», формам западной жизни.
К тому же многое рано прочтенное было дорого сердцу, и к близкому, еще теплому прошедшему можно отнестись тогда лишь вовсе холодно, когда оно заменилось более высоким, более полным идеалом. Московские славянофилы имели этот идеал; для них он давно был ясен: русский мир и союз его с самодержавием, — Земская дума совещательная с полной свободой действия верховой власти; русская песня и русские обычаи; горячая вера в православие — доброе и прекрасное; и чистота семейных нравов, полная внутренней свободы, веселья и любви.
Для меня идеал этот тогда не был еще ясен, — и даже отношения мои к тому, что в нем мне было ясно, не были еще теплы.
Я видел, что к Онегину, Рудину и другим подобным лицам, с которыми протекла моя юность, славянофилы относятся сухо и если не громят их идеалы и их образ жизни так, как громят «нигилисты», то это лишь оттого, что литературные приемы славянофилов были вообще более возвышенны, более чисты и просты, чем приемы нигилистов, которых силы были в грязной площадной цветистости…
Во «Времени» я встречал именно то, чего мне хотелось: теплое отношение к нашему недавнему прошедшему, к нашему
европейскому, положим, но все-таки искреннему и плодотворному разочарованию. Другая черта, которая ко «Времени» влекла меня более, чем к московскому славянофильству, была следующая: «Время» смотрело на женский вопрос (собственно, на его психическую, а не грубо гражданскую сторону) менее строго, чем смотрели московские славяне. Московские славяне переносили собственную нравственность на нравы нашего народа. Я сомневался, правы ли они. Мне казалось, народ наш нравами не строг, и очерки Писемского («Питерщик» и др.) казались мне более русскими, чем благочестивые изображения Григоровича… (Здесь не место объяснять, счел ли я себя и «Время» правыми впоследствии или нет.)
Следующие стихи А. Григорьева:
Русский быт —
Увы! совсем не так глядит,
Хоть о семейности его
Славянофилы нам твердят
Уже давно, но, виноват,
Я в нем не вижу ничего
Семейного… О старине
Рассказов много знаю я,
И память верная моя
Тьму песен сохранила мне,
Однообразных и простых,
Но страшно грустных… Слышен в них
То голос воли удалой,
Все злою долею женой,
Все подколодного змеей
Опутанный, то плач о том,
Что тускло зимним вечерком
Горит лучина, хоть не спать
Бедняжке ночь и друга ждать,
И тешить старую любовь,—
и т. д. и т. д. —
мне казалось, вернее
специфировали великорусса, чем «4 времени года» Григоровича и др. тому подобные вещи. Не отрицая явлений и такого рода, я говорю только, что не они характеристичны для нашего крестьянства, для великорусса, казачества, для мильонов раскольников наших, в
высшей степени великорусских, особенно когда мы хотим сравнить их с благочестивыми и тяжелыми землепашцами Западной Европы.
Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть занесенная с Запада поэзия — но живущая в самых недрах народа. Итак, эти две черты: теплое отношение к печальным, но прекрасным идеалам 40-х годов и меньшая строгость по женскому вопросу влекли меня более ко «Времени», чем к московским славянам, — хотя я с каждым годом все более и более чтил их.
«Время» не выяснило определительно своей задачи, вы с этим должны согласиться; главная вина «Времени» против публики (а еще более против самого себя) была та, что оно не выработало в
собственно гражданских отделах своих ничего своеобразного; если бы в гражданских отделах своих оно, по крайней мере, бы держалось явно славянофильского идеала, то дела пошли бы лучше… Но оно, кроме простой демократии, которая с большей силой и ясностью проповедовалась в «Современнике», ничего не давало… Но в этом виноваты были не вы, не Григорьев.
В других отделах «Время» было занимательно, но все-таки неясно для большинства.
Лучшие статьи принадлежали Вам и Григорьеву — но выводы их были все-таки не резки. Я говорю не о себе; я, мне казалось, понимал Вас и Григорьева и всю редакцию так:
В будущем мы желаем для России жизни полной и широкой, но своеобразной донельзя; перед этим своеобразием пусть побледнеет и покажется ничтожным наше полу-европейское недавнее прошедшее. Однако и к этому недавнему прошедшему мы не можем относиться без теплоты. И в нем мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы эти общие элементы приняли бы более русские формы.
Так ли я понял Вас и Вашего друга? Если я ошибся, повторяю, поправьте меня.
Итак, взгляды «Времени» были мне по сердцу; но, не любя никаких литературных сближений, я не спешил знакомиться с Григорьевым.
Наконец, любовь моя к литературе взяла верх над моим отчуждением от литераторов, — и я, встретив раз Григорьева на Невском, попросил шедшего со мною одного его знакомого [г. Вс. Крестовского] представить меня ему.
Мы зашли в Пассаж и довольно долго разговаривали там. Насколько помнится, «Время» уже пало, и Григорьев издавал тогда «Якорь».
Я был в восторге от смелости, с которой он защищал юродивых в то положительное и практическое время, и не скрывал от него свое удовольствие.
Он отвечал мне:
— Моя мысль теперь вот какая:
то, что прекрасно в книге, прекрасно и в жизни; но может быть неудобно — но это другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, а для прекрасного…
— Если так, — сказал я, — то век Лудовика XIV со всеми его и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? Если бы пришлось кстати, стали бы вы это печатать?..
— Конечно, — отвечал он, — так и надо писать теперь и печатать!
[Г. Вс. Крестовский может засвидетельствовать, если память ему не изменила в этом случае, истину моих слов.]
Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском.
Не помню, по какому поводу, шел на улице крестный ход. Григорьев был печален и молча глядел на толпу.
— Вы любите это? — спросил я, движимый сочувствием.
— Здесь, — отвечал Григорьев грустно, — не то, что в Москве!.. В Москве эти минуты народной жизни исполнены истинной поэзии.
— Вам самим, — прибавил я, — вовсе нейдет жить в этом плоском Петербурге; отчего вы бросили Москву?..
Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов…
Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто.
Я сначала думал, что он живет
не один. Я знал еще прежде, что он женат, и раз на святой неделе спросил у него:
— Отчего у вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую пасху?
— Где мне, бездомному скитальцу, праздновать пасху так, как ее празднует хороший семьянин! — сказал Григорьев.
— Я думал — вы женаты, — заметил я.
— Вы спросите, как я женат! — воскликнул горько Аполлон.
Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни… Я вспомнил, как говорили, что он и семейную жизнь свою поставил совсем
особо, по-своему; и понял, что избранный им смелый и странный путь породил, по несчастию, разрыв и нечто еще худшее разрыва… Так слышал я; но теперь я не позволю себе высказать все это яснее и подробнее.
Вскоре после этого Ап. Григорьев пропал без вести. Вы сами, помните, не знали, где он. Я долго искал его; нашел, наконец, его бедный номер в огромном доме Фридерикса; но не застал его дома, и мы уже больше не встречались. Я уехал из России, а Григорьева через год не стало.
Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. Не потому я ее ценю выше, что дальше от ее зол, как подумают иные, а потому, что больше понимаю, узнавши больше чужое. Страна, в которой я теперь живу, особенно выгодна для того, чтобы постичь во всей ширине историческое призвание России. И эта мысль одна из величайших отрад моих. Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымирают прежние люди на всех поприщах, и боюсь, что долго некому будет заменить их.
Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними железными дорогами и фабриками, не всемирно-удобными учреждениями. Лучшее украшение нации — лица, богатые дарованием и самобытностью. Лица даровитые и самобытные не могут быть без деятельности творчества; когда есть лица, есть и произведения, есть деятельность всякого рода. Ограничимся на этот раз только литературным поприщем в самом пространном значении этого слова; хотя и на других поприщах мы бы могли найти сходные явления и задать себе тот вопрос, который тревожит иногда сердце. Какими оригинальными дарованиями, каким русским творчеством заменят поколения 70-х годов, когда исчезнет богатое духом поколение 40-х годов? Когда-нибудь не станет ни Островского, ни И. Аксакова, ни Каткова, ни других современников Ап. Григорьева, как не стало ни Грановского, ни Кудрявцева, ни К. Аксакова, ни Хомякова, ни Станкевича, ни Кольцова, ни Шевченки, ни Белинского, как
духовно не стало Тургенева после «Отцов и детей». «Дым» показал, что сам автор духовно стал ничтожен, как
прах. Какие национальные «образования» заменят их? Многие из этих людей 40-х годов («отцы» тургеневские) доказали, что они способны быть не только мыслящими Рудиными, но и стать во главе практических учений, способны неусыпными трудами прокладывать свежие пути, являться в трудные минуты с духовной поддержкой колеблющемуся обществу. Кто заменит их? Здесь дело не в учении, а в личности. Пространственная даль, в которой я живу от России, почти то же, что историческая даль прошедшего. Каково бы ни было направление, лишь бы окончательная форма его была
своя, наша и дышала бы силой!
Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную эпоху миру, когда даже и то, что недоставало тебе прежде, — политическое движение умом, — нынче тебе дано, и семена этой жизни неугасимы никакой временной усталостью? Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное и безличное царство масс? В безличность не эпическую, не в царство массы бытовой русской, а в безличность и царство массы европейской, петербургской, в безличность торгашескую, физико-химическую и чиновничью?
Аполлон Григорьев был и сам
лицо, и все сочинения его дышали особенностью, и несколько недосказанное направление его было искание прекрасного в русской жизни и риском творчестве.
Ап. Григорьев хотел и старался дополнить во «Времени» и в «Якоре» то, что, по его мнению, недоставало строгим славянофилам (которых он высоко ценил) для всесторонней оценки русской жизни.
Пока все еще трепетало перед тем внезапным порождением прежнего либерализма, которое уже и запоздалому пониманию европейцев теперь известно под именем «нигилизма русских», — Григорьев продолжал служить прекрасному; не тому только прекрасному, что зовут «искусством» и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком дереве, но прекрасному самой жизни, прекрасному в мире современных движений, в мире политических учений, в мире борьбы. Идеал Добролюбова и его друзей не мог не быть ненавистен ему; но оттого, что сокол высиживает куриные яйца, сокол не перестанет быть смелой и ловкой птицей, и Григорьев уважал Добролюбова как лицо и деятеля. Но в то же время он решался защищать юродивых в «Якоре» и, основательно утверждая,
что прекрасное в книге прекрасно и в жизни, указывал на задушевные изображения в наших повестях этих лиц, неподходящих под утилитарную классификацию.
Эта критическая всесторонность вредила Ап. Григорьеву; его не понимали; имя его никогда не было популярно; на многих грошевых устах это имя возбуждало улыбку, иногда презрения, иногда мудрой благосклонности к бедному безумцу.
Иные в его статьях находили нечто тайно-растленное; они были не совсем не правы. Для себя лично он предпочитал ширину духа — его чистоте. В статьях его было веяние, схожее с той струей, которая пробегает по сочным и судорожным сочинениям Мишле. Но он не скрывал этого ни от себя, ни от других; не боялся подобного обвинения. Он знал, что в полной жизни прекрасно и полезно не одно только интенсивное, строгое и чистое; он знал, что и в мире гражданских учений нужны не только политический, нравственный и религиозный аскетизм, но и широкие критические взгляды, которые в одно и то же время и выше и ниже временно-практических настроений. Ап. Григорьев становился к своему времени в положение историческое. Подобно тому, как хороший современный француз равно ценит в прошедшем и Босюэтта, и Мольера, и Рабле, и Кальвина, как англичанин одинаково считает украшением английской истории и кавалеров и пуритан, — так и Ап. Григорьев равно умел своей художественно-русской душой обращаться и к славизму, и православию, и к притупившемуся у нас (вероятно, на время) философскому пониманию, и к железным проявлениям материализма, того материализма, который хотя по содержанию не русский, не немецкий, не французский, а всемирный, но которого приемы — как бы грубы они ни были — мы должны признать вполне русскими.
«Он сам не знает, чего хочет!» — говорили про Григорьева.
Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: «Охота вам читать эту
мертвечину—Ап. Григорьева!»
Я скоро после этого перестал с ним видеться, так как он мне стал гадок своей казенной честностью, казенными убеждениями, казенной добротой, казенным умом.
Не порок в наше время страшен; страшна пошлость, безличность! Безличность бытовая, безличность, согнутая под ярко национальное ярмо, — почтенна и плодоносна, но бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!
Чтобы было яснее понятие этой общеевропейской пошлости, я вспоминаю одну статью из-за границы, напечатанную лет 5–6 тому назад в какой-то газете; статья эта была написана не слабо и врезалась мне в память; ее написала Евгения Тур. Г-жа Тур назвала в ней русских «варварами» за то, что они толкуют о Ст. Милле и Бёкле, не понимая их. Незаслуженный комплимент! К несчастию, именно эти заграничные путешественники нисколько не варвары, а, вероятно, люди пошлые! Пускай бы они были варварами, но такими, какими были Суворов, Потемкин и другие «екатерининские орлы», какими суть наши крестьяне, иные герои Островского и казаки Толстого. Нация больше выигрывает от подобных варваров, чем от многих наших европеистов и писателей. Кстати, желательно было бы знать, как понимает Милля и Бёкля сама авторша этой маленькой громовой выходки? Называя других варварами (не в смысле свежести, а в смысле глупости), надо было бы самой научить их, как понимать этих двух свободолюбцев — Бёкля и Милля, вовсе не похожих друг на друга. Отдает ли себе отчет г-жа Тур в том, что если бы человечество решилось внимать только Бёклю, который так серьезен в приготовительном труде и так мелок в общем выводе, — то через несколько десятилетий не стало бы ни религии, ни поэзии, ни искусства, ни славы, ни природы; а если бы человечество поняло, что есть между строками у Милля, и, главное, послушалось бы своих догадок, — то оно бы вело войны, как ведет оно и теперь, но без лицемерных оговоров, не спешило бы везде вводить парламентское устройство и строго запретило бы обрабатывать все пустыни, несмотря на мирно-либеральные увещания, которыми задобривает читателей этот хотя и стесненный духом осмотрительного века, но все-таки смелый мыслитель. Ибо: 1) войны развивают индивидуальность как наций, так и лиц, они прямо и косвенно подают людям повод обнаруживать творческие силы; например, одно Ватерлоо дало множество превосходных, страниц искусству, и давно ли еще напечатано было удивительное произведение Эркма-на-Шатриана «Waterloo», от которого и слезы готовы литься, и волосы встают дыбом у самого закоснелого в чтении человека! Ибо: 2) парламентское устройство бессильно само по себе возвысить обедневшую духовно нацию. А эпохи, полные жизни и творчества, бывали велики и без свободных учреждений: Германия Фридриха II, Марии-Терезии, Гёте, Канта и Бетховена была благороднее, прекрасней нынешней Швейцарии или нынешних Соединенных Штатов, знаменитых своим самоуправлением и своим мещанством. В 3-х, ибо сам Милль говорит, что не следует человеку быть беспрестанно в обществе, что с обработкой всех пустынь, с уничтожением дремучих лесов и диких зверей пропадает всякая глубина человеческого духа (и где же
говорит он это, — не в книге «О свободе», но в своей политической экономии!).
Чтобы доказать другим, что они пошлы, надо было самой авторше мудрить своих бедных соотчичей. Что же касается до названия
варвары, то это просто обмолвка, это слишком лестно для людей, которые носятся по железным дорогам Европы из гостиницы в гостиницу. Вот г. Щедрин назвал их гастро-половыми космополитами, и в награду его самого можно назвать: «варвар Севера надменный!» Русский варвар мог вдохновить Беранже, который написал: «le coursier de cosaque»
[151] но кого вдохновят (не отрицательно) те люди, которые оскверняют Невский своим пасквильно-европейским видом?
Отступление это не случайно. У Ап. Григорьева было именно то, что бы порадовало Милля и испугало Бёкля, если бы они оба его знали: Милль увидал бы в нем индивидуальность человека и писателя, а Бёкль понял бы, что для него чистый рассудок («разум» у Бёкля) вовсе не был путеводной звездой. Лично я, к несчастью, мало был знаком с Григорьевым, и биографические подробности о нем у меня почти все отрывочные.
Мне нравилась его наружность, его плотность, его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми крылась страстность. Когда он шел по Невскому, в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой, когда он пил чай и, кивая головою, слушал, что ему говорили, — он был похож на хорошего, умного купца, конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженых бакенбардах!
Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть, и если не ошибаюсь, и петь. Потом уже хозяин дома представил их друг другу.
Когда я хочу знать биографию лица, мне недостаточно отчета о его общественной деятельности, — я хочу знать все его слабости, все пороки, все домашние дела, все его привычки, всю анекдотическую часть его жизни. Представляя себе Наполеона I, я думаю не только о Маренго, Аустерлице, Бородине и пирамидах, об административной энергии его, об его законодательстве и т. п. вещах, нет — я интересуюсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он был хуже собою, чем в зрелости, и т. п.
Многие читатели прощают Руссо его колебания; любят придворное тщеславие Гёте, забавную аккуратность Канта, оргии Байрона и Шеридана, грубости Петра I. Смесь пороков и благородства, смешных привычек с поразительными силами чувств и ума — сильнее действует на всех, чем безупречная плоскость. Этот вкус читателей не есть, как обыкновенно думают, праздное любопытство; не праздное любопытство также и страсть многих к анекдотам про разные странности, привычки и выходки известных людей. В этих вкусах, кроме естественной и похвальной любви к увлекательному, есть как бы научное предчувствие. Когда мы описываем растение, мы не говорим только о прикладной его части, об аптечных, фабричных и кухонных свойствах его; подобное описание этих свойств предоставляется особым отраслям науки, — для описательной же ботаники интересны, например, в шафране не одни только лекарственные красные тычинки его, но и корень, и листья, и микрография клеточек, и красота лепестков; ботаник обязан не пропускать даже таких мелких органов или придатков, которых польза для самого растения до сих пор непостижима.
К несчастью, повторяю, я знал Григорьева очень мало: знал, например, что он жил бедно и, кажется, очень беспорядочно; знал о некоторых пороках и слабостях его, слышал, как его иные звали литературным Любимом Торцовым. Но всего этого недостаточно. Я бы желал, чтобы друзья Ап. Григорьева, которые знали его хорошо, не стесняясь никакими обыкновенными приличиями, составили бы биографию, достойную этой страстной и мыслящей натуры
[152].
Бояться обнаруживать ошибки и темные проступки любимого человека — значит мало надеяться на его достоинства и привлекательность.
Наконец, и то сказать — половина читателей в самой жизни предпочитают таких беспутных людей, каков был, например, А. де Мюссе, людям обстоятельным вроде Канта. А в чтении и спора нет, что биография последних настолько же бледнее и скучнее, насколько трактат о красильных веществах скучнее и ниже книги Шлейдена «Растение и его жизнь».
Нельзя не настаивать, чтобы у нас писались хорошие, подробные и откровенные биографии. У нас до сих пор нет ни одной ясной художественной биографии таких лиц, как императрица Екатерина II, Потемкин, Кутузов, Лермонтов, Хомяков и т. д. Все сведения отрывочны. Из существующих биографий — одни казенны, другие кратки и поверхностны. Свое прошедшее мы знаем мало; а нам знать
свои, хоть бы и поблекшие, начала нужнее, чем кому-нибудь, ввиду гражданских реформ, в соседстве подавляющей культуры Запада и той внутренней работы душ, которая недоступна политическому миру, но зато глубоко изменяет на наших глазах семейную и общественную жизнь нашу. Свое ближайшее прошедшее мы знаем мало; молодым людям, вырастающим теперь, не только XVIII век, но и вся первая половина XIX будет скоро казаться смутной картиной без живых лиц и теплоты, из глубины которой будут до них долетать только стоны рабов, топот взяточников и команда генералов. Да возгордятся они своей прогрессивной и бестолковой беспорочностью!
А между тем не только рабы, не только генералы, но и самые взяточники были люди, и 1000 теплых или отрадных подробностей их жизни пропадают для истории. Каковы бы они ни были, они были
русские, а нам нужно знать Россию не по одним официальным и обличительным крайностям. Нам нужно знать, какие народные начала хорошо бы выработать, нам надо даже знать, какое зло терпеть необходимо, чтобы быть
самим собой, а не отсталыми и робкими лакеями европейских успехов; чтобы отчизна наша все больше день ото дня занимала в мире то духовное положение, к которому она пышностью своих составных частей призвана, помимо всякой политической силы, давно уже доступной ей.
Я не говорю уже о крестьянах, о купцах, раскольниках, казаках, обо всем том, что носит на себе, слава богу, еще долго неизгладимую русскую печать; я говорю о нашем помещичьем и чиновничьем обществе, которое хотя и менее народно, чем народ, но вполне все-таки и ни на одно иностранное общество не было похоже и непохоже и теперь.
Положим, наше общество 30-х, 40-х и 50-х годов было заражено космополитизмом до низости; положим, наши дамы говорили иногда: «как я могу интересоваться героем, которого зовут Петр Иваныч?», положим, наши лихие офицеры, которые как следует бились под Севастополем, слишком ласкались к европейцам при мирных свиданиях с ними. Но разве этот неслыханный космополитизм не наша черта? разве не вызван он был особыми историческими условиями, не похожими ни на французские, ни на греческие, ни на турецкие, ни на германские условия? Дело не в том, чтобы хвалить его, но чтобы изучить и понять, почему люди самые сильные, умы самые самостоятельные были так робки в том случае. Почему до сих пор еще этот космополитизм делает у нас успехи? Разве это не любопытно и не поучительно? Положим еще, что, кроме неуместного космополитизма, есть еще другая общая черта у русского общества, — это какая-то неопределенность, расплывчатость, недоконченность многих отдельных явлений. Какое-то соединение сложности и бледности. Трудно сказать про наше общество то, что легко, без ошибки, сказать о других обществах: «семейное начало правильно и сильно в Германии и Англии; в Италии свобода супружеских нравов доведена донельзя» и т. д. Можно ли сказать так резко о нашем обществе? Конечно, нет! С одной стороны, семейная жизнь, домоседство, власть старших, доходящая до деспотизма, с другой — бродяжничество, цыганство со всеми его дурными и хорошими последствиями, неслыханная, свирепая эмансипация детей. Молодые люди, «дети» нашего времени, вырастают под самыми противоположными влияниями; сын набожного купца становится нигилистом; вчерашний космополит и атеист начинает ходить в церковь чаще, чем ходила его мать, помещица. Один брат сочувствует полякам, другой — Муравьеву; государство одевает войска в кепи, а молодые люди заказывают себе поддевки и красные рубашки; демагог, почитавши статьи Антоновича, поступает на службу и знакомится с людьми высшего круга; богатый и знатный гордец понижает тон. Электричество гражданских учений пробегает по обществу и целой нации, которую реформы и фактическая свобода слова застали в сложном и бледном виде, завещанном нам 40-ми годами. Краски начинают выступать нескольку ярче, но все еще недостаточно. Их надо сознать и оценить во всей полноте. А много ли мы знаем про себя? И если знаем кое-что, то давно ли? Где у нас мемуары? Летописцы недавнего и уже забываемого прошедшего? Где биографии знаменитых людей? Сколько оригинальных русских характеров угасло в неизвестности. Многие ли у нас знают Кавказ, казаков, русское крестьянство, жизнь мусульманских племен нашей отчизны? Кто знает Финляндию, Сибирь? Давно ли открыли, что есть на свете Белоруссия? Где у нас ясные сведения о придворной жизни прошлого и запрошлого царствования, — и это было бы полезно изучить без светской исключительности и без скрежета плебейской зависти. Самые подробности о великой борьбе 12-го года исчезают на всех концах России, вместе со стариками и старухами, которые и не подозревают, какие сокровища уносят с собою в могилу. Ввиду подобного невежества нельзя не дорожить всяким биографическим отрывком, всяким плохим подобием записок и воспоминаний.
Нашим писателям вообще свойственна добросовестная объективность, любовь к мелочам, крайне неуместная в области искусства; для биографий же и воспоминаний она более чем полезна. Панаева обвиняли за его пристрастие к описанию поз, ногтей, рубашек и т. п.; я с этим не согласен; за неимением лучшего и его «Воспоминания» пригодны. И эта деревянная объективность в них менее возмутительна, чем в «Хлыщах» и т. п. искусственных, ложнотворческих мерзостях, где нет ни реальной, ни художественной правды.
Такие грубые, неумные, жалкие писатели повестей, как Успенский, Станицкий и др., которым имя «легион», были бы очень почтенны, если бы обратили свою поверхностную наблюдательность на службу современной истории, — вместо того чтобы осквернять мир своим творчеством. Разумеется, для них (особенно для Станицкого) это уже поздно, и угол зрения у многих из подобных творцов более современно-дидактический, чем научно-верный; но под словами «Станицкий, Успенский» и т. п. я разумею нечто генерическое, ужасное в искусстве, но достаточно способное для летописи. Такие умы всегда будут, и, лишь бы дидактизм и разные полезные негодования не сбивали их с пути, они могли бы изготовлять материалы для биографий, для истории общества и народа, предоставляя умам более обширным делать выводы и давать направления.
Когда издали посмотришь на богатства наших начал, то и писать об них как будто нет охоты. Кажется, всякий это видит и знает, всякий этому радуется! Однако на деле немногие это видят. Немногие чувствуют, какую богатую жатву для всемирной истории готовит эта нация, в которой варварство самое темное и чреватое будущим живет рядом с усталой утонченностью, с глубокими познаниями, в которой этнографические и климатические условия так разнохарактерны и в которой разъединение сословий оставило надолго следы своеобразных путей развития. Германия, Франция, Англия дали столько лиц истории в первой половине нашего века; все эти лица оставили столько влияний и плодов в мире политики, в мире семейном, в искусстве, философии, промышленности, что почва, их породившая, надолго кажется изнурена. Не гниения надо за них опасаться, — гниение ужасно, но плодотворно; им грозит скорее иной вид омертвения — окаменелость духа. Все, что в них есть еще замечательного, выработано прежде; молодое безлично и принуждено повторять зады в разных направлениях. Близкое будущее есть только у России и у греко-славянского мира, Турции и Австрии.
И, не говоря даже о будущем, настоящее России уже полнее и богаче содержанием, чем настоящее трех путеводных наций Запада; своеобразными характерами мы и теперь богаты; сильные лица старого времени, подобно генералу Муравьеву, еще живы и приобретают исторические имена; а молодое растет на почве, богатой самыми противоположными началами. Лишь бы это молодое сумело понять свое призвание! и не засыпало бы на готовых либерально-европейских рецептах. Я повторяю —
дело родит лица, а лица родят дело. Резкие лица не могут долго оставаться при одной, бесплодной для общества, оригинальности; и даже едва ли возможна полная бесплодность оригинальности. Монах, удалившийся в столб, продолжает действовать на людей, возбуждая в них своим потрясающим и смиряющим примером религиозное чувство; какой-нибудь резкий чудак не обойдется без влияния, хоть на тесный кружок семьи и друзей, не говоря уже о том, что он украшает жизнь самим фактом своего существования.
В той гамме индивидуальностей, которой и теперь уже не бедна Россия, Ап. Григорьев занимал не последнее место. И друзья его, как я уже выше сказал, должны, не стесняясь его недостатками и проступками (если таковые были), познакомить нас с ним короче. Если иные вещи не хотят печатать
теперь, пусть запишут и сохранят. Сколько должно было быть страданий и высокого блаженства, сколько переходов в этой жизни!
Я не скажу — он умер рано; я думаю, на срок нашей деятельности есть мера выше нашей. Быть может, предоставленная ему свыше доля влияния — исполнится и расширится после его смерти, благодаря тому, что привлечет внимание многих к его имени и к сочинениям его, которые необходимо издать отдельно. Не было ли того же с Белинским? Многие ли знали его при жизни? Я хотел сказать о нем, что думал, соображая дух его статей с тем, что заметил сам в 4–5 свиданий; я знаю — это очень бедно и недостойно его, но источников у меня нет, а душа и без них чует общую истину его угасшего бытия.
Мы часто ищем
русских лиц. Вот вам одно из них; он был похож не только на
русского, а еще на
себя самого.
Примите, мил. г., уверение и т. д.

Примечания
1
Здесь и далее цитаты из текстов, вошедших в данный том, не оговариваются.
(обратно)
2
Григорьев Аполлон. Воспоминания: [С приложением воспоминаний и статей об Аполлоне Григорьеве]. М.; Л., 1930. С. 516. Далее:
Изд. 1930.
(обратно)
3
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1980. Т. 20. С. 136.
(обратно)
4
Изд. 1930. С. 432.
(обратно)
5
Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л., 1080. С. 311.
(обратно)
6
Изд. 1930. С. 517.
(обратно)
7
Блок А. А. Собр. соч. М.; Л., 1902. Т. 5. С. 498.
(обратно)
8
Григорьев Аполлон. Воспоминания. С. 309.
(обратно)
9
Там же. С. 110. (Из рассказа «Офелия».)
(обратно)
10
Санд Ж. Собр. соч.: В 9 т. Л., 1974. Т. 8. С. 640. Цитируемая статья (1833) вторично была опубликована в качество предисловия к переизданию романа Э. де Сенанкура «Оберман», вышедшему в 1840 г. Эта книга была у Григорьева (см.: Григорьев Аполлон. Воспоминания. С. 96).
(обратно)
11
Григорьев А. А. Другой из многих//Проза русских поэтов XIX века. М., 1982. С. 134.
(обратно)
12
Там же. С. 132.
(обратно)
13
См.:
Григорьев Аполлон. Воспоминания С. 309.
(обратно)
14
Там же.
(обратно)
15
А. А. Григорьев: Материалы для биографии. Пг., 1917. С. 193.
(обратно)
16
Егоров Б. Ф. Поэзия Аполлона Григорьева//Григорьев А. Стихотворения и поэмы. М., 1978. С. 26.
(обратно)
17
См.:
А. А. Григорьев: Материалы для биографии. С. 184.
(обратно)
18
Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967. С. 378.
(обратно)
19
А. А. Григорьев: Материалы для биографии. С. 226.
(обратно)
20
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 199.
(обратно)
21
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 18. С. 37, 49.
(обратно)
22
Там же. Т. 20. С. 136.
(обратно)
23
Григорьев Аполлон. Литературная критика. С. 167.
(обратно)
24
Там же. С. 166.
(обратно)
25
Григорьев Аполлон. Литературная критика. С. 167.
(обратно)
26
Старинная сказка! Но вечно останется новой она
(нем.).
(обратно)
27
Живет, как умирают святые, — мучеником.
Байрон (англ.).
(обратно)
28
Ничто и Всё
(нем.).
(обратно)
29
Верни мне мое дитя, мое дитя!
(нем.)
(обратно)
30
я забыл его имя
(фр.).
(обратно)
31
до кончика ногтей
(фр.).
(обратно)
32
Прекрасная Венеция
(ит.).
(обратно)
33
…Господня чистая хвала,
О Беатриче, помоги усилью
Того, который из любви к тебе
Возвысился над повседневной былью.
Или не внемлешь ты его мольбе?
Не видишь, как поток, грознее моря,
Уносит изнемогшего в борьбе?
Данте. «Ад», Песнь II (ит.).
(обратно)
34
Мост вздохов
(ит.).
(обратно)
35
дрожании
(ит.).
(обратно)
36
На середине моего пути.(
ит.).
(обратно)
37
кто его знает?
(ит.)
(обратно)
38
Без любви
(ит.).
(обратно)
39
См. повесть Гофмана «Doge und Dogaressc» в «Serapionsbrüder» <«Дож и догаресса» в «Серапионовых братьях», —
Нем.>
(обратно)
40
Славься, звезда моря!
(лат.)
(обратно)
41
Лишь знаю: тщетно мы любили,
Лишь чувствую: прощай, прощай!
Байрон (англ.)
(обратно)
42
Пусть тебя приветствует тот, кто испытал несправедливость
(фр.).
(обратно)
43
Негодование рождает стих.
Гораций (лат.).
(обратно)
44
Наполни же все сердце этим чувством
И, если в нем ты счастье ощутишь,
Зови его как хочешь:
Любовь, блаженство, сердце, бог!
Нет имени ему! Все — в чувстве!
А имя — только дым и звук,
Туман, который застилает небосвод (нем.).
(обратно)
45
как передают
(лат.).
(обратно)
46
в недавнем прошлом
(фр.).
(обратно)
47
О, кто бы вы ни были, юноша или старик, богач или мудрец.
В. Гюго (фр.).
(обратно)
48
экстравагантности
(фр.).
(обратно)
49
Наполни же всё сердце этим чувством
И, если в нем ты счастье ощутишь,
Зови его как хочешь:
Любовь, блаженство, сердце, бог!
Нет имени ему! Всё — в чувстве!
А имя — только дым и звук,
Туман, который застилает небосвод.
Гете. «Фауст», 1 часть (нем.)
(обратно)
50
Город цветов
(ит.).
(обратно)
51
«Лучей надежды» (нем.).
(обратно)
52
Помни о смерти!
(лат.).
(обратно)
53
Я вас знаю, прекрасная маска
(фр.).
(обратно)
54
предмет, вещь
(лат.).
(обратно)
55
телесное
(лат.).
(обратно)
56
Господа
(фр.).
(обратно)
57
Добрый вечер, господа
(фр.).
(обратно)
58
Мадам
(фр.).
(обратно)
59
Господа, пойдемте
(фр.).
(обратно)
60
в сторону (Фр.).
(обратно)
61
Что это такое?
(Фр.)
(обратно)
62
Мой ангел
(фр.).
(обратно)
63
Милый ангел
(фр.).
(обратно)
64
чудесно
(фр.).
(обратно)
65
и могу ли я вам посоветовать?
(фр.)
(обратно)
66
Добрый вечер, мадам
(фр.).
(обратно)
67
портсигар (фр.).
(обратно)
68
Вы позволите, мадам?
(фр.)
(обратно)
69
Он завсегдатай ваш…
(фр.)
(обратно)
70
На месте преступления, мой дорогой друг
(фр.).
(обратно)
71
Но, мадам…
(фр.)
(обратно)
72
Поверите ли мне?
(фр.)
(обратно)
73
Как вы любезны!
(фр.)
(обратно)
74
Спасибо
(фр.).
(обратно)
75
Это последняя новость…
(фр.).
(обратно)
76
Это последний скандал
(фр.).
(обратно)
77
здравствуйте
(фр.).
(обратно)
78
Спасибо, спасибо, мадам
(фр.).
(обратно)
79
Я вас приветствую, господа
(фр.).
(обратно)
80
Простите, мадам
(фр.).
(обратно)
81
Большое спасибо
(фр.).
(обратно)
82
напротив
(фр.).
(обратно)
83
Курите, прошу вас
(фр.).
(обратно)
84
медный лоб!
(фр.)
(обратно)
85
Оставьте же ваши безумства, господа
(фр.).
(обратно)
86
милый друг
(фр.).
(обратно)
87
Но вы пугаете дам
(фр.).
(обратно)
88
Брат
(фр.).
(обратно)
89
Но какой ужас! О небеса!
(фр.).
(обратно)
90
Эта женщина умрет внезапно, — говорю вам
(фр.).
(обратно)
91
Извините, господа
(фр).
(обратно)
92
Что вам угодно, мсье?
(фр.)
(обратно)
93
До свидания, Мари!
(фр).
(обратно)
94
по преимуществу
(фр.).
(обратно)
95
— Мой дорогой, не хотите ли, чтобы мы что-нибудь из «Лючии»…
(нем.)
(обратно)
96
«Я удаляюсь…»
(ит.)
(обратно)
97
Скажи, влюбленная душа…
(ит.)
(обратно)
98
меблированных комнатах
(ит.).
(обратно)
99
любить его один день, и после умереть (
ит.).
(обратно)
100
полет осла
(ит.).
(обратно)
101
дорогой друг
(ит.).
(обратно)
102
чаевые
(нем.).
(обратно)
103
«У Красного орла»
(нем.).
(обратно)
104
прекрасное чувство
(нем.).
(обратно)
105
«моя куколка»
(нем.).
(обратно)
106
привратника
(фр.).
(обратно)
107
цветочном замке
(фр.).
(обратно)
108
животрепещущие вопросы
(фр.).
(обратно)
109
Я тоже художник
(ит.).
(обратно)
110
насквозь
(нем.).
(обратно)
111
Свобода, равенство, братство — или смерть!
(фр.)
(обратно)
112
«папаша Дюшен»
(фр.).
(обратно)
113
в неистовой злобе
(фр.).
(обратно)
114
все прочие
(ит.)
(обратно)
115
призывом к стыду
(фр.).
(обратно)
116
младшего
(англ.).
(обратно)
117
и тем лучше (иг.).
(обратно)
118
цеховой зависти
(фр.).
(обратно)
119
помрачение ума
(лат.).
(обратно)
120
В конце концов (
фр.).
(обратно)
121
Вы снова здесь, изменчивые тени
(нем.).
(обратно)
122
Внезапно изменилось сновиденье…
(англ.)
(обратно)
123
«Исповеди сына века»
(фр.).
(обратно)
124
Я увожу сквозь вековечный стон…
Входящие, оставьте упованья!
(
ит.).
(обратно)
125
Этрусской гробницы
(ит.).
(обратно)
126
под другими формами
(лат.).
(обратно)
127
крайне правую
(фр.).
(обратно)
128
худо-бедно
(фр.).
(обратно)
129
я
(лат.).
(обратно)
130
при условии
(лат.).
(обратно)
131
считая
(фр.).
(обратно)
132
«Последнее слово православного христианина»
(фр.).
(обратно)
133
Генуя (ит.).
(обратно)
134
«что это человек бесконечного ума, он неиссякаем»
(фр.).
(обратно)
135
само собою разумеется
(фр.).
(обратно)
136
«милую Италию, благословенную землю»
(ит.).
(обратно)
137
и его соучастников
(фр.).
(обратно)
138
что католицизм и свобода
(фр.).
(обратно)
139
«К отелю «Красный орел», на Курштрассе!»
(нем.)
(обратно)
140
важными господами
(фр.).
(обратно)
141
самоуправления
(англ.).
(обратно)
142
все-таки
(фр.).
(обратно)
143
Необходимое условие
(лат.).
(обратно)
144
по-большому
(фр.).
(обратно)
145
в придачу
(фр.).
(обратно)
146
разрозненные части поэта
(лат.).
(обратно)
147
Из городов <…> я люблю старые (
фр.).
(обратно)
148
в царство идеалов
(нем.).
(обратно)
149
прежде всего
(нем.).
(обратно)
150
по усмотрению
(лат.).
(обратно)
151
«казацкий конь»
(фр.).
(обратно)
152
К несчастью, находясь далеко от России, я не мог достать статью об Ап. Григорьеве, написанную несколько лет тому назад г. Аверкиевым. Быть может, и нашлось бы там отчасти то, чего я желаю.
(обратно)
Комментарии
1
В настоящем издании представлены основные разделы литературного наследия А. А. Григорьева (включая эпистолярию). Тексты поэм, стихотворений и драмы печатаются на основе
Изд. 1959 (см. ниже) с дополнениями из его неопубликованного наследия. Прозаические и публицистические опыты печатаются по текстам первых публикаций. Воспоминания и письма Григорьева, а также посвященный ему мемуарный очерк К. Н. Леонтьева печатаются по наиболее авторитетным источникам.
Полноценный историко-литературный комментарий к публикуемым текстам Григорьева требует значительно большего объема, нежели это предусмотрено в изданиях данного типа. В предлагаемых примечаниях — в соответствии с профилем серии «Московский Парнас» — преимущественное внимание уделено его художественным произведениям. Что же касается мемуаров и эпистолярии Григорьева, то составитель вынужден ограничиться ссылкой на недавние издания и публикации, включающие обстоятельный комментарий.
Тексты Григорьева печатаются с максимально возможным приближением к орфографии и пунктуации подлинника (не говоря уже о сохранении резко-своеобразной стилистики этого автора). Все тексты воспроизводятся полностью; исключение составляют мемуары и письма, в которых сделаны сокращения, всякий раз отмеченные отточием, заключенным в угловые скобки. В справках о первых публикациях подпись указывается лишь в том случае, когда она не совпадает с полным именем автора.
В примечаниях приняты следующие условные сокращения:
БдЧ — Библиотека для чтения.
Белинский — Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1953–1958. Т. 1—13.
Воспоминания — Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л., 1980.
Г. — Григорьев.
Изд. 1846 — Стихотворения Аполлона Григорьева. СПб., 1846.
Изд. 1917 — Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Пг., 1917.
Изд. 1930—Григорьев Аполлон. Воспоминания. М.; Л., 1930.
Изд. 1959 — Григорьев Аполлон. Избранные произведения. Л., 1959.
Изд. 1967— Григорьев Аполлон. Литературная критика. М., 1967.
Изд. 1978 — Григорьев Аполлон. Стихотворения и поэмы. М., 1978.
МГЛ — Московский городской листок.
Москв. — Москвитянин.
Отеч. зап. — Отечественные записки.
Прп — Проза русских поэтов XIX в. М., 1982.
РиП — Репертуар и Пантеон.
СО — Сын Отечества.
Совр. — Современник.
УЗ ТГУ — Ученые записки Тартуского государственного университета.
ФВ — Финский вестник.
Эстетика — Григорьев Аполлон. Эстетика и критика. М., 1980.
(обратно)
2
1845. № 5. С. 313–330 (с посвящением: А<нтонине> Ф<едоровне> К<орш>, снятом при перепечатке в
Изд. 1846). — В поэме отразилась драматическая история любви Г. к А. Ф. Корш (см. его «Листки из дневника скитающегося софиста» и главу «Записки Виталина» в рассказе «Мое знакомство с Виталиным». —
Воспоминания. С. 83–96, 132–141). Автобиографическими чертами наделен и образ Олимпия Радина, в литературном плане ориентированный на лермонтовскую традицию (см.: Розанов И. Н. Отзвуки Лермонтова//Венок М. Ю. Лермонтову. М., 1914. С. 253).
(обратно)
3
И восхищаться бородой <…>
Их голос важен и силен… — Имеется в виду московский кружок славянофилов (см. также примеч. к главе 5).
(обратно)
4
Или московский старый спор // О Гегеле… — См. драму «Два эгоизма» и примеч. к ней.
(обратно)
5
Странная семья <…>
То полурусская семья // Была… — Имеется в виду семья Коршей (немецко-еврейского происхождения); после смерти известного московского врача Федора Адамовича Корша его вдова, Софья Григорьевна, осталась с многочисленным потомством.
(обратно)
6
Бирсуп (от нем. Biersuppe) — суп из пива.
(обратно)
7
Русский быт, // Увы! совсем не так глядит <…> Славянофилы нам твердят // Уже давно… — Здесь
Г. полемизирует прежде всего с воззрениями К. С. Аксакова, о которых, впрочем, он мог судить лишь по устным пересказам (см. примеч. к драме «Два эгоизма»).
(обратно)
8
…Невесела //Картина — русская семья… <…>
Лихая мачеха, не мать… — Точка зрения самого
Г., определившая его трактовку русских песен как
страшно грустных, близка к концепции B. Г. Белинского, изложенной в «Статьях о народной поэзии» (1841): «Лирическая поэзия <…> вся посвящена семейному быту, вся выходит из него, — и потому она так грустна, так заунывна, нередко дышит таким сокрушительным чувством отчаяния и ожесточения»
(Белинский. Т. 5. С. 441–442). Показательно, что, рецензируя
Изд. 1846, критик выделил комментируемый фрагмент поэмы, в котором, по его мнению, стих
Г. «превращается в бич сатиры» (Там же. Т. 9. С. 593).
(обратно)
9
Лет сорок или сорок пять // Она на свете прожила… — В 1845 г. C. Г. Корш исполнялось сорок шесть лет.
(обратно)
10
Вечной спутницей Антонины Корш представлялась
Г. ее сестра Лидия, на которой он женился в 1847 г.
(обратно)
11
Грозой оторванный листок… — Цитата из поэмы Лермонтова «Мцыри».
(обратно)
12
…Предо мной // Рисует память старый сад <…> Они // Идут вдали от всех одни // Рука с рукой… — Ср. схожий (и столь же контрастный по отношению к основному сюжету) мотив (идиллическое времяпрепровождение юных героя и героини на лоне природы) в поэме «Предсмертная исповедь» (глава 13; наст. изд., с. 41), повестях «Один из многих»
(Воспоминания. С:206–207) и «Другой из многих»
(Прп. С. 136–137).
(обратно)
13
Теперь лишь верит одному, // Что верить вообще смешно… — По предположению Б. Ф. Егорова, вариацией этих строк является двустишие, которым характеризует свое состояние повествователь в рассказе «Мое знакомство с Виталиным»: «Не верил только потому,//Что верил некогда всему»
(Воспоминания. С. 128, 403).
(обратно)
14
Распространялся он о том,// Как в новом мире все равны… — Иронический намек на трактат Ш. Фурье «Новый мир» (см. также примеч. к стихотворению «Комета»); согласно учению Фурье в идеальном человеческом общежитии энергия страсти будет использоваться в разумных и прикладных целях
(на обрабатыванье груш).
(обратно)
15
Ее я вижу пред собой… <…>
И я… Молиться я не мог… — Здесь вводится тема первых из известных нам лирических опытов
Г.; см. стихотворения «Е. С. Р.», «Нет, за тебя молиться я не мог…» и примеч. к ним.
(обратно)
16
Впервые:
РиП. 1846. № 3. С. 558–563. Эпиграф — из стихотворения Г. Гейне «Красавицу юноша любит…» (под строкой дан перевод А. Н. Плещеева).
(обратно)
17
Ланнер Иозеф Франц Карл (1800–1843) — немецкий композитор.
(обратно)
18
Впервые:
ФВ. 1846. № 9. С. 5—22. Эпиграф из стихотворения Байрона.
(обратно)
19
В минуте вечности — забыть // О преходящем и земном // И в жизни вечность ощутить. — Одна из излюбленных идей
Г., почерпнутая из Гете; см. его перевод стихотворения «Das Vermächtnis» (У
Г. — «Завет»): «Присущ да будет разум вечно,//Где жизни в радость жизнь дана.//Тогда былое удержимо, // Грядущее заране зримо,//Минута с вечностью равна» (
Изд. 1959. С. 420; ср. перевод стихотворения «Божественное». — Там же. С. 413). См. также в драме «Два эгоизма» (наст. изд., с. 275), повести «Другой из многих» («Довольно, минута — вечность…» —
Прп. С. 82) и позднейшей статье «И. С. Тургенев и его деятельность…»: «Уловить в преходящем вечное и непременное, принять его в себя не отвлеченно и искать его повсюду деятельно — вот правда…»
(Изд. 1967. С. 312).
(обратно)
20
И человек, с тех пор как он, // Змеей лукавой увлечен… — Книга Бытия, 3, 1-24.
(обратно)
21
«О
Марфа, Марфа! есть одно <…>
Пора благую часть избрать!» — Христос, остановившийся в доме Марфы, укорял ее в том, что она заботилась и суетилась «о многом», и противопоставлял ей сестру — Марию, которая «избрала благую часть»: «села у ног Иисуса и слушала слово Его» (Евангелие от Луки, 10, 38–42).
(обратно)
22
…Вот места, // Знакомые обоим нам <…>
Моей сестрой, моей женой // Тебя от детства нарекли… — См. поэму «Олимпий Радин», глава 7 (и примеч. к ней).
(обратно)
23
Впервые:
РиП. 1846. № 8. С. 211–234. Посвящение поэмы А. А. Фету (другу молодости автора, вместе с которым он жил в родительском доме в 1839–1844 гг.) Б. О. Костелянец связывает с тем, что во время краткой поездки в Москву в конце февраля — начале марта 1846 г. (см. примеч. к стихотворению «Когда колокола торжественно звучат…»)
Г. с ним встречался (см.:
Изд. 1959. С. 565). Однако Фета в ту пору в Москве не было (он служил в Орденском кирасирском полку, расквартированном на Украине); отметим также, что биограф Фета относит начало «полосы охлаждения» в отношениях между ним и Г. как раз к февралю — марту 1846 г. (см.: Блок Г. П. Летопись жизни А. А. Фета//А. А. Фет. Традиции и проблемы изучения. Курск, 1985. С. 148; публикация Б. Я. Бухштаба). Ср. в тексте поэмы (главы 9-10).
(обратно)
24
Русский бог. — О семантике этого фразеологизма, восходящего к апокрифическому высказыванию хана Мамая после поражения на Куликовом поле («Велик русский бог!»), см.: Рейсер С. А.
Русский бог.//Известия АН СССР. Серия лит-ры и языка. 1961. № 1. С. 64–69.
(обратно)
25
Иракла новые столбы. — Когда Геракл направлялся за коровами Гериона на остров Эрифию (десятый подвиг), он воздвиг на северном и южном берегах пролива, разделявшего Европу и Африку, две каменные стелы — так наз. Геракловы столпы. Переосмысливая это выражение, Г. вводит тему противопоставления
(совсем иной борьбы) России и Запада. В главах 3–5
Г., трактуя тему предназначения России, использует клише, выработанные славянофильской традицией (которая, однако, отнюдь не связывала пробуждение
духа народа с
подвигом, который предстоит совершить
преемникам Петра — русским монархам). В главе 5 (и далее в тексте) пропуск стихотворных строк (замененных строками точек) имеет, скорее всего, фиктивный характер. Этот композиционный прием восходит к «Евгению Онегину».
(обратно)
26
…Хандра // За мною по пятам бежала <…>
В цыганский табор, в степь родную… — Ср. в рассказе «Роберт-Дьявол»: «…я страдал самой невыносимой хандрой <…> той хандрой, от которой русский человек ищет спасения только в цыганском таборе, хандрой, создавшей московских цыган, пушкинского Онегина и песни Варламова»
(Воспоминания. С. 178); см. также в очерке «Москва и Петербург» (наст. изд., с. 313).
(обратно)
27
Европейский Вавилон — Париж.
(обратно)
28
…
О вечном Nichts и Alles // Решали споры. — Ср. обыгрывание этой же темы (и этих же философских терминов) в рассказе «Мое знакомство с Виталиным»: «Я вспомнил о Москве, о том, что там, например, я не сидел бы так бесплодно, а занялся бы разрешением глубокого вопроса о вечном Ничто — и, проведши час или два в таком общеполезном занятии, с спокойной совестию отправился бы к К ** или к Г * сообщить свои открытия по этой части, вполне уверенный, что застану их разрешающими или уже разрешившими вопрос об абсолютном Всем, — и что таким образом себе и им доставлю удовольствие столкновения крайностей»
(Воспоминания. С. 128–129). См. также примеч. к драме «Два эгоизма».
(обратно)
29
Фуляр — носовой или шейный платок из шелковой ткани.
(обратно)
30
«Роберт-Дьявол» — опера Дж. Мейербера (1831; либретто Э. Скриба и К. Делавиня), увлечение которой
Г. пронес через всю жизнь: в 1846 г. он посвятил ей специальный рассказ (см.:
Воспоминания. С. 177–187, 406). а в конце жизни выпустил свой перевод либретто оперы, которому была предпослана его же вступительная заметка (отд. изд.: СПб., 1863). См. также письмо
Г. Н. Н. Страхову от 8 июня 1864 г. (наст. изд., с. 438).
(обратно)
31
Вот и он… — Имеется в виду дьявол Бертрам, главный герой оперы Мейербера;
«Gieb mir mein Kind, mein Kind zurück!» — слова из его арии в IV акте.
(Г. описывает исполнение этой роли В. Ферзингом, басом немецкой оперной труппы в Петербурге).
(обратно)
32
Ты, с кем мы долго были братья, // Певец хандры, певец снегов!.. — Фет был автором стихотворения «Хандра» (1840) и цикла «Снега» (1842).
(обратно)
33
И, знаю, веришь ты борьбе //И добродетели Бертрама… — См. описание IV акта оперы в рассказе «Роберт-Дьявол»: «Роберт влечет Бертрама — и начинается борьба неба и ада, религиозных песней с проклятьем демона. Бледный, истерзанный, неподвижный Бертрам полон рокового сознания гибели. Но — какою сатанинскою любовью дышит каждый звук его…» (
Воспоминания. С. 187).
(обратно)
34
Как в годы прежние… —
Г. вместе с Фетом слушали оперу в исполнении немецкой оперной труппы, приехавшей на гастроли в Москву из Петербурга (см.:
Там же, с. 320).
(обратно)
35
Былая, общая любовь… — См. примеч. к стихотворениям «Е. С. Р.» и «Нет, за тебя молиться я не мог…».
(обратно)
36
Но вот раздался хор финальный, // Его не слушает никто… — См. заключение рассказа «Роберт-Дьявол» (
Воспоминания. С. 187).
(обратно)
37
Петербургская Елена — артистка Большого театра в Петербурге Е. И. Андреянова, исполнявшая партию Елены в балетной сцене «Роберта-Дьявола».
(обратно)
38
«Жизель» — балет А. Ш. Адана, впервые поставленный в Петербурге в 1842 г. (с Андреяновой в главной роли).
(обратно)
39
А вот — философ и поэт //В кафтане, в мурмолке старинной… — Имеется в виду К. С. Аксаков (см. примеч. к драме «Два эгоизма»). В главе 15, возможно, содержится намек на главу московского славянофильского кружка А. С. Хомякова (не имевшего, однако, портретного сходства с выведенным здесь
Евтихием Стахьевичем Панфиловым) и его неизменного оппонента П. Я. Чаадаева (
С ним рядом маленький идет // Московский мистик… — ср. в «Современной песне» Д. В. Давыдова: «маленький аббатик»).
(обратно)
40
Глава 38.
«Пускай погибла… что за дело? <…>
Свободны, вольны, горды будем». — Вариация на тему пушкинских «Цыган».
(обратно)
41
Впервые:
МГЛ. 1847. № 163. С. 652–653; № 164. С. 656–657.
(обратно)
42
Коломна — окраинный в то время район Петербурга, центром которого являлась Покровская площадь (ныне площадь Тургенева).
(обратно)
43
Литовский замок — казармы Литовского полка; с 1830-х гг. — петербургская тюрьма.
(обратно)
44
Известное отделенье — долговая тюрьма. См. примеч. к с. 336.
(обратно)
45
…«Ночь над мирною Коломной // Тиха отменно»… — Цитата из «Домика в Коломне», героиня которой —
Параша.
(обратно)
46
О том певце… — Имеется в виду Пушкин.
(обратно)
47
…«Погибший рано смертью смелых». — Цитата из «Евгения Онегина» (гл. VII, строфа 6).
(обратно)
48
Иной вожатый вас руководил… — Имеется в виду Лермонтов.
(обратно)
49
Большая Морская — ныне улица Герцена.
(обратно)
50
Китайский — здесь: окостеневший, неподвижный.
(обратно)
51
Строфа 20.
Анна <…> со звездой — орден св. Анны второй степени.
(обратно)
52
Ритм Байрона. — Имеется в виду четырехстопный ямб с мужскими рифмами, которым Жуковский перевел «Шильонского узника», а Лермонтов написал поэму «Мцыри».
(обратно)
53
…Карамзина // Две повести… — Одна из них, несомненно, — «Бедная Лиза».
(обратно)
54
…Да две Марлинского… — Одна из них названа в следующей строке («Фрегат «Надежда»), другая — «Испытание» (см. примеч. к строфе 37).
(обратно)
55
Гремин — персонаж повести «Испытание».
(обратно)
56
Офицерская — ныне ул. Декабристов.
(обратно)
57
…Злобой и тоской // Железные стихи их нам звенели… — Намек на стихотворение Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен…».
(обратно)
58
Впервые:
Совр. 1858. № 12. С. 377–396. Эпиграф — из «Божественной комедии» (под строкой дан перевод М. Л. Лозинского). Поэма обращена к Л. Я. Визард (см. вступит, статью). — 24 октября 1857 г.
Г. писал А. Н. Майкову из Флоренции: «Вот вам цельный отрывок из большого романа <…> который, Бог даст, когда еще кончу. <…> Вещь, кажется, недурна — по крайней мере, в ней одно качество выдержано: постоянная лихорадочность тона» (цит. по примеч. Б. О. Костелянца. —
Изд. 1959. С. 566; об истории публикации поэмы — см.: Там же. С. 566–567).
(обратно)
59
Царица моря — Венеция.
(обратно)
60
Канцона — песня.
(обратно)
61
Риальто — остров в Венеции, излюбленное место для прогулок.
(обратно)
62
…Под звон // Литавр австрийских… — В то время Италия входила в состав Австро-Венгерской империи.
(обратно)
63
Строфа 7.
Надевала // Вновь черный плащ, обшитый серебром. // Навязывала маску, опахало // Брала… —
Г. описывает здесь баутту (bautta;
ит.), непременный атрибут местного карнавала. «Венецианская баутта состояла из белой атласной маски с резким треугольным профилем и глубокими впадинами для глаз и из широкого плаща с черной кружевной пелериной» (Муратов П. Образы Италии. М., 1917. С. 40).
(обратно)
64
Мост вздохов — криминальное место в Венеции (здесь совершались убийства и назначались дуэли).
(обратно)
65
Каденца — здесь: перепад.
(обратно)
66
Волкан — Неаполь.
(обратно)
67
Ладзарон(е) — нищий.
(обратно)
68
Шпор Людвиг (1784–1859) — немецкий композитор, скрипач и дирижер.
(обратно)
69
Глухой мастер — Бетховен.
(обратно)
70
Сильф — здесь: ангел.
(обратно)
71
…«Да будет свет!» — Книга Бытия, 1, 3.
(обратно)
72
Мочаловского времени наследство // И, как Торцов, «трагедии любил». — См. стихотворение «Искусство и правда» и примеч. к нему.
(обратно)
73
A все же я «трагедии ломал». — См. в переводе
Г. стихотворение Гейне «Не пора ль из души старый вымести сор…» (
Изд. 1959. С. 425).
(обратно)
74
Боль сердца — как нытье больного зуба… — Цитата из «Путевых картин» Гейне.
(обратно)
75
«Nell mezzo del cammin di nostra vita» — первая строка «Божественной комедии» (буквально: «на половине пути нашей жизни»; у
Г., по-видимому, сознательно: «…di mia vita» — «…моей жизни»).
(обратно)
76
…«Увядший жизни цвет»… — Неточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. II, строфа 10).
(обратно)
77
Ты знаешь край… — Цитата из «Песни Миньоны» Гете (в романе «Годы учения Вильгельма Мейстера»).
(обратно)
78
Тиргартен — парк в Берлине.
(обратно)
79
Аркадия — символ счастливой страны и беззаботной жизни (от названия центральной гористой части Пелопоннеса).
(обратно)
80
Венгерка — цыганская песня.
(обратно)
81
Аннунциата — героиня повести Э.-Т.-А. Гофмана «Дож и догаресса».
(обратно)
82
Кнастер — сорт табака.
(обратно)
83
Сан-Марко — площадь святого Марка (см. строфу 6).
(обратно)
84
Впервые: Русский мир. 1862. № 41. С. 750–754; № 42. С. 767–770. Первая публикация сопровождалась примечанием: «Одна из частей этой — едва ли, впрочем, имеющей быть конченной «Одиссеи», напечатана в «Сыне отечества» 1857 г. («Борьба»); другая — рассказ в прозе «Великий трагик» в «Русском слове» 1859 г., № 1; третья — поэма «Venezia la bella» в «Современнике» 1858, № 11. Дело идет, одним словом, о том же самом Иване Ивановиче, за безобразия и эксцентричность которого не раз уж приходилось отвечать невинному повествователю, благодаря
особенным понятиям о благопристойности, развившимся в нашей литературной критике последнего пятилетия». Иван Иванович — литературная маска
Г. (см. рассказ «Великий трагик» —
Воспоминания. С, 262–294, а также очерк «Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности…» — наст. изд., с. 316–336). — В поэме отразилась история взаимоотношений
Г. и М. Ф. Дубровской (см. вступит. статью).
(обратно)
85
Убийца-Каин — см.: Книга Бытия, 4, 8.
(обратно)
86
Лиэй — Дионис, древнегреческий бог вина и виноделия.
(обратно)
87
Я не был в городе твоем… — М. Ф. Дубровская родилась в Великом Устюге.
(обратно)
88
Достопочтенный господин //И моралист весьма суровый <…>
О старый друг, наставник мой //И в деле мысли вождь прямой… — речь идет о М. П. Погодине, историке и публицисте, издателе журнала «Москвитянин». Один из наиболее близких
Г. людей, Погодин был адресатом многих его исповедальных посланий (см.: наст. изд., с. 404–426).
(обратно)
89
Да! было время… Я иной любил любовью… — Имеется в виду любовь к Л. Я. Визард.
(обратно)
90
Ave maris stella! — первая строка богослужебного гимна.
(обратно)
91
Полюстрово — дачный пригород Петербурга.
(обратно)
92
Город тот степной. — Оренбург, где
Г. жил с Дубровской с июня 1861 по май 1862 г.
(обратно)
93
Аркадия хамов. —
Г. приписывается следующее четверостишие об Оренбурге: «Скучный город скучной степи,// Самовластья гнусный стан, // У ворот — острог да цепи, // А внутри — иль хам, иль хан».
(обратно)
94
Глава 5.
Личарда верный — нарицательное имя для обозначения слуги (персонаж лубочного романа о Бове-Королевиче).
(обратно)
95
Омежной — безумный, шальной.
(обратно)
96
О старый, мудрый мой учитель <…> Ведь это не вопрос норманской… — См. примеч. к с. 333.
(обратно)
97
«Бурлаки-братья // Под лямкой песню запоют»… — Неточная цитата из исторической драмы А. Н. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук».
(обратно)
98
Манфред — герой одноименной поэмы Байрона.
(обратно)
99
У гроба Минина… — К. 3. Минин, один из вождей народного ополчения 1612 г., похоронен в Нижегородском соборе.
(обратно)
100
…Пусть воспоминаний //Змея мне сердце иссосет… — Реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа 46).
(обратно)
101
Одна некрасовская ночь <…> Тоской и злобою дыша… — См. стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной…», которое
Г. причислял к трем «наиболее действующим на публику» произведениям поэта и лично на него «весьма сильно действующим»
(Изд. 1967. С. 492–493). Ситуация, описанная в этом стихотворении (см. ниже:
Ребенка в бедной колыбели <…> Глухие вопли на постели), была известна
Г. не понаслышке; 20 марта 1862 г. он писал Н. Н. Страхову: «Было время — зимою 1859 года в декабре — в холодной нетопленной квартире моей <…> на кровати лежала бедная, еще не оправившаяся от родов женщина <М. Ф. Дубровская>,— а в другой комнате стонал без кормилицы больной, умирающий ребенок…»
(Изд. 1930. С. 498–499).
(обратно)
102
Дня за два, за три заезжал // Друг старый <…>
Он помощи не предлагал… — Имеется в виду Е. Н. Эдельсон (см. примеч. к стихотворению «Послание друзьям моим А. О., Е. Э. и Т. Ф.»); в том же письме Страхову
Г. рассказывал: «…и добрый, великодушный Евгений Эдельсон являлся ко мне проповедником семейных обязанностей. Он, на глазах которого чуть что не <…> мою жену, — приходил советовать мне бросить все это <порвать с Дубровской>, удивлялся, что не брошен в воспитательный дом и не отнят у матери первый плод ее первой сколько-нибудь человеческой привязанности»
(Изд. 1930. С. 499; ср. также письмо
Г. Эдельсону, посланное вскоре после этого инцидента//Литературная мысль. Пг., 1923. Т. 2. С. 145–146).
(обратно)
103
Крестовский — остров в Петербурге.
(обратно)
104
Коль вам ее // Придется встретить падшей, бедной <…>
это — грош. — После разрыва с Дубровской, наступившего в марте 1863 г.,
Г. имел в виду выплачивать ей пособие (см.:
УЗ ТГУ. 1965. Вып. 167. С. 167); после смерти Г. Дубровская, ссылаясь на комментируемые строки, просила Страхова (в письме от 4 октября 1864 г.) оказать ей материальную поддержку (Там же. 1963. Вып. 139. С. 349).
(обратно)
105
Впервые:
Изд. 1846. С. 72.
(обратно)
106
Впервые:
РиП. 1844. №
9. С. 503.— Оба стихотворения посвящены «крестовой» сестре Г. (т. е. крестной дочери кого-то из его родителей) Лизе, в которую он и Фет были влюблены в пору их совместной студенческой жизни. На свадьбе Лизы и некоего армейского офицера
Г. и Фет были шаферами. См. рассказ
Г. «Офелия»
(Воспоминания. С. 145–167, 408–409); ср. в поэме «Встреча» (наст. изд., с. 50) и повести «Другой из многих»
(Прп. С. 47) упоминания о былой «общей любви». Этот эпизод подробно описан в позднейшей поэме Фета «Студент».
(обратно)
107
Впервые:
Москв. 1843. № 7. С. 5. Подпись:
А. Трисмегистов. (Этот псевдоним отразил увлечения
Г. жоржсандизмом и масонством. — См.: Бухштаб Б. Я. «Гимны» Аполлона Григорьева // Библиографические разыскания по русской литературе XIX в. М., 1966. С. 44–49.) Первое стихотворение
Г., появившееся в печати. —
Лихорадок-лихоманок // Девяти подруг. —
Г. (как и Фет в стихотворении «Лихорадка») использовал народное поверие о девяти крылатых сестрах «лихоманках-лихорадках», целующих спящих людей и тем приносящих беду.
(обратно)
108
Впервые:
РиП. 1844. № 6. С. 628. Подпись:
1.4. <т. е.
А. Г. — первая и четвертая буквы алфавитах— Здесь, как и в поэме «Олимпий Радин», стихотворениях «Вы рождены меня терзать…», «О, сжалься надо мной!..», «Над тобою мне тайная сила дана…» и др., нашла отражение безответная любовь
Г. к А. Ф. Корш.
(обратно)
109
Впервые:
РиП. 1844. № 8. С. 183. Подпись:
1. 4.— Образ женщины-кометы, восходящий к стихотворению Пушкина «Портрет» («Как беззаконная комета, // В кругу расчисленном светил»), соотносится здесь и с представлением Ш. Фурье о том, что «кометы, устройство которых сегодня разрушительно и бессвязно, в один прекрасный день перейдут, подобно планетам, в гармоническое состояние» (трактат «Новый мир» цит. по примеч. Б. О. Костелянца. —
Изд. 1959. С. 525). См. также: Егоров Б. Ф. Поэзия Аполлона Григорьева. —
Изд. 1978. С. 13–14.
(обратно)
110
Впервые;
РиП. 1845. № 4. С. 108 (под заглавием: «К ***»).
(обратно)
111
Впервые:
Москв. 1843. № П. С. 6. Подпись:
А. Трисмегистов.
(обратно)
112
Впервые:.
Москв. 1843. № 11. С. 6 (без заглавия). Подпись:
А. Трисмегистов.
(обратно)
113
Мирра — благовонная смола.
(обратно)
114
Впервые:
Москв. 1843. № 11. С. 5. Подпись:
А. Трисмегистов.
(обратно)
115
Впервые:
РиП. 1845. № 5. С. 464.
(обратно)
116
Впервые:
РиП. 1844. № 7. С. 126 (под заглавием: «К***»). Подпись:
1.4.— Лавиния — героиня одноименной повести Ж. Санд, убежденная, что человеческие чувства изменчивы, мечты — преходящи, а общественное мнение всегда несправедливо к женщине.
(обратно)
117
Впервые:
РиП. 1844. № 7. С. 43. Подпись:
1. 4.
(обратно)
118
Впервые:
РиП. 1845. № 1. С. 86. Подпись:
1.4.
(обратно)
119
Впервые:
РиП. 1844. № 10. С. 3.
(обратно)
120
Впервые:
РиП. 1844. № 12. С. 581, Подпись:
1. 4.
(обратно)
121
Впервые:
Изд. 1846. С. 78.—Лицо, которому посвящено стихотворение, не установлено.
(обратно)
122
Впервые:
Изд. 1846. С. 129.
(обратно)
123
Впервые:
Изд. 1846. С. 71.
(обратно)
124
Лима савахвани. — По преданию, Иисус, уже распятый на кресте, произнес: «Или, Или! Лима савахфани?», то есть: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» (Евангелие от Матфея, 27, 46).
(обратно)
125
Впервые:
РиП. 1844. № 9. С. 450 (под заглавием: «Памяти ***»). Подпись:
1.4.— Окончательное заглавие, появившееся в
Изд. 1846, перекликается с названиями повестей
Г. «Один из многих»
(Воспоминания. С. 188–261) и «Другой из многих»
(Прп, с. 45–142). См. также стихотворение «Отрывок из сказаний об одной темной жизни» и примеч. к нему.
(обратно)
126
Впервые:
РиП. 1844. № 10. С. 118. Подпись:
1. 4.
(обратно)
127
Впервые:
РиП. 1844. № 12. С. 593. Подпись:
1.4.
(обратно)
128
«Дебаты» («Journal de Debats») — французская политическая газета либерального направления.
(обратно)
129
В «Москвитянине» престрого // О Содоме решено. — См., например, статью С. П. Шевырева «Взгляд русского на современное образование Европы»
(Москв. 1841. № 1. С. 219–396), где Европа уподоблялась библейскому Содому, жители которого отличались крайней степенью разврата.
(обратно)
130
Впервые:
Отеч. зап. 1845. № 2. С. 318.— Эпиграф — из стихотворения Байрона «Прощай!» (под строкой дан перевод
Г. —
Изд. 1959. С. 459).
(обратно)
131
Впервые:
РиП. 1845. № 10. С. 3.— Текст стихотворения впоследствии перерабатывался (см.:
Изд. 1959. С. 531). Одно из программных высказываний
Г. о Петербурге, это стихотворение получило высокую оценку у рецензентов
Изд. 1846 (см., в частности, отзыв Белинского —
Белинский. Т. 9. С. 593). См. также стихотворение «Город» («Великолепный град! пускай тебя иной…») — наст. изд., с. 154. В позднейшей статье «Стихотворения Н. Некрасова»
Г. писал, что «некогда сам <…> воспевал» Петербург и неточно процитировал строки 7–8 комментируемого стихотворения
(Изд. 1967. С. 490).
(обратно)
132
Впервые:
РиП. 1845. № 9. С. 697.
(обратно)
133
Впервые:
РиП. 1845. № 3. С. 866 (под заглавием: «Одна глава из «Сказаний об одной темной жизни»).
(обратно)
134
Он мне доказывал, что в них // Не только искры чувств святых, // Но даже не было и зла. — Ср. высказывание Василия Имеретинова, главного героя повести «Другой из многих»: «Что мне за дело до всего, что называется добром и злом? Да и разве есть в самом деле какое-нибудь
добро и
зло?» (Прп. С. 100). См. также стихотворение «Памяти одного из многих» и примеч. к нему.
(обратно)
135
Впервые:
Изд. 1846. С. 136.— Эпиграф — из романа Ж. Санд «Консуэло».
(обратно)
136
Впервые:
Изд. 1846. С. 54.— Эпиграф — из первой сатиры Ювенала (а не Горация, как у
Г.). Стихотворение навеяно лермонтовскими мотивами (подробнее см.:
Изд. 1978. С. 272).
(обратно)
137
Впервые:
РиП. 1845. № 8. С. 479.
Хризалида — куколка насекомых.
(обратно)
138
Впервые:
Изд. 1846. С. 168.— Об оценках этого стихотворения в современной
Г. критике см.:
Изд. 1959. С. 532–533.
(обратно)
139
Впервые:
РиП. 1845. № 10. С. 236.—Посвящено А. Е.
Варламову (1801–1848), певцу и «инстинктивно-гениальному» композитору (по определению
Г., данному в рассказе «Великий трагик». —
Воспоминания. С. 277).
(обратно)
140
Впервые:
РиП. 1845. № 12. С. 545–547.
(обратно)
141
Впервые:
Изд. 1846. С. 174.—Автобиографическое стихотворение, навеянное воспоминаниями о московском кружке, собиравшемся в доме Коршей.
(обратно)
142
Впервые:
Изд. 1846. С. 177.
(обратно)
143
Впервые:
Изд. 1959. С. 112–113.— Владельцы альбома не установлены.
(обратно)
144
Впервые: Невский альманах. СПб., 1846. С. 70.
(обратно)
145
Впервые:
РиП. 1846. № 1. С. 96.
(обратно)
146
Впервые:
РиП. 1845. № 7. С. 16.— Написано и опубликовано в связи с сообщением об окончательном переезде из Москвы в Петербург
А. Е. Варламова (см. стихотворение «Звуки» и примеч. к нему).
(обратно)
147
Впервые:
РиП. 1845. № 3. С. 704.— Адресат стихотворения не установлен.
Лелия — героиня одноименного романа Ж. Санд, уверенная в том, что «жалкое бессилие физической любви не может успокоить возбужденного пыла наших мечтаний» и связывающая назначение женщины с общими проблемами религии и социального устройства (см.:
Изд. 1959. С. 533–534).
(обратно)
148
Впервые:
РиП. 1845. № 2. С. 440.
(обратно)
149
Впервые:
БдЧ. 1848. № 3. С. 5 (под камуфлирующим заголовком: «Из Ювенала»). — Посвящено Ипполиту Александровичу
Манну (1823–1894), выпускнику Московского университета, с 1846 г. служившему в Петербурге и изредка выступавшему в печати. Об их отношениях с
Г. сведений не сохранилось. О связи этого стихотворения с социалистическими увлечениями в эпоху 1840-х гг. см.:
Изд. 1959. С. 534–536. Ср. стихотворение «Город» («Да, я люблю его, огромный, гордый град…») — наст. изд., с. 136.
(обратно)
150
Впервые: Полярная звезда. Лондон. 1956. Кн. 2. С. 34; без подписи. — Это стихотворение, в России опубликованное только в 1916 г., получило широкое распространение среди современников
Г. (см.:
Изд. 1959. С. 536).
(обратно)
151
Демагог — здесь: демократ.
(обратно)
152
Впервые:
БдЧ. 1846. № 10. С. 47.
(обратно)
153
Хариты и
грации — богини красоты (соответственно в древнегреческой и римской мифологии).
(обратно)
154
Впервые: Красное яичко. СПб., 1848. С. 273.
Межевич Василий Степанович (1814–1849) — журналист, с 1843 г. редактор
РиП. Переехав в Петербург,
Г. сблизился с Межевичем и одно время даже квартировал у него (сообщая об этом Погодину в октябре 1845 г.,
Г. назвал своего друга «одним из слишком немногих благородных людей, каких я знаю». —
Изд. 1917. С. 103); Межевичу посвящен рассказ
Г. «Офелия». Однако вскоре их отношения были прерваны, а впоследствии имя Межевича ассоциировалось у Г. с кругом «темных личностей», в который он попал по приезде в столицу (см.: наст. изд., с. 344).
(обратно)
155
Впервые: Русская-мысль. 1916. № 5. С. 133; публикация В. Н. Княжнина. — Стихотворение связано с нереализовавшимся намерением
Г. уехать из столицы (в июле 1846 г. он писал отцу: «Я хотел оставить Петербург, потому что был взбешен подлостью всего меня окружающего; но это не сбылось — прекрасно!» —
Изд. 1917. С. 367; см. также примеч. к следующему стихотворению), О Н. К.
Калайдовиче см. примеч. к драме «Два эгоизма».
Лакиер Александр Борисович (1825–1870) — выпускник Московского университета, чиновник министерства юстиции; впоследствии историк права.
(обратно)
156
Впервые: Полярная звезда. Лондон, 1856. Кн. 2. С. 33; без подписи. (Помета «Москва, 1846, марта 1» вынесена здесь в заголовок.) — Стихотворение написано во время краткого визита
Г. в Москву в конце февраля — начале марта 1846 г. (см. также стихотворение «Прощание с Петербургом» и примеч. к нему).
(обратно)
157
…Колокол я слышу вечевой <…> В нем новгородская душа заговорит // Московской речью величавой. — Имеются в виду традиции новгородской вольницы (в значительной степени опоэтизированные в русской литературе конца XVIII— середины XIX в.), воскрешение которых связано здесь с Москвой.
(обратно)
158
1. «В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым…» (с. 160). 2. «Будет миг… мы встретимся, это я знаю — недаром…» (с. 161). 3. «Часто мне говоришь ты, склонясь темно-русой головкой…» (с. 162). Впервые:
РиП. 1846.
№ 7. С. 3–4.
(обратно)
159
К*** (с 162). Впервые:
РиП. 1846. № 8. С. 241.
(обратно)
160
1. «Книга старинная, книга забытая…» (с. 163). 2. «В час томительного бденья…» (с. 164). 3. «Бывают дни… В усталой и разбитой…» (с. 165). 4. «То летняя ночь, июньская ночь то была…» (с. 165). 5. «Есть старинная песня, печальная песня одна…» (с. 166). 6. «Старинные мучительные сны!..» (с. 167). Впервые:
РиП. 1846. № 9. С. 421–425. Цикл посвящен С. Г.
Корш (см. поэму «Олимпий Радин», глава 5, а также примеч. к ней).
(обратно)
161
Впервые:
РиП. 1846. № 10. С. 17.
(обратно)
162
Впервые:
РиП. 1846. № 11. С. 242.
(обратно)
163
Впервые: Варламов А. Е. Полн. собр. соч. СПб., 1863. Т. 6. С. 339 (в составе романсов, положенных на музыку Варламовым). О датировке см.:
Изд. 1959. С. 539.
(обратно)
164
Впервые:
МГЛ. 1847. № 147. С. 589.
(обратно)
165
Впервые:
Москв. 1849. № 1. С. 19–20; без подписи. Автором повестей «Лидия, рассказ из жизни музыкального учителя»
(Москв. 1848. № 4–6; псевдоним: Е. И. Кубе) и «Маркиза Луиджи» (Там же, 1848, № 12; подпись: Е. И. К.) была Елена Ивановна Вельтман (1816–1868), вторая жена А. Ф. Вельтмана.
(обратно)
166
Новейшей школы натуральной <…>
Голядкина любезный идеал. — Полемический выпад против повести «Двойник», также опубликованной в 1848 г. В письме Гоголю от 17 ноября 1848 г., интересуясь его мнением о «Двойнике» «даровитого Достоевского»,
Г. так излагал свое впечатление о повести: «Вы, вчитываясь в это чудовищное создание, уничтожаетесь, мелеете, сливаетесь с его безмерно-ничтожным героем, и грустно становится вам быть человеком…»
(Изд. 1917. С. 115).
(обратно)
167
Впервые:
Изд. 1978. С. 112–120;
Розанова Л. Из поэтического наследия Аполлона Григорьева / Поэзия. М., 1979. Вып. 25. С. 131–139. Заглавие взято в квадратные скобки, так как в рукописи оно зачеркнуто. — О датировке цикла см.:
Изд. 1978. С. 274–275. Эпиграф — из первой части «Фауста» Гете (под строкой дан перевод Н. А. Холодковского).
(обратно)
168
И погружался я душой в воспоминанье, // И свиток прошлого внимательно следил. — Реминисценция из стихотворения Пушкина «Воспоминание» («Воспоминание безмолвно предо мной//Свой длинный развивает свиток»).
(обратно)
169
Страницу грустную блаженства и страданья. — Далее следовало пять вычеркнутых строк: «И снова Ты явилась предо мной, // И тот же вид смиренно-горделивый,//И тот же взор коварно-огневой//То блещет радостью, иль опущен стыдливо, // То в небо устремлен с таинственной тоской»
(Изд. 1978. С. 115; Поэзия. М., 1979. Вып. 25. С. 133).
(обратно)
170
И видел я — и ясли те простые <…> //
Ангелов средь пастырей явленье. — Евангелие от Луки, 2, 12–14.
(обратно)
171
И ночь страдания, когда на Елеон <…>
И тяжкий крест, и за врагов молитву. — Евангелие от Матфея, 26, 30–56.
(обратно)
172
Впервые: Русская мысль. 1914. № 12. С. 146; публикация В. Н. Княжнина. — Обращено к Александру Николаевичу Островскому (1823–1886), Евгению Николаевичу Эдельсону (1824–1868) и Тертию Ивановичу Филиппову (1825–1899) — членам «молодой редакции» «Москвитянина». Сион — гора близ Иерусалима; обитель Бога.
(обратно)
173
Ты ci-devant социалист <…> А ныне весь ушедший в бога. — Имеется в виду идейная эволюция Филиппова, в результате которой бывший поклонник Герцена (см. его письмо Эдельсону от 12 апреля 1847 г. — Учен. зап. Куйбышевского гос. педагогич. ин-та. 1942. Вып. 6. С. 191–192) ушел в «официальное православие», по позднейшему выражению Г. (в письме Эдельсону от 13 ноября 1857 г. —
Изд. 1917. С. 184).
(обратно)
174
Премудрый поп Матвей — Константиновский Матвей Александрович (1792–1857), московский священник, знаменитый своими наставлениями и проповедями.
(обратно)
175
…Души моей кумир <…> Распутства с гением слепое сочетанье. — Имеется в виду Островский.
(обратно)
176
Бенеке Фридрих Эдуард (1798–1854) — немецкий философ и психолог, решительный противник «умозрительной» философии (в т. ч. гегельянства). См. об этом стихотворении:
Изд. 1959. С. 541–542.
(обратно)
177
Впервые:
Москв. 1852. № 2. С. 99.— Вариация ветхозаветного сюжета о переходе евреев из Египта в Палестину.
(обратно)
178
Егова (Иегова) — одно из имен Господа.
(обратно)
179
Но указующим столпом // Егова сам идет пред нами. — Во время путешествия израильтян ими руководило облако Господне, а ночью перед их глазами всегда был огонь (Исход, 40, 38).
(обратно)
180
Впервые:
Москв. 1852. № 2. С. 100.
(обратно)
181
Велиар (Велиал) — нечистая сила, сатана. рабов.
(обратно)
182
Иль укоснит изгнать бичом // Из храма торжников и псов. — Евангелие от Иоанна, 2, 15.
(обратно)
183
Впервые:
Москв. 1854. № 2. С. 76–82.— Эпиграф из стихотворения. Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен…». Написано в связи с двумя совпавшими событиями: в январе 1854 г. была поставлена пьеса Островского «Бедность не порок» и одновременно в Москве гастролировала известная французская трагическая актриса Рашель (1821–1858). Стихотворение вызвало оживленную реакцию у современников (см.:
Изд. 1959. С. 543–545). В дальнейшем
Г. иронически высказывался об этом своем запальчивом произведении (см.:
Эстетика. С. 384; ср.:
Воспоминания. С. 272, 409–410).
(обратно)
184
Могучий грозный чародей. — Имеется в виду Павел Степанович Мочалов (1800–1848), актер-трагик; с его именем
Г. связывал целую эпоху русской культуры (см., например, поэму «Venezia la bella», строфа 24).
(обратно)
185
Офелию побольше брата;…за человека // За человека страшно с ним! — Реминисценции из трагедии «Гамлет» в переводе Н. А. Полевого.
(обратно)
186
Ричард коварный, мрачный, злой. <…> «Коня, полцарства за коня!» — Имеется в виду трагедия Шекспира «Ричард III».
(обратно)
187
Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) — журналист, прозаик, историк; после запрещения в 1834 г. его журнала «Московский телеграф» много писал в драматическом роде.
(обратно)
188
Мы Веронику с ним любили, // За честь сестры мы с Гюгом мстили… — Имеются в виду драмы Полевого «Уголиио» и «Смерть и честь» (в которой Мочалов исполнял роль Гюга Бидермана).
(обратно)
189
Как в драме хвастал Ляпунов. — Имеется в виду драма Н. В. Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», в которой Мочалов исполнял главную роль.
(обратно)
190
Поэт, глашатай правды новой… — А. Н, Островский.
(обратно)
191
Высокий комик — Пров Михайлович Садовский (1818–1872), актер Малого театра, исполнитель роли
Любима Торцова в пьесе «Бедность не порок».
(обратно)
192
Бонтоны (от
фр. bon ton) — ироническое обозначение светских людей.
(обратно)
193
Дух рабского, слепого подражанья! — цитата из «Горя от ума».
(обратно)
194
И правду любит Русь… <…>
Все то, что человека благородит. — По сообщению Ю. Ф. Самарина, этот пассаж вызвал раздражение у А. С. Хомякова, заметившего, что нет оснований говорить о духовном преуспеянии России «под державною сению в то время, когда нельзя напечатать второй части «Мертвых душ», ни перепечатать первой» (цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1899. Т. 13. С. 205).
(обратно)
195
Штука — здесь: штукарство, фиглярство.
(обратно)
196
Я видел, как Рислей детей наверх бросает <…>
Я знаю, как Рашель по часу умирает… — Рислей Ричард — балетный актер, выступавший на русской сцене вместе с сыновьями Джоном и Генрихом. Ю. Ф. Самарин резонно усомнился, можно ли Рашель «ставить на одну доску со штукером Рислеем» (Там же. С. 206).
(обратно)
197
Столодвижение — спиритизм.
(обратно)
198
Впервые: Русская мысль. 1916. № 5. С. 133; публикация В. Н. Княжнина. — Обращено к Л. Я. Визард.
(обратно)
199
Впервые:
УЗ ТГУ. 1973. Вып. 306. С. 368–369; публикация Б. Ф. Егорова. — Это стихотворение, приведенное в письме Погодину от 6 или 13 января 1856 г.,
Г. впоследствии не печатал.
(обратно)
200
Что приходил взыскать погибших Он. — Псалтирь, 9, 13.
(обратно)
201
Ты говорил: «Просите, дастся вам». — Евангелие от Матфея, 7, 7.
(обратно)
202
Впервые: Русская мысль. 1916. № 5. С. 132 (две первые строки); Григорьев А. Стихотворения. Л., 1937. С. 133 (полностью). — Эпиграф — из посвящения к поэме Рылеева «Войнаровский».
(обратно)
203
Впервые весь цикл полностью:
СО. 1857. № 44–49 (с подзаголовком: «XVIII стихотворений Аполлона Григорьева».
(обратно)
name=t520>
204
Впервые: Москв. 1853. № 14. С. 78 (с подзаголовком: «с польского»). Вольный перевод стихотворения Мицкевича «Niepewnosž».
(обратно)
205
Впервые: СО. 1857. № 44. С. 1065. для 2-4
(обратно)
206
Впервые: Москв. 1853. № 14. С. 79, Перевод стихотворения В. Гюго, первые строки которого поставлены в эпиграф.
(обратно)
207
Впервые: СО. 1857. № 45. С. 1089.
(обратно)
208
Впервые: Москв. 1843. № 7. С. 6. Подпись: Л. Трисмегистов. Стихотворение навеяно сонетом Мицкевича «Dobranoč».
(обратно)
209
Впервые: СО. 1857. № 46. С. 1117.
(обратно)
210
Впервые: Там же. Вольный перевод отрывка из главы III поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод».
(обратно)
211
Впервые: Там же.
(обратно)
212
Впервые: СО. 1857. № 47. С. 1145.
(обратно)
213
Впервые: Там же.
(обратно)
214
Впервые: СО. 1857. № 48. С. 1181.
(обратно)
215
Впервые: Там же. См. в рассказе «Великий трагик» о «Венгерке» Ивана Ивановича (т. е. самого Г.): «широкая и хватающая за душу, стонущая, поющая и горько-юмористическая…» (Воспоминания. С. 271). Вопрос о подлинных цыганских «венгерках», к которым восходит это стихотворение, поставлен в статье: Егоров Б. Ф. Ап. Григорьев.//Русская литература и фольклор. (Вторая половина XIX в.). Л., 1982. С. 278–280.
(обратно)
216
Впервые: СО. 1857. № 49. С. 1206.
(обратно)
217
Впервые: Там же.
(обратно)
218
Впервые: Там же. С. 1207.
(обратно)
219
Впервые: Там же. Весь цикл обращен к Л. Я. Визард.
(обратно)
220
Впервые: БдЧ. 1857. № 8. С. 179–182 (в качестве посвящения к григорьевскому переводу комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»). — Посвящено Л. Я. Визард. Титания — главная героиня комедии. Оберон — король эльфов, муж Титании; для того чтобы наказать поспорившую с ним жену, он использует колдовские чары, заставляя ее влюбиться в существо с ослиной головой.
(обратно)
221
Впервые: Изд. 1959. С. 173.—Это и три следующих стихотворения записаны в альбомы, принадлежавшие петербургской семье Мельниковых (см.: Изд. 1959. С. 519–520), О «добрых приятельницах Мельниковых», с которыми он познакомился во Флоренции, Г. упоминал в письме Эдельсону от 13 декабря 1857 г. (Изд. 1917. С. 200).
(обратно)
222
Публикуется впервые по автографу: ЦГАЛИ, ф. 505, № 199, оп. 1, л. 1–1 об. — Мельникова Ольга Александровна (1830–1913) — племянница министра путей сообщений П. П. Мельникова, жена (с 1868 г.) Д. Ф. Тютчева (старшего из сыновей поэта).
(обратно)
223
Публикуется впервые по автографу: ЦГАЛИ, ф. 505, № 199, оп. 1, л. 2.— См. предыдущее стихотворение и примеч. к нему.
(обратно)
224
Первые две строки впервые: Русское слово. 1859. № 1. Отд. III. С. 22 (в тексте рассказа «Великий трагик»; ср.: Воспоминания. С. 276). Полностью публикуется впервые по автографу: ЦГАЛИ, ф. 505, оп. 1, № 199, л. 23–24.—Написано в альбом О. А. Мельниковой (см. выше). Подпись: Маленький метеорник. Гибеллина — флорентийская улица Гибеллинов.
(обратно)
225
Площадь Тринита — площадь у церкви Троицы.
(обратно)
226
Дороги к вам свершу я половину… — Г. обыгрывает первую строку «Божественной комедии» (см. примеч. к поэме «Venezia la bella», строфа 27).
(обратно)
227
И даже о нескладной «рассикуре»! — Намек на неизвестную нам внетекстовую реалию; последнее слово, возможно, образовано от ит. rassicurare (утешать).
(обратно)
228
Впервые: Русский мир. 1860. № 11. С. 43.
(обратно)
229
Впервые: Там же.
(обратно)
230
Впервые: Там же. № 12. С. 48.
(обратно)
231
Впервые: Там же.
(обратно)
232
Впервые: Там же. В стихотворениях 3–5 отразились впечатления от «Мадонны» Мурильо, которую Г. видел во Флоренции.
(обратно)
233
Впервые: Изд. 1959. С. 179.— «В метеорском чине». — Г. варьирует здесь излюбленную автохарактеристику (см., например, подпись под стихотворением «Когда пройдя, бывало, Гибеллину…»).
(обратно)
234
Впервые: Изд. 1959. С. 178–179.
(обратно)
235
Впервые: Изд. 1959. С. 180. Ср. в письме Е. С. Протопоповой от 26 января 1858 г.: «Вышел я вчера на первое Корсо… <…> Я очутился на Арно <…> Маскерад, как гремучий змей, захватил меня своим хоботом <…> Да! есть возможность жить чужою жизнью, жизнью народов и веков. <…> Старое доживает в новом и оно еще способно одурить голову, как запах тропических растений…» (Изд. 1917. С. 218–219).
(обратно)
236
Впервые: Изд. 1978. С. 278–279.— Вариация на тему отрывка из поэмы Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда» в переводе А. Мицкевича.
(обратно)
237
Впервые: Изд. 1959. С. 180–181.— Стихотворение написано на одном листе с предшествующим и развивает его тему.
(обратно)
238
Впервые: Изд. 1959. С. 181.
(обратно)
239
Впервые: Изд. 1959. С. 182.—Стихотворение записано в один из альбомов, принадлежавших семье Мельниковых (см. примеч. к стихотворению «Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи…»). Г. вернулся в Петербург из заграницы в октябре 1858 г.
(обратно)
240
Впервые: Русская сцена. 1864. № 8. С. 259 (post-scriptum к переводу Г. «Ромео и Джульетты»). Посвящено Л. Я. Визард.
(обратно)
241
…«Куда мой падший дух // Не досягнет»… — Цитата из «Пира во время чумы».
(обратно)
242
Впервые: РиП. 1845. № 12. С. 661–743.— Эпиграфом из Лермонтова Г. подчеркивает тесную связь своей драмы с его произведениями (в частности, с «Маскарадом»). О творческой истории драмы и ее прохождении через цензуру см. примеч. Б. О. Костелянца: Изд. 1959. С. 557–558; из опубликованного позже письма Г. Погодину следует, что он приступил к работе над драмой уже в 1843 г. и первоначально ее «завязка» была «на масонстве» (наст. изд., с. 405). Ср. в рассказе «Лючия»: «…из Москвы привез с собою запас <…> понятий о любви как о борьбе двух личностей» (наст. изд., с. 309). Через год после публикации драмы Г. повторил, что современной эпохе свойственна «любовь как борьба эгоиэмов, любовь-вражда» (РиП. 1846. № 11. С. 241), и оценил «Два эгоизма» следующим образом: «Драма, разумеется, как слишком молодой и незрелый опыт, вышла весьма нелепа <…> если я упоминаю о ней здесь, то потому только, что крепко держусь за те основные идеи, которые присутствовали при ее рождении» (Там же. 1846. № 12. С. 407; ср., однако, иную трактовку любви в рассказе «Лючия» — наст. изд., с. 309–311).
Три персонажа драмы имеют прототипы. В образе Кобыловича Г. вывел своего недавнего приятеля Николая Константиновича Калайдовича (1820–1854), о котором в ноябре 1845 г. писал Погодину: «Я любил и люблю его, но уважать не могу: он сделался чиновником в душе, то есть рабом с головы до пяток» (Изд. 1917. С. 103–104). 15 декабря 1845 г. И. С. Аксаков уведомлял родителей (из Калуги) о том, что получил письмо, в котором сообщалось, что Г. «напечатал комедию, где очень хорошо выставлен <Константин> Аксаков под именем Баскакова». И. С. Аксаков выражал удивление этим обстоятельством, так как Г., по его словам, «даже не видал Константина, стало, это все по слухам и рассказам Калайдовича…» (И. С. Аксаков в его письмах. М., 1888. Ч. 1. Т. 1. С. 312–313; см. также ниже). Прототипом же Петушевского, идейного оппонента Баскакова, являлся Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский (1821–1866), организатор петербургского кружка утопических социалистов, разгромленного в 1849 г. В ряду этих персонажей стоит и Мертвилов; вышучивая его «гегелизм», Г. рассчитывался и с собственным увлечением философией Гегеля в пору студенчества, когда вокруг него образовался кружок таких же энтузиастов (см. свидетельство Фета. — Воспоминания. С. 320; ср. тетрадь Н. М. Орлова. — Русские пропилеи. М., 1915. Т. 1. С. 213–217). Скепсис по отношению к самым различным доктринам и одновременно интенсивный духовный поиск — характернейшая черта Г. середины 1840-х гг. Подробнее об идейном контексте, в который вписывается драма, см.: Изд. 1959. С. 559–562.
(обратно)
243
Ставунин… я была тогда моложе// И ветреней… — Реминисценция из «Евгения Онегина» (гл. VIII, строфа 43).
(обратно)
244
Семья — славянское начало <…> Чета славянская — я ей не надивлюсь! — Пародируя известные ему лишь в устной передаче высказывания К. С. Аксакова (ср. в поэме «Олимпий Радии», глава 5), Г. намекает и на реальные биографические факты: с конца 1830-х гг. К. С. Аксаков работал над магистерской диссертацией «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (защищена 6 марта 1846 г.), в которой он адаптировал некоторые положения гегелевской философии (проштудированной еще в юности).
(обратно)
245
Вы «Новый мир» Фурье изволили читать? — См. примеч. к поэме «Олимпий Радин» (глава 8) и стихотворению «Комета».
(обратно)
246
Английский клуб находился в Москве на Тверской улице (ныне в этом здании расположен Музей Революции).
(обратно)
247
В Московском опекунском совете закладывались помещичьи именья.
(обратно)
248
Я умываю руки // И, как Пилат, хочу быть в этом чист. — Евангелие от Матфея, 27, 24.
(обратно)
249
Сальви — итальянский певец, гастролировавший в Петербурге в 1845–1846 гг.
(обратно)
250
Вы были в Лючии?.. Как Сальви вам в сравненье // С Рубини кажется? — Об опере «Лючия ди Ламмермур» и пении Д. Рубини см. рассказ «Лючия» и примеч. к нему;
(обратно)
251
Гарсисты — поклонники французской певицы Полины Виардо-Гарсиа (1821–1910); кастелянисты — поклонники итальянской певицы Арманды Кастеллани (1812–1856). Обе певицы гастролировали в России в середине 1840-х гг.
(обратно)
252
Баскаков в красных шароварах, бархатном охабне, с мурмолкой под мышкой. — Ср. выпад против К. С. Аксакова в поэме И. С. Тургенева «Помещик» (1845): «От шапки-мурмолки своей //Ждет избавленья, возрожденья! // Ест редьку…», а также шутку П. Я. Чаадаева о том, что обладателя мурмолки народ на улицах принимал «за персианина» (Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 148).
(обратно)
253
Минье Франсуа-Огюстен-Мари (1796–1884) — французский историк, автор многотомной «Истории французской революции» (1824).
(обратно)
254
В мгновеньи вечность я вкусила… — См. примеч. к поэме «Предсмертная исповедь» (глава 3).
(обратно)
255
«Лови, лови часы любви…»— романс А. Е. Варламова на слова И. Бачманова.
(обратно)
256
«Горные вершины…» — стихотворение Лермонтова «Из Гете», положенное на музыку Варламовым.
(обратно)
257
Впервые: РиП. 1846. № 9. С. 458–464. Помета: «1846. Август». Подпись: А. Трисмегистов. После 1917 г. не переиздавалось.
В примечании к первой публикации дана отсылка к другим произведениям Г., написанным в аналогичном роде, — рассказам «Гамлет на одном провинциальном театре» и «Роберт-Дьявол» (см.: РиП. 1846. № 1, 2; Воспоминания. С. 168–187, 404–406). Данный же рассказ навеян впечатлениями от постановки оперы Гаэтано Доницетти (1797–1848) «Лючия ди Ламмермур» (1835) петербургской труппой итальянских певцов. Эта опера — в основу либретто С. Каммарио был положен роман В. Скотта «Ламмермурская невеста» (см.: Оперные либретто. М., 1979. Т. 2. С. 67–69) — имела в России середины 1840-х гг. неслыханный успех, а исполнение главной партии (Эдгара) сделало тенора Джиованни Рубини (1795–1854) кумиром столичной публики (см.: Гозенпуд А. А. Русский оперный театр XIX века. 1836–1856. Л., 1969. С. 192–195; см. также ниже). Небезынтересно отметить, что подобно Г. истинное потрясение от «Лучии» и Рубини испытал Белинский (см.: Белинский. Т. 12. С. 158), а Ф. А. Кони в «Литературной газете» (1843. № 17) сравнил итальянского певца с П. А. Мочаловым (см. стихотворение «Искусство и правда» и примеч. к нему). Позднее, в «Моих литературных и нравственных скитальчествах», Г. писал: «Я не стыжусь даже признаться, что «Невесту Ламмермурскую» люблю я как «Лючию», т. е. как вдохновение маэстро Донидзетти и певца Рубини, а не как роман Скотта…» (Воспоминания. С. 78); в 1863 г. он выпустил свой перевод либретто этой оперы отдельным изданием.
(обратно)
258
…только на муку читателей «Репертуара» вот уже второй год <…> без начала, без конца и без морали… — В 1845–1846 гг. Г. публиковал свои прозаические опыты с повторяющимся подзаголовком — «Рассказ без начала и без конца, а особенно без морали» («Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным», «Офелия»).
(обратно)
259
…чудовище-привычка, как называет ее Гамлет… — «Гамлет», действ. III, сцена 4.
(обратно)
260
Депозитка (депозитный билет) — бумажный денежный знак, размен которого на серебро обеспечивался специальным фондом.
(обратно)
261
…знаменитой «Fra poco mi ricovero»… — Знаменитая финальная ария Эдгара из третьего действия оперы. Эта мелодия, еще в середине 1840-х гг. запомнившаяся Достоевскому, введена в «Подросток» для характеристики душевного состояния Версилова (часть II, главы 5, 7, 8).
(обратно)
262
Сезон <…> открылся, разумеется, «Лючиею»… — Сезон 1844/45 г. открылся представлением «Лючии ди Ламмермур» 11 октября в Большом театре. Г., по-видимому, описывает именно этот спектакль, в котором помимо Рубини (Эдгара) участвовали упоминаемый ниже Антонио Тамбурини (1800–1876), исполнявший партию Генриха (баритон) и А. Кастеллани (см. примеч. к драме «Два эгоизма», действ, второе), исполнявшая партию Лючии (сопрано).
(обратно)
263
Бергамский соловей — Доницетти (уроженец Бергамо).
(обратно)
264
…запас понятий о любви как о борьбе двух личностей… — См. примеч. к драме «Два эгоизма».
(обратно)
265
Об опере Дж. Мейербера «Роберт-Дьявол» см. примеч. к поэме «Встреча» (глава 10).
(обратно)
266
И он разражается странным, раздирающим душу проклятием. — Ср. в позднейшем очерке И. И. Панаева «Хлыщ высшей школы»: «…когда, бывало, Рубини в «Лучии», в сцене проклятия, потрясал весь театр своими раздирающими душу звуками и невольно извлекал слезы даже из глаз людей хорошего тона и их заставлял забываться, аплодировать и кричать вместе с толпою…» (Панаев И. И. Повести. Очерки. М., 1986. С. 278–279).
(обратно)
267
Над ним <…> отяготела старая, глупая песня о Лючии и Эдгаре, о Ромео и его Юлии… — Ср. в цикле «Старые песни, старые сказки» (5): «И глупая старая песня — она надоела давно, // В той песне печальной поется всегда про одно…» (наст. изд., с. 166).
(обратно)
268
Впервые: МГЛ. 1847. № 88. С. 352–354. Подпись: А. Трисмегистов. Не переиздавалось.
Очерк Г., оборвавшийся на первом фрагменте, нетривиально варьирует тему сопоставления двух столиц, вновь актуализировавшуюся в русской литературе после публикации Вступления к «Медному всаднику» (1834) и «Петербургских записок 1836 года» Гоголя. Из обширного материала, связанного с этой темой, см., например, пассаж в повести Панаева «Белая горячка» (Панаев И. И. Повести. Очерки. С. 48–51), статью Белинского «Петербург и Москва» (Белинский. Т. 8. С. 385–413) и статью Герцена «Москва и Петербург» (Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 2. С. 33–42). В 1844 г. в РиП (№ 8) были опубликованы «Заметки петербургского зеваки» (подпись: А. Г.), которые перепечатаны в сборнике «Петербург в русском очерке XIX века» (Л., 1984) как произведение Г. Эта атрибуция представляется весьма сомнительной: автор выступает здесь с позиции коренного петербуржца, полемизирующего с «москвичами», что не соответствует ни реальным обстоятельствам биографии Г. (лишь за год с небольшим до публикации «Заметок…» переехавшего в столицу), ни характеру его текстов 1840-х гг. (см., например, комментируемый очерк). Отметим также, что о сотрудничестве Г. в РиП до 1845 г. нам ничего не известно (см.: Егоров Б. Ф. Библиография критики и художественной прозы Ап. Григорьева. — УЗ ТГУ. 1960. Вып. 98. С. 217).
(обратно)
269
…зачем, как Репетилов <…> вези меня куда-нибудь… — Реминисценция из «Горя от ума» (действ. IV, явл. 9).
(обратно)
270
…о! тогда <…> вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких, странных, томительно странных песен… — Аналогичные высказывания см. в поэме «Встреча» (глава 6) и в драме «Два эгоизма» (действие первое). Ср. в автобиографическом рассказе «Великий трагик»: «Для него, четверть века проведшего с цыганскими хорами, знавшего их все <…> нарочно научившегося говорить по-цыгански до того, что он мог безопасно ходить в эти таборы и быть там принимаемым как истинный «романэ чаво» <цыганский парень>…» (Воспоминания. С. 282). О цыганском пении и цыганских хорах см. в статье Г. «Русские народные песни» (Эстетика. С. 343–347). См. также стихотворение «Цыганская венгерка» (из цикла «Борьба») и примеч. к нему.
(обратно)
271
Стеша — певица из цыганского хора Ильи Васильева, популярного в Москве в 1840—1850-х гг.; об исполнении ею песни «Ах? ты слышишь ли, разумеешь ли?..» см. в рассказе Фета «Кактус» (Воспоминания. С. 333–334). «Во времена Ильи Соколова <основателя прославленного цыганского хора> была знаменитая певица и очень красивая женщина — Стеша. Одна из известнейших итальянских певиц, услыхав ее, пришла в такой восторг, что сняла с себя шаль и подарила Стеше» (Плещеев А. А. «Под сению кулис…». Париж, 1936. С. 64).
(обратно)
272
«Дебаты» — см. примеч. к стихотворению «Зимний вечер»; «Пресса» («Presse») — парижская политическая и литературная газета. Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) — французский историк и политический деятель; в 1840–1847 гг. министр иностранных дел.
(обратно)
273
Арну-Плесси (1819–1897) — французская актриса; состояла в труппе Михайловского театра (в котором выступали преимущественно заграничные артисты).
(обратно)
274
Итальянцы — итальянская оперная труппа (см. примеч. к рассказу «Лючия»).
(обратно)
275
Мартынов Александр Евстафьевич (1816–1860) — актер Александрийского театра (ниже — Александрия), в котором выступала преимущественно русская труппа.
(обратно)
276
…зачем некстати возобновлять последний монолог Чацкого? — «Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, // Где оскорбленному есть чувству уголок» («Горе от ума», действ. IV, явл. 14).
(обратно)
277
Впервые: СО. 1860. № 6, № 7.
В начале февраля 1860 г. Г. возобновил сотрудничество в СО (где в 1857 г. опубликовал свой лучший лирический цикл), но оно продолжалось всего полмесяца. «Стал было в шутовской форме фельетонов «Сына отечества» катать разные современные безобразия мысли, — писал Г. вскоре Погодину. — После второго же Старчевский возопил в ужасе: «Не надо, не надо!..» (Изд. 1917. С. 253; Старчевский Альберт Викентьевич — редактор СО с 1856 г.).
(обратно)
278
…кто такой Иван Иванович <…> читателей другого журнала… — Сквозной герой обоих фрагментов — Иван Иванович (литературная маска Г.) — был представлен в рассказе «Великий трагик», напечатанном в журнале «Русское слово» (1859, № 1; Воспоминания. С. 262–294). См, также примеч. к поэме «Вверх по Волге».
(обратно)
279
В 1858 году, в октябре месяце, я расстался с ним в Берлине… — О жизни Г. в Берлине см. фрагмент II (и примеч. к с. 329).
(обратно)
280
Хлобуев — персонаж II тома «Мертвых душ»;
(обратно)
281
Рудин — герой одноименного романа Тургенева;
(обратно)
282
Веретьев — герой его же повести «Затишье».
(обратно)
283
В нумерах на Гончарной (ныне Геологическая) улице Г. жил в 1859 г.
(обратно)
284
…«я люблю безобразие, господа!» <…> «я люблю свиней, сестрица!» — Автоцитата из письма Е. С. Протопоповой от 26 января 1859 г. (см.: Изд. 1917. С. 241).
(обратно)
285
…как вредит, пожалуй, лермонтовской переделке <…> то, что сосна и пальма женского рода. — Имеется в виду стихотворение «На севере диком стоит одиноко…» (у Гейне: «Ein Fichtenbaum steht einsam…»).
(обратно)
286
Осень землю золотом одела…; Над озером тихим и сонным… — Стихотворения К. К. Случевского, напечатанные (в составе подборки из шести его лирических произведений) в № 1 Совр. за 1860 г. В мемуарной заметке «Одна из встреч с Тургеневым» Случевский рассказал, что инициатором этой публикации был Г.: «Появиться в «Современнике» значило стать сразу знаменитостью. <…> Стихотворения эти были доставлены Некрасову помимо меня следующим образом. Всеволод Крестовский, тогда еще студент, мой приятель, передал их Аполлону Григорьеву <…> Григорьеву стихотворения мои очень понравились. Он просил Крестовского привести меня к нему, что и было исполнено. <…> Покойный критик был, по обыкновению, навеселе и начал с того, что обнял меня мощно и облобызал. <…> Григорьев пришел в неописуемый восторг, предрек мне «великую славу» и просил оставить эти стихотворения у себя. <…> Как доставил их Григорьев Тургеневу, и как передал их Тургенев Некрасову, и почему дан был мне такой быстрый ход, я не знаю…» (Денница. СПб., 1900. С. 200–201).
(обратно)
287
Варламов — см. примеч. к стихотворению «Звуки».
(обратно)
288
…и недавно еще любовался удивительною сменою ярких и колоритных картин Констанцского собора… — Имеется в виду стихотворение А. Н. Майкова «Приговор».
(обратно)
289
…и был весьма оскорблен статьею <…> на одной страничке. — Имеется в виду анонимная рецензия на поэтический сборник Л. А. Мея 1857 г. и его перевод «Слова о полку Игореве», напечатанная в БдЧ (1858. № 1). «Ульяна Вяземская» — поэма Мея «Песня про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую» (Русское слово. 1859. № 3).
(обратно)
290
…стихотворения о Ваньке ражем и купце, у коего украден был калач. — Имеются в виду стихотворения «Извозчик» и «Вор».
(обратно)
291
Г.-бов — псевдоним Н. А. Добролюбова.
(обратно)
292
«Умолкни, муза мести и печали…» — Стихотворение Некрасова (первая строчка: «Замолкни, муза мести и печали…»).
(обратно)
293
Еду ли ночью по улице темной. — См. примеч. к поэме «Вверх по Волге» (глава 8).
(обратно)
294
У бурмистра Власа бабушка Ненила. — Цитата из стихотворения «Забытая деревня».
(обратно)
295
…Другой, // Еще не ведомый избранник. — Цитата из стихотворения Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой…».
(обратно)
296
…после третьего акта «Отелло», когда мы с ним видели великого Сальвини… — Описание игры итальянского трагика Томазо Сальвини (1829–1915) в «Отелло» см. в рассказе «Великий трагик» (Воспоминания. С. 289–293).
(обратно)
297
…«старую вечно юную песнь»; «морем шумящих страниц»; «богоравным мужем» — цитаты из стихотворения Гейне «Посейдон» в переводе Фета.
(обратно)
298
…с тех пор, как вас пощипали за новое слово Островского. — Драматургию Островского Г. впервые назвал «новым словом» в статье «Русская литература в 1851 году» (см.: Григорьев Аполлон. Полн. собр. соч. и писем. Пг., 1918. Т. 1. С. 140). Перечень иронических (и даже глумливых) высказываний критиков по поводу этого термина см.: Там же. С. 300–301; Изд. 1967. С. 588.
(обратно)
299
«Вздохи» — правильно: «Людские вздохи».
(обратно)
300
…ходит избочась // Вдоль Невы широкой… — Цитата из стихотворения «Ходит вечер избочась…».
(обратно)
301
С горящего сном молодого лица… — Цитата из стихотворения «Людские вздохи».
(обратно)
302
Силе же и подобающий почет… — На самом деле восторженный (хотя и весьма проницательный) отзыв Г. невольно спровоцировал организованную кампанию против Случевского в радикальной печати («Искра», «Свисток»). Эти нападки носили столь агрессивный характер, что поэт надолго замолчал. (Исключительное дарование Случевского до сих пор надлежащим образом не осмыслено.)
(обратно)
303
…я покинул <…> моего романтика в Берлине, в крайне странном положении. — О берлинской жизни Г. см. также в его письме Погодину от августа — октября 1859 г. (наст. изд.с. 425–426) и статье «Стихотворения Н. Некрасова» (Изд. 1967. С. 475–477).
(обратно)
304
…другого моего приятеля, старого грешника… — Имеется в виду В. П. Боткин (см. наст. изд., с. 425).
(обратно)
305
…рассказам Нового поэта о Миннах Антоновнах… — Имеются в виду очерки И. И. Панаева о петербургских куртизанках, печатавшиеся в Совр. в конце 1850-х гг. («Камелии», «Шарлота Федоровна» и др.) и вошедшие в кн.: Очерки из петербургской жизни Нового поэта (СПб., 1860. Ч. 1–2). См. также: Панаев И. И. Повести. Очерки. С. 320–359.
(обратно)
306
«Nord» — журнал, на рубеже 1850-1860-х гг., выходивший на французском языке в Брюсселе; субсидировался русским правительством. Здесь перепечатывались упомянутые очерки Панаева.
(обратно)
307
...сладкого права говорить о полусвете?.. — Г. обыгрывает название очерка Панаева «Дама из петербургского полусвета» (1856).
(обратно)
308
Ведь напечатал же <…> «Современник» <…> стихотворение г. Бенедиктова, над которым он <…> глумился тому назад год с небольшим. — В № 1 Совр. за 1860 г. были опубликованы два стихотворения Бенедиктова («Борьба», «И ныне»); резкий отзыв о его поэзии содержала статья Добролюбова «Новые стихотворения В. Бенедиктова» (Совр. 1858. № 1).
(обратно)
309
…относительно вопроса «о происхождении Варягов — Руси». <…> он выводит Русь из Скандинавии. — В этом пассаже имеются в виду рецензия Добролюбова на кн.: Васильев А. О древнейшей истории северных славян… СПб., 1859 (Совр. 1859. № 4), статья Н. И. Костомарова «Начало Руси» и рецензия Добролюбова на кн.: Погодин М. Норманский период русской истории. М., 1859 (Совр. 1860. № 1). О полемике вокруг проблемы происхождения Руси см.: Дьяков В. А. Ученая дуэль М. П. Погодина с Н. И. Костомаровым: (О публичном диспуте по норманнскому вопросу 19 марта 1860 г.)//Историография и источниковедение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1986. С. 40–55.
(обратно)
310
Покаятельная статья — статья С. С. Дудышкина «Две новые народные драмы» (Отеч. зап. 1860. № 1), посвященная «Грозе» Островского и «Горькой судьбине» А. Ф. Писемского.
(обратно)
311
…надгробное слово, произносимое честно над «Русскою беседою» фельетоном «С.-Петербургских ведомостей». — Имеется в виду заметка, опубликованная в этой газете 6 февраля 1860 г. (№ 29; «Литературная летопись»).
(обратно)
312
…прекрасными фельетонами «Норда» <…> и героинь полусвета… — См. примеч. к с. 332.
(обратно)
313
Вот я вам расскажу <…> по поводу стихотворения г. Некрасова, напечатанного в 1-м № «Современника». — Продолжения «Бесед с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности…» не последовало (см. выше); стихотворение Некрасова «Убогая и нарядная» (Совр. 1860. № 1) Г. позднее причислил к «чистым и возвышенным его вдохновениям» (Изд. 1967. С. 492).
(обратно)
314
Впервые: Якорь. 1863. № 1. Подпись: Ненужный человек.
С конца марта 1863 г. Г. стал редактором нового журнала «Якорь». По словам Н. Н. Страхова, «над первыми нумерами Григорьев все-таки старался, писал передовые статьи, заказал переводы любимых произведений и т. д.» (Изд. 1930. С. 507–508). Вскоре, однако, его пыл угас: журнальное дело не заладилось, да к тому же в это время он «вел особенно беспорядочную жизнь» (Там же. С. 508).
(обратно)
315
Долговое отделение — Тарасов дом, долговая тюрьма Петербурга (находился в 1-й роте Измайловского полка).
(обратно)
316
Великая минута дела… — Имеются в виду первые годы царствования Александра II; начало «эпохи великих реформ».
(обратно)
317
Обличительный поэт, скорбный поэт — псевдонимы поэтов «Искры» Д. Д. Минаева и Г. Н. Жулева.
(обратно)
318
…стараясь как-нибудь помирить бога с маммоном… — Парафраза Евангелия от Матфея (6, 24).
(обратно)
319
В бывалые годы, вооружаясь <…> на семейное начало… — См. поэму «Олимпий Радин» (глава 5) и драму «Два эгоизма» (действ. I).
(обратно)
320
Лаздовский Казимир Антонович — ростовщик, который, потребовав ареста Г. за неуплату долга, по закону обязан был вносить за него кормовые.
(обратно)
321
(обратно)
322
Мне, судя по всем данным моего рождения <…> после французского нашествия. — Ср. в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» (наст. изд., с. 370).
(обратно)
323
«Метеорское звание» — см. примеч. к стихотворению «Страданий, страсти и сомнений…».
(обратно)
324
…на экзерцициях Сихры. — Имеется в виду самоучитель игры на гитаре, составленный гитаристом Г. Сихра.
(обратно)
325
…несчастное лицо, известное под именем Межевого. — См. примеч. к стихотворению «В альбом В. С. М<ежеви>ча».
(обратно)
326
Кукушкина, Полина, Юлинька, Тишка, Лазарь Елизарыч, Самсон Силыч — персонажи комедии Островского «Свои люди — сочтемся!» («Банкрут»).
(обратно)
327
Неуеденов, Бальзаминов — персонажи трилогии Островского о Бальзаминове; приведенный диалог — из пьесы «Праздничный сон — до обеда».
(обратно)
328
Один мой очень умный <…> приятель… — Еще одна литературная маска Г.
(обратно)
329
…даровитый автор статей о темном царстве. — Речь идет о Добролюбове, авторе статей «Темное царство» и «Луч света в темном царстве».
(обратно)
330
Беневоленский, Добротворский — персонажи пьесы Островского «Бедность не порок».
(обратно)
331
Тушинцы (бояре Заруцкий, Салтыков, Андронов) — сторонники Лжедмитрия II, «Тушинского вора».
(обратно)
332
Тушинский стан мышления — так Г. называл идеологию революционных демократов, органом которых был Совр.
(обратно)
333
Авраамий Палицын — хронист XVII в., автор «Сказания», в котором описывались события Смутного времени.
(обратно)
334
Впервые: Якорь. 1863. № 3. Подпись: Ненужный человек.
(обратно)
335
Ты молода и будешь молода… — Цитата из «Каменного гостя».
(обратно)
336
…до чего ясен стал «Русский вестник»… — К середине 1863 г. журнал М. И. Каткова с позиций умеренного либерализма перешел на позиции охранительства.
(обратно)
337
Аскоченский Виктор Ипатьевич (1813–1879) — литератор, издатель газеты «Домашняя беседа», пользовавшейся репутацией оплота обскурантизма.
(обратно)
338
«Père Duchêne» — название газеты монтаньяров в 1790–1793 гг.; нарицательное имя для обозначения экстремиста.
(обратно)
339
…в мире, в котором луна соединится с землею… — Иронический намек на идеал социалистического преобразования общества; здесь, как и во многих других выступлениях, Г. в дискредитирующих целях использует некоторые космические идеи Фурье (см., например: Изд. 1967. С. 444).
(обратно)
340
…письмо <…> подписанное буквами А. Ф. — Автором этого письма (СО. 1861. № 5) был архимандрит Феодор (в миру Александр Матвеевич Бухарев), как раз в 1863 г. снявший с себя сан.
(обратно)
341
Корейша Иван Яковлевич (ум. 1861) — известный московский юродивый; с 1817 г. жил и прорицал в сумасшедшем доме.
(обратно)
342
Дружинин Александр Васильевич (1822–1865) — вождь «эстетической критики», в 1856–1861 гг. редактор БдЧ; позднее сотрудничал в «Русском вестнике».
(обратно)
343
«Юрий Милославский» — роман М. Н. Загоскина (1829).
(обратно)
344
Лука Вариантов — возможно, намек на псевдоним поэта «Искры» В. С. Курочкина «Тарах Толерансов»;
(обратно)
345
новые «Отечественные записки» — имеется в виду переход журнала под редакцию С. С. Дудышкина (с осени 1860 г.);
(обратно)
346
Прыжов Иван Григорьевич (1827–1885) — публицист и этнограф; автор книги «Житие Ивана Яковлевича…» (СПб., 1860);
(обратно)
347
Павлов Николай Федорович (1803–1864) — писатель, журналист; издатель газет «Наше время» и «Русские ведомости».
(обратно)
348
…начало писем Ю. Ф. Самарина о материализме? — Первое «Письмо о материализме» Ю. Ф. Самарина было помещено в газете «День» (1861. № 2); продолжения не последовало.
(обратно)
349
Н. Косица и Ненужный человек — псевдонимы Н. Н. Страхова (1828–1896), друга и литературного единомышленника Г. и самого Г.
(обратно)
350
«Гамлет Щигровского уезда» — рассказ И. С. Тургенева.
(обратно)
351
Князь Луповицкий — герой одноименной пьесы К. С. Аксакова.
(обратно)
352
Монталамбер Шарль Форб де Трион (1810–1870) — один из вождей воинствующего католицизма во Франции в середине XIX в.
(обратно)
353
…г. Воскобойников <…> с своей статейкой… — Имеется в виду статья М. И. Воскобойникова, опубликованная в Отеч. зап. (1861. № 4).
(обратно)
354
…от статейки <…> разделившей два понятия… — Имеется в виду статья К. С. Аксакова «Опыт синонимов. Публика — народ», опубликованная в газете «Молва» (1857. № 3), фактическим редактором которой он был.
(обратно)
355
Потехин-junior — Николай Александрович (1834–1896), второстепенный драматург и беллетрист.
(обратно)
356
Г. Г-ов — А. С. Гиероглифов (1825–1891), редактор газеты «Русский мир»
(обратно)
357
…специальный обличитель нашего града Поганска. — Имеется в виду сотрудник «Искры» в Оренбурге С. Н. Федоров, писавший под псевдонимом «Буки-Ба».
(обратно)
358
Дикая статья покойного К. С. Аксакова — его статья «Наше время» (День. 1862. № 1)
(обратно)
359
повесть г-жи Кохановской — ее повесть «Кирилла Петров и Настасья Дмитрова» (Там же. 1862. № 2-14).
(обратно)
360
Ананий — персонаж «Горькой судьбины» А. Ф. Писемского.
(обратно)
361
«Плохо вынашивает наш Север своих лучших людей». — Из некролога А. С. Хомякова, написанного Герценом (Колокол. 1860. Л. 15).
(обратно)
362
Кокорев Владимир Александрович (1810–1877) — откупщик-миллионер, либеральный публицист начала 1860-х гг.
(обратно)
363
Для берегов отчизны дальней… — первая строка стихотворения Пушкина.
(обратно)
364
Штукарев — прозвище В. А. Кокорева.
(обратно)
365
Ф. В. Булгарин, более тридцати лет (до 1859 г.) регулярно печатавший субботние фельетоны в «Северной пчеле».
(обратно)
366
Время// Всегда на то, что происходит в нем. — Цитата из трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра».
(обратно)
367
Юноша-старец — С. Т. Аксаков.
(обратно)
368
…а другой, также в день смерти, занят логическим развитием заветных философских идей… — Имеется в виду А. С. Хомяков.
(обратно)
369
<…> Песня о воеводе Пальмерстоне <…> не моя ли баядера сочинила эту песню… — Имеется в виду стихотворение «На нынешнюю войну» («Вот в воинственном азарте // Воевода Пальмерстон// Поражает Русь на карте//Указательным перстом»), анонимно опубликованное в Совр. (1854. № 3). Его автором был В. П. Алферьев.
(обратно)
370
…как Хомяков в известном ныне уже и в печати превосходном стихотворении… — Имеется в виду стихотворение «России», написанное в 1854 г., но опубликованное только в 1859 г.
(обратно)
371
Впервые: Эпоха. 1862. № 11. С. 5–11; № 12. С. 378–391.— В наст. изд. публикуются главы из мемуаров Г., в которых описываются его детские годы, проведенные в Москве. Печатается по: Воспоминания. С. 5–46, 64–65. Примечания см.: Там же. С. 378–388, 395.
(обратно)
372
Печатается по: Вестник МГУ. 1971. Филология. № 2. С. 70; публикация Р. Виттакера. Примечания см.: Там же. С. 73.
(обратно)
373
Печатается по: Изд. 1917. С. 105–107. Примечания см.: Там же. С. 379.
(обратно)
374
Печатается по: Изд. 1917. С. 126–127 (с дополнением по автографу и уточненной датировкой).
(обратно)
375
Печатается по: Изд. 1917. С. 147–149 (с дополнениями по автографу). Примечания см.: Там же. С. 384.
(обратно)
376
Печатается по: УЗ ТГУ. 1973, Вып, 306. С. 377—З80; публикация Б. Ф. Егорова. Примечания см.: Там же, с. 330.
(обратно)
377
Печатается по: Воспоминания. С. 300–308. Примечания см.: Там же. С. 413–417.
(обратно)
378
Печатается по: УЗ ТГУ. 1965. Вып. 167. С. 164–166; публикация Б. Ф. Егорова. Примечания см.: Там же. С. 171–172.
(обратно)
379
Печатается по: Изд. 1930. С. 440–448. Примечания см.: Там же.
(обратно)
380
Печатается по: Изд. 1930. С. 464–469. Примечания см.: Там же.
(обратно)
381
Печатается по: Изд. 1930. С. 475–480. Примечания см.: Там же.
(обратно)
382
Печатается по: УЗ ТГУ. 1965. Вып. 167. С. 167–168. Примечания см.: Там же. С. 172.
(обратно)
383
Печатается по: УЗ ТГУ. 1965. Вып. 167. С. 168–169. Примечания см.: Там же. С. 173.
(обратно)
384
Печатается по: УЗ ТГУ. 1965. Вып. 167, С. 169–170. Примечания см.: Там же. С. 173.
(обратно)
385
Печатается по: Изд. 1930. С. 528–556. В подлиннике подпись: И. Константинов. Помета: 1869. Июнь. Царьград. Слова и фразы, зачеркнутые автором в рукописи, заключены в квадратные скобки. — Примечания к мемуару русского мыслителя и эстетика Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891) см.: Там же.
(обратно)
Оглавление
Аполлон Григорьев
Одиссея последнего романтика{1}
К портрету Аполлона Григорьева
Поэмы
Олимпий Радин{2}
Видения{16}
Предсмертная исповедь{18}
Встреча{23}
Первая глава из романа «Отпетая»{41}
Venezia la bella [32]{58}
Дневник странствующего романтика
Вверх по Волге{84}
Стихотворения
Е. С. Р.{105}
«Нет, за тебя молиться я не мог…»{106}
Доброй ночи{107}
Обаяние{108}
Комета{109}
«Вы рождены меня терзать…»{110}
«О, сжалься надо мной!.. Значенья слов моих»{111}
Волшебный круг{112}
«Нет, никогда печальной тайны…»{114}
«Над тобою мне тайная сила дана…»{115}
К Лавинии
«Что не тогда явились в мир мы с вами…»
{116}
Женщина{117}
К Лавинии
«Для себя мы не просим покоя…»{118}
Молитва{119}
Тайна скуки{120}
Памяти В***{121}
К ***
«Мой друг, в тебе пойму я много…»{122}
Воззвание{123}
Памяти одного из многих{125}
Две судьбы{126}
Зимний вечер{127}
Прости{130}
Город{131}
К Лавинии
Он вас любил как эгоист больной…»{132}
Отрывок из сказаний об одной темной жизни{133}
«Когда в душе твоей, сомнением, больной…»{135}
Героям нашего времени{136}
Песня духа над Хризалидой{137}
«Нет, не тебе идти со мной…»{138}
Звуки{139}
Призрак{140}
Вопрос{141}
Ночь{142}
Владельцам альбома{143}
Молитва{144}
Два сонета{145}
1. «Привет тебе, последний луч денницы…»
2. «О, помяни, когда тебя обманет…»
А. Е. Варламову{146}
(При посылке стихотворений)
К Лелии {147}
(А. И. О.)
«Расстались мы — и встретимся ли снова…»{148}
Город{149}
«Нет, не рожден я биться лбом…»{150}
Всеведенье поэта
Ожидание{152}
В альбом В. С. М<ежеви>ча{154}
Прощание с Петербургом{155}
«Когда колокола торжественно звучат…»{156}
Элегии{158}
1. «В час, когда утомлен бездействием душно-тяжелым…»
2. «Будет миг… мы встретимся, это я знаю — недаром…»
3. «Часто мне говоришь ты, склонясь темно-русой…»
К * * *{159}
Старые песни, старые сказки{160}
1. «Книга старинная, книга забытая…»
2. «В час томительпого бденья…»
3. «Бывают дни… В усталой и разбитой…»
4. «То летняя ночь, июньская ночь то была…»
5. «Есть старая песня, печальная песня одна…»
6. «Старинные, мучительные сны!..»
К * * *
«Ты веришь в правду, и в закон…» {161}
Артистке{162}
«С тайною тоскою…»{163}
Тополю{164}
Автору «Лидии» и «Маркизы Луиджи»{165}
[Дневник любви и молитвы]{167}
1
2
Послание к друзьям моим А. О., Е. Э. и Т. Ф.{172}
Подражания
1. Песня в пустыне{177}
2. Проклятие{180}
Искусство и правда.{183}
Элегия-ода-сатира
«За Вами я слежу давно…»{198}
«Трагедия близка к своей развязке…»{199}
Отрывок из неконченного собрания сатир{202}
Борьба{203}
1. «Я ее не люблю, не люблю…»{204}
2. «Я измучен, истерзан тоскою…»{205}
3. «Я вас люблю… что делать — виноват!..»
4. «Опять, как бывало, бессонная ночь!..»
5. «О! кто бы ни был ты, в борьбе ли муж созрелый…»{206}
6. «Прости меня, мой светлый серафим…»{207}
7. «Доброй ночи!.. Пора!..»{208}
8. «Вечер душен, ветер воет…»{209}
9. «Надежду!» — тихим повторили эхом…»{210}
10. «Прощай, прощай! О, если б знала ты…»{211}
11. «Ничем, ничем в душе моей…»{212}
12. «Мой ангел света! Пусть перед тобою…»{213}
13. «О, говори хоть ты со мной…»{214}
14. Цыганская венгерка{215}
15. «Будь счастлива… Забудь о том, что было…»{216}
16. «В час томительного бденья…»{217}
17. «Благословение да будет над тобою…»{218}
18. «О, если правда то, что помыслов заветных…»{219}
Титании{220}
1. «Титания! пусть вечно над тобой…»
2. «Титания! недаром страшно мне…»
3. «Титания! я помню старый сад…»
4. «Титания! из-за туманной дали…»
5. «Да, сильны были чары обаянья…»
6. «Титания! не раз бежать желала…»
7. «Титания! прости навеки. Верю…»
«Хоть тихим блеском глаз, улыбкой, тоном речи…»{221}
Интродукция к альбому Ольги Александровны{222}
(пока таковой еще не существовал)
Альбому в день его рождения{223}
«Когда пройдя, бывало, Гибеллину…»{224}
Импровизации странствующего романтика
1. «Больная птичка запертая…»{228}
2. «Твои движенья гибкие…»{229}
3. «Глубокий мрак, но из него возник…»{230}
4. «О, помолись хотя единый раз…»{231}
5. «О, сколько раз в каком-то сладком страхе…»{232}
«Страданий, страсти и сомнений…»{233}
Песня сердцу{234}
Отзвучие карнавала{235}
Из Мицкевича{236}
«Прощай и ты, последняя зорька…»{237}
К Мадонне Мурильо в Париже{238}
«Мой старый знакомый, мой милый альбом!..»{239}
«И всё же ты, далекий призрак мой…»{240}
Драма{242}
Два эгоизма
Действующие:
Действие первое
Действие второе
Действие третье
Действие четвертое
Проза
Лючия.{257}
Из воспоминаний дилетанта
Москва и Петербург: заметки зеваки{268}
Беседы с Иваном Ивановичем о современной нашей словесности и о многих других вызывающих на размышление предметах{277}
Безвыходное положение{314}
(Из записок ненужного человека)
Плачевные размышления о деспотизме и вольном рабстве мысли{334}
(Из записок ненужного человека)
Мои литературные и нравственные скитальчества{371}
<Главы из книги>
Часть Первая
Москва и начало тридцатых годов литературы
Мое младенчество, детство и отрочество
I. Первые общие впечатления
II. Мир суеверий
III. Дворня
IV. Сторона
V. Последнее впечатление младенчества
Детство
<…>
III. Товарищи моего учителя
IV. Нечто весьма скандальное о веяниях вообще
Запоздалые струи
<VII>
Письма
M. П. Погодину
Н. Н. Страхову
Воспоминания об Аполлоне Григорьеве{385}
К. Н. Леонтьев
Несколько воспоминаний и мыслей о покойном А.П. Григорьеве
*** Примечания ***