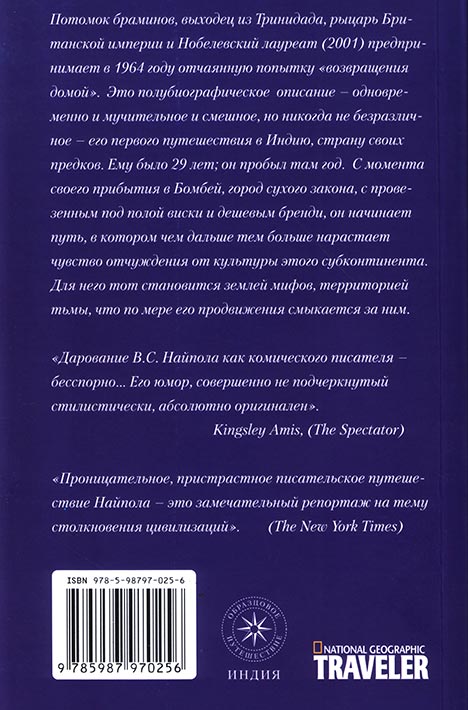В. С. Найпол
Территория тьмы

Вступление путешественника:
Небольшая работа с документами
Как только спустили наш карантинный флаг и последние босоногие, одетые в синюю форму полицейские из службы здравоохранения Бомбейского порта покинули корабль, на борт поднялся гоанец Коэльо и, зазвав меня длинным манящим пальцем в салон, прошептал: «У вас фыра нет?»
Коэльо прислало ко мне бюро путешествий, чтобы он помог мне пройти через таможню. Он был высокий и худой, жалкий и боязливый, и я решил, что он говорит о какой-то контрабанде. Так оно и было. Коэльо имел в виду сыр. В Индии этот продукт считался деликатесом: из-за рубежа его привозили мало, а свой сыр индийцы так и не научились делать — как не научились и отбеливать газетную бумагу. Но помочь Коэльо я не мог: сыр, который имелся на этом греческом грузовом корабле, был плохой. В течение всего трехнедельного плавания из Александрии я жаловался на его качество бесстрастному главному стюарду, и теперь мне показалось, что, если я вдруг подойду к нему и попрошу разрешения взять немного этого сыра с собой, это будет выглядеть странно.
«Ладно, ладно», — проговорил Коэльо, не веря мне, но не желая попусту тратить время на выслушивание объяснений.
Он вышел из салона и принялся бесшумно шнырять по коридору, изучая имена над дверями.
Я спустился к себе в каюту. Открыл нераспечатанную бутылку виски и отпил глоток. Потом откупорил бутылку «метаксы», отпил и оттуда. Эти две бутылки спиртного я надеялся провезти в Бомбей, где действовал «сухой закон», а к такой предосторожности прибегнул по совету моего друга из индийского Департамента по туризму: полные бутылки непременно конфисковали бы.
С Коэльо мы снова встретились позже, в обеденном зале. Вид у него был уже не такой встревоженный. Он держал огромную греческую куклу, и ее народный костюм смотрелся чересчур кричащим пятном на фоне его собственных потрепанных штанов и рубашки, а розовые щеки и немигающие глаза куклы казались слишком безмятежными рядом с его длинным и худым лицом, беспокойным и невеселым. Коэльо увидел мои откупоренные бутылки, и тревога вернулась к нему.
— Они открыты. Почему?
— Этого же требует закон, разве нет?
— Спрячьте их.
— «Метакса» слишком высокая, ее не спрячешь.
— Положите набок.
— А вдруг пробка неплотная? Разве не разрешено провезти две бутылки?
— Не знаю, не знаю. Подержите-ка вот эту куклу. Несите ее в руке. Скажете — сувенир. У вас есть визитная карточка туриста? Хорошо. Очень ценный документ. С таким документом вас не станут обыскивать. Почему вы не спрятали бутылки?
Он хлопнул в ладоши, и тут же появился низкорослый и костлявый босоногий человек и принялся выносить наши чемоданы. Он ждал беззвучной невидимкой с того самого мига, как Коэльо взошел на борт. Держа в руках только куклу и сумку с бутылками, мы стали спускаться к катеру. Носильщик Коэльо спрятал чемоданы. Потом опустился на корточки, как будто стараясь втиснуться в самый тесный уголок, как будто извиняясь за собственное присутствие, хотя находился на голой палубе, на корме того самого катера, на котором плыл его хозяин. А хозяин этот, лишь изредка поглядывая на куклу, лежавшую у меня на коленях, смотрел вперед, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего.
* * *
Восток начался для меня еще несколько недель назад. Уже в Греции я почувствовал, что Европа куда-то удаляется. Восток присутствовал в еде, в обилии сладостей (из которых многие я знал с детства); в плакатах, рекламировавших индийские кинокартины с участием актрисы Наргиз
[1]— любимицы греческих зрителей, так мне говорили; в мгновенно завязывавшихся дружбах, в приглашениях на обед или в гости. Греция оказалась подготовкой к Египту: Александрия на закате, широкая блестящая дуга в зимнем море; за волнорезами — видение сквозь мелкие брызги от белой яхты бывшего короля; заглохший мотор корабля; а затем — внезапно, словно по сигналу, — шум с причала, крики, ругань и болтовня людей в неряшливых галабеях, которые вмиг взбежали на и так уже заполненное людьми судно и принялись бегать по нему. Тогда стало ясно, что Восток начинается не в Греции, а здесь, в этом хаосе расточительных движений, в самоподдерживающемся гуле, во внезапном ощущении близкой опасности, в проснувшемся убеждении, что не все люди — братья и что багаж под угрозой.
Здесь необходимо было понять, как важно иметь проводника — человека, знакомого с местными обычаями, посредника, не видевшего никакой загадки в дурно отпечатанных безграмотных бланках. «Пишите здесь», — говорил мне проводник в здании таможни, где сновали носильщики, гиды, чиновники, бездельники, полицейские и путешественники, и где грек-беженец шептал мне на ухо: «Хочу вас предупредить: сегодня ночью здесь будут воровать». «Пишите здесь. Один „кодак“». Он, мой проводник, тыкал в пунктирную линию рядом со словом
«дата». «А здесь, — он ткнул в строку рядом с
„подписью“, — пишите: золота, украшений, драгоценных камней не везу». Я стал возражать. Проводник ответил: «Пишите», — произнеся это слово будто какое-нибудь арабское. Это был высокий, мрачный человек со зловещим, как в голливудских фильмах, выражением лица; он носил феску и легонько постукивал себя по бедру тростью. Я написал, как он мне говорил. И это сработало. «А теперь, — сказал он, сменив феску с надписью
„Агент Бюро Путешествий“ на феску с надписью
„Отель X“, — теперь пойдемте в гостиницу».
Так постепенно, черточка за черточкой, продолжал проступать Восток, знакомый прежде лишь по книгам; и каждый миг такого узнавания становился открытием, как, например, откровением было видеть на спинах живых людей
галабеи — одеяния, сделавшиеся для меня почти мифическими благодаря бесчисленным фотографиям и описаниям. В тусклой гостинице, казалось, полной воспоминаний эпохи Раджа, уже улавливались намеки на кастовую систему. Старый официант-француз только обслуживал за столом; при нем были посыльные — молчаливые негры с печальными глазами, облаченные в фески и широкие кушаки, приносившие блюда и уносившие посуду. В вестибюле расхаживало множество служителей-негров в живописных нарядах. А на улице царил тот самый Восток, которого и ожидал путник: дети, грязь, хвори, недоедание, возгласы «Бакшиш!», разносчики товаров, зазывалы, промельки минаретов. Витали там еще напоминания об имперском прошлом: и в темных, отгороженных витринами магазинчиках европейского типа, которые прозябали в отсутствие должной опеки; и в грустном шепоте француза парикмахера, сетовавшего, что французских духов уже не достать и приходится довольствоваться тяжелыми египетскими ароматами; и в пренебрежении, с каким ливанский делец упоминал о «туземцах», из которых он не доверял никому, кроме собственного помощника, а тот, тихонько ведя разговор со мной, говорил мне, что придет день, когда всех ливанцев и европейцев выставят вон из страны.
Черточка за черточкой — тот Восток, о котором столько читано. В поезде, на котором я ехал в Каир, мужчина, сидевший по другую сторону прохода, дважды отхаркался, языком ловко скатал мокроту в шарик, вытащил ее изо рта большим и указательным пальцами, осмотрел, а потом размазал между ладонями. На нем был костюм-тройка, из его транзистора доносились громкие звуки. Каир обнаруживал истинный смысл слова «базар»: узкие улочки, покрытые коркой грязи, источающие вонь даже в такой зимний день; крошечные лавочки, забитые поддельными товарами; толчея; шум, едва переносимый и усугубляемый постоянным гуденьем автомобильных рожков; средневековые здания, частично обрушившиеся, и другие, вырастающие из старых развалин, где там и сям виднеются вставки бирюзовых и ярко-синих изразцов, намекающие на былой порядок и былую красоту, на кристальные фонтаны и любовные приключения — как намекали, наверное, всегда, и в прежние (быть может, столь же беспорядочные) времена.
И посреди этого базара — сапожник. В белой тюбетейке и очках в стальной оправе, с морщинистым лицом и седой бородой, он мог бы позировать фотографу для журнала
«Нэшнл джиографик»: вот искусный и терпеливый восточный ремесленник. У меня отставала подошва. Может ли он починить ботинок? Сидя почти на голой мостовой, сгорбившись за работой, он искоса оглядел мою обувь, мои брюки, мой плащ. «Пятьдесят пиастров». Я возразил: «Четыре». Он кивнул, стащил башмак с моей ноги и принялся плотницким молотком вгонять в подошву дюймовый гвоздь. Я схватился за ботинок; сапожник, ухмыляясь и держа молоток на весу, не отдавал. Я дернул сильнее — он отпустил.
Пирамиды, служащие одновременно общественными уборными (о чем умалчивают все до единого путеводители), оказались совершенно невыносимы из-за всяческих гидов, «смотрителей», погонщиков верблюдов и мальчишек, чьих ослов звали — всех без исключения — Виски-с-Содой.
Бакшиш! Бакшиш! «Зайдите на чашечку кофе. Нет, ничего не покупайте. Я просто хочу с вами побеседовать об умных вещах. Мистер Неру — великий человек. Давайте обменяемся мнениями. Я закончил университет». Я на автобусе пересек пустыню, вернулся в Александрию и — на два дня раньше срока — сбежал на греческое грузовое судно.
Потом меня ждала скука африканских портов. Чувствовалось, что это лишь маленькие площадки на краю необъятного континента, и сразу становилось ясно, что Египет, при всех его неграх, — еще не Африка, и, при всех его минаретах и галабеях, — еще не Восток, а всего лишь последний рубеж Европы. В Джидде галабеи оказались чище, и разъезжало множество новых элегантных американских автомобилей. Сойти на берег нам не разрешили, так что наблюдали мы только портовую жизнь. Верблюдов и коз сгружали с грязных частных пароходов при помощи подъемных кранов и канатов и опускали на причал; их привезли, чтобы зарезать для ритуального пира, который знаменует окончание Рамадана. Взмывая ввысь, верблюды раскидывали свои внезапно сделавшиеся лишними ноги; коснувшись суши — беззвучно или с глухим стуком — они припадали к земле, а потом бежали к своим товарищам и терлись о них боками. На катере вспыхнул пожар; на нашем судне забили тревогу, и через несколько минут появились пожарные машины. «У абсолютизма есть свои преимущества», — сказал молодой студент-пакистанец.
Мы достигли Африки, а у четверых наших пассажиров не было прививки от желтой лихорадки. В Британии как раз свирепствовала эпидемия оспы, начавшаяся в Пакистане, и мы опасались излишне строгих мер в Карачи. Пакистанские чиновники поднялись на борт, выпили как следует, и наш карантин был отменен. А вот в Бомбее индийские чиновники отвергли спиртное и даже не допили предложенную им кока-колу. Они сказали, что очень сожалеют, но те четверо пассажиров должны отправиться в больничный изолятор в Санта-Крусе — иначе кораблю придется остаться на воде. Двое из пассажиров, у которых не было прививки, оказались родителями капитана. И мы остались на воде.
Это было медленное путешествие, приносившее разнообразные и поверхностные впечатления. Зато оно послужило подготовкой к Востоку. После базара в Каире базар в Карачи меня уже не поразил, а слово
бакшиш звучало одинаково в обеих странах. Переход от средиземноморской зимы к липкому летнему зною на Красном море произошел очень быстро. Зато другие перемены происходили медленнее. На пути от Афин до Бомбея постепенно проступало иное представление о человеке, заявляло о себе новое понимание властности и раболепия. Сам физический тип, характерный для Европы, вначале растворился в типе африканском, а затем, миновав семитскую Аравию, перетек в арийскую Азию. Человек был здесь ужат и изуродован; он скулил и просил милостыню. Моей первой реакцией была истерика — и безжалостность, продиктованная новым ощущением цельности себя как человека, а также решимость, хоть и запятнанная страхом, упорно оставаться таким, какой я есть. Было не важно, чьими глазами я глядел на Восток; прошло слишком мало времени для этой новой самооценки.
Поверхностные впечатления, несдержанные реакции. Но одно воспоминание осталось со мной навсегда — и я крепко цеплялся за него в тот день, когда мы стояли на воде вблизи Бомбея, когда я видел, как солнце закатывается за отель «Тадж-Махал»
[2], и желал в душе, чтобы Бомбей оказался всего лишь очередным портом из тех, куда мы заходили по пути, — таким портом, который пассажир грузового судна может, по своему усмотрению, или посетить, или вообще не заметить.
* * *
Это было в Александрии. Там нам покоя не было от конных экипажей. У лошадей выпирали ребра, а бока карет были такими же обтрепанными, как наряды извозчиков. Кучера окликали вас, а потом ехали рядом до тех пор, пока не замечали очередного пешехода, годного в седоки. Приятно было отделаться от них и наблюдать из безопасного места, с палубы корабля, как они накидываются на других. Это напоминало немое кино: жертва намечена, экипаж несется, жертва настигнута, жестикуляция, кабриолет движется рядом с жертвой и подлаживается под ее шаг — вначале быстрый, потом нарочито медленный, затем ровный.
Но вот однажды утром пустая просторная пристань оживилась необычной суматохой, словно немое кино внезапно превратилось в немую же эпическую картину. Длинные ряды двухцветных таксомоторов выстроились возле здания морского вокзала; рассредоточившись по всей пристани и сбившись в маленькие кучки, как будто ожидая начальственного призыва к деятельности, замерли черные кабриолеты; а вдали, справа, через ворота дока безостановочно приезжали все новые такси и конные экипажи. Лошади галопировали, кучера взмахивали кнутами. На короткое время всё пришло в движение. Вскоре кабриолеты, что находились на краю этого скопления, снова замерли. Теперь показалась причина всеобщего возбуждения: огромный белый лайнер, который, быть может, вез туристов — а быть может, вез в Австралию иммигрантов с десятью фунтами в кармане. Медленно-медленно судно подплывало к берегу. Через ворота к причалам прорывались все новые и новые такси и кабриолеты, лихорадочно торопясь туда, где лихорадку их встречало расхолаживающее зрелище чужих торб и кучек травы.
Лайнер вошел в док ранним утром. И лишь в полдень первые пассажиры шагнули из здания морского вокзала в пустошь пристани. Это и стало начальственным призывом. Кучера начали хватать траву с асфальта и запихивать ее под свои сиденья; каждый пассажир становился мишенью приставаний сразу нескольких извозчиков. Розовыми, неопытными, робкими и беспомощными показались нам эти пассажиры. В руках они держали корзинки и фотоаппараты; на них были соломенные шляпы и яркие хлопковые рубашки, надетые специально для египетской зимы (а с моря дул пронизывающий ветер). Но наши симпатии успели переметнуться: мы были уже на стороне александрийцев. Они прождали все утро; они примчались сюда с таким щегольством, с таким рвением; нам хотелось, чтобы они вступили в бой, победили и увезли своих пленников через ворота дока.
Не тут-то было. Как только кабриолеты и такси окружили пассажиров и протестующие жесты сменились неподвижностью, так что уже казалось, что бегство невозможно, а миг пленения близок, в ворота дока въехали два блестящих автобуса. С корабля они смотрелись дорогими игрушками. Они проехали между такси и кабриолетами, которые снова сомкнулись, а затем расступились, давая автобусам сделать медленный, широкий разворот; и вот уже там, где стояли туристы в яркой хлопковой одежде, виднелся один асфальт. Такси, словно не желая признавать этого окончательного поражения, попятились и двинулись с места, как будто устремляясь в погоню. Затем они неспешно разъехались на прежние места, туда, где лошади доедали с асфальта траву, выпавшую из торопливых кучерских рук.
Весь день кабриолеты и такси оставались в порту, поджидая тех пассажиров корабля, которые не уехали на автобусах. Таких пассажиров было немного; выходили они по одному, по двое, и, похоже, предпочитали такси. Но кучера экипажей не унывали. Стоило показаться очередному пассажиру, кучера по-прежнему подскакивали на сиденьях, хлестали своих тощих лошаденок и с грохотом катились вслед намеченной жертве, мигом преображаясь из лодырей в старых пальто и шарфах в целеустремленных и ловких дельцов. Иногда им удавалось завладеть чьим-нибудь вниманием; в таком случае между несколькими извозчиками часто вспыхивал спор, и пассажиры уходили. Иногда какой-нибудь кабриолет провожал пассажира до самых ворот. И тут мы иногда наблюдали, как крошечная фигурка пешехода останавливается, а затем — к нашему ликованию и облегчению — взбирается в кабриолет. Что, впрочем, случалось редко.
Начинало смеркаться. Извозчики уже перестали пускать вскачь своих лошадей, они разъезжали туда-сюда со скоростью пешехода. Ветер становился все пронзительнее; в порту темнело; загорались фонари. Но экипажи оставались. Лишь позже, когда на лайнере зажглось множество огней и даже его дымовая труба осветилась, а надежда окончательно угасла, они начали один за другим уезжать, оставляя после себя травинки и комья конского навоза.
Ночью я выходил на палубу. Неподалеку, под фонарным столбом, стоял одинокий кабриолет. Он стоял там с вечера, удалившись пораньше от всеобщей суматохи у морского вокзала. Никаких седоков он так и не залучил, и никаких седоков теперь ожидать не приходилось. Фонарик кабриолета давал слабый свет; лошадь жевала, наклоняясь к низкой кучке травы на асфальте. Кучер, кутаясь от ветра, протирал большой тряпкой тускло блестевший верх своего кабриолета. Покончив с протиркой, он принялся смахивать пыль; потом проворно, бегло прошелся щеткой по бокам лошади. Не прошло и минуты, как он снова вышел из экипажа и опять принялся протирать, смахивать пыль и чистить. Казалось, он одержим манией действия. Животное жевало, его бока лоснились, верх кареты сиял. Никаких седоков по-прежнему не появлялось. А на следующее утро лайнер ушел, и док снова оказался пуст.
Теперь, сидя в катере, готовом пришвартоваться к причалу в Бомбее, где имена и названия на крышах зданий и на подъемных кранах были — удивительное дело! — английскими; испытывая неловкость при мысли о бессловесном животном, скорчившемся на полу за спиной своего хозяина, и сходную неловкость — при виде фигур на причале (отнюдь не романтичных, какими обычно представляются первые фигуры на чужом берегу), таких хрупких и оборванных на фоне каменных зданий и металлических кранов; теперь я пытался вспомнить, что в Бомбее, как и в Александрии, в могуществе не может быть ни капли гордости и что поддаваться гневу и презрению сейчас — значит потом испытать отвращение к самому себе.
* * *
И, разумеется, Коэльо — проводник, посредник, знаток правительственных бланков — оказался прав. В Бомбее царил суровый сухой закон, и обе мои откупоренные бутылки со спиртным конфисковали таможенные чиновники в белом, вызвав унылого человека в синем, чтобы тот опечатал их «в моем присутствии». Человек в синем приступил к этой физической и, следовательно, унизительной работе медленно и со вкусом; по его манерам можно было догадаться, что перед вами — заслуживающий доверия государственный служащий, пускай даже занимающий очень низкое положение. Мне выдали расписку и сказали, что я смогу забрать бутылки, когда получу специальное разрешение на провоз алкоголя. Коэльо выразил сомнение: эти конфискованные бутылки, сказал он, обычно разбиваются. Зато его собственные заботы окончились. Обыска нам не учиняли, и его греческая кукла не вызвала у таможенников никаких вопросов. Он забрал ее у меня, взял плату за свои услуги и растворился в Бомбее. Больше я его никогда не видел.
Пребывание в Бомбее оказалось очень утомительным. Липкая духота высасывала все жизненные силы, сковывала волю, и прошло несколько дней, прежде чем я решил забрать свои бутылки. Решение я принял утром, а к делу приступил после полудня. Я стоял в тени на станции Чёрчгейт и спорил с самим собой: найдутся ли во мне силы перейти залитую солнцем улицу, чтобы попасть в туристическое бюро. Постепенно сходя на нет, этот спор перешел в грезы наяву, так что лишь несколько минут спустя я пересек улицу. Оставалось еще подняться по ступенькам. Я сел под вентилятором, чтобы отдохнуть. Сюда меня завлекло не только желание получить разрешение на провоз алкоголя: в конторе на втором этаже работал кондиционер. Здесь Индия казалась благоустроенной, даже роскошной страной. Интерьер был оформлен в современном стиле, на стенах висели карты и цветные фотографии, а на маленьких деревянных полках лежали стопки брошюр и буклетов. Моя очередь подошла чересчур быстро, и праздность закончилась. Я заполнил бланк. Чиновник тоже заполнил — три бланка в придачу к моему одному, сделал записи в нескольких гроссбухах и вручил мне ворох бумажных листов: это и было мое разрешение на провоз алкоголя. Чиновник оказался проворен и учтив. Я поблагодарил его. Не стоит благодарности, сказал тот; это всего лишь небольшая работа с документами.
По одному шагу в день — так я решил. Поэтому только назавтра я сел в такси и поехал в порт. Таможенные чиновники в белом и униженный человек в синем удивились, увидев меня.
— Разве вы что-нибудь оставили у нас?
— Я оставил две бутылки со спиртным.
— Нет. Это мы конфисковали их у вас. И они были опечатаны в вашем присутствии.
— Я это и имел в виду. А сейчас я приехал, чтобы забрать их.
— Но мы не храним здесь конфискованный алкоголь. Все, что мы конфискуем и опечатываем, сразу же отсылается в Новое таможенное управление.
Свое такси я нашел у выхода из дока.
Новое таможенное управление оказалось большим двухэтажным зданием, мрачным, как все правительственные сооружения, а внутри скопилось множество народу, как будто в помещении суда. Люди толклись повсюду — у подъезда, в галереях, на лестницах, в коридорах. «Алкоголь, алкоголь», — повторял я, и меня вели из конторы в контору, и в каждой за письменными столами, беспорядочно загроможденными бумагами, сидели съеженные, очкастые молодые люди в белых рубашках. Кто-то сказал, что мне нужно подняться этажом выше. На лестничной площадке я наткнулся на скопище босоногих людей, сидевших на каменном полу. Сначала я подумал, что они играют в карты: в Бомбее многие развлекались этой игрой, сидя на тротуарах. Но эти люди разбирали тюки. Их старший объяснил мне, что меня направили не туда: мне нужен другой корпус, стоящий во дворе. Этот корпус, если судить по количеству поношенного тряпья, наваленного в одном из помещений нижнего этажа, можно было принять за общежитие, а если судить по количеству сломанных стульев и пыльных предметов никчемной мебели в другом помещении, — за лавку старьевщика. Но именно здесь хранился невостребованный багаж, а значит, именно сюда мне и было нужно. Поднявшись по лестнице, я пристроился к медленно продвигавшейся очереди, отстояв которую обнаружил только счетовода.
— Вам нужен не я. Вам нужен вон тот чиновник в белых штанах. Вон там. Он славный малый.
Я подошел к указанному человеку.
— У вас есть разрешение на провоз алкоголя?
Я предъявил ему ворох проштампованных и подписанных листов бумаги.
— А разрешение на транспортировку у вас есть?
Я впервые слышал о таком разрешении.
— У вас должно быть еще разрешение на транспортировку.
Я уже выбился из сил, был весь в поту, и, раскрыв рот, чтобы заговорить, понял, что вот-вот разрыдаюсь.
— Но мне
сказали…
Чиновник был полон сочувствия.
— Мы тоже говорили им много раз.
Я стал совать чиновнику все бумаги, какие у меня были, — разрешение на провоз алкоголя, расписку от таможенников, паспорт, квитанцию об уплате портовой пошлины, визитную карточку туриста.
Тот послушно просмотрел все, что я ему протягивал.
— Нет. Я бы сразу понял, есть у вас нужное разрешение или нет. По цвету бумаги. Вроде буйволовой кожи.
— Но что такое это разрешение на транспортировку? Почему мне его не выдали? Зачем мне оно?
— Я должен забрать его, прежде чем выдать какой-либо груз.
— Прошу вас.
— Сожалею.
— Я напишу об этом в газеты.
— Будет очень хорошо, если вы так и сделаете. Я все время твержу им, чтобы они извещали людей об этом разрешении. Вы не одиноки. Вчера у нас был один американец, который заявил, что разобьет бутылку, как только получит ее.
— Помогите же мне. Где получают эти разрешения на транспортировку?
— Те люди, которые выдавали вам расписку, должны были выдать вам и разрешение на транспортировку.
— Но я побывал у них перед вами.
— Не знаю. Мы все время напоминаем им.
— Обратно к Старой Таможне, — сказал я таксисту.
На этот раз полиция у ворот узнала нас и не стала обыскивать машину. Этот порт стал моими личными воротами в Индию. Всего несколько дней назад всё здесь было новым: липкий черный асфальт, будки менял, сиденья, люди в белом, хаки или голубом; во всё это я тогда всматривался, пытаясь распознать в этих деталях предвестье той Индии, что лежала за воротами. Но сейчас я уже ни на что не глядел, ни к чему не проявлял интереса. Впрочем, к моему оцепенению примешивалась мысль о предстоящем мне маленьком триумфе: я ведь подловил этих таможенников в белом и того униженного в синем.
По их виду нельзя было сказать, что их подловили.
— Разрешение на транспортировку? — переспросил один.
— Вы уверены?
— Вы что — сказали им, что уезжаете из Бомбея? — спросил второй.
— Разрешение на
транспортировку? — переспросил третий и, подойдя к четвертому, повторил: — Разрешение на транспортировку — ты когда-нибудь слышал о разрешении на
транспортировку?
Оказалось, тот слышал.
— Нам писали об этом.
Разрешение на транспортировку требуется для того, чтобы перевезти спиртное из здания таможни в гостиницу или другое место.
— Пожалуйста, дайте мне разрешение на транспортировку.
— Мы не выдаем таких разрешений. Вам придется обратиться…
Взглянув на Меня, чиновник смягчился.
— Ну хорошо, сейчас я вам его выпишу. А еще я выдам вам кодовый номер. Это чтобы им там, в Новой таможне, легче было разобраться.
Таксист до сих пор оставался спокоен; теперь же мне стало казаться, что мои поездки складываются в маршрут, давно ему знакомый. Я начал зачитывать адрес, который мне дали. Он прервал меня и без лишних слов поехал через густеющий к вечеру поток машин к большому кирпичному зданию, на фасаде которого висели черно-белые таблички государственного учреждения.
— Ступайте, — сочувственно сказал таксист, — я подожду.
У двери каждой конторы кучковалась небольшая толпа.
— Разрешение на транспортировку, разрешение на транспортировку.
Какие-то сикхи подсказали, куда мне нужно — в низкое строение во дворе, рядом с воротами, на которых написано
«Запретная зона», откуда один за другим выходят рабочие и поднимают руки, чтобы вооруженные солдаты обыскали их.
— Разрешение на транспортировку, разрешение на транспортировку.
Я вошел в длинный коридор и оказался среди сикхов. Это были водители грузовиков.
— Разрешение на провоз спиртного, разрешение на провоз спиртного.
И вот наконец я очутился в нужной конторе. Это было длинное низенькое помещение на первом этаже, спрятанное от палящего солнца и темное, будто лондонский подвал, только теплое и пахнущее пыльными старыми бумагами, которые были тут повсюду — на полках, поднимавшихся до серого потолка, на письменных столах, на стульях, в руках у клерков, в руках у посыльных, одетых в форму цвета хаки. Уголки картонных папок загнулись, края обмякли от благоговейных прикосновений; ко многим папкам крепились розовые бумажные полоски — такие же линялые и обмякшие — с пометками: СРОЧНО, ОЧЕНЬ СРОЧНО или БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО. Среди этих бумажных гор, колонн и подпорок были рассеяны, как нечто малозначительное, мужчины и женщины — с кроткими лицами, покрытыми индийской бледностью, с высоко поднятыми плечами; бумага служила им отличным камуфляжем. В одном углу сидел пожилой мужчина в очках, лицо у него было немного одутловатое и болезненное. Под его трепетным началом и находилась вся эта загроможденная бумагами комната: исчезни он, остальные клерки окончательно растерялись бы.
— Разрешение на транспортировку?
Он медленно поднял голову. Не выразил ни удивления, ни неудовольствия оттого, что его потревожили. Его стол был сплошь усыпан бумагами с наклеенными розовыми полосками. Их слегка обдувал настольный вентилятор, уютно примостившийся рядом.
— Разрешение на транспортировку.
Он произнес это мягко, так, будто это были редкие слова, которые, порывшись мгновенье в папках своей памяти, он, однако, хорошо понял.
— Напишите заявление. Нужно всего одно.
— У вас есть бланк?
— Бланка не требуется. Просто напишите письмо. Вот вам лист бумаги. Садитесь и пишите. В Управление пошлин, акцизов и запретов, Бомбей. У вас при себе паспорт? Впишите паспортные данные. А, я вижу, у вас есть визитная карточка туриста. Укажите и ее номер. А я пока ускорю дело.
И пока я писал заявление, вписывал номер своей визитной карточки туриста, ВКТ (I.) 156, чиновник, ускоряя дело, передал мои документы служащей со словами: «Мисс Десаи, начните, пожалуйста, оформлять разрешение на транспортировку алкоголя». В его голосе я уловил нотки странноватой гордости. Он вел себя как человек, который и после стольких лет службы все еще открывает ее богатство и разнообразие и подавляет свой восторг, которым, тем не менее, желает поделиться и с подчиненными.
Вдруг оказалось, что мне трудно выводить слова и составлять даже самые простые предложения. Я скомкал испорченный лист бумаги.
Главный клерк поглядел на меня с мягким упреком.
— Требуется всего одно заявление.
У меня за спиной мисс Десаи заполняла бланки тем тупым, нестираемым, неразборчивым карандашом, какими пользуются во всех без исключения государственных учреждениях бывшей империи — и не столько ради самого написанного, сколько ради необходимых копий.
Я кое-как дописал заявление.
И тут моя спутница начала сползать по стулу, уронила голову на колени и потеряла сознание.
— Воды, — попросил я у мисс Десаи.
Та, не прекращая писать, показала мне на пустой пыльный стакан, стоявший на полке.
Начальник клерков, уже хмуро просматривавший другие бумаги, взглянул на обморочную фигуру.
— Ей нехорошо? — Голос его звучал так же мягко и ровно, как прежде. — Пускай отдохнет. — И он отвернул от себя настольный вентилятор.
— Где вода?
Откуда-то из-за бумажных гор послышалось женское хихиканье.
— Воды! — крикнул я на какого-то клерка.
Тот встал, ничего не сказав, удалился в другой конец комнаты и исчез.
Мисс Десаи закончила писать. Бросив на меня взгляд, похоже, полный ужаса, она принесла свой пухлый блокнот начальнику.
— Разрешение на транспортировку подготовлено, — сообщил тот. — Как только освободитесь, можете расписаться в его получении.
Вернулся тот клерк — без воды — и уселся на прежнее место.
— Где вода?
Взгляд клерка неприязненно отметил мое раздражение. Он не проронил ни слова, даже плечами не пожал — просто уткнулся в свои бумажки.
Это было хуже, чем раздражение. Это была невоспитанность и неблагодарность. Потому что вдали, щеголяя своей униформой с не меньшей гордостью, чем какой-нибудь офицер, уже показался посыльный. В руках он держал поднос, а на подносе стоял стакан воды. Как же я сразу не догадался! Ведь клерк — это клерк, а посыльный — это посыльный.
Кризис миновал.
Я трижды подписался и получил свое разрешение.
Главный клерк раскрыл очередную папку.
— Надкарни, — тихо окликнул он кого-то из своих подчиненных. — Я не понимаю, что это за записка.
Обо мне уже начисто забыли.
В такси можно было задохнуться от жары, сиденья едва не плавились. Мы приехали в квартиру нашего друга и оставались там до темноты.
Потом к нашему другу приехал его друг.
— Что случилось?
— Мы поехали за разрешением на транспортировку, и она упала в обморок. — Я не хотел, чтобы в моих словах звучал упрек. И добавил: — Наверное, от жары.
— Жара тут ни при чем. У вас, приезжих, всегда одно объяснение: жара или вода. Ничего с ней страшного не случилось. Вы заранее судите об Индии, даже если не успели приехать сюда. Вы не те книги читали.
* * *
Чиновник, который отправил меня за разрешением на транспортировку, был рад увидеть меня снова. Но оказалось, что разрешения на транспортировку еще недостаточно. Мне нужно пойти к мистеру Кулкарни и выяснить, сколько составляет плата за хранение моих бутылок на складе. Когда я узнаю, сколько она составляет, мне нужно снова явиться сюда и подойти вон к тому клерку, в синей рубашке; затем мне нужно пойти к кассиру и внести плату за хранение на складе; тогда я смогу снова пойти к мистеру Кулкарни и забрать свои бутылки.
Я не мог найти мистера Кулкарни. Бумаги я держал в руке. Кто-то попытался взять их. Я понимал, что этот кто-то просто проявляет участие и любопытство. Я потянул бумаги к себе. Тот поглядел на меня, я поглядел на него. И я сдался. Тот человек просмотрел мои бумаги и со знающим видом сообщил мне, что я ошибся зданием.
Я завопил во весь голос:
—
Мистер Кулкарни!
Люди вокруг меня изумленно оборачивались. Кто-то подошел ко мне, успокоил меня и отвел в соседнее помещение, где и сидел все это время мистер Кулкарни. Я устремился в начало очереди и принялся кричать на мистера Кулкарни, размахивая перед ним своими бумагами. Он взял кое-какие из них и начал читать. Сикхи из очереди принялись возмущаться. Мистер Кулкарни ответил, что я тороплюсь, что я — важное лицо и что, в любом случае, я моложе. Как ни странно, недовольные сразу утихли.
Мистер Кулкарни потребовал гроссбух. Ему принесли гроссбух. Переворачивая хрусткие страницы, не поднимая глаз, он сделал желтым карандашом неописуемо изящный жест. Сикхи сразу же расступились, образовав две ломаные линии. Мистер Кулкарни надел очки, всмотрелся в календарь, висевший на дальней стене, сосчитал что-то на пальцах, снял очки и снова уткнулся в гроссбух. Затем снова сделал неопределенный жест карандашом — и сикхи снова выстроились в одну прямую, заслонив собой календарь.
Опять на верхний этаж. Клерк в синей рубашке поставил печать на листке, который выдал мне мистер Кулкарни, и сделал записи в двух гроссбухах. Кассир добавил свою печать. Я внес плату, и он сделал записи еще в двух гроссбухах.
— Ну вот, — сказал чиновник, проглядывая дважды проштампованный и трижды подписанный листок. Поставил на нем собственную подпись. — Теперь все в порядке. Ступайте к мистеру Кулкарни. И поторопитесь — там могут закрыться в любую минуту.
Часть первая
1. Место отдохновения для фантазии
Эти Антиподы заставляют вспомнить давние детские чувства — сомнения и удивления. Еще вчера я взирал на эту воздушную преграду как на определенный отрезок нашего пути домой; теперь же я нахожу, что она, как и все места отдохновения для фантазии, подобна теням, неуловимым для человека, движущегося вперед.
Чарльз Дарвин, «Путешествие на „Бигле“»
«Вы не те книги читали», — бросил мне тот бизнесмен. Но его слова были несправедливы: я прочел достаточно книг, выбор которых даже ему показался бы верным. К тому же Индия в некотором смысле служила фоном для всего моего детства. Это была страна, откуда происходил мой дед, страна, никогда не описывавшаяся вещественно и потому никогда не казавшаяся мне материальной, страна, простиравшаяся неведомо где, вдали от крохотного Тринидада
[3]; и наш исход оттуда был бесповоротным. Эта страна оставалась словно подвешенной во времени; она как будто не имела никакого отношения к стране, открытой значительно позже, являвшейся предметом многочисленных правильных книг, выпускавшихся мистером Голланцем и мистерами Алленом и Анвином, а также источником агентских донесений для
«Тринидад гардиан». Индия оставалась каким-то особенным, изолированным краем, где появился на свет мой дед и другие люди, которых я знал и которые приехали на Тринидад в качестве договорной рабочей силы, хотя и это давнее событие уже провалилось в ту же пустынную даль, куда провалилась сама Индия, потому что на этих людях уже не лежала печать договорного труда, не лежала даже печать того, что когда-то они были чернорабочими.
Жила там одна старушка, дружившая с семьей моей матери. Была она вся в украшениях, светлокожая и седовласая, и держалась очень важно. Она говорила только на хинди. Изящество ее манер и степенная красота ее мужа, носившего густые седые усы, безупречную индийскую одежду и своим молчанием уравновешивавшего некоторую навязчивость жены, очень рано внушили мне мысль, что эти супруги — такие дружелюбные и близкие (они содержали крохотный магазинчик неподалеку от заведения моей бабушки), что мы относились к ним почти как к родственникам, — были уже иностранцами. Они приехали из Индии; это придавало им блеск, но самый этот блеск служил барьером. Они не столько игнорировали Тринидад, сколько отвергали его; они даже не пытались выучить английский — язык, на котором говорили дети. У старушки был один или два золотых зуба, и все звали ее Нани-Златозубка, что на той смеси английского и хинди, обнаруживавшей, в какую даль уже отступает мир, к которому старушка принадлежала, значило «Бабушка-Златозубка». Своих детей у Златозубки не было. Этим, наверное, и объяснялась ее резвость и ее желание разделить с моей бабушкой влияние на детей. Любви ей это не прибавляло. И имелся у нее один порок. Она была прожорлива, как ребенок; эту ненасытную, непрошенную лакомку легко было соблазнить плиткой слабительного шоколада. Однажды ей на глаза попался стакан с жидкостью, похожей на кокосовое молоко. Старушка отпила глоток, допила до дна — и заболела; мучаясь недугом, она сделала признание, которое прозвучало как упрек: она выпила стакан белил. Поразительно, как это она допила жидкость до самого конца! Однако во всем, что касалось еды, она — в отличие от большинства индийцев — проявляла любовь к эксперименту и упорство. Ей пришлось нести этот позор до самой смерти. Так рухнула одна Индия; и, по мере того как мы взрослели, уже перебравшись жить в город, Златозубка все больше казалась нам всего лишь деревенской диковинкой, которая не имела к нам никакого отношения. Каким далеким представлялся тогда ее мир, каким мертвым — и вместе с тем как мало времени отделяло нас от нее!
А еще был Бабу. Усатый, такой же степенный и молчаливый, как муж Златозубки, он занимал любопытное положение в хозяйстве моей бабушки. Он тоже родился в Индии; а вот почему он жил один в отдельной комнате позади кухни, я никогда не понимал. И это говорит об узости того мирка, в котором существовали мы, дети: я знал про Бабу только то, что он был
кшатрием — членом касты воинов. И этот одинокий человек, сидя под конец дня на корточках в своей темной каморке, сам себе готовил простую пищу, замешивал тесто, резал овощи и делал прочие дела, которые я всегда считал женской работой. Неужели этот мужчина из касты воинов мог сделаться простым работником? Тогда это представлялось немыслимым, но позже, когда подобное крушение иллюзий уже мало что значило, это оказалось правдой. Потом мы переехали. Моей бабушке понадобилось выкопать колодец. И копать его пришел Бабу, который по-прежнему жил у нас, в такой же задней каморке. Шахта колодца становилась все глубже; Бабу опускали туда в гамаке и в нем же поднимали наверх землю, которую он накопал. Наступил день, когда поднимать было уже нечего: лопата Бабу наткнулась на скальное основание. Бабу в последний раз поднялся в гамаке и ушел обратно — в ту же пустоту, из которой когда-то явился. Я никогда больше его не видел, и единственное, что еще напоминало о нем, — это глубокая яма на краю крикетного поля. Поверх этой ямы сразу же положили доски, но она все равно оставалась в моем воображении: постоянная ужасная опасность, подстерегающая неутомимых игроков, отбивающих удар за линию границы поля.
Еще больше, чем в людях, Индия вокруг нас заключалась в вещах: в
чарпоях[4] — которые давно запачкались, обветшали, перестали использоваться и никогда не чинились (потому что на Тринидаде не было ни одного человека с кастовыми навыками их починки), однако им по-прежнему позволялось стоять на своих местах; в плетеных соломенных ковриках; в бесчисленных медных сосудах; в деревянных печатных станках, никогда не использовавшихся, потому что набивной ситец и так повсюду продавался задешево и потому что тайны красителей давно позабылись, а красильщиков здесь не было; в книгах с крупными шершавыми и ломкими страницами, с толстыми маслянистыми чернильными буквами; в барабанах и в одной сломанной фисгармонии; в красочных изображениях разных божеств на розовых цветах лотоса или на ослепительном фоне гималайских снегов; и во всей атрибутике молитвенной комнаты — в медных колокольчиках, гонгах и камфарных курильницах, похожих на древнеримские светильники, в ложке с тонкой рукоятью для раздачи священного «нектара» (крестьянский нектар: в будни — коричневый сахар и вода, в праздники — с кусочками листьев туласи
[5] и сладким молоком), в идолах, гладких камушках и сандаловых палочках для воскурений.
Исход был бесповоротным. И лишь в ходе этого путешествия в Индию мне предстояло понять, сколь окончательным стало то переселение на Тринидад из Уттар-Прадеша — когда деревня находилась в нескольких часах ходьбы от ближайшей железнодорожной станции, от станции дольше суток было ехать до морского порта, а оттуда — около трех месяцев плыть до Тринидада. Индия существовала на Тринидаде как цельное единство — в порожденных ею вещах. Однако наша община, хоть с виду самодостаточная, была неполноценной. Без подметальщиков мы быстро научились обходиться. Другие владели навыками одновременно плотников, каменщиков и сапожников. Но не было у нас ткачей и красильщиков, медников и чарпойщиков. А потому многие вещи, имевшиеся в доме моей бабушки, оказывались невосполнимы. Такими предметами дорожили, потому что привезли их из Индии, но продолжали пользоваться ими и не жалели о том, что эти предметы старятся и изнашиваются. Как я понял позже, это было индийское отношение к вещам. Обычаи следует сохранять, потому что люди ощущают их древность. Но этим преемственность и кончается; нет нужды подкреплять ее культивированием прошлого, а потому старинными предметами — сколь бы их ни чтили, будь то гуптская
статуэтка
[6] или чарпой, — следует пользоваться до тех пор, пока они не придут в полную негодность.
В детстве та Индия, которая произвела такое множество окружавших меня вещей, оставалась для меня лишенной каких-либо черт, а то время, когда произошло переселение, представлялось мне эпохой тьмы — тьмы, распространявшейся и на саму землю исхода, подобно тому, как по вечерам тьма расстилается вокруг хижины, хотя в самой близи хижины еще остается слабый свет. Этот свет обозначал зону моего знания — и времени, и места. И даже теперь, хотя время уже расширилось, а пространство сжалось, и я уже совершил внятное странствие по той области, которая представлялась мне территорией тьмы, тьма эта так и не рассеялась до конца — она остается в тех взглядах, в тех способах мыслить и смотреть на мир, которых я уже не разделяю. Мой дед проделал трудное, отважное путешествие. Пока оно длилось, он неизбежно сталкивался с поразительными зрелищами — хотя бы даже с морем, которое находилось в нескольких сотнях миль от его родной деревни; и все же я не могу избавиться от ощущения, что дед, как только покинул деревню, попросту перестал что-либо видеть. Потом он снова съездил в Индию — но лишь для того, чтобы вернуться с новыми вещами из Индии. Когда он стал строить себе дом, то пренебрег всеми колониальными стилями архитектуры, какие можно обнаружить на Тринидаде, и выстроил тяжеловесную диковину с плоской крышей; в точности такие постройки мне предстояло встречать снова и снова в ветхих городишках штата Уттар-Прадеш. Дед навсегда покинул Индию — и, подобно Златозубке, отвергал Тринидад. Однако он твердо ступал по земле. Ничто, кроме родной деревни, не будило в нем чувств; ничто не побуждало его выходить за собственные пределы: родную деревню он повсюду носил в себе. Несколько прочных знакомств, полоска земли — вот и все, что ему потребовалось, чтобы воссоздать деревню из восточного Уттар-Прадеша в центре Тринидада с таким же успехом, словно все происходило в бескрайней Индии.
Мы, родившиеся позже, уже не могли отвергать Тринидад. Дом, в котором мы жили, был особенным — но не более, чем многие другие. Нетрудно было принять тот факт, что мы живем на острове, где обитают самые разные люди и стоят самые разные дома. Наверняка и у других имеются свои особенные вещи. Мы ели определенную пищу, исполняли определенные церемонии и соблюдали определенные табу; естественно было думать, что и другие люди живут на свой лад. Мы не желали разделять их обычаев и привычек и не ждали, что другие станут разделять наши. Они — это они, а мы — это мы. Нас никогда не учили этому. О том, что мы — индийцы в многонациональном обществе, мы как-то не задумывались. Критика извне существовала, как я теперь понимаю, но она никогда не проникала сквозь стены нашего дома, и я не припомню, чтобы в пору моего детства в семье когда-нибудь говорили на тему национальностей. Хотя я остро ощущал все эти различия, в национальных вопросах я, как ни странно, долго оставался полным невеждой. В школе меня удивляли курчавые волосы любимого учителя, и я пришел к выводу, что он, как и я, продолжает расти, а когда он еще немножко подрастет, то волосы у него сделаются прямее и длиннее. Национальный вопрос никогда не обсуждался, но уже в раннем детстве я понимал, что мусульмане отличаются от нас больше других. Им нельзя доверять, от них только и жди обмана. Словно подтверждением такого мнения служил один мусульманин, живший неподалеку от дома моей бабушки: его шапочка и седая борода словно обличали в нем человека особого рода и источника всяческих угроз. Ибо те черты отличия, в которых мы видели неотъемлемое свойство каждой группы, стоявшей вне нашей собственной, было легче заметить у других индийцев и еще легче — у других индусов. Научиться распознавать чужие национальности мне еще предстояло, а пока — и вплоть до недавних пор — для улавливания социальных противоречий, дающих жизни свой привкус, мы полагались на старые, индийские способы деления людей, сколь бы бессмысленными они ни успели сделаться.
Все, что находилось за пределами нашей семьи, несло на себе этот отпечаток несходства. С этим следовало мириться, когда мы отправились за границу, и, пожалуй, даже забывать об этом — как, например, в школе. Но стоило возникнуть угрозе контакта, взаимодействия — мы сразу же чуяли насилие и отстранялись. Помню, как однажды — это было уже позднее, после того, как наш семейный уклад разрушился, — меня повели в гости к одному семейству. Эти люди не были нашими родственниками, а потому сам визит запомнился как нечто необычное. Поскольку в голове у меня отложилось — наверное, из-за чьих-нибудь слов, — что они мусульмане, мне казалось, что они совсем на нас не похожи. Мне виделось это в их внешности, в их доме, в их одежде, а еще — чего я заранее боялся — в их пище. Нам предложили лапшу, сваренную в молоке. Я подумал, что это блюдо связано с каким-то неизвестным и отвратительным обрядом; к лапше я не притронулся. В действительности же те люди были индусами; позже наши семьи породнились.
Прежний семейный уклад неизбежно сошел на нет, и этот процесс ускорился благодаря нашему переезду в столицу, где индийцев было немного. Внешний мир все больше вторгался в нашу жизнь. Мы стали скрытными. Но однажды мы совершили открытую атаку на город. Моя бабушка захотела прочесть
каттху, и захотела прочесть ее не иначе как под сенью священного фикуса. На всем острове имелся один-единственный священный фикус, и росло это дерево в Ботаническом саду. Туда и следовало обращаться за разрешением. К моему удивлению, нам дали разрешение; и вот однажды, субботним утром, мы сидели под священным фикусом, снабженным ярлыком с его ботаническим названием, а пандит
[7] читал священный текст. В костер, где пылал священный огонь, были брошены кусочки смолистой сосны, коричневый сахар и топленое масло; звонили в колокольчики, ударяли в гонги, трубили в морские раковины. Мы вызвали молчаливое любопытство небольшой разномастной толпы людей, совершавших утреннюю прогулку, и прозелитский интерес со стороны одного адвентиста Седьмого Дня. Это была настоящая пасторальная сцена: арийский ритуал, явившийся сюда с другого континента и из другой эпохи, совершаемый в нескольких сотнях метров от губернаторской резиденции. Но это любование уже относится к более поздней поре. Тем из нас, кто ходил в то время в школу, публичные церемонии давались нелегко. Мы становились застенчивыми, сравнивали себя с другими: наш тайный мир быстро съеживался. Впрочем, изредка кто-нибудь из немногочисленных благочестивых индусов, живших в Порт-оф-Спейне
[8], желал покормить брахманов. Тут мы и пригождались. Мы шли к ним, нас кормили, нас одаривали отрезами материи и деньгами. Мы никогда не задумывались, почему нам так повезло. Это представлялось простым везеньем, потому что сразу же после церемонии, шагая домой в брюках и рубашках, мы снова превращались в обычных мальчишек.
Хотя мне такое везение казалось слегка жульническим. Я происходил из семьи, в которой было много пандитов. Но сам я родился неверующим. Меня не радовали религиозные обряды. Они длились чересчур долго, а еду раздавали только в конце. Языка я не понимал (взрослые как будто ожидали, что мы все должны понимать чутьем), и никто не пояснял нам ни слов молитв, ни смысла ритуалов. Все церемонии походили одна на другую. Изображения не вызывали во мне любопытства, я никогда не пытался понять, что они значат. К моему неверию и нелюбви к ритуалам прибавлялась невосприимчивость к метафизике: очередная измена наследственности — ведь пристрастие моего отца к индуистским умопостроениям было огромным. Так вышло, что, выросши в ортодоксальной семье, я почти ничего не знал об индуизме. Так что же все-таки осталось во мне от индуизма? Возможно, я впитал кое-какую философию, которая впоследствии оказывала мне поддержку. Не могу этого утверждать; мой дядя часто говорил мне, что мое отрицание религии — вполне дозволенная форма индуизма. Копаясь в себе, я обнаруживал лишь то ощущение несходства людей, которое уже пытался объяснить выше, некое смутное чувство кастовой принадлежности, и отвращение ко всему нечистому.
Я до сих пор испытываю брезгливость, видя, как люди кормят животных из посуды, с которой едят сами; в школе я с той же брезгливостью наблюдал, как мальчишки лижут вместе «попсиклы» и «пэлэты» — так назывались местные сорта фруктового мороженого на палочке; с такой же брезгливостью я наблюдаю и сейчас, как женщины порой пробуют пищу с ложек, которыми помешивают свое варево в кастрюлях. Это было не просто «отличие»; это была та нечистоплотность, которой нам следовало остерегаться. Как ни странно, на сладости никакие пищевые ограничения не распространялись. Мы покупали маниоковые рожки на уличных лотках; а вот один вид кровяной колбасы в рассоле — любимого лакомства негритянского пролетариата, которое продавалось на уличных перекрестках и возле спортивных площадок, — гипнотизировал и ужасал нас. Казалось бы, при таких взглядах наша пища должна была оставаться неизменной. Но это было не так. Трудно понять, как именно происходило взаимодействие, но мы мало-помалу заимствовали чужие кулинарные привычки: на португальский манер тушили помидоры с луком — такой соус подходил к любому блюду; негритянским способом готовили ямс, овощные бананы, плоды хлебного дерева и бананы обычные. Все, что мы перенимали, становилось нашим; чужого по-прежнему следовало опасаться, и мои предубеждения были настолько сильны, что к той поре, когда я покинул Тринидад (это случилось незадолго до моего восемнадцатилетия), я всего три раза бывал в ресторанах. День, когда я стремительно перенесся в Нью-Йорк, стал для меня злосчастным днем: я бродил по этому городу испуганный и голодный; потом, на корабле, плывшем в Саутгемптон, я ел почти одни только сладости, и стюард, получив от меня чаевые, отважился заметить: «Другие совсем как свиньи стали. А вот вы — большой любитель мороженого».
Пища — вот первое. Второе — каста. Хотя я быстро понял, что это всего лишь часть нашей личной игры, порой это кастовое мышление могло влиять на мое отношение к другим. Одна наша дальняя родственница вышла замуж; ходили слухи, будто ее муж — из касты
чамаров, кожевников. Этот человек был богат, много путешествовал; он добился успехов на профессиональном поприще и позже занял довольно ответственную должность. Но он оставался чамаром. Возможно, слухи были необоснованны — редкий брак не сопровождается подобного рода унизительной клеветой, — однако мысль об этом всплывает всякий раз, когда мы встречаемся, и то изначальное желание уловить в нем что-то чужое теперь повторяется непроизвольно. Это был единственный человек, на которого я смотрел с подобным предубеждением; моя родственница вышла за него замуж, когда я был совсем еще юным. В Индии люди тоже несут на себе клеймо своей кастовой принадлежности — особенно если о ней объявляется заранее, одобрительно или неодобрительно. Но в Индии каста была для меня чем-то иным, нежели на Тринидаде. На Тринидаде понятие касты не имело смысла в нашей повседневной жизни; представление о касте, в которое мы играли время от времени, было всего лишь признанием чьих-то скрытых качеств, а подсказки, которые оно предлагало, были подобны предсказаниям хироманта или гадателя по почерку. В Индии каста означала жесткое разделение труда; и в его центре — чего я никогда не понимал — находилось униженное положение уборщика отхожих мест. В Индии каста — явление отталкивающее; я никогда не любопытствовал, к какой касте принадлежит тот или иной человек.
Веры у меня не было; религиозные обряды мне не нравились; вдобавок я боялся показаться смешным. Я отказался проходить вместе с кузенами
упанаяву, или обряд священной нити, знаменующий второе рождение мальчика. Под конец этой церемонии посвященный — с обритой головой, с повязанным ему новым шнуром, — берет посох с узлом (как делали это странники в любой индийской деревне две тысячи лет назад) и заявляет о своем намерении пойти учиться в Каши-Бенарес
[9]. Мать плачет и умоляет его остаться; посвященный настаивает на том, что это его долг. Потом зовут какого-нибудь престарелого родственника, чтобы он разубедил посвященного, и юноша через некоторое время сдается, откладывает страннический посох с узлом. Это была милая театрализованная сценка. Но я-то понимал, что мы на Тринидаде, на острове, который от побережья Южной Америки отделяет всего десять миль, и что появление на улицах Порт-оф-Спейна моего кузена (быть может, не отличавшегося большими успехами в учебе) в наряде индуса, школяра-попрошайки, собравшегося в Бенарес, вызвало бы нежелательное любопытство прохожих. Поэтому тогда я отказался участвовать в обряде; пусть сейчас и нахожу это старинное действо, непостижимым образом сохранившееся на тринидадской почве, и трогательным, и заманчивым.
Тогда я отверг обряд. Но другое воспоминание помогает мне восстановить равновесие. Однажды на школьном уроке у нас была лабораторная работа — мы проводили опыт с сифоном, уже не помню, с какой именно целью. В ходе опыта по рядам пускали мензурку с трубочкой, и каждому ученику полагалось всосать немного воздуха и посмотреть, что произойдет. Я не стал дотрагиваться до мензурки. Я думал, никто этого не заметил, но мальчик-индиец, сидевший позади меня (это был уроженец Порт-оф-Спейна, общепризнанный классный забияка), прошептал: «Настоящий брахман». Его тон был одобрительным. Меня удивила его осведомленность — я-то думал, что, раз он родился в Порт-оф-Спейне, то ничего не знает о подобных вещах; удивила и нежность, с какой он произнес эти слова, и то, что он выносит на публику эту нашу вторую, тайную жизнь. В то же время мне было приятно. А это чувство вызвало и внезапную нежность к тому мальчику, и грусть по нашей общей утрате: моя — о которой он даже не подозревал — стала плодом моего собственного решения или темперамента; его утрата (в ней он открыто признавался самим своим поведением) была плодом истории и среды. Подобное чувство я испытывал вновь и вновь, гораздо позже и гораздо острее, в совершенно иных обстоятельствах, когда утрата стала полной, — в Лондоне.
Меня часто упрекали писатели из Вест-Индии — и в частности Джордж Ламминг, — за то, что в своих книгах я уделяю мало внимания не-индийским общинам. Именно столкновение различных национальных групп, утверждал он, и было главным уроком вест-индского жизненного опыта. Это верно — и становится все более верным. Но видеть в затухании культуры в пору моего детства лишь результат драматического столкновения противоположных миров — значит искажать действительность. Для меня эти миры были смежными и взаимоисключающими. Один из них постепенно сжался. Это было неизбежно; он питался лишь воспоминаниями, и его завершенность была слишком очевидна. Он сдавал позиции не потому, что на него велось наступление, а потому, что другой мир исподволь просачивался в него. Я могу говорить лишь за себя, опираясь лишь на собственный опыт. Тот семейный уклад, который я описывал, начал разрушаться, когда мне было лет шесть или семь; когда мне исполнилось четырнадцать, он уже прекратил существование. Между мной и моим братом, который был младше меня на двенадцать лет, пролегла не просто пропасть шириной в поколение. Он уже не застал того частного мирка, Который столь осязаемо — но со временем все более утрачивая свою энергию инерции — существовал еще двадцать пять лет назад; мирка, который отпочковался от безвидной территории тьмы, какой являлась Индия.
Само существование этого мирка — пускай даже в сознании ребенка — кажется мне чудом; чудо и то, что мы мирились с раздельностью наших двух миров и не видели нелепости в их соседстве. В одном мире мы жили словно бы с шорами на глазах, как бы видя одну только дедову деревню; за этими пределами мы прекрасно осознавали, что с нами происходит. А в Индии мне предстояло понять, что многие из явлений, против которых бунтовали более новые и, быть может, более истинные стороны моей натуры, — а именно, самодовольство, бросавшееся мне в глаза, невосприимчивость к критике, отказ
видеть, двуличие в речах и в мыслях, — вызывают отклик в той части моей натуры, которую я считал давно отмершей и которую Индия воскресила — пускай даже как смутное воспоминание. Я понимал все это лучше, чем согласился бы признать. И очередным чудом показалось мне то, что воспитание того рода, что я описал, — так рано оборвавшееся и сделавшееся бесплодным, — оставило тем не менее на мне столь глубокий отпечаток. Индийцы — древний народ, и вполне возможно, что они до сих пор принадлежат к древнему миру. Это индийское благоговение перед сложившимся укладом и перед стариной — порой нелепое, порой непростительное, порой малопонятное: оно как ничто сродни важному шутовству Древнего Рима, оно — как будто часть римского понятия pietas, «благочестия». Я отверг традицию; но как же тогда объяснить то чувство негодования, которое я испытал, услышав, что в Бомбее на празднестве Дивали
[10] используют свечи и электрические лампочки вместо деревенских глиняных светильников незапамятной формы, какими продолжали пользоваться у нас на Тринидаде? Я родился неверующим. И все же мысль о разложении старых обычаев и обрядов больно кольнула меня и тогда, когда тот мальчик прошептал: «Настоящий брахман», и много лет спустя, в Лондоне, когда я узнал о смерти Рамона.
* * *
Было ему года двадцать четыре. Он погиб в автокатастрофе. И это казалось очень уместным. Автомобили — единственное, что имело для него смысл: ради того, чтобы возиться с ними, он и приехал в Лондон, бросив мать и отца, жену и детей. Я познакомился с ним почти сразу же после его приезда. Наша встреча произошла в Челси, в убогом пансионе, фасад которого походил на все прочие фасады зданий на этой респектабельной, взбегающей вверх улице: белая краска, черная ограда вокруг участка, дверь — продолговатое яркое пятно. Только молочные бутылки и качество занавесок выдавали секрет этого дома, где — в проходе, в рассеянном и расплывчатом свете сороковаттной лампочки — я впервые увидел Рамона. Он был невысок, густые волосы вились у концов, черты лица были такими же грубоватыми, как и короткие сильные пальцы. Он носил усы и оброс щетиной; в свитере, который явно принадлежал кому-то другому, кто раньше него проделал паломничество с Тринидада в Лондон и привез оттуда этот свитер как знак путешествия в зону умеренного климата, Рамон выглядел убогим замарашкой.
Он гармонировал с обстановкой — с запачканной зеленью стен, с линолеумом, с кругами грязи вокруг дверных ручек, с выцветшей обивкой дешевых стульев, с пятнами на обоях; все это указывало на череду бесчисленных временных жильцов, которым эти комнаты никогда не позволяли как следует разместить свои вещи; полоска сажи под подоконником, закопченный потолок, пустой очаг со следами кратковременного стародавнего огня, напоминающий о бивачных кострах; зловонные дырявые ковры. Он гармонировал со всем этим — и в то же время оставался чужеродным. Он принадлежал миру задних дворов, не обнесенных заборами, и хлипких пристроек, где — без свитера и без рубашки — он мог бы слоняться в вечерней прохладе, где его окружала бы неувядаемая зелень тринидадской листвы, и цыплята затихали бы к ночи, а в соседнем дворе над угольной жаровней поднималась бы тонкая струйка голубого дыма. А сейчас в похожее время суток он сидел в чужом тесном свитере на низкой кровати, пролежанной и давно не чищенной, в тускло освещенной меблированной комнате в Челси, где электрический обогреватель с неуклюжим рефлектором явно полировался при помощи слюны и наждака и мало помогал справиться с сыростью и холодом. Прежние спутники Рамона уже съехали отсюда. Он оказался не таким способным, как они; меньше заботился об одежде; не мог поддерживать или разделять их радужных настроений.
Он был робок и говорил только тогда, когда к нему обращались, отвечая на вопросы, как человек, которому нечего скрывать, как человек, для которого будущее — никогда не служившее предметом размышлений — не представляет угрозы и, возможно, вовсе не имеет смысла. Рамон уехал с Тринидада, потому что лишился водительских прав. Его преступная карьера началась в ранней юности, когда он, почти ребенок, был арестован за вождение без прав; позднее его арестовали уже за то, что он сидел за рулем, еще находясь под запретом. Одно правонарушение повлекло за собой другое, и постепенно Тринидад перестал быть местом, где Рамон мог бы жить спокойно: жизни без автомобилей он не мыслил. Его родители наскребли немного денег, чтобы он мог добраться до Англии. Они сделали это из любви к нему, своему сыну; рассказывая об этом, он не обнаруживал никаких чувств.
Рамон не умел оценивать свои поступки с точки зрения нравственности: он был из тех людей, с которыми просто случаются те или иные события. Он оставил жену, а с нею двоих детей. «Думаю, меня ждет впереди еще что-то». Эти слова он проговорил без гордыни, типичной для выходцев из тринидадских трущоб. Он лишь констатировал факт; по его словам нельзя было понять, какого мнения держится он сам о своем уходе из семьи и о своих мужских качествах.
Испанское имя он носил потому, что его мать была отчасти венесуэлкой; он и сам некоторое время прожил в Венесуэле, пока его не выдворила полиция. Но он был индусом и сыграл свадьбу по индуистскому обряду. Наверное, для него эти обряды значили так же мало, как для меня, а может быть, даже меньше, потому что он рос одиночкой, никогда не имел оплота в семейной жизни вроде моей, и уже в раннем возрасте очутился в центре цивилизации, которая осталась для него столь же загадочной, как и новое перемещение в Челси.
Он был невинным существом, заблудшей душой, и одна только движущая страсть спасала его от животного состояния. Тот участок мозга (если только такой участок существует), что отвечает за решения и чувства, у Рамона был чистой страницей, на которой другие могли писать что угодно. Ему хотелось сесть за руль — он садился за руль. Ему нравился какой-нибудь автомобиль — он пускал в ход все мыслимые ухищрения и угонял его. Его бы рано или поздно поймали; с этим он никогда, похоже, не спорил и не сомневался в этом. Кто-нибудь говорил ему: «Мне нужен колпак ступицы для машины. Сможешь достать?» Рамон шел на улицу и крал первый попавшийся колпак для ступицы колеса. Его ловили; он никого ни в чем не винил. События просто случались с ним. Его невинность, которая отнюдь не была простотой, просто пугала. Он был невинен, как невинен сложный механизм. Его могло воодушевить желание доставить кому-нибудь радость. В доме, где он обитал, жила одна мать-одиночка; к ней и к ее ребенку Рамон относился с неизменной нежностью, опекал их, когда требовалось.
Но в нем жила движущая страсть. И с автомобилями он управлялся гениально. Молва о нем распространилась быстро; и уже несколько недель спустя его то и дело можно было увидеть в засаленной одежде, колдующим над машиной-развалюхой, а одетый в штаны из кавалерийского твила человек толковал с ним о деньгах. Рамон мог бы сколотить капитал. Но все деньги он тратил на новые машины и на штрафы, которые уже начал выплачивать в судах за кражу то лампочки, то какой-нибудь запчасти, которая понадобилась ему для завершения ремонта. У него не было необходимости красть — а он крал. Но все равно молва о его умелых руках продолжала распространяться, и без дела он не сидел.
А потом я услышал, что он попал в серьезную передрягу. Приятель по пансиону попросил его сжечь скутер. На Тринидаде если кто-нибудь хотел уничтожить автомобиль, то просто поджигал его на берегу мутной реки Карони, а потом сталкивал в воду. В Лондоне тоже была река.
Рамон погрузил скутер в фургон, принадлежавший ему в то время, и однажды вечером привез его на набережную Виктории. Прежде чем он успел поджечь скутер, появился полицейский — как всегда появлялись полицейские в жизни Рамона.
Я подумал, что, раз скутер так и не был подожжен, то дело пустяковое.
«Какое там, — возразил один обитатель пансиона. — Это же
за-го-вор». Он проговорил это слово с трепетом: его тоже зачислили в заговорщики.
Так Рамон попал под суд присяжных, и я решил послушать, как будет разбираться его дело. Я не сразу нашел нужное здание суда («Вы сами вызваны в суд, сэр?» — спросил меня полицейский, и его любезный тон смутил меня не меньше самого вопроса); когда же я наконец попал в нужное место, мне показалось, будто я снова очутился на улице Сент-Винсент в Порт-оф-Спейне. Все заговорщики уже были там, и выглядели они как испуганные студенты. Они вырядились в костюмы, словно пришли на собеседование. Эти молодые люди, так любившие пошуметь и подразнить соседей по своей улице в Челси (они даже повадились стричь друг друга, как могли бы делать в Порт-оф-Спейне, прямо на тротуаре по воскресеньям утром — как раз когда местные жители мыли машины), теперь являли собой совершенно противоположное зрелище.
Рамон стоял особняком, тоже в костюме, но ни в выражении его лица, ни в тоне его приветствия ничто не показывало, что мы сейчас встретились в обстоятельствах, хоть немного отличных от обстановки его пансиона. С ним была девушка — простодушное создание; оделась она как на танцы. Похоже, оба испытывали не тревогу, а равнодушие; девушка тоже была из тех, с кем все время само собой случается что-то неприятное и непонятное. Куда больше них обоих волновался работодатель Рамона, владелец гаража. Он пришел дать показания о «характере» Рамона, и он тоже надел костюм — из жесткого коричневого твида. Лицо у него было красноватое и одутловатое, наверное, из-за сердечной недостаточности; за очками в розовой оправе постоянно моргали ресницы. Он стоял рядом с Рамоном.
«Хороший мальчишка, хороший мальчишка, — твердил владелец гаража. — Это всё его дружки». Странно, до чего сильным и трогательным может быть такое бесхитростное мнение о взаимоотношениях бесхитростных людей.
Суд проходил без особого драматизма. Начинался он довольно мрачно — с показаний полицейских и перекрестных допросов. (Рамон якобы сказал, когда его арестовывали: «Ага, мент, вот ты меня и поймал!» Я опроверг это утверждение.) Защищал Рамона молодой адвокат, предоставленный судом. Он оказался очень оживленным и щеголеватым, был вне себя от энтузиазма. Казалось, исход дела заботит его гораздо больше, чем самого Рамона, которого он без особой нужды призывал не унывать. Один раз он подловил судью на каком-то нарушении процессуального этикета и, мгновенно вскочив на ноги, с возмущенным видом сделал строгое внушение. Судья выслушал его с явным удовольствием и принес извинения. Похоже, мы оказались в питомнике для адвокатов: адвокат Рамона изображал лучшего ученика, судья — директора школы, а нам, публике на галерке, выпала роль гордых родителей. Когда судья начал подводить итоги — говоря медленно, торжественно, как и полагается на суде, — грозовая атмосфера сразу же рассеялась. Было совершенно ясно, что он понятия не имеет о тринидадских обычаях. Судья говорил, что ему очень нелегко поверить, будто попытка сжечь скутер на набережной Виктории — всего лишь глупая студенческая выходка; а вот намерение обмануть страховую компанию — дело серьезное… На галерее сидела индианка, очень красивая, она улыбалась и силилась подавить смешок всякий раз, как слышала остроту или очень изящную фразу. Судья чувствовал ее внимание, и подведение итогов превратилось в диалог между ними двумя — между пожилым мужчиной, уверенным в своем таланте, и красивой восприимчивой женщиной. Скованность присяжных (женщина в очках и шляпе подалась вперед, вцепилась в поручень, словно в расстройстве) значения не имела; и, похоже, никто — даже полиция — не удивился, когда был оглашен вердикт: невиновен. Защитник Рамона ликовал. Рамон оставался таким же безмятежным, как и раньше, а вот его товарищи-заговорщики вдруг показались совершенно измотанными.
Однако вскоре Рамон снова попал в беду, и на сей раз уже не нашлось владельца гаража, который бы вступился за него. Насколько я понял, он украл машину или вытащил из нее двигатель, так что починить ее стало невозможно; его на время упекли за решетку. Когда он освободился, то говорил, что несколько недель провел в Брикстоне
[11]. «А потом я попал в одно место в Кенте». Я слышал это от одного из его бывших подельников, товарища по пансиону. Там Рамон превратился в комическую фигуру. А в следующий раз, когда я услышал о нем, мне сообщили, что он умер — погиб в автокатастрофе.
Он был ребенком, невинным существом, созидателем; человеком, для которого мир не приберег ни славы, ни сострадания; человеком, для которого не нашлось места. «А потом я попал в одно место в Кенте». В его словах не было ни юмора, ни рисовки. Одно место похоже на другое; в мире полно таких мест, где можно невидимкой влачить существование. Теперь его не стало, и мне захотелось подарить ему известность. Он исповедовал ту же религию, что и моя семья; мы оба были как бы пониженными в ранге представителями этой религии, и само это понижение казалось мне связующей нас нитью. Мы составляли крошечную, особенную частичку далекой, неведомой, невиданной страны, единственное значение которой для нас, если вдуматься, состояло в том, что мы были ее отдаленными отпрысками. Мне хотелось, чтобы с телом Рамона обошлись почтительно, мне хотелось, чтобы с ним обошлись в соответствии с древними обычаями. Только это и спасло бы его от бесследного исчезновения. Сходные чувства испытывал, наверное, древний римлянин, находясь в Каппадокии или в Британии; а Лондон был сейчас так же далек от сердцевины нашего мира, как — среди руин какой-нибудь античной виллы в Глостершире — Британия по-прежнему кажется краем, далеким от дома, и скорее походит на страну, что изображается на эмблематической карте с закрученными углами и частично заслоненной тучами, насланными херувимами; на страну туманов, дождей и лесов, откуда страннику вскоре предстоит торопливо отбыть обратно в теплую, знакомую землю. Но для нас такой земли больше не существовало.
Я не был на похоронах Рамона. Его не кремировали, а предали земле, и студент-тринидадец исполнил те обряды, на исполнение которых его уполномочивала кастовая принадлежность. Он читал мои книги и не захотел, чтобы я присутствовал на похоронах. Получив отказ на это присутствие, которого мне так хотелось, я мог лишь воображать эту сцену: мужчина в белом
дхоти[12] несет тарабарщину над трупом Рамона, вершит обряды среди могильных плит и крестов более молодой религии, а вдали, на фоне индустриальных небес, виднеются приземистые постройки лондонских окраин.
Но как можно выдержать такое настроение? Рамон умер, как ему подобало, и был похоронен, как подобало. Вдобавок ко всему, его хоронило бесплатно то самое похоронное бюро, чей заглохший катафалк, встреченный случайно на дороге всего за несколько дней до гибели, Рамон успешно починил.
* * *
Итак, та Индия, что служила фоном моего детства, оставалась территорией воображаемой. Она не совпадала с той реальной страной, о которой я вскоре уже начал читать, чья карта прочно засела у меня в памяти. Я заделался националистом; даже такая книга, как
«Приговор Индии» Беверли Николза, могла вызвать во мне гнев. Но всему этому почти настал конец. На следующий год Индия стала независимой
[13], и я обнаружил, что мой интерес угасает. Хинди я в ту пору почти не знал. Но не одно только незнание языка отчуждало меня от всего, что я знал об Индии. Индийские фильмы были нудными и тревожными, в них смаковались разложение, агония и смерть: погребальная песнь или жалобы слепца становились модными шлягерами. А еще была религия, которой — как одобрительно писал один из авторов в серии мистера Голланца — народ Индии просто одурманен. Я не знал веры, не интересовался верой; я не умел поклоняться — ни Богу, ни святым; а потому целая грань Индии оставалась закрытой для меня.
Потом появлялись люди из Индии — не из той Индии, пришельцами откуда были Златозубка и Бабу, а из этой другой Индии; и я понимал, что с этой страной я не связан никак. Купцы из Гуджарата или Синда были для меня такими же иностранцами, как сирийцы. Они жили замкнутой жизнью, узость которой казалась мне удушающей. Они усердно работали, заколачивая деньгу; они редко выходили на люди; их бледные женщины вели жизнь затворниц; день-деньской из их домов доносились скрипучие, заунывные песни из индийских фильмов. Они не приносили никакой пользы обществу — даже индийской общине. Мы считали их жуликами. Во многом, как я теперь понимаю, они являлись для нас тем же, чем мы сами являлись в глазах других общин. Но их исход не был окончательным; их частный мирок вовсе не думал сходить на нет. Они регулярно ездили в Индию, чтобы закупать и продавать товар, чтобы устраивать свадьбы и вербовать новичков; пропасть, разделявшая нас, лишь ширилась.
Я перебрался в Лондон. Этот город давно уже сделался центром моего мира, и я приложил все усилия, чтобы попасть туда. И там я затерялся. Оказалось, что Лондон — вовсе не центр моего мира. Я ошибся; но отсюда бежать было уже некуда. Это было отличное место для того, чтобы затеряться: город, которого никто до конца не знает, город, который исследуешь от его равнодушного сердца до окраин — до тех пор, пока с годами он не превращался в беспорядочное скопление светлых пятен, разделенных участками неизвестности, через которые прорублены узенькие просеки. Здесь я стал всего лишь обитателем огромного города, лишенным привязанностей, и время все больше отдаляло меня от того, чем я был прежде, все больше вбрасывая меня вглубь самого себя, а я изо всех сил старался сохранить равновесие и уберечь от гибели мысль о том ясном мире, что простирается за пределами этого скопления кирпича, асфальта и паутины железнодорожных путей. Все мифические земли перестали излучать свет, и, находясь в этом огромном городе, я очутился в самом тесном мирке, какой когда-либо знал. Я стал своей квартирой, своим письменным столом, своим именем.
Теперь, когда Индия приблизилась, я ощутил не только привычный страх прибытия в чужую страну. Вопреки собственной воле, вопреки ясному сознанию, Лондону и прожитым годам, сминая и попирая и все прочие страхи, и недавнее воспоминание об александрийском кучере, во мне вдруг пробудилось давнее представление об Индии как о сказочной стране моего детства. Я понимал, что это глупо. Катер был довольно прочным и довольно неопрятным; действовали тарифы для хорошей и плохой погоды; жара была ощутимой и неприятной; город, видневшийся за знойной мглой, был огромным и оживленным; его жители, плывшие на других лодках, отличались малым ростом и олицетворяли все те пугающие явления, с которыми нам вот-вот предстояло столкнуться. Здания с каждой минутой росли. Фигуры людей на пристани различались все четче. Здания напоминали Лондон и индустриальную Англию. Но до чего — вопреки всяким знаниям — обыденным и неуместным казалось все это! Наверное, таковы все сказочные земли: залитые слепящим светом, знакомые до оскомины, с невнятной, замусоренной кромкой моря — пока не наступает миг прощания.
* * *
И тут я впервые в жизни слился с толпой. В моей наружности и одежде не было ничего такого, что выделяло бы меня среди толпы, вечно спешащей к вокзалу Чёрчгейт. На Тринидаде быть индийцем означало выделяться. Быть там кем угодно означало выделяться: несходство с остальными было отличительной чертой каждого. Быть индийцем в Англии означало выделяться из толпы; в Египте — тем более. И вот теперь, в Бомбее, я входил в какой-нибудь магазин или ресторан и по привычке ожидал какой-то особенной реакции окружающих. Но ничего не происходило. Здесь как будто отрицали реальность моего существования. Я вновь и вновь испытывал растерянность. Я оказался безликим. Я мог бы бесследно раствориться в этой индийской толпе. Меня сформировали Тринидад и Англия; мне стало необходимо признание моей особости. Я чувствовал потребность показать, что я — не такой, как все, и не знал, как это сделать.
«Вам нужны темные очки? Судя по вашему акценту, сэр, рискну предположить, что вы — студент, вернувшийся из Европы. Тогда вы поймете то, что я вам скажу. Обратите внимание, как эти линзы смягчают солнечный свет и усиливают цвет. Уверяю вас, производство таких линз — это новая глава в истории оптики».
Значит, я — студент, вернувшийся из Европы. Я ожидал услышать нечто худшее. Но я не стал покупать те очки, которые нахваливал продавец. Я купил «Крукс» — страшно дорогую модель в пристежной индийской оправе, которая сломалась почти сразу же, как только я вышел за порог магазина. Я чувствовал себя слишком усталым, чтобы возвращаться, чтобы говорить голосом, нелепость которого ощущал всякий раз, как открывал рот. Сделавшись менее реальной, чем раньше, из-за брони темных очков, которые дребезжали в сломанной оправе, бомбейская улица разлеталась в ослепительные осколки с каждым моим шагом. Никем не замечаемый, я отправился обратно в гостиницу, прошел мимо толстой нахальной англо-индийской девушки и англо-индийского управляющего с крысиным лицом, выряженного в шелковый костюм янтарного цвета, и улегся на кровать под электрическим вентилятором, свисавшим с потолка.
2. Закон соподчиненья
Рассказывают об одном сикхе, который, возвратившись в Индию после долгих лет отсутствия, уселся рядом со своими чемоданами на бомбейской пристани и расплакался: он уже забыл, что такое индийская нищета. Это типично индийская история — и по характеру, и по выбору персонажа, и по мелодраматическому пафосу. Но что здесь самое индийское — так это отношение к бедности как к чему-то такому, о чем люди задумываются вдруг, посреди прочих житейских дел — и что вдруг исторгает у них сладчайшее из чувств. Это бедность, наша особенная нищета, и до чего же она печальна! Нищета не как стрекало гнева или стремления помочь, но как неиссякаемый источник слез, как упражнение в чистой воды чувствительности. «В тот год они так обнищали, — читаем мы у всеми любимого романиста Премчанда, пишущего на хинди
[14], — что даже попрошайки уходили от их двери с пустыми руками». Да, такова она, наша нищета: страшно не попрошайничество, а то, что попрошайкам приходится уходить от наших дверей с пустыми руками. Такова наша нищета, которая в сотне индийских рассказов на всех языках Индии заставляет хорошенькую девушку торговать собой, чтобы оплатить лечение заболевшей родни.
Индия — беднейшая страна в мире. Поэтому тот, кто замечает ее бедность, не делает сколько-нибудь ценного наблюдения: тысячи чужеземцев, которые приезжали сюда раньше, уже всё это заметили и сказали. И не только чужеземцы. Наши собственные сыновья и дочери, возвращаясь из Европы и Америки, произносят те же самые слова. И не думай, что твой гнев и презрение свидетельствуют о твоей чувствительности. Ты ведь мог заметить и другое: улыбки на лицах детей-попрошаек; проснувшееся прохладным бомбейским утром среди спящих на тротуаре людей семейство — отец, мать и дитя, троица любви, настолько самодостаточная, что им никто не мешает, и от тебя их как будто отделяют настоящие стены: лишь твой взгляд бесчестит их, лишь твое возмущение возмущает их. Ты можешь заметить и мальчика, который подметает свой участок тротуара, расстилает циновку и ложится; его крошечное тельце и сморщенное личико говорят об измождении, о недоедании, но, улегшись плашмя на спину, не замечая ни тебя, ни еще тысяч людей, которые движутся мимо, ступая по узкому проходу между циновками со спящими и стенами домов с пестрыми рекламными плакатами и предвыборными лозунгами, не замечая духоты и испарения от множества тел, этот малыш с усталой сосредоточенностью играет крошечным пистолетиком из синей пластмассы. И лишь твое изумление, твой гнев отказывает ему в праве быть человеком. Но подожди. Поживи тут полгода. Зимой приедут новые путешественники. Они тоже будут возмущаться нищетой, они тоже будут выражать гнев. Ты будешь соглашаться с ними; но в глубине души ты ощутишь досаду; тебе вдруг тоже покажется, что они замечают лишь очевидное; и тебе неприятно будет видеть столь точную пародию на твою собственную былую чувствительность.
Десять месяцев спустя я вновь побывал в Бомбее и поразился моей тогдашней истерике. Воздух был прохладнее, и в переполненных дворах Колабы красовались рождественские гирлянды, звезды иллюминации, вывешенные в окнах, сверкали под темным небом. Мое зрение словно изменилось. Я уже насмотрелся на индийские деревни: узкие, кривые переулки с зеленой слизью в канавах, лепящиеся друг к другу глинобитные домишки, кучи грязи и еды, скопления животных и людей, младенец в пыли — со вздутым животом, весь черный от мух, зато с амулетом на счастье. Я видел маленького заморыша, присевшего по нужде возле дороги, и шелудивого пса, дожидавшегося рядом, чтобы потом сожрать его испражнения. Я видел телосложение жителей Андхры, и оно наводило меня на мысль о возможности обратной эволюции — от одного изможденного тела к другому, вспять, как если бы Природа, уже не способная на прощение, насмехалась сама над собой. Сострадание и жалость здесь не годились — то были тонкости, присущие надежде. Страх — вот что я ощущал. Презрение — вот с чем мне приходилось бороться; поддаться ему означало бы предать себя прежнего. Наверное, под конец меня одолела усталость. Потому что внезапно, в разгар истерики, наступало затишье, и благодаря этому я научился отличать себя самого от того, что я видел, отличать приятное от неприятного, огромный небосвод в закатных красках — от крестьян, умаленных этим неземным великолепием, красоту медной утвари и шелков — от худобы запястий, которые протягивают их вам, развалины — от ребенка, который испражняется среди них: я научился отличать вещи от людей. А еще я понял, что избавление всегда возможно, что в любом индийском городе есть уголок относительного порядка и чистоты, где можно перевести дух и восстановить чувство собственного достоинства. Оказалось, что в Индии наиболее легким и необходимым образом игнорируешь именно самое очевидное. Потому-то, естественно, несмотря на все, что я прочитал об этой стране, ничто не подготовило меня к ней.
Но вначале это очевидное ошеломляло — и я знал, что поблизости нет корабля, на который можно было бы сбежать, как уже бывало в Александрии, Порт-Судане, Джибути и Карачи. Для меня было внове то, что очевидное можно отделять от приятного, от тех зон, где царят уважение к себе
и любовь к себе. Мэритайм-драйв, Малабар-Хилл, огни ночного города, сверкающие в парке имени Камалы Неру, парсийские Башни молчания
[15]: вот что предлагают посетить в Бомбее туристические брошюры, и эти объекты мы осматривали три дня подряд в сопровождении трех добрых людей. Они отгородились стеной страха от того, что показу не подлежало, — от того, другого, города, где жили сотни тысяч людей, которые белым потоком выливались из вокзала Чёрчгейт и вливались обратно, словно торопясь на нескончаемый футбольный матч или спеша с него домой. Это был город, который постепенно обнаруживал себя — в широких, запруженных транспортом и бесконечных пригородных шоссе, в беспорядочном скоплении лавок, высоких доходных домов, разрушающихся балконов, электрических проводов и рекламы, киноафиш, как будто явившихся из мира более прохладного и роскошного — прохладнее и роскошнее, чем киноафиши в Англии и Америке: они обещали большее веселье, более полные груди и бедра, более плодоносное чрево. И дворы за главными улицами: раскаленное пекло, по ночам — уже никакой разницы между домом и улицей, застоявшийся воздух хранит смешанные запахи грязи, окна являют собой не прямоугольники света, а проемы с веревками, одеждой, мебелью, коробками и дают понять, что вещам там место не только на полу. Вдоль дорог, идущих к северу, стоят среди прохладных садов фабричные здания из красного кирпича — словно оказываешься где-нибудь в Мидлсексе. Но только прилегают к этим фабрикам не двухквартирные дома, не дома строчной застройки, а это гнездовье лачуг, эта трущобная свалка. И неизбежная черта пейзажа — проститутки, «веселые девицы» из индийских газет. Но где же в этих вороньих слободках, где целых три борделя иногда помещаются в одной постройке, где никакие сандаловые ароматы из Лакхнау
[16] не способны перебить вонь от сточных канав и нужников, — где же здесь веселье? Похоть, как и сострадание, — одна из тонкостей, присущих надежде. Сперва посетитель ощущал лишь бренность собственных сексуальных позывов. Тут страшно было дерзать, фантазировать: отвращение пересиливало всё. У каждого входа стояли мужчины с дубинками. Кого и от чего они защищали? В тусклых смрадных коридорах сидели невзрачные женщины — донельзя старые, донельзя грязные, усохшие почти до кости; один их вид наводил на мысль, что люди — существа ничтожные. Это были уборщицы, служанки веселых девиц бомбейской бедноты, наверняка везучие — потому что при работе: таково пугающее мимолетное знакомство с бесконечно нисходящими ступенями общественной деградации.
Да, именно ступени деградации: постепенно обнаруживаешь, что, вопреки кажущемуся хаосу, вопреки всем этим суматошным толпам в белых одеяниях, сама численность которых словно ставит под сомнение или делает бессмысленной любую попытку классификации, эта деградация точно расчерчена, как и сам индийский ландшафт, представляющийся из окна поезда всего лишь скоплением крошечных полей неправильной формы, частных прихотей, существование которых не признала бы никакая официальная организация, однако каждый такой участок измерен, изучен, описан, записи о чем, во всей их нелепости, хранятся в различных коллекторатах, где документы о правах собственности, обернутые красной или желтой материей, громоздятся кипами от пола до потолка. Таков итог попытки англичан откликнуться на индийскую потребность: определение, разграничение. Определить — значит выделиться, утвердиться в своем положении, отстраниться от того хаоса, которым вечно угрожает Индия, от той пропасти, на краю которой сидит служанка веселой девицы. Особый фасон шляпы или чалмы, манера подстригать бороду или, напротив, не стричь ее вовсе, костюм западного покроя или
кхади[17] ненадежных политиков, кастовые метки кашмирского индуса или мадрасского брахмана: все эти черты подтверждают твою принадлежность к той или иной общине, твою человеческую ценность, твое призвание — точно так же, как документ из архивного учреждения подтверждает твои права на владение клочком земли.
Подсказки такого рода распространены повсеместно, однако в Индии эта практика имеет чисто индийское происхождение. «Свой долг, хотя бы несовершенный, лучше хорошо исполненного, но чужого. Лучше смерть в своей дхарме, чужая дхарма опасна».
[18] Это сказано в Бхагавадгите, которая за пятьсот лет до Шекспирова Улисса проповедовала «закон соподчиненья»
[19] — и проповедует его по сей день. И человек, который заправляет жалкие постели в гостиничной комнате, оскорбится, если вы попросите его подмести с пола песок. Клерк не принесет вам стакана воды, даже если вы упадете в обморок. Студент, изучающий архитектуру, сочтет унизительным для себя выполнение рисунков или должность простого чертежника. А стенографист Рамнатх, преданный треугольной деревянной доске, стоящей на его столе, откажется отпечатать на машинке текст, который он сам только что записал скорописью.
* * *
Рамнатх служил в правительственном департаменте. Он получал 110 рупий в месяц и был счастлив, пока в его департаменте не появился Малхотра, 600-рупиевый чиновник. Малхотра был индийцем родом из Восточной Африки, получил образование в английском университете и недавно вернулся из командировки в Европу. Рамнатх и его 110-рупиевые коллеги втайне насмехались над индийцами, возвращавшимися из Европы, но все они немного побаивались Малхотры, у которого была грозная репутация. Рассказывали, будто он знает наизусть все параграфы Кодекса гражданской службы; знал он и свои привилегии, и свои обязанности.
Вскоре Рамнатха вызвали в кабинет к Малхотре, и тот быстро продиктовал ему письмо. Рамнатху удалось ловко застенографировать все сказанное, и, испытывая удовлетворение, он вернулся к своему столу с табличкой «Стенографист». Других поручений в тот день ему не поступало; но назавтра, ранним утром, его снова вызвали, и Рамнатх увидел, что Малхотра белый от злости. Его аккуратно подстриженные усы ощетинились, глаза казались колючими. Он недавно принял ванну и выбрился, и Рамнатх ощущал разницу между своими просторными белыми брюками и длинной голубой рубашкой с открытым воротом — и серым костюмом Малхотры, сшитым у европейского портного и дополненным университетским галстуком. Рамнатх сохранил спокойствие. Гнев начальника, независимо от причины, был столь же естественным, как та брань, которой сам Рамнатх осыпал уборщика, дважды в день приходившего чистить уборную его арендованной квартиры в Махиме. При таких взаимоотношениях гнев и брань почти не имели смысла — они лишь напоминали, кому какое место отведено.
— Письмо, которое я диктовал тебе вчера! — сказал Малхотра. — Почему его не принесли мне на подпись вчера вечером?
— Не принесли? Прошу прощения, сэр. Я сейчас проверю. — Рамнатх отлучился и вскоре возвратился. — Я говорил об этом с машинисткой, сэр. Но у Хиралала было очень много работы в эти дни.
— У Хиралала? А ты разве не печатаешь?
— Нет, сэр. Я — стенографист.
— А что, интересно, должен уметь стенографист? Впредь будешь печатать те письма, которые я тебе диктую, ясно?
У Рамнатха вытянулось лицо.
— Слышишь меня?
— Это не входит в мои обязанности, сэр.
— Это мы еще посмотрим. Запиши еще одно письмо. И чтобы оно было готово до обеда.
Малхотра стал диктовать. Рамнатх танцующим пером вывел ряд закорючек, поклонился, когда диктовка кончилась, и вышел из кабинета. Днем его снова вызвал Малхотра.
— Где письмо, которое я диктовал тебе утром?
— Оно у Хиралала, сэр.
— И вчерашнее письмо до сих пор у Хиралала. Разве я не говорил тебе, что теперь ты будешь печатать для меня письма?
Молчание.
— Где мое письмо?
— Это не входит в мои обязанности, сэр.
Малхотра ударил кулаком по столу.
— Но мы уже говорили об этом сегодня утром!
У Рамнатха тоже было такое ощущение.
— Я — стенографист, сэр. Я не машинистка.
— Рамнатх, я подам на тебя рапорт за неподчинение.
— Это ваше право, сэр.
— Не смей говорить со мной таким тоном! Ты не будешь печатать мои письма. Тогда так и скажи мне — скажи: «Я не буду печатать ваши письма».
— Я — стенографист, сэр.
Малхотра отпустил Рамнатха и пошел к начальнику департамента. Пришлось немного подождать в вестибюле, прежде чем его пригласили войти. Начальник был уставшим и снисходительным. Он понимал раздражение Малхотры — ведь тот недавно приехал из Европы. Но до него никто еще не требовал, чтобы стенографист печатал. Разумеется, можно сказать, что в обязанности стенографиста входит и печатание. Но это значило бы слишком широко толковать определение стенографии. Кроме того, это ведь Индия, а в Индии необходимо принимать во внимание чувства людей.
— Если ваша позиция такова, сэр, тогда очень сожалею, но я вынужден сообщить, что вы не оставляете мне иного выбора, кроме как довести дело до Комиссии по делам государственной службы. Я подам на Рамнатха рапорт за неподчинение вам. И через вас я попрошу о полномасштабном расследовании обязанностей стенографиста.
Начальник вздохнул. Малхотра не продвинется далеко по службе. Это ясно; но у него есть определенные права, а просьба о расследовании рано или поздно, пускай не сразу, создаст немалые осложнения: бумаги, вопросы, рапорты.
— Лучше наберитесь терпения, Малхотра.
— Если я правильно понял, сэр, это ваше последнее слово?
— Последнее слово? — рассеянно переспросил начальник. — Мое последнее слово…
Зазвонил телефон — и начальник схватил трубку, улыбнувшись Малхотре. Малхотра поднялся и вышел.
На столе Малхотры не лежало писем на подпись. Он вызвал по телефону Рамнатха, и Рамнатх появился почти немедленно. Его торжество так и проглядывало сквозь подчеркнуто-серьезный вид: склоненные плечи, блокнот прижат к груди в голубой рубахе, взгляд прикован к ботинкам. Рамнатх уже знал, что Малхотра побывал у начальника, и что ему не грозит даже выговор.
— Письмо, Рамнатх.
Раскрылся блокнот; перо побежало по бумаге, выводя закорючки. Но, пока Рамнатх выводил закорючки, его самоуверенность сменилась ужасом. Он стенографировал приказ Малхотры о своем увольнении — за несостоятельность как стенографиста и за дерзость. Уже заносить эти слова скорописью на бумагу было достаточно страшно. Но еще хуже было то, что письмо будет печатать Хиралал. Теперь, похоже, на долю Рамнатха выпадет только унижение. Справляясь с ужасом, он застенографировал письмо, со склоненной головой дождался, когда его отпустят, а когда его отпустили, помчался в кабинет начальника департамента. Он долго прождал в вестибюле; попал в кабинет начальника; почти сразу же вышел из него.
В пять часов Рамнатх постучал в дверь Малхотры и остановился у двери. Дрожащей рукой он протянул несколько отпечатанных страниц; как только Малхотра поднял взгляд, глаза Рамнатха наполнились слезами.
— А, — протянул Малхотра. — Я вижу, у Хиралала быстрее пошла работа.
Ничего не сказав, Рамнатх бросился к столу Малхотры, положил отпечатанные страницы на зеленый блокнот с промокательной бумагой и, как бы продолжая это направленное вниз действие, рухнул на пол и прикоснулся сцепленными кистями рук к начищенным ботинкам Малхотры.
— Встань! Сейчас же встань! Кто это отпечатал — Хиралал?
— Я! Я! — всхлипнул Рамнатх, не поднимаясь с потертой напольной циновки.
— Обращаешься с вами как с людьми — и что же? Вы перестаете подчиняться. Обращаешься с вами как со скотиной — тогда вы вот как себя ведете.
Всхлипывая, обнимая его ботинки, водя по ним ладонями, Рамнатх согласился.
— Ну, теперь будешь печатать мои письма?
Рамнатх ударился лбом об ботинки Малхотры.
— Хорошо. Тогда мы разорвем это письмо. Вот как, значит, нужно работать в этом департаменте.
Всхлипывая, стукаясь лбом о ботинки Малхотры, Рамнатх ждал, когда слоеные обрывки первого экземпляра машинописного текста и его копий упадут в корзину для бумаг. Потом он поднялся, с сухими глазами, и выбежал из кабинета. Рабочий день закончился; теперь, вместе с нескончаемыми толпами, — домой, в Махим. Ему еще только предстояло свыкнуться с унижениями этого нового мира. Над ним надругались, задев самый уязвимый участок его уважения к самому себе, и один лишь страх перед пропастью придал ему сил, чтобы снести это надругательство. Это была маленькая, но трагедия. Он научился повиноваться; значит, выжить он сумеет.
Несть числа подобным трагедиям, запечатленным в сердцах тех, кого он видит среди этих проворных толп одетых в белое людей, торопящихся из дома и домой, как торопятся все городские труженики в каждом из городов мира, — людей, которым адресована вся реклама, для кого ездят электрички, к кому обращаются киноафиши, все эти пестро выряженные женщины с большими грудями и широкими бедрами, наследницы всех тех древнеиндийских скульптур, которые некогда — прежде чем отделиться от породившего их народа — выражали трагические народные чаяния.
* * *
Для Малхотры — в его костюме итальянского покроя, в галстуке английского университета, — общество и его оскорбления тоже были внове. Восточная Африка, английский университет и годы, проведенные в Европе, сделали из него настоящего колониального жителя, так что в Индии он оказался посторонним. Семьи у него не было. Он был всего лишь человеком с окладом в 600 рупий, а значит, его место было среди людей с окладом в 600 рупий. Но на этом уровне не было чужаков — людей, которые бы, как Малхотра, отбросили опознавательные метки, касавшиеся, например, еды, касты и одежды. Малхотра хотел жениться — этого желали ему и родители. Но колониальные замашки побуждали его стремиться к чересчур высоким целям. «Не звоните нам. Мы сами вам позвоним». «Благодарим вас за проявленный интерес. Мы дадим вам знать, как только изучим многочисленные обращения». «Нам не нравится месячный оклад в 600 рупий». Вот что сказал ему сын одного семейства. А ниже этого уровня, по мнению Малхотры, было почти деревенское общество. Значит, женитьба ему не светит; и годы идут, а его родители сокрушаются. Он разве что мог поделиться своей тоской с друзьями.
Одним из них был Малик, тоже «новый человек». Их с Малхотрой связывала лишь общая тоска, потому что Малик был инженером с месячным жалованьем в 1200 рупий. Жил он в хорошо обставленной квартире в одном из лучших районов Бомбея. По лондонским меркам, он был человеком состоятельным. По бомбейским меркам — более чем привилегированным. В действительности же он был несчастен. Европейские инженеры, менее квалифицированные, чем он, получали втрое больше за свои услуги в качестве экспертов и советников; уже сам факт, что они — европейцы, возвышал их в глазах индийских фирм. Такова была история Малика. Будучи «из новых», он оставался в Бомбее посторонним — в большей степени чужаком, чем любой из заезжих специалистов-европейцев, для которых многие двери были открыты. Казалось, качеств Малика достаточно, чтобы попасть в общество молодых управляющих или «ящичников», но при нашем первом знакомстве Малик рассказал мне, каким расспросам его подвергают и по какой причине неизменно отвергают. Он инженер, и это хорошо. То, что он возвратился из Скандинавии, производит впечатление. То, что он работает в известной фирме, имеющей связи с Европой, делает его фигурой многообещающей. За этим следует вопрос: «У вас есть машина?» Машины у Малика нет. Расспросы прекращаются — никто даже не интересуется его происхождением.
Он с грустью рассказывал об этом, сидя в своей старомодной модернистской квартире, которая уже начала понемногу приходить в запустение: нестандартные книжные полки, нестандартная керамика, нестандартный кофейный столик. На все это некому было смотреть, и все это уже походило на старательное прихорашивание девушки, которую никто так и не заметит. С современной мебелью дело обстоит точно так же, как с современной одеждой: если ее некому заметить и оценить, она только нагоняет уныние. На неправильной формы кофейном столике стоит большая фотография в позолоченной рамке, на которой изображена хорошенькая белая девушка с темными волосами и высокими скулами. Я не задавал вопросов, но потом Малхотра рассказал мне, что эта девушка умерла несколько лет назад в своей далекой северной стране. Пока мы разговаривали и пили, магнитофон крутил песни, которые Малик записал еще в бытность студентом в Европе, — песни, которые даже мне казались очень старыми. И сидя в этой бомбейской квартире, окруженной резкими квадратами света и тьмы — другими многоэтажными домами большого города, над блестящей дугой Мэритайм-драйва, в этой комнате с фотографией умершей девушки в центре, под унылые звуки мертвой музыки, мы разглядывали затрепанные фотоальбомы: Малик в пальто, Малик с друзьями, Малик и та девушка — на фоне заснеженных или поросших соснами гор, в кафе под открытым небом. Вот так Малик и Малхотра делились своим прошлым (на полках неправильной формы — Ибсен в подлиннике), так служащие с окладом в 600 и 1200 рупий забывали на время о теперешних унижениях в память о прошлом признании, когда достаточно было того, что они — мужчины и студенты, когда индийское происхождение наделяло их особым шармом.
* * *
Дживану было тринадцать или четырнадцать лет, когда он покинул родную деревню и отправился на поиски работы в Бомбей. Друзей в городе у него не было, пойти было некуда. Он спал на тротуарах. Наконец, он нашел работу в типографии в районе Форта. Платили ему пятьдесят рупий в месяц. Жилья он не стал подыскивать — по-прежнему спал на том участке тротуара, которое уже привык считать своим. Дживан умел читать и писать; он был смышленым и стремился угождать; спустя несколько месяцев он уже разыскивал рекламные материалы для журнала, который печатала его фирма. Заработок Дживана постоянно рос, и казалось, что он стремится добиться успеха и высокого поста в фирме. И вдруг однажды, безо всякого предупреждения, он пришел к начальнику и попросил об увольнении.
— Не везет мне, — сказал его начальник. — Не могу удержать у себя хороших работников. Я их всему обучаю, а они потом уходят от меня. Что за новую работу ты себе нашел?
— Пока ничего не нашел, сэр. Я надеялся, вы мне ее подыщете.
— Ого! Значит, о новом повышении мечтаешь.
— Нет, сэр. Я не о деньгах думаю. Просто вся эта беготня… Ладно, когда я был помоложе. Но теперь мне хотелось бы получить работу в конторе. Хочется сидеть за столом. Я даже согласен меньше получать, лишь бы работать в конторе. Я надеюсь, сэр, что вы поможете мне подыскать такое место.
Дживан был настроен решительно. У его начальника было доброе сердце, и он рекомендовал Дживана в другую фирму в качестве клерка. И здесь Дживан начал быстро продвигаться по службе уже как клерк. Он был таким же прилежным и работящим, как в типографии; он схватывал все на лету, как по волшебству. Вскоре он чуть ли не заправлял всеми делами фирмы. Спустя некоторое время он скопил восемь тысяч рупий — несколько больше шестисот фунтов. Тогда он купил такси и стал отдавать его внаем за двадцать рупий в день: получался месячный оклад Малхотры. Он продолжал работать на ту же фирму. Он по-прежнему спал на тротуаре. Ему было двадцать пять лет.
* * *
Васант рос в бомбейской трущобе. В раннем возрасте он бросил школу и принялся за поиски работы. Он взял привычку слоняться вокруг фондовой биржи. Его начали узнавать в лицо, и биржевые маклеры стали давать ему маленькие поручения. Он стал бегать для них на телеграф. Однажды брокер дал Васанту текст телеграммы, но не дал денег: «Ничего страшного, — пояснил брокер. — Они выдадут мне счет в конце месяца». Так Васант узнал, что, если часто отправляешь телеграммы, то телеграф дает тебе кредит на месяц. Тогда он предложил брокерам свои услуги: он будет забирать все их телеграммы прямо с биржи, отправлять их, а деньги они могут платить ему в конце месяца. Он брал небольшие комиссионные; он скопил немного денег; он даже умудрился арендовать крохотную конурку для «телеграфной конторы». Он читал все телеграммы брокеров, начал хорошо разбираться в рынке. Он сам начал играть на бирже. Разбогател. Теперь он был стар и обеспечен. У него имелась прилично обставленная контора в удобном здании. У него были регистратор, секретари, клерки. Но все это, по сути, было мишурой. Всю важную работу он продолжал делать сам, сидя в той же тесной «телеграфной конторе»: только там ему думалось как следует. Будучи еще бедняком, он никогда ничего не ел в течение дня. Этой привычке он не изменил. Если он ел в течение дня, то его одолевала лень.
Кожевники относятся к низшим из низших, к самым запятнанным из запятнанных, и было необычно — особенно на дальнем юге, где кастовые разграничения проводятся очень строго — встретить двух братьев-брахманов, которые занимались изготовлением кожаных изделий. Их предприятие было маленьким и самостоятельным: дом, мастерские и огород на участке площадью четыре акра. Один брат — тощий, беспокойный — выискивал в городе заказы и подмечал острым глазом фасоны иностранных портфелей, переплетов для ежедневников, фотосумок; второй брат — полный, флегматичный — руководил процессом работы. Лучшей похвалой, от которой оба брата расплывались в глуповато-смущенных улыбках, были слова: «Неужели это у вас сделано? Но эти вещи смотрятся совсем как иностранные. Я бы сказал, американские». Оба придерживались прогрессивных взглядов на то, что тощий брат, одетый в то воскресное утро в шорты цвета хаки и майку-безрукавку, назвал «трудовыми отношениями». «Нужно давать людям счастье. Я сам не могу делать эту работу. И детям своим не позволю. Нужно давать им счастье». Какой-нибудь «оголец», подобранный на улице, получал одну рупию в день; когда ему исполнялось четырнадцать или пятнадцать лет, он мог зарабатывать уже четыре рупии в день; «мастер» получал сто двадцать рупий в месяц и ежегодную премию примерно в двести сорок рупий. «Да, — вторил другой брат.
— Им нужно давать счастье». Они гордились тем, что все в их мастерских изготавливается вручную, но мечтали когда-нибудь создать «промышленную зону», которая будет носить их имя. Сами они происходили из бедной семьи. Начинали с изготовления конвертов. Они их и сейчас продолжали делать. В углу одного цеха на ровной пачке бумаги стоял мальчишка, а «мастер» обрубал край бумаги, опуская секач с широким лезвием рядом с ногами мальчишки; другие мальчишки складывали из листов нужной формы заготовку для конверта. За душой у братьев было семьдесят тысяч фунтов.
* * *
Авантюра возможна. Но знание своей ступени, своего места глубоко въелось в сознание каждого индийца, ни один не уходит далеко от своих истоков. Это сродни физической потребности: магнат ютится в конурке, клерк-предприниматель спит на тротуаре, брахманы-кожевники стремятся оградить своих детей от кастовой порчи. Сколь бы неуместной ни казалась вся эта чужеродная машинерия нового мира — биржевые брокеры, телеграммы, трудовые взаимоотношения, рекламные объявления, — все это тоже прочно вписалось в рамки старинного уклада «соподчиненья». Среди индийцев мало лишних людей. Малик и Малхотра — исключения. Их не интересует та разновидность авантюры, которую предоставляет им общество; их устремления носят чуждый и подрывной характер. Отвергая опознавательные метки, касающиеся пищи, одежды и зависимости, отвергая закон соподчиненья, они сами оказываются отверженными. Они ищут бальзаковских авантюр в обществе, где нет места для Растиньяков.
«Если же законы погибли, весь род предается нечестью, а утвердится нечестье, Кришна, — развращаются женщины рода. Женщин разврат приводит к смешению каст». Это опять из Бхагаватгиты
[20]. А в Индии нет народных смут, не нарушается кастовый порядок, не случаются авантюры, несмотря на игру в бинго воскресным утром в старинных английских клубах, несмотря на заграничные желтостраничные издания
«Дейли миррор», которые хватают жадными наманикюренными руками дамы в изящных сари, и на журнал
«Вуманз оун», который утонченная покупательница, сопровождаемая почтительной служанкой с корзинкой, прижимает к груди, словно примету своей касты; несмотря на танцполы в Бомбее, Дели и Калькутте — со всеми этими унылыми оркестрами, унылыми англо-индийскими девицами у микрофона, с устаревшими словечками, порхающими в воздухе. «Поставь свои шузы вон там». «Вот это да, я просто балдею!» И летают эти имена — Банти, Энди, Фредди, Джимми, Банни. Они настоящие, эти мужчины, откликающиеся на такие имена, и в полной мере отвечают таким именам: по их пиджакам, галстукам, воротничкам и акценту сразу понимаешь, что они действительно Банти, Энди и Фредди. Но они не на все сто — те, за кого себя выдают. Энди еще и Ананд, Дэнни — Дхандева; их браки устроены по сговору, и браки их детей тоже устроят по сговору, обратятся за советами к астрологу и составят гороскопы. Ибо на всех мужчинах и женщинах, собравшихся на танцполе, лежит печать судьбы, с каждого не сводит глаз Рок. Парсы — быть может, приятели или родственники какого-нибудь Фредди, — сбившись в кучку между палубами на прогулочном пароходе из Гоа, могут громко распевать, получая еще больше удовольствия от смятения туземной толпы,
«Барбару Аллен», «Ясеневую рощу» и
«У меня не деревянное сердце». Но тот уголок веселой Англии, который они создали в Бомбее, — это и друидический уголок. Там царит культ огня; дороги там узкие и защищенные, а в конце поджидают Башни Тишины и мрачные ритуалы за стенами, главные ворота которых украшены эмблемой, пришедшей из древности.
Внешний и внутренний миры не разделены физической преградой, как это было у нас на Тринидаде. Они сосуществуют; общество лишь притворяется колониальным, и по этой причине присущие ему нелепости сразу бросаются в глаза. Его мимикрия — одновременно и меньше, и больше, нежели обычная колониальная мимикрия. Это особая мимикрия древней страны, которая на тысячу лет лишилась местной аристократии и научилась давать место чужакам — но только наверху. Мимикрия меняется, а внутренний мир остается незыблемым: таков секрет выживания. Вот почему для огромной части Индии по-прежнему можно положиться на советы путешественника вроде Овингтона, который побывал там в конце XVII-го века. Вчера там подражали моголам; завтра, быть может, будут подражать русским или американцам; а сегодня образцом служат англичане.
Пожалуй, мимикрия — слишком грубое определение для явления, которое представляется столь масштабным и глубоким: она охватывает строительство, железные дороги, систему управления, выучку государственного служащего и экономиста. Возможно, шизофрения — вот понятие, куда лучше объясняющее поведение ученого, который, прежде чем принять должность, советуется с астрологом, чтобы выбрать удачный день. И все же приходится говорить о мимикрии, потому что в большинстве случаев шизофрения скрывается; потому что многое из того, что можно наблюдать, остается простой мимикрией, неуместной и нелепой; и потому что ни один другой народ, каковы бы ни были их различные физические дарования, не способен на мимикрию больше индийцев. Офицер индийской армии при первом знакомстве кажется настоящим офицером английской армии. Он даже внешне умудряется походить на англичанина; у него английская походка и выправка; у него английские манеры, пристрастие к выпивке; английский жаргон. В индийской среде такое подражание индийцев англичанам — нечто вроде болезненной прихоти. Это неубывающая нелепость; и проходит немало времени, прежде чем начинаешь формулировать то, что смутно ощущаешь с самого первого дня: это подражание отнюдь не Англии, не реально существующей стране, а некоей сказочной земле, Англо-Индии — с клубами, саибами, грумами и носильщиками. Такое впечатление, что все общество подпало под чары мошенника-гастролера. Гастролера — потому что сам фокусник давно уехал, потеряв интерес к своим трюкам; однако и после его отъезда англо-индийцы продолжают воскресным утром стекаться в церкви Калькутты, чтобы отстаивать чужую веру, более или менее забытую в той стране, откуда ее завезли сюда; и после его отъезда Фредди кричит: «Поставь свои шузы вон там, Энди!»; и после его отъезда офицер армии восклицает: «Вот это да, я просто балдею!» Фокусник оставил и «гражданские кварталы», и «казармы», оставил людей, «подавшихся в горы»; этими волшебными словами хорошо овладели и пользуются ими по неотъемлемому праву в этой стране, которая наконец-то стала индийской Англо-Индией, где щегольские идеи черпают в уютных пролетарских банальностях на страницах
«Вуманз оун» и
«Дейли миррор», и где миссис Хоксби
[21], эта Милламант
[22] из пригорода, до сих пор служит законодательницей мод.
Но наверху освободилось место, а благодаря мимикрии вывелась новая аристократия — не политиков и чиновников, а управленцев иностранных — в основном британских — фирм. К ним, к этим «ящичникам», как их называют, и перешли те привилегии, что в Индии традиционно приберегают для иноземцев и победителей; в эту новую торгашескую касту отчаянно стремятся проникнуть и Малик, инженер, получающий 1200 рупий в месяц, и Малхотра, государственный служащий, получающий 600 рупий, вместе с тем в своем отчаянии пытаясь осмеивать ее. Мы сейчас так же возвышаемся над ними, как они возвышаются над Рамнатхом в его широких белых хлопчатобумажных штанах индийского покроя, который садится в набитую пригородную электричку, чтобы добраться до своей съемной комнатушки в Махиме; мы так же возвышаемся над ними, как Рамнатх возвышается над уборщицей из квартала «веселых девиц» на Форрас-роуд. Даже низшее сословие парсов мы оставили далеко внизу; до нас уже едва долетают слова песни
«Милый Афтон, тихо теки», которую они поют на прогулочном пароходе из Гоа.
Банти — ящичник. Ему завидуют, его высмеивают по всей Индии. Много насмешек вызывает само это название, и даже сам Банти, укрываясь за надежным аристократическим заслоном, порой лукаво заявляет, будто это название пошло от ящика уличного разносчика, хотя куда более вероятно, что это слово пошло от англо-индийского конторского ящика, который в былые дни таскал особый слуга, о чем с большим чувством рассказывал Киплинг в автобиографии «
Кое-что о себе». Многие завидуют Банти из-за роскошной служебной квартиры, из-за раздутого жалованья и вытекающей из этого возможности — в ныне независимой Индии — безнаказанно уехать из Индии. Из-за этого отъезда над ним тоже насмехаются. Он — легкая мишень. Он новичок в этой касте, но сама эта каста стара и, хотя ее представители занимаются преимущественно торговлей, облагорожена отблеском славы завоевателей, наградами торговли, а теперь еще и самим Банти, которого привлекли именно эти две приманки.
Банти происходит из «хорошей» семьи (армия, Индийская гражданская служба — ИГС); возможно, он даже состоит в родстве с князьями. Он на два или три поколения отдалился от чисто индийской Индии; он — возможно, как и его отец, — учился в индийской или английской престижной частной школе и в одном из двух английских университетов, и вынесенный оттуда акцент, преодолевая все цепкие опасности индийских интонаций, он старательно сохраняет. Он — сплав Востока и Запада; у него «широкий кругозор». Он позволяет исковеркать свое имя, превратив его в ближайший по звучанию английский заменитель, как коверкает местные названия завоеватель-иноземец. Так Фирдаус становится Фредди, Джамшед — Джимми, а Чандрашекхар, явно ни в какие ворота не лезущий, превращается в почти универсального Банти или Банни («Зайчика»). Банти понимает, что ему пойдет на пользу, послужит признаком его широких взглядов смешанный брак, хотя на таком уровне это почти не требует героизма: будучи, скажем, пенджабским индусом, он может жениться на бенгальской мусульманке или на бомбейской парсийке. Освободившись от оков одних кастовых правил, он подчиняется новым, и правила эти ничуть не мягче: привести Джимми, который работает в общей кондиционированной конторе с жесткой мебелью, в дом Энди, у которого собственная контора с мягкой мебелью, — значит, допустить грубую оплошность.
Дед Банти, наверное, обсуждал дела, сидя за кальяном или возлежа на подушках в чудовищно обставленной комнате. Банти обсуждает дела за выпивкой в клубе или за игрой в гольф. Особой нужды в гольфе нет: круг ящич-ников очень узок. Но работа Банти требует от него играть в гольф, дабы заводить выгодные «связи», и по всей стране на клубных площадках для гольфа его можно увидеть вместе со столь же незадачливым Энди, который, выходя под моросящий дождик в Бангалоре, бросает замечание о типично английской погодке. Существуют и другие традиции, которые разнятся от города к городу. В Калькутте по пятницам устраиваются попойки в ресторане «Фирпо» на Чоурингхи. В дни британского господства эти пирушки отмечали отплытие почтового парохода в Англию и окончание рабочей недели, длившейся четыре с половиной дня. Сегодня письма в Англию отправляются авиапочтой, но Банти свято чтит кастовые ритуалы — он хранит традицию, не смущаясь ее происхождением.
Индийцам легко смеяться над Банти — из-за того, как его называют «папочкой» его англоязычные дети; из-за пародийных манер (он встает, как только в комнату входят дамы); из-за чужеземного интереса к украшению интерьера; из-за безукоризненной ванной комнаты и чистых полотенец, которые он предлагает гостям (в Индии внимание к подобным вещам неведомо никому, кроме уборщика сортиров: посещение индийской уборной и индийской кухни для иностранца оборачивается кошмаром). Однако Банти не глуп. Он отдалился от Индии, но отнюдь не желает быть европейцем. Он видит Европу во всем ее блеске; но, поскольку он почти ежедневно общается с европейцами, гордость побуждает его оставаться индийцем. Он силится — пожалуй, чересчур усердно — перемешать Восток с Западом; его покровительственное отношение к индийским искусствам и ремеслам отчасти роднит его с иностранными туристами. В его гостиной, вися рядом с современными индийскими тканями, какой-нибудь причудливый набросок из Кангры, Басоли
[23] или Раджастхана или яркая лубочная картинка Джамини Роя
[24] соседствуют с литографией Пикассо или репродукцией Сислея. Пища, которую предпочитает Банти, — это смешение индийских и европейских блюд; напитки — только европейские.
Но это смешение Востока и Запада в доме Банти раскрывает гораздо больше правды о самом Банти, чем предполагают как его друзья, так и враги. Потому что Банти лишь прикидывается жителем колонии. Он считает себя ровней каждому и господином над большинством; и в нем, как и в каждом индийце, внутренний мир существует цельным и нетронутым. Пускай ему нравится привлекательная светлая кожа его жены и детей. Пускай он всячески попытается привлечь ваше внимание к цвету кожи своих детей, пускай даже сделает это, небрежно отпустив какое-нибудь порочащее замечание. Но их бледность — это не европейская бледность, которая напоминает Банти об индийских альбиносах; в действительности, на всех европейцах — сколько бы им ни подражали, сколько бы пред ними ни заискивали, сколько бы на них ни обижались, — оставалось некое пятно
млеччха — нечистых варваров. Банти принадлежит к европейской касте, однако в Банти жива мощная вера в то, что арийская раса и древность — исключительные богатства. И потому англо-индийские полукровки, какими бы светлокожими и англизированными они ни были, не входят в круг лиц, уважаемых Банти, если только не обладают какими-нибудь выгодными родственными связями; для этой группы в Индии вообще нет места — они существуют лишь как чужаки, и то не на верхушке общества. (Да они и сами не хотели бы, чтобы для них тут нашлось место. Предмет их мечтаний — Англия; и в Англию они уезжают — те, что побледнее, уезжают в Австралию, — и сбиваются в унылые маленькие колонии в местах вроде Форест-Хилла, деловито ходят в церковь в коротких платьях, которые в Индии смотрятся антииндийскими, а в Лондоне — неанглийскими и колониальными; и читают
«Вуманз оун» и
«Дейли миррор» в день выхода — так исполняются романтические мечты.) В своем отношении к Европе Банти — типичный соблазнитель-пуританин: презирает даже тогда, когда насилует.
В воскресенье утром Банти угощает друзей выпивкой у себя в квартире. Если это в Бомбее, то квартира может находиться на Малабар-Хилл; а если в Калькутте, то она хорошо спрятана от трущоб
-басти, снабжающих фабрики рабочей силой.
— Вчера я играл в гольф с замдиректора… — это говорит Энди.
— Ну, а мне директор сказал…
Банти и Энди не обсуждают дела. Они говорят о китайском вторжении.
[25] Но даже сейчас они, похоже, наслаждаются своей близостью к власть имущим. Однако не только поэтому их болтовня вызывает тревогу. Это совершенно особенная болтовня. Как бы ее описать? В ней нет предвзятости — собеседники констатируют факты и не делают никаких выводов. Их хочется потрясти за плечо, сказать им: «Ну же, высказывайте свои предрассудки! Скажите хотя бы: „Будь это в моей власти, я бы сделал то-то и то-то“. Скажите, с чем вы согласны, а с чем нет. Прекратите просто так перечислять отдельные мелкие неурядицы. Рассердитесь же, войдите в раж, раскиньте мозгами. Попробуйте связать между собой все, о чем вы говорили. Сложите это все в какую-нибудь картину, пускай она получится пристрастная. Тогда я хоть что-нибудь пойму. А сейчас складывается впечатление, будто вы говорите о какой-то давно известной истории».
Только услышав эту болтовню, начинаешь задумываться: чем же хотят казаться Банти и Энди? И начинаешь догадываться, что они не такие, какими хотят казаться, что существуют территории, куда они могут удалиться и где до них трудно достучаться. Теперь кажется, что квартира висит в пустоте. Индия — под боком, но в этой квартире ей словно отказывают в существовании: как будто нет нищих и канав, нет истощенных тел, нет плачущего ребенка со вздутым животом, черного от мух, валяющегося в грязи, среди навоза и человеческих испражнений в базарном переулке, нет собак — костлявых, шелудивых, запуганных и трусливых, приберегающих всю злость, как и люди вокруг, только для себе подобных. Обстановка в квартире современная, многие составные части декора — индийские; но она ни на что не опирается. На полках стоят романы, которые можно было бы встретить в десятке других стран: пошлость в наши дни — явление международное, и распространяется она очень быстро. Однако романы предполагают интерес к людям. А эта квартира говорит об отсутствии такого интереса. Да и разве не читал тот образованный брахман романы Денизы Робинс, которые лежали на его полках рядом с массивными томами древних астрологических пророчеств, выпущенных мадрасским правительством? А тот молодой человек, студент Пенджабского университета, разве не читал на досуге книжки в бумажных обложках из серии «Библиотека школьницы»? Разве не станет жена Банти набрасываться в клубе на
«Дейли миррор» и
«Вуманз оун»? Не станет советоваться с астрологом?
Где-то произошел сбой взаимодействия, так и не распознанный, потому что принято думать, что взаимодействие уже налажено. В разных кафе можно встретить группы молодых людей, всерьез говорящих о «театре» и о том, что необходимо донести театр до «народа». Они копируют своих сверстников в Англии, на которых, подобно армейским офицерам, умудряются походить даже внешне; и, как их двойники в Англии, под театром они подразумевают
«Оглянись во гневе», профессионально укороченное до просто
«Оглянись». Готовность соглашаться, основополагающее, непредумышленное отрицание подразумеваемых ценностей: в комнатах Банти, под продолжающуюся досадную болтовню, в то самое время, когда китайцы готовятся прорваться в Ассам, эта мимикрия уже не так смешна, как зрелище, открывшееся моим глазам в первый день в Бомбее, после утомления и истерики: над раскаленной запущенной улицей висел транспарант, рекламировавший постановку
«Как важно быть серьезным» в исполнении оксфордских и кембриджских актеров.
* * *
Отстранение, отрицание, смешение ценностей: всё это туманные слова. Нам требуются более прямые свидетельства; и кое-что, как мне кажется, можно найти в недавнем индийском романе Манохара Малгонкара
«Князья», выпущенном в 1963 году лондонским издательством «Хеймиш Хамилтон».
«Князья» — это средневековая трагедия мелкого средневекового индийского князька, который с провозглашением независимости теряет власть и так остро переживает унижение своего падения, что безоружным отправляется по следам раненого тигра и встречает смерть. Это честная книга, и написана она не без мастерства. Малгонкар хорошо чувствует природу, и его описания охоты и стрельбы доносят очарование этих забав даже до тех, кто никогда им не предавался.
Князь был потомком деканских внекастовыхразбойников, которые, обретя политический вес, за лакх[26] рупий купили у пандитов кастовые привилегии. Сокровища, накопленные ими, остаются в княжеской казне, среди них есть предметы, внушающие почти религиозный трепет, и к ним приставлена особая охрана. Эти сокровища служат к частному удовольствию правящего дома — они напоминают о славном прошлом; немыслимо пустить их на то, чтобы поправить дела в обнищавшем княжестве. Князь — противник прогресса. Он напрямик излагает свои взгляды; а когда британцы решают построить плотину в области, прилегающей к территории княжества, он убеждает своих туземных подданных, живущих в этой области, взбунтоваться и выступить против строительства. Князь выплачивает одаренным мальчикам пять годовых стипендий, по 70 рупий каждая. На себя он тратится щедрее. У него два дворца, тридцать автомобилей, на карманные расходы он отводит 70,000 в год. Расстаться с 1,500, чтобы привезти куртизанку из Шимлы
[27], для него сущий пустяк. Много времени он уделяет своим любимым увлечениям. Он превосходный стрелок и бесстрашный охотник на раненых тигров. «Я богат и знатен, — говорит он, приводя слова из Гиты. — Кто еще сравнится со мной?» Слова у него не расходятся с делом. Когда в 1947 году националисты в княжестве захватывают здание администрации, он идет туда в одиночку и, не обращая внимания на толпу, срывает индийский флаг. Он не может приспособиться к суровым условиям делийского Министерства внутренних дел, а когда понимает, что своих полномочий и княжества ему уже не спасти, то тяжко страдает.
Он не беснуется, не рыдает. Произнеся ту строчку из Гиты, он отправляется безоружным по следам раненого тифа и погибает. Он был богат и могуществен; он познал падение.
Таково средневековое представление о трагедии.
Все сводится лишь к одному уроку:
Должны мы умереть, о милый Спенсер,
Лишь потому, что мы живем. О Спенсер,
Так и другие все: они живут,
Чтоб умереть, возносятся, чтоб падать.
[28]
Но озадачивает здесь другое — то, что так нам представляет дело сын князя, он же повествователь. Он родился в 1920 году, учился в частной школе для княжеских сыновей — английского образца, с английскими учителями, а во время войны служил офицером в армии. «Сдается мне, — признается рассказчик, — что с годами я все больше склоняюсь на сторону (отцовских) ценностей». После частной школы, которая стремилась искоренить чванство, разделявшее князей больших княжеств и князей мелких княжеств; после службы в армии; после романа с англо-индийской девушкой, встреченной в Шимле:
Британцы прекрасно умели сопротивляться любым переменам. В Гималаях была весна, а Шимла оставалась в точности такой, какой была пятьдесят или сто лет назад, и легко было представить, что миссис Хоксби по-прежнему живет за углом.
— Мне нравятся ваши духи. Что это за духи?
— «Шанель № 5». У меня только капелька осталась, но я решила истратить ее — ведь я же встречаюсь с князем.
— О, благодарю! Я куплю вам еще таких духов.
После делийских клубов:
«Повеселиться? — воскликнул я. — Почему бы нет? Разумеется, нужно повеселиться. Не каждый день становишься отцом, черт побери! А что за веселье ты предлагаешь?» Я несомненно научился вести разговор — ведь я провел в Нью-Дели уже два года: разговор должен быть бессмысленным, неискренним, но легким. Нужно, чтобы он искрился и пенился, а остальное не важно.
Вот как далеко нам предстоит отойти от князя, от его заброшенного княжества и от местной начальной школы, где в самом начале истории учились рассказчик, Абхайрадж, и его сводный брат Чарудатт. Их не смешивают с неприкасаемыми — те сидят сзади, на полу. Однажды утром на перемене школьники начинают гонять по веранде манговую косточку. Неприкасаемые наблюдают за игрой с расстояния. Вдруг один из них встревает в игру, сбивает с ног Чарудатта. Кастовые мальчики, в том числе Абхайрадж, осыпают неприкасаемых бранью: «Пожиратели коров, вонючки, шкурники коровьи!» А мальчишку-обидчика они бросают в пруд и туда же зашвыривают его школьную сумку. «Бастард! — кричит Чарудатту мальчишка из пруда.
— Никакой ты не князь. Ты сын шлюхи!»
Это слово, «бастард», вызывает у Абхайраджа любопытство. Он спрашивает своего учителя английского, мистера Мортона, что это слово означает. Мистер Мортон в нерешительности. «Мне было понятно его смущение. Он был человеком чувствительным и знал про Чарудатта и про многочисленных
апрадж в нашей семье — внебрачных сыновьях правителей». Такова чувствительность мистера Мортона. Ни учитель, ни ученик даже словом не обмолвились о той сцене, что разыгралась возле школы.
На следующий день неприкасаемый мальчишка, Канакчанд, приходит в школу без учебников. Его прогоняют с урока, и после занятий Абхайрадж видит, как тот, «жалкий и расстроенный, сидит на корточках на ограде». Там же он видит его и на следующее утро. Абхайрадж заговаривает с ним и выясняет, что мальчишка не может оставаться дома, потому что отец высечет его, если узнает, что его учебники испорчены; а на урок он не может пойти потому, что у него больше нет учебников, а на новые нет денег. Абхайрадж отдает Канакчанду все книжки из своей сумки. Но среди них одна книжка —
«Сокровище большой дороги» — не учебник, а подарок мистера Мортона. По случайности в тот же день мистер Мортон спрашивает про эту книгу; Абхайрадж рассказывает ему правду; учитель все понимает. На следующее утро Канакчанд подходит к Абхайраджу и возвращает ему
«Сокровище большой дороги». «Это же подарок. Вот, я принес его вернуть».
Это жестокий, но трогательный эпизод, верно переданный: от насмешек и презрения — до порыва жалости и великодушия. Но вот мы читаем фразу, которая сразу все искажает, сразу выбивает почву у нас из-под ног. «Вначале он был безупречен, как серебряная рупия, — замечает Абхайрадж. — Отчего же он сделался потом таким озлобленным и испорченным?» Канакчанд — безупречный, как серебряная рупия! Канакчанд — неприкасаемый, пожиратель коров, вонючка, скорченный на полу в дальнем конце класса, два дня просидевший на ограде возле фонтанов, потому что остался без книжек! В чем заключалась его безупречность — в покорности своему униженному положению? Или в нежелании обокрасть того, кто сделал ему ценный подарок?
Между мальчиками завязывается дружба. Однажды Канакчанд дарит Абхайраджу огромные семена бобов, ни на что не годные: их можно только держать в руках и разглядывать, и Абхайрадж отмечает «непонятную грусть от этого первого знакомства с игрушками бедноты — с семенами бобов, подобранными с земли в лесу». Но это еще не все. «Тогда я этого не сознавал, но Канакчанд и стал для меня первым настоящим знакомством с трепетной бедностью Индии». Это необычное слово — «трепетная». Поначалу оно кажется излишним; потом оно кажется театральным и одновременно странно будничным; затем оно кажется данью некоему традиционному чувству.
Безусловно, бедность Канакчанда носит театральный характер. Его обед состоит из одной черной лепешки-
роти с острым перцем и луком.
Казалось, для него даже луковица — лакомство, а просяная лепешка и красный перец, перемешанный с арахисовым маслом, служат ему пищей на целый день. Я словно зачарованный наблюдал, как он ест — с жадностью и удовольствием… Откусывая то от обугленной просяной лепешки, то от луковицы, он проглотил все до последней крошки. Покончив с едой, он дочиста облизал пальцы.
Это похоже на описание повадок какого-нибудь редкого животного. Бедность как случайно выпавшее зрелище: вот наша бедность. Абхайрадж предлагает Канакчанду шоколадку. Канакчанд отправляет ее в рот вместе с оберткой. Абхайрадж удивленно вскрикивает. Канакчанд выплевывает шоколадку и — безупречный, как серебряная рупия, не забывайте, — роняет любопытное замечание: «О, я не знал. Я подумал, что Бал-раджа хотел подшутить надо мной — скормить мне зеленую бумажку».
Канакчанд умен, но плохо владеет английским. Чтобы выиграть одну из пяти княжеских стипендий и поступить в среднюю школу, ему нужно написать сочинение на английском. Сочинение пишет за него Абхайрадж; Канакчанд выигрывает стипендию; и настает день, когда на торжественное вручение должен прибыть сам князь. Присутствуют там и родители Канакчанда, «безумно счастливые». «Правда, честность, вера в Бога и, главное, преданность, — так начинает князь свою речь, — гораздо ценнее, чем стяжание земных наград». И с этими словами он поднимает кнут и бьет Канакчанда так, что тот падает наземь, ударяет его еще дважды, а потом «брезгливо вытирает руки о носовой платок». Абхайрадж приходит в ужас. Он убеждает свою мать позаботиться об образовании Канакчанда. Но Абхайрадж замечает, что Канакчанд никогда не выказывает «благодарности»; и Абхайрадж мучается — не из-за унижений Канакчанда, а от «чувства вины из-за того, что превратил отважного, честолюбивого мальчишку в злобного бунтаря»: вновь эта искажающая риторика, это выбивание почвы из-под ног.
Проходят годы. Канакчанд становится видным деятелем национального движения. Он жаждет отомстить, и с объявлением независимости месть становится возможной. Теперь нам рисуют его физически отталкивающим и презренным — то повелительным, то раболепным. Маленькое княжество князя перестает существовать. Канакчанд, добавляя к обиде оскорбление, возглавляет демонстрацию, которая проходит по улицам с криками: «Раджу крышка!»
Я подумал, что никогда не прощу этого Канакчанду. Он ведь пинал человека, который и так уже упал, но еще продолжал храбриться. Он унижал человека, который все еще был убежден, что ему нет равных среди людей. А это поистине баранья месть, как и сказал мой отец.
Неподвижная верхняя губа, надменно подтверждающая средневековые понятия об иерархии, вынесенное из частной школы представление о порядочности, поощряющее противоположную страсть. И Абхайрадж приносит обет — не просто во имя школьной справедливости, хотя может показаться, что это так. Он клянется отомстить за отца. Он отомстит, унизив Канакчанда старым способом — теперь, оглядываясь вспять, уже ясно, что способом заслуженным, положенным ему по статусу. Абхайрадж прилюдно высечет его; он высечет его кнутом. «Он из тех, кто вечно скулит, из тех бедолаг, которые так и не научились сносить наказание, не показывая боли». И этим наказанием заканчивается книга. Оно представлено для нашего одобрения; именно оно, после трагедии падения князя, восстанавливает душевный покой рассказчика и, по авторскому замыслу, должно восстановить наш покой.
Бедность Индии
трепетна. Вина, которая лежит на Абхайрадже из-за того, что его отец высек Канакчанда, не годившегося в хорошие ученики, как потом выяснилось, — эта вина заключается лишь в том, что он превратил отважного мальчишку в бунтаря. И вся жестокость Индии исчезает, как по волшебству, за фразами из западных учебников, такими же пустыми, как этот эпитет
трепетная: рассказчик видит, что его отец отказывает «народу» в «основных правах», и говорит о «коллективном волеизъявлении народа». Я нигде не вижу той Индии, которая мне знакома: бедные поля, трехногие собаки, вокзальные носильщики в красных куртках, несущие на головах тяжеленные чемоданы с оловянными уголками. «Горы были вымыты дождем, небо сияло яркой голубизной, а воздух был напоен ароматами сосен и цветов и пронизан почти электрической тишиной, которую нарушали пронзительные возгласы рикш, тянущих повозки». Вот как появляется тут рикша, эта тягловая скотина, низший из низших: он остается невидим, он упоминается всего лишь как источник каникулярного звука, как штрих к романтичной атмосфере Шимлы. Вот пример индийского отстранения и отрицания; вот пример путаницы индийской Англо-Индии.
* * *
Все это передается и путешественнику. Нищие делаются безликими. Затем и все прочее — танцполы, подражание Западу — могут стать предметом мягкой сатиры. Но сперва нужно научиться игнорировать фон, игнорировать очевидное.
3. Колониальный житель
Воистину, Индия — страна нелепиц.
М. К. Ганди
Мужчина быстро проходит среди пассажиров в переполненном пригородном поезде и раздает листовки. Листовки перепачканы и помяты; на трех языках они рассказывают о бедствиях семьи беженцев. Некоторые пассажиры читают листовки, но большинство — нет. Поезд подъезжает к станции. Раздатчик листовок выходит в одну дверь, а в другую входят женщина с мальчиком. Не это обещала листовка. В ней говорилось об обнищавшей бенгалке с шестью детьми, а не об этом маленьком мальчике — слепом, худом, полуголом, покрытом коростой грязи. Он тихонько и непрерывно скулит, из его воспаленных красных глаз катятся слезы, руки подняты в мольбе. Женщина подталкивает и направляет мальчика, чтобы он двигался по вагону, она тоже плачет, стонет и шустро, без выражений благодарности, собирает мелкие монетки, которые почти не глядя суют ей пассажиры. Она не останавливается, чтобы клянчить у тех, кто монеток не протягивает. Когда поезд снова останавливается, они с мальчиком уже стоят у выхода, готовясь перейти в другой вагон. Выходят. Заходит другой мужчина. Он тоже спешит. Он проталкивается по вагону, старясь собрать как можно больше листовок до следующей остановки.
Все совершалось быстро; все, включая пассажиров, хорошо натренированы; никакого переполоха не произошло.
На грязных деревянных табличках трафаретные надписи на трех языках предостерегают пассажиров от раздачи милостыни — как предупреждают и об опасности принимать сигареты от незнакомцев, так как «они могут содержать наркотик». Но подавать нищим — хорошо. Нищий следует священному призванию; он даже беднякам помогает проявить жалость и добродетель. Возможно, мальчика ослепили нарочно, чтобы таскать потом по пригородным поездам; да и организация хромает — листовки раздают не те. Но это неважно. А важно само подаяние, этот машинальный акт милосердия, который служит и машинальным жестом благочестия — это все равно что поставить свечку или крутануть молитвенный барабан. У попрошайки, как у священника, имеется свое предназначение; как и священник, он может нуждаться в организации.
Но вот мнение наблюдателя, который с этим не согласен:
Будь на то моя власть, я бы положил конец всем этим садавратам, где раздают бесплатную еду. Они развращают народ, поощряют лень, праздность, лицемерие и даже преступность. Такое неуместное милосердие ничего не добавляет к богатству страны — ни к материальному, ни к духовному… Я понимаю, что… гораздо труднее организовать такое учреждение, где бы перед раздачей еды людям давали честно потрудиться… Но я убежден, что в конце концов это будет дешевле — если только мы не хотим, чтобы увеличивалась в геометрической прогрессии армия дармоедов, которыми и так кишит эта земля.
Это взгляд иностранца, который не понимает предназначения нищего в Индии и подходит к Индии с европейскими мерками. Его предложение слишком радикально, чтобы иметь успех, и эти его прожекты, касавшиеся попрошайничества, разумеется, потерпели крах.
* * *
Гора Шанкарачарья, возвышающаяся над озером Дал, — одно из красивейших мест в Шринагаре. На гору нужно взбираться с большой осторожностью, потому что индийские туристы используют ее нижние склоны как сортир. Если вы случайно наткнетесь, например, на группу из трех женщин, дружно справляющих нужду, то они захихикают: стыдно должно быть не им, а вам, случайно подсмотревшему эту сцену.
В Мадрасе автобусная остановка возле здания суда — одно из излюбленных отхожих мест для индийцев. Приходит путешественник; в ожидании автобуса он задирает дхоти, испражняется в канаву. Приезжает автобус, человек садится в него; уборщица убирает дерьмо. В том же Мадрасе — обратите внимание на вон того патриарха в очках, что проходит мимо Университета у марины. Без предупреждения он задирает дхоти, открывая голую задницу — если не считать тонкой веревочки трусиков; садится на корточки, мочится на тротуар, неторопливо встает; со все еще задранным дхоти поправляет трусики, опускает дхоти и продолжает прогулку. Эта марина — популярное место вечерних прогулок, но никто даже не оглядывается на того мужчину, как никто и не отворачивается в смущении.
В Гоа вам, пожалуй, захочется совершить ранним утром прогулку по проспекту, обнесенному балюстрадой и идущему вдоль реки Мандови. А двумя метрами ниже, у кромки воды, насколько хватает взгляда, вытянулась, словно полоса водорослей, колыхающихся у берега, цепочка людей, сидящих на корточках. Для жителей Гоа, как когда-то для жителей императорского Рима, испражнение — разновидность общественного досуга: они садятся поближе друг к другу, переговариваются между собой. Справив нужду, они приближаются к воде — все еще со спущенными штанами, с голой задницей — и моются. Потом возвращаются на проспект, садятся на велосипеды или в машины и едут себе дальше. Вся прибрежная полоса загажена; прямо среди экскрементов разделывают и режут рыбу, которую выгружают из лодок; и примерно через каждые сто метров красуется бело-голубая эмалированная табличка, которая по-португальски грозит штрафом за загрязнение реки. Но никто не замечает этих угроз.
Индийцы испражняются повсюду. В основном — возле железнодорожных рельсов. Но испражняются они и на пляжах, испражняются в горах, испражняются на речных берегах, испражняются на улицах — и никогда не ищут укрытия. Мусульмане, с их традициями чадры и затворничества, иногда находят укромные местечки. Но тогда для них это религиозный поступок, полный самоотречения, потому что можно услышать, что крестьянин — не важно, мусульманин или индуист — страдает от клаустрофобии, если ему приходится пользоваться огороженной уборной. Один симпатичный юноша-мусульманин, студент смехотворного учебного заведения в городе ткачей в штате Уттар-Прадеш, элегантно одевавшийся «под мистера Неру» — вплоть до петлицы — высказал другое объяснение. Индийцы — народ поэтичный, сказал он. Он и сам всегда ищет открытое местечко, потому что он — поэт, любитель Природы, и это главная тема его собственных стихов на урду; а что может быть поэтичнее, чем присесть на рассвете на берегу реки?
Об этих присевших на корточки людях — которые для путешественника вскоре делаются столь же вечными и символичными, что и «Мыслитель» Родена, — никогда не говорят; о них никогда не пишут; их не упоминают в романах и рассказах; они не фигурируют в художественных и документальных фильмах. Можно счесть это умолчание частью допустимого намерения приукрасить действительность. Но правда состоит в том, что
индийцы просто не замечают этих присевших людей и даже могут совершенно искренне отрицать их существование: такая коллективная слепота проистекает из индийского страха перед скверной и порожденного им убеждения, что индийцы — самый чистоплотный народ в мире. Религия предписывает им ежедневное омовение. Это предписание лежит в основании всего свода поведения; издревле разработаны подробнейшие правила касательного того, как уберечь себя от всех мыслимых скверн. Существует один-единственный «чистый» способ справить нужду; при совокуплении разрешается пользоваться только левой рукой; пищу следует брать только правой рукой. Все это тщательно расписано и освящено. Поэтому замечать испражняющихся людей — значит, искажать картину мира; если ты их видишь, значит, не умеешь разглядеть за этим правду. И дамы в клубе Лакхнау, сперва отказавшись признать, что индийцы испражняются прилюдно, потом с гримасой отвращения напомнят вам о привычках европейцев: правой рукой они пользуются при соитии, берут ею и туалетную бумагу, и еду; моются раз в неделю в ванне с водой, загрязняемой телом купальщика; умываются в раковине, куда сами же плюют и харкают. Такие эмоционально набросанные картины доказывают не столько нечистоплотность Европы, сколько надежность Индии. Таков индийский метод спора, индийский угол зрения: так пропадают с глаз и фигурки испражняющихся людей, и грязь на обочине.
Но вот снова взгляд того наблюдателя:
Вместо пригожих деревушек, которые украшали бы нашу землю, у нас всюду кучи дерьма. Подъезжать ко многим селам, мягко говоря, неприятно. Часто хочется зажмурить глаза и заткнуть нос — столько там грязи, такая стоит вонь.
Что нам можно и необходимо перенять у Запада — так это премудрость городской ассенизации.
Из-за наших вредных привычек мы загрязняем берега наших священных рек и создаем богатую питательную среду для мух… Маленькая лопатка — вот средство спасения от большой неприятности. Выбрасывать куда попало нечистоты, сморкаться и плевать на дорогу — это такой же грех перед Богом, как и перед человечеством, такие поступки выдают прискорбное отсутствие заботы о других людях. Человек, который не присыпает землей свои испражнения, заслуживает тяжелого наказания, даже если живет в лесу.
Этот наблюдатель замечает то, чего не замечает ни один индиец. Но теперь он сам признался в иностранном происхождении своих идей. Знаменитое ежедневное омовение индийца он часто обличает, называя его «подобием омовения». Он не желает видеть намерения за ритуальным действием — и намерение это отождествлять с действительностью. Ассенизация была одной из его навязчивых идей. И точно так же, как в Лондоне он читал книги о вегетарианстве и стирке белья, а в Южной Африке — книги о счетоводстве, так и об этом предмете он тоже читал.
В своей книге о сельской гигиене доктор Пур говорит, что экскременты следует закапывать в землю не глубже, чем на 20–30 см. Автор напоминает, что в поверхностном слое земли живут мельчайшие организмы, которые, наряду со светом и воздухом, легко проникающими туда, за неделю превращают экскременты в хорошую, мягкую, приятно пахнущую почву. Каждый деревенский житель может лично проверить это.
Вот очень характерная запись этого наблюдателя. Его интерес к проблемам канализации, которые в Индии — удел одних только уборщиков отхожих мест, — отнюдь не встретил широкой поддержки. Достаточно лишь заглянуть в уборные международного аэропорта в Нью-Дели.
Индийцы испражняются повсюду — гадят на пол, в мужские писсуары (можно лишь гадать, в результате каких йогических выкручиваний им это удается). Опасаясь скверны, они садятся не на унитазы, а на корточки, и все туалетные кабинки уделаны следами их неудачной стрельбы. Никто этого не замечает.
* * *
В Европе, да и в других странах, в железнодорожном спальном вагоне лучшим местом считается верхняя полка. Там укромнее, не мешают свешивающиеся чужие ноги или раскрывающиеся двери. В Индии же, где у верхней полки есть дополнительное преимущество — там меньше пыли, — люди предпочитают нижнюю полку, и не потому, что там легче постелить белье — для этого существуют проводники и прислужники, — а потому, что для карабканья на верхнюю полку нужны физические усилия, а физических усилий следует избегать как унизительных.
Билет в этот экспресс до Дели заказывал для меня высокопоставленный железнодорожный чиновник, поэтому мне, естественно, отвели нижнюю полку. Моему спутнику было лет сорок. Судя по костюму, он мог быть или старшим клерком, или университетским преподавателем. Он был расстроен тем, что ему досталась верхняя полка. Он жаловался на это сначала проводнику, а потом, когда поезд тронулся, — самому себе. Я предложил ему поменяться местами. Он воспрянул духом, но просто продолжал стоять и ничего не делал. Проводник уже застелил ему постель на верхней полке, и теперь он собирался дожидаться следующей остановки — а до нее оставалось еще два часа, чтобы пришел проводник и постелил ему внизу. А мне хотелось сейчас же лечь отдохнуть. И я взялся за работу проводника. Тот человек улыбался, но помочь не предлагал. Я вышел из себя. Его лицо сразу же приняло то выражение индийской непроницаемости, которое указывает на то, что общение прекращено, что индиец устраняется от ситуации, понять которую он не в силах. Физический труд — это унижение; только иностранец может думать иначе:
Разрыв между умственным и телесным трудом превратил нас в самую недолговечную, самую неизобретательную и самую эксплуатируемую нацию на земле.
Этот наблюдатель, этот обреченный на провал реформатор, разумеется, — Мохандас Ганди. Махатма, «великая душа», обожествленный отец нации: его именем названы улицы, парки и площади, его память повсюду чтят статуями и
мандапами[29], а в Дели — Раджгхатом
[30], куда посетитель должен приближаться, ступая босиком по раскаленному песку; его украшенные гирляндами портреты висят во всех лавках, торгующих бетелем, висят в сотнях контор: человек с обнаженной грудью, в очках, излучающий свет и добро; его внешность настолько знакома, что, упростившись до карикатуры, до контуров, высвечиваемых электрическими лампочками, она уже стала привычной частью украшений для дома, где справляется свадьба. И, несмотря на все это, он остается наименее индийским из индийских вождей. Он глядел на Индию так, как не умел глядеть на нее ни один индиец; в его видении была прямота — и в самой этой прямоте заключалась революционность. Он замечает в точности то, что замечает здесь иностранец; он не согласен игнорировать очевидное. Он видит и нищих, и бесстыжих пандитов, и грязь Бенареса; он видит чудовищные антисанитарные привычки врачей, адвокатов и журналистов. Он видит черствость индийцев, нежелание индийцев смотреть в глаза реальности. Ни одно индийское воззрение, ни одна индийская проблема не ускользает от него; он смотрит прямо в корни закосневшего, разложившегося общества. И картина Индии, проступающая из его учений и наставлений, сохраняется и тридцать лет спустя: живое доказательство того, что его идеи потерпели крах.
Он видел Индию так ясно отчасти потому, что был колониальным жителем. Он окончательно обосновался в Индии лишь в сорок шесть лет, до этого проведя двадцать лет в Южной Африке. Там он видел, как живет индийская община, разлученная с индийской средой; контраст способствовал четкости видения, критичность и разборчивость — самоанализу. Ганди являл собой колониальную смесь Востока и Запада, индуизма и христианства. Неру — в большей степени индиец; он питает романтическую любовь к стране и ее прошлому; он все принимает близко к сердцу, и ту Индию, о которой он пишет, узнать нелегко. Ганди же никогда не теряет критичной остроты взгляда, все меряющего Южной Африкой; он никогда не впадает в хвалебный тон, разве что на туманный индийский манер, восхищаясь славой Древней Индии. Но именно Ганди, а не Неру, придает одинаковое значение и решениям, принятым на конгрессе, и тому обстоятельству, что тамильские делегаты ели отдельно, боясь, что их осквернит вид нетамильцев, и тому, что некоторые делегаты, позабыв об отсутствии уборщиков экскрементов, ходили справлять нужду на веранду.
И ударение, которое он делает, правильно: ведь речь здесь идет не просто о проблемах гигиены. Взяв за отправную точку этот случай, когда делегаты важной ассамблеи испражнялись на веранде, можно проанализировать состояние всего больного общества. Гигиена связана с кастой, каста — с черствостью, несостоятельностью и безнадежной разобщенностью страны, разобщенность — со слабостью, а слабость — с владычеством чужеземцев. Вот что увидел Ганди и чего не видел в упор ни один истинный индиец. Для этого требовался прямой и бесхитростный взгляд с Запада; и полезно вспомнить, что сразу после возвращения из Южной Африки Ганди изрекает христианские, западные банальности с настоящим пылом первооткрывателя: «Перед Престолом Всевышнего нас спросят не о том, что мы ели или к кому прикасались, а о том, кому мы служили и как. Если мы поможем хотя бы одному несчастному, попавшему в беду, мы заслужим милость в глазах Бога». И новозаветный тон не кажется здесь неуместным. Именно в Индии, именно благодаря Ганди нам вдруг становится понятно, какой революционной была когда-то ныне столь обычная христианская этика. Индуисты, поднапрягшись, могли бы разглядеть в этом идеале служения «бескорыстное деяние», о котором говорится в Бхагаватгите. Но это лишь извечное индийское искажение, извечная индийская попытка все новое переварить и свести на нет. Бескорыстное деяние Гиты — это призыв к самоосуществлению и в то же время подтверждение своего статуса; оно противоположно тому служению, которое Ганди, индийский революционер, выдвигает в качестве выполнимого повседневного идеала.
Дух служения, экскременты, труд ради хлеба, честь уборки мусора и снова экскременты: навязчивые идеи Ганди — даже когда мы уберем ненасилие, когда оставим в стороне все его представления о собственной роли, и сосредоточимся на его анализе Индии — кажутся несовместимыми и порой неприятными. Но они стояли для него рядом; они образуют логическое единство; они соответствуют прямоте его колониального мышления.
* * *
Поглядите на эту четверку, что моет ступеньки вон той отвратительной на вид бомбейской гостиницы. Один выливает воду из ведра, второй скребет по плиткам метлой из прутьев, третий сгоняет тряпкой грязную воду вниз по ступенькам, чтобы она стекала в ведро, которое держит четвертый. После такой «уборки» ступеньки остаются такими же грязными, какими были; только теперь над почерневшими плитками плинтуса стены заново забрызганы грязной водой. Уборные и ванные комнаты чудовищны: из-за этих ежедневных поливок волглое дерево вконец прогнило, а бетонные стены позеленели и почернели от слизи. И нельзя пожаловаться на то, что гостиница грязная. Ни один индиец с вами не согласится. Тут ведь держат четверых уборщиков, а в Индии достаточно того, что уборщики ежедневно приходят на работу. Им не обязательно
наводить чистоту. Это лишь вспомогательная часть их предназначения, которое состоит в том, чтобы
быть уборщиками, униженными существами, и совершать движения, подобающие этому униженному положению. Когда они подметают, то непременно горбятся; натирая полы в фешенебельном делийском кафе, они ползают на карачках и снуют, как крабы, под ногами посетителей, — стараясь никого не коснуться, никогда не поднимая глаз, никогда не поднимаясь. В городе Джамму можно увидеть, как они собирают уличную грязь голыми руками. Это — унижение, которого требует от них общество, и они охотно ему покоряются. Они — грязь; они и хотят быть похожими на грязь.
Класс — это система вознаграждений. Каста же замыкает человека в пределах его предназначения. Отсюда вытекает — поскольку речь не идет ни о каких наградах, — что обязанности становятся несущественными: важно само положение. Человек есть его заявленное предназначение. Индии не свойственны тонкости. Бедняки здесь худые, а богачи — толстые. Мелкий марварский купец в Калькутте поедает множество сладостей, чтобы обрасти жиром, который будет свидетельствовать о его благосостоянии. «Какой ты сегодня толстый и свежий» — такой комплимент бытует в Пенджабе. И в каждом городишке Уттар-Прадеша можно увидеть, как в коляске велорикши сидит богатый, очень тучный человек в прохладной белой одежде, а везет его бедный, очень худой человек, преждевременно состарившийся, одетый в лохмотья. Попрошайки скулят. Святые от всего отказываются. Политики — важные, неулыбчивые. А кадет Индийской административной службы, когда его спрашивают, почему он поступил на эту службу, немного подумав, отвечает: «Потому что это престижно». Его товарищи, стоящие рядом, согласны с ним. Это честный ответ; и он объясняет, почему, когда вторгнутся китайцы, администрация Ассама окажется недееспособной.
Обслуживание — понятие, чуждое Индии, а предоставление услуг давно уже перестало быть кастовым понятием. Предназначение предпринимателя — в том, чтобы зарабатывать деньги. Допустим, он хочет продавать обувь в России. Вначале посылает туда хорошие образцы товара; получив заказ, он отправляет туда целую партию обуви с картонными подошвами. Преодолев стену недоверия, которое иностранцы питают к индийским дельцам, он получает из Малайи заказ на медикаменты. И вместо лекарства поставляет подкрашенную воду. Его обязанности как купца — не в том, чтобы поставлять настоящие лекарства, или качественную обувь, или какие угодно лекарства и обувь: его обязанности — зарабатывать деньги любым способом. Обувь присылают обратно; подкрашенная вода вызывает жалобы. Такова уж судьба купца; ему приходится отвечать по суду. Так он перескакивает от одного предприятия к другому, с обуви переходит то на лекарства, то на чай. Чайная плантация требует тщательной организации; скоро он губит и ее. Близорукость и нечестность тут не при чем. Купец просто выполняет свое предназначение. Позже, вспомнив уже о другой стороне своего предназначения, он может вообще забросить нажитые капиталы и закончить свои дни нищенствующим бродягой —
садху.
Портной в Мадрасе продаст вам брюки с неподогнутым срезом. После первой же стирки они сядут и потеряют вид. Зато в пояс вшит ярлычок с его именем, и при расставании он просит вас рассказать о его мастерской другим. Он сможет заработать, только если у него будут заказчики; и он будет заполучать новых заказчиков — не потому, что шьет хорошие брюки, а потому, что его имя сделается известным. А вот другой портной, шьющий рубашки, раздает листовки, где сообщается об открытии его мастерской. Японцы вытеснили его из Западной Африки. «У них отделка лучше». Он говорит об этом без злобы, как бы мирясь с невезением. Но в ответ на неудачу он даже не пытается усовершенствовать свою отделку, а, покинув «этих черных африканских дикарей», заново берется за дело в индийском городке. Рубашки, которые он шьет, чудовищны. Манжеты на дюйм уже, чем нужно, а полы — на несколько дюймов короче, чем следует; после первой же стирки рубашка безбожно садится. Портной заработал немного денег, сэкономив на материи; поэтому он держится с вами дружелюбно и всякий раз при встрече предлагает сшить вам еще одну рубашку. (А вот если бы вы пришли к нему по рекомендации, если бы он увидел в вас человека, способного причинить ему вред, то у него появились бы основания для необыкновенной щедрости; и тогда бы, наверное, он сшил вам рубашку даже большего размера, чем нужно.) Каждое утро он становится в дверях своей лавки, наклоняется и касается лбом пыли на пороге. Вот как он оберегает свою удачу; его швейное предприятие — это договор лишь между ним самим и Богом.
«Приняв его, она должна ублажить его; а когда он влюбится в нее, она должна выманить у него все богатство и, наконец, бросить его. Таков долг публичной женщины». Можно сказать, что «Камасутра» рисует нам общество в раздетом виде; а ни один индийский учебник не устарел настолько, чтобы утратить значение в наши дни. Наверное, лишь закономерно, что религия, которая учит, что жизнь — это иллюзия, поощряет взвешенный прагматизм в земных — иллюзорных — взаимоотношениях. Долг публичной женщины (отметим это слово, «долг») напоминает долг предпринимателя: если хочешь узнать, где жульничество и исключительные права превозносятся как высшие добродетели, то лучше всего обратиться к некоторым сочинениям классической Индии. Корова священна. Ее следует чтить, оставляя ей жизнь, даже если она оказывается на городских улицах, лишенных травы; даже если ее сбил грузовик на шоссе Дели-Чандигарх и она целый день лежит, медленно истекая кровью, она остается священной: рядом будут стоять деревенские жители и следить, чтобы никто не прикончил ее. Черный буйвол, напротив, — порождение тьмы, он всегда тучный, гладкий и ухоженный. Он не священный — он просто стоит дороже. «Камасутра» приводит пятнадцать примеров таких случаев, когда прелюбодеяние допустимо; пятый случай — это «когда подобные тайные отношения безопасны и служат верным способом стяжать деньги»; а завершается этот перечень предостережением: «Следует четко сознавать, что оно (прелюбодеяние) допускается ради достижения названных целей, а отнюдь не ради удовлетворения простой похоти». Такая нравственная двусмысленность вполне согласуется с представлениями о том, что в «Камасутре», как и в других индийских учебниках, описано как долг культурного человека: «совершать такие поступки, которые не ставят под угрозу собственную загробную участь, которые не влекут за собой утрату богатства и к тому же доставляют удовольствие».
В предисловии к
«Сказаниям Древней Индии», выпущенным издательством Чикагского университета в 1959 году, куда вошли избранные переводы с санскрита, Дж. А. Б. Ван Бейтенен пишет:
Если я приглушил значение «духовного», то потому, что порой возникает желание поспорить с образом индийской духовности — как здесь, так и в Индии. Ее древняя цивилизация не была чересчур духовной. Даже у ее отшельников, не расстававшихся с черепами, и у бродячих святых хватало живости, чтобы находить забавными погребальные костры. Непритязательный исторический Будда превращается в устрашающий многоярусный пантеон существ, с избытком наделенных неугомонной жаждой величия, которая имеет мало общего со смирением. В течение недолгого времени даже свобода воли могла вызывать споры. Повсюду витает дух, которому ненадолго позволяется поселиться в живой оболочке, прежде чем затеряться в бесформенной духовности. Трудно поверить, что такое изобилие жизни иссякнет даже за тысячу лет.
Кастовую систему, которую Гита превозносит с почти пропагандистским пылом, можно рассматривать как часть исконного индийского прагматизма, «жизни» классической Индии. Она давно разложилась и окостенела вместе с обществом, а ее следствие — главенство предназначения — заняло центральное место: поэтому и неумелость уборщиков, и безжалостная близорукость купца неизбежны. Оказалось, что очень трудно заполучить кандидатов на соискание недавно учрежденной премии для храбрых детей. Дети не хотят, чтобы их родители узнали, как они рисковали жизнью, спасая чужую жизнь. И дело не в том, что индийцы — исключительные трусы или неспособны восхищаться храбрыми поступками. А дело в том, что отвага и готовность рисковать жизнью — это предназначение солдата, и больше ничье. Известны случаи, когда индийцы спокойно продолжали пикниковать на берегу реки, когда поблизости тонул незнакомец. Каждый человек — остров; каждому человеку — его предназначение, его частный договор с Богом. Это и есть осуществление «бескорыстного деяния» Гиты. Это и есть кастовая система. Поначалу, несомненно, способствовавшая разумному разделению труда в деревенском обществе, впоследствии она разлучила предназначение и общественный долг, положение и обязанности. Она неэффективна и разрушительна; она породила психологию, которая расстраивает любые замыслы, направленные на усовершенствование. Она вызвала к жизни индийское пристрастие к произнесению речей, к широким жестам и символическим действиям.
Символические действия: неделя посадки леса (70 % посаженных деревьев погибают из-за прекращения ухода после произнесения речей), неделя борьбы с оспой (сообщается, что один из министров отказался от прививки по религиозным мотивам, а справки о прививке можно купить за несколько шиллингов у какого-нибудь из лекарей), неделя борьбы с мухами (в одном из штатов ее объявили еще
до нашествия мух), день детей (правильная речь мистера Неру на первой полосе газеты, а на последней странице — заметка о том, что бесплатное молоко, предназначавшееся для детей из неимущих семей, оказалось на открытом рынке Калькутты), неделя борьбы с малярией (ПОМОЖЕМ ИСКОРЕНИТЬ МАЛЯРИЮ — призыв на английском, намалеванный на заборах деревни, жители которой неграмотны и говорят только на хинди).
Когда действие настолько символично, обретают важность ярлыки, которые полагается иметь не только предметам и местам, но и людям. Огороженная открытая площадка, о назначении которой и так можно догадаться по спортивным сооружениям, тем не менее, снабжено большим щитом с надписью: ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА. Возле другой площадки со сценой в одном конце красуется вывеска: ТЕАТР ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. На джипе, возглавляющем правительственную колонну машин, можно прочесть: ГОЛОВНОЙ ДЖИП. В Нью-Дели царит неразбериха ярлыков; такое ощущение, что здесь не средоточие учреждений гражданской службы, а настоящий базар. Обезображены даже древние и священные здания. На воротах храма VIII века на вершине горы Шанкарачарья в Шринагаре висит разноцветная вывеска, которая скорее подходила бы галантерейному магазину. В древнюю каменную кладку одного из храмов в Махабалипураме под Мадрасом вделана табличка, увековечивающая имя министра, который заведовал реставрационными работами. Мандапа Ганди в Мадрасе представляет собой небольшую постройку с колоннами; на ней высечены имена участников комитета, усилиями которого и воздвигнута эта мандапа; высота списка — больше человеческого роста.
Существует механизм современного государства. Существуют здания; они снабжены пояснительными ярлыками; порой они даже предвосхищают потребность, и часто такое предвосхищение, похоже, служит самоцелью. Изучите подписи внизу брошюры, выпущенной Департаментом туризма:
Составлена и издана Дирекцией печати и рекламы, Министерством информации и вещания для Департамента туризма, Министерства транспорта и связи. Слишком уж все это гладко, слишком тщательно расписано. Неудивительно, что иногда подобные заявления свидетельствуют не более чем о благих намерениях. В брошюре «Новости планирования семьи», которая попалась мне в руки, практически не было новостей о семьях, где решили бы заняться планированием, зато было множество фотографий милых дам в нарядных сари, которые занимались планированием планирования семьи. Светофоры — часть антуража современного города. Поэтому они имеются и на улицах Лакхнау; но это — лишь декорация, причем опасная, потому что министрам чувство собственного достоинства не позволяет останавливаться на красный свет; а в этом штате сорок шесть министров. В Горакхпуре торговцам сладостями предписано выставлять свой товар в стеклянных коробках; и они выставляют на прилавках эти коробки — совершенно пустые, а рядом кучками вывалены ничем не прикрытые сладости. В Чандигархе выстроили прекрасный новый театр — но кто будет писать для него пьесы?
Когда случается кризис — как произошло, например, во время китайского вторжения, — то символический характер всех этих структур становится очевидным. Произносятся длинные речи, делаются рапорты. Публично совершаются широкие жесты: например, женщина-министр здравоохранения сдает кровь, кто-то еще жертвует личные драгоценности. Различные службы прекращают работу. Но вот потом, похоже, все теряются: а что делать дальше? Может быть, провозгласить Закон о защите королевства? DORA — так его сокращенно называют
[31], как бы наделяя утешительной фамильярностью правильно подобранный ярлык; и в течение нескольких дней все твердят это новое слово, точно заклинание. В 1939 году британцы уже провозглашали ДОРА. И вот теперь индийское правительство делает то же самое. Британцы рыли окопы. Вот и теперь берутся рыть окопы в Дели — но только символически, там и сям, причем создавая опасность для пешеходов — в общественных парках, под деревьями. Окопы отвечают ненасытной потребности индийцев в сортирах под открытым небом. И почти излишне говорить, что продовольствие для символически вооруженной армии тоже оказывается на открытом рынке Калькутты.
* * *
Восточное представление о достоинстве и предназначении опирается на символические действия: таков опасный, порочный прагматизм касты. Символическая одежда, символическая еда, символический культ: Индия оперирует символами, пребывая в бездействии. Бездействие вытекает из заявленного предназначения, предназначение — из диктата касты.
Неприкасаемость — не самое важное из следствий такой системы; такой важностью ее наделило лишь восточное понятие о человеческом достоинстве. На самом деле средоточием этой системы является униженное положение уборщика отхожих мест и та привычка непринужденно испражняться на веранду, свидетелем которой стал в 1901 году Ганди.
«Как только исчезнет неприкасаемость, кастовая система очистится». Такое суждение походит на гандианский и индийский пример двоемыслия. Его даже можно истолковать как признание неизбежности касты. Однако это революционный подход. Земельная реформа не убеждает брахмана в том, что он может взяться за плуг, не позоря себя. Раздача детям наград за проявленную храбрость не отменяет всеобщего мнения, что рисковать своей жизнью ради спасения чужой — непростительно. Резервирование государственных рабочих мест для неприкасаемых никому не помогает. Оно перекладывает ответственность на плечи неподготовленных людей; а положение государственных служащих из неприкасаемых, чья слава всегда опережает их самих, невыносимо. Поэтому полному обновлению подлежит сама каста; необходимо искоренить прежнюю кастовую психологию. И потому Ганди снова и снова возвращается к темам грязи и экскрементов в Индии, к достоинству уборщика сортиров; к духу служения; к труду ради хлеба. Если смотреть со стороны Запада, то его наставления кажутся ограниченными и эксцентричными; но дело лишь в том, что он прибегает к западным банальностям для выражения своих пристрастных колониальных взглядов на Индию.
Индия разложила его на части. Он сделался махатмой. Его стали почитать как праведника; его учение сделалось несущественным. Он пробудил Индию ко всей ее «бесформенной духовности», всколыхнул индийскую страсть к самоуничижению перед лицом добродетельных — к такому самоуничижению, которое одобрила бы «Камасутра», поскольку оно упрочивало участь человека в загробном мире, не понуждало его к длительному и тяжелому труду и, к тому же, доставляло удовольствие. Страсть к символическим действиям была проклятием Индии. И все же Ганди был индийцем настолько, чтобы тоже уметь обращаться с символами. Поэтому чистка сортиров превратилась в ритуал, периодически повторяемый и к тому же праведный, поскольку его учредил сам «великодушный»; вместе с тем за уборщиком сортиров сохранялось всегдашнее приниженное положение. Прялка не облагораживала труд; она лишь вошла в обширный круг индийских символов, и ее значение стремительно ослабевало. Ганди остается трагическим парадоксом. Индийский национализм вырос из индуистского движения за религиозное возрождение; и это самое движение, за которое Ганди сам ратовал, сделало крах его идей неизбежным. Он добился политического успеха, потому что его почитали; и крах он потерпел потому, что его почитали. Его крах — здесь, в его учении: он по-прежнему остается лучшим гидом по Индии. Это все равно как если бы в Англии объявили святой Флоренс Найтингейл
[32], всюду чтили бы ее статуями, имя ее не сходило бы с уст, а больницы остались бы в том же чудовищном состоянии, которое она описала.
Его поражение глубже. Ибо ничто так не подталкивает индийца еще больше замкнуться в своей надежной неподвижности, ничто так не оглупляет его и не лишает привычной учтивости, как обладание святым.
«Этот поезд в Дели идет?» — прокричал я каким-то крестьянам, вскочив на станции Морадабад в вагон поезда, который в считаные секунды должен был тронуться.
«Что это вы о себе возомнили? Говорите на хинди, если хотите услышать ответ. Тут — только на хинди».
Это проговорил вожак группы. Он явно не был националистом, пропагандировавшим национальный язык. В любое другое время он повел бы себя вежливо и даже почтительно. Но сейчас ему принадлежал выряженный в шафранные одежды святой — толстый, гладкий и маслянистый (Индии чужды тонкости), перед которым женщины и дети из этой группы униженно заискивали.
Так же обстоит с индийцами и Ганди. Он явился последним доказательством их духовности; он укрепляет личный договор с Богом всех, кто его чтит. И это — всё, что осталось от Ганди в Индии: его имя и культ его образа; семинары, посвященные ненасилию, — как будто только это он и проповедовал; самоограничение — обросшее символами и отождествленное с добродетелью, — провозглашаемое достойной целью даже в разгар китайского кризиса; и стиль одежды политиков.
Присмотримся к вот этому деревенскому политику, одетому строго и правильно, говорящему на сельском собрании о махатме и о родине.
«Чтобы его избрали, — сообщает мне чиновник Индийской административной службы, — он отправил на тот свет семнадцать человек».
В этом не было непоследовательности; махатма просто растворился без остатка в аморфной духовности и порочном прагматизме Индии. Революционер превратился в бога — а потому его учение пропало втуне. Ему не удалось передать Индии свой способ глядеть на вещи прямо. И странное дело: за целый год я не встретил ни одного человека из числа его рядовых приверженцев, кто смог бы мне точно описать его внешность. Таких вопросов обычно не задают индийцам, которые лишены описательного дара, но их ответы все равно оказались поразительными. По мнению большинства, он был миниатюрного телосложения; по мнению одного мадрасца, росту в нем было за метр восемьдесят. Для одних он был смуглым, для других — очень светлокожим. При этом все хорошо помнили его: у многих даже имелись его фотографии. Но это не помогало: уж слишком знаком был этот образ. Вот как бывает, когда легенда окончательно сложилась. К ней уже нельзя ничего прибавить или, наоборот, убавить. Лик кумира делается неподвижным, упрощенным, неизменным; свидетели в расчет не берутся. Почти каждое слово, когда-либо произнесенное или написанное Ганди, учтено; список книг, посвященных Ганди, бесконечен. Но в Индии он уже отступил вдаль; легко поверить, что он жил в те дни, когда писцы писали на листьях и медных полосках, а люди странствовали пешком.
4. Выдумщики
Меня всегда притягивали названия индийских фильмов. Они отличались прямотой, но при этом таили в себе бездну намеков.
«Личная секретарша»: в Индии, где приключения такого рода были ограничены, где поцелуи на экране оставались под запретом, подобное название позволяло воображению разыграться вовсю: «прогрессивная» девушка, привлекательная офисная работа (пишущая машинка, белый телефон), свободное общение между полами; внебрачная любовь; семейная жизнь под угрозой; трагедия. Самого этого фильма я не видел. Я видел только афишу: тело, лежащее, если я правильно помню, на полу рабочего кабинета. Другое название —
«Джангли» («Неукрощенная»): женщина на фоне гималайских снегов. Название
«Майя» («Космическая иллюзия, тщетность») иллюстрировала женщина, льющая крупные, горькие слезы.
«Джула» («Танец») обещала веселье, множество песен и плясок. А потом — название, столь же богатое зловещими намеками, как и «Личная секретарша», —
«Выгодный гость».
Мы как раз и были «выгодными гостями», постояльцами частного пансиона. Это было в Дели, городе символов: вначале — британского Раджа, а теперь — независимой Индийской республики. Джунгли черно-белых щитов, вылезавших, как грибы, из лихорадочной административной активности: Индийский совет по тому-то и Академия того-то, Министерство того-то и Департамент того-то; повсюду безостановочно возводились новые здания, высились бамбуковые строительные леса, будто гнезда чудовищных птиц: город стремительно разрастался, особенно последние сорок лет, и давно превратился в город государственных служащих и подрядчиков. Мы были постояльцами, а нашей хозяйкой была миссис Махиндра, жена подрядчика.
Она прислала за нами автомобиль прямо на вокзал. За такой знак внимания мы были ей очень благодарны. Шагнув из вагона третьего класса с кондиционером на ровную горячую платформу, ты мгновенно чувствовал, как жар проникает под рубашку, терял ко всему интерес и удивлялся с уже гаснущей искрой умственного любопытства, зачем люди в Индии так хлопочут, зачем вообще люди так хлопотали вокруг Индии. На этом перроне, раскаленном, как печка, не прекращалась соревновательная деятельность. Носильщики, выделяясь своими красными куртками и красными тюрбанами, толклись и скрипучими голосами зазывали клиентов. Наиболее удачливые сгибались под тяжестью металлических чемоданов, покрывшихся тонким слоем пыли за время пути от Бомбея: один чемодан, два чемодана, три чемодана. У нас над головами бешено крутились вентиляторы. Попрошайки скулили. Зазывала из отеля «Бхагиратх» размахивал замызганными брошюрками. Вспомнив, что капитуляция для исследователя Антарктиды — дело легкое, а терпение и упорство — проявление отваги, я взял у него брошюрку и, стоя посреди шумной толчеи, погрузившись в которую я сразу же потерял ко всему интерес и которая теперь, казалось, расходилась от меня в разные стороны волнами, я стал читать медленно и сосредоточенно, хотя все расплывалось перед моими глазами и обращалось в исковерканную муть:
Arrive a Delhi au terme d’un equisant voyage, c’est avec le plus grand plaisir que j’ai pris le meilleur des repos au Bhaghirath Hotel, dant les installations permettent de se remettre de ses fatigues dans un cadre agreeable. J’ai particulirement apprécié la gentillesse et l’hospitolite de le direction et do personnel. Je ne peploie qu’ue chose, c’est de n’avoir pu arroser les excellent repos des baissens alcoolirees aux quelles nous mettent le cour en joie. 28-7-61 Fierre Bes Georges, Gareme (Seine) France[33]
Baissens alcoolirees, «пьянящие водоемы»: томление перешло в помешательство.
Et Monsieur, qu’est-ce-qu-il peploie? Je ne peploie qu’une chose. Arrosez les excellent repos. На сверкающем бетоне лежали спящие люди — обычная для индийских вокзалов картина. Носильщики, оставшиеся без клиентов, сидели на корточках. Скулящая нищенка — и она тоже сидела на корточках.
Arrosez les excellent repos, «оросить великолепный покой». Но фонтанов здесь не было. Улицы были широки и величественны, круговые развязки — бесконечны: город, выстроенный для великанов, выстроенный ради панорам, ради симметрии; город, который остался своим планом — так и не ожив, не очеловечившись; город, выстроенный для людей, которые будут защищены от его открытости, от белизны его света, для которых настоящие деревья ничем не отличаются от деревьев на чертеже архитектора, они служат лишь декорациями, не обязанными давать тень; город, выстроенный как монумент. И всё поименовано, в точности как на чертеже архитектора; всякий движущийся предмет кажется крошечным — человек на велосипеде с черной-пречерной тенью; нескончаемый, вечно разрастающийся город, ничуть не располагающий к покою, заставляющий людей сновать по своим проспектам и торговым пассажам, как шумно снуют все эти моторикши в потоке транспорта, съеживаясь на фоне этого монументального города до масштабов гораздо меньше человеческих.
Дом находился в одной из «колоний», или жилых кварталов, Нью-Дели, которые после голого аскетизма центра казались неожиданными островками фантазии, где господствовал буйный современный стиль. Создавалось ощущение, будто индийская деревня вдруг обросла бетоном и стеклом и увеличилась в размерах. Дома так и не были последовательно пронумерованы; в узких безымянных переулках толпились сбитые с толку сикхи, пытавшиеся разыскать нужные дома по номерам участков, а их номера шли в хронологическом порядке, который учитывал дату покупки. Пыль; белый и серый бетон; отсутствие деревьев; за каждым сикхом следует проворная черная тень.
Мы сидели перед пустым незаконченным камином под электрическим вентилятором и отдыхали, потягивая кока-колу.
— Чурбан этот бихарский мальчишка, — сказала миссис Махиндра, извиняясь за своего шофера и поддерживая беседу.
Она была полная, еще молодая, большеглазая. Запас английских слов у нее был невелик, и, когда их не хватало, она хихикала и отворачивалась. «М-м» — мычала она, глаза ее стекленели, правая рука упиралась в подбородок.
Дом был недавно построен, на первом этаже все еще пахло бетоном и краской. Комнаты еще не отделали до конца; убранства было маловато. Зато всюду висели вентиляторы, а немецкая сантехника в ванной была дорогой и высококачественной.
— Обожаю иностранное, — говорила миссис Махиндра.
— Просто обожаю иностранное.
Она дивилась и нашим чемоданам, и их содержимому, почтительно и восторженно трогала разные вещи.
— Обожаю, просто обожаю иностранное.
Широко раскрыв глаза — не то от страха, не то от восхищения, — она рассказывала нам о своем муже, подрядчике. Ему приходилось нелегко. Он вечно путешествовал через леса и джунгли, ночевал в палатке. А ей приходилось дожидаться его и вести хозяйство.
— Довольствие — три тысячи рупий в месяц. В наше время — стоимость жизни, кроме шуток.
Нельзя сказать, что миссис Махиндра похвалялась. Сама она выросла в простой семье, а свалившееся на нее богатство приняла так же, как приняла бы бедность. Ей нравилось узнавать новое, нравилось выбирать правильные вещи, нравилось наше одобрение — одобрение иностранцев. Как нам цвет ее занавесок? А цвет, в который выкрашены стены? Глядите-ка, вот это бра — иностранное, японское. Здесь все вещи были иностранными, кроме — как призналась миссис Махиндра, когда мы поднимались в столовую обедать, — кроме медного подогревателя блюд.
Она уселась вместе с нами, сама не ела, только глядела нам в тарелки, опираясь подбородком на руку; широко раскрыв глаза, она улыбалась всякий раз, как наши взгляды встречались. Она недавно занялась этим бизнесом, сообщила она, хихикнув. У нее никогда раньше не было постояльцев, так что мы должны простить ее, если она обращается с нами как со своими детьми.
Пришли ее сыновья-подростки. Они были рослыми и держались с нами настолько же прохладно, насколько импульсивно держалась их мать. Они тоже сели за стол. Миссис Махиндра зачерпнула для них еды из блюда, потом зачерпнула для нас.
Вдруг она снова хихикнула и кивнула на старшего сына.
— Я хочу, чтобы он женился на иностранке.
Юноша никак не отреагировал.
Мы заговорили о погоде, о жаре.
— Жара нас не касается, — ответил юноша. — У нас в комнатах есть кондиционеры.
Миссис Махиндра переглянулась с нами и лукаво улыбнулась.
Она уговорила нас в тот же день отправиться вместе с ней за кое-какими покупками. Ей хотелось купить занавески для одной из комнат на первом этаже. Но — возразили мы, — занавески, что она показала нам в той комнате, и так совсем новые и смотрятся отлично. Нет-нет, сказала она, мы просто говорим так из вежливости. Ей хочется непременно сегодня купить новые занавески, и ей нужен наш совет как иностранцев.
И мы поехали обратно в центр. Она показывала в окно на разные памятники: Гробница Хумаюна
[34], Ворота Индии
[35], Раштрапати Бхаван
[36].
— Нью-Дели, Нью-Дели, — вздохнула она. —
Столица Индии.
Мы ходили из лавки в лавку, и я начал уставать. В таких случаях я обычно говорю машинально.
— Глядите, — сказал я юноше, указывая на груду тапочек в восточном стиле, с нарядной вышивкой и загнутыми узкими носами. — Глядите, какие забавные.
— Для нас они слишком простые.
Его мать знали в лицо многие торговцы. Она со всеми дружески беседовала. Ей предлагали стул. Она садилась, щупала товар, разговаривала. Перед ней разворачивали один рулон ткани за другим. Она вежливо их осматривала, а потом вежливо уходила. Ее движения были легкими; никто, похоже, не чувствовал обиды. Она знала, чего именно хочет, и в конце концов нашла то, что нужно.
В тот же вечер она попросила нас осмотреть камин. Он был неправильной формы, и проектировал ее лично муж миссис Махиндры. Им же были спроектированы неправильной формы ниши для электрических фонарей в каменной ограде.
— Современное. Современное.
Все современное.
Утром пришли маляры — перекрасить недавно покрашенную пустовавшую комнату в тон занавескам, купленным накануне.
Она пришла в нашу комнату после завтрака, когда мы лежали раздетыми под крутящимся потолочным вентилятором. Села на краешек кровати и стала разговаривать. Она рассматривала чулки, туфли, бюстгальтеры, интересовалась ценой. Она уговорила нас выйти и посмотреть, как работают маляры; подносила материю к окрашенной стене и спрашивала, хорошо ли они сочетаются.
Ей абсолютно нечем было заниматься — разве что тратить три тысячи рупий в месяц. У нее была одна близкая подруга. «Миссис М.
Мета. Секретарь. Из Женской
лиги. Миссис М. Мета. Кондиционеры и другие электроприборы». Это имя и эти самые слова были уже знакомы нам по рекламным щитам. Миссис Махиндра регулярно навещала миссис М. Мету; регулярно ходила на консультации к астрологу; регулярно совершала покупки и посещала храм. Жизнь ее была насыщенной и приятной.
Во второй половине дня в доме появился высокий мужчина лет пятидесяти. Он сказал, что пришел по газетному объявлению; он хотел бы арендовать нижний этаж, который мы как раз и занимали. На мужчине был серый двубортный костюм, и по-английски он говорил с напряженным армейским акцентом.
— М-м. — Миссис Махиндра глядела в сторону.
Человек в сером костюме продолжал говорить по-английски. Он сообщил, что представляет крупную фирму. Фирму, имеющую контакты с иностранными фирмами.
— М-м. — Ее глаза остекленели, ладонь уперлась в подбородок.
— Здесь никто не будет ночевать.
Он уже начал запинаться; возможно, ему пришло в голову, что его фирма отнюдь не так желанна, как «дипломатические» иностранцы, которые требовались во многих объявлениях.
— Мы внесем арендную плату за год вперед и подпишем договор об аренде на три года.
— М-м. — И она ответила на хиндустани, игнорируя его английский, что поговорит об этом с мужем. К тому же есть много других желающих.
— Мы собираемся использовать это помещение только под офис. — Его чувство собственного достоинства уже начало сменяться некоторым раздражением. — Единственное, мы хотели бы, чтобы здесь ночевал сторож. Этот дом будет оставаться вашим домом. Мы сразу же выплатим вам двенадцать тысяч рупий.
Миссис Махиндра продолжала рассеянно смотреть в пустоту, как будто принюхиваясь к запаху свежей краски и думая про занавески.
— Чурбан, — сказала она, когда мужчина ушел. — По-английски говорил.
Барра саиб. Чурбан.
На следующее утро мы увидели ее в хмуром настроении.
—
Письмо. Приезжает мой
свекр. Сегодня. Завтра. — Такая перспектива явно удручала ее. — Говорит, говорит, кроме шуток.
В тот же день, вернувшись домой, мы застали ее, печальную и покорную, сидящей рядом с седовласым мужчиной в индийском наряде. Казалось, она даже стала ниже ростом; вид у нее был смиренный, даже смущенный. Представляя нас, она сделала особый упор на то, что мы — иностранцы. Потом стала глядеть в сторону, сделалась рассеянной и перестала участвовать в разговоре.
Седовласый человек посматривал на нас с подозрением. Но, как и предрекала миссис Махиндра, он оказался очень говорливым. Себя самого и особенно свой возраст — а ему было слегка за шестьдесят — он как бы рассматривал с удивлением со стороны. Он рассказывал не столько о происшествиях из своей жизни, сколько о привычках, которые сложились у него за эти шестьдесят лет. Он сообщил, что ежедневно встает в четыре часа утра, потом отправляется на прогулку и проходит четыре или пять миль, затем прочитывает отрывок из Гиты. Такого распорядка дня он придерживается вот уже сорок лет, и такой распорядок дня он рекомендовал бы каждому молодому человеку.
Миссис Махиндра вздохнула. Я догадался, что она уже вдоволь наслушалась, и решил выручить ее. Я попытался разговорить старика, стал расспрашивать о его прошлом. Его жизнь оказалась бедной на приключения; он лишь перечислял разные места, где ему довелось жить или работать. Я задавал конкретные вопросы, просил описать ту или иную местность. Но миссис Махиндра, видимо, не понимая моего замысла, не принимая — или, быть может, из чувства долга не соглашаясь принять — мою помощь, продолжала сидеть и страдать. В конце концов, не старик меня извел разговорами, а я его. Он ушел и уселся в одиночестве в маленьком саду перед домом.
— Несносный, несносный, — проговорила миссис Махиндра, улыбнувшись мне с видом полного изнеможения.
— Лето уже пришло, — заявил старик после обеда. — Я уже две недели сплю под открытым небом. И всегда оказывается, что я начинаю спать на улице на несколько недель раньше, чем другие люди.
— Вы и сегодня будете спать на улице? — спросил я.
— Конечно.
Он спал как раз рядом с нашей дверью. Мы его видели, и он наверняка видел нас. В четыре часа (надо полагать, именно в это время) он встал и стал собираться на прогулку: звяканье цепочки в уборной, бульканье, лязг дверей. Потом мы слышали, как он возвращается. А когда встали мы, он уже читал Гиту.
— Я всегда читаю несколько страниц из Гиты после того, как возвращаюсь с прогулки, — сказал старик.
Потом он слонялся по дому. Заняться ему было нечем. Не обращать на него внимание было трудно — он явно нуждался в собеседниках. Он разговаривал, но я уже начал ощущать, что он еще и приглядывается к происходящему.
Вернувшись позже, мы застали тягостную сцену — расспросы очередного посетителя, желавшего арендовать нижний этаж. Посетитель явно испытывал неловкость; старик, задававший вопросы, держался вежливо, но укоризненно; предметом его укора, как я догадался, являлась миссис Махиндра, которая почти совсем спрятала лицо под верхним концом сари.
Мы лишились большей части прежнего внимания миссис Махиндры. За короткое время она быстро превратилась в шелковую индийскую невестку. Теперь мы уже не слышали о том, как она обожает все иностранное. Мы сделались обузой. И когда, внимая разговорам свекра, она встречалась с нами глазами, то улыбка у нее выходила усталая. В этой улыбке не было ничего заговорщического — одна лишь отстраненная вежливость. Выходит, в самый первый день мы застали ее в один из редких моментов блеска.
В ближайшие выходные мы собирались поехать в деревню, и, чувствуя себя едва ли не предателями, мы сообщили миссис Махиндре, что на несколько дней оставим ее наедине со свекром. Она обрадовалась такой новости, оживилась. Конечно, поезжайте, сказала она, и ни о чем не беспокойтесь. Не нужно паковать вещи, она приберет в нашей комнате. Она помогла нам подготовиться к поездке, покормила. Она стояла в каменных воротах с неправильной стрельчатой аркой и махала нам рукой, а потом ее шофер-бихарец — чурбан, как мы помнили, — увез нас. Полная, грустная, большеглазая миссис Махиндра!
Выходные в деревне! Сами эти слова обещают прохладные купы деревьев, зеленые поля, речки. Когда мы уезжали из Дели, то все наши мысли вертелись вокруг воды. Но впереди не было никакой воды и почти никакой тени. Дорога представляла собой узкую полоску щебенки посреди сплошной пыли. Пыль окутывала придорожные деревья и поля. Один участок пути, растянувшийся на несколько миль, представлял собой плоскую коричневую пустыню. В конце пути находился небольшой городок — и убийство внутри общины. Убийца-мусульманин скрылся; убитого индуса следовало оплакать и кремировать — быстро и тайно, до рассвета следующего дня; затем следовало вести наблюдение за смутьянами с обеих сторон. Это и занимало нашего хозяина почти все выходные. Мы оставались в здании инспекции, благодарные за высокий потолок, и отдыхали под крутящимся вентилятором. На одной из стен висел в рамке под стеклом отпечатанный на машинке свод правил и инструкций. В другую стену был встроен камин. Зимы, которые обещал этот камин, казались сейчас совершенно неправдоподобными; было ощущение, что нам вечно суждено оказываться в таких местах, где все знаки — ложные: автомат для сладостей на железнодорожной платформе, не работающий уже несколько лет; реклама товаров, которые уже не производятся; устаревшее расписание. Над каминной полкой висела фотография: дерево, стоящее на размытом берегу скудного ручейка. И в этой фотографии, рассказывающей об истощении и упорстве, угадывалось нечто такое, в чем мы уже начали опознавать характерную индийскую черту.
Мы возвращались в Дели поездом, под темнеющим небом. Мы ждали, что вот-вот начнется гроза. Но то, что издалека походило на дождевую тучу, оказалось лишь облаком пыли. Мальчишка, разносивший чай, обсчитал нас (на том же перегоне спустя несколько месяцев тот же самый мальчишка снова обсчитает нас); один из пассажиров сетовал на коррупцию; один рассказчик пробуждал словоохотливость в другом. Дул ветер, и всюду набивалась пыль — пыль, которая, как уверяют инженеры, способна проникать туда, куда даже вода не может просочиться. Мы соскучились по городу — по горячим ваннам, по комнатам с кондиционерами, за закрытыми ставнями.
Нижний этаж дома Махиндры был погружен во тьму. Дверь оказалась заперта. Ключа у нас не было. Мы звонили, звонили. Через несколько минут нас впустил слуга — он ступал на цыпочки и говорил шепотом, как будто мы были его персональными друзьями. В нашей комнате все было таким же, как в день нашего отъезда. Постель так и осталась неубранной, чемоданы стояли на прежних местах; письма, брошюры и полные пепельницы так и грудились на прикроватном столике; на все эти застывшие в беспорядке вещи осела пыль. До нас доносились звуки какой-то тихой возни наверху, в комнате с индийским медным подогревателем блюд.
Саиб вернулся из джунглей, сообщил нам слуга. И саиб поссорился с мемсаиб. «Он говорит: „Ты пускаешь жильцов
за плату? Ты берешь
деньги?“»
Мы все поняли. Мы были первыми и последними постояльцами миссис Махиндры. Мы были для нее одним из средств разогнать скуку — наверное, как и те люди, которые приходили договариваться об аренде первого этажа. Наверное, это миссис М. Мета, секретарь Женской лиги, сдавала в аренду свой первый этаж; наверное, это миссис М. Мета принимала у себя блестящую череду постояльцев-иностранцев.
Милая миссис Махиндра! Ей нравились деньги, и, наверное, радуясь им, она хотела заработать еще немного. Но ее внимание к нам было окрашено неподдельной индийской теплотой. Мы так и не видели ее больше; мы больше не видели ее сыновей; мы так и не увидели ее мужа. Ее свекра мы только слышали — и, затаившись у себя в комнате, ждали, пока он устроится на ночлег. Мы слышали, как он поднялся ранним утром, слышали, как он уходит на прогулку. Мы выждали несколько минут. А потом прокрались на улицу с собранными чемоданами и разбудили спящего таксиста на ближайшей стоянке. Потом мы попросили приятеля передать миссис Махиндре деньги, которые остались ей должны.
* * *
Дни в Дели оказались сплошным маревом зноя. Мгновенья, которые задержались в памяти, — это мгновенья бегства от жары: затемненные спальни, обеды, клубные залы за закрытыми ставнями, поездка на рассвете к развалинам Туглакабада
[37], видение Лесного Пламени. Осмотр достопримечательностей был делом нелегким. Слишком во многих местах требовалось ходить босиком. Входы в храмы были мокрыми и грязными, а плиты во внутренних дворах мечетей обжигали ступни сильнее, чем песок тропических пляжей в полдень. И в каждой мечети, в каждом храме слонялись бездельники, с радостью набрасывавшиеся на тех, кто не снял обуви. И их радость, и их безделье бесили меня. Взбесила и табличка с надписью: «Если вы считаете, что снимать обувь — ниже вашего достоинства, можете взять напрокат шлепанцы». В Раджгхате, где, чтобы попасть к месту кремации Ганди, требовалось проделать босиком слишком длинный путь по горячему песку, я не стал идти за гидом из туристического департамента и уселся в тени — полностью обутый еретик. Школьники в голубых рубашках высматривали среди туристов американцев. Эти мальчишки были упитанны и прилично обуты, держали в руках учебники как знаки своего достоинства. Они ринулись к старушкам-американкам. Старушки, осведомленные о бедности Индии, остановились, раскрыли кошельки и принялись раздавать детям монеты и бумажки. За этой сценой завистливо наблюдали с дороги профессиональные нищие, которых сюда не пускали. Жара действовала мне на нервы. Я шагнул к мальчишкам, и вид у меня был, наверное, очень свирепый. Они убежали, шустро растворившись в воздухе. Американки оценивающе поглядели на меня: вот гордый молодой индийский националист. Что ж, неплохо. Я зашагал обратно к автобусу, чувствуя, как усталость превращается в гнев и стыд.
Вот как это было в Дели. Теперь же я срывался на крик почти сразу же, как только переступал порог государственного учреждения. Порой один вид молодых людей, рядами сидящих за длинными столами, схоронившись за грудами бумаг, молодых людей, изучающих какие-то бланки, молодых людей, пересчитывающих банкноты и связывающих их в пачки по сто штук, — зрелище, символизировавшее всю человеческую тщету Индии, — выводил меня из себя. «Не жалуйтесь мне. Подайте жалобу через должную инстанцию». «Через должную инстанцию! Должную инстанцию!» Но все было напрасно: ирония, насмешка в Индии были обречены. И снова: «Не жалуйтесь мне. Жалуйтесь моему начальнику». «И кто тут ваш чертов начальник?» Все это я произносил с какой-то освободительной надеждой, что моя ярость спровоцирует ответную грубость. Но почти всегда ответом была лишь холодная, колкая вежливость; и мне волей-неволей приходилось утихать, испытывая стыд и усталость.
В городе Лютьенса
[38] я искал уединения, и защиты. Лишь тогда я избавился от того расстройства сознания, при котором различные стороны моей личности казались мне гипертрофированными до неузнаваемости. Я ощутил изящество этого города — в колоннадах, спрятанных за дорожными указателями и соломенными шторами, в открывающихся перспективах: новая башня в одном конце обсаженного деревьями проспекта и старый купол — в другом. Я ощутил ту «трудолюбивую» атмосферу, о которой мне говорили в Бомбее. Я ощущал здешнее оживление как примету нового столичного города — в собраниях в клубе «Джимкана»
[39] воскресным утром, в проконсульских разговорах бывших ооновских сотрудников о мерзостях Конго, в газетных афишах, анонсировавших «культурный» досуг при посольствах соревнующихся государств; вот приметы города, который совсем недавно обрел значение, которому все «дипломатические» игрушки были еще в новинку. Но для меня это был город, где я мог лишь переходить из одного затемненного помещения в другое, спасаясь от уличной действительности, от пыли, яркого света и вида женщин из низших каст в цветастых сари (сама эта цветастость служила знаком низкого положения), трудящихся на строительных площадках. Город, вдвойне нереальный, внезапно вырастающий среди равнины: раскинувшиеся на многие акры руины XVII и XVIII веков, а затем — ультрасовременные выставочные здания; город, символическое величие которого словно говорило о богатой и благополучной глубинке, а отнюдь не о той бедной, выжженной земле, по которой мы ехали целые сутки.
Но в тот вечер, лежа на своей полке в алюминиевом вагоне «Шринагарского экспресса» и ожидая, когда тронется поезд, я вдруг обнаружил, что уже начал получать извращенное удовольствие от стремительности происходящего — удовольствие при мысли о двадцатичетырехчасовом путешествии, которое привело меня в Дели и о предстоящем мне тридцатишестичасовом путешествии еще дальше к северу, через все плоские просторы Пенджаба — к мощнейшему горному хребту в мире. Удовольствие от осязаемого уголка роскоши, который я выгородил себе, чтобы удалиться от того неприятного, что я пока еще мог видеть сквозь легко приводимые в движение окна с резиновым валиком: носильщики в красных тюрбанах, тележки с книгами и журналами, развозчики товаров, бешеные вентиляторы, висящие так низко, что с моей койки казалось, будто над платформой подвешен потолок из крутящихся лезвий; некогда всё это было ненавистными символами неудобства, теперь же отвечало моему нетерпению и возбуждению, которых — пускай я понимал, что эти чувства обманчивы, — я уже боялся лишиться, потому что с падением температуры на двадцать градусов все в скором времени должно было вернуться к заурядности.
Пенджаб, на который в течение ночи я то и дело поглядывал из окна, был беззвучным и невыразительным, если не считать бегущих прямоугольников света от нашего поезда. Черные поля, на их фоне — еще более черная тихая хижина, замершие в ожидании солнца, которое вновь придет на целый день: чего же еще я ждал? Утром мы прибыли в Патханкот, в конечный пункт: и как странно мне было слышать это короткое определение — сугубо техническое, промышленное и резкое, — растянутым в целое предложение на хиндустани: конечный железнодорожный пункт на пути в Кашмир. В этот ранний утренний час на станции было прохладно; вдалеке виднелись какие-то кусты, и даже мерещилось — пускай это был только обман чувств, — что горы уже близко. А пассажиры нашего поезда появились в шерстяных фуфайках, спортивных шапках, куртках, кардиганах, свитерах и даже перчатках. Вся эта шерстяная экипировка была типична для летнего отпуска в Индии, и хотя пока в ней не было особой необходимости, она уже говорила о предвкушении отдыха, который почти начался.
Поначалу единственное, что бросилось нам в глаза на этих поросших низким кустарником равнинах вблизи пакистанской границы, — это присутствие армии: лагеря с указательными столбами (сплошь побелка и прямые линии), ряды грузовиков и джипов, кое-где — маневры легких танков. Казалось, эти люди в походной форме оливкового цвета и в маскировочных панамах принадлежат уже к другой стране. Они по-другому ходили, они были красивы. В Джамму мы сделали остановку, чтобы пообедать. А потом начали подниматься вверх, подъезжая к Кашмиру по дороге, построенной индийской армией в 1947 году, во время пакистанского вторжения. Становилось прохладнее; появились горы и ущелья, неровная местность — холм за холмом, отступающие равнины, издалека теряющие цвет. Мы ехали вдоль реки Ченаб, русло которой по мере подъема, переходило в теснину, заваленную бревнами.
— И откуда же вы?
Это был индийский вопрос. Мне приходилось отвечать на него раз по пять в день. И вот я снова пустился в объяснения.
Человек, заговоривший со мной, сидел сбоку, по другую сторону прохода. На нем был приличный костюм. У него была лысина, остроконечный гуджаратский нос; казалось, он чем-то расстроен.
— И что вы думаете о нашей великой стране?
Это был еще один индийский вопрос; и сарказм при ответе не годился.
— Только честно. Скажите мне, что вы думаете.
— Хорошая страна. Очень интересная.
— Интересная. Вам повезло. Вот пожили бы вы тут! Мы же здесь как в западне. Понимаете, о чем я? В настоящей западне.
Рядом с ним сидела его полная, довольная жена. Наш разговор явно занимал ее меньше, чем я сам. Всякий раз, как я глядел в сторону, она меня изучала.
— Всюду коррупция и кумовство, — продолжал мой собеседник. — Все хотят устроиться на ооновскую работу. Врачи уезжают за границу. Ученые бегут в Америку. Будущее — сплошная чернота. Вот вы, например, сколько зарабатываете у себя в стране?
— Около пяти тысяч рупий.
Несправедливо было наносить такой жестокий удар. Но он его выдержал.
— И что же вы делаете? — спросил он.
— Преподаю.
— И что же вы преподаете?
— Историю.
Похоже, это его не впечатлило.
Я прибавил:
— И еще немного — химию.
— Странное сочетание. Я сам — учитель химии.
Такое случается с каждым выдумщиком.
Я нашелся:
— Я работаю в общеобразовательной школе. Там приходится учить всему понемножку.
— Понимаю. — Сквозь замешательство пробивалась досада; его нос начал подергиваться. — Странное сочетание. Химия!
Мне стало не по себе. Впереди было еще несколько часов совместного путешествия. Я сделал вид, что у меня разболелась голова от детского плача. Так не могло больше продолжаться. Но скоро пришло избавление. Мы остановились на автостоянке среди сосен, над зеленой лесистой долиной. Мы вышли размять ноги. Было прохладно. Оставшиеся позади равнины уподобились болезни, точные симптомы которой уже невозможно припомнить после выздоровления. Теперь шерстяные вещи были очень кстати. Надежды на каникулы начали оправдываться. А когда мы вернулись в автобус, то оказалось, что учитель химии и его жена поменялись местами, чтобы ему уже не пришлось продолжать беседу со мной.
Была ночь — ясная и холодная, когда мы делали остановку в Банихале. Гостиница для путешественников была погружена во тьму: электричество выключилось. Повсюду суетились служители со свечами; при свечах готовили еду. В лунном свете террасированные рисовые поля походили на старые окна в свинцовых переплетах. Утром они выглядели совсем иначе — зеленые, грязные. После банихальского тоннеля мы начали спускаться все ниже и ниже, мимо сказочных деревенек — утопающих в ивовых рощах, орошаемых речушками с травянистыми берегами, — в Кашмирскую долину.
* * *
В Кашмире царили прохлада и яркость красок: желтые горчичные поля, горы со снежными шапками, молочноголубое небо, на котором мы вновь увидели драматичные облака. Там люди кутались от промозглости утреннего тумана в коричневые одеяла, а мальчишки-пастухи в шапочках с закрытыми ушами взбирались босиком по крутым и влажным каменистым склонам. В Казигунде, где мы остановились, была еще и пыль в солнечном свете, хаос базара, ждущая толпа и запах, стоящий в холодном воздухе: смешанный запах угля, табака, масла для жарки, застарелой грязи и человеческих испражнений. На залепленных грязью крышах деревенских домов росла трава — и тут я наконец понял, почему в той сказке, которую я читал в детстве в «
Вест-Индской хрестоматии», глупая вдова загоняла свою корову на крышу. Автобусы, куда набились мужчины с выкрашенными в рыжий цвет бородами, уезжали туда, откуда мы приехали. Пришел очередной автобус, остановился. Толпа заволновалась, ринулась вперед и отчаянно прилипла к окошку, откуда мужчина с усталыми глазами высунул в благословении худую руку. Он, как и остальные, отправлялся в Мекку; и какой же далекой казалась из обрамления этих сторожевых гор Джидда — арабский паломнический порт, где притаились опасные рифы, над которыми синие воды делаются бирюзовыми. В закопченных кухонных каморках сидели и готовили пищу сикхи со свирепыми бородами и светлыми глазами, воины и властители не так уж и давно минувшей эпохи. Каждый съестной ларек заманивал вывеской. Тяжелые белые кружки были в щербинках; на столах, поставленных под открытым небом, лежали клеенчатые клетчатые скатерти; земля под ними превратилась в размягченную грязь.
Горы отступали. Долина становилась шире, переходя в рыхлые, хорошо орошенные поля. По обочинам дороги росли тополя, а ивы клонили ветви над берегами прозрачных речушек. И вдруг в Авантипуре, посреди сказочной деревеньки с покосившимися деревянными домишками, выросли серые каменные развалины: эти громоздкие балочные перекрытия, могучие, с квадратным основанием колонны портика, крутые каменные фронтоны колоннады вокруг центрального святилища, массивные и неуклюжие в этом разрушенном состоянии, — все это будило воображение, уносило его на много веков назад, к древнему культу. Это были руины индуистского храма VIII века, как мы узнали позже. Но ни один из пассажиров не вскрикнул от удивления, никто не показывал пальцами в окно. Они ведь жили среди руин; индийская земля была богата древними изваяниями. В Пандретхане, на окраине Шринагара
[40], вокруг развалин похожего храма, только поменьше, расположился армейский лагерь. Солдаты занимались там военной подготовкой. Ровными рядами стояли армейские грузовики и бараки; на обочине виднелись щиты с символикой армейских дивизий.
Мы остановились у поста городской таможни, в заторе из грузовиков «Тата-Мерседес-Бенц», откидные борта которых были разукрашены цветочными узорами и надписями «Пожалуйста, сигнальте», выведенными затейливыми буквами на желтом или розовом фоне. На фальшполах лавок закутанные в одеяла мужчины курили кальяны. Огибая город, мы доехали до проспекта, обсаженного исполинскими чинарами, чью сладостную тень кашмирцы считают целебной, и свернули во двор Центра приема туристов — нового здания из светло-красного кирпича. Напротив, через дорогу, возвышался огромный щит с портретом мистера Неру и с его призывом — обходиться с иностранным гостем как с другом. А прямо под этим щитом уже стояли кашмирцы и что-то выкрикивали — на первый взгляд, с враждебными намерениями, и их толпу едва сдерживали офицерские тросточки элегантных полицейских в тюрбанах.
Среди тех крикунов были владельцы плавучих домов или слуги владельцев. Трудно было представить, что эти люди могут чем-то владеть или предлагать что-то стоящее. Но плавучие дома действительно существовали. Белыми рядами они качались на водах озера, на фоне зеленых островков, перекликаясь своей белизной со снегами на склонах окрестных гор. Там и сям бетонные ступеньки спускались с прибрежного бульвара к прозрачной воде озера. На ступеньках сидели мужчины и курили кальяны; их лодки-
шикары смотрелись скоплением красных и оранжевых навесов и подушек; и в таких шикарах нас переправили к плавучим домам. Причалив и поднявшись по изящным ступенькам, мы обнаружили интерьеры, которые превзошли все наши ожидания: ковры, медные изделия и картины в рамах, фарфор, деревянные панели обшивки и полированная мебель другой эпохи. И сразу же Авантипур и все прочее исчезли. Здесь мы очутились в английской Индии. Здесь нам дали осмотреть старинные записи, потускневшие за десятки лет отзывы постояльцев. Были здесь и приглашения на свадьбы английских армейских офицеров, которые сейчас, наверное, были уже дедушками. И сам владелец плавучего дома, который казался таким ничтожным возле Центра туризма, смотрелся так жалко, когда он ехал на велосипеде позади нашей
тонги и со слезами на глазах умолял посетить его баржу, тоже переменился: скинув обувь, опустившись на колени на ковер, он вдруг сделался таким же утонченным, как и фарфор — теперь большая редкость в Индии, — в котором он подал нам чай. Вот еще фотографии — портреты его отца и гостей его отца; вот еще отзывы; вот рассказы о большущих порциях английских блюд.
За окном виднелись горы со снежными шапками, обступавшие озеро, а посередине возвышалась крепость Акбара — Хари-Парбат; тополя отмечали стоящий на берегу озера городок Райнавари; а вдалеке, за блестящей полоской воды, на поросших свежей зеленью нижних склонах гор — словно за долгие века земля смылась вниз, чтобы заполнить трещины между
скалами, — раскинулись могольские сады с их террасами, прямыми линиями, центральными павильонами и водотоками, где вода стекает по рифленым бетонным ярусам каскада. С моголами еще можно было бы смириться, да и с индуизмом. Но вот с английским присутствием — хоть оно и было знакомо лучше всего по книжкам, песням и тем бледным рукам близ Шалимара — который оказался не рекой, как я думал, а великолепнейшим из садов, — именно с английским присутствием оказалось труднее всего смириться в этой запертой между гор долине, в этом городе кальянов и самоваров, где в пыльном сквере у Резиденси-роуд располагался караван-сарай для тибетцев в высоких сапогах, шапках, с заплетенными в косички волосами, в одеждах такого же грязно-серого цвета, что их обветренные лица, мужские — неотличимые от женских.
Но мы не стали селиться в плавучем доме. Уж слишком трогательными, слишком личными были хранившиеся там реликвии. Их романтика была мне не по вкусу, а отделить их от этой романтики было невозможно. Я бы непременно чувствовал себя непрошеным гостем, чужаком, каким чувствовал себя во всех этих районных клубах, где на стенах биллиардных по-прежнему висели в рамках карикатуры 1930-х годов, где библиотеки пришли в запустение, где навеки застыли пристрастия одного поколения, где на стенах курительной комнаты висят запачканные гравюры, на которых сквозь отражения на пыльном стекле с трудом можно разглядеть фигуры буйных всадников с подписями «африди» или «белуджи». Индийцы с легкостью прошли бы мимо таких реликвий; романтика такого рода отчасти являлась частью их жизни, а теперь они унаследовали ее целиком. Я же не принадлежал ни к англичанам, ни индийцам; мне было отказано в триумфах и тех и других.
Часть вторая
5. Кукольный дом на озере Дал
ОТЕЛЬ «ЛИВАРД»
Влад.: М. С. Батт. Система слива
Вывеска эта появилась позже, когда мы уже собрались уходить. «Я честный человек», — говорил владелец третьеразрядного дома-баржи, пока мы стояли перед белым ведром в одной из заплесневелых, подмоченных комнат его гниющей посудины. «А система слива? Это же нечестно». Но мистер Батт, предъявляя нам пока еще небольшую кипу отзывов в гостиной отеля «Ливард», показывая на группу фотоснимков на желтовато-зеленых стенах, говорил уже с другим выражением:
«Раньше слив». Мы поглядели на смеющиеся лица. По крайней мере, нас так не проведешь. Вывеска, рассеивавшая всякие сомнения, торчала над скатной крышей, освещаемая тремя электрическими лампочками, и была видна даже с горы Шанкарачарья.
Такие удобства казались неправдоподобными. Гостиница стояла посреди озера, на одном конце участка площадью примерно 25 на 9 метров. Она представляла собой грубую двухэтажную постройку с желтыми бетонными стенами, зелеными и шоколадными деревянными частями здания и крышей из некрашеного рифленого железа. Всего там было семь комнат, одна из которых служила столовой. На самом деле построек было две. Одна стояла прямо на краю участка, две ее стены омывались водой; там было две комнаты наверху и две внизу. Вокруг верхнего этажа тянулась узкая деревянная галерея; вокруг двух сторон нижнего этажа, нависая прямо над водой, тянулась другая галерея. Во второй постройке имелась одна комната внизу и две наверху, и вторая из них представляла собой многогранный полукруглый деревянный выступ, опиравшийся на деревянные столбы. Деревянная лестница вела к коридору, соединявшему оба строения; и все это сооружение увенчивала скатная крыша из рифленого железа сложной многоугольной формы.
Вид у гостиницы был такой, будто ее возводили грубо и наспех, и это первое впечатление усугубило появление мистера Батта, который осторожно приблизился к ступенькам пристани, чтобы поздороваться с нами. На голове у него была кашмирская меховая шапка — укороченный вариант русской ушанки. Из широких штанов выбивалась длинно-полая рубаха индийского фасона и виднелась из-под коричневой куртки. Это наводило на мысль о ненадежности; толстая оправа очков придавала его лицу рассеянный вид; в руке он держал молоток. Рядом с ним находился маленький человечек — босой, в замызганном сером свитере, туго сидевшем поверх развевающихся белых хлопчатобумажных шаровар, стянутых на поясе веревкой. Вислый шерстяной ночной колпак придавал его наружности чудаковатость — словно перед нами был шекспировский мастеровой. Вот каким обманчивым может оказаться первое впечатление: это был наш Азиз. А сливную систему еще не успели до конца установить. Трубы и унитазы уже установили, а вот сливные бачки еще не распаковали.
— Один день, — по-английски сказал Азиз. — Два дня.
— Мне нравится слив, — сообщил мистер Батт.
Мы ознакомились с отзывами. Двое американцев написали чрезмерно теплые слова; одна индианка хвалила гостиницу за «уединение», столь необходимое молодоженам в медовый месяц.
—
Раньше слив, — повторил мистер Батт.
На этом его английский практически истощился, и впоследствии мы переговаривались с ним через Азиза.
Мы принялись торговаться. Страх сделал меня страстным; он же, как я потом понял, придал мне неестественную убедительность. Моя досада была искренней; когда я повернулся, чтобы уходить, я действительно собирался уйти; когда я решил возвратиться — это было легко, потому что паромщик отказался переправить меня обратно к дороге, — то моя усталость была неподдельной. И мы пришли к согласию. Мне предоставляли комнату, соседнюю с полукруглой гостиной, которая тоже предоставлялась в мое исключительное пользование. Еще мне нужна была настольная лампа.
— Десять-двенадцать рупий, это что? — отозвался Азиз.
Еще мне понадобится письменный стол.
Он показал на низкий табурет.
Разведя руки, я изобразил, какого размера стол мне требуется.
Он указал на старый облезлый стол, стоявший на лужайке.
— Мы красить, — сказал Азиз.
Я дотронулся до стола пальцем, покачал его туда-сюда.
Азиз знаками изобразил в воздухе пару деревянных скоб, и мистер Батт, поняв его, с улыбкой поднял молоток.
— Мы чинить, — сказал Азиз.
Тогда-то я и понял, что они ведут игру, и что я стал частью этой игры. Мы находились посреди озера. Над пугливыми зимородками, над фантастическими удодами, стучавшими клювами в саду, над тростниками, ивами и тополями открывался не нарушаемый плавучими домами вид на горы под снежными шапками. Передо мной суетливо сновал человечек в ночном колпаке, а в конце сада, в тени поникших ветвями ив стояло его жилище — новый деревянный сарай, некрашеный и душный. Это был человек, по-своему неплохо обращавшийся с молотком и прочими инструментами, готовый угождать, как по волшебству всё придумывавший и раздобывавший. Нет, этот ночной колпак принадлежал не шекспировскому мастеровому: скорее, он явился из сказки про Румпелыптильцхена
[41] или про Белоснежку и семерых гномов.
— Вы платить аванс и подписывать договор на три месяца.
Даже это не разрушило чар. Мистер Батт по-английски не писал. Азиз был неграмотен. Мне пришлось самому себе выписывать квитанцию. Мне пришлось писать и подписывать наш договор в конце большого, важного с виду, но неряшливо заполненного гроссбуха, который лежал на пыльной полке в столовой.
— Вы писать три месяца? — спросил Азиз.
Я не написал. Я не хотел рисковать. Но как он догадался?
— Вы писать три месяца.
За день до вселения мы нанесли неожиданный визит. Все выглядело по-прежнему. Мистер Батт ждал на пристани, одетый точно так же, как и в прошлый раз, с таким же рассеянным видом. Стол, который мне обещали укрепить и покрасить, так и стоял на лужайке — некрашеный и неукрепленный. Настольной лампы и признака не было. «Второй слой», — говорил тогда Азиз, кладя ладонь на перегородку, которая отделяла нашу спальню от ванной комнаты. Но второй слой так и не был нанесен: ярко-синяя краска лежала таким же тонким и шершавым слоем на свежем дереве с темными пятнами сучков. Послушно, не говоря ни слова, мистер Батт осматривал всё вместе с нами, останавливаясь там, где останавливались мы, глядя туда, куда глядели мы, как будто сам не подозревал — при всей своей осведомленности, — что там обнаружится. В ванной тоже все было так же, как и в прошлый раз: унитаз на прежнем месте, по-прежнему в обмотке из проклеенной бумаги, трубы установлены, сливной бачок отсутствует.
— Всё, — сказал я. — Всё. Возвращайте залог. Мы уходим. Здесь не будем жить.
Мистер Батт ничего не ответил, и мы стали спускаться по ступенькам. Потом через сад, из своей теплой деревянной хибарки, окруженной ивами, спотыкаясь, выбежал Азиз — в ночном колпаке и свитере. Свитер был заляпан синей краской — свидетельство очередного умения, и крупная капля краски красовалась на самом кончике носа. Он нес — как будто собирался преподнести нам — смывной бачок.
— Две минуты, — сказал он. — Три минуты. Я наладить.
Один из гномов Белоснежки в шерстяном ночном колпаке: бросить его было немыслимо.
Через три дня мы вселились. И всё обещанное было сделано. Казалось, тут приложили руку все садовые работники — кто с метлой и щеткой, кто с пилой и молотком. К столу прибили массивные скобы и закрепили его множеством гвоздей; его покрыли ярко-синей краской, которая сразу же начала отслаиваться. Здоровенная электрическая лампочка, прикрытая сверху маленьким полусферическим металлическим абажуром, была приделана к коротенькой гнущейся ножке, стоящей на хромированном диске, и соединялась длиннющими спутанными гибкими шнурами — я потом проверял их длину и подвижность — с постоянным источником электричества. Это была моя настольная лампа. В ванной комнате был установлен смывной бачок. Азиз, точно волшебник, дернул за цепь, и полилась вода: система слива работала.
— Мистер Батт, он говорить, — сказал Азиз, когда журчанье воды затихло, — это не его отель. Это
ваш отель.
* * *
Кроме Азиза и мистера Батта, были там и другие. Был мальчишка-подметальщик в просторной одежде, как следует заляпанной грязью. Был Али Мохаммед. Это был мелкий человечек лет сорока с мертвенно-бледным лицом, походившим на мертвеца еще больше из-за плохо пригнанных зубных протезов. В его обязанности входило заманивать туристов в гостиницу. Его официальный костюм состоял из полосатой индийской пары (свободных штанов и жакета без отворотов), башмаков, кашмирской меховой шапки и серебряных часов с цепочкой. И вот дважды в день он выходил из домика в нижней части сада и, стоя вместе со своим велосипедом на шикаре, плыл на ней мимо однокомнатной деревянной лачуги портного, кривовато возвышавшейся над водой, мимо тополей и ив, мимо плавучих домов, мимо парка Неру — к
гхату[42] и бульвару над озером, чтобы оттуда на велосипеде доехать до Центра приема туристов и встать в тени чинар возле входа, под щитом с портретом Неру. И был еще
хансама, повар. Он был старше, чем Азиз или Али Моххамед, и отличался более благородным телосложением. Он тоже был невысок, но росту ему зрительно прибавляли правильные пропорции тела, хорошая осанка, длиннополая рубаха и свободные штаны, сужавшиеся к ладным ступням. Он был очень задумчив. Его правильные черты искажались, когда он нервничал или раздражался. Он часто выходил из кухни и застывал на несколько минут на веранде домика, уставившись на озеро, переминаясь босыми ногами на половицах.
Наша первая трапеза была обставлена как настоящий ритуал. Бетонный пол столовой устлали старыми циновками; на столе стояли два пластмассовых ведерка, из которых торчали красные, синие, зеленые и желтые пластмассовые маргаритки на длинных стебельках. «Мистер Батт, он покупать, — сообщил Азиз. — Шесть рупий». Он отправился за супом; потом мы увидели, как он и Али Мохаммед, каждый с тарелкой супа в руках, вышли из кухни и осторожно, не сводя глаз с супа, зашагали по садовой дорожке.
— Горячий ящик приносить следующая неделя, — сказал Азиз.
— Горячий ящик?
—
Следующая неделя. — Он говорил тихим голосом; он походил на добрую нянюшку, которая ублажала избалованного, возбудимого ребенка. Он снял с плеча салфетку и отогнал мелких мушек. — Это ничего. Становиться жарко — маленькие мухи дохнуть. Большие мухи прилетать и охотиться на маленькие мухи. Потом москиты прилетать и кусать большие мухи, и
они улетать.
И мы ему поверили. Он удалился и встал снаружи, под выступом гостиной; и почти немедленно мы услышали, как он кричит кому-то на кухне или кому-то, кто проплывал по озеру, совершенно другим голосом. Из окон нам открывался вид на тростники, горы, снег и небо; время от времени показывалась голова Азиза в ночном колпаке — он заглядывал к нам сквозь еще не застекленные оконные рамы. Мы находились посреди неизвестности, но на этом крошечном островке мы оказались в надежных руках; о нас пеклись; с нами не должно случиться никакой беды; и с каждым новым блюдом, которое приносили из кухни в конце сада, это чувство уверенности и безопасности возрастало.
Азиз, радовавшийся не меньше нас, кликнул хансаму. Похоже, это было дерзостью с его стороны. По раздавшемуся ворчанью, тищине и промедлению мы догадались, что именно так это и было расценено. Наконец хансама явился — без передника, взволнованный и застенчивый. Что бы мы желали на обед? Что бы мы желали на ужин?
— Вы хотеть лепешки к чаю? А пудинг — какой вы хотеть пудинг? Ромовый пудинг? С вареньем или заварным кремом? Яблочный пирог?
Белоснежка ушла, но успела передать свое кулинарное мастерство.
* * *
Стояла только ранняя весна, и иногда по утрам на склонах гор появлялся свежий снег. Озеро было холодным и прозрачным; можно было видеть, как рыбы кормятся, точно сухопутные животные, водорослями на дне озера, а когда выходило солнце, каждая рыба отбрасывала тень. На солнце становилось жарко, шерстяная одежда мешала. Но вскоре жара сменилась дождем, и тогда температура резко упала. Тучи низко насели на горы, иногда они опускались до уровня берегов, иногда клочья облаков расползались по долинам. Храм на вершине Шанкарачарьи, стоявший на 300 метров выше нас, пропал из виду; мы представляли себе, как там, наверху, живет одинокий брахман; на голове у него шерстяная шапочка, а под его розово-коричневым одеялом теплится маленькая угольная жаровня. Когда над озером проносился ветер, молодые тростники качались; рябь прогоняла отражения с поверхности воды; пурпурные кружки лотосов закручивались кверху; и все суденышки, плывшие по озеру, спешили в укрытие. Некоторые причаливали к пристани нашего отеля; иногда с лодок сходили люди и шли в нашу кухню — разжиться углем для своих кальянов или для жаровен из обмазанных глиной ивовых прутьев, которые они держали у себя под одеялами. А сразу после дождя озеро делалось таким же гладким, как и прежде.
Гостиница стояла на одном из главных маршрутов шикар, служивших беззвучными озерными шоссе. Туристический сезон еще не вполне начался, и вокруг пока текла только жизнь самих приозерных жителей. По утрам проплывала целая флотилия груженных травой шикар, где веслами орудовали женщины, сидевшие скрестив ноги на корме, почти вровень с водой. Место базара, по обычаю, менялось день ото дня. То он оказывался прямо перед нашей гостиницей, за участком, где рос лотос; то — несколько дальше, рядом со старой лодкой — самой крохотной озерной лавкой. Часто казалось, что покупатель и продавец вот-вот полезут в драку, но все эти угрожающие жесты, крики, отплытие покупателя, сопровождаемое бранью через плечо, возвращение, новый поток ругани, — все это было лишь принятым на озере способом торговаться. Суденышки сновали целый день. Продавец сыра, одетый, как жрец, в белое, сидел перед белыми конусообразными холмиками из сыров и звонил в колокольчик. Он и его сыры были защищены навесом, а вот гребец сидел на корме безо всякого укрытия. На молочнице были пугающие украшения: серебряные серьги болтались в ее растянутых ушных мочках, будто ключи на кольце. Товар кондитера умещался в одной-единственной красной коробке. Каждый день в гостиницу наведывался человек из «Хлеба и Булки с Маслом»; на бортах его шикары буква N красовалась от носа до кормы. «Кра-си-вые! Чу-дес-ные! Ми-лые!» — это кричал Бюльбюль, продавец цветов. Его розы целую неделю наполняли ароматом нашу комнату, а вот душистый горошек завял в тот же день, когда мы его купили. Бюльбюль посоветовал класть соль в воду, но его душистый горошек опять увял; мы поругались. Однако его шикара продолжала проплывать мимо подвижным пятном колдовских красок в ранние утренние часы, пока не наступил настоящий сезон, и тогда Бюльбюль покинул нас, чтобы обслуживать более выгодные плавучие дома первого разряда на озере Нагин. Часто проплывали полицейские шикары, в которых констебли везли сержанта. В почтовой шикаре, выкрашенной в красный цвет, клерк-почтальон сидел за низеньким столом и продавал марки, штемпелевал письма и звонил в колокольчик. У каждого торговца имелся собственный гребец; иногда гребцами работали дети лет семи-восьми. Это вовсе не выглядело какой-то жестокой эксплуатацией. Здесь — как до недавних пор и в других странах — дети были просто маленькими взрослыми: это касалось и одежды, и умений, и внешних повадок. Иногда поздно ночью мы слышали, как они поют, гребя домой, чтобы подбодрить себя.
Так мы быстро обнаружили, что озеро, несмотря на его неряшливую буйную растительность, на здешние шаткие строения и сезонные инстинкты местных жителей, тщательно размечено и расчерчено; здесь царило то же разделение труда, что и на суше; и эти невидимые границы водного пространства следовало соблюдать очень строго, даже если они обозначались всего-навсего провисшим и согнутым куском проволоки. Здесь имелись свои могущественные лица, свои зоны влияния; имелись и местные выборные суды. Подобные правила и нормы были необходимы, потому что на озере было полно людей, а само оно являлось источником богатства. Оно всех обеспечивало средствами к существованию. Оно давало водоросли и ил для огородов. Мальчишка запускал в воду кривой шест, крутил им, поднимал — и выуживал массу пышных озерных водорослей. Оно давало корм скоту. Оно давало тростник для крыш. Оно давало рыбу, плодившуюся в чистой воде так щедро, что её можно было увидеть прямо под ступеньками оживленного гхата. В иные дни озеро было усеяно рыбаками, которые, казалось, ступают прямо по водам: они стояли прямо и неподвижно у краев своих еле движущихся шикар, подняв трезубец и приковав к воде взгляд — такой же зоркий, как у зимородков, таившихся в ивах.
* * *
Появился горячий ящик, обещанный Азизом. Им оказалась большая деревянная клеть, посеревшая от времени и погодных воздействий. Она заняла один угол столовой и встала под небольшим углом на неровном бетонном полу. Изнутри клеть была облицована плоскими металлическими листами от различных консервных банок, с одного бока была приделана дверца на петлях, а еще внутри были устроены полки. Когда приходила пора подавать еду, в нижнюю часть клети ставилась угольная жаровня. Дымящиеся тарелки с супом больше не нужно было носить с кухни; теперь мы каждое утро заставали тут Али Мохаммеда: он сидел на корточках перед жаровней, спиной к нам, и с очень сосредоточенным видом переворачивал пальцами ломти хлеба. Казалось, он усердно готовит тосты, но в действительности он слушал пятнадцатиминутную радиопередачу с кашмирскими благочестивыми песнями, которая следовала за выпуском новостей на английском на радиостанции «Кашмир». В выгибе его спины угадывалась легкая, но отчетливая тревога: вдруг тосты потребуются слишком быстро, вдруг мы переключим радио на другой канал, вдруг его призовут к выполнению других обязанностей? Уже в такую рань на нем был официальный наряд; и я не думаю, что, будь на нем иная одежда, он смог бы так проворно повернуться однажды утром, оторвав глаза от тоста, и спросить:
— Вы хотеть смотреть кашмирская плясунья? — Его верхние протезы обнажились в жалком подобии улыбки. — Я приводить сюда.
Гром грянул с той стороны, откуда вроде бы ничто не угрожало. Меня охватил обычный страх туриста перед вымогательством.
— Нет, Али. Ты меня сначала своди посмотреть. Понравится — сюда приведешь.
Он снова повернулся к жаровне и тостам. Это был мгновенный порыв; больше он ни разу не обмолвился о плясуньях.
И после горячего ящика улучшения следовали одно за другим. На узкую, обсаженную анютиными глазками дорожку, что соединяла столовую с кухней, уложили две полоски рваных циновок. Эти полоски лежали под небольшим углом друг к другу; когда шел дождь, они чернели на фоне газона. Затем — видно, озеро продолжало делиться своими сокровищами — поверх циновок легли старые неровные доски. Начал приходить полировщик, молчаливый мальчишка. Он принялся натирать «диванный гарнитур» в гостиной и старый письменный стол (набитый советской пропагандой: это Али как-то раз встретил у Центра приема туристов русских и вернулся с целой кипой их брошюр). Он полировал стулья, кровать и обеденный стол; он полировал их день за днем, не говоря ни слова, съедал на кухне большие порции риса, и наконец ушел насовсем, оставив мебель почти в таком же состоянии, в каком она находилась и раньше. Потом пришел укладчик дерна; он рвал, подгонял и трамбовал траву на одном голом берегу.
Все теперь суетились. Но бывали и периоды затишья — особенно во второй половине дня. Тогда Азиз сидел на корточках на кухонной веранде и курил кальян; свой шерстяной ночной колпак он заменял меховой шапкой и превращался в самого обыкновенного кашмирца, умеющего мгновенно предаться отдыху. К нему наведывались посетители, лодочники, торговцы; из кухни доносились звуки какой-то возни и болтовни. После одного такого взрыва веселья мы подглядели, как Азиз выбегает на веранду с непокрытой головой, и снова нас ждал сюрприз: он оказался совершенно лыс. В солнечные дни мистер Батт и хансама заворачивались с головы до ног в одеяла и укладывались спать прямо на лужайку.
Пришли маляры — нанести обещанный второй слой краски. Один из них был вылитым средневековым персонажем; у него было широкое, дружелюбное лицо работяги, а макушку прикрывала грязная хлопчатобумажная тюбетейка. Другой, с непокрытой головой, был одет в современный зеленый комбинезон. Но оба друг друга стоили. Они красили безо всякой подготовки. Прямые линии у них не получались; они не делали разницы между бетоном и древесиной, между стенами и потолком, между оконной рамой и стеклом. Они всё закапали краской. Их задор передался мне. Я взял кисть и стал рисовать на еще не окрашенной стене птиц, зверей, рожицы. Маляры захихикали и тоже стали рисовать что-то свое. Человек в комбинезоне спросил человека в тюбетейке по-кашмирски: «Попросить у него бакшиш?» Тюбетейка поглядел на меня. «Нет, нет», — ответил он. Но, когда Тюбетейка вышел из комнаты, Комбинезон сказал по-английски: «Я делать вам красивая комната. Вы давать бакшиш?»
Маляры ушли, пришел стекольщик — доделывать окна в столовой. Он обмерил рамы на глазок, отрезал, подрезал, вставил, вбил несколько гвоздей и ушел. Потом на лестнице, в коридорах и в верхней галерее постелили новые циновки из кокосового волокна. Для галереи циновка оказалась чересчур широка — с одного края она так и лежала, загибаясь кверху; на лестнице, из-за отсутствия перил, стало довольно опасно; и после каждого ливня циновка в коридоре насквозь промокала. Еще через два дня обеденный стол застелили узорной зеленой клеенкой. Но это было еще не все. Снова явился Комбинезон. Он ходил от одной зеленой двери к другой и шоколадной краской наносил цифры, тряпочкой вытирая подтеки и окружая каждую корявую цифру коричневатым пятном; закончив работу, он отправился на кухню и съел полную тарелку риса.
Казалось бы, больше и придумать ничего нельзя. И однажды утром, принеся мне кофе, Азиз сказал:
— Саиб, я просить об одном деле. Вы писать бюро
тури-азма, приглашать мистер Мадан на чай.
Этот мистер Мадан возглавлял кашмирское отделение Департамента туризма. Я уже встречался с ним однажды, совсем бегло. Тогда, отвечая на мою просьбу помочь нам с поиском жилья, он сказал: «Дайте мне сутки», — и больше я не имел от него никаких вестей. Всё это я объяснил Азизу.
— Вы писать Туриазм, приглашать мистер Мадан на чай. Не ваш чай. Мой чай. Мистер Батт чай.
Теперь завтрак за завтраком, обед за обедом, обслуживая нас, он продолжал меня убеждать. «Ливард» — новое заведение; это и не плавучий дом, и не гостиница; ему нужно какое-то признание туристического бюро. Я не возражал против того, чтобы написать рекомендательное письмо. Но это приглашение на чай было мне не по душе; а именно на нем настаивали Азиз и мистер Батт, робко улыбавшийся из-под очков. И вот однажды утром я написал мистеру Мадану и пригласил его на чай, а мистер Батт и понимавший по-английски секретарь Союза всех лодочных работников заглядывали мне через плечо.
Мистер Батт лично отвез письмо в город. За обедом Азиз доложил, что мистер Мадан прочел письмо, но не прислал ответа. Заботясь теперь о моей чести, Азиз добавил: «Но, может быть, он писать и ждать, когда печатать на машинке, и посылать через свой
чапрасси».
Азиз разбирался в этикете. Но чапрасси с ответом мистера Мадана так и не появился. У меня была пишущая машинка; армейский офицер в униформе приносил мне приглашения от махараджи; но я не обладал достаточным влиянием, чтобы добиться такого пустяка — завлечь мистера Мадана на чай. Возможно, мистер Батт молчал не только из-за языкового барьера. Меня ожидало еще одно унижение. Секретарь из Союза всех лодочных работников хотел подать прошение начальнику транспорта о том, чтобы автобусное сообщение сделали более частым. Я составил прошение, отпечатал его, подписал. На него даже не обратили внимания. Азиз разбирался в этикете. А потому вскоре, когда я пожаловался на тусклые лампочки и попросил заменить одну из них, он сказал: «Две-три рупии. Вы покупать, я покупать — какая разница?» Я даже не нашелся, что ему возразить. И сам купил лампочку.
* * *
Сезон начался. Отель не получил признания турбюро, но количество мест в гостиницах и пансионах Шринагара было ограниченно, наши цены оставались умеренными, и вскоре у нас начали появляться постояльцы. Я придумывал разные способы рекламировать отель. Некоторые планы я излагал Азизу и, через него, мистеру Батту. Они улыбались, благодарные за мой интерес; но все, чего они от меня хотели, — это чтобы я говорил с теми туристами в пиджаках и галстуках, которых Али привозил из Центра приема туристов. Когда мои доводы оказывались неубедительными, я чувствовал себя униженным. Когда мне удавалось залучить постояльцев, я испытывал недовольство. Я ревновал; я хотел, чтобы отель был в моем распоряжении. Азиз всё понимал и вел себя, как родитель, который утешает обиженного ребенка. «Вы будете есть первым. Вы будете есть один. Мы давать вам особенное. Это не мистера Батта отель. Это ваш отель». Когда он объявлял о прибытии новых постояльцев, то говорил: «Это хорошо, саиб. Отелю хорошо. Мистеру Батту хорошо». Иногда он поднимал руку вверх и изрекал: «Бог посылать клиента».
Я продолжал грустить. Это был необычный отель, но мы привлекали самых обычных постояльцев. Было одно брахманское семейство — первое из многих, кто непременно желал готовить самостоятельно. Они лущили орехи, просеивали рис и резали морковку в дверях своей комнаты; варили и жарили они в кладовке для метел под лестницей, а кастрюли и сковородки мыли под краном в саду; они превратили часть нового дерна в грязную жижу. Одни бросали мусор прямо на лужайку, другие расстилали на ней свое стираное белье. И я решил, что идиллии пришел конец, когда Азиз объявил мне однажды — тщательно изображая восторг и соболезнование разом, — что на четыре дня в отель приедут двадцать ортодоксальных индийцев. Кто-то из них будет спать в столовой; есть мы будем в гостиной. Я был безутешен. Азиз увидел это и не стал меня утешать. Мы стали ждать. В нашем присутствии Азиз принимал хмурый, почти обиженный вид. Но те двадцать так и не появились; а потом, в течение дня или двух, Азиз выглядел уже неподдельно обиженным.
Случались и другие неприятности. Я давно уже договорился, чтобы в столовой включали радио незадолго до восьми часов. Услышав радиосигналы точного времени, мы выходили завтракать и слушать новости на английском. Однажды утром радиосигнал так и не раздался — звучали только песни на хинди из индийских кинофильмов и реклама «Аспро» и «Хорликс»: приемник был настроен на радиостанцию «Цейлон». Я высунулся из окна, кликнул Азиза. Он поднялся к нам, сказал, что уже говорил тому бомбейскому парню про восьмичасовые новости из Дели, но парень не обратил внимания на его слова.
Мне с первого взгляда не понравился тот бомбейский парень. На нем были облегающие штаны и черная куртка из искусственной кожи; густые волосы были старательно причесаны; он держал плечи с какой-то изящной перекошенностью левши; у него была легкая боксерская походка, быстрые и резкие движения. Мне он показался этаким бомбейским Брандо; я так и видел его на фоне кишащих грязью бомбейских трущоб. В разговор мы не вступали. Но теперь, в кожанке он там или нет, между нами война.
Я сбежал вниз по лестнице. Радио орало на полную мощность, а Брандо сидел на лужайке на ободранном плетеном стуле. Я уменьшил громкость, в спешке совсем заглушив звук, а потом переключился на радиостанцию «Кашмир». Али готовил тосты; изгиб его спины ясно говорил о том, что вмешиваться он не собирается. Во время выпуска новостей ничего не происходило. Но как только новости закончились, Брандо стремительно ворвался в столовую, откинув занавеску в дверях, ринулся к приемнику, перенастроил его с радиостанции «Кашмир» на радиостанцию «Цейлон» и так же стремительно выбежал за дверь.
Так с тех пор и продолжалось — и утром, и вечером. Азиз, как я понял, сохранял нейтралитет. Али, как я думал, был на моей стороне. Он молча сидел на коленях перед горячим ящиком, лишившись своих кашмирских благочестивых песнопений. Конфликт зашел в тупик. Я жаждал хоть какого-нибудь развития, и вот однажды утром я намекнул Али, что кашмирские песни лучше, чем рекламные объявления радиостанции «Цейлон». Он отвел взгляд от тостов, и на его лице отразилась тревога. И тут я понял, что за несколько коротких недель туристического сезона, когда из туристских транзисторов доносились передачи радиостанции «Цейлон», его вкусы изменились. Ему нравилось треньканье коммерческой рекламы, нравились песни из кинофильмов. Они были современны и символизировали доступную часть того мира за горами, откуда приезжали преуспевающие, богатенькие индийские туристы. Кашмирская музыка принадлежала этому озеру, этой долине; она была грубой. Вот какими хрупкими бывают наши сказочные страны.
Потом я слег с расстройством желудка. На следующее утро кто-то постучался в дверь. Это оказался Брандо.
— Я не видел вас вчера, — сказал он. — Мне сказали, что вам нездоровится. Как вы себя чувствуете сегодня?
Я ответил, что мне уже лучше, и поблагодарил за визит. Воцарилась пауза. Я пытался придумать еще какие-нибудь темы для разговора. Он — даже не пытался. Просто стоял возле моей кровати, ничуть не смущаясь.
— А откуда вы? — спросил я.
— Я из Бомбея.
— Из Бомбея. А из какой части Бомбея?
— Из Дадара. Вы знаете Дадар?
Так я и думал.
— А чем вы занимаетесь? Вы — студент-медик?
Он чуть-чуть оторвал левую ногу от пола, плечи его искривились.
— Я
живу в этом отеле.
— Да, я знаю, — ответил я.
— И
вы живете в этом отеле.
— Да, я живу в этом отеле.
— Тогда
почему вы говорите, что я — студент-медик?
Почему? Вы живете в этом отеле. Я живу в этом отеле. Вы заболели. Я прихожу вас навестить. Почему же вы говорите, что я —
студент-медик?
— Прошу прощения. Я понимаю, вы пришли навестить меня только потому, что мы оба живем в этом отеле. Но я вовсе не хотел вас обидеть. Я только спросил, чем вы занимаетесь.
— Работаю в страховой компании.
— Спасибо, что зашли меня проведать.
— Не стоит благодарности, мистер.
И, выставив вперед левое плечо, он откинул занавеску и вышел.
С той поры мы оба вели себя подчеркнуто вежливо. Я предлагал ему радиостанцию «Цейлон», а он мне — радиостанцию «Кашмир».
* * *
— Хазур! — сказал однажды днем хансама, стуча в дверь и одновременно входя в комнату. — Сегодня мой выходной, и я ехать домой
сейчас, хазур.
Он говорил очень быстро, точно в крайней спешке. Обычно вместе с ним в нашу комнату приходил Азиз, но сегодня он умудрился отвязаться от Азиза: того я видел отдыхающим на чарпое на кухонной веранде.
— Мой сын болеть, хазур. — Хансама усмехался кривоватой робкой усмешкой и переминался на своих изящных ногах.
Это было излишне. Я и так уже запустил руку в карман, отсоединяя купюры от скрепленной пачки из сотен банкнот. Это все, что нашлось на этой неделе в местном отделении Государственного банка Индии. Это могло пробудить известный затяжной обман: я знал, как легко и опасно дразнить кашмирцев.
— Мой сын
плохо болеть, хазур!
Его нетерпеливость была под стать моей.
— Хазур! — воскликнул он с явным неудовольствием. Три бумажки слиплись в одну. Потом он улыбнулся. — А, три рупии. Хорошо.
— Хазур! — сказал хансама спустя неделю. — Моя жена болеть, хазур.
В дверях, теребя купюры, которые я дал ему, он остановился и с неожиданной убедительностью в голосе, словно желая меня утешить, сказал:
— Моя жена правда плохо болеть, хазур. Очень плохо. Тиф.
Я встревожился. Может быть, он говорит это не просто для приличия? За обедом я навел справки у Азиза.
— Она не болеть тифом.
Молчаливая усмешка Азиза, силившегося не рассмеяться над моей доверчивостью, меня взбесила.
И все-таки получилось, что я выдал хансаму. Больше он не являлся ко мне с россказнями о больных родственниках. Мне неприятно было думать об унижении, которому он подвергся на кухне; но еще неприятнее было думать о торжестве Азиза над ним. На этом островке я привязался к ним ко всем, и больше всего — к Азизу. Эта привязанность очень удивляла меня самого. До сих пор слуга для меня был просто человеком, который выполнял свою работу, забирал деньги и возвращался к своим собственным делам. Но для Азиза его работа и была жизнью. Где-то на озере жила его бездетная жена, но он редко о ней упоминал и, похоже, вовсе не навещал ее. Служба являлась его миром. Это было его ремесло, его единственное умение; она выходила за рамки служебной формы и почтительных манер; и она же была источником его власти. Мне приходилось читать об исключительной влиятельности слуг в Европе XVIII века; я всегда поражался наглости русских слуг в таких романах, как «Мертвые души» и «Обломов»; в Индии мне случалось видеть, как госпожа и слуга ссорятся так же страстно, так же жестоко, как ссорятся порой муж с женой, а потом так же быстро забывают о перебранке. Только теперь я начал кое-что понимать. Обладать личным слугой, чья обязанность — угождать, который не имеет иных дел, кроме служения господину, — значит, безболезненно уступать частицу самого себя. Это обладание создает зависимость на пустом месте; оно требует возмещения; оно приводит к инфантилизму. Я сделался таким же восприимчивым к настроениям Азиза, как он — к моим. Он умел приводить меня в бешенство; его хмурый вид порой портил мне все утро. Я мигом замечал его вероломство или недостаток внимания. Я начинал дуться; тогда он — в зависимости от настроения — желал мне спокойной ночи через посланца или вовсе не желал спокойной ночи; а с утра все начиналось сначала. Мы молча враждовали из-за постояльцев, которые мне чем-то не нравились. Мы ругались открыто, когда я понимал, что за его словами о вздорожании продуктов последует требование выдавать больше денег. Прежде всего мне хотелось быть уверенным в его преданности. А это было невозможно, потому что я не был его настоящим хозяином. Потому-то в отношениях с ним я придерживался попеременной тактики запугивания и подкупа; он терпел и то, и другое.
Его служба, как я уже говорил, выходила за рамки униформы — к тому же последней у Азиза не было. Казалось, у него вообще только один наряд. Одежда на нем становилась все грязнее и грязнее, и запах от него исходил все более забористый.
— Азиз, ты умеешь плавать?
— Да, саиб, я плавать.
— И где же ты плаваешь?
— Здесь, в озере.
— Вода, наверное, очень холодная.
— Нет, саиб. Каждое утро я и Али Мохаммед снимать одежда и плавать.
Это было уже что-то; одно сомнение развеялось.
— Азиз, закажи себе у портного новый костюм. Я заплачу.
Он принял строгий, озабоченный вид человека, обремененного множеством обязанностей: это был признак удовольствия.
— Сколько, по-твоему, это будет стоить, Азиз?
— Двенадцать рупий, саиб.
И в этом настроении, заметив Али Мохаммеда, который собирался отправляться в Центр приема туристов в своем заношенном полосатом наряде, в жилете с цепочкой от часов, я не выдержал его жалкого вида.
— Али, попроси портного сшить тебе новый жилет. Я заплачу.
— Очень хорошо, сэр.
Али было трудно понять. Он всегда как будто удивлялся, когда к нему обращались напрямую.
— Сколько это будет стоить?
— Двенадцать рупий.
Похоже, это была расхожая цена. Я поднялся к себе в комнату. Только я уселся за свой синий стол, как вдруг дверь резко распахнулась. Я обернулся и увидел, что ко мне приближается хансама в синем переднике. Казалось, на него нашел приступ неконтролируемой ярости. Он положил руку на пиджак, висевший на спинке моего стула, и заявил:
— Мне нужна куртка.
Потом, словно испугавшись собственной грубости, он отступил на два шага назад.
— Вы дарить Али Мохаммед жилет, вы дарить этот Азиз костюм.
Может быть, на кухне его дразнили? Я вспомнил давешнюю сдержанную ухмылку Азиза, его суровый вид: он явно подавлял чувство торжества, которое неизбежно должно было найти какой-то выход. Али собирался в Центр приема туристов; наверное, он успел забежать на кухню, чтобы похвастаться.
— Я бедный человек.
Хансама сделал смиренный жест, проведя обеими руками по своей изящной одежде.
— Сколько это будет стоить?
— Пятнадцать рупий. Нет, двадцать.
Это было чересчур.
— Перед отъездом я подарю тебе куртку. Перед отъездом.
Он бухнулся на пол и попытался ухватить меня за ноги в знак благодарности, но ему помешали ножки и перекладины стула.
Он был человеком измученным; я догадывался — и по тому, что слышал, и по тому, что видел, — что на кухне происходят скандалы. Он пекся о своей чести. Он был поваром. Он не был всеобщим слугой; он не учился искусству угождать и, возможно, презирал людей вроде Азиза, которые жили угождением. Я догадывался, что он порой провоцирует ситуации, с которыми потом трудно справиться; и после каждого поражения он испытывал терзания.
Должно быть, это случилось через неделю. Он прислал нам на обед мясное и овощное рагу. Порции выглядели одинаково, только в одной тарелке плавали кусочки и волокна мяса, а в другой — нет. Я мяса не ел, и при виде этих блюд необъяснимо расстроился. Я так и не смог прикоснуться к тушеным овощам. Азиз был задет; это доставило мне удовольствие. Он взял мою тарелку и пошел на кухню, и вскоре оттуда послышался голос хансамы — громкий, недовольный. Азиз вернулся один, ступая очень осторожно, как будто у него болели ноги. Через некоторое время за занавеской, висевшей в дверях, раздался чей-то голос. Это пришел хансама. В одной руке он держал сковородку, а в другой — большой рыбный нож. Лицо его раскраснелось от огня, его обезображивал гнев и чувство обиды.
— Почему вы не есть мои тушеные овощи?
Только заговорив, он сразу же потерял самообладание. Он стоял надо мной и почти орал:
— Почему вы не есть мои тушеные овощи?
Я опасался, как бы он не ударил меня высоко поднятой сковородкой, в которой я заметил омлет. Но его ярость быстро улеглась, уступив место тревоге, и он раскаялся в собственной слабости.
Я страдал вместе с ним. Но при мысли о жаренных в масле яйцах меня одолела тошнота; и я сам поразился тому, как внутри меня закипела та отчаянная злость, которая начисто лишает способности рассуждать здраво и почти физически ослепляет.
— Азиз, — проговорил я. — Попроси этого субъекта уйти.
Это было бесчеловечно; это было смешно; это было бессмысленным ребячеством. Но миг гнева — это миг, когда ясность сознания гаснет и улетучивается, а приход в себя происходит медленно и мучительно.
Некоторое время спустя хансама покинул «Ливард». Это произошло неожиданно. Однажды утром он пришел ко мне в комнату вместе с Азизом и сказал:
— Я ухожу, хазур.
Азиз, предупреждая мои вопросы, поспешил сказать:
— Это хорошо для него, саиб. Не беда. Он найти работа в семье в Барамуле.
— Я ухожу, хазур. Дайте мне рекомендацию
сейчас.
Он стоял позади Азиза и, говоря, щурил один глаз и показывал длинным пальцем на Азизову спину.
Я сразу же напечатал для него рекомендательный отзыв. Он оказался длинным и прочувствованным, но вряд ли полезным для будущего работодателя; это было свидетельство сочувствия: я понимал, что вел он себя так же неправильно, как и я сам. Пока я составлял письмо, Азиз стоял рядом и смахивал время от времени пыль, улыбаясь и следя за тем, чтобы все было в порядке.
— Я ухожу
сейчас, хазур.
Я отослал Азиза и дал хансаме больше денег, чем требовалось. Он взял их, не показав, что смягчился. Он лишь проговорил, медленно и со страстью:
— Этот Азиз!
— Это хорошо для него, — говорил потом Азиз. — Два-три дня, и мы находить новый хансама.
Так наш отель перестал казаться мне кукольным домом.
* * *
— Саиб, я просить одна вещь. Вы писать бюро туриазм, приглашать мистер Мадан на чай.
— Но, Азиз, он же в тот раз не пришел.
— Саиб, вы писать туриазм.
— Нет, Азиз. Больше никаких приглашений на чай.
— Саиб, я просить одна вещь. Вы повидаться с мистер Мадан.
На кухне вынашивалась очередная интрига. Каждую неделю Али Мохаммеду приходилось испрашивать пропуск для прохода на охраняемую полицией территорию Центра приема туристов. Это отнимало у него драгоценное время, которое он мог бы потратить на отлов туристов. Ему нужен был пропуск на весь сезон, и на кухне считали, что я смогу раздобыть такой пропуск.
— Они действительно выдают эти сезонные пропуска, Азиз?
— Да, саиб. Много
плавучих домов иметь сезонный пропуск.
Мой озерный отель — необычный, непризнанный —
дискриминировали. Не задавая больше никаких вопросов, я договорился о встрече с мистером Маданом, и когда наступил назначенный день, мы с мистером Баттом поехали в город на тонге.
И оказалось, что в бюро туризма знают обо мне! Мое прошлое письмо прославило отель «Ливард». Были улыбки и обмен рукопожатиями с чиновниками, которые были восхищены — хотя слегка озадачены — моим живым интересом. Индийская бюрократия играет в молчанку и изводит отсрочками, но она никогда не теряет и не забывает ни одного документа; и меня, как автора добровольно написанного хвалебного письма, с искренней сердечностью проводили в увешанный картинами кабинет мистера Мадана, директора.
Ожидающие приема посетители, выжидательная и серьезная вежливость директора едва не заставили меня передумать. Когда слова приветствия закончились, нужно было как-то продолжать. Итак: не может ли мистер Мадан позаботиться о том, чтобы Али Мохаммеду выдали пропуск на весь сезон, если только Али Мохаммед имеет право на такой пропуск?
— Но пропусков больше не требуется. У вашего друга, как я понимаю, британский паспорт.
Я не мог винить его в том, что он неправильно меня понял. Али не турист, объяснил я. Он хочет встречать туристов. Он — кашмирец, работник отеля; ему нужно проходить на территорию Центра приема туризма. Я понимаю, что туристов следует оберегать. И все же. Банальности, которые я произносил, тяготили меня. Я принимал все более серьезный вид, заботясь о том, чтобы выпутаться из этого разговора с достоинством.
Мистер Мадан вел себя правильно. Если Али подаст заявку, сказал он, то он, директор, ее рассмотрит.
Я пожелал ему доброго утра и поспешно вышел, чтобы сообщить новость мистеру Батту.
— Теперь вы видеть главный клерк, — сказал мистер Батт, и я позволил повести себя в комнату со столами и клерками.
Главного клерка не оказалось на месте. Потом мы нашли его в коридоре. Это был улыбчивый, хорошо сложенный молодой человек в светло-сером костюме. Он тоже знал о моем письме, он понял суть моей просьбы. Пусть владелец отеля придет сюда завтра и подаст заявку; а он постарается помочь.
— Завтра, — сказал я мистеру Батту. — Вам нужно прийти завтра.
Я поспешно оставил его и стал пробираться через территорию Правительственного торгового центра, где когда-то располагалась Британская резиденция, к набережной вдоль мутной реки Джелам. Изысканная кашмирская деревянная резьба на здании резиденции там и сям обветшала; рядом стояла невзрачная, неопрятная маленькая постройка — очень английская, очень индийская, — именовалась кафе «Эмпориум». Но участок в тени чинар оставался помпезным, огромный газон оживляли продуманно неправильной формы участки с маргаритками. Резиденция стояла у одного конца набережной, куда — как мне часто рассказывали — в прежние дни индийцев не пускали. Теперь турникеты были сломаны. Таблички с надписями запрещали ездить на велосипедах или ходить по траве на берегу; но тут все время катались на велосипедах, и на берегу была протоптана глубокая тропинка. Коровы щипали траву в садах перед зданиями, которые, отражая в действительности всего лишь заимствование кашмирского стиля, на первый взгляд смотрелись псевдо-псевдо-тюдоровской архитектурой. Сохранилось несколько старомодных лавок — вместительных, темных, с множеством витрин; казалось, здесь все еще витают надежды тысяч англо-индийцев в «увольнении». Здесь можно было наткнуться на рекламу галет, которых давно уже не делали; на щитах и стенах еще виднелись имена британских покровителей, вице-королей и главнокомандующих. В лавке чучельника висела в рамке фотография английского офицера-кавалериста, начищенным сапогом попиравшего мертвого тигра.
Слава одного рода миновала. Пора другого блеска — базарного — еще не пришла. Но она уже близилась. «Можете даже не подсказывать, сэр. По вашей одежде и по вашему выговору я уже догадался, что у вас английские вкусы. Зайдите ко мне, и я покажу вам мои коврики в английском вкусе. Глядите. Вот это в английском вкусе. Уж
я-то знаю! А теперь поглядите-ка вот на этот. Он очень тяжелый, индийский и, разумеется, хуже…»
Любимое и самое замечательное место встреч в Кашмире
РЕСТОРАН ГАВ — ЗАНИМАЕМ ПЕРВЫЕ МЕСТА
У микрофона Тони-Привет-Друзья
Со всеми Пятью Боперами
Посетителей ждут 36 сортов мороженого
ПЕЙТЕ НАПИТКИ
В НАШЕМ ЗОЛОТОМ БАРЕ ПОД ЗВЕЗДАМИ
Так зазывали листовки. А вот и само «место встреч» — новое, современное здание — «самое веселейшее», как говорилось в другой брошюрке, «самое отличное в округе». Для Тони и Пяти Боперов было еще рановато. Я заказал литр дорогого индийского пива и посидел в тишине, стараясь выбросить из головы утренние встречи.
Потом я прошелся по пыльной Резиденси-роуд, разговорился с бородатым стариком-книготорговцем. Он оказался бакалавром гуманитарных наук, бакалавром юриспруденции из Бомбея, беженцем из Синда. Он сказал, что ему восемьдесят лет. Я усомнился. «Ну, я говорю восемьдесят, чтобы не говорить семьдесят восемь». Он рассказал мне о пакистанском вторжении в 1947 году, о разграблении Барамулы. В этом самом городе Шринагаре, в этом городе, теперь принадлежавшем кучерам тонг, Али Мохаммеду и ресторану «Гав — занимаем первые места», тогда отдавали по пятьсот рупий за билеты на автобус до Джамму, стоившие восемь рупий. «Сейчас только и остается, что смеяться, вот я часто сижу тут и читаю». Он читал Стивена Ликока, обожал рассказы майора Манро. Почему же он называет его майором Манро? Ну, он прочел где-то, что Саки
[43] на самом деле был Манро и майором, поэтому ему казалось, что невежливо лишать любимого автора его звания.
Я ехал на тонге обратно к гостиничному гхату и увидел по дороге мистера Батта. Я позвал его в двуколку. Вид у него был совершенно несчастный. Оказалось, я слишком поспешно покинул его. Он не понял того, что я ему сказал, и все утро впустую прождал меня в Центре приема туристов.
На следующее утро я напечатал заявление с просьбой о предоставлении сезонного пропуска, и мистер Батт повез его в город. Было жарко и становилось все жарче. К полудню небо потемнело, опустились тучи, горы сделались темно-синими и отражались в воде до тех пор, пока по поверхности озера не стали проноситься ветры, трепать листья лотоса, терзать ивы, мотать туда-сюда тростники. Вскоре начался дождь и — после чрезвычайно жаркого утра — стало достаточно холодно. Дождь все еще шел, когда вернулся мистер Батт. Его меховая шапка промокла и превратилась в неопрятную блестящую курчавую массу, куртка потемнела от влаги, плечи сгорбились под поднятым воротником, с низа рубахи струилась вода. Я видел, как он медленно прошагал к кухне по влажным доскам, лежавшим в саду. Он скинул обувь и вошел внутрь. Я вернулся к своей работе, ожидая, что вот-вот раздастся счастливый топот босых ног. Но ничего не происходило.
И, как это бывало раньше, мне пришлось самому наводить справки.
— Азиз, мистер Батт получил пропуск?
— Да, он получить. Одна неделя.
* * *
Однажды утром, несколько дней спустя, я пил кофе в гостиной, как вдруг в дверях показалась голова того маляра в комбинезоне и сказала:
— Вы давать печатать для меня рекомендацию маляра, саиб?
Я ничего не ответил.
6. Средневековый город
Уровень воды в озере упал, опустившись до нижней ступеньки пристани; воды замутились и кишели черными стаями летних рыбок. Снег на горах к северу растаял, и голые скалы казались выцветшими и выветренными. В прохладных парках предгорий более темными зелеными пятнышками выделялись ели. Приозерные тополя потеряли прежде свежий зеленый цвет, а ветер поднимал ввысь и гонял крутящиеся листья ив. Тростники так вымахали, что начали гнуться, а когда дул ветер, то они качались и зыбились, как волны. Сморщенные листья лотоса беспорядочно торчали из воды на толстых стебельках. Потом, как слепые тюльпаны, показались лотосовые бутоны — и неделю спустя распустились, вспыхнув слабыми розовыми цветами. В саду калифорнийские маки и кларкия одичали, и их повыдергивали; бархатцы, занявшие место анютиных глазок, окрепли и выпустили бутоны. Петунии увядали в тени одной из стен гостиной; они, как и герань, поблекли и согнулись под тяжестью капель краски, которой забрызгали их маляры. Зато годетии цвели вовсю: настоящий бело-розово-сиреневый мусс. Подсолнухи, которые были юными саженцами, когда мы здесь поселились, уже так вымахали, а листья их сделались такими широкими, что я больше не мог заглянуть в их сердцевины, чтобы понаблюдать за развитием звездообразных бутонов. Из георгинов распустился пока один маленький красный цветок — яркое пятнышко на зеленом фоне из тростников, ив и тополей.
Зимородки все еще оставались с нами. Но другие птицы появлялись в саду реже. Мы скучали по удоду — по его длинному деловитому клюву, по выгнутым черно-белым полоскам на крыльях, по его хохолку, развевающемуся при приземлении. С приходом жары мелкие мушки, как и предрекал Азиз, передохли; им на смену пришли комнатные мухи. Те мухи, которых я знал раньше, боялись человека; эти же нахально садились мне на лицо и на руки, пока я работал, и несколько дней подряд я просыпался до шести часов утра от жужжанья одинокой мухи, на которую так и не подействовал «Флит». Азиз обещал москитов — они прогонят мух. Для него мухи были силой, не поддающейся преодолению; однажды я увидел, как он безмятежно спит на кухне в своем ночном колпаке, а лицо его черным-черно от неподвижных, довольных мух.
Раньше я требовал «Флит», много «Флита». Теперь я потребовал льда.
— Никто любить лед, — ответил Азиз. — Лед разогревать.
И этот ответ привел к очередной нашей молчанке.
В очень жаркие дни горы к северу от нас с утра до вечера скрывала дымка. Когда солнце клонилось к закату, долину заливал янтарный свет, и туман медленно поднимался между тополями на озере. Отчетливо виднелось каждое дерево, и со стороны горы Шанкарачарьи Шринагар, окутанный клубами пара, казался большим промышленным городом, а высокие тополя торчали заводскими трубами. На этом фоне проступал силуэт форта Акбара, стоявший на вершине красноватого холма посреди озера: солнце — слева, белый диск, медленно становящийся бледно-желтым, а горы, отступая, теряли серый цвет и пропадали вовсе.
* * *
За набережной простирался средневековый город — так, наверное, выглядела Европа в Средневековье. Влажный ли, пыльный ли, это был город запахов — от тел и живописных нарядов, выцветших и пропитанных едкой грязью, от черных, непокрытых сточных канав, от непокрытой жареной пищи и непокрытых нечистот; город плодовитых бродячих собак — красивых, но никому не нужных, — под помостами уличных лавок, полудохлых от голода щенят, дрожащих в черной спекшейся жиже под прилавками мясников, увешанными кровоточащими тушами; город узких переулков, темных лавчонок и тесных дворов, пышных юбок до лодыжек и бесчисленных хрупких мальчишеских ног, покрытых шрамами. И все же — сколько мастерства ушло на создание этих тесно стоящих деревянных построек: сколько еще сохранилось на них фантастической резьбы и деревянных деталей, которые не сразу замечаешь, потому что все обветшало и обрело серо-черный цвет; и случались тут причудливые проблески красоты, когда во мраке блестели сразу все латунные и медные сосуды из лавки с латунными и медными сосудами. Ибо на фоне здешней тусклости, на фоне ошеломляющего впечатления грязи — черной, серой и бурой, — яркие цвета выделялись и пленяли: разноцветные сладости — желтые и блестяще-зеленые, пускай даже кишащие мухами. Здесь можно было заново вспомнить, как притягательны эти основные, геральдические цвета, цвета игрушек, цвета всего, что блестит, и заново открыть для себя эти давно подавляемые детские вкусы — крестьянские вкусы, которые выливаются здесь, как и в остальных частях Индии, в мишуру, в цветные лампочки и прочую чепуху, которая когда-то манила всех нас. В этих стесненных дворах, в закоулках с грязными сточными канавами, царили яркие краски и цветистые узоры на коврах, пледах и мягких шалях. Эти краски и узоры пришли из Персии, прижились в Кашмире во всей своей пышности, во всем разнообразии, а теперь их величавая красота без разбору растрачена и на ковер ценой в две тысячи рупий, и на старое одеяло, которое после починки можно сбыть рупий за двенадцать. Посреди этой средневековой грязи и серости красота и являлась цветом: ею одинаково восхищались, будь она заключена в прекрасном ковре, в горшке с пластмассовыми маргаритками или — как было некогда в Европе — в вычурном наряде.
Таким же дополнением, как цвет, служило веселье. Зимой город спал. Туристы уезжали, гостиницы и плавучие дома закрывались, а кашмирцы, удалившись в свои темные комнаты с маленькими окошками, заворачивались в одеяла и дремали над угольными жаровнями до самой весны. А весной появлялись солнце, пыль и ярмарки: яркие краски, шум и выставленная на лотках еда. Кажется, почти каждые две недели в какой-нибудь части долины устраивалась ярмарка. И одна ярмарка походила на другую. На каждой можно было увидеть продавца картинок с разложенным на земле товаром: настенные свитки с пестро раскрашенными рисунками, изображающими индийские и арабские мечети — желанные объекты паломничества, в распластанном виде предстающие в неверной перспективе; фотографии кинозвезд; цветные портреты политических вождей; бесчисленные книжицы в бумажных обложках. Торговали там дешевыми игрушками и дешевой одеждой; были там чайные палатки и лотки со сластями. В пыли сидел индус — садху, а перед ним стоял ряд маленьких сухих пузырьков с колдовскими снадобьями из «тритоньих глаз и собачьего языка». И всегда там звучала музыка из усилителей. И на озере — теперь ставшем местом отдыха не только туристов, но и горожан, — тоже звучала музыка: она долетала с
душ — небольших некрашеных барж, которые нанимали вместе с кухарками и с багорщиком. Тот медленно ходил взад-вперед мимо кают, то неся багор в руке, то опираясь на него, не участвуя в веселье пассажиров, но, похоже, оставаясь довольным; женщина (возможно, его жена) в грязной пышной юбке, увешанная тяжелыми серебряными украшениями, одиноко сидела на высокой корме и правила длинным веслом. Это было движение ради движения. Дунги не плыли в каком-то определенном направлении и никогда не удалялись от берега настолько, чтобы не услышать крика из садов или прибрежных домов; они и причаливали к берегам, вставали там на ночлег. Такое празднество на дунге могло длиться несколько дней кряду: люди могли сойти на берег в одном месте, если того требовали их дела, а потом вновь вернуться на лодку уже в другом месте. Мне такое развлечение казалось скучным, утомительным; но мои зимы были заполнены. Пиком сезона стала ярмарка в роще Гандербала, в нескольких милях к северо-западу. Все дунги и шикары поплыли туда и остались там на ночь: движение ради движения, толчея ради толчеи, шум ради шума.
И в этом средневековом городе, как во всех средневековых городах, людей окружали чудеса. Среди этих чудес в Шринагаре были сады могольских императоров. Павильоны давно пришли в запустенье, но еще не разрушились. По воскресеньям фонтаны в Шалимаре все еще били, хотя то здесь, то там торчала погнутая или сломанная форсунка. Но местные зодчие давно уже шагнули за пределы истории — в область легенды: они превратились в сказочных персонажей, о которых мало что известно — кроме того, что они были
очень красивы, или
очень смелы, или
очень мудры, а жены их были
очень красивы. «Это?» — переспрашивал кашмирский инженер, показывая рукой на форт Акбара на озере Дал, выстроенный в конце XVI века. «Этой крепости пять тысяч лет». В мечети Хазратбал на берегу озера хранился волосок из бороды пророка Мухаммеда. Как сообщил мне студент-медик, его доставил в Кашмир, пройдя через неслыханные опасности, «один человек». Что за человек? Что он делал? Откуда он пришел? Мой студент не мог ответить на эти вопросы; он знал лишь то, что однажды, когда тому человеку угрожала особенная опасность, он рассек себе руку и спрятал священный волосок в сделанный надрез. То была подлинная реликвия, сомнения излишни. Она обладает таким могуществом, что птицы никогда не пролетают над приделом, в котором она хранится, а коровы, священные для индусов твари, никогда не усаживаются спиной к этому приделу.
Бог печется о них обо всех, и они отвечают экстазом. Мухаррам — месяц мусульманского календаря, первые десять дней которого шииты оплакивают гибель Хусейна, внука Мухаммеда, убитого в Кербеле. По ночам их завывания и песнопения долетали до нас над водой. Азиз — суннит — с ухмылкой говорил: «Шииты не мусульмане». Но на седьмое утро, когда по радио рассказывали знаменитую историю событий в Кербеле, на глаза Азиза навернулись слезы, лицо его скукожилось, и он выбежал из столовой, сказав: «Не могу больше. Я не любить слушать».
В Хасанбаде ожидалось шиитское шествие — там люди будут хлестать самих себя цепями. Азиз, справившись с утренним наплывом чувств, настойчиво предложил нам посмотреть на эту процессию и все устроил. Мы добирались туда на шикаре, быстро скользя по заплывшим тиной водяным путям озерного города — под нависающими ветвями ив, мимо грязных дворов, которые завершались бетонными ступеньками с канавами, стекавшими по бокам, где сидели и стирали белье мужчины, женщины и дети. Среди них, к своему огорчению, я увидел и нашу прачку. Эти водные пути были омерзительны, смердели сточными канавами, но из каждого двора выбегали дети — эти миниатюрные взрослые — и приветствовали нас: «Селям!»
В Хасанбаде мы пришвартовались среди десятков других шикар (у многих из них были великолепные балдахины), прошли мимо фундамента каких-то развалин, о которых никогда раньше не слышали, и очутились посреди пыльной летней ярмарки. Улицы были выметены, поливальные машины прибивали остатки пыли. Всюду стояли навесы и торговые лавки. Состоятельные женщины в толпе были закутаны в черные или коричневые покрывала с головы до самых ног в хорошей обуви; они стояли кучками, по две или по три, и мы ощущали на себе их пристальные взгляды из-за сетчатых решеток в чадрах. А вот бедные женщины обходились без покрывал: здесь, как и везде, консерватизм и правильность — привилегия людей, обретающих вес. Мы прошли мимо мужчины с дочерью; он давал ей поиграть с кнутом — пока еще не пущенным в дело.
За этой открытой, почти деревенской дорогой лежала узкая главная улица. Здесь толпа стала гуще. На многих мужчинах были черные рубашки; какой-то мальчишка нес черный флаг. Вскоре мы увидели нескольких флагеллантов. Одежда на них засохла от крови. Шествие еще не началось, и они праздно бродили туда-сюда по середине дороги, между восхищенными толпами людей, пихавшими тех, кто завтра, наверное, снова будет помыкать ими. В верхних выступающих этажах узких домов каждое кривое оконце, по-кашмирски крохотное, служило рамой для средневековой картины: внимательные лица женщин и девушек (девические — свежие, а женские — бледные от длительного затворничества), четко проступающие на фоне резкой черноты оконного проема. Внизу, на запруженной дороге, стояли грузовики, набитые полицейскими. Под прилавком мясника мальчишки мучили щенков; мы слышали, как они их пинали (странно, до чего громкий звук может исходить от таких крошечных телец); мы слышали тявканье и скуление. Разносчики выкликали товар, гудели застрявшие в людском потоке машины. И надо всем этим лилась усиленная микрофонами (в Индии микрофон — неизбежность) проповедь муллы, излагавшего события в Кербеле. В его голосе слышались сдерживаемая мука и истерия; временами казалось, что он вот-вот сорвется, но он всё говорил и говорил. Мулла вещал из-под навеса, натянутого над улицей; он был скрыт за толпой, из гущи которой кое-где торчали цветные флажки.
Появлялось все больше флагеллантов. Спина у одного из них была непристойно искромсана; еще свежая кровь стекала по его штанам. Он быстро расхаживал туда-сюда, нарочно наталкиваясь на людей и хмурясь, словно его обидели. С его пояса свисал кнут. Кнут этот состоял из шести металлических цепочек длиной около полуметра, и каждая цепочка заканчивалась маленьким окровавленным лезвием; свисая вот так с пояса, кнут походил на мухобойку. Такими же тревожными, как эта кровь, были и лица некоторых шиитов. У одного не было носа — только две дырочки в треугольнике розового крапчатого мяса; у другого были гротескно выпученные, налитые кровью глаза; у третьего не было шеи — из-под щек сразу вырастала грудь. В их поступи чувствовалась гордость; они вели себя как занятые люди, которым не до пустяков. Некоторые из окровавленных одежд вызывали у меня подозрение. Иные из них казались чересчур сухими: может быть, они остались с прошлого года, может быть, их одолжили у кого-нибудь, а может быть, вымазали кровью животных. Но в честности человека, чья почти лысая голова была перевязана, а из-под бинтов струилась кровь, усомниться было невозможно. В крови заключалась слава: тот, кто исполосовал себя сильнее других, заслуживал большего внимания.
Мы покинули раскаленную, запруженную народом улицу и выбрались на открытое пространство. Мы уселись на истоптанном пыльном кладбище, а рядом мальчишки играли камушками в какую-то непостижимую средневековую игру. До этого утра явление религиозного экстаза оставалось для меня загадкой. Но на той улице, где лишь грузовики с полицейскими, редкие автомашины, микрофоны да, пожалуй, еще мороженое, которое разносчики продавали в мелких круглых жестянках, не принадлежали средневековью, кровавое празднество выглядело совершенно естественным. А вот девушки-американки, мелькнувшие в толпе, напротив, смотрелись необъяснимо и диковинно; словно не довольствуясь тем вниманием, которое они привлекали обычно, они вырядились в облегающие одежды, которые показались бы возмутительными даже в Лондоне. Флагеллант, который, не обращая на девиц ни малейшего внимания, принялся стаскивать с себя перепачканную кровью одежду на ступеньках канала и разделся догола у всех на глазах, казался органичной частью совершавшегося действа и сегодняшнего праздничного настроения. Сейчас — его день; сегодня ему все позволено. Он заслужил эту свободу своей кровавой спиной. Он превратил скучную добродетель в зрелище.
Религиозный экстаз — выражаемый и в самобичевании, и в восхищении толпы, — проистекает из простоты, из понимания религии единственно как ритуала и незыблемости формы. «Шииты не мусульмане», — говорил Азиз. Шииты, добавил он, кланяются во время молитвы вот так, — и он показал, как; а мусульмане кланяются вот так. Христиане ближе к мусульманам, чем к индусам, потому что христиане и мусульмане хоронят своих покойников. «Но, Азиз, многие христиане выбирают кремацию». «Они не христиане». Студент-медик, объясняя разницу между исламом и сикхизмом (к которому он питал особую неприязнь), сказал, что мусульмане убивают скотину, медленно выпуская из нее кровь, читая молитвы до самой ее смерти. А сикхи быстро отсекают животному голову, безо всяких молитв. Он изобразил в воздухе этот жест, потряс головой от невольного омерзения, а потом приложил ладонь к лицу. В день Ид мистер Батт угостил нас пирогом, который назывался
Ид Мубарак, «Поздравление с праздником». Этот день застиг нас врасплох; все утро по озеру сновали шикары, полные кашмирцев — мужчин, женщин и детей, — присмиревших, неподвижных и, что самое удивительное, одетых в чистые белые и голубые одежды. Это был день визитов, подарков и пиршеств; но для кашмирцев это был еще и единственный в году день чистоты, покаянного буйства мыла, воды и вызывающей зуд новой ткани. Однако ни студент-медик, ни инженер, ни купец, которые навещали нас и приносили подарки, не могли объяснить значения этого дня. Это было лишь то, что мы видели; это был день, когда мусульмане должны есть мясо.
Религия — это зрелище, празднества, это закутанные в покрывала женщины («чтобы мужчины не возбуждались и не думали о дурных вещах», пояснил купец), похожие на выводок бройлерных кур; это ритуальное омовение гениталий на людях перед молитвой; это десять тысяч одновременных поклонов молящихся. Это и заполняющая день, заполняющая сезон смесь веселья, покаяния, истерики и — что самое главное — абсурда. Она отвечает всем простым запросам души. Она есть жизнь и Закон, и ее формы не признают ни перемен, ни сомнений, поскольку перемены и сомнения поставят всю систему, поставят самое жизнь под угрозу. «Я — плохой мусульманин, — заявил мне при первой встрече студент-медик. — Как я могу верить в то, что мир был сотворен за шесть дней? Я верю в эволюцию. Моя мать сошла бы с ума, если бы я заговорил с ней об этом». Но он не отрицал никаких форм и обрядов, не отвергал ни частички Закона; и он, пожалуй, был куда большим религиозным фанатиком, чем Азиз, который, будучи уверен в правоте собственной системы взглядов, смотрел на чужие с терпимостью и любопытством. Запуск спутников мгновенно пошатнул верования многих мусульман, ибо высшие слои атмосферы, как было издавна известно, заповеданы для всех, кроме Мухаммеда и его белого коня. Однако доктрину еще можно было приспособить к новому известию: русские всего лишь отправили свои спутники ввысь на том самом белом коне. Так вера оказывается живучей, потому что доктрина не так важна, как формы, ею порожденные. Отказ от паранджи внушает больше страха и вызывает больше сопротивления, нежели теория эволюции.
Эти формы не складывались долгими веками. Их разом навязал местному населению иноземный завоеватель, заменив более древний набор форм и правил, которые некогда люди тоже считали незыблемыми и от которых теперь не осталось и следа. Средневековое мышление могло с легкостью оценить возраст руин в пять тысяч лет; с такой же непринужденностью оно вовсе хоронило события, которые происходили триста-четыреста лет назад. И именно потому в силу отсутствия всякого чувства истории оно оказалось способным пережить столь полное обращение. Многие клановые имена кашмирцев — вроде нашего мистера Батта — зачастую имеют чисто индусское происхождение; но кашмирцы предали забвению свое индусское прошлое. В горных пещерах жили люди с жидкими бородками и усами, с красивыми, заостренными лицами; насколько я понимал, это были потомки конников из Центральной Азии. Летом они спускались с гор со своими мулами, появлялись среди кашмирцев, которые их презирали. В народе сохранилась память об их первом появлении в Кашмире: «Когда-то, давным-давно, они жили за горами. Но потом их начал истреблять властитель Кабула, и они бежали от него, перешли через горы и поселились здесь». Но о переходе населения долины в ислам памяти не сохранилось. Я догадывался, что Азиз возмутился бы, если бы ему намекнули, что его предки были индуистами. «Вот это? — спросил инженер, когда мы проезжали мимо развалин Авантипура. — Это индусские развалины». Он показывал мне древности Долины, и эти руины лежали прямо у главной дороги; но он даже не замедлил скорости и не сказал больше ни слова. Развалины VIII века были чем-то ничтожным — они не имели отношения к его прошлому. Его история началась лишь с приходом завоевателей; невзирая на проделанные путешествия и полученные степени, он оставался средневековым неофитом, который вечно ведет священную войну.
Однако та религия, которую исповедовали в долине, не была чистой. Исламу свойственно иконоборчество — а кашмирцы неистовствовали, когда видели волосок из бороды Пророка; к тому же повсюду на берегах озера стояли мусульманские святилища, освещавшиеся по ночам. Но я-то знаю, что сказал бы Азиз, если бы я сообщил ему, что истинные мусульмане не поклоняются реликвиям. «Они не мусульмане». Случись очередное религиозное обращение, навяжи кто-нибудь местным жителям новый готовый Закон — и через сотню лет здесь уже не останется памяти об исламе.
* * *
С политикой все обстояло так же, как с религией. Те аналитические обзоры ситуации в Кашмире, которые я постоянно читал в газетах, не имели отношения к проблеме, существовавшей для самих кашмирцев. Самыми антииндийски настроенными жителями Долины были поселенцы-мусульмане из Пенджаба, часто занимавшие высокие посты; для них кашмирцы были «трусливыми» и «жадными»; они часто являлись в наш отель, принося слухи о перемещениях войск, о мятежах и столкновениях на границе. Для политических взглядов кашмирцев было характерно не своекорыстие, а страсть к чудесам и мифотворчеству. В их мифах герой был один — шейх Абдулла, «Кашмирский Лев», как называл его мистер Неру. Это он освободил кашмирцев; он был их вождем; он хорошо относился к Индии, но потом стал плохо к ней относиться, а с 1953 года — за вычетом нескольких месяцев — сидел в тюрьме. Больше ничего мне не удавалось услышать от кашмирцев; я не мог добиться хоть каких-нибудь рассказов о достижениях их вождя, о его личности или притягательности. Мне сообщали снова и снова, как будто это что-то объясняло, что в 1958 году, когда его выпустили из тюрьмы, вдоль дороги от Куда до Шринагара выстроились толпы людей, и всюду были расстелены красные ковры.
«Слушайте, — говорил студент колледжа, — и я расскажу вам, как шейх Абдулла завоевал свободу для народа Кашмира. Много, много лет шейх Абдулла боролся за свободу народа. И вот однажды Махараджа
очень перепугался и послал за шейхом Абдуллой. Он сказал шейху Абдулле: „Я дам тебе все, чего пожелаешь — даже половину моего царства, если ты только оставишь мне трон“. Но шейх Абдулла отказался. Махараджа
очень разгневался и сказал: „Тогда я брошу тебя в кипящее масло“. А вы понимаете, чем бы это закончилось. Осталось бы только горстка пепла. Но шейх Абдулла сказал: „Ладно, вари меня в масле. Но знай: из каждой капли моей крови вырастет новый шейх Абдулла“. Когда Махараджа услышал это, то
очень испугался и отрекся от трона. Вот как шейх Абдулла завоевал свободу для народа Кашмира».
Я усомнился. Я возразил, что в жизни люди ведут себя иначе.
«Но это правда. Спросите любого кашмирца».
В таком изложении событий 1947 года не нашлось места ни для Конгресса, ни для Ганди, ни для британцев, ни для пакистанского вторжения. И это — на самом высоком уровне знания английского! Ниже этого уровня стояли люди вроде Азиза, который едва ли не каждый день с тоской вспоминал времена репрессивного правления Махараджи, потому что тогда все стоило очень дешево. Недавняя история уже превращалась в средневековую легенду. Азиз и хансама обслуживали когда-то британцев; те запомнились им как люди с определенными вкусами, навыками и словечками (например, «падре» вместо «священник»; а у Азиза «стервец» было ласковым обращением к собаке), которые ушли так же необъяснимо, как и пришли. Но выросло уже целое поколение студентов, которые знали о британцах лишь по своим учебникам истории, и для них британская интервенция уже была столь же отдаленной, как и слава Великих Моголов.
Как-то раз Башир сообщил мне, что «Ост-Индская компания ушла в 1947 году»
[44]; и в ходе наших политических споров это был единственный случай, когда он вообще упомянул британцев. Баширу было девятнадцать лет, он учился в колледже. «Я —
лучший спортсмен, — говорил он мне при знакомстве. — Я лучший пловец. Я знаю
всю химию и
всю физику». Ему не нравилась привычка кашмирцев и индийцев ходить в пижаме на людях; он сообщил мне, что никогда не плюет на улице. Себя он считал образованным и эмансипированным: он обедал со всеми людьми, независимо от религиозной принадлежности. Он носил костюмы в европейском стиле, а по-английски говорил так хорошо потому, что «происходил из необычайно интеллигентной семьи».
Быть может, подобное незнание истории объяснялось глупостью Башира, или тем, что он получал образование на языке, который не до конца понимал (говоря «лучший», он имел в виду «очень хороший»). А может быть, в этом были повинны плохие учителя и плохие учебники. (Позже я ознакомился с одной из его исторических книжек. Это оказался типично индийский учебник, составленный в форме вопросов и ответов: он указывал на сохранение чистоты как на одно из достоинств кастовой системы, а смешение рас называл одной из причин упадка португальского могущества в Индии.) А может быть, Башир и его друзья просто не интересовались политикой. Действительно, если не читать газет и не слушать радио, то можно было жить в Кашмире неделями и даже не подозревать о существовании кашмирской проблемы. Но Кашмир обсуждали со всех сторон. Радиостанция «Вся Индия» передавала репортажи о ежегодных дебатах на эту тему в ООН; пакистанское радио неустанно предупреждало, что в Кашмире, как и в остальной Индии, ислам находится в опасности, а радиостанция «Кашмир» столь же неустанно мстила. Мистер Неру приехал в Шринагар, и радио Пакистана сообщило, что общественное собрание, к которому он обратился с речью, в беспорядке рассеялось. (На самом деле, он просто поправлялся здесь после болезни.) Какие бы еще доводы ни находились, невежество Башира относительно недавней истории и положения в собственной стране поражало. А ведь он принадлежал к числу привилегированных. Ниже него стояли чумазые, босоногие, недокормленные ученики начальной школы в голубых рубашках, у которых не было возможности продолжить учебу в колледже; ещё ниже стояли те, у кого вовсе не было возможности посещать школу.
Однажды во второй половине дня я лежал в постели с воспалением горла, когда Башир привел ко мне Кадыра. Кадыру было семнадцать лет, он был маленьким, с кроткими карими глазами на угловатом лице. Он учился на инженера, но мечтал стать писателем.
— Он —
лучший поэт, — сообщил Башир и, перестав расхаживать по комнате, плюхнулся на кровать, сев прямо мне на ноги, и схватил мои сигареты.
Он привел Кадыра, чтобы познакомить меня с ним; но его цель заключалась еще и в том, чтобы похвастаться мной перед Кадыром, а помочь ему в этом могла только подобная дружеская фамильярность, которой раньше он никогда не допускал в общении со мной. Но поставить его сейчас на место было немыслимо. Я просто пошевелил пальцами ног под его спиной.
— Когда Башир сказал мне, что может познакомить меня с писателем, — сказал Кадыр, — конечно, мне очень захотелось прийти.
— Лучший поэт, — проговорил Башир и привстал с моих ног, опершись на локти.
Рубашка поэта, распахнутая у шеи, была грязной; в верхней части свитера виднелась дырка. Он был такой маленький, чувствительный и обтрепанный: я поддался его очарованию.
— Он
великий пьяница, — сказал Башир. —
Слишком много виски.
Это служило доказательством его таланта. В Индии поэтам и музыкантам приходится играть свою роль до конца: от них требовалось быть печальными и крепко пить.
Но Кадыр выглядел совсем юным, совсем бедным.
— Ты правда пьешь? — спросил я его.
Он ответил просто:
— Да.
— Читай, — приказал ему Башир.
— Но он же не поймет урду.
— Читай! Я переведу. Это нелегко, вы понимаете. Но я переведу.
Кадыр стал читать стихи.
— Он рассказывает, — пояснил Башир, — о дочери бедного лодочника, понимаете… Он говорит в своем стихотворении, что она дарит цвет розе. Понимаете, мистер? Другой, наверное, сказал бы, что
роза дарит цвет щекам девушки. А он говорит, что девушка дарит цвет розе.
— Очень красиво, — сказал я.
Кадыр устало проговорил:
— В Кашмире есть только красота, и больше ничего.
Потом Башир, блестя своими большими глазами, продекламировал какие-то строки и пояснил, что их можно прочесть на одном могольском здании в Дели. Он вдруг сделался сентиментальным и принялся рассказывать:
— Однажды англичанин гулял по холмам. И увидел под деревом девушку-гуджаратку. Она была
очень красивая. И она читала Коран. Англичанин подошел к ней и спросил: «Ты выйдешь за меня замуж?» Она оторвала взгляд от Корана и ответила: «Конечно, выйду. Но сперва ты должен отказаться от своей веры и перейти в мою». Англичанин сказал: «Конечно, я переменю веру. Я люблю тебя больше всего на свете». И он переменил веру, и они поженились. Они жили
очень счастливо. У них родилось четверо детей. Один сын стал полковником в армии, другой стал подрядчиком, а дочь вышла замуж за шейха Абдуллу. Англичан был очень богат.
Слишком много денег. Он владел отелем «Неду». Знаете отель «Неду»? Лучший в Шринагаре.
— Лучший — «Оберой-Пэлас», — возразил Кадыр.
— Лучший — «Неду». Лучший отель. Ну вот, вы поняли — она англичанка!
— Кто?
— Жена шейха Абдуллы.
Чистокровная англичанка.
— Она не может быть чистокровной англичанкой, — возразил Кадыр.
—
Чистокровная англичанка. Ее отец был англичанином. Он владел отелем «Неду».
Вот так, в этом мифотворческом ключе, разговор часто переходил на шейха Абдуллу. Почему же шейх Абдулла рассорился с Нью-Дели? Один человек сказал, что индийское правительство захотело тогда купить Почту, а шейх Абдулла не желал ее продавать. Что тут подразумевается, ясно: произошла грызня из-за требования большей автономии. Однако мой информант считал, что Почта — это здание почтового отделения на Набережной, где торговали всякой всячиной и каждый день делали неплохой оборот. Его-то, по мнению моего собеседника, и желало похитить индийское правительство у Кашмира. Это был образованный человек, и можно не сомневаться, что факт требования большей автономии подвергся значительному искажению и упрощению, прежде чем его довели до сведения крестьян. Пропаганде необходимо находить свой уровень, а средневековая пропаганда была так же страшна своей умной простотой, как и любой другой метод скрытого внушения. Пакистанское радио заявляло, что огромные деньги, которые расходуются в Кашмире на образование, служат средством для подрыва Ислама и Закона; и это оказывалось более действенной пропагандой, чем выставленные кашмирским правительством щиты с фактами и цифрами, касающимися развития штата.
— Но ведь шейх Абдулла пробыл министром больше пяти лет. Что же он делал?
— А, в этом-то вся соль. Он ничего не делал. Он ни от кого не хотел принимать помощи. Он хотел, чтобы народ Кашмира научился стоять на собственных ногах.
— Но, если он ничего не сделал за пять лет, то почему вы считаете его великим? Приведите мне хотя бы один пример его величия.
— Я вам приведу пример. Случился такой год, когда рис не уродился, и люди начали голодать. Они пришли к шейху Абдулле и сказали ему: «Шейх Абдулла, у нас нет риса, мы умираем от голода. Дай нам риса». И знаете, что он им ответил? Он ответил: «Ешьте картофель».
В этом не было ничего смешного: шейх дал благоразумный совет. Индийцам нравится есть то, что они ели всегда, а основные продукты питания разнятся от провинции к провинции. В Пенджабе, например, едят пшеницу. В Кашмире, как и на юге страны, едят рис. Причем один только рис — огромные порции риса, сдобренные разве что чуточкой томатного соуса; именно они давали силы подвижному маленькому телу Азиза. Когда не было риса, кашмирцы голодали; может, у них и был картофель, но картофель ведь не еда. В этом-то и заключалась суть совета шейха Абдуллы. Излишне и говорить, что его совету не вняли, зато впоследствии превратили его в образец почти пророческой мудрости, о котором следовало с восхищением рассказывать потомкам.
И вот не стало пищи на земле, и народ пришел к вождю и сказал: «У
нас нет еды. Мы умираем от голода». А вождь ответил: «Это вы так думаете, будто у вас нет еды. Но у вас же есть картофель. А картофель — это еда».
По дорогам то и дело проносились белые джипы и универсалы. Днем они, похоже, возили на пикники женщин и детей в соломенных шляпках, а вечером — игроков в бридж. На этих джипах и универсалах виднелись тонкие квадратные буквы: ООН; они наблюдали за линией прекращения огня. В Кашмире эти машины казались таким же анахронизмом, как часы с боем в декорациях к «
Юлию Цезарю»
[45].
* * *
Но деньги в Кашмире водились — и теперь больше, чем когда-либо ранее. Мне рассказывали, что в 1947 году во всем штате насчитывалось пятьдесят два автомобиля, — теперь же их число выросло почти до восьми тысяч. В 1947 году плотник зарабатывал две-три рупии в день, сейчас же он мог заработать одиннадцать рупий. Новое богатство сказывалось и в возраставшем количестве женщин в покрывалах: для какого-нибудь кучера тонги или продавца топлива новая, закутанная в покрывало жена становилась символом его положения. Предполагается, что в Кашмире, как и в остальной Индии, около трети средств, отведенных на развитие хозяйства, уходит на коррупцию и обмен подарками. И это не считается чем-то зазорным. Кашмирский портной с завистливым восхищением рассказывал о своем друге
патвари (это что-то вроде инспектора и хранителя документов), который за один день порой умудряется собрать сто рупий; водитель грузовика с таким же восхищением относился к инспектору дорожного движения, который ежемесячно получал от водителей грузовиков деньги за «защиту». Время от времени в прессе и парламенте происходил взрыв возмущения коррупцией, и тогда в отдельных местах мгновенно принимали различные меры. Например, в одном штате министр обвинил в коррупционных замашках собственного привратника: привратник, мол, кланялся ему слишком низко и слишком часто, явно показывая, что ждет чаевых. Архитектор в Дели сказал мне, что даже такие символические попытки «искоренить» коррупцию по-своему вредны и опасны: Индии необходима система, а
эта система — единственная, какая тут работает.
От инженера я узнал, как эта система работает в Кашмире. Подрядчик выкапывает, скажем, сто кубометров земли. А счет подает на двести кубометров. Именно для пресечения подобных мошенничеств Индийская гражданская служба разработала метод проверки и встречной проверки. Нужно проверить, соответствует ли истине заявка подрядчика; результат этой проверки также необходимо подтвердить; полученное подтверждение тоже, говоря коротко, следует одобрить. В основательности такой системы и заключается ее справедливость. Когда проверка завершается на всех уровнях, то все, от начальника до гонца, уже посвящены в подоплеку дела, и каждому необходимо сделать подношение. С подрядчика взимается четко установленная доля от дополнительной прибыли, и эту долю распределяют — опять-таки в четко установленных пропорциях — между всеми работниками департамента, участвовавшими в операции проверки. Все это заранее регламентировано и делается открыто; все проходит — как, улыбаясь, сказал инженер, употребив типичный оборот гражданской службы, — «через должные инстанции». И ни одному
правительственному чиновнику практически невозможно уклониться от этой практики, да никто особенно и не хочет этого делать. Взяток ожидают; подрядчик, который выроет сто кубометров и пришлет счет за сто кубометров, скорее всего попадет в беду. Действительно, случалось такое, что гражданского служащего, который протестовал против коррупции, переводили в другое место или вовсе увольняли — за коррупцию. «Даже если подрядчик — родственник, — говорил инженер, — он все равно должен что-то давать. Таков принцип всей системы». Начальник не обязательно получает самую крупную часть от одного сбора; но в итоге он, конечно, наживается больше своих подчиненных, потому что ему достаются отчисления от большего количества сборов.
Инженер находился в своем лагере на опушке соснового леса, где на закате делалось холодно. Дорожку, которая вела к его палатке, окаймлял бордюр из беленых камней. В другой палатке, в некотором отдалении, его подчиненные готовили ужин. Инженер рассказал, что поначалу, когда он только пришел на эту должность, у него были нелады с рабочими. Дело в том, что его предшественник несправедливо распределял прибыль, и рабочие вышли из повиновения. Первым делом инженер отказался от собственной доли; кроме того, он приобщил их к кое-каким припасам, к которым те формально не имели доступа. Это успокоило рабочих. По словам инженера, сам он был против такой системы. С другой стороны, если системой управлять справедливо, то можно многого добиться. У людей появляется заинтересованность в работе. Возьмем, к примеру, телеграфные столбы. Эти столбы должны иметь определенную ширину и 10 м в высоту; а вбивать их в землю следует на глубину 1,5 м. Если, допустим, вам привезли столбы длиной 9,5 м (ведь стоящего навара можно было ожидать только от таких нестандартных столбов), то важно установить эти столбы как можно быстрее. И кто потом скажет, что они заглублены в землю всего на метр?
Нет способа проверить правдивость слов инженера. Но я догадался, что рассказанное им частично объясняет незаконную вырубку деревьев, которая лишает Кашмир его доступных лесов. (Именно этим кашмирцы объясняли необычайную знойность последних летних сезонов.) И кончено же я замечал, как опасно низко свисают провода с многих телеграфных столбов в Шринагаре.
* * *
Похоже, нам грозила опасность вовсе лишиться гостиничного сада. Сначала там начали копать яму для уродливого телеграфного столба, чтобы провести электрические провода. Затем принялись копать под столбы для тента, который с помощью принятых на озере грубых плотницких приемов возвели с быстротой молнии; в гостиничный сад нахлынуло множество приозерного люда в пижамах, в просторных штанах, и каждый хотел помочь делом или советом или просто поглазеть. Тент был характерным атрибутом плавучего дома; потому-то он и появился в саду, где не служил вовсе никакой цели. Тени он давал мало, а когда солнце садилось, напротив, под ним было жарко; всякий раз, как небо грозило дождем, его убирали. У него были зазубренные края с черной каймой, и выглядел он точь-в-точь как все остальные лодочные тенты в округе. Эти тенты шились в единственной портновской мастерской, стоявшей на главном водном пути, где едва ли не все — торговцы цветами, зеленщики, полицейские в красных тюрбанах — останавливались, чтобы поболтать и покурить кальян.
День или два спустя мистер Батт красил столбы для навеса в светло-зеленый цвет, и я вышел поглядеть, как он это делает. Он взглянул на меня и улыбнулся, потом опять замахал кистью. Потом снова обернулся — уже без улыбки.
— Сэр, вы приглашать мистер Мадан на чай?
— Нет, мистер Батт.
* * *
Лето казалось нескончаемым. Руины мы все время откладывали на потом: Дворец Фей, стоявший на холмах по другую сторону озера и видный нам отсюда; озерную крепость Акбара, Хари-Парбат; храм в Пандретхане; солнечный храм в Мартанде; храм в Авантипуре. И вот теперь мы посетили их все сразу.
Когда мы отправились в Авантипур, стояла прохладная погода, и сухие поля выделялись тепло-коричневыми пятнами на фоне темных серо-синих гор. В развалинах храма нам было трудно разобраться: массивная платформа посередине, купели из прочного камня в форме наковальни, валявшиеся среди валунов, резные орнаменты. От селянина, который навязался к нам, проку было мало. «Это
всё упало», — сказал он на хиндустани и махнул рукой.
«Всё?»
— «Всё». Это был тот типичный северо-индийский диалог, который создается одной только интонацией, которым я уже научился наслаждаться. Селянин показал на базу колонны и жестами объяснил, что она служила нижней частью ручной мельницы. Этим его познания исчерпывались. Бакшиша он не заслужил; и мы направились к деревне — ждать автобуса.
Занятия в школе закончились, и на улицу гурьбой высыпали мальчишки в голубых рубашках; в боковом переулке мы увидели, как молодой учитель-сикх руководит игрой в мяч на школьном дворе. Нас облепили мальчишки; у всех в руках были огромные узлы с книгами, завернутыми в грязные, залитые чернилами тряпочки. Мы попросили одного мальчика достать учебник английского. Тот раскрыл его на странице с текстом «Наши питомцы», прочел: «Наше тело» и отбарабанил текст, который мы, после некоторых поисков, обнаружили на другой странице. А это что за учебник? Урду? Дети зашлись от смеха: это же фарси, персидский язык, любому ребенку это ясно. Вокруг нас уже собралась целая толпа. Мы выбрались из нее, сказав, что нам нужно возвращаться в Шринагар; и тогда все школьники принялись подзывать для нас автобусы. Проехало много забитых автобусов; потом промчался еще один, как будто заколебался в нерешительности — и притормозил. Какой-то кашмирец попытался залезть в него, но кондуктор его оттолкнул: он берег места для нас.
Мы сели в задней части автобуса, среди каких-то фантастически немытых людей в побуревших от грязи хлопчатобумажных дхоти и среди множества жестянок от «Далды». Мужчина, сидевший рядом со мной, распластался на сиденье, как будто ему было плохо. Его глаза казались бессмысленными, на губах и щеках безмятежно сидели омерзительные индийские мухи; время от времени этот человек театрально стонал, но никто из пассажиров автобуса, оживленно болтавших между собой, не обращал внимания на эти стоны. Мы поняли, что попали в автобус с туристами с «низкими доходами» и сидим сейчас рядом с их слугами.
Возле руин автобус остановился, и одетый в хаки усатый водитель обернулся и попытался убедить пассажиров выйти и взглянуть на развалины. Никто не шевельнулся. Шофер продолжал уговаривать, и вот один пожилой мужчина, в котором мы уже признали главного остряка и вожака группы, со вздохом поднялся с места и вышел. На нем была индийская черная куртка, а пучок волос на голове свидетельствовал о том, что он — брахман. Другие последовали за ним.
Вдруг непонятно откуда выбежали дети.
—
Пайса, саиб, пайса.
— О, вам нужны деньги? — спросил брахман на хинди.
— А на что такому малышу деньги?
—
Роти, роти, — нараспев закричали дети. — Хлеб, хлеб.
— Вот как, хлеб?
Но старик только поддразнивал их. Он дал им монетки, и другие туристы последовали его примеру.
Вожак взобрался на верхнюю каменную ступеньку и окинул руины покровительственным взглядом. Он отпустил шутку; он начал читать лекцию. Другие послушно слонялись поблизости, безо всякого любопытства глядя туда, куда глядел вожак.
Ко мне поспешно приблизился юноша лет шестнадцати в белых фланелевых штанах и сообщил:
— Это крепость Пандавов.
Я возразил:
— Это не крепость.
— Это крепость Пандавов.
— Нет.
Юноша с недоумением махнул в сторону вожака.
— А он говорит, что это крепость Пандавов.
— Скажи ему, что это чепуха. Он сам не знает, о чем говорит.
Мальчик посмотрел на меня с такой оторопью, словно я ударил или оскорбил его. Потом попятился в сторону, повернулся и побежал к группе, обступившей своего вожака.
Мы снова сидели в конце автобуса, и он уже собирался отъезжать, когда вожак вдруг предложил поесть. Кондуктор опять открыл дверь, и один из слуг — особенно грязный, старый и беззубый, — засуетился. Проворно и по-хозяйски он стал проталкивать по проходу жестянки «Далда» и вытаскивать их на обочину дороги. Я запротестовал было, видя новую отсрочку; мальчик в белых штанах поглядел на меня с ужасом; и тут я наконец понял, что мы очутились среди членов одного семейства, что автобус этот заказной, что нас подобрали из милосердия. Автобус снова опустел. Мы остались беспомощно сидеть на своих местах, а тем временем мимо проезжали пассажирские автобусы на Шринагар, где явно имелись свободные места.
Это было брахманское семейство, и вегетарианская пища подавалась согласно определенному обряду. К ней не позволялось прикасаться никому, кроме того старого грязного слуги, который при упоминании еды встрепенулся и начал энергично действовать. Теми самыми пальцами, которыми минуту назад он скручивал сморщенную сигарету, а потом подхватил пыльные жестянки «Далда» с пыльного автобусного пола, теперь он — разумеется, используя только правую руку, — раздавал туристам
пури[46] вынимая их из одной жестянки, зачерпывал приправленную карри картошку из другой жестянки, а потом поливал соусом
чатни из третьей. Этот слуга был из правильной касты, и никакая еда, поданная его правой рукой, не могла быть нечистой. Еда поглощалась с удовольствием. Только что обочина была пустынна; но тут в мгновенье ока едоков окружили селяне и длинношерстные кашмирские собаки. Собаки держались поодаль — они стояли как вкопанные, опустив чуткие хвосты, а позади них поля простирались до самых гор. А селяне — мужчины и дети — встали прямо над сидевшими на корточками едоками, которые — в точности как знаменитости в гуще восторженной толпы — слегка изменили свое поведение. Они стали есть с более шумным смаком, чуть-чуть повысили голоса, начали смеяться громче и дольше. А слуга, сделавшись еще суетливее, хмурился, словно под гнетом важных обязанностей. Его губы совсем пропали между беззубыми деснами.
Вожак что-то сказал слуге, и тот направился к нам. Деловито, как человек, у которого мало времени, он сунул нам в руки два пури, положил на пури картошку, капнул на картошку чатни и ушел, обнимая свои жестянки, оставив нас с поднятыми правыми руками.
К двери автобуса подошел делегат от семейства.
— Только
попробуйте нашу еду.
Мы попробовали. Мы чувствовали на себе взгляды селян. Мы чувствовали на себе взгляды брахманов. Мы улыбались и ели.
Вожак пытался завязать с нами дружбу; он пробовал втянуть нас в разговор. Мы улыбались — и теперь настал черед того мальчишки в белых штанах враждебно смотреть на нас. И все равно всю дорогу до Шринагара мы улыбались.
* * *
До сих пор я чувствовал себя в Индии только туристом. Ее размер, ее климат, ее толпы: ко всему этому я заранее готовился, но в своих крайностях эта страна оказалась для меня чужой. Высматривая знакомые черты, я снова — вопреки своей воле — сделался островитянином: я искал что-то маленькое и управляемое. С самого дня приезда я понял, что национальное сходство здесь мало что значит. Люди, которых я встречал в делийских клубах, в бомбейских квартирах, селяне и чиновники деревенских «округов» оказывались совершенными незнакомцами, я не мог постичь, что за среда их породила. Их отличала одновременно и узость, и широта. Их выбор почти во всем был более ограниченным, чем мой; в то же время сразу чувствовалось, что они — жители большой страны: они принимали ее величину с легкостью и без малейшего налета романтики. Пейзаж казался мне грубым и неправильным. Я никак не мог соотнести его с самим собой: я искал уравновешенных сельских пейзажей индийского Тринидада. Однажды, возле Агры, я увидел — или заставил себя увидеть — подобный пейзаж; но его портил передний план — несчастные, изможденные люди, лежавшие на чарпоях. Во всех поразительных деталях, на которые оказалась богата Индия, не было ничего, что я мог бы связать с собственными представлениями об Индии, вывезенными из маленького тринидадского городка.
И вот теперь, в Кашмире, эта неожиданная встреча с семейством туристов стала этим недостающим звеном. Короткое посещение «крепости Пандавов», веселье экскурсантов, раздача мелких монеток детям-попрошайкам, еда, грубая манера ее раздачи, которая на самом деле скрывала соблюдение множества предписанных правил: казалось, я давно знаю это семейство, я мог без труда определить, какие взаимоотношения связывают этих людей, мог сразу выделить среди них и сильных, и слабых, и интриганов. Три поколения, отделявшие меня от них, мгновенно сжались до одного.
Эта встреча не только разворошила детские воспоминания — она пробудила и некое окоченевшее сознание. То, что пищу следует подавать строго определенным способом, я понял сразу. Так же легко я понял и эту смесь строгости и грязи, нарочитую небрежность, с какой шлепались на руки все эти пури с картошкой. Отчасти это был своего рода перевернутый аскетизм, с помощью которого усиливалось необходимое удовольствие, а отчасти — убеждение (быть может, зародившееся в сельском обществе с недостатком орудий, а быть может, идущее от религии), что всякая утонченность излишня, вычурна и нелепа.
Роскошь у индийцев — и особенно у индусов — всегда кажется неестественной, вымученной. Ни один другой народ не относится с таким равнодушием к интерьерам. По-видимому, это равнодушие имеет исторические корни. «Камасутра», посоветовав человеку светскому «селиться там, где есть хорошая возможность нажить богатство, при этом предпочтительно выбирая большой город, метрополию или небольшой городок», далее описывает рекомендуемую обстановку гостиной: «В этой наружной комнате должна стоять кровать с хорошим матрасом, имеющим небольшое углубление посередине. В изголовье и в изножье должны лежать подушки, а матрас должен быть застелен безупречно белой чистой простыней. Возле этой кровати должна стоять небольшая кушетка для любовных соитий — дабы не запятнать само ложе. Над изголовьем кровати нужно прикрепить к стене небольшую полочку в форме лотоса, куда следует поместить цветное изображение или статуэтку своего любимого божества. Под этой полочкой следует поставить к стене небольшой столик, в локоть шириной. На этом столике нужно разместить следующие предметы, необходимые для ночных наслаждений: мази и душистые благовония, гирлянды, цветные восковые сосудики, флакончики для ароматов, гранатовую кожуру и приготовленную из бетеля смесь. На полу возле ложа должна стоять плевательница; еще необходима лютня, доска для рисования, сосуд с красками и кистями, несколько книг и цветочных венков, которые можно повесить на слоновьи бивни, торчащие из стены. Возле ложа на полу следует поставить круглый стул со спинкой-изголовьем. У стены пускай стоят доски для игр в кости и шахматы. А в галерее, примыкающей к комнате, на слоновые бивни, прикрепленные к стене, следует повесить клетки для ручных птиц». (Примечание автора.)
Это было прежде всего почтение к формам — к тому способу, каким всегда совершались определенные действия.
И все же нас разделяли три поколения и утраченный язык. Это — крепость Пандавов, сказал мне тот мальчик. Пандавы — герои «Махабхараты», одного из двух индусских эпосов, известных всему миру и чтящихся в Индии так, как чтят священные книги; Бхагаватгита является частью «Махабхараты». Некоторые считают, что «Махабхарата» создана в IV веке до н. э.; события, которые в ней описаны, относятся приблизительно к 1500 г. до н. э. И все-таки развалины какого-то явно четырехстенного здания, открытого со всех сторон, в котором даже самое буйное воображение не могло бы увидеть крепости пяти принцев-воителей, — эти развалины были крепостью Пандавов. И не скажешь, что крепости здесь в диковинку: в самом Шринагаре стоит крепость, не заметить которую попросту невозможно. Туристы из автобуса не верили собственным глазам не потому, что жаждали чудес, а скорее потому, что, живя среди чудес, они уже утратили способность поражаться чудесному. Они с неохотой вылезли из автобуса. Они знали и помнили историю «Махабхараты» с детства. Эта история была частью их самих. Они были равнодушны к ее подтверждению в скалах и камнях, давно рассыпавшихся в руины и превратившихся в обычный хлам, который можно видеть совершенно прямо, без условностей. Значит, это крепость Пандавов, вот эта никому не нужная россыпь обломков. Ладно, пора обедать, пора есть пури с картошкой. Истинное чудо Пандавов и «Махабхараты» они носили в своих сердцах.
В нескольких милях от Шринагара, в Пандретхане, посреди армейского лагеря, в центре маленького искусственного пруда кривовато возвышался в углублении, в тени большого дерева крошечный, в одно помещение, храм. Вода в пруду была стоячая, на поверхности плавали листья; тяжелая, неуклюжая каменная кладка храма была кое-где грубо залатана свежим бетоном. Этот храм был построен в том же стиле, что и Авантипурские руины, «крепость Пандавов»; но им по сей день продолжали пользоваться, и именно это — в большей степени, нежели его возраст — придавало зданию большее значение. Романтика рождается там, где есть чувство не одной только физической утраты; а здесь — как для мусульман, так и для индусов — ничто как будто и не утрачивалось. Здание может обрушиться, его могут уничтожить, оно может просто сделаться бесполезным; тогда его место займет другое здание — больших или меньших размеров или красоты. С восточной стороны от озерного форта Акбара лежало в развалинах изящное здание. Возможно, когда-то это был мавзолей. Две башни возвышались у одного конца небольшого прохладного квадрата, стены которого когда-то были облицованы черным мрамором. Башни раскрошились, плоский кирпичный свод был проломлен; утонченных пропорций могольские арки были заложены сырцовыми кирпичами, теперь уже частично рассыпавшимися; щебень и камни загромождали входы и усеивали могольские лестницы с высокими ступенями, которые вели к низким пыльным залам с давно сломанными или утраченными оконными решетками тонкой каменной резьбы. Однако упадок — сколь бы вопиющим он ни был — существовал только в глазах приезжего. А важнее самих развалин были сколоченные из рифленого железа уборные и умывальники, устроенные здесь для нужд верующих, которые приходили молиться в соседнюю мечеть.
Могольские сады оставались прекрасными, потому что они все еще были садами; они по-прежнему служили своему назначению. Мавзолей, возведенный в ту же эпоху, перестал служить своей цели — а значит, среди его обломков можно было устроить сортир. Это неизученное чувство текучести и преемственности и было причиной, по которой долина постоянно обезображивалась: ибо если упадок существовал только в глазах туристов, то так же обстояло и с красотой. Садовники, разбивавшие здесь сады, явно хотели, чтобы сады и парки, окружающие озеро, так и стояли здесь в одиночестве. Но с одной стороны от зеленой пагодообразной крыши павильона, возвышавшегося над деревьями сада Часмашахи, сейчас торчали, отовсюду видные, десять новеньких «туристских домиков»: шесть выстроились в один ряд, еще четыре — в другой. С другой стороны от павильона стоял государственный Гостевой дом, где останавливался когда-то мистер Неру; неподалеку от него находился завод по пастеризации и разливу молока; а рядом с заводом — что ж, вполне логично, — размещался комплекс зданий государственной фермы. Кажется, там разводили овец. Их тропы испещряли весь склон холма, по которому нужно было подниматься к Пери-Махалу, Дворцу Фей, — сооружению XVIII века, которое некогда, наверное, служило библиотекой или обсерваторией, но, чем бы оно ни было, уже давно обросло легендами. Уплощенные, засаженные террасы этого холма, сладко пахнувшего дикими белыми розами и опасно кишевшего пчелами, были сплошь усеяны овечьим пометом. Сквозь крутые арочные проемы, где из-под растрескавшейся штукатурки проглядывала кирпичная кладка, можно было увидеть озеро. А по озеру — на радость всему приозерному люду — носилось теперь все больше моторных лодок. Они загрязняли и воздух, и воду; их громкий стрекот разносился очень далеко; их пропеллеры взбивали целые облака грязи; и еще долго после того, как они пронеслись, вода оставалась взмученной, билась в плавучие сады, размывая их края, раскачивала и заливала шикары. И это — только начало.
Средневековое мышление, которое способно видеть вокруг только преемственность, казалось неприступным. Оно существовало в мире, который, со всеми его взлетами и падениями, пребывал гармонично упорядоченным и мог лишь приниматься как данность. В нем так и не получило развития чувство истории — то есть чувство утраты; в нем не получило развития истинное чувство красоты — то есть способность к оценке. Пока этот мир замкнут, он находится в безопасности. Открываясь взорам посторонних, он становится сказочной страной, необычайно хрупкой. Всего один шаг — от кашмирских благочестивых песнопений до коммерческой рекламы на радиостанции «Цейлон»; всего один шаг — от роз Кашмира до ведерка с пластмассовыми маргаритками.
* * *
Отныне именно под «лодочным» навесом мистер Батт церемонно принимал гостей — и озерных жителей, и туристов. Именно там одним чрезвычайно жарким воскресным утром, выглянув из окна, я увидел опрятно одетого молодого человека, порозовевшего от зноя, скопившегося под тентом. Он сидел в одиночестве и с застенчивым видом пил чай из лучшего гостиничного фарфора, расставленного перед ним на металлическом подносе.
Чьи-то ноги проворно затопотали по лестнице. В мою дверь постучали. Это был Азиз — запыхавшийся, серьезный, с посудным полотенцем, переброшенным через плечо.
— Саиб, вы идти пить чай.
Я только что напился кофе.
— Саиб, вы идти пить чай. — Азиз тяжело дышал. — Мистер Батт он просить. Не ваш чай.
Я спустился, чтобы составить компанию молодому человеку. Меня часто звали на помощь, когда приходилось уламывать «трудных» клиентов и порой убеждать их согласиться с более реалистичной ценой, чем та, которую называл им Али Мохаммед возле Центра приема туристов.
Молодой человек немного неуклюже отставил свою чашку, поднялся и неуверенно на меня поглядел. Я уселся на один из траченных непогодой, расползающихся гостиничных плетеных стульев, и попросил его возобновить чаепитие. Азиз, за секунду до того выглядевший деловитым администратором, уже преобразился в смиренного, безликого прислужника. Он почтительно налил мне чая и удалился — не оборачиваясь, но при этом — несмотря на болтающиеся широкие штаны, на накренившуюся меховую шапку, на посудное полотенце, залихватски перекинутое через плечо, на подошвы босых ног, почерневшие, жесткие и растрескавшиеся, — являя своим видом полную боевую готовность.
Сейчас жарко, сказал я молодому человеку; он согласился. Но скоро станет прохладнее, продолжил я; в Шринагаре часто бывают такие перепады температуры. На озере, разумеется, прохладнее, чем в городе, а в этом отеле прохладнее, чем в любом плавучем доме.
— Значит, вам нравится?
— Да, — сказал я, — мне очень тут нравится.
Он предоставил мне возможность начать разговор, и я этим воспользовался. Но он словно не слушал меня; прежнее смущенное выражение не покидало его. Я решил, что он — одна из моих неудач.
— А откуда вы? — задал я ему индийский вопрос.
— О, я из Шринагара. Я работаю в туристическом бюро. Я вас вижу то там, то здесь уже несколько месяцев.
Там, где я и моя пишущая машинка потерпели неудачу, мистер Батт и Азиз добились успеха. Но Азиз держался так, словно я не терпел никакой неудачи. Он сказал, что кухне понравилось, как я побеседовал с молодым человеком, а несколько дней спустя объявил — так, словно ответственность лежала на мне одном, — что вскоре в гостиницу явится мистер Как, представитель мистера Мадана, чтобы всё лично осмотреть и, возможно, выпить чаю.
Мистер Как явился. Я увидел, как его шикара скользя подплывала к нашей пристани, и решил спрятаться. Я заперся в ванной. Но на лестнице так и не раздался топот ног. Не последовало никакого зова. Никто даже не упоминал о мистере Каке ни в тот день, ни в последующие; о результате того визита я узнал лишь тогда, когда мистер Батт в сопровождении секретаря Союза всех лодочных работников явился однажды утром ко мне в комнату и попросил отпечатать «отчет» для включения отеля в официальный список гостиниц туристического бюро. Я потерпел фиаско; даже моя последняя трусость не имела значения. Мистер Батт улыбался: он был счастливым человеком. Я послушно начал печатать.
— Отель, — сказал секретарь, заглядывая мне через плечо, — устроен в западном стиле.
— Да-да, — сказал мистер Батт. — В западном стиле.
— Я не могу такое печатать, — возразил я. — Этот отель совсем не в западном стиле.
— Система слива, — парировал мистер Батт. — Английская еда. Западный стиль.
Я встал из-за стола и через распахнутое окно показал на небольшую крытую халупу, стоявшую рядом с кухонным строением.
Это была коробка длиной примерно в метр восемьдесят, шириной в метр двадцать и высотой метра в полтора. И эта коробка была обитаема. Там жили супруги среднего возраста — худые, мрачные. Мы окрестили их Заемщиками. Они были джайнами. Они привезли с собой в Кашмир кастрюли и сковородки, сами себе готовили, сами мыли посуду, начищали ее грязью — которой теперь вокруг садового крана было невпроворот. Поначалу они были обычными туристами и занимали одну из нижних комнат. Но у них был транзисторный приемник, и я часто видел, как они сидят под тентом вместе с мистером Баттом, и все трое сосредоточенно смотрят на транзистор, стоявший на столе между ними и включенный на полную мощность, с торчащей вверх антенной. От Азиза мы услышали, что там ведутся переговоры о какой-то сделке; и кажется, во время таких переговоров однажды утром мы и увидели, как происходит быстрое перетаскивание кастрюль и сковородок, кроватей и постельного белья, табуреток и стульев, из гостиничной комнаты в ту крохотную халупу. В тот же вечер халупа вся задрожала от света, который вырывался наружу сквозь щели и дыры, и от музыки из транзистора. Там имелось оконце — в квадратный фут, какие делают кашмирские плотники, — криво сидевшее на петлях. И сквозь это окошко я попытался разглядеть, что же там устроили внутри. Меня засекли. Женская рука потянула за это крошечное, провисающее оконце и по-хозяйски, с обиженным стуком, захлопнула его.
Вот на эту халупу я сейчас и показывал.
Секретарь хихикнул, а мистер Батт улыбнулся.
— Сэр, сэр, — сказал он, приложив руку к сердцу. — Простите, простите.
* * *
В Шринагаре сделалось жарко, и туристы теперь устремлялись еще выше — в Пахальгам, курорт «в индийском вкусе», как нам сказали, и в «английский» Гульмарг. Вскоре гостиница снова оказалась в нашем распоряжении, как это было ранней весной. Никто не расстилал белье на лужайке, никто не готовил еду в кладовке для метел под лестницей. Грязь, скопившаяся вокруг садового крана, высохла и застыла черной земляной коркой; а в саду подсолнухи превратились в цветные эмблемы-вихри. Теперь даже торговцы сделались вялыми. Мавляна Стоящий, продавец шалей, наведался спросить, нет ли у меня английского крема для обуви; он сообщил, что это единственное средство, которое помогает ему от стригущего лишая. Окружной суд провел свои очередные выборы у нас под навесом, и мы отпраздновали это событие чаем с пирогом. Азиз каждый день упоминал про Гульмарг. «Когда вы ехать в Гульмарг, сэр?» Он хотел, чтобы мы взяли его с собой; только в эти ленивые недели он мог покинуть отель. Но мы всё откладывали Гульмарг, наслаждаясь летним умиротворением на озере.
А потом и умиротворению, и покою разом пришел конец.
Жил в Дели один праведный отшельник. И вышло так, что в нынешнем году в Дели приехало из Восточной Африки одно благочестивое семейство богатых индийских купцов. Они повстречали этого святого человека. Они пришлись ему по душе и так к нему привязались, что решили посвятить служению ему весь отпуск. Муссон в тот год запаздывал, и, сидя в Дели, отшельник сказал: «Мне хочется отправиться сейчас в Кашмир, в святую землю индусов, в землю священной пещеры Амарнатх, очистительного озера Тысячи Змей и равнины, где танцевал владыка Шива». Купцы мигом набили свои американские лимузины всем, что требовалось в дорогу. «Боюсь, этой поездки мне не выдержать, — сказал святой человек. — Вы езжайте на автомобиле. А я прилечу на самолете „Вай каунт“». Купцы отдали все необходимые распоряжения, а потом в течение дня и ночи ехали на север, пока не достигли священного города Шринагара. Была почти полночь, когда они приехали. Но весть о прибытии двадцати паломников быстро разлеталась от одного пустующего плавучего дома к другому, и всюду, куда бы эти люди ни отправились, за ними следовали местные жители и криками зазывали к себе на постой. Но когда те приплыли к маленькому отелю на клочке земли посреди острова, то заявили: «Вот то, чего мы искали. Мы останемся здесь и будем ждать нашего отшельника». И все равно всю ночь напролет приплывали люди из плавучих домов и пытались переманить их к себе на лодки, и долго не утихали споры.
Это сообщил нам Али Мохаммед.
— Но они говорят, — рассказывал он за завтраком, — «Мы не хотим плавучий дом, нам нравится здесь».
Это был лучший улов отеля, и Али Мохаммед сиял. Он — не Азиз, он не мог нам сочувствовать. Не мог и сам Азиз. Словно признавая безнадежность положения, он вообще начал сторониться нас.
Они приехали, основательно экипировавшись для святости. На своих лимузинах — чуде света для приозерного люда — они привезли целые тюки каких-то особенных святых листьев, с которых собирались есть — в подражание мудрецам тех дней, когда тарелки были еще редкостью. Воде из-под крана они не доверяли; они привезли с собой специальные емкости и каждое утро отправлялись к Часмашахи — Королевскому источнику — за чистой родниковой водой. Еду они, разумеется, готовили себе сами; а готовили ее прямо на камнях, положенных на газон, четверо молодых гермафродитов в шафранных одеяниях, которые, покончив со своими обязанностями, просто бездельничали: у них была поразительная способность к праздности. Святость и подразумевала простоту такого рода: стряпать на камнях, есть с листьев, ходить по воду к роднику. А еще она подразумевала небрежность и беспорядок. Коврики в гостиничных комнатах были закатаны, занавески на окнах откинуты вверх, мебель переставлена как попало. Простота и обладание своим святым оборачивались наглостью. Некоторые из паломников с таким хозяйским видом расхаживали по лужайке, что Али, Азизу и даже мистеру Батту только и оставалось, что смиренно ходить на цыпочках. Паломники громко разговаривали. Они громко отхаркивались и с шумным смаком плевали повсюду, но особенно часто — на водяные лилии: это растение в Кашмир завез из Англии последний махараджа, а потому оно было лишено религиозных связей с лотосом. Поев со священных листьев на той самой лужайке, на которую до этого они плевали, паломники рыгали. Рыгали они громогласно, но всегда соблюдая меру: по одним их отрыжкам можно было определить, кто — вожак стаи. Лет сорока, он был высок и толст; отличительным признаком священного наряда было разноцветное полотенце, которым он обматывал голову. Молодые люди выполняли отжимания и прочие гимнастические упражнения. Все они вели правильную жизнь; сейчас у них выдалась благочестивая бойскаутская интерлюдия, а отель «Ливард» стал их тренировочным лагерем.
Похоже, отшельник не дал четких указаний на день своего прибытия. Паломники на всякий случай ездили встречать каждый самолет из Дели, оставляя в отеле гермафродитов в шафранных одеждах, которым, по-видимому, наконец наскучила праздность: они — как мне сначала показалось — начали играть в какую-то детскую игру. Собирая отовсюду разный подручный материал, они с медлительной, молчаливой сосредоточенностью возводили грубые баррикады вокруг своего каменного очага посреди газона. Но нет, они не играли: они просто защищали свою пищу от нечистых взглядов посторонних. И это еще не все. По дерну ходило бесчисленное множество нечистых ног: значит, дерн нужно выдрать. И вот за это, усевшись на корточки, теперь молча принялись вандалы в шафранных одеждах.
Я послал за Азизом. С самого дня прибытия паломников у нас с ним не было столкновений. Личико у него было съеженное. Он все видел. Больше того: он даже выдал шафранным одеждам доску, и те, следуя собственной логике, положили ее поверх той грязи, которую постоянно разводили. А что он может поделать? Он сказал, что мистеру Батту нужны деньги; сказал, что сам Бог послал клиентов. Он сказал, что это благочестивые люди, и что их отшельник, которого они ожидают со дня на день, — чуть ли не праведник.
В тот же день паломники привезли своего отшельника, и сразу же атмосфера наглости, отрыжек и беспорядка сменилась молчаливым настроем кичливого раболепия: кто-то проворно бегал туда-сюда, кто-то с заговорщическим видом перешептывался. Отшельник сидел на стуле под навесом. Время от времени женщины, словно не в силах больше сдерживаться, подбегали к святому и бросались ниц перед его стулом. Отшельник едва их замечал. Но большинство паломников просто сидели, уставившись на него. Он действительно выглядел гораздо утонченнее любого из своих поклонников. Из-под его шафранных одеяний выглядывало хорошо сложенное тело с гладкой, смуглой кожей; в его неколебимом, правильном лице, которое вполне могло бы принадлежать какому-нибудь преуспевающему бизнесмену, не было даже намека на чувственность.
За баррикадами ученики в шафранных одеждах готовили еду для своего гуру. Когда тот поел, а затем поели и паломники, усевшиеся в два молчаливых ряда на лужайке, наступили сумерки, и святой приступил к благочестивым песнопениям. Двое паломников омыли одежды отшельника, а потом, взявшись за два ее угла, махали ею в воздухе, пока ткань не высохла.
Ища утешения, я отправился на кухню — и нашел там всех наших, которые тихо сбились в кучку вокруг кальяна.
— Для них мы все — нечистые, — сказал лодочник. — Жестокая религия, правда?
Я узнал фразу из арсенала пакистанского радио. Но даже лодочник явно благоговел перед святым и не отваживался говорить громче, чем шепотом.
Утром лужайка оказалась подрытой ещё больше; участок грязи расширился; а паломники, беспечнее прежнего, лущили горох, готовили еду, рыгали, сплевывали зубную пасту на кувшинки, мылись, стирали одежду и бегали вверх-вниз по лестнице.
За завтраком я спросил Али Мохаммеда:
— Когда они уезжают?
Он неправильно понял причину моего вопроса. Улыбнулся, оскалив свои плохо пригнанные протезы, и сказал:
— Большой садху говорить вчера вечером: «Мне здесь нравится. Я
чувствую, что мне здесь нравится. Я остаюсь тут пять дней. Я остаюсь тут пять недель. Не знаю. Я чувствую, что мне здесь нравится».
— Позови Азиза.
Пришел Азиз с обвисшим полотенцем. Полотенце было нечистое; сам он был нечист; в самом деле, все мы вместе были нечисты.
— Азиз, скажи мистеру Батту вот что. Или эти люди уезжают, или мы уезжаем.
Пришел мистер Батт. Он глядел на свои башмаки.
— Отель не в западном стиле, мистер Батт. Теперь это не отель «Ливард». Это Ливард Мандир, храм Ливард. Я приглашу мистера Мадана на чай
сегодня же.
Азиз сразу понял, что это пустая угроза. Последняя фраза выдавала мою беспомощность. Он тут же просиял, протер своей тряпицей обеденный стол и спросил:
— Когда вы ехать в Гульмарг, сэр?
— Да-да, — подхватил мистер Батт. — Гульмарг. Брать с собой Азиза.
Так мы пришли к компромиссу. Мы отправимся на несколько дней в Гульмарг.
— Хорошо, мистер Батт, но если они все еще будут здесь, когда мы вернемся, мы уедем навсегда.
— Хорошо, сэр.
И все же в моей власти было в пять минут вымести из отеля всех паломников вместе с их отшельником. Я мог бы просто открыть им маленькую тайну: что та часть лужайки, которую они всю перерыли во имя чистоты, превратили в свою кухню и забаррикадировали, находится прямо над гостиничным очистителем для сточных вод.
* * *
— Азиз, может быть, нам лучше заранее узнать расписание автобусов на Гульмарг?
— О нет, саиб.
Слишком много автобусов.
Мы добрались до автобусной станции в начале девятого. Азиз, которого было не узнать в больших коричневых башмаках (с ноги мистера Батта), пошел покупать билеты.
— Мы пропускать восьмичасовой автобус, — сообщил он, вернувшись.
— А когда следующий?
— В двенадцать.
— Что же мы будем делать, Азиз?
— Что делать? Ждать.
Это была новая автобусная станция. Кашмирцы, выходя из мужской уборной, вытирали руки об занавески, сшитые из современной ткани. Хорошо одетая женщина-попрошайка раздавала всем отпечатанные листовки, где рассказывалось о ее трагедии. Мы ждали.
Что же так влекло Азиза в Гульмарг? Это был курортный поселок с деревянными некрашеными хижинами, рассыпанными по маленькому зеленому лугу среди гор, на высоте приблизительно 900 метров над долиной. С одной стороны луг понижался в сторону долины, переходя в сосновые леса; с другой стороны к нему подступали более высокие горы, в расщелинах которых всегда, даже в августе, побуревшими наносами лежал снег. Мы приехали в дождь. В бунгало наших друзей, у которых мы собирались остановиться, Азиза сразу же отослали в помещения для слуг, и мы увидели его снова только тогда, когда прекратился дождь. Он шагал по грязной дороге, возвращаясь из центра деревни. Походка у него была незнакомая — из-за тяжелых башмаков мистера Батта. (Позже мистер Батт доложил нам — почти прочувственно, — что Азиз испортил его башмаки во время той поездки.) Его улыбка и приветствие выражали чистейшее дружелюбие.
— Как вам нравится Гульмарг, сэр?
Пока мы мало что успели увидеть. Мы видели горы, затерявшиеся в черных тучах, видели пурпурные цветы на влажном зеленом лугу. Мы видели здания и фундаменты зданий, разграбленных и сожженных пакистанцами в 1947 году. Одно большое деревянное здание треснуло от крыши до самого низа, как игрушечное, и до сих пор стояло в запустении, с разбитыми цветными окнами и всеми своими шумами: отличное место действия для кошмара.
Увидел ли Азиз еще что-то? Или, может быть, в Гульмарге жил какой-то его друг? Или тут была замешана женщина? Его настроения так часто менялись в тот день. Утром Азиз был исполнительным гостиничным работником. На автобусной станции, приготовившись к долгому ожиданию, он убрал с лица предвкушающее выражение, и лицо сразу сделалось бессмысленным, почти тупым. Наконец, в автобусе, схватив корзинку с сандвичами, он изобразил послушную общительность. Потом, усевшись на пони, чтобы добраться через сосновый лес в Гульмарг, он принял оживленный и лукавый вид: подпрыгивал в седле, вертел поводья, издавал квохчущие звуки, несся вперед, притормаживал, пугая других пони, которые пускались вскачь. Мне кажется, в Гульмарг Азиза влекли именно пони: наверное, в его жилах все-таки текла кровь наездников. Сидя на пони, даже в этих башмаках, он уже перестал смотреться комично: его просторные, сужающиеся книзу штаны казались уместными: это были штаны наездника. Во время наших экскурсий в последующие дни он никогда не шел пешком, если можно было ехать верхом, — даже на самых крутых, скалистых, опасных тропах; а сидя верхом на пони, он всегда оставался энергичным и с восторгом выкрикивал всякий раз, как у пони поскальзывалась нога: «
Оаш! Оаш! Полегче, полегче!» Он сделался разговорчив. Он заговорил о событиях 1947 года и рассказал о налетчиках, которые были до того невежественны, что принимали латунь за золото. И рассказал нам, почему не любит ходить пешком. По его словам, однажды зимой он оставил службу у своего тогдашнего хозяина, жившего по ту сторону долины; денег у него не было, и ему пришлось перейти заснеженный Банихальский перевал пешком. Он заболел, и врач запретил ему в будущем ходить пешком.
Казалось, в нем уживается сразу несколько разных людей. Особенно интересно было наблюдать за тем, как он обрабатывает наших друзей; видеть, как он применяет к другим тот метод оценки через услужение, который в первые дни общения мы ощутили на себе. У друзей имелись собственные слуги: Азиза ничто к ним не привязывало. И тем не менее он уже завладевал ими; он уже начал привязывать их к себе. Он ничего не добивался — он просто повиновался инстинкту. Он не умел ни читать, ни писать. Люди были его рабочим материалом, его профессией и, несомненно, развлечением; его мир состоял из подобных встреч и управляемых взаимоотношений. Он очень чутко на все реагировал. (Как легко, как «официально», раскусив нашу сентиментальность, он обставил увольнение хансамы: «Это хорошо для него». А хансаме оставалось лишь бессильно беситься у него за спиной.) Английским он овладел на слух, а потому никогда не делал характерных индийских ошибок, какие случаются при неверном прочтении слов; известные же ему слова выговаривал лучше, чем многие индийцы, окончившие колледж. Даже его ошибки («никто» вместо «никто не»: «никто любить лед») свидетельствовали о том, что он усваивал язык, который слышал лишь время от времени; удивительно было слышать от него какое-нибудь слово или фразу, которые я сам произносил несколько дней назад, причем в точности с моими интонациями. Пошел бы он далеко, если бы выучился читать и писать? А может быть, именно его неграмотность так обостряла его восприимчивость? Он манипулировал человеческими душами, как — на свой более величественный лад — делали когда-то и властители здешних краев, тоже, кстати сказать, неграмотные: Ранджит Сингх
[47], вождь сикхов, Гулаб Сингх, основатель штата Джамму и Кашмир. Это для нас неграмотность — недостающее звено. А в глазах неграмотного мудреца, живущего в более простом мире, не является ли грамотность каким-то пустяком, растратой чувств, ремесленным навыком наемника-писца?
По пути обратно в Шринагар я наблюдал за тем, как Азиз готовит новую мину для мистера Батта. Он утратил прежнюю оживленность, напустил на себя угрюмый и утомленный вид; в автобусе он без нужды нагрузил себя сумками и корзинками, постаравшись причинить себе все мыслимые неудобства. Когда мы вышли из автобуса, выражение его лица убедило бы всякого, что поездка в Гульмарг была для него вовсе не отпуском, не передышкой от гостиничной работы, а тягостным, изнурительным заданием. Он несколько преувеличенно и хмуро опекал нас, как будто и самого себя
стараясь убедить в том, что мы — большая обуза. Возможно, он отчасти разделял нашу тревогу по поводу отшельника и паломников — и потому заранее занимал оборонительную позицию. Когда мы ехали по приозерному бульвару на тон-ге, Азиз сказал: «Мистер Батт говорить, вы не платить мне как проводнику».
Проводнику! Оказывается, он был нашим проводником? Разве не он подбивал нас поехать в Гульмарг, ежедневно напоминая нам об этом? Разве мы не платили за его катания на пони?
* * *
«Вчера большой садху говорить: „Я чувствую, что сегодня поеду в Пахальгам“».
Так доложил нам Али Мохаммед. И они действительно уехали; об их пребывании свидетельствовали теперь только искалеченная лужайка, забрызганные грязью стены да горсточка чечевичных зернышек, которые уже пускали ростки в грязи. В саду распустилась первая канна — ярко-желтые цветы с чистейшими красными крапинками.
Я показал мистеру Батту проросшую чечевицу.
«О, сэр, — вздохнул он. — Стыд мне, стыд!»
И, словно для того, чтобы подчеркнуть свою вину, он пришел ко мне на следующий день вместе с Азизом и через Азиза сказал: «Сэр, вы приглашать Махараджу Каран Сингха на чай. Махараджа Каран Сингх приходить сюда на чай — я снимать вывеску отеля, я прогонять клиента, я закрывать отель».
7. Паломничество
Именно Каран Сингх, молодой махараджа Кашмира, а ныне избранный правитель штата Джамму и Кашмир, побудил нас примкнуть к паломничеству в пещеру Амарнатх, к Вечному Владыке. Эта пещера находится на высоте около трех тысяч метров, на склоне горе Амарнатх высотой примерно в пять с половиной тысяч метров, километрах в ста пятидесяти к северо-востоку от Шринагара. Священной эту пещеру делает ледяной лингам высотой в полтора метра — символ бога Шивы, который образуется там за летние месяцы. Считается, что этот лингам прибывает и убывает вместе с луной и достигает наибольшей высоты в пору августовского полнолуния: в этот день туда и прибывают паломники. Это, как Дельфы, место древних таинств. Они сохранились, потому что принадлежали Индии и индуизму, который, не имея ни начала, ни конца, едва ли являясь религией, продолжает служить хранилищем и живым архивом религиозного сознания человека.
Каран Сингх поднимался в эту пещеру несколькими годами ранее, хотя и не совершал вместе с другими традиционного паломничества, а потом опубликовал яркий отчет о своем путешествии. Я не мог разделять его религиозного пыла, зато наслаждался его точными описаниями заснеженных гор, ледяных зеленых озер и переменчивой погоды. Для меня настоящая тайна этой пещеры заключалась в ее местоположении. Она находилась в конце тридцатикилометрового маршрута, на два дня, от Чанданвари, где заканчивалась дорога для джипов. На долгие месяцы эта горная тропа исчезала под гималайскими снегами, и пещера становилась недоступной; даже летом, невзирая на все старания Департамента общественных работ, тропа, по причине ее сложной проходимости, в плохую погоду была опасна. Тропа поднималась зигзагом по обрыву высотой в шестьсот метров; потом она вела через перевал высотой в четыре с половиной тысячи метров; она представляла собой узкий, как лента, уступ, извивавшийся по горному склону. Там, где кончались деревья, становилось трудно дышать, и ночи были очень холодные. Снег там никогда до конца не таял.
Он лежал твердыми корками в укромных оврагах и каньонах; он образовывал прочные мосты над ручьями, летом становящимися более вялыми, — мосты, которые на поверхности оставались такими же бурыми, зернистыми, как и окружающая их земля, а вот на пару метров ниже, прямо над уровнем воды, зияли промоинами и низкими, иссиня-ледяными полостями.
Как же обнаружили эту пещеру? Как сложился ее культ? Здешняя земля была голой, она не дарила людям ни топлива, ни пищи. Лето в Гималаях короткое, погода коварная. Любая разведка — как и любое паломничество даже сегодня, — должна была производиться очень быстро.
И как получилось, что весть об этой мистерии, неотделимой от снега и льда, блещущей лишь на краткий миг раз — в год, распространилась по всем уголкам древней Индии? Гималаи, «лежбище зимы», — какое отношение могли они иметь к раскаленным равнинам Северной Индии или к пальмовым рощам на пляжах Юга? Однако уже тогда были составлены карты этих гор, раскрыты их тайны. За пещерой Амарнатх находился горный хребет Кайлас, еще дальше — озеро Манасаровар.
[48] С каждым участком пути к пещере Амарнатх связывалась какая-нибудь легенда. Вон те скалы — останки поверженных демонов; вон из того озера владыка Вишну поднялся на спине тысячеглавой змеи; вон на той равнине владыка Шива исполнил однажды космический танец разрушения, и из его растрепавшихся кудрей произошли вот эти пять ручьев: чудеса, представавшие человеческим взорам лишь на несколько месяцев в году, прежде чем вновь исчезнуть под покровом другой тайны — снежной. И в самом деле, все эти горы, озера и ручьи как нельзя лучше подходили для легенд. Даже находясь совсем рядом, они казались реальными лишь отчасти. Они бы никогда не могли сделаться до конца знакомыми; то, что можно было увидеть глазами, не было их правдой; завеса над ними приоткрывалась лишь временно. Они могли подвергаться ничтожному воздействию со стороны человека — например, когда камень падал в ручей, или над тропой поднималась пыль, оседая на снежную кайму, — но как только паломники торопливо возвращались, эти красоты оставались позади, сразу же становясь далекими, как и прежде. Этот путь проделывали миллионы людей, но голая земля хранит мало следов их восхождения. Каждый год выпадают снега и стирают самую память об их следах, и каждый год внутри пещеры образуется ледяной лингам. Это таинство никогда не теряет новизны.
А в пещере — божество: увесистый ледяной фаллос. Насколько высоко воспаряли умозрения индусов, настолько элементарными оставались их ритуалы. Между представлением о материальном мире как об иллюзии и поклонением фаллосу не существует никакой связи: они произошли из совершенно разных сфер сознания. Но индуизм ничего не отбрасывает — и, возможно, в этом он прав. Фаллос сохранился неузнанным, признаваемым только как Шива, как непрерывность жизни: а поэтому он вдвойне стал символом Индии. Как часто, путешествуя по заброшенным индийским деревням, я ощущал, что мощь таится здесь единственно в самой порождающей силе, уже отделившейся от своих орудий и жертв — людей. Для тех же, кого она разрушала и уродовала, ее символ оставался тем же, что и всегда, — символом радости. Паломничество было уместно в любом случае.
* * *
— Вам нужен повар, — говорил Азиз. — Вам нужен один человек помогать мне. Вам нужен кули. Вам нужен уборщик. Вам нужно семи пони.
Каждого пони сопровождал его владелец. Значит, всего у Азиза нас стало бы уже четырнадцать, не считая животных.
Я приступил к сокращению.
— Повара не нужно.
— Он не только поваром, саиб. Он проводником.
— Там же соберется двадцать тысяч паломников! Зачем нам проводник?
Этот повар был протеже Азиза. Это был толстяк и весельчак, и я бы охотно взял его. Но через Азиза выяснилось, что он страдает тем же недугом, что и Азиз: ему тоже не рекомендуется ходить пешком, так что ему тоже потребуется пони. Потом он сообщил с кухни — снова через Азиза, — что ему нужна новая пара обуви для поездки. Такой наглости я не выдержал. Кроме того, я решил, что обойдусь и без кули; а уборщика заменит простая лопатка.
Азиз, побежденный, страдал. Он-то знал, что такое выступать с помпой, и наверняка уже мысленно нарисовал себе экспедицию в старинном духе. Себя он, должно быть, воображал в куртке, штанах и меховой шапке, едущим рысью на пони и раздающим всем указания. А теперь оказалось, что ему предстоит только пять дней труда. Но он никогда раньше не бывал в Амарнатхе и был взволнован. Он сообщил нам, что первыми в пещере побывали мусульмане и что когда-то сама пещера, с этим лингамом и прочим, была мусульманским «храмом».
Он известил мистера Батта. Мистер Батт призвал жившего на озере писца, знавшего английский, и несколько дней спустя, когда я лежал в постели с очередной простудой, прислал приблизительный счет:
| От Шринагара до Палгайма автобусным Сообщением |
30.0.0 |
| 3 пойни ездовые |
150.0.0 |
| 2 ройни грузовые |
100.0.0 |
| Тэнт и кухня |
25.0.0 |
| Стол и постель |
15.0.0 |
| один кули |
30.0.0 |
|
350.0.0 |
| Уборщик |
20.0.0 |
| Лишний грус и кули Бес Грус |
20.0.0 |
|
390.0.0 |
| С 11 августа до 17 августа 7 дней деревенская Еда |
61.0.0 |
|
551.0.0 рупия |
| Если вы едете автобусом до Имри Натх тогда еще 100 рупия |
Это был исключительный документ: написанный на малознакомом языке, незнакомым алфавитом, и большая часть этих приблизительных расчетов понятна. Слишком понятна: с меня хотели содрать слишком дорого. Я испытал горькое разочарование. Я знал этих людей уже четыре месяца; я явно выражал им свою симпатию; я делал для отеля все, что мог; я устроил им пирушку. Наверное, слишком глубоким оказалось мое разочарование, а может быть, сказались два дня, проведенные в постели. Я вскочил на ноги, оттолкнул Азиза, ринулся к окну, распахнул его настежь и закричал мистеру Батту странным голосом, с искренне-неискренними интонациями, — наверное, оттого, что, даже срываясь на крик, я должен был произносить слова очень внятно, будто разговаривая с ребенком, и выбирать те слова, которые он поймет:
— Это
нехорошо, мистер Батт! Батт Саиб, это
нечестно. Мистер Батт, вы знаете, что вы сейчас сделали? Вы
обидели меня!
Он стоял в саду вместе с несколькими лодочниками. Он поднял голову с удивленным, непонимающим видом. А потом его лицо, все еще повернутое ко мне, перестало вообще что-либо выражать. Он не сказал ни слова.
В тишине, которая воцарилась вслед за моим выкриком, я почувствовал себя глупо и очень неловко. Я закрыл окно и тихо забрался обратно в кровать. Говорят, что Индия раскрывают в людях такие черты, о которых они раньше не подозревали. Неужели это был я? Неужели так на меня подействовала Индия?
Как бы то ни было, мое поведение вызвало в отеле переполох. Когда, дав мне время несколько остыть, они собрались вокруг моей постели, чтобы обсудить денежные подсчеты, у всех был такой озабоченный вид, словно моя болезнь оказалась не просто простудой. В их тревоге ощущался и упрек: получилось, что я, живя рядом с ними столько недель, утаил от них свою вспыльчивость, а тем самым подтолкнул их к лукавству, за которое, по справедливости, их нельзя было винить.
В итоге из счета удалось убрать немало рупий, и мы снова сделались друзьями. Мистер Батт выглядел довольным; он доехал с нами до Пахальгама, чтобы проводить нас. Азиз был счастлив. На нем была его собственная меховая шапка, полосатый голубой костюм Али Мохаммеда, сандалии (мистер Батт отказался одолжить ему еще раз свои башмаки) и пара моих носков. У него не было той свиты, о которой он мечтал, но все равно ни один другой участник паломничества, похоже, не путешествовал подобным образом. У нас в итоге все-таки имелся штат слуг, имелась у нас и вторая палатка — для слуг. И когда на закате мы прибыли в людный лагерь среди дымных лесов Чанданвари, Азиз сумел не только создать своими проворными и умелыми действиями подобие роскоши на фоне естественных ограничений, но и достойно выгородил нам место — суетясь, раздавая жесткие приказы погонщику пони и его помощнику и не забывая оказывать нам преувеличенно почтительное внимание. Лагерь представлял собой беспорядочное скопление палаток, растяжек, каменных очагов и паломников, испражнявшихся под каждым кустом. Лес был уже загажен незакопанными экскрементами; каждый доступный камень у реки Лидер, возле которой располагался лагерь, был увенчан какашечной завитушкой или кренделем. Но Азиз старался вовсю, чтобы мы чувствовали себя огражденными от всего этого; он устроил настоящий спектакль. В этом проявлялось его ремесло, его гордость. И как в то утро, когда мы выезжали из отеля в Гульмарг, он не мог скрыть радости и каждому встречному на озере сообщал, что едет в Гульмарг, так и сейчас, поливая мне теплой водой руки, он сказал: «Все меня спрашивать:
„Кто твой саиб?“» Это была дань уважения скорее ему, нежели мне.
На следующий день на него посыпались беды. Около двух с половиной километров от Чанданвари дорога легко вилась между скалой и усеянным валунами берегом Лидера, а потом подходила к почти отвесной стене Писсу-Гхати высотой в шестьсот с лишним метров. Здесь дорога сужалась и поднималась зигзагом вверх между скалами — поверженными демонами — на протяжении трех с лишним километров. Паломники выстроились в очередь, чтобы взбираться наверх, и очередь двигалась очень медленно. В Чанданвари она не двигалась вовсе. Прошло несколько часов, прежде чем мы начали путь, и вот тогда-то обнаружилось, что за время нашего утреннего оцепенения один из погонщиков пони сбежал. Так начались мучения Азиза. Пони приходилось подгонять вверх по склону Писсу-Гхати, следя за тем, чтобы поклажа оставалась у них на спине (всю дорогу мы слышали крики погонщиков и — время от времени — грохот от валившейся наземь поклажи), и Азизу не оставалось ничего другого, кроме как слезть со своего пони и погонять вверх по крутой тропе второго, брошенного пони, везшего нашу палатку. Это ему-то, в полосатом голубом костюме, меховой шапке и териленовых носках, ему, которому врачи запретили ходить пешком! Достоинство покинуло его. Он ныл, как ребенок; он бранился по-кашмирски; он клялся отомстить; он просил меня написать мистеру Мадану. Его рука с кнутом снова и снова взлетала в воздух. «Проклятая свинья!» — кричал он по-английски, и териленовые носки гармошкой сползали вниз по его топочущим, обутым в сандалии ногам. Пони уносили нас вперед, и его крики доносились до нас все тише. Время от времени оглядываясь вниз, мы видели, как он штурмует крутые повороты узкой дорожки, сердито уклоняясь от палаточных шестов, и всякий раз он казался еще более крошечным, пыльным, помятым и злым.
Мы добрались до верха и стали дожидаться его. Мы ждали долго, а когда он наконец показался, осыпая руганью все еще упиравшегося пони, то являл собой зрелище оскорбленного страдания. Синий костюм Али Мохаммеда покрылся пылью, приобретя тот же рыжеватый цвет, что и мои териленовые носки, верхние края которых теперь уже сбились к пяткам. Пыль облепила и его маленькое потное лицо; даже через мятую одежду я ощущал хрупкость его натруженных ног. Мое любование этим полным разгромом, этим внезапным превращением важного мажордома в кашмирского
гхора-уоллу, погонщика мула, мне самому показалось бесчеловечным.
— Бедный Азиз! — проговорил я. — Проклятый гхора-уолла.
Это ободрение было ошибкой. Отныне Азиз только и говорил, что о предательстве гхора-уоллы. «Вы лишать его платы, саиб». «Вы писать мистеру Мадан из туриазма». «Вы жаловаться правительству, они отбирать его разрешение». И он отыгрался за свое пешее восхождение по Писсу-Гхати, просидев верхом на пони всю дорогу до Шешнага. Мы кричали ему, чтобы он слез, дав отдохнуть своему помощнику. Он словно не слышал. Тогда нам самим пришлось спешиваться, чтобы у помощника, которого Азиз чрезмерно нагрузил после Писсу-Гхати, была возможность отдохнуть. Дышать стало трудно; идти было мучительно тяжело, даже по самому пологому уклону. Азиз же теперь безмятежно ехал верхом. Ему предоставили пони — это была часть договора. Постепенно к нему возвратилось достоинство. Он снова превратился в важного мажордома с перекинутым через плечо
английским термосом, который он непременно желал нести лично. («Какой
красивый термос», — сказал он, любовно поглаживая его и возвращая нам одну из наших же фраз.) Время от времени Азиз останавливался и поджидал нас; как только мы нагоняли его, он говорил: «Вы обращаться в Правительство. Они отбирать у гхора-уоллы разрешение работать». Он не на шутку жаждал крови; я никогда еще не видел его таким решительным.
Впереди и позади нас вереница паломников тянулась ничтожно-тонкой подвижной струйкой, казалось, не имевшей ни начала, ни конца; она придавала масштаб горам и подчеркивала их неподвижность. На глубину в несколько сантиметров тропа была разрыхлена в пыль, и эта пыль взлетала вверх с каждым шагом. Важно было никого не обгонять и никому не давать обогнать себя. Пыль оседала вниз, на влажные скалы; пыль запорашивала затвердевший снег, лежавший в оврагах. В одном из таких оврагов суетливо возился какой-то кашмирец в тюбетейке. В руках у него была лопата; он лихорадочно выкапывал чистый снег и за несколько монеток предлагал его паломникам. Паломники, которых постоянно подгоняли сзади, не могли останавливаться. Не мог остановиться и тот кашмирец: он с бешеной быстротой копал, мчался с вытянутой вперед лопаткой за уже удалявшимися паломниками, вступал в молниеносную торговлю, хватал монетки, бежал обратно и снова копал. Он был само движение: такая работа выпадала лишь один день в году.
Мы уже миновали верхнюю границу лесов и теперь приближались к молочно-зеленому озеру Шешнаг и к питавшему его леднику. Из очерка Каран Сингха я узнал, что ледяные воды Шешнага считаются благодатными. Кое-кто из числа его спутников спустился к озеру, до которого было около километра пути, чтобы окунуться в целебный водоем. Но сам махараджа схитрил: «Должен сознаться, что я воспользовался менее ортодоксальным, хотя и более удобным, способом: мне принесли воду из озера, подогрели, и тогда я выкупался в ней». Приятно было бы немного отдохнуть здесь, спуститься к озеру. Но вереница паломников подгоняла нас дальше, а Азиз торопился поскорее добраться до лагеря.
Он не зря торопился. Когда мы добрались до места очередного лагеря, там уже было столпотворение. На скалистых берегах бурной горной речки уже сидели, выстроившись в ряд, паломники и справляли нужду: скоро все подступы к воде будут загажены. Сотни пони, с которых сняли поклажу, бродили, стреноженные, по горным склонам и щипали травку, если где-то ее находили; некоторым животным предстояло погибнуть во время этого восхождения. Вечерний свет вызолотил три снежных вершины над Шешнагом; он прорвался через дым, который, поднимаясь над лагерем, преображал палатки в широко раскинувшуюся невысокую горную цепь, чьи белые вершины одна за другой растворялись в вечернем тумане; он падал на садху, которые уселись в два длинных ряда (пунктирные линии из ярких шафранных и алых пятнышек), которых кормили за счет кашмирского правительства на открытой поляне, заботливо уберегаемую от нечистот. Этих садху собрали со всех концов Индии, и их угощение, по-моему, служило своего рода рекламной акцией Департамента туризма: официально все мы значились «туристами и паломниками».
Азиз не прекращал жаловаться на беглого гхора-уоллу. Я сознавал, что он избрал меня орудием своей мести, и сам не понимаю, почему не воспротивился. Его жалобы и мольбы утомили меня, и после обеда я позволил ему повести меня через темный, холодный лагерь, мимо натянутых веревок, поблескивающих ручейков и бог весть каких еще опасностей, к палатке одного из государственных чиновников, сопровождавших паломников. Я познакомился с ним накануне, в Чанданвари, и теперь он тепло приветствовал меня. Я порадовался — и за Азиза, и за самого себя — этому доказательству моего влияния. Азиз вел себя как человек, уже получивший удовлетворение. Он уже не был заводилой — всего лишь моим почтительным слугой. Встревая в разговор, он выставил меня потерпевшей стороной, одураченным туристом, — а потом удалился, предоставив мне самому выпутываться из положения. Моя жалоба прозвучала несмело. Чиновник сделал себе пометки. Мы потолковали о том, как трудно организовать такое паломничество, и он угостил меня чашкой кофе от Индийской кофейной биржи.
Я сидел в палатке Кофейной биржи и пил кофе, когда туда вошла высокая белокожая девушка необычной наружности.
— Привет, — поздоровалась она. — Меня зовут Ларэйн.
Она оказалась американкой; сказала, что очарована
йатрой — паломничеством. Она так и сыпала словами на хинди.
Она показалась мне привлекательной. Но мне уже порядком надоело встречать американцев в самых невероятных местах. Было забавно — и снисходительно — думать, что некоторые из них — шпионы ЦРУ или еще каких-то там служб. Но уж слишком их было много. Напрашивалось более правдоподобное объяснение: они принадлежали к новому типу американцев, чья привилегия состояла в том, чтобы разъезжать по разным мировым трущобам и периодически побираться, получая персональное возмещение за национальную щедрость. Представители этого типа попадались мне в Египте, где они разыскивали Александрию Лоренса Даррелла, жили на несколько пиастров в день, питались
фулем[49] и охотно принимали любые проявления восточного гостеприимства. Однажды в Греции я целый день кормил бесстыжего попрошайку, «учителя», который заявил, что никогда не ест в ресторанах и не ночует в гостиницах: «Пока есть двери, куда можно постучаться, я стучусь». (Он почти наверняка был шпионом — и во мне тоже заподозрил шпиона. «Почему это, — сказал он, — в любом Богом забытом месте, куда бы меня ни занесло, я обязательно натыкаюсь на индийцев?») В Нью-Дели я встретился с этим типом в самой развитой его форме: это был неисправимо тучный «ученый-аспирант», который в течение шести недель квартировал в доме у совершенно чужого человека, с которым случайно познакомился на свадьбе. Индия, величайшая из трущоб мира, обладала дополнительной притягательностью: «культурное» смирение было сладким, но смирение «духовное» еще слаще.
Так вот: Нет, сказал я, я совсем не очарован йатрой. По-моему,
йатри не имеют ни малейшего представления о гигиене: они загаживают каждую реку, к которой мы подходим; мне жаль, что они не следуют совету Ганди, который говорил о необходимости маленькой лопатки.
— Тогда тебе не нужно было идти вместе с ними.
Это был единственный возможный ответ — и возразить на него было нечего. Негодование заставило меня говорить глупости. Решив направить разговор в более привычное русло вопросов и ответом, я стал расспрашивать девушку о ней самой.
Она рассказала, что приехала в Индию на две недели — а осталась надолго. Она уже провела здесь полгода. Ее притягивала индуистская философия; после йатры она собиралась пожить некоторое время в ашраме. Она была искательницей.
У девушки были высокие скулы и тонкая шея. Но ее худоба таила и телесные сюрпризы: грудь была красивой и полной. Я подумал, что обладательница такого тела вряд ли долго будет оставаться искательницей. Но при свете газовой лампы я разглядел в ее глазах какую-то неуверенность. Мне почему-то показалось, что за плечами этой девушки — семейные неурядицы и тяжелое детство. Этот взгляд, и еще некоторая грубость кожи, добавляли ее красоте какую-то тревожную ноту.
Мне захотелось снова увидеться с ней. Но, хотя мы условились разыскать потом друг друга, во время паломничества этого не случилось.
Впрочем, встреча с Ларэйн мне еще предстояла.
* * *
Как это ни смешно, на следующее утро я дал Азизу уговорить себя снова пожаловаться государственному чиновнику на сбежавшего гхора-уоллу. Азиз жаждал крови, и его вера в могущество чиновников была безгранична. Он почти ликовал, когда мы двинулись в путь. Азиз безмятежно восседал на пони, но не проехали мы и километра, как тюк с нашими постельными принадлежностями скатился со второго, оставшегося без присмотра пони, и скатился в пропасть. Нашей кавалькаде
пришлось остановиться, Азизу
пришлось вместе с пони пешком сходить вниз и вверх;
пришлось перепаковать поклажу, заново нагрузить пони и заново понукать его. Полчаса спустя Азиз догнал нас. Он был в ярости. «Свинья! Проклятая свинья!» — ворчал он. И всю дорогу до Панчтарни он то дулся, то бесился.
У Шешнага мы находились на высоте около четырех тысяч метров. Постепенный подъем еще на шестьсот метров привел нас к перевалу Махагунас, в царство блеклого серого камня: снега здесь не было лишь временно. Горы здесь имели волокна, как древесина, причем у разных гор волокна были вытянуты под разными углами. Отсюда имелся легкий спуск до равнины Панчтарни — непрерывный гладкий уклон между горами длиной около полутора километров, шириной метров в четыреста. Над этим уклоном дул пронизывающий ветер, по нему стремительно сбегали мелкие ручьи — белые на фоне серых скал. Здесь царили суровые, арктические краски, и само слово «равнина» казалось каким-то термином лунной географии.
На краю этой влажной, бледной равнины стоял пони — ничем не защищенный от ветра, не нагруженный поклажей, не стреноженный — и дрожал предсмертной дрожью, а его хозяин-кашмирец стоял рядом с ним, ничего не делая, просто утешая его своим присутствием. Оба они удалились от суматохи лагеря — нашего последнего полноценного лагеря на пути к цели паломничества. Между носильщиками и погонщиками пони уже шли разговоры о быстром возвращении, и даже Азиз, вопреки своему хмурому настроению заразившись общим азартом, говорил, будто бывалый ходок к Амарнатху: «Завтра я возвращаюсь
прямо в Чанданвари». В это «я» он включал всех нас.
Была середина дня, когда мы поставили палатки. Приготовив для нас чай, Азиз ушел, сказав, что хочет взглянуть на окрестности. Он явно что-то задумал. Когда он возвратился — меньше чем через полчаса, — то прежнее озабоченное выражение пропало: он весь лучился улыбками.
— Как вам нравится, сэр?
— Мне очень нравится.
— Пони издох.
— Пони издох!
— Уборщик приходить прямо сейчас, убирать его. — С высоты трех тысяч шестисот метров — и из касты благочестивых мусульман. — Почему бы вы не писать письмо мистеру Батту, сэр? Расскажите ему, как вам нравится. Тут при йатре есть почта. Вы отправлять письмо здесь.
— Но у меня нет ни бумаги, ни конверта.
— Я покупать.
Он уже все купил: из кармана Али-Мохаммедовой куртки он вытаскивал бланк письма для внутреннего сообщения.
Я написал мистеру Батту — обычные фразы, какие обычно пишут на открытках. Я уже собирался запечатать письмо, как вдруг Азиз сказал:
— Вы положить это туда, сэр.
Он совал мне какую-то грязную полоску бумаги — наверное, оторванную от конверта, — где было шариковой ручкой написано одно предложение на урду.
— Азиз, в эти письма ничего нельзя вкладывать.
Он мигом разорвал свою записку на урду на мелкие кусочки и бросил их на землю. Больше он о ней не упоминал ни словом. Я не верю, что он отправил по почте письмо, которое я написал; во всяком случае, мистер Батт его так и не получил. Записка была секретной — это ясно. Она была бы менее секретной, если бы тот, кто написал те слова на урду, знал имя человека, которому она адресовалась; следовательно, моя работа заключалась в том, чтобы отправить ее по нужному адресу. Наверное, этот план Азиз и вынашивал целый день. И все же — слишком уже легко он от него отказался. Или дело просто в его страсти к мистификациям? Пускай даже так — неграмотному Азизу едва не удалось отправить тайное послание человеку, находившемуся за сто сорок километров от него. Я недоумевал. Так ли хорошо я знаю Азиза? Способен ли он отвечать взаимностью на привязанность вроде моей, или он хранит преданность только своему хозяину?
Паломники, пока шли, растягивались в вереницу длиной от пятнадцати до двадцати пяти километров. И эта неразрывная вереница часами двигалась от одного лагеря до другого. Даже когда солнце уже заходило над серой равниной, над которой свистел ветер, — той самой, где издох пони, где каждый год издыхали пони, — они продолжали идти по горам и спускаться по равнине — тонкой, извивающейся цветной лентой, быстро сливавшейся с темнотой, а потом, при свете лагерных фонарей, вновь представая медленным, молчаливым шествием погонщиков-кашмирцев в тюбетейках, с запыленными ногами в разваливающихся соломенных сандалиях, гуджаратцев в кожаных, подбитых гвоздиками туфлях, на удивление изящных и маленьких, с загнутыми кверху носами, которые хорошо сочетались с острыми, тонкими чертами их лиц, и женщин, которые ехали в дамских седлах, днем закутываясь в шали от пыли, а сейчас кутаясь в них от холода.
Они приходили в лагерь, где накал приключенческого духа, так сильно ощущавшийся еще сегодняшним утром, уже заметно ослаб. Приключение почти закончилось, а оставшаяся суматоха была той суматохой, что предшествует скорому роспуску и возвращению. Многие паломники рано угомонились — они хотели встать завтра пораньше, чтобы успеть к четырем часам к пещере. Плакаты в палатке Индийской кофейной биржи потускнели: еще несколько часов, и они больше не понадобятся. По территории лагеря разгуливало меньше людей, чем в Шешнаге или Чанданвари. Никто не глазел на серебряные жезлы, которые в течение столетия отправлял вместе с шествием паломников кашмирский княжеский дом; это чудо уже видели. Толпа, окружавшая пандита во второй палатке, была маленькой и плотной; это был лишь костяк, оставшийся от более людных сборищ двух предыдущих ночей. Вспоминая очерк Каран Сингха, я подумал, что, наверное, во время наших ночных остановок пандит читал из
Амаркатхи — санскритского рассказа о паломничестве, «будто бы поведанного самим владыкой Шивой его супруге Парвати в пещере Амарнатх». Он обладал свирепой, подходящей для журнальных картинок красотой, в точности отвечавшей его роли: волнистая черная борода, длинные волосы, большие сверкающие глаза. Он оставлял плечи голыми даже в самый кусачий холод. Сегодня вечером, сидя в своей продуваемой ветром палатке, он распевал, закрыв глаза, изящно сложив пальцы на коленях. А прямо за желтизной его газовой лампы разливался серебряный свет: луна — почти полная. Скалы сделались такими же белыми, как бурлившая вода; задувал ветер; в лагере становилось все тише.
Тропа к пещере представляла собой узкий, диагонально прорезанный уступ, изгибавшийся и уходивший все выше, в горы за Панчатарни. На следующее утро, когда мы пустились в путь при ярком солнечном свете, многие паломники уже возвращались обратно; регулируя двустороннее движение на тропе, на опасных поворотах стояли люди в красных нарукавных повязках Департамента общественных работ. Лбы возвращавшихся паломников были помазаны порошком сандалового дерева. В их лицах светился экстаз. Они видели божество; они сделались буйными и агрессивными. Они не желали уступать дорогу. Они кричали:
«Джай Шива Шанкар!» — и паломники, шагавшие в сторону пещеры, присмирев, точно очередь у кинотеатра при виде потока зрителей, уже посмотревших фильм и выходящих из зала, кротко откликались: «
Джай Шива Шанкар!»
— Ты! — обратился ко мне по-английски юноша, вымазанный сандаловым порошком. — А ну скажи:
«Джай Шива Шанкар!»
—
Джай Шива Шанкар!
Моя расторопность сбила его с толку.
— Хорошо. Отлично. — И он пошел дальше. —
Джай Шива Шанкар!
На крутом горном склоне в изобилии росли желтые цветы, и все вспомнили, что свежие цветы — подходящее приношение для божества. Но паломники проходили этой дорогой с четырех часов утра, а потому в пределах досягаемости осталось совсем мало цветов. Казалось, многим придется удовольствоваться вялыми цветами, купленными на лагерном базаре. А потом мы увидели кашмирцев, которые сидели на корточках в укромных нишах и молча, пряча глаза, продавали букетики тех самых желтых цветов.
Мы опять начали спускаться — и из царства яркого света попали в холодную тень длинной узкой долины. Должно быть, эта долина являлась руслом недавно протекавшей реки. Ее нижняя часть была загромождена завалами бурых булыжников, а на круто изгибавшихся склонах виднелись черные разводы, видимо, отмечавшие уровень полной воды. Но там, внизу, лежали не валуны и не серые голыши: это был старый снег, приобретший и цвет, и фактуру земли. Вдоль одной стороны долины вытянулась двойная цепочка паломников — шагавших к пещере и возвращавшихся оттуда; и там, далеко, они пересекали ледяной пласт, рассыпаясь на множество пестрых пятнышек, лишаясь всех своих цветов, кроме самых ярких, — отличимые от груды снежных обломков лишь благодаря движению. Вот здесь стояла гора, там пролегала долина и протекала река: здешняя география была проста, ее урочища легко было окинуть взглядом. Но человек приходил сюда со своими — более мелкими, привычными — мерками величины, и лишь в такие мгновенья, видя, как вереница людей быстро уменьшается в пределах, казалось бы, малого пространства, — ты по-настоящему понимал, как необъятны эти Гималаи.
В самом деле, здесь, в этой долине, вся Индия превратилась в сплошной символ. Мы ехали по тропе верхом на пони. Но там, внизу, по бурому снегу, в тени враждебных жизни гор, шли пешком паломники с равнин, опираясь на посохи (купленные у придорожных торговцев-кашмирцев в Пахальгаме), и эта прерывистая линия соединялась в конце долины с другой линией, которая пересекала снежный пласт, преграждавший саму цель пути, исчезала среди серо-бурых гор и сама обретала их фактуру. Божество существовало: эту непреложную истину возвещали и лица, и возгласы возвращавшихся пилигримов. Я жалел, что мне не передается их настрой. Я жалел, что в конце пути меня не ждет нечто похожее на их радость.
И все-таки, особая радость не покидала и меня в течение всего восхождения, да и в течение всего моего пребывания в Кашмире. Это была радость жизни в горах; это была особая радость от встречи с Гималаями. Я ощущал свою связь с ними, мне нравилось произносить само это слово. Индия, Гималаи: для меня их имена были неразделимы. На скольких же ярко раскрашенных религиозных картинках в доме моей бабушки я видел эти горы, эти белые конусы на фоне простой, холодной синевы! Они стали неотъемлемой частью моей вымышленной Индии. Как бы я поразился тогда, на Тринидаде, болезненно удаленном от тех мест, которые казались стоящими и настоящими оттого, что были досконально известны, — если бы мне сказали, что когда-нибудь я буду ходить среди подлинных прообразов тех, нарисованных, гор. Я знал, что те картины лгали; то, что на них изображалось, ничего для меня не значило; однако в том уголке сознания, где продолжает жить детство, всегда оставалась надежда, что есть в них и правда. И отчасти именно с этим ощущением недосягаемого, которое подарили мне те картины, похожие на другие — те, что, кажется, целую жизнь спустя я увидел опять на индийских базарах и на тротуарах, среди пыльного товара торговцев, — с этим ощущением глядел я на эти, настоящие, горы. Находиться среди них значило ненадолго — и с более пронзительным чувством их недосягаемости — заново предъявить на них свои права. Отвергнуть легенду о тысячеглавом Шешнаге было легко. Но само существование этой легенды делало это озеро моим. Оно было моим — но как будто чем-то давно утраченным, чем-то таким, от чего мне скоро опять придется отвернуться. Странно ли видеть в этих Гималаях, подробно нанесенных на карту и, быть может, когда-то прежде известных еще лучше, — индийский символ утраты: горы, на которые жители раскаленных равнин оглядываются с тоской, к которым теперь они могут возвращаться лишь в паломничествах, легендах и картинах?
В конце долины, где лед, менее защищенный, частично сошел, вдруг ожила запечатленная в памяти картина: садху, одетый в одну только леопардовую шкуру, босиком идущий по гималайскому снегу, почти что в образе бога, которого он искал. Он держал свой трезубец, как копье, и на этом трезубце развевалось знамя из легкой прозрачной материи. Он шел одиноко, как человек, которому этот путь хорошо знаком. Это был молодой человек безукоризненной, тревожной красоты. Его кожа была выжжена дочерна и перепачкана белой золой; волосы имели светло-рыжеватый оттенок; но все это лишь делало неестественной безупречность его черт, наклон головы, стройность членов, легкую уверенную поступь, изящную игру мускулов на спине и животе. За несколько дней до паломничества я видел его в Шринагаре: он отдыхал в тени чинары, дерзко обнажив вялые гениталии. Там он казался неуместным: бездельник, туземец, явившийся в город. Тогда его выпачканная пеплом нагота, говорящая о безразличии к телу, придавала его красоте зловещий вид. Зато теперь он словно делился своим благородством со всеми паломниками: их влекла одна цель.
Из тени долины навстречу нам выдвинулся широкий пирамидальный склон Амарнатха — усеянный каменными глыбами, трепетно-белый в солнечном свете; а пещера, к которой он вел, зияла черным неподвижным пятном — выше и шире, чем я себе представлял, и вместе с тем — после стольких ожиданий — она смотрелась до странного банально, совсем как пещера на какой-нибудь бесхитростной религиозной картинке. Рядом с ее устьем паломники казались карликами: здесь опять требовалось соседство людей, чтобы придать масштаб чересчур примитивному элементу пейзажа. У подножья склона паломники, готовясь к последнему восхождению, мылись в чистых, священных водах ручья Амарвати и натирали тело песком с его дна. Каран Сингх, совершая паломничество, здесь, как и у Шешнага, вновь пошел на компромисс: «Я опять избрал неортодоксальный путь — воду в ведрах принесли ко мне в палатку, но на этот раз я не подогревал ее и выкупался в ледяной воде. Впрочем, она показалась мне чистой и теплой, и холодная ванна не доставила мне никаких неудобств».
Солнечный свет, белизна скал, вода, обнаженные тела, искрящиеся одеяния: такой была эта пасторальная сцена на высоте четырех тысяч метров. Однако прямо над ней царило смятение. За ручьем стояла горстка полицейских в хаки, горстка людей в красных нарукавных повязках Департамента общественных работ; паломники, покончив с умиротворенным омовением, карабкались ко входу в пещеру и примыкали к очищенной, неистовой толпе, прорывавшейся внутрь, чтобы взглянуть на божество и принести ему дары. Пещера имела в ширину чуть больше тридцати пяти метров, метров тридцать в высоту и столько же в глубину. Она была недостаточно велика. Внутри пещеры, где было сыро и со свода падали капли, крутой уклон вел к «святая святых» — обители божества. А ее защищала высокая железная решетка с воротами, открывавшимися наружу. Толпа напирала вперед; ворота открывались с большим трудом; всякий раз, как это происходило, в толпе, собравшейся на пандусе, начиналось бурление, и раздавались крики людей, боявшихся, что их столкнут с уклона: это был длинный откос, отделявший полумрак пещеры от залитого солнцем склона, по которому поднимались все новые и новые паломники. Новички — босоногие, со свежими или увядшими цветами, — вклинивались в толпу, надеясь, что общее движение подхватит и вынесет их к цели. Самостоятельное продвижение или отступление здесь было невозможно; какая-то женщина рыдала от ужаса. Я поднялся по пандусу и ухватился за железные прутья ограды. Оттуда я видел только толпу и низкий скальный свод, почерневший от сырости или от воскурений. Я спустился обратно. По склону, переливаясь из ледяной дали долины, неумолимо приближались паломники. Они были подобны морской гальке, они были подобны песку: пунктирная цветная линия, удаляясь, утончалась. Еще много часов, быть может, целый день, толчея на пандусе не прекратится.
Значит, мне бога не увидеть: придется обойтись без него. Но Азиз решил иначе. Он был мусульманином, иконоборцем, однако его мусульманская набожность не могла взять верх над его любопытством кашмирца. Он примкнул к толпе и тотчас пропал в ней — теперь только по меховой шапке можно было следить за его продвижением. Я уселся на корточки на замусоренный влажный пол, среди брошенных бумажек, оберток и сигаретных пачек, рядом с чумазым кашмирцем-мусульманином в тюбетейке, который стерег обувь благочестивых индусов, беря по четыре анны
[50] за пару. Дела у него шли бойко. Азиз медленно продвигался вперед. Он уже добрался до ворот, и там толпа выдавила его, как косточку из апельсина: мелькнула меховая шапка, смущенное, но решительное лицо, Али-Мохаммедова полосатая голубая куртка, руки, вцепившиеся в решетку.
Каким-то образом, работая руками, работая и невидимыми ногами, он умудрился втиснуться в узкое отверстие ворот, а потом снова исчез — вместе с меховой шапкой и всем остальным.
Я долго ждал его в этой гулкой пещере, которая за несколько часов превратилась в оживленный индийский базар. Да, базар: в этот миг кульминации я вдруг ощутил безразличие, которого боялся с самого начала путешествия. Оно было сродни тому безразличию (которого я точно так же ожидал, точно так же боялся), какое я испытал в самый первый день в Бомбее. Паломничества существуют только для верующих. Я сосредоточился на обуви, стоявшей перед кашмирцем, на монетках, которые он складывал на клочок газеты.
Когда Азиз наконец появился — помятый, но благоговейный, то сообщил с неким неуместным удовлетворением, в котором, впрочем, не было ничего удивительного — ведь он же, в конце концов, мусульманин, — что внутри никакого лингама нет. Может быть, в этом году он так и не успел образоваться, а может быть, растаял от такого скопления народа. Там, где обычно возвышался лингам, теперь лежали лишь подношения паломников — цветы и монетки. Но толпы, потоком изливавшиеся из выходных ворот, были преисполнены такого же экстатического возбуждения, как и те паломники, которые шли навстречу нам утром.
«Сюда приходишь не ради лингама, — сказал кто-то.
— Важен сам его дух».
Сам его дух! Сидя на корточках в этой пещере, которая непрерывно оглашалась криками и шарканьем ног, всматриваясь в базарный мусор на полу, краешком глаза видя постоянно прибывающую толпу, численность которой было оценить труднее, чем величину здешних гор и долин, я начал ощущать головокружение. Осязаемый ледяной нарост в силу своей необычности сделался духовным символом. Сейчас нарост не
образовался — и сделался символом символа. Я едва не утонул в этой винтообразной, разжижающей логике. Я вышел наружу, на свет. Паломники, уже возложившие свои подношения, теперь, задрав головы, выглядывали двух сизых голубей; некогда они были последователями владыки Шивы, а потом владыка разгневался на них и превратил в голубей, которые с тех пор навеки обречены жить возле Него в Его пещере. Я не стал глядеть вверх. Я спустился по белому склону, перепрыгивая с камня на камень, и не останавливался до тех пор, пока не приблизился к прозрачному ручью.
* * *
Возвращаться нужно было быстро. В Панчарни, где от утреннего лагеря почти ничего не осталось, наши пони передохнули, а поклажу заново перепаковали. Азиз твердил, что нам нужно отправиться прямо в Чанданвари; он непременно хотел вернуться в Шринагар на следующий день, чтобы успеть к другому религиозному действу: в мечети Хазратбал выставляли на обозрение волосок из бороды Пророка. Я бы предпочел остаться в горах еще ненадолго. Но нет — нам нужно было торопиться; вокруг нас царила атмосфера всеобщей спешки, едва ли не бегства. Потом, думал я. Когда-нибудь потом мы вернемся сюда и проведем целое лето среди этих гор. Мы ощутим на себе их погоду: в то утро, в лагере у Шешнага, туман неожиданно обвился вокруг снежных горных вершин, сделав их красоту еще более зловещей, а затем так же неожиданно поднялся, вновь открыв ясное небо. А днем все ручьи будут принадлежать нам. Но это «потом» — неизменная составляющая подобных мгновений. На самом деле, вид покинутого лагеря в Панчтарни подействовал на меня удручающе. Паломничество кончилось, дорога была уже известна; путешествие утратило новизну.
Позже по пути к нашей партии прибился какой-то кашмирец в зеленой тюбетейке, и между ним и Азизом мгновенно вспыхнула ссора. Я шел пешком; издалека мне были видны их яростно жестикулирующие фигуры; когда же я подошел ближе, то узнал в человеке в зеленой тюбетейке сбежавшего гхора-уоллу. Он пытался пристроиться к тому пони, которого бросил два дня назад; он не намерен был отступаться, но от каждого крика Азиза вздрагивал так, словно его били. Теперь пришла пора Азизовой мести; этого мига он давно ждал; и его гнев, и его презрение устрашили бы любого — кроме, разве что, другого кашмирца. В действительности, при всей страстности их перебранки, было в ней нечто театральное. Гхора-уолла умолял, но брань Азиза, похоже, нисколько не задевала его. Он плакал. Азиз, сидя верхом на своем маленьком тщедушном пони, так что его ноги в носках и сандалиях свешивались почти до самой земли, не желал смягчаться. Вдруг, перестав плакать, гхора-уолла подбежал к покинутому пони и сделал вид, будто хватается за поводья. Азиз громко закричал; гхора-уолла остановился так резко, словно его поймали на воровстве и огрели дубиной по голове. Наконец он перестал плакать и умолять; он сам закипел и принялся браниться; Азиз отвечал ему тем же. Он то отставал, то забегал вперед, то снова отставал. Потом он уже перестал забегать вперед и окончательно отстал, но, даже плетясь в отдалении, периодически впадал в новые приступы ярости и тряс кулаком на фоне гималайского горизонта.
— Когда мы приезжать в Пахальгам, вы доложить бюро туриазм, — сказал мне Азиз, сохраняя полное спокойствие.
— Они отбирать его разрешение.
Шешнагский лагерь был почти заброшен; это место выглядело истоптанным и отталкивающим. Мы проехали еще несколько километров и в сумерках поставили палатки в небольшом лагере. В течение еще нескольких часов со склона горы, мерцая, спускались огоньки и двигались дальше, мимо: это паломники спешили обратно в Чанданвари, взметая клубы пыли, видные в свете полной луны.
Оставшийся путь был легким. Ранним утром мы добрались до лесов Чанданвари, а к полудню уже показался Пахальгам, и мы вновь очутились в зеленом царстве полей, лесов и земли. Теперь дорога все время шла вниз. Я слез с пони и стал спускаться прямо по склону, срезая длинные изгибы и повороты пологой дороги для джипов, и вскоре сильно обогнал Азиза и остальных. Азиз не пытался нагнать меня; и даже потом, когда мы снова встретились внизу, на покрытой щебенкой дороге, и прошли мимо автобусной станции и туристического бюро, он не сказал ни слова про отсутствующего гхора-уоллу. А я не напоминал ему. Азиз соскочил с пони, чтобы без приглашения — и не встречая отпора — присосаться к чужому кальяну: он уже отбросил роль надменного мажордома. Мы ненадолго потеряли его из виду, а когда он снова появился, то нес кучку гороха в подоле рубахи, завязанной спереди таким узлом, что теперь у него перед животом было нечто вроде подноса, который не требовалось поддерживать. Превращение из мажордома в гостиничного слугу было завершено. Даже термоса при нем не было: его, как и обувь мистера Батта, он загубил.
На нашей базе, под навесом в тени дерева, нас уже поджидал гхора-уолла в зеленой тюбетейке. При виде меня он немедленно принялся скулить и плакать: это было номинальное самоуничижение, номинальный плач — без слез, без чувств, даже без намека на настоящее огорчение. Он подбежал ко мне, бухнулся на колени и обхватил мои ноги своими могучими руками. Вокруг нас с удовлетворенным видом собрались другие погонщики. Азиз с узлом гороха, выпиравшим спереди живота, открыто усмехался, глядя на гхора-уоллу.
— Он бедный человек, саиб.
Что же это? Неужели это говорит Азиз — после всего, что я слышал от него о гхора-уолле?
Гхора-уолла зарыдал еще громче.
— Он иметь жена, — сказал Азиз. — Он иметь дети. Вы не докладывать туриазм, саиб.
Гхора-уолла провел ладонями по моим ногам и хлопнулся лбом об мои башмаки.
— Он очень бедный человек, саиб. Вы не лишать его платы. Вы не отбирать его разрешение.
Крепко держась за мои колени, гхора-уолла терся о них лбом.
— Он нечестный человек, саиб. Он проклятая свинья. Но он бедный. Вы не докладывать туриазм.
Ритуал продолжался — не имея, казалось, никакого отношения ко мне.
— Ладно, ладно, — сказал я. — Я не буду на него докладывать.
Гхора-уолла немедленно вскочил на ноги, и на его широком крестьянском лице не обнаружилось ни следа тревоги или облегчения: исполняя эту роль, он просто работал. Он деловито отряхнул пыль со штанов, вынул из кармана несколько бумажных рупий, отсчитал пять и у меня на глазах передал их Азизу.
Такова была цена Азизова заступничества. Может быть, они пришли к взаимному соглашению еще вчера? Или спланировали все это заранее, в самом начале? Неужели Азиз столько стонал и жаловался лишь ради этого — ради пяти лишних рупий? Это казалось невероятным — ведь тогда, под Писсу-Гхати, он по-настоящему страдал, — но теперь я уже совсем не был уверен, что знаю Азиза. Зато он знал меня как облупленного: он взял это подношение — мои, в конечном счете, деньги — в моем присутствии. В течение всего путешествия он всячески подчеркивал мое достоинство; должно быть, он запугал гхора-уоллу моей влиятельностью. Но истинный его расчет был прост: ведь на самом деле я безвреден. Поняв суть его расчета, я почувствовал, как моя воля слабеет. Нет, я не стану — просто из гордости не стану устраивать ему сцену; все уже сказано и сделано, а Азиз — мой слуга. Будет гораздо спокойнее сохранить верность моему характеру — такому, каким он его счел, — до возвращения в Шринагар.
Пять рупий, пересчитанные, исчезли в одном из Азизовых карманов. Момент, подходящий для выговора, прошел. Я ничего не сказал. Его расчет в итоге оказался верным.
И тогда гхора-уолла, ведя своего пони под уздцы, снова подошел ко мне.
— Бакшиш? — сказал он и протянул руку.
* * *
Подсолнухи в саду увяли, сделавшись эмблемами угасающих солнц, их огненные язычки обмякли и сморщились. Моя работа была почти закончена; скоро настанет пора уезжать. Нужно было нанести прощальные визиты. Вначале мы отправились к нашим друзьям в Гульмарг.
— У нас тут тоже были приключения, — сообщил Ишмаэль.
У них всегда были приключения. Они притягивали всякие драмы. Они интересовались искусством, и у них вечно гостили писатели и музыканты.
— Ты случайно не встречал во время паломничества девушку по имени Ларэйн?
— Американку?
— Она говорила, что собирается в Амарнатх.
— Удивительно! Она что — тоже останавливалась здесь?
— Они с Рафиком едва с ума нас не свели.
Это приключение (рассказывал Ишмаэль) началось в Шринагаре, в индийской кофейне на Резиденси-роуд. Однажды утром Ишмаэль познакомился там с Рафиком. Рафик был музыкантом. Он играл на ситаре. В Индии обучение на музыканта было делом долгим и суровым. И хотя Рафику было уже около тридцати лет, и хотя он, по словам Ишмаэля, был очень хорошим исполнителем, он еще не сделал себе имени: он только-только начал давать сольные концерты на местных радиостанциях. Именно для того, чтобы отдохнуть перед очередным таким выступлением, Рафик приехал на две недели в Кашмир. Денег у него было мало. Ишмаэль, щедрый и импульсивный, как всегда, пригласил Рафика, которого впервые увидел в то утро, пожить у него в бунгало в Гульмарге. Рафик подхватил свой ситар и последовал за ним.
Вначале все шло хорошо. Рафик оказался в гостях у супругов, которые прекрасно понимали, что такое артистичная натура. Они были в восторге от его музыки, а он вдохновенно репетировал. Уклад жизни в доме тоже благоприятствовал творчеству: обедали в полночь — после музыки, разговоров и выпивки. Завтракали в полдень. Затем обычно приходил массажист, приносивший свое оборудование в небольшой черной коробке, на которой было надписано его имя. Потом — если не было дождя — прогуливались среди сосен. Иногда собирали грибы, а иногда шишки — чтобы от них в костре вспыхивали благовонные искры.
Но вот однажды все переменилось.
Они пили кофе на солнечной лужайке, когда на тропе внизу показалась белокожая девушка. Она спорила с кашмирцем-гхора-уоллой: одна, без спутника, она явно попала в беду. Ишмаэль отправил Рафика разобраться, в чем дело. И в это мгновенье отпуск Рафика был погублен; в это мгновенье сам он пропал. Когда минуту или две спустя он вернулся, его гостеприимцы едва узнали в нем того кроткого, вежливого ситариста, с которым недавно собирали грибы. Он стал словно одержимым. За то короткое время, пока он улаживал спор с погонщиком, он успел и покорить, и сдаться: между ним и девушкой вспыхнула страсть, и эта страсть была взрывоопасной. Рафик вернулся не один. Он привел с собой эту девушку — Ларэйн. Она останется с ними, заявил он. Они не возражают? Не смогут ли они приютить и ее?
Ишмаэль с женой ошеломленно согласились. В тот же день они предложили прогуляться, чтобы показать своей новой гостье вершину Нанга-Парбат (километрах в шестидесяти пяти от Гульмарга), на которой снег блестит, как масляная краска. Вскоре Рафик и Ларэйн отстали, а потом и вовсе скрылись из виду. Ишмаэль и его жена немного расстроились. Молчаливо и застенчиво — как будто это они были гостями, а не хозяевами, — они продолжали прогуливаться, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться видами. Через некоторое время Рафик и Ларэйн догнали их. На их лицах не было ни удовлетворения, ни усталости: оба пребывали в истерике. Они ссорились, и их ярость была нешуточной. Вскоре они принялись осыпать друг друга ударами. У обоих на лицах уже красовались синяки и царапины. Она лягнула его. Он застонал и отвесил ей пощечину. Она закричала, ударила его своей сумкой, потом снова лягнула, и он оступился на поросшем колючками склоне. Исцарапанный в кровь, он с воем поднялся, выхватил у нее сумку и зашвырнул далеко вниз, в долину, где она пролежит до тех пор, пока новые снега, растаяв, не смоют ее. Тут девушка уселась на дорогу и расплакалась, как ребенок. Его ярость разом утихла. Он приблизился к ней, и она покорилась ему.
Когда они вернулись в бунгало, Рафик выместил всю свою страсть на ситаре. Он играл, как обезумевший; его ситар завывал и завывал. В ту же ночь они снова поссорились. Их крики и вопли привлекли внимание полиции, которая всегда была начеку, готовясь дать отпор пакистанским налетчикам, в прошлом году совершившим грабительский набег на склоны Кхиланмарга.
Теперь оба были изукрашены синяками и шрамами; их опасно было оставлять наедине. Ларэйн, к которой то и дело возвращалась вменяемость, несколько раз уходила из бунгало. Иногда Рафик приводил ее обратно; иногда она возвращалась сама, пока он извлекал жалобные стоны из ситара. Ишмаэль и его жена не могли больше выносить всего этого. Во вторую ночь, когда Ларэйн в очередной раз исчезла неведомо куда, они попросили Рафика покинуть их дом. Он положил ситар себе на голову и собрался идти. Такая кротость, напомнившая о прежнем Рафике, и вид музыканта, уносящего свой инструмент, растрогали хозяев: они попросили его остаться. Он остался. Опять вернулась Ларэйн. Все началось сначала.
В конце концов Ларэйн — вся в синяках, измученная, вменяемая и отчаянная — не выдержала. После трех дней — для Ишмаэля и его жены длинных, как три недели, а для Ларэйн и Рафика — должно быть, как целая жизнь, — она поняла, что больше так не может: ей нужно уйти насовсем. Она совершит паломничество в Амарнатх, а потом отправится в ашрам. Она была женщиной и американкой: ее решимость продлилась достаточно долго, чтобы успеть сбежать.
«
Ларэйн! Ларэйн!» — доносился из-за стен бунгало вой Рафика, когда она ушла, и это имя странно звучало в его индийских устах.
Иногда он снова принимался репетировать. А потом резко прерывался и выкрикивал: «Я должен быть с Ларэйн!»
Он познал страсть. Ему можно было позавидовать; его можно было и пожалеть. Как часто, и с какой болью, предстоит ему заново переживать, наверное, даже не те три дня, а самый первый миг — как он спустился к той странной девушке и впервые встретился взглядом с ее отзывчивыми, тревожными глазами, которые больше никогда не отзовутся в точности так же на взгляд другого мужчины. Быть может, в тот вечер, когда он отчаянно выкрикивал ее имя в Гульмарге, я как раз всматривался в ее глаза в холодной палатке Индийской кофейной биржи в Шешнагском лагере, читая в них рассказ о распавшейся семье и несчастном детстве. Я оказался отчасти прав. Но я не догадался о куда большей беде.
Рафик покинул Гульмарг, вознамерившись найти ее. Она говорила, что собирается в ашрам. Но в Индии полно ашрамов. Где же ее искать?
* * *
Долго искать ему не пришлось.
Я сидел в своей комнате, за синим столом, когда в саду послышался голос какой-то американки. Я выглянул — это оказалась Ларэйн. Еще успел заметить мужской затылок над крепкими плечами в желтоватом пиджаке. Значит, она сдалась; она прекратила свои поиски. Они явились в отель, чтобы выпить чаю. Я слышал, как они справляются о свободных комнатах, а потом услышал, как они осматривают помещения.
— Всё
фик? — спрашивала Ларэйн, неправильно произнося индийское
th: она по-прежнему жила Индией, по-прежнему уснащала свою речь словечками на хинди. — Всё в порядке?
Когда они спускались по лестнице, я слышал глухое мужское ворчание.
Они въехали на следующий день. Я их так и не увидел. Они весь день оставались в комнате, и гостиница то и дело оглашалась звуками ситара.
— По-моему, — сказал Азиз за ужином, — тот саиб и мем-саиб сегодня жениться.
Ночью я проснулся от какой-то возни в гостинице, а утром, когда Азиз принес мне кофе, я расспросил его.
— Этой ночью саиб жениться с мемсаиб, — прошептал он. — Они ужинать в час ночи.
— Не может быть!
— Мистер Батт и Али Мохаммед приводить им муфтий. Она принимать ислам, брать мусульманское имя. Они пожениться. Они ужинать в
час ночи! — Столь позднее время для трапезы, похоже, поразило его не меньше, чем сам этот брак.
И вот теперь в брачных покоях стояла полная тишина — даже ситар молчал. Молодожены не заказывали завтрака, не выходили полюбоваться видом. Все утро их комната оставалась запертой, как будто оба прятались там, боясь того, что совершили. После обеда они незаметно выскользнули куда-то. Я не видел, как они уходили.
Только ближе к вечеру, когда я пил чай на лужайке, я увидел, как Ларэйн — одна — возвращается по озеру в гостиницу. На ней было синее хлопчатобумажное платье; она выглядела спокойно, и в руках у нее была книжка в мягкой обложке. Ее можно было принять за обычную туристку.
— Привет!
— Это правда — то, что мне сказали? Ты вышла замуж?
— Ну да, я такая. Импульсивная.
— Поздравляю.
— Спасибо.
Она села рядом. Чувствовалось, что она слегка напугана; ей хотелось выговориться.
— Ну, разве это не безумие? Я ведь так увлекалась индуизмом, — она показала мне обложку книги, которая была у нее в руках: пересказ «Махабхараты», сделанный мистером Раджагопалачари, — и вдруг я становлюсь мусульманкой и все такое.
— И какое теперь у тебя имя?
— Зенобия. Правда, красивое имя?
Имя было красивое, но оно принесло множество сложностей. Она не знала, лишилась ли американского гражданства из-за своего брака, и не была уверена, разрешат ли ей работать в Индии. Она смутно представляла себе, что теперь она очень бедна и ей придется жить в стесненных обстоятельствах (я догадывался, что она до конца не представляет себе, в каких именно) в каком-то индийском городе. Но она уже говорила «мой муж» так, словно произносила эти слова всю жизнь; ее уже заботила «карьера мужа» и «выступление мужа».
Они были гораздо беднее, чем она предполагала. Даже «Ливард» оказался им не по карману. На следующий день они собрались переезжать куда-то в другое место, и утром поднялся шум вокруг выставленного им гостиничного счета.
Азиз докладывал мне:
— Он говорить, я завышать цену. Он говорить: «Зачем ты рассказывать другому саибу, что я женился?» Я говорю: «Зачем вы таиться? Мужчина женится. Это навсегда. Он устраивать пир. Он приглашать. Он не прятаться. Так почему мне не рассказывать? Вы будить моего саиба, и он жаловаться».
— Азиз, а ты уверен, что не завышаешь плату?
— О, нет, саиб.
— Но он же совсем не богат, Азиз. Он сам не ожидал, что женится, когда приедет в Кашмир. Сколько они истратили на брак?
— О, саиб, сколько они истратить? Кто-то давать муфтию пять рупий, кто-то десять, кто-то пятьдесят.
— И сколько же они дали?
— Сто рупий.
— Но это же бесчеловечно! Ты должен был удержать его. Ему не по карману сто рупий! Неудивительно, что теперь ему нечем заплатить тебе.
— Но это же навсегда, саиб. Ты жениться на американской мемсаиб, ты давать большой пир. Ты давать персидская
кхана, фейерверки
бангола. Ты не прятаться. А они не давать пир, они ничего не давать.
— Да, мемсаиб — американка, но у них нет денег.
— Нет, саиб. Они прятаться. Много людей приезжать в Кашмир и думают, что здесь ничего не значить. Они думать, что кашмирская свадьба не значить. Но брачная бумага — это документ для суда, саиб.
И Али Мохаммед принес мне экземпляр свидетельства о браке, на котором я увидел подписи Зенобии, Рафика и мистера Батта.
— Они не прятаться, саиб, — сказал Азиз. — Они жениться честно.
Дело было не только в деньгах. Они чувствовали, что уязвлена их гордость — и кашмирская, и мусульманская. Они же приняли у себя новообращенную, а теперь боялись, что их одурачат.
— Он не платить, — сказал Азиз, — я забирать ситар.
Но Рафик обежал весь Шринагар и занял необходимую сумму. К полудню они с Зенобией уже приготовились уезжать. Мы обедали, когда Зенобия зашла попрощаться. За занавеской, висевшей в дверном проеме, нерешительно стоял мужчина.
— Рафик! — позвала она его.
Он вошел и встал позади нее, в нескольких шагах.
Самообладание мгновенно покинуло ее. Она поняла, что нам известна гульмаргская история.
— Это, — произнесла она с ощутимым смущением, — мой муж.
Я ожидал увидеть человека более измученного, более изможденного. Он оказался мужчиной среднего роста, крепкого телосложения, с округлым лицом с грубоватыми чертами. Я ожидал увидеть бесноватого, дерзкого человека. А он оказался чудовищно застенчивым, с сонными глазами; у него был такой вид, словно его застигли за курением, и он пытался спрятать зажженную сигарету за спиной и одновременно проглотить дым, не закашлявшись. Он был музыкантом и индийцем: я ожидал увидеть длинные волосы и белую рубаху с широкими рукавами, а не эту по-армейски короткую стрижку и сшитый у индийского портного желтый костюм.
Не таким я представлял себе человека, который заставлял свой ситар рыдать за него по ночам; передо мной стоял всего лишь такой человек, который не хотел, чтобы о его женитьбе узнали другие. Бедный Рафик! Он приехал в Кашмир просто отдохнуть; он уезжал отсюда измученным, обнищавшим, женатым. Раньше я думал, что страсть — это дар, особая способность, которой разные люди наделены в неравной степени. А сейчас мне подумалось, что это нечто такое, что, при сложном стечении обстоятельств, может настигнуть каждого из нас.
Он по-военному пожал мне руку. Вытащил из внутреннего кармана невзрачную авторучку и гладким, секретарским почерком записал свой адрес — теперь и адрес Ларэйн, теперь Зенобии.
— Обязательно приезжай в гости, — сказала она. — Приезжай как-нибудь к нам на ужин.
Потом они исчезли за занавешенным дверным проемом, и я больше никогда не видел Рафика.
* * *
Нам тоже пора было паковать вещи и уезжать, прощаться и с горами, и с нашей комнатой, выходившей на две стороны света. Стебли тростника побурели; под вечер по главным водяным путям проплывали шикары, груженные срезанным тростником. А подсолнухи — их стебли сделались совсем толстыми, и птицы клевали семечки из черных, выжженных цветочных сердцевин, — однажды срезали все до единого и сбросили кучкой возле кухни. Теперь сад выглядел голым и опустошенным, а культи подсолнухов были белыми, как древесные пеньки.
Как-то вечером Азиз пригласил нас на ужин в свой высокий кирпичный дом на озере и самолично отвез нас туда (прихватив накрытый салфеткой кувшин с водопроводной водой из гостиницы). Ночь, фонарь на шикаре, тишина; дом, к которому мы подплывали по водному переулку, между плакучими ветвями ив; и Азиз, державшийся с какой-то старомодной учтивостью. Мы ели, сидя на полу в комнате наверху, откуда вынесли всю мебель и удалили всех людей, о чьем присутствии мы, впрочем, догадывались по близкому шепоту и по шорохам; Азиз сидел перед нами на коленях и беседовал — уже не гостиничный слуга, но гостеприимный хозяин: важный, независимый, человек состоятельный, человек с убеждениями и, наконец, — когда появились женщины с младенцами — ответственный семьянин. Стены дома были толстыми, уютно закопченными, в них имелось-множество сводчатых ниш; окошки были маленькие. Эта комната обещала и праздность, и тепло от угольных жаровен зимой, когда озеро замерзнет, покрывшись таким прочным льдом, что по нему сможет проехать джип: мы будем следить за сводками погоды в Шринагаре.
После нашего последнего ужина в гостинице мистер Батт собрал для церемонии раздачи чаевых весь персонал: Азиза, Али Мохаммеда, повара, садовника, мальчишку-разнорабочего. Свадьба их разочаровала; я надеялся, что не разочарую их еще больше: на их улыбчивых лицах читалась вера в том, что эпоха стиля еще не закончилась. Они принимали мои подарки и мои отпечатанные характеристики с изящными мусульманскими жестами; они продолжали улыбаться. Быть может, они просто проявляли вежливость; быть может, они научились приспосабливаться к измельчавшей эпохе. Но Азиз был действительно доволен. Я догадался об этом по тому равнодушному движению, каким он сунул мои деньги, вначале оценив полученную сумму, в карман. Он принял хмурый, деловитый вид, как человек, обремененный нескончаемыми обязанностями: деньги для него сейчас менее важны, чем наведение порядка в столовой. Он расслабится, как только выйдет отсюда; все остальные тоже расслабятся. И позже, вечером, придя на кухню, чтобы последний раз посидеть у кальяна, я застал их всех врасплох: они хихикали над характеристикой, которую я написал — довольно прилежно — для мальчика-чернорабочего.
Мы уезжали ранним утром. Мистер Батт отвез нас на лодке к приозерному бульвару. Еще не рассвело. Гладь воды была неподвижна; на бульваре нас ждала тонга. Мы проехали мимо запертых плавучих домов, мимо лотосовых клумб. На балюстраде бульвара какой-то мужчина занимался гимнастикой. Покатая крыша над двуколкой опускалась очень низко — нам приходилось нагибаться, чтобы увидеть озеро и горы. Город собирался с минуты на минуту проснуться, а возле Центра приема туристов, когда мы до него доехали, царило адское оживление.
— Три рупии, — сказал кучер тонги.
За четыре месяца я пришел к взаимопониманию с кучерами приозерных тонг и никогда не платил больше рупии с четвертью за поездку в город. Но сейчас случай был особый. Я протянул кучеру две рупии. Он даже не притронулся к купюрам. Я не стал предлагать ему больше. Он пригрозил мне кнутом, и я обнаружил, к собственному удивлению — наверное, час был слишком ранний, — что вцепился ему в горло.
Азиз вмешался.
— Он не турист.
— О! — сказал кучер.
Он опустил руку с кнутом, я выпустил его горло.
Наши места в автобусе были заказаны заранее, но все равно нужно было протискиваться, пихаться и кричать. За нас протискивались и кричали Азиз и Али Мохаммед, а мы отступили к краю толпы.
И тут мы заметили Ларэйн-Зенобию.
Она была одна и близоруко щурилась на автобусы. На ней была юбка шоколадного цвета и кремовая блузка. Она выглядела похудевшей. Она не обрадовалась, увидев нас, и мало что захотела сообщить. Сказала только, что все-таки отправляется в свой индуистский ашрам; потом поедет к мужу. А сейчас ей было некогда — она разыскивала свой автобус. Это был автобус компании «Радхакишун», но она превратила это слово в «Радха-Кришну»: мыслями она все еще витала в индуистских легендах. Кришна был черным богом, а Радха — белой пастушкой, с которой он водил шашни.
Так, спрашивая у всех про Радха-Кришну, всматриваясь в таблички с номерами на автобусах, она растворилась в толпе.
Места наши были найдены, наши сумки закреплены на крыше автобуса под брезентом. Мы пожали руки Азизу и Али Мохаммеду и вошли в автобус.
— Вы не беспокоиться о кучере, — сказал Азиз. — Я все уладить. — На глазах у него показались слезы.
Завелся мотор.
— О кучере?
— Вы не беспокоиться, саиб. Правильная цена три рупии. Я заплатить.
Водитель уже сигналил.
— Правильная цена?
— Утренняя цена, саиб.
Он был прав — я это понял.
— Две рупии, три рупии, какая разница? До свиданья, до свиданья. Вы не беспокоиться.
Я стал шарить в карманах.
— Не беда, саиб. До свиданья!
Я просунул ему несколько рупий в окно.
Азиз взял их. По его щекам текли слезы. Но даже и в этот миг я не был до конца уверен, что он когда-либо был моим.
* * *
На ней была юбка шоколадного цвета и кремовая блузка. Рафик навсегда запомнит эту одежду; наверняка он видел накануне, как она вывешивает ее на спинке стула. После того утра он больше ее не видел. Она поехала в свой ашрам — а потом вообще уехала из Индии. Он писал ей; она отвечала; потом его письма стали возвращаться нераспечатанными. Ее родители давно расстались и жили в разных странах. Один из них встал на сторону Рафика, другой был против него. Рафик продолжал писать. Спустя много месяцев он все еще горевал.
Но обо всем этом я услышал уже в другой приезд. А в почтовом отделении для корреспонденции до востребования, в другом городе меня ожидало такое письмо:
ОТЕЛЬ «ЛИВАРД»
Предварительные заказы
на Пешие походы, Охоту и Рыболовство
Домики в Гульмарге & Опытный Гид из Пахальгама
Влад.: М. С. Батт
Дорогой сэр, Позвольте выразить Вам признательность за любезность, оказанную 7 числа текущего месяца, а также сожаление, что Вам пришлось столкнуться с множеством неприятностей по пути к месту назначения, так как автобус, в котором Вы ехали, сломался. Рад был услышать, что Вы при этом благополучно достигли цели Его Милостью.
Я прекрасно понимаю, что виды Кашмира и прочие красоты наших мест не изгладятся у Вас из памяти. Желаю Вам снова побывать здесь, и тогда я буду рад снова служить Вам.
В Вашей комнате жил один человек из Бомбея и еще один из Дели.
Вся наша семья передает Вам наилучшие пожелания.
Надеемся, что это письмо застанет Вас в добром здравии и благодушном настроении.
Заранее Вам благодарный,
Искренне Ваш,
М. С. Батт
(Мохд. Сидик Батт)
Часть третья
8. Фантазия и руины
Британцы владели этой страной так безраздельно. Их уход был столь бесповоротен. А мне — даже спустя много месяцев — во всем, что напоминало об их присутствии, мерещилось нечто фантастическое. Я вырос в британской колонии и, казалось бы, должен был встретить здесь много знакомого. Но Англия ничуть не менее многолика, чем Индия. Англия, которая заявила себя на Тринидаде, отнюдь не была Англией, в которой я жил потом; и ни одну из этих стран нельзя было соотнести с Англией, послужившей источником столь многих вещей, которые я видел повсюду теперь.
Эта Англия встревожила меня с самого начала — с того мига, когда, сидя на катере, я увидел английские имена и названия на кранах в бомбейских доках. Отчасти это было беспокойство такого рода, какое мы испытываем — внезапным ощущением нереальности, когда на долю секунды мы утрачиваем способность к трезвому суждению, — при подтверждении диковинного, но давным-давно известного факта. Но для меня было в этом и еще кое-что. Это подтверждение разоблачало ту крошечную область самообмана, которая — вопреки знанию и самопознанию — оказалась живучей в части моего сознания, считавшей возможным существование белоснежных гималайских конусов на фоне холодного синего неба, какими они изображались на религиозных картинах в доме моей бабушки. Ибо в Индии моего детства — стране, которая в моем воображении была продолжением (обособленным от той чужеземщины, которая окружала нас самих) бабушкиного дома, — не было никакого чужеземного присутствия. Как можно было представить себе такое? Наш собственный мир, пускай явно угасающий, по-прежнему существовал обособленно; а отношения с англичанами, о которых мы на острове знали совсем мало, должны были казаться куда менее вероятным нарушением табу, нежели отношения с китайцами или африканцами, о которых мы знали больше. С этой чужеземщиной мы соприкасались ежедневно, — и, наконец, совершенно растворились в ней. Но при этом мы сознавали, что перемена произошла, что-то было выиграно, что-то утрачено. Мы сознавали, что нечто — некогда цельное — было унесено навсегда. Но что было цельным, так это представление об Индии.
Чтобы сохранить это представление об Индии как о стране, по-прежнему цельной, не требовалось замалчивать исторические факты. Их следовало признавать — и не замечать; и только в Индии я сумел разглядеть в таком подходе часть индийской способности к отступлению, способности искренне не видеть очевидного: для других такой подход стал бы почвой для невроза, но для индийцев он лишь естественно входил в общую философию отчаяния, которая вела к бездействию, отстраненности, принятию. Лишь теперь, когда раздражение наблюдателя растворилось в процессе письма и копания в собственной душе, я понял, до какой степени я сам придерживался подобной философии. Ведь это она позволяла мне, долго живя в Англии и подвергаясь разного рода давлению, полностью устраняться от понятий о национальной принадлежности и испытывать привязанность лишь к отдельным людям; это она внушала мне, что достаточно быть лишь самим собой, своей работой, своим именем (а ведь последние так отличаются от первого); это она убедила меня, что каждый человек — остров, и приучила меня старательно оберегать все хорошее и чистое, что было во мне, от порчи причин.
А потому, наверное, я должен был сохранять покой, встречая напоминания об этой Англии в Индии. Но они обличали один тип самообмана как самообман; и хотя это происходило в той части сознания, где фантазия была допустима, такое разоблачение оказалось болезненным. Это была встреча с унижением, какого я никогда прежде не знал, и, пожалуй, я чувствовал его гораздо острее, чем те индийцы, что торопливо шагали по улицам с невероятными английскими названиями, в тени имперски-помпезных зданий; так, наверное, другие могли бы ощутить за меня колониальное унижение, которого я сам на Тринидаде не чувствовал.
Я никак не мог соотнести колониальную Индию с колониальным Тринидадом. Тринидад был британской колонией, но каждый ребенок понимал, что наш остров — лишь крохотная точка на карте мира, а значит, принадлежать Британии очень важно: эта связь, по крайней мере, надежно скрепляла нас с более обширной системой. Мы не ощущали, что эта система угнетает нас; и хотя мы являлись британцами — и в политическом отношении, и в области ведомств и образования, — мы находились в Новом Свете, наше население было чрезвычайно смешанным, самих англичан было мало, и они в основном общались между собой, а потому Англия была для нас всего лишь одна из стран, в чьем существовании мы отдавали себе отчет.
Это была страна во многом неизвестная; образованный островитянин мог еще развить в себе вкус ко всему английскому. Для большинства же куда важней была Америка. Англичане делали хорошие крошечные машины для внимательных водителей. Американцы делали настоящие автомобили, они же снимали настоящее кино и поставляли миру лучших певцов и лучшие оркестры. Американские фильмы рассказывали о понятных всем чувствах, их юмор был всем доступен. Американское радио было современным и великолепным, к тому же акцент воспринимался легко; а вот новости Би-Би-Си можно было слушать в течение пятнадцати минут — и не разобрать ни единого слова. Американские солдаты любили толстых уличных шлюх — чем чернее, тем лучше; они заталкивали их в свои джипы и разъезжали от одного клуба к другому, соря деньгами; их всегда можно было втянуть в драки с неравной расстановкой сил. Американцы были людьми, общение с которыми оказалось возможным. Рядом с ними британские солдаты выглядели иностранцами. На Тринидаде им никак не удавалось найти верный тон. Они вели себя или чересчур шумно, или чересчур скованно; они говорили на своем странном английском; они называли самих себя «чуваками» (однажды это даже послужило темой новостного сообщения в «
Тринидад-гардиан»), не зная, что на Тринидаде слово «чувак» имеет оскорбительный оттенок; их форма, в особенности шорты, смотрелась уродливо. У них было мало денег и отсутствовало чувство приличия: можно было увидеть, как они покупают в сирийских лавках дешевое женское белье. Такой в расхожем представлении была Англия. Разумеется, имелась и другая Англия — та, что поставляла нам губернаторов и высших государственных чиновников, — но она находилась слишком далеко, чтобы вписываться в действительность.
Мы являлись колониальными жителями на особом положении. Британская империя в Вест-Индии существовала давно. Это была морская держава и, если не считать нескольких площадей да гаваней, оставила по себе мало памятников; а поскольку мы находились в Новом Свете — до 1800 года Тринидад был практически незаселен, — то казалось, что эти памятники относятся к нашему доисторическому прошлому. В силу самой своей давности империя перестала выглядеть неуместной. Требовался несколько отстраненный взгляд, чтобы увидеть, что все наши учреждения и сам наш язык — плоды империи.
Англия, которую я находил в Индии, была совершенно иной. Сразу бросалась в глаза неуместность ее навязанного присутствия. Форт Святого Георгия — серый, тяжеловесный, свидетельствующий об английских вкусах XVIII века, знакомых по однодневным ознакомительным поездкам, — никак не сочетался с мадрасским пейзажем; в Калькутте дом с широким передним фасадом и колоннами — его показывали как дом Клайва
[51], — стоявший на запруженной машинами дороге к аэропорту Дум-Дум, явно требовал не столь экзотического окружения. А поскольку следы этой империи по-прежнему выглядели неуместными, то их возраст, хоть он и был моложе, чем возраст той же империи в Вест-Индии, поражал: казалось бы, эти памятники XVIII века должны смотреться наносными новшествами — но тут ты своими глазами видел, что они уже стали неотъемлемой частью этой страны, изобилующей чужими руинами. Такова была одна грань индийской Англии; она принадлежала истории Индии; и она была мертва.
Особняком от нее стояла Англия Раджа. Эта Англия была все еще жива. Она по-прежнему жила в разделении главных городов на «казармы», «гражданские кварталы» и базары. Она жила в общих трапезах армейских офицеров, в серебре, которое так часто дарили, так почтительно начищали и выставляли напоказ, в униформах, усах и офицерских тросточках, в армейских манерах и жаргоне. Она жила в коллекторатах, в поблекших чернилах и аккуратном почерке, которым описаны все земельные владения, которые могли бы составить «Книгу страшного суда»
[52] субконтинента: все это вызывало в воображении нескончаемые дни, проведенные верхом на лошади, под раскаленным солнцем, со множеством слуг, но без особых житейских удобств, и вечера, полные кропотливого труда. («Этот труд утомил их, — сказал мне молодой чиновник Индийской административной службы. — После него они уже не в силах были заниматься ничем другим».) Она жила в клубах, утренней игре в бинго по воскресеньям, желтых обложках заграничных изданий
«Дейли-миррор» в ухоженных руках индианок из среднего класса; она жила в танцполах городских ресторанов. Это была Англия куда более полнокровная, нежели мог себе вообразить любой выходец с Тринидада. Она была более помпезной, созидательной и вульгарной.
И все-таки было в ней что-то фальшивое. Для меня в ней всегда было что-то фальшивое и у Киплинга и других писателей; было в ней что-то фальшивое и теперь. Может быть, это была смесь Англии с Индией? Может быть, мое колониальное, тринидадско-американское, англоязычное предубеждение не давало мне принять за чистую монету это наложение — без видимой конкуренции — одной культуры на другую? С одной стороны, я ощущал, что это слияние Англии и Индии насильственно; с другой же, видел в нем нечто смехотворное — из-за комичного смешения костюмов и повсеместного использования плохо усвоенного языка. Но было тут и что-то еще — нечто такое, на что намекала архитектура эпохи Раджа: все эти коллектораты, под сводами которых покоились плоды колоссальных усилий, эти клубы, эти здания для выездных судов и инспекторов, эти залы ожидания первого класса на железнодорожных вокзалах. Все эти помещения были чересчур просторны, их потолки — чересчур высоки, их колонны, арки и фронтоны — чересчур напыщенны; они не принадлежали ни Англии, ни Индии; они были слишком помпезны, если учесть их предназначение, как и слишком помпезны, если учесть ничтожество, нищету и беспросветность, на фоне которых они возвышаются. Они говорили скорее о стремлении к усердию, нежели о самом усердии. Они кричали о своей чуже-родности и действительно были более чужеродными, нежели более ранние британские здания, многие из которых выглядят так, словно их целиком перевезли сюда из Англии. Они породили такую скукотищу, как мемориал Виктории в Калькутте и дары лорда Керзона Тадж-Махалу, — скукотищу, которая сама сознавала, что становится предметом насмешек, однако исходила из уверенности в том, что все эти насмешки безболезненно снесет. Попадая в такие здания, я испытывал замешательство; похоже, они все еще старались навязать свое отношение и тем, кто находился внутри, и тем, кто оставался снаружи.
Все это можно найти у Киплинга — и это возбраняет написание эпилога к индийскому наследию. Совершать путешествию в Индию вовсе не обязательно. Не найти писателя более честного и точного: ни один другой писатель не рассказывал так много о себе самом и о своем обществе. Он оставил нам Англо-Индию; чтобы заново населить эти обломки Раджа, достаточно лишь почитать его книги. Мы находим в них людей, прекрасно сознающих свои роли, сознающих свою власть и свою обособленность — и в то же время боящихся показывать, насколько им отрадно такое положение: все они обременены обязанностями. Обязанности эти вовсе не выдуманные; но в целом выходит так, что все эти люди притворяются. Все они — актеры: они прекрасно знают, чего от них ожидают, и никто добровольно не откажется от такой игры. Киплинговский управляющий, почтительно именуемый саибом и хазуром, окружаемый со всех сторон сказочной страной, является как бы изгнанником — измученным, гонимым, не встречающим понимания ни у начальства, ни у туземцев, которых он тщится облагородить; и, говоря от его лица, Киплинг воздвигает целые горы притворного гнева и может даже достигать притворно-агрессивной жалости к себе: настоящий театр в театре.
На родине они, другие мужчины, во всем равные нам, имеют в своем распоряжении все городские радости: уличный шум, огни, приятные лица, миллионы себе подобных, толпы хорошеньких англичанок со свежими лицами… А нас лишили всего это наследства. На родине люди наслаждаются всем этим, даже не сознавая своего счастья и богатства.
Довольство самим собой кокетливо скрывается за жалобами, чтобы тем лучше проявиться: такова женская нотка клубного писателя, который принимает ценности своего клуба и искренне смотрит на членов клуба их собственными глазами. Именно такой тон очень точно описала Ада Леверсон
[53] в своем романе
«На крючках», опубликованном в 1912 году:
«У меня все время такое чувство, будто он [Киплинг] окликает меня по имени, не будучи представленным, или как будто предлагает мне поменяться шляпами… Насколько же пугающе хорошо он знаком со своими читателями».
«Но вы считаете, что от своих персонажей он держится на почтительном расстоянии?»
Конечно, называя Киплинга «клубным писателем», мы употребляем веское слово. Клуб — это один из символов Англо-Индии. В книге
«Кое-что о себе» Киплинг рассказывает, как в Лахоре он каждый вечер приходил ужинать в клуб и встречал там людей, которые только что прочитали то, что он написал накануне. Он видел в этом ценный дисциплинирующий опыт. Одобрение клуба было для него очень важно: он ведь писал о клубе и для клуба. И в этом состоит его особая честность, его достоинство как поэтического летописца Англо-Индии. Но в этом же кроется и его особая уязвимость: ведь, применяя к клубу исключительно ценности клуба, он тем самым разоблачает и клуб, и самого
себя.
Его сочинения составляют одно целое с архитектурой эпохи Раджа; и в этой имперской оболочке мы находим не карикатуры из биллиардных залов и не любовь жителей пригорода к романам, как в клубах местного значения, а миссис Хоксби — эту остроумицу, королеву, манипуляторшу и визитную карточку Шимлы. Как она страдает от щедрости, наградившей ее всеми качествами, о которых она сама мечтала! Ее остроумие — это не остроумие вовсе; и сегодня чувствительность ее поклонников кажется нам чуточку провинциальной, чуточку тоскливой. Однако сам этот круг — королева, придворные, шут, — безупречен; создано нечто такое — одобряем мы его или нет, — благодаря чему люди могут жить в особенных обстоятельствах; а потому кажется немыслимой жестокостью указывать на его фальшь. Только таким образом — на личном уровне — и можно откликаться на Киплинга. Слишком он честен и великодушен, слишком бесхитростен и слишком талантлив. Сама его уязвимость смущает: критика, на которую он напрашивается, кажется проявлением жестокости с нашей стороны. Мистер Сомерсет Моэм уже разделался с притязаниями миссис Хоксби. Как-то раз она сказала про голос другой женщины, что он напоминает ей скрежет тормозов поезда подземки, когда он подъезжает к станции Эрлз-Корт. Если миссис Хоксби действительно является той, за кого выдает себя, заметил мистер Моэм, то ей нечего делать в Эрлз-Корте; и уж во всяком случае, она не стала бы ехать туда на подземке. У Киплинга можно найти еще много такого, с чем можно вот так разделаться. Люди и вправду представлялись ему крупнее, нежели были на самом деле; да и они — быть может, не так уверенно, — представлялись себе крупнее, нежели были. Они жили с оглядкой друг на друга; фантазия, костенея, перерастали в убежденность. А нам время давно уже выдало их с головой.
* * *
Из Дели в Калку идет ночной поезд; от Калки можно добираться до Шимлы или по автомобильной дороге, или по узкоколейной, почти игрушечной железной дороге, которая извивается, поднимаясь в гору. Я ехал по автомобильной дороге, в компании молодого чиновника Индийской административной службы, с которым познакомился в поезде до Калки. Он с грустью рассказывал о том, в какой упадок пришел город после 1947 года. Для него, как и для всех индийцев, миф был реальностью. Слава Шимлы составляла часть индийского наследия, которое безрассудно проматывалось: теперь по всему городу завелись лавки, торговавшие бетелем. Пока мы разговаривали, из задней части фургона доносились какие-то шорохи — чиновник вез ручных птиц ткачиков. Они сидели в большой крытой клетке, и когда шорох переходил в яростную возню, мой попутчик начинал квохтать, ворковать и ласковым голосом говорить с клеткой. Время от времени мы видели, как игрушечный поезд выезжал из игрушечного тоннеля. Стояла морозная середина января, но из открытых окон высовывались пассажиры в одних рубашках, как будто свято верившие, что в Индии всегда лето.
И вначале мне показалось, что тот чиновник прав, что киплинговский город пришел в окончательный упадок. Было сыро и холодно; узкие улицы покрывала грязь; в гору поднимались босые низкорослые люди с тяжелыми грузами, привязанными к спинам; их шапочки вызывали в памяти Кашмир и тех носильщиков-оборванцев, которые с криками гонялись за всеми автобусами, приезжавшими в курортные деревеньки. Неужели здесь когда-то царило обаяние роскоши? Но ведь точно так же дело обстояло с любым из индийских пейзажей, знакомых по книгам. Обман, думал ты сначала; а потом — упадок. Но стоило только фигурам, оказавшимся на первом плане, отпечататься в памяти, а потом отойти, исчезнуть из поля зрения, — и видение делалось таким же избирательным, как бывает, когда ты оказываешься в темной комнате, заставленной знакомыми предметами, и твои глаза постепенно привыкают к темноте.
Поле зрения сужалось — и Шимла медленно проступала: город, построенный на ряде горных хребтов, сеть перекрещивающихся улиц, в которых легко потеряться. В моем воображении аллея была широкой и прямой — в жизни она оказалась узкой и извилистой. Через каждые несколько метров попадались на глаза таблички, воспрещавшие плевать; но тут повсюду действительно были лавки, торговавшие бетелем, как и говорил чиновник ИАС, и все улицы были заплеваны красным соком от бетелевой жвачки. В витринах фотоателье красовались выцветшие фотографии англичанок, одетых по моде тридцатых годов. И это были не просто реликвии: дела в ателье шли бойко. Но в Индии все наследуется, ничто не упраздняется; все вырастает из чего-то другого: вот и сейчас аллея перешла под конторы — снабженные крикливыми вывесками — администрации Химачал-Прадеша, чиновники которой разъезжали по здешним узким переулкам на зеленых «шевроле» конца сороковых годов: упадок среди упадка. Солнце садилось за горы; холод становился все ощутимее. Тревожащие фигуры скрылись, впечатление базара исчезло. Горный хребет сверкал электрическими огнями, и в этой залитой светом фонарей темноте центр города проступал еще более четко: английский городок сказочной страны, архитектура в ложно-ложных стилях, огромное церковное здание, утверждающее чуждую веру, лавочки с убогими фасадами и нарядными остроконечными крышами, из окон которых вполне могли бы выглядывать люди в ночных колпаках и ночных сорочках, с фонариками или свечами в руках. Все это высокопарным языком говорило о камерности и уюте, в действительности никогда не существовавших. Баснословная выдумка, порождение фантазии, опиравшейся на такую самоуверенность, которой нельзя было не восхититься. Но не этого я ожидал. Мое разочарование было разочарованием такого рода, какое испытываешь на мгновенье, когда, прочитав о доме в Комбрэ, мы видим фотографию дома в Илье. Образ правильный; но сам взгляд — детский, мифотворческий. Ни один город, ни один пейзаж не обретает истинного существования до тех пор, пока ему не придаст обаяния мифа какой-нибудь писатель, художник или связь с каким-то великим событием. Шимла навсегда останется кип-линговским городом: это детская мечта о Доме, волшебная страна вдвойне. Индия все искажает и увеличивает; в эпоху Раджа она увеличила то, что и без этого уже превратилось в фантазию. Это и уловил Киплинг; в этом и заключается его неповторимость.
Ночью выпал снег — первый снег за эту зиму. Утром гостиничный слуга, будто волшебник, объявил:
«Барф! Снег!» и откинул занавески. Я увидел долину, белую от снега и влажную от тумана. После завтрака туман рассеялся. С крыш капало; вороны каркали и перепархивали с сосны на сосну, стряхивая снег с веток; далеко внизу лаяли собаки, и доносился шум пирушки. На правительственных щитах с надписью «Химачал-Прадеш» (сладостное имя: Снежный Штат) картинно, будто на рождественских открытках, лежал снег. По Аллее сновало множество отпускников, совершавших утренний променад. Внизу во многих местах снег еще лежал толстым покровом. Мы покинули Шимлу, и, по мере того как она отодвигалась вдаль, словно взмывая к небу, снег становился все тоньше, больше походя на горсти соли, рассыпанные по твердой земле, а потом и вовсе исчез; и до самого Дели мы ползли сквозь густой и очень белый пенджабский туман, из-за которого опаздывали поезда и задерживались самолеты.
Чтобы понять, что такое та Англия XVIII века, которую можно застать в Индии, было необходимо воспринимать ее как часть Индии. Как англичанин, Уоррен Гастингс
[54] может быть понят, лишь с большим трудом; а вот как индиец, он вполне ясен. Но Радж — хотя он всецело принадлежит Индии — это часть Англии XIX века.
* * *
Вспомним Аделу и Ронни из романа
«Поездка в Индию». Солнце заходит над
майданом в Чандрапоре; они, повернувшись спиной к игре в поло, отходят в сторону, чтобы поговорить. Он приносит извинения за свою вспыльчивость, которой поддался утром. Она обрывает его извинения и говорит: «Я все-таки решила, что мы не поженимся, мой дорогой мальчик». Они оба взволнованны. Но оба сохраняют самообладание; не позволяют себе сказать ничего страстного или прочувствованного; и подходящий момент проходит. А потом Адела говорит:
«Мы вели себя страшно по-британски, но думаю, что это правильно».
«Я тоже так думаю: мы ведь британцы».
Это забавный обмен репликами, сохраняющий свежесть и сегодня, спустя сорок лет. Можно было бы сказать, что слово «British», каким его употребляет Адела, обретает особое значение из-за индийского фона; однако это слово могли бы употребить многие из персонажей Форстера, и его смысл остался бы точно таким же. Для персонажей Форстера их английскость — нечто вроде дополнительного качества, которое бросает вызов всему чужому и принимает от него вызов. Это некий сформулированный идеал; он не нуждается в разъяснении. Слово «British», каким его употребляет Адела, можно было бы написать с маленькой буквы. Трудно представить себе, чтобы так это слово прозвучало у Джейн Остин. В
«Гордости и предубеждении» оно встречается однажды, когда мистер Коллинз, нанося первый визит Лонгборну, говорит о добродетелях дочери своей покровительницы, мисс де Бург:
«Неблагополучное состояние здоровья, к несчастью, не позволяет ей находиться в городе, а потому, как я уже сам как-то говорил леди Кэтрин, она лишила британский двор его лучшего украшения».
Для Джейн Остин и мистера Коллинза это слово имеет только географический смысл; оно в корне отличается от того же слова в устах Аделы.
Между двумя случаями употребления слова «британский» пролегла сотня лет индустриальной и имперской мощи. В начале этого периода мы еще ощущаем быстроту перемен — от дилижанса до железной дороги, от очерков Хэзлитта до очерков Маколея
[55], от
«Записок Пиквикского клуба» до
«Нашего общего друга». В живописи тогда словно наступила вторая весна: Констебл открыл небо, Бонингтон открыл великолепие света, песка и моря: юность и восторженность их картин передается нам и сегодня. Это период новизны и самораскрытия: Диккенс открывает Англию, Лондон открывает роман; новизна — даже у Китса и Шелли. Это период расцвета и ожиданий. А потом — резко, внезапно — наступило удовлетворение и зрелость. Процесс самораскрытия закончился; английский национальный миф предстал в готовом виде. Причины хорошо известны: нарциссизм вполне оправдан. Но вместе с этим произошла и утрата. Ослабла острота видения. Раз и навсегда определилось, что такое «английское»; отныне этой меркой надлежало мерить мир, и в путевых записках того столетия мы наблюдаем последовательную порчу: от Дарвина (1832) к Троллопу (1859), Кингсли (1870) и Фроуду (1887).
[56] Все чаще и чаще эти писатели рассказывали не о самих себе, а о своей английскости.
В начале этого периода Хэзлитт еще мог презрительно отмахиваться от английских новелл Вашингтона Ирвинга
[57], потому что Ирвинг упорно продолжал искать сэров Роджеров де Коверли и Уиллов Уимблов в стране, которая далеко ушла со времени «
Зрителя».
[58] Мифоборческая позиция Хэзлитта сродни позициям тех, кто сегодня возражает против рекламы путешествий по Британии в Соединенных Штатах. («Любовное странствие в Лондон», — читаем мы в рекламном объявлении, напечатанном в «
Холидей» в 1962 году. «Летите из Сабены в Манчестер. Езжайте мимо коттеджей с соломенными крышами и начинайте путь к Лондону. Постепенно. Изумительно».) Но вскоре миф обретает важность; и в этом новом нарциссизме повышается как классовое, так и национальное сознание. В
«Панче»[59] 1880-х годов представители кокни изъясняются на вымершем наречии Сэма Уэллера. Классовое сознание у Форстера коренным образом отличается от того понимания сословных границ, которое у Джейн Остин является почти элементарным разделением. В стране, настолько раздробленной на классы, как Англия, этот стереотип, пожалуй, необходим разве что как подспорье для общения. Однако если его чрезмерно лелеять, то он сужает поле зрения и любопытства; а порой даже отрицает истину.
Такой зависимостью от определенного и обнадеживающего, пожалуй, можно объяснить поразительные пробелы в английской литературе за последние сто лет. Диккенсу не наследовал ни один монументальный писатель. В английских условиях сама широта его видения, роднившая его произведения с мифами, как бы возбраняла любые попытки продолжить его дело. Лондон так и остается диккенсовским городом: похоже, мало кто из писателей с тех пор вообще
глядел на этот город! Появлялись романы о Челси, о Блумсбери и об Эрлз-Корте; но о современном механизированном городе, о его недугах и болячках, английские писатели упорно молчат. С другой стороны, именно эта тема постоянно встречается у американских писателей. По словам романиста Питера де Вриса, это тема жителей больших городов, которые живут и умирают, не имея корней, вися, «как сказочная омела, между дубами-близнецами — между домом и работой». Это важная тема, и не для одной только Америки; но в Англии, где нарциссизм распространяется на страну, на класс и на личность, она сжалась до образа банковского служащего — всегда точного, всегда пунктуального, — который вдруг начинает творить всякие нелепости и нарушать порядок и приличия.
Когда подобная тема остается без внимания, то неудивительно и то, что не существует ни одного великого английского романа, который описывал бы рост национального или имперского сознания. (Бесполезно искать подобных работ и у историков. Они в еще большей степени, чем романисты, оперируют ценностями своего общества; они находятся на службе у этих ценностей. Невозможно отрицать, что обладание империей оказало огромное влияние на британские взгляды в XIX веке; однако Дж. М. Тревельян в своей
«Социальной истории Англии» — насколько я понимаю, этот труд считается классическим, — посвящает «Заморским влияниям» ровно полторы страницы, причем в таком ключе: «…почтовая доставка писем позволяла поддерживать связь между домом на родине и сыном, который „отправился в колонии“, и он часто наведывался домой с деньгами в кармане и с рассказами о новых землях…») Ранний роман Сомерсета Моэма, «
Миссис Крэддок», стал своего рода попыткой приблизиться к этой теме; это история о фермере, который, из высших побуждений национальной гордости, стремится утвердиться в высшем сословии, куда ему удалось попасть благодаря женитьбе. В остальном мы сталкиваемся с различными
стадиями трансформации, которые удобнее обозначить, проследив по отдельным книгам.
Осборн в «
Ярмарке тщеславия» видит себя солидным британским купцом. Но понятие «британский» здесь противопоставлено лишь, например, «французскому». Это не более, чем патриотизм людей вроде де Квинси. Солидный британский купец Теккерея очень бы хотел, чтобы его сын женился на мисс Суорц, богатой наследнице-негритянке из Вест-Индии. Мистер Бамбл и мистер Сквирз
[60] — англичане; но не это их главное отличительное свойство. И насколько же другие персонажи начинают появляться у Диккенса через двадцать лет! Вот, например, мистер Подснеп из «
Нашего общего друга»: он знает иностранцев и гордится тем, что сам он — британец. Джон Галифакс — только джентльмен; Райдер Хаггард посвящает одну из своих книг сыну, выражая надежду, что тот вырастет англичанином и джентльменом; с такими же надеждами отец отправлял Тома Брауна в Рагби
[61]. Когда же мы доберемся до
«Конца Говарда», то даже Леонард Бает будет говорить: «Я — англичанин», подразумевая под этим нечто большее, чем когда-либо мог бы иметь в виду де Квинси; теперь это слово поистине отягощено смыслом.
Писателей нельзя винить за то, что они принадлежат своему обществу; и в романах интерес мало-помалу смещается с человеческого поведения на английскость этого поведения — на английскость, которая предлагается для одобрения или разбора: это смещение интереса отражено и в различии между заезжими домами у раннего Диккенса и рестораном «Симпсонз» на Стрэнде всего семьдесят пять лет спустя, о котором у Форстера в
«Конце Говарда» (1910) читаем:
Она внимательно изучила ресторан и восхитилась его тщательно продуманными намеками на наше славное и прочное прошлое. Хотя ресторан был не более староанглийским, чем сочинения Киплинга, он выбрал эти напоминания об истории так умело, что у нее пропало всякое желание что-либо критиковать, а гости, которых заведение вскармливало ради имперских целей, внешне походили на священника Адамса и Тома Джонса. Долетавшие до слуха обрывки фраз звучали странно. «Ты прав! Сегодня же вечером пошлю телеграмму в Уганду…»
Форстер описал все очень точно. Он указал на противоречия внутри мифологии народа, которого захлестнули индустриальная и имперская мощь. Между обладанием Угандой и осознанным обладанием Томом Джонсом
[62] так же мало общего, как мало общего между рассказами Киплинга и романами его современника Харди. Итак, пребывая на пике своего могущества, британцы производили впечатление людей вечно играющих — играющих англичан, играющих англичан из определенного сословия. За действительностью скрывается игра; за игрой скрывается действительность.
Это радует одних и навлекает обвинения в лицемерии со стороны других. И в этот империалистический период, когда либерализм, точно сыпь, расползается по карте мира, английский миф уподобляется развивающемуся языку. Количество меняется; добавляются новые элементы; кодификация, попытки которой постоянно предпринимаются, не может угнаться за переменами; и всегда между заданным, легко приноравливаемым мифом — священник Адамс в «Симпсонзе», утомленный строитель империи в Уганде или Индии, — и действительностью сохраняется некоторая дистанция. Спустя много лет после Ватерлоо, в период, который начинается с несчастий Крымской войны и заканчивается унижениями в Южной Африке, мы видим засилье ура-патриотического милитаризма. Именно после создания империи рождается представление о купце и управляющем как о строителе империи; и Киплинг строго призывает властителей мира к их приятным обязанностям. Такова игра пуритан. На Родине она создает «Симпсонз» на Стрэнде. В Индии она порождает Шимлу — летнюю столицу Раджа, где, как говорит нам Филип Вудрафф в «
Хранителях», приблизительно в ту же пору в среде чиновников царило «притворство» такого свойства: они «желали казаться англичанами до мозга костей, делая вид, будто ничего не знают об Индии, и избегая любых индийских слов и обычаев».
* * *
На другой половине земного шара находился Тринидад — поистине порождение империи. Там люди самых разных национальностей безоговорочно приняли английское владычество, английскую систему управления и английский язык; при этом Англия и «английскость», во весь голос заявлявшие о себе в Индии, там напрочь отсутствовали. И для меня именно к этому сводилась характерная особенность Раджа: это желание казаться англичанами до мозга костей, это ощущение, что вся нация актерствует, разыгрывая некую фантазию. Это чувствовалось во всей архитектуре Раджа, и особенно — в ее чуть смехотворных памятниках: в мемориале Виктории в Калькутте, в Воротах Индии в Нью-Дели. Из них не получилось монументов, достойных той власти, которую они прославляли; они оказались лишены цельности более ранних британских зданий и даже еще более ранних португальских соборов в Гоа.
В
«Людях, которые правши Индией» Филип Вудрафф писал с печальным, «римским» благоговением о достижениях британцев. Это были огромные достижения; и они заслуживали подобного благоговения. Но Радж Вудраффа далек от Раджа в расхожем английском представлении: тропические шлемы (которые Ганди считал разумным изобретением, однако сам не пользовался им по соображениям национальной гордости), бесчисленные слуги, говорящие «салям», «саиб» и «мемсаиб»; англичанин как сверхчеловек, туземец как цветной, слуга и секретарь. Образцы несовершенного английского, на котором говорит последний, собираются в целые книжицы (их до сих пор можно найти на развалах букинистов) для увеселения тех, кто хорошо знает язык. Такой Радж можно обнаружить в тысячах книг об Индии — особенно, в детских книжках, где действие происходит в Индии; его можно обнаружить даже в комментариях Винсента Смита, составленных для издательства Оксфордского университета, к сочинениям великого Слимана.
Для Вудраффа такой Радж, сколь бы общепризнанным и реальным ни было его существованием, остается лишь досадной помехой: он не отражает истинного характера стремлений британцев. Но то же самое происходит со всеми, кто желает разглядеть в Радже какую-то цель — неважно, благотворную или губительную, — будь то Вудрафф или индиец вроде K. M. Мунши, выпустивший в 1946 году памфлет, чье название, «
Погибель, которую принесла Британия», делает дальнейшее изложение излишним. Всегда возникает неразбериха: с одной стороны, существовало национальное высокомерие, с другой — искреннее стремление к усовершенствованиям. Так где же правда? Правда — и в том, и в другом, и между ними нет противоречия. Национальное высокомерие было частью той фантазии, что породила «Симпсонз»-на-Стрэнде, и неизбежно усиливалось среди убожества индийского окружения, на фоне полного индийского подчинения. Одинаково усиливалось и другое проявление той же фантазии — дух служения. Таковы были две грани народа, который хорошо знал свою роль и знал, чего ожидают от его английскости. Как говорит сам Вудрафф, есть нечто не-английское, нечто чересчур предумышленное в управлении Раджем. Да иначе и быть не могло. Быть англичанином в Индии значило представать англичанином в преувеличенном виде.
Газетчик в Мадрасе уговаривает меня посетить его лекцию на тему «Шекспировский герой в пору кризиса». Член правления делового предприятия в Калькутте, объясняя, зачем он хочет вступить в ряды армии, чтобы воевать с китайцами, начинает торжественно: «Я чувствую, что защищаю свое право…» — а заканчивает поспешно, с самоуничижительным смешком: «…играть в гольф, когда пожелаю». Не так давно Малкольм Маггеридж написал, что последние настоящие англичане — это индийцы. Это утверждение интересно только тем, что оно признает в английском «характере» порождение фантазии. Моголы тоже оставались в Индии чужеземцами, наделенными не менее буйной фантазией; они правили как чужеземцы; но в конце концов они растворились в Индии. Англичане же, как не устают повторять индийцы, так и не стали частью Индии; и в конце концов они сбежали обратно в Англию. Они не оставили после себя ни благородных памятников, ни религии, одно только понятие английскости как желаемого кодекса поведения (его можно сформулировать так: рыцарство, умеряемое приверженностью букве закона), которое в умах индийцев стало существовать отдельно от факта английского владычества, от вульгарных проявлений национального высокомерия или, скажем, от нынешнего положения Англии. Мадрасский брахман читал
«С террасы» О’Хары и так выражал свое отвращение: «Ни один добропорядочный англичанин не написал бы такой ерунды». Примечательно, что прежде подневольный народ проводит такое разграничение; примечательно, что именно такой след оставила после себя нация правителей. Такое понятие английскости сохранится, потому что оно — порождение фантазии, произведение национального искусства; оно переживет и самую Англию. Оно же объясняет, почему уход англичан оказался легким, почему они не испытывают ностальгии вроде той ностальгии, которую голландцы до сих пор испытывают по Яве, почему там не было того, что было в Алжире, и почему меньше чем через двадцать лет Индия почти изгладилась из британского сознания: Радж являлся выражением влюбленности англичан не в ту страну, которой они правили, а в самих в себя. Это нельзя назвать по-настоящему империалистической позицией. Это говорит не столько о благотворных или губительных последствиях британского правления, сколько о его провале.
* * *
Хорошо, что индийцы не умеют глядеть на свою страну прямо, иначе бы они сошли с ума от горя, которое увидели бы. И хорошо, что у них нет чувства истории: иначе как бы они продолжали справлять нужду среди своих руин? Да и какой индиец мог бы читать без гнева и боли историю своей страны за последнюю тысячу лет? Уж лучше уходить с головой в фантазии и фатализм, верить звездам, по которым можно прочитать будущее (лекции по астрологии читаются даже в некоторых университетах) и глядеть на прогресс остального мира с усталой терпимостью народа, который давным-давно прошел через все это. В древней Индии уже были и аэроплан, и телефон, и атомная бомба: обо всем этом сказано в индийском эпосе. В Древней Индии была чрезвычайно развита хирургия; вот тут, в важной национальной газете, опубликован текст лекции, доказывающей это. Индийское кораблестроение являлось чудом света. И демократия тоже процветала в древней Индии. Каждая деревня представляла собой республику — самостоятельную, упорядоченную, управлявшую собственными делами; деревенский совет мог повесить селянина, совершившего преступление, или отрубить ему руку. Вот что нужно воссоздавать — вот эту идиллическую Древнюю Индию; и когда в 1962 году введут
панчаяти радж, разновидность деревенского самоуправления, то будет столько разговоров о славе Древней Индии, воодушевленные политики будут столько говорить об отрубленных в древности руках, что в некоторых деревнях штата Мадхья-Прадеш деревенские советы действительно примутся отрубать руки и вешать людей.
Индия XVIII века была убогой. Она сама напрашивалась на завоевание. Но только не в глазах индийцев: до прихода британцев, скажет вам любой индиец, Индия была богатой страной и стояла на пороге промышленного скачка; а К. М. Мунши уверяет, будто в каждой деревне имелась школа. Толкование индийцами своей истории почти столь же тягостно, как сама эта история; и особенно тягостно видеть, как давнее убожество повторяется заново сегодня, как это получилось с созданием Пакистана и с пробуждением внутри самой Индией споров о языке, религии, кастовой системе и региональных различиях. Похоже, Индия никогда не перестанет нуждаться в арбитраже завоевателей. Народ, наделенный чувством истории, устраивал бы свои дела иначе. Но именно такое свойство и является прискорбным элементом всей индийской истории: это отсутствие роста и развития. Это история, единственный урок которой состоит в том, что жизнь продолжается. Здесь есть лишь цепочка начал, но нет конечного созидания.
Мы как будто читаем о земле, которую периодически опустошают нашествия леммингов или саранчи; мы как будто переходим от истории кораллового рифа, где каждое действие и каждая смерть есть фундамент, к удручающей хронике о бесконечной последовательности замков, выстроенных на бесплодном песке морского побережья.
Так Вудрафф описывает разницу между европейской историей и индийской историей. Он подобрал удачные сравнения. Только образ замка на песке не совсем точен. Прибой разрушает песочный замок, и от него не остается ни следа, а Индия — прежде всего страна развалин.
С юга к Дели подступают обширные руины, раскинувшиеся примерно на сто двадцать квадратных километров. Километрах в двадцати от современного города находятся развалины древнего города Туглакабада, обнесенного мощными стенами и давно покинутого из-за недостатка воды. Неподалеку от Агры стоит полностью сохранившийся город Фатехпур Сикри
[63], покинутый по той же причине. («Зачем вам ехать в Фатехпур Сикри? — спрашивал агент бюро путешествий в фойе делийской гостиницы. — Там же
ничего нет».) А вот послушайте, что рассказывает группе австралийских туристов гид возле Тадж-Махала: «И когда она умерла, он сказал: „Я больше не могу здесь жить“. И он отправился в Дели и выстроил там
большой город». Индийцу, окруженному развалинами, это представляется достаточным объяснением созидания и упадка. Вчитайтесь в такие выписки из первых десяти страниц Пакистанского раздела (маршрут 1) из
«Туристического справочника» Мюррея:
Татта сейчас маленький городок, но еще в 1739 году это был большой город с 60-тысячным населением… Самое примечательное зрелище в Татте — это большая мечеть площадью 18 на 27 м, со 100 куполами; ее строительство начал Шах Джахан в 1647 году, а закончил Аурангзеб, хотя теперь она сильно разрушена…
В 2,5 км к северу… находится гробница знаменитого Низамуддина… Некоторые считают, что она построена из обломков индуистского храма.
Экскурсия в Арору — некогда очень древний Алор (считается, что Алор, Уч и Хайдарабад были некогда тремя из множества Александрий)…. К северо-востоку от станции Рети тянется гребень руин… На 10 квадратных километров раскинулись руины Виджнота, являвшегося важным городом до мусульманского завоевания; теперь здесь ничего нет, кроме бесформенных обломков.
Мултан… весьма древний; считается, что он был столицей Малли, упоминавшейся в эпоху Александра… Храм, изначально находившийся здесь и стоявший посередине крепости, был разрушен Аурангзебом, а мечеть, возведенная на его месте, была полностью взорвана во время осады 1848 года.
Во время правления Шаха Бег Аргуна укрепления были перестроены, а крепость Алора, в 10 км отсюда, была разобрана на строительный материал.
Суккур, нас. 77 тысяч жителей, ранее славился торговлей жемчугом и золотым шитьем. Недавно здесь построена бисквитная фабрика.
Мечеть на месте храма: развалины на развалинах. Это на Севере. А на Юге есть великий город Виджаянагар. В начале XVI века он имел около 40 км в окружности. Сегодня, спустя четыреста лет после его окончательного разграбления, даже руины, оставшиеся от него, немногочисленны и рассредоточены, так что их поначалу едва замечаешь на фоне сюрреалистических коричневых скал, с которыми они как будто слились в одно целое. Окрестные деревни — полуразрушенные и пыльные; местные жители выглядят чахлыми и жалкими. И вдруг — великолепие: дорога от Кампли проходит прямо через несколько старинных зданий и выводит на главную улицу — очень широкую, очень длинную, до сих пор впечатляющую: с одного конца — каменная лестница, а с другого — высящийся
гопурам[64] храма, оживленный скульптурами. До сих пор стоят нижние этажи каменных зданий с квадратными в основании колоннами; дверные проемы украшены резными изображениями танцоров со вскинутыми ногами. А внутри — наследники всего этого великолепия: мужчины, женщины и дети — тощие, как щепки, подвижные, как ящерицы среди камней.
Посреди грязной улицы сидел на корточках ребенок, а бесшерстная собака с розовой кожей дожидалась его испражнений. Ребенок — с большим пузом — привстал; собака принялась за еду. Снаружи храма два деревянных Джаггернаута
[65] были украшены резными эротическими фигурами: занятые совокуплением и фелляцией пары — бесстрастные, стилизованные. Здесь я впервые столкнулся с индийской эротической скульптурой, на которую давно мечтал поглядеть; однако вслед за начальным возбуждением пришло уныние. Соитие как боль, творение как собственный распад; Шива, фаллическое божество, исполняет танец жизни и танец смерти: что за понятие он воплощает, и насколько оно индийское! Руины оказались обитаемыми. Среди зданий на главной улице стоял новенький выбеленный храм, над которым развевались стяги; а старый храм в конце улицы по-прежнему использовался, его по-прежнему отмечали чередующиеся вертикальные полосы белизны и ржавчины. На одной табличке, высотой около двух метров, приводился перечень цен на различные услуги. На другой табличке, такой же величины, излагалась история Виджаянагара: однажды, после того, как раджа помолился, прошел «золотой дождь»; вот что в Индии называется историей.
Дождь — не золотой — неожиданно пронесся над рекой Тунгабхадрой и пролился на город. Мы нашли укрытие на склоне, среди скал за главной улицей, под недостроенными воротами из грубого тесаного камня. Туда за нами последовал очень тощий человек. Он был закутан в тонкую белую простыню, пятнистую от капель дождя. Он приспустил эту простыню с груди, чтобы показать нам, что там у него только кожа да кости, и сделал такой жест, будто ест. Я никак не отреагировал. Он отвернулся. Потом он кашлянул — это был кашель больного человека. Посох выпал у него из руки и со стуком упал на каменный пол, по которому теперь уже струями стекала вода. Человек-скелет взобрался на каменную площадку, оставив посох лежать там, где он упал. Он удалился в угол между площадкой и стеной и больше не совершал никаких движений, не делал никаких попыток снова привлечь к себе внимание. Темные ворота стали обрамлением для света: дождь серой стеной лился на каменный город, напоминавший пагоду. На сером склоне, блестящем от влаги, виднелись следы добычи камня. Когда дождь прекратился, тот человек спустился вниз, подобрал свой мокрый посох, замотался в простыню и сделал вид, что уходит. Я уже успел превратить страх и омерзение в гнев и презрение; эта смесь саднила во мне, как рана. Я подошел к нему и дал ему немного денег. Как легко ощущать свою власть в Индии! Он, отрабатывая подачку, вывел нас на открытое место, подвел к размытому склону скалы и молча указал на здания. Вот холм-скала. Вот здания. Вот отметины от резцов пятисотлетней давности. Брошенный, незавершенный труд — как некоторые из скальных пещер в Эллоре, поныне сохранившиеся такими, какими их оставили рабочие в один давно минувший день.
Всякое творение в Индии таит намек на неминуемую угрозу вмешательства и уничтожения. Строительство подобно простейшему позыву — вроде полового акта для голодающих. Это строительство ради строительства, творение ради творения; и каждое такое творение существует само по себе, заключая в себе и начало, и конец. «Замки, выстроенные на бесплодном песке морского побережья»: не вполне точно сказано, но в Махабалипураме под Мадрасом, на бесплодном песке морского побережья, стоит заброшенный Прибрежный Храм, на котором резьба почти сглажена и разъедена двенадцатью столетиями дождей, соли и ветра.
В Махабалипураме и в других местах на Юге руины обладают единством. Они говорят о непрерывном существовании индуистской Индии, которая неуклонно исчезает. На Севере руины говорят лишь о тщете и неудаче, и само величие могольских сооружении действует угнетающе. В Европе тоже есть свои монументы королей-солнц, свои лувры и версали. Но они свидетельствуют о развитии духа страны; они выражают совершенствование чувствительности нации; они стали вкладом в общие растущие капиталы. В Индии же все эти бесчисленные мечети и риторические мавзолеи, все эти огромные дворцы говорят только о личностях высокопоставленных грабителей и о неисчерпаемости страны, которая досталась грабителям. Моголы обладали всем, что находилось в пределах их владений; и это ясно читается во всей могольской архитектуре. Мне известно одно-единственное сооружение во всей Англии, которое несет в себе такой отпечаток безнадежного личного сумасбродства: это Бленхеймский дворец
[66]. Представьте себе, что Англия полна такими Бленхеймскими дворцами, которые постоянно строят, разрушают и перестраивают в течение пятисот с лишним лет, и каждый является подарком от страны, причем очень редко — за оказанные услуги, и все они совершенно бесполезны, и не оставляют после себя ни органической, ни искусственно созданной нации, не имея иной причины для возникновения, кроме личного деспотизма. Тадж-Махал — изысканное творение. Если перенести его, плиту за плитой, в США и заново собрать, оно станет безупречным. Но в Индии это здание остается досадно бессмысленным: это всего лишь монумент, возведенный деспотом в память женщины, не индианки, которая в течение пятнадцати лет рождала ему по ребенку в год.
[67] Он строился в течение двадцати двух лет; и гид расскажет вам, во сколько миллионов обошлось это сооружение. До Таджа вы можете доехать от центра Агры на велорикше; всю дорогу туда и обратно вы можете изучать худые, блестящие, напряженные ноги рикши. Индию завоевывали, как заметил британский реалист, отнюдь не ради блага индийцев. Но так было всегда; об этом и кричат все руины Севера.
Одно время британцы устраивали танцы на площадке перед Тадж-Махалом. В глазах Вудраффа и других это было прискорбной вульгарностью. Зато в индийскую традицию это вполне вписывается. Уважение к прошлому ново и для Европы; и именно Европа открыла для Индии прошлое Индии и сделала благоговение перед ним частью индийского патриотизма. Индия до сих пор продолжает глядеть на свои развалины и свое искусство глазами европейцев. Почти каждый индиец, который пишет об индийском искусстве, чувствует себя обязанным процитировать что-нибудь из сочинений его европейских почитателей. Индийское искусство до сих пор принято сопоставлять с европейским; а британское обвинение, будто бы ни один индиец не мог бы построить Тадж-Махал, все еще принято опровергать как клевету. Там, где не побывали восхищенные европейцы, царит запустение. Сооружения Лакхнау и Физабада по сей день страдают от презрительного отношения британцев к их упадочным правителям. С каждым годом мечеть Большая Имамбара в Лакхнау, рушится все больше. Детали каменной кладки мавзолея в Физабаде почти исчезли под толстыми слоями чего-то похожего на известковый раствор; в других местах металлические детали надежно оберегаются большим количеством яркосиней краски; посреди одного сада, нарушая симметрию и загораживая вид через арочный вход, стоит белая «колонна Ашоки»
[68], поставленная неким чиновником ИАС, дабы увековечить упразднение
заминдаров[69]. Зато о том, что Европа открыла-таки, неустанно пекутся и заботятся. Все это превратилось в «Древнюю культуру Индии». И оно тиражируется тут повсюду — в комичных маленьких куполах гостиницы «Ашока» в Нью-Дели, в маленьких колоннах с колесами, слонами и прочими атрибутами индийской культуры, которые расставлены по всему зоологическому саду в Лакхнау, и в псевдо-виджаянагарских каменных кронштейнах на Мандапе Ганди в Мадрасе.
Архитектура патриотической Индии близка по духу архитектуре Раджа: обе они создавались людьми, сознательно стремившимися выразить представление о самих себе. Такая архитектура комична и одновременно печальна. Оно чуждо Индии — это благоговение перед прошлым, эта попытка его превознесения. Эта архитектура не свидетельствует о силе. Она, как и любые развалины, свидетельствует об истощении и о народе, сбившемся с пути. Такое впечатление, будто после череды бесконечных обособленных творений жизненные силы наконец иссякли. Со времен школ Кангры и Басоли в индийском искусстве царит неразбериха. Существует некая идея поведения, какого требует новый мир, но сам этот новый мир до сих пор приводит в замешательство. В Амритсаре монумент, увековечивающий память павших в бойне
[70], представляет собой тоскливую штуковину наподобие пламени, врезанного в тяжелый красный камень. В Лакхнау британским памятником Восстанию стала разрушенная Резиденция, сохраняемая индийцами с такой любовью, которая иностранцам может показаться странной; а по другую сторону дороги стоит его соперник, индийский памятник: белая мраморная колонна неуклюжих пропорций, увенчанная комичным маленьким куполом, в котором, опять-таки, можно усмотреть язык пламени. Это все равно, что наблюдать за индийцами на танцполе: они пытаются совершать телодвижения, которые им совсем не идут. Я не видел ни одного буддийского священного места, которое не было бы обезображено попытками воссоздать «древнюю культуру Индии». Например, под Горакхпуром стоит сейчас среди руин старого монастыря восстановленный храм того времени. В Курукшетре, на плоской пустоши, где разворачивался тот самый диалог между Арджуной и его возницей Кришной, который стал «Бхагаватгитой», стоит сейчас новый храм, и в его саду есть мраморное изображение той сцены перед битвой. Это хуже базарных поделок. Такая колесница никогда не сдвинется с места; кони — мертвые, окостеневшие, тяжеловесные. И это — творение народа, чья скульптура стоит скульптуры всего остального мира, народа, который на Юге, в Виджаянагаре, изваял когда-то целый «Конский двор» — множество лошадей, вставших на дыбы.
Будто что-то где-то захлопнулось. Где же начинать поиски этого провала? Хотя бы в храме Курукшетры. К нему прибита табличка, на которой написано буквально следующее:
ЭТОТ ХРАМ ПОСТРОЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ РАДЖИ СЕТХА БАЛДЕО ДАС БИРЛЫ И ПОСВЯЩЕН ШРИ АРЬЯ ДХАРМА СЕВА САНГХУ В НЬЮ ДЕЛИ.
ПАЛОМНИКИ ИНДУСЫ ВСЕХ СЕКТ НАПР. САНАТАНИСТЫ, АРЬЯ САМАДЖИСТЫ, ДЖАЙНЫ, СИКХИ, БУДДИСТЫ И ПР. БУДУТ ДОПУЩЕНЫ, ЕСЛИ ОНИ НРАВСТЕННО И ФИЗИЧЕСКИ ЧИСТЫ.
ВНИМАНИЕ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ИНФЕКЦИЯМИ ИЛИ ЗАРАЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Грубость языка здесь под стать грубости самолюбования. Пускай Индия бедна, — говорит по сути эта табличка, — зато духовно она богата; и ее народ нравственно и физически чист. Самолюбование, грубость каменной кладки и мраморной скульптуры, несовершенное владение иностранным языком: все это взаимосвязано.
* * *
Некоторые индийцы отрицают, что индийское чувство пластики угасло. Те же, кто это признает, отвергают мнение, что в этом частично повинны моголы (в силу количества и экстравагантности их сооружений: Акбар исчерпал экспериментирование, а его преемники довели украшательство до крайности), и валят все на британское вмешательство. Британцы полностью разграбили страну; при них пришли в упадок все мануфактуры и ремесла. Это следует признать — и противопоставить всем тем достижениям, которые перечисляет Вудрафф: ведь бисквитная фабрика — довольно жалкая замена золотому шитью. Страну грабили и раньше. Но тогда сохранялась преемственность. А с приходом британцев эта преемственность прервалась. И, возможно, именно британцы повинны в нынешнем художественном бессилии индийцев, которое стало частью общей индийской неразберихи, — в том же смысле, в каком испанцы повинны в оцепенении мексиканцев и перуанцев. Произошло столкновение позитивного начала с негативным; и невозможно представить себе ничего более негативного, чем случившееся в XVIII веке соединение статичного ислама с упадочным индуизмом. В любом столкновении между
постренессансной Европой и Индией Индия была обречена на поражение.
Если бы я прочел «Человека бунтующего» Камю до написания этой главы, то, возможно, воспользовался бы его терминологией. Там, где Камю сказал бы «способный на бунт», я употреблял слово «позитивный» и «способный на самооценку»; и любопытно, что Камю, приводя примеры народов, неспособных к бунту, называет индусов и инков. «Проблема бунта имеет смысл только в нашем западном обществе… Благодаря теории политической свободы в человеческой душе укореняется высокое понятие о человеке и в результате практического использования этой же свободы растет соответствующая неудовлетворенность своим положением… Род человеческий все глубже осознает самого себя в ходе своей истории. Действительно, в случае с инками или париями проблемы бунта не возникает, поскольку она была разрешена для них традицией — еще до того, как они могли поставить перед собой вопрос о бунте, ответ на него уже заранее был дан в понятии священного. В сакрализованном мире нет проблемы бунта, как нет вообще никаких реальных проблем, поскольку все ответы даны раз и навсегда. Здесь место метафизики занимает миф. Нет никаких вопрошаний, есть только ответы и бесконечные комментарии к ним, которые могут быть и метафизическими». (Примечание автора.) [Цит по изд.: Альбер Камю. «Бунтующий человек». М., 1990]
Оцепенение народов — это одна из наших тайн. В школе на Тринидаде нас учили, что аборигены Вест-Индии «стали болеть и умирать», когда пришли испанцы. На Гренаде
[71], острове пряностей, есть утес со страшным названием Sauteurs
[72]: там америнды совершали самоубийство, бросаясь в море. Оцепенелые общины других, более поздних, народов, выживают. Есть, например, деградировавшие индусы на Мартинике и Ямайке, растворившиеся в Африке; и как-то трудно соотнести выдохшихся яванцев из Суринама в Южной Америке, служащих местным посмешищем, с бунтарями и поджигателями посольств из Джакарты. Индия не увяла, как это случилось с Мексикой и Перу, от прикосновения Европы. Возможно, будь она целиком мусульманской страной, это бы произошло. Но у нее был огромный индуистский опыт общения с завоевателями прошлого; а индуистская Индия всегда шла навстречу завоевателям, и ей всегда удавалось растворить этих пришельцев в себе. И любопытно — а теперь еще и немного грустно — видеть, что индийцы, и прежде всего бенгальцы, реагировали на приход британцев точно так же, как на любого другого завоевателя — будь то индийского или азиатского.
Попытки и здесь «пойти навстречу» мы находим у раннего реформатора, вдохновленного англичанами, — Рама Мохана Роя
[73], похороненного в Бристоле. Находим мы их и позже, в воспитании Шри Ауробиндо — революционера, ставшего затем мистиком, — отец которого, отправляя его семилетним учиться в Англию, потребовал от его английских опекунов оградить мальчика от любых контактов с индийцами. Находим мы их и еще чуть позже — но теперь уже в жалком виде — во дворце Маллик в Калькутте. Ветшающий дворец (ведь это же Индия!), где слуги готовят еду в мраморных галереях, мог бы послужить отличной декорацией для съемок фильма. Проходя через высокие ворота, мы чувствуем, что так мог бы начинаться фильм; камера будет продвигаться вместе с нами, остановится вот здесь, помедлив на разрушенной каменной кладке, и вон там, задержавшись на выцветшей росписи; сначала будет тишина, а потом через эхокамеры ворвутся голоса, донесется шум экипажей с серповидной подъездной аллеи: Маллик славился своими шумными развлечениями. В фасаде здания задают тон огромные колонны в калькуттско-коринфском стиле; в саду все еще бьют фонтаны, завезенные из Европы; по углам мраморного патио, где сегодня семья держит клетки с птицами, стоят статуи, олицетворяющие четыре континента; на нижнем этаже большой зал кажется маленьким из-за колоссальной статуи королевы Виктории; в других помещениях, под потолками с чрезмерным количеством люстр, пыль оседает на кучу предметов, напоминающих содержимое сотни английских антикварных лавок (страсть коллекционера переросла в манию): бенгальский землевладелец вознамерился продемонстрировать свое увлечение европейской культурой высокомерным европейцам. Здесь нет ничего индийского, кроме, разве что, портрета владельца; но мы уже чувствуем, что этот англо-бенгальский союз прокисает.
Английскость, в отличие от веры других завоевателей, не нуждалась в новообращенных; и для бенгальцев, которые оказались наиболее восприимчивы ко всему английскому, англичане в Индии приберегали особое презрение. Имперский идеал, уже близкий к неизбежно запаздывавшему осуществлению, разбивался об империалистический миф, столь же запоздалый, о строителе империи, и об английскую фантазию об английскости — «взлелеянное убеждение», как писал в 1838 году один английский чиновник, «которое разделял каждый англичанин в Индии, от высших до низших, будь то помощник фермера, ютящийся в скромном бунгало…, или вице-король на своем троне…, что он принадлежит к народу, которому Бог велел подчинять и править». Эпитафией этому так и не состоявшемуся имперскому союзу могло бы послужить исполненное псевдо-имперской риторики посвящение, которое предваряет
«Автобиографию неизвестного индийца» Нирада Чаудхури. Переведенное на латынь и высеченное траянов-скими буквами, оно могло бы украсить Ворота Индии в Нью-Дели: «Памяти Британской Империи в Индии, которая навязала нам подданство, не поделившись с нами гражданством, и которой, однако, каждый из нас бросил вызов:
Civis Britannicus sum[74] ибо все хорошее и живое внутри нас создано, сформировано и вдохновлено все тем же британским владычеством».
Ни одна другая страна не приветствовала завоевателей с такой готовностью; ни один другой завоеватель не был здесь более желанен, чем британцы. Так что же произошло? Одни говорят, что виновато Восстание; другие говорят, что виноваты белые женщины, со временем приехавшие в Индию. Возможно. Но французы — будь при них женщины или нет — может быть иначе бы реагировали на бенгальцев-франкофилов. Причину, как мне кажется, нужно искать не в Индии, а в Англии, где в определенный момент (точно не фиксируемый) произошел такой же коренной и, похоже, такой же резкий перелом в сознании, как тот, что мы переживаем сейчас. Цивилизацию, к которой потянулись индийцы, сменила совсем другая. Возникла неразбериха — ведь гости, которых ресторан «Симпсонз» на Стрэнде продолжал вскармливать ради имперских целей, внешне по-прежнему походили на священника Адамса и Тома Джонса, — и многие индийцы, от Ауробиндо до Тагора, от Неру до Чаудхури, отмечали свою растерянность.
Возможно, лишь сейчас мы можем увидеть, каким безоговорочным разрывом с прошлым явился Радж. Британцы не пожелали растворяться в Индии; они не стали провозглашать, как это делали моголы, что если есть рай на земле, то он здесь, и только здесь. Владычествуя над Индией, они выражали презрение к ней и все время думали об Англии; индийцам же не оставалось ничего другого, кроме как исполниться патриотизма, который начинался с подражания британцам. Чтобы взглянуть на самих себя, научиться мерить себя новыми, позитивными мерками завоевателей, индийцам приходилось отступать от собственных правил и привычек. Для них это означало немыслимое насилие над собой; и между прочим, в начале лестная самооценка стала возможной лишь благодаря помощи европейцев вроде Макса Мюллера
[75] и других, кого так обильно цитируют теперь авторы-патриоты.
Итогом всего это стало то осознаваемое обладание духовностью, которое превозносится табличкой на храме в Курукшетре.
«Одухотворите науку, говорит Прасад» — вот газетный заголовок, предпосланный репортажу об одной из почти ежедневных парламентских речей покойного президента. Итогом является и такая публикация в
«Таймс оф Индиа»:
«ЛАВКА» ДУХОВНОСТИ Сантиникетан, 16 января
Вчера Ачарья Виноба Бхаве назвал себя «мелким лавочником», имея в виду богатство нашего духовного мира.
На устроенном здесь приеме он заметил, что Будда, Иисус, Кришна, Тагор, Рамакришна и Вивекананда были «оптовиками духовности, а я — всего лишь мелкий лавочник, берущий товар на этих неиссякаемых складах, чтобы поставить его жителям деревень». — РТI
Итогом оказывается и осознанное обладание древней культурой. На одном официальном приеме в честь бывшего губернатора штата кто-то крикнул, обращаясь ко мне, когда мы молча сидели в глубоких креслах, поставленных возле разных стен комнаты: «А как поживает индийская культура в вашем уголке мира?» Это бывший губернатор, ветеран войны за Независимость, одетый в толстые чулки, подался вперед и заметил меня. Говорили, что он большой любитель индийской культуры; потом я даже читал газетные репортажи о его речах, посвященных этой теме. Желая показать, что я отнесся к вопросу серьезно и хочу найти отправную точку для обсуждения, я прокричал в ответ через всю эту просторную комнату: «А что вы понимаете под индийской культурой?» Мой друг из ИАС, под чьей опекой я находился, в замешательстве закрыл глаза. Бывший губернатор подался назад; в комнате вновь воцарилось молчание.
Получается, духовностью и древней культурой обладали так же осознанно, как и священником Адамсом и Томом Джонсом в «Симпсонзе». Но при таком неестественном са-моосмыслении всякое течение, опиравшееся на истинное чувство, было обречено на неудачу. Старый мир, руины которого говорили лишь о преемственности и о творении как об изначальной повторяемости, не мог выжить; индийцы же метались в новом мире, очертания которого они видели, но духа постичь не могли. Силясь обрести собственное лицо в собственной стране, они оказывались в ней лишними.
У них появился двойной стандарт. О пятистах смертях от холеры в Калькутте индийская газета сообщает в короткой сводке новостей. Смерть двадцати детей нуждается лишь в констатации.
ОСПА В ФЕРОЗАБАДЕ
Служба новостей «Таймс оф Индиа»
АГРА, 1 июня: Сообщается, что в Ферозабаде в эпидемической форме вспыхнула оспа.
Сообщается, что в деревне Джароли Калан умерло двадцать человек, в основном дети.
Зато гибель шестнадцати шахтеров в Бельгии в той же самой газете становится важной новостью. Крестьяне в судах при коллекторатах с раскрытыми ртами слушают дебаты на языке, которого не понимают, а тем временем снаружи, в сутолоке базара, другие крестьяне, у которых, похоже, свободного времени невпроворот, слоняются по пыльным улицам, и в жидкой тени деревьев сидят писцы со старинными пишущими машинками, и поджидают клиентов адвокаты в парадной одежде законников, которая смотрится на этом фоне довольно дико. Эти базары при коллекторатах действуют в рамках измененного представления о ценности человека, которое имеет лишь юридический смысл, ограничиваясь стенами коллектората или суда, некой игры ума, входящей в сложный ритуал, призванный оказать поддержку индийцу в его пыльном существовании. Столь же бережно относятся к касте — еще одному закону, обезличивающему миллионы людей. За мимикрией скрывается индийская шизофрения. Индия должна двигаться вперед, она должна искоренить коррупцию, догнать Запад. Но так ли это важно? Неужели немножко коррупции кому-то повредит? Неужели материальное благосостояние имеет такое значение? Разве Индия уже не проходила через все это — разве не было у нее атомной бомбы, аэроплана, телефона? А потому при разговоре индийцы способны приводить в бешенство своей уклончивостью. Но стоило мне только вспомнить дом моей бабушки, это туманное, невыраженное отношение к миру внутри и миру снаружи, — как я начинал понимать, начинал угадывать их логику, понимать и их страсть, и их тихое отчаяние, позитивное и негативное. Но я уже научился видеть; я не умел отрицать того, что вижу. А они оставались в том, другом мире. Они не видели всех этих людей, по утрам сидевших на корточках возле железной дороги и справлявших нужду; больше того — они отрицали их существование. Да и к чему их вообще замечать, этих людей? Разве я не видел нищих в Каире или негритянских трущоб в Рио?
Язык — это тоже часть общей неразберихи. Каждый новый завоеватель завещал Индии свой язык. Английский же так и остается иностранным языком. Это величайшая из нелепостей британского правления. Язык подобен смыслу; и невозможно измерить размер психологического ущерба, наносимого продолжающимся официальным использованием английского, который всегда будет оставаться лишь вторым языком. Это все равно что приговорить совет какого-нибудь, скажем, Барнсли к тому, чтобы он обсуждал свои дела исключительно по-французски или на урду. Это приводит к неэффективности; это отдаляет администратора от селянина; это становится преградой на пути к самопознанию. Клерк, пользующийся английским в каком-нибудь государственном учреждении, мгновенно тупеет. Для него этот язык состоит из определенных, не до конца понятых заклинаний, которые ограничивают его восприятие и лишают его гибкости мышления. Так он и проводит всю свою трудовую жизнь в некоем подводном мире с зыбкими представлениями; но, если бы ему позволили мыслить на своем родном языке, он, скорее всего, сделался бы проворнее и смышленее. Хинди был провозглашен национальным языком. Его понимает полстраны; изъясняясь на нем, вы можете проехать от Шринагара до Гоа и от Бомбея до Калькутты. Но на Севере многие притворяются, будто не понимают этого языка. А на Юге патриотичная любовь к хинди, которую когда-то разжег Ганди, вовсе угасла. Хинди, скажут вам, предоставляет Северу преимущество; уж лучше и Северу, и Югу оставаться безграмотными и неспособными, зато равными — и приговоренными к английскому. Это чисто индийский довод: Индия никогда не перестанет нуждаться в арбитраже завоевателей. А поборники хинди — на свой новый самовлюбленный лад — стремятся отнюдь не упростить язык, а сделать его еще более недоступным. Универсальное слово «радио» им не годится — его непременно нужно передавать изысканным, отдающим вампума-ми и вигвамами оборотом «голос с небес».
Индийские попытки писать романы обнаруживают все ту же индийскую неразбериху. Роман характерен для Запада. Он — часть западного интереса к человеческому состоянию, отклик на современность. В Индии думающие люди как раз предпочитали отворачиваться от современности и удовлетворять то, что президент Радхакришнан называет «врожденной человеческой жаждой незримого». Эти навыки не очень-то способствуют написанию или чтению романов. Врожденная жажда незримого делает многих индийцев восприимчивыми к романам вроде
«На острие бритвы» и
«Адвоката дьявола», ценность которых в качестве благочестивой литературы очевидна. Кроме того, остается неясность. Чего же люди ищут в романах? Историю, «описания характеров», «художественности», реализма, морали, повода всласть поплакать, изящного слога? Ответ так и остается неизвестным. Потому-то и можно увидеть дешевые книжки из серии «Библиотека школьницы» в руках университетских студентов-мужчин, детские американские комиксы в комнате студента из Сент-Стивенз, Нью-Дели, и целый ряд книжек Денизы Робинс рядом с астрологическими томами. Потому-то индийские издательства предлагают романы Джейн Остин в бумажной обложке, рекомендуя ее как мастера блестящих сравнений.
Это часть подражания Западу, часть индийской страсти насиловать самих себя. Видна она и в Чандигархе, в этом новом театре для так и не написанных пьес, и в этих бесконечных писательских конференциях, где писателей призывают работать во имя «эмоционального единения» или пятилетних планов и где неустанно обсуждаются писательские проблемы. Мне же представляется, что эти проблемы имеют меньше отношения к писательству, нежели к переводу на английский; бытует широко распространенное мнение, будто английский язык, хотя он вполне сгодится для Толстого, никогда не сможет воздать должное «индоязычным» писателям. Возможно, это так; но то немногое, что я прочел из этих писателей в переводах, отбило у меня охоту читать еще что-либо. Премчанд — великий и любимый — оказался второсортным автором нравоучительных басен, озабоченным в основном социальными вопросами вроде положения вдов или невесток. Другие писатели быстро утомили меня своими утверждениями, что бедность печальна и что смерть печальна. Я читал о бедных рыбаках, бедных крестьянах, бедных рикшах; бессчетное количество хорошеньких девушек или просто и внезапно умирали, или делили ложе с помещиком, платили за лечение родственников, а потом совершали самоубийство; а многие из «современных» рассказов — всего лишь подновленные народные сказки. В Андхре мне дали брошюрку, посвященную конференции писателей, пишущих на языке телугу. Брошюра рассказывала о героической борьбе народа за создание те-лугского государства (по-моему, такое стремление говорит лишь о легкомыслии чистой воды), приводила перечень имен мучеников, а затем вкратце излагала историю телугс-кого романа. Похоже, телугский роман начался с телугских адаптаций «
Вейкфилъдского священника» и
«Ист-Линна». Когда я заехал еще немного южнее, мне рассказали о писателе, на чье творчество большое влияние оказал Эрнест Хемингуэй.
«Вейкфилъдский священник» и «
Старик и море»: трудно хоть как-то соотнести их с индийским пейзажем или с индийскими взглядами. Японский роман тоже начинался отчасти с подражания Западу. Танизаки, если я не ошибаюсь, признавался как-то, что в своем раннем творчестве он испытывал слишком сильное влияние европейцев. Однако даже сквозь это подражательство можно разглядеть, что японцы определенно обладают собственным углом зрения. И в раннем творчестве Танизаки это ощущается точно так же, как и в недавних произведениях Юкио Мисимы: это любопытная буквальность, которая приводит к отстраненности настолько неодолимой, что она делает само письмо бессмысленным. Как ни странно, это проистекает из жажды незримого и является выражением интереса к людям. А та сладость и грусть, которую мы обнаруживаем в индийских романах и в индийских фильмах, является нежеланием смотреть в глаза чересчур гнетущей реальности; эти сладость и грусть ослабляют ужас, превращая его в теплую и добродетельную прочувствованность. Индийская сентиментальность — полная противоположность подлинного интереса.
Достоинства Р. К. Нараяна суть магически преображенные индийские неудачи. Я говорю это безо всякого неуважения: Нараян — писатель, чьи произведения вызывают у меня искреннее восхищение и удовольствие. По-моему, он вечно стремится к той
бесцельности индийской беллетристики, каковая происходит из глубочайших сомнений относительно предназначения и ценности беллетристики, — однако его вечно спасает собственная честность, чувство юмора и, главное, позиция полного примирения. Его произведения отражают глубинные процессы его общества. Несколько лет назад в Лондоне он сказал мне, что, что бы ни случилось, Индия останется навсегда. Он заметил это мимоходом; он просто высказал убеждение настолько глубоко въевшееся, что оно не нуждалось в особом подчеркивании. Это негативная позиция, часть той старой Индии, которая неспособна на самооценку. И вот результат: Индия, которую видит иностранный гость, далека от Индии из романов Нараяна. Он ведь рассказывает индийскую правду. Слишком многое из гнетущей действительности обходится молчанием; слишком многое предлагается принимать как должное. У Нараяна мы видим противоречие между формой, которая предполагает интерес, и позицией, которая его отрицает; в этом-то тихом противоречии и заключается его магия, которую некоторые называют «чеховской». Он неподражаем, и невозможно предположить, что он добился синтеза, к которому когда-нибудь придет вся индийская литература. Более молодые писатели, пишущие по-английски, далеко ушли от Нараяна. В романах, повествующих о сложностях, с какими сталкиваются студенты, вернувшиеся из Европы, они лишь выражают личное замешательство; сами такие романы лишь документируют индийскую неразбериху. Единственным автором, работающим внутри общества и вместе с тем способным навязать ему такой способ видения, в котором можно признать приемлемый тип критики, является писательница Р. Проэр Джхабвала. Но она европейка.
«С известной точки зрения литературу можно разделить на соглашательскую — она, грубо говоря, относится к древности и классике, — и диссидентскую, порожденную Новым временем. Нетрудно заметить, что в первой из них роман был редкостью. Почти все его образцы вдохновлены не действительностью, а фантазией… В сущности, это сказки, а не романы. Во второй, напротив, появляется подлинный жанр романа, не перестающий развиваться и обогащаться вплоть до наших дней… Роман зарождается одновременно с духом мятежа и выражает — в эстетическом плане — те же мятежные устремления». (Камю А., «Бунтующий человек») (Прим. авт.)
Индо-британское соединение оказалось бесплодным; его итогом стала двойная фантазия. Новое самосознание индийцев не позволяет им двигаться назад; «индийскость», которую они лелеют, затрудняет им продвижение вперед. Можно обнаружить такую Индию, которая якобы не изменилась с эпохи Моголов, на самом же деле изменилась в корне; можно обнаружить и такую Индию, чье подражание Западу кажется убедительным — до тех пор, пока ты не осознаешь — порой растерянно, порой раздраженно, — что полное взаимопонимание невозможно, что способностью видения мы наделены по-разному, и что существуют такие уголки индийского сознания, куда европейцу путь заказан.
И негативный, и позитивный принципы размылись; один уравновешивает другой. Проникновение не было полным; попытку обращения забросили. Сила Индии, ее выносливость являлись плодом негативного принципа, ее неизученного чувства преемственности. Это принцип, который, размываясь, теряет свою ценность. В понятии индийское — ти чувство преемственности было обречено на исчезновение. Творческий порыв угас. И преемственность подменили статикой. Она ощущается и в архитектуре «древней культуры»; она и во всеми оплакиваемой потере стимула, которая носит скорее психологический, нежели политический или экономический характер. Она дает о себе знать и в политических разглагольствованиях Банти. Она видна и в тех мертвых конях и неподвижной колеснице в храме Курукшетры. Шива перестал танцевать.
9. Гирлянда на моей подушке
— Я уверен, вы ни за что не угадаете, чем я занимаюсь.
Это был человек среднего возраста, худой, с заостренными чертами лица, в очках. Глаза у него бегали, а на кончике носа образовалась капелька влаги. Было зимнее утро, и наше купе второго класса не отапливалось.
— Я вам немножко подскажу. Я работаю на железной дороге. Вот мое удостоверение. Вы когда-нибудь такое видели?
— Вы — билетный контролер!
Улыбка обнажила редкие зубы.
— Нет-нет, мой дорогой сэр. Они носят форму.
— Значит, вы из полиции.
Его улыбка выстрелила влажным смешком.
— Я вижу, вам никогда не угадать. Ладно, я сам вам скажу. Я — инспектор бланков и канцтоваров на Северной железной дороге.
— Бланков и канцтоваров!
— Именно так. Днем и ночью, зимой и летом, я разъезжаю от станции к станции и провожу инспекцию бланков И канцтоваров.
— Как же это началось, мистер инспектор?
— К чему об этом спрашивать, сэр? Моя жизнь — сплошная неудача.
— Пожалуйста, не говорите так, мистер инспектор.
— Я мог бы сделать карьеру и получше, сэр. Вы наверняка отметили уровень моего английского. Я учился у мистера Хардинга. И знаете, я ведь бакалавр искусств! Когда я поступил на службу, то надеялся далеко пойти. Меня определили на склад. В ту пору я снимал с полок целые мешки бланков и канцтоваров и передавал их носильщику. Это происходило, разумеется, после того, как инденты получали одобрение.
— Разумеется.
— От склада до конторы: я продвигался медленно. Неуклонно. Но медленно. Кое-как я все-таки поднялся по службе. Я всю жизнь прослужил в Бланках и Канцтоварах. Обзавелся семьей. Дал своим мальчикам образование. Выдал замуж дочь. Один сын служит в армии, а другой — офицером в воздушных силах.
— Но, мистер инспектор, это же история успеха!
— Ах, сэр, не смейтесь надо мной. Моя жизнь прошла впустую.
— Расскажите мне еще о своей работе, мистер инспектор.
— A-а, секреты — вы хотите выведать мои секреты! Ладно, я сейчас расскажу. Но сначала я вам покажу, что такое индент.
— Да это целая маленькая книжечка, мистер инспектор. Здесь шестнадцать страниц.
— Иногда они оказываются в сортире у начальника станции. Один раз в год эти инденты рассылаются нашим начальникам станций. Они подготавливают заказы и представляют по три экземпляра. Кстати, сейчас вы видите самый простой тип индента. Существуют и другие.
— А когда эти заказы представлены…
— Тогда они попадают ко мне, понимаете? И я наношу свои маленькие визиты. Я схожу на станции, как обычный пассажир. И порой случается так, что меня оскорбляет тот самый начальник станции, чьи инденты я приезжаю проверять. И вот тогда-то я открываю ему, кто я такой.
— Да вы коварный человек, мистер инспектор.
— Вы так полагаете, сэр? Инспектор бланков и канцтоваров постепенно все узнает про всех начальников станций. Они проявляют себя в этих заказах. Ты начинаешь узнавать их. Вот взгляните, это может заинтересовать вас. Это вчерашняя работа.
Индент, заполненный черными чернилами, был весь в красных пометках.
— Откройте страницу двенадцатую. Видите? Он заказал сто блокнотов.
— Боже мой! А вы дали ему только два.
— У него шестеро детей, и все школьного возраста. Девяносто восемь из сотни заказанных блокнотов предназначались для этих шестерых детей. Уж инспектору бланков и канцтоваров такие вещи обязательно становятся известными! Ну, вот мы и приехали. Здесь я выхожу. Кажется, сегодня я неплохо развлекусь. Жаль, нет времени показать вам, что
этот заказал.
* * *
— Вчера я встретил одного из ваших инспекторов бланков и канцтоваров.
— Кого-кого встретили?
— Одного из ваших инспекторов бланков и канцтоваров.
— Таких людей не существует.
— Ну, не во сне же он мне привиделся. При нем были инденты и все прочее.
Хорошим я словом козырнул.
— Ну, это лишь доказывает мое убеждение: можно много лет проработать на железной дороге и ничего о ней не знать. Вот лично меня замучили президентские поездки. Наш бывший президент не любил летать самолетами. А вы знаете, что означает президентская поездка для железнодорожного администратора? Нужно менять расписание. Менять направления поездов. Дюйм за дюймом обследовать рельсовые пути. Нужно еще за сутки выставить вдоль путей людей — так, чтобы один мог услышать крик другого. А потом нужно лично проехать на поезде-приманке, который пускают за четверть часа до настоящего президентского поезда. Чтобы, если что, первым взлететь на воздух.
* * *
— Но где же можно выпить кофе в этом вашем ужасном городе?
— В этих краях железнодорожная станция — центр цивилизации. И кофе там неплохой.
— Отправимся туда.
— Сэр?
— Два кофе.
— Кофе нет.
— Вот как! Хорошо, принесите чайник чая на двоих. И принесите жалобную книгу.
— Сэр?
— Жалобную книгу.
— Давайте я поговорю с начальством, сэр.
— Нет-нет. Просто принесите чайник чая и книгу.
— Мне очень жаль, сэр. Но не мы сами занимаемся здесь ресторанным обслуживанием. Оно находится в руках местного подрядчика. Мы поставляем ему кофе и чай определенного качества. А он продает это все на сторону. Мы ничего не можем с этим поделать. Наш подрядчик знаком с министром. Обычная индийская история. Но глядите-ка. Наш друг возвращается.
— Он несет жалобную книгу?
— Нет. Он несет две чашки кофе.
* * *
Индийские железные дороги! Они врезаются в память каждого путешественника, куда бы он ни ехал — на север, восток, запад или юг. И все же мало кто писал о романтике этой грандиозной организации, которая заставляет сжиматься индийские расстояния и которая с безграничной уверенностью заявляет на поблекших табличках, выставленных на каждой станции: «Опаздывающие поезда могут наверстать время». И обычно действительно наверстывают. Но существует ли романтика? Столь сложная отлаженная служба достойна более богатой страны — с блестящими большими городами, приспособленными для приключений. Но здесь лишь расстояния — или осознание этих расстояний — придают романтический ореол географическим названиям, которые сообщают желтые таблички на боках индийских вагонов. Локомотив будет пожирать расстояние, словно превращая его в шлак. И будет совершать это со скоростью, которая быстро начнет казаться бессмысленной — когда бедный, однообразный простор пигмейской страны, бездеятельно лежащей под высоким небом, будет неожиданно взрываться кипучей жизнью на железнодорожных станциях, как будто все силы приберегаются именно для таких мест и мгновений: крики чахлых и потных, но чрезмерно нетерпеливых носильщиков в красных тюрбанах и куртках, крики продавцов чая, нагруженных кувшинами и глиняными чашками (которые разбивают после использования), крики продавцов бетеля и продавцов всякого жарева и варева, пропитанного карри (листья-тарелки, нанизанные на сухие прутья, потом выбрасываются на платформу или на рельсы, где из-за них будут драться бродячие псы, огрызающиеся лишь друг на друга, — и один злосчастный, оставшийся ни с чем, пес еще долго будет выть), и вся эта сцена — впрочем, оживленная лишь на переднем плане, ибо эти станции не только общественные центры, но и приюты, а ровные, прохладные платформы служат местом ночлега для множества бедолаг, — вся эта сцена разворачивается под потолком с низко подвешенными вентиляторами, крутящимися в пустопорожнем бешенстве. Солнце будет всходить и заходить, тая в золотом свете зари или сумерек, отбрасывая удлиненные тени от крыш вагонов до самых рельсов; но еще не все расстояние будет пожрано. Сама земля стала расстоянием. Неужели металл не возгорится? Неужели не придет избавление — не покажется плодородный край, где люди вырастают без изъянов? Но есть только очередная станция, снова крики, пурпурные вагоны, покрытые горячей пылью, снова простертые на перроне тела, снова собаки, обманчивый комфорт душа при зале ожидания первого класса и обед или ужин, отравленный собственной досадой и осторожностью. И в самом деле, люди менее важны для железной дороги, чем грузы; и пассажиры первого класса приносят куда меньше доходов, чем пассажиры третьего — этот некондиционный товар, для которого никогда не хватает места, даже в отведенных для него примитивных вагонах. Поэтому вполне можно простить железнодорожного администратора, которому все это известно, за то, что он не находит в своей службе никакой романтики и никакого блеска. Индийские железные дороги служат Индии. Они работают пунктуально и непрерывно, потому что это их долг. Они показывают не просто ту «настоящую» Индию, которую, как полагают сами индийцы, можно увидеть только в вагонах третьего класса. Они показывают Индию как тщетность и безграничную боль, Индию как идею. Их романтика — вещь отвлеченная.
* * *
Я ехал в вагоне третьего класса, но это был нетипичный для Индии третий класс. В вагоне работал кондиционер, а внутри он был устроен как салон самолета: ряды отдельных сидений с высокими регулируемыми спинками. Занавески прикрывали двойные стекла окон, а в проходе между креслами лежала ковровая дорожка. Мы ехали одним из «фирменных» поездов индийской железнодорожной службы. Такие составы с кондиционированными вагонами ходят между тремя крупными городами и Нью-Дели; за четыре фунта можно проехать больше полутора тысяч километров в комфортных условиях, со средней скоростью пятьдесят шесть километров в час.
Мы ехали на юг, и среди южных индийцев — низкорослых, державшихся очень смирно в начале долгого путешествия, — сикх выделялся сразу. Он был очень рослым, двигался размашисто; ему требовалось много места. Борода у него была необычайно жидкая, а черный тюрбан, тугой и низкий, напоминал берет: поначалу я даже принял его за художника-европейца. Не обращая внимания на множество запретительных надписей, он забросил чемодан на верхнюю полку и втиснул его поудобнее. Проделав это, он продемонстрировал крепость человека, привыкшего поднимать тяжести. Слегка развернувшись, он оглядел остальных вагонных обитателей с высоты своего роста и, похоже, ощутил собственное превосходство; уголки его отвислой нижней губы слегка загнулись книзу. Он сидел рядах в четырех-пяти впереди меня, и, когда он уселся, мне был виден только верх его тюрбана. Но впечатление он произвести успел. Я то и дело поглядывал на этот тюрбан, и примерно через час почувствовал, что его присутствие действует на меня раздражающе. Я опасался — как это часто случалось и раньше во время таких путешествий в замкнутом пространстве, — что мой интерес может вызвать ответный интерес и спровоцировать контакт, которого я предпочел бы избежать.
Сикхи удивляли меня и притягивали. Они относились к редкому в Индии типу цельных людей, и изо всех индийцев они казались мне наиболее похожими на тринидадских. Они обладали сходной энергичностью и неугомонностью, которая вызывала сходное негодование у чужаков. Они гордились своими способностями в области сельского хозяйства и механики, и часто азартно водили такси и грузовики. Их обвиняли в землячестве, да и их внутренняя политика была такой же вздорной. Но сикхи принадлежали Индии, а потому, если не считать перечисленных черт сходства, оставались для меня загадкой. Индивидуальность сикха казалась запрятанной под бородой и тюрбаном; глаза ничего не выражали. У него за плечами была военная традиция; всем известно, что из сикха получается свирепый солдат и полицейский. Столь же общеизвестна — несмотря на его безрассудную отвагу и очевидную успешливость — его простота. Глупый сикх — фигура легендарная. Виноват в этом тюрбан: под ним нестриженные волосы сикха нагреваются и размягчают его мозг. Так, во всяком случае, рассказывали; а сикхская политика — все эти храмовые заговоры, отшельники, чудесные посты, соперничества в духе Дикого Запада, заканчивающиеся перестрелкой на шоссе Дели-Чандигарх, — разумеется, выглядела комичной и жестокой одновременно. Да, энергии у сикхов было хоть отбавляй. Но, пожалуй, для Индии это оказалось чересчур: на общем индийском фоне, похоже, сикхи производили тревожное впечатление.
Неделей раньше наш поезд попал в аварию, и сейчас нас прицепили к замененному вагону-ресторану. Прохода туда через наш вагон не было. Мы подъехали к станции, и я вышел, чтобы по перрону перейти в вагон-ресторан. Я заметил, что сикх выходит следом за мной, а потом задерживается у газетного киоска. В вагоне-ресторане я уселся спиной к входу. Вокруг меня люди трещали на южно-индийских языках, изобилующих гласными звуками. Южные индийцы уже начали раскрепощаться: они со смаком поедали свою жидкую еду. Еда была удовольствием для их рук. Жуя, вздыхая от наслаждения, они с хлюпаньем хватали рис и йогурт пальцами. Они хлюпали и хлюпали; а потом — одним быстрым движением, словно торопясь застигнуть свою еду врасплох, — они скатывали порцию этой смеси в комок, подносили ладони, с которых капала жидкость, близко ко рту и — хлоп! — рис с йогуртом влетал внутрь; затем все повторялось заново — хлюпанье, трескотня и вздохи.
— Вы не против, если я сяду рядом?
Это был сикх. В руках у него был
«Иллюстрейтед уикли оф Индиа». Тугой черный тюрбан, слегка съехавший набок, тесная рубашка и тесные брюки на ремне придавали ему сходство с пиратом из детских книжек. По-английски он говорил очень бегло: явно успел пожить за границей. Теперь его рот показался мне смешливым; губы искривились — как мне показалось, в добродушной усмешке, когда он, втиснувшись между столом и стулом, оглядел хлюпальщиков.
— Как вам эта еда? — Он издал какой-то низкий, грудной смешок. — Вы ведь из Лондона, верно?
— В некотором смысле.
— Я разбираюсь в акцентах. Я слышал, как вы разговаривали с проводником. Знаете Хэмпстед? Знаете Финчли-роуд? Знаете проспект Фитцджона?
— Знаю, но не очень хорошо.
— Знаете кофейню «Бамби»?
— Не уверен.
— Но раз вы знаете Финчли-роуд, вы должны знать «Бамби». Помните того коротышку с бородкой, в тесных штанах и водолазке? — Снова раздался смешок.
— Такого я не помню.
— Если вы помните «Бамби», то и его должны помнить. Маленький такой. Когда бы вы ни пришли в «Бамби» — когда бы вы ни пришли в
любую кофейню на Финчли-роуд, — он всегда был там и повсюду скакал.
— Он стоял у кофеварки?
— Нет-нет. Ничего подобного. Не думаю, что он вообще что-нибудь
делал. Он просто болтался там. Маленькая бородка. Забавный такой коротышка.
— Вы скучаете по Лондону?
Он снова оглядел хлюпальщиков.
— Ну, вы только посмотрите вокруг.
Женщина в сари и в синих тонированных очках, у которой на коленях сидел маленький ребенок, поедала
самбар[76]. Она растопырила пальцы, положила ладонь плашмя на тарелку, сжала пальцы, подняла ладонь ко рту и тщательно её облизала.
Сикх снова разразился утробным тихим смехом.
— Наконец-то, — сказал он, когда поезд снова тронулся.
— Я не хотел, чтобы сюда вошли какие-нибудь другие сикхи. Покурим?
— Но сикхи же не курят.
— А вот этот сикх курит.
Женщина оторвала взгляд от самбара. Остальные хлюпальщики тоже замерли, поглядели на нас, а потом стали быстро отворачиваться, будто охваченные ужасом.
— Дряни, — проговорил сикх. Выражение его лица переменилось. — Видите, как эти мартышки уставились на вас?
— Он подался вперед. — Знаете, в чем моя беда?
— В чем?
— Я не люблю цветных.
— Но тогда вам повсюду должно быть неуютно.
— Знаю. Но ничего не поделаешь.
Я уже получил достаточно предупреждающих знаков, но меня вводило в заблуждение давнее тринидадское воспитание. «Не люблю цветных». Это резкое заявление можно было услышать и на Тринидаде, причем с особенной подковыркой: это было приглашение к полусерьезному подшучиванию. Я откликнулся, и он, похоже, уловил мой тон. Но я позабыл, что английский для него — только второй язык; что редкий индиец понимает иронию; и что, как бы он ни тосковал по Финчли-роуд и проспекту Фитцджона, он оставался индийцем, для которого все табу, связанные с кастами и сектами, незыблемы. Его курение было дерзким вызовом, но даже курил он осмотрительно — когда поблизости не было других сикхов. Он носил тюрбан, бороду и браслет, которые предписывала ему носить религия; не сомневаюсь, что носил он и нож, и нижние панталоны. Но момент, когда можно было открыть все карты — и, возможно, разойтись в разные стороны, — уже прошел.
Пока мы ждали еду («Риса не надо», — сказал он, как бы подчеркивая кастовое ограничение: рис служил основной пищей неарийского Юга), он листал свой «
Иллюстрейтед уикли оф Индиа», слюня кончик пальца.
— Смотрите-ка, — сказал он, пододвигая ко мне газету. — Поглядите, как тут много этих южно-индийских мартышек.
Он показывал мне статью об индийской команде, участвовавшей в Азиатских играх в Джакарте. Почти все игроки были сикхами, неузнаваемыми без тюрбанов: длинные волосы были подобраны кверху и перевязаны лентами.
—
Индийская команда! Хотел бы я знать, что будет делать без нас эта страна. Если мы будем сидеть сложа руки, то пакистанцы могут смело сюда входить — да-да. Дайте мне одну сикхскую дивизию, всего одну, и я пройду через всю эту чертову страну. Думаете, кто-нибудь из этих ничтожеств нас остановит?
Контакт уже произошел, и теперь путь к отступлению был отрезан. Впереди нас ожидали целые сутки пути. Мы выходили из вагона и вместе прогуливались по вокзальным перронам, с наслаждением окунаясь в страшную духоту после кондиционерной прохлады. Мы вместе ели. Когда мы курили, я глядел по сторонам, не видят ли нас другие сикхи. «Мне все равно, понимаете, — говорил сикх. — Но я не хочу оскорблять их чувств». Мы говорили о Лондоне, Тринидаде и кофейнях, об Индии и сикхах. Мы сошлись на том, что сикхи — прекраснейшие люди в Индии, но и среди них оказалось трудно найти таких, которыми бы он восхищался. Я начал рыться в памяти, силясь припомнить каких-нибудь знаменитостей-сикхов. Упомянул одного сикхского религиозного вождя. И услышал в ответ: «Да он — проклятый индус». Я упомянул другого. «А этот — чертов мусульманин». Я заговорил о политиках. Сикх стал рассказывать всякие истории об их мошенничествах. «Этот проиграл на выборах. И вдруг, нате, бегут его люди с избирательными урнами и кричат: „Постойте, постойте, мы забыли посчитать еще эти голоса“». Я заговорил об активности сикхов и о процветании Пенджаба. «Да, — ответил он, — класс уборщиков растет». Мы заговорили о сикхских писателях. Я упомянул Кхушванта Сингха, которого сам знал и любил; он много лет изучал сикхские писания и историю. «Кхушвант? Да он не знает про сикхов
ничего». Единственным человеком, который хорошо писал о сикхах, был Каннингем; но он умер, как и все лучшие сикхи. «Сегодня мы совершенно безнадежная компания», — сказал сикх.
Многие истории, которые он рассказывал, были откровенно смешны, но часто — как, например, в его отзывах о сикхских религиозных вождях, — я находил юмор там, где его и в помине не было. Наше знакомство началось со взаимного недопонимания. В том же духе оно продолжало развиваться. По мере того, как длилось наше путешествие, сикх ожесточался все сильнее, но как раз это отвечало и моему настрою. Назойливые железнодорожные станции, бедные поля, разрушающиеся города, тощий скот, изнуренный люд: поскольку его реакция так походила на мою, мне даже не приходило в голову, что для индийца она нетипична. Как бы то ни было, свирепость сикха меня успокаивала: он как бы стал моим иррациональным «я». По мере того как земля делалась все беднее, он становился все яростнее и покровительственнее; он проявлял ко мне ту чуткость, какую обычно физически крепкие, рослые люди проявляют по отношению к маленьким.
Было около полуночи, когда мы прибыли на узловую станцию, где мне нужно было сойти с поезда. Перрон напоминал мертвецкую. В тусклом свете распростертые на платформе тела казались сморщенными белыми свертками, из которых торчали индийские костлявые руки, блестящие жилистые ноги,
ссохшиеся лица в серой щетине. Люди спали; собаки спали; а среди них, будто эманации, восставшие из бесчувственных тел, по которым они, казалось, и ступают, двигались другие люди и собаки. Молчаливые вагоны третьего класса оказались битком набиты темными, ждущими, потными лицами; желтые таблички над зарешеченными окнами говорили о том, что эти люди куда-то едут. Паровозы свистели.
Опаздывающие поезда могут наверстать время. Вентиляторы упорно крутились. Отовсюду доносился собачий вой. Одна собака ковыляла в сторону темного конца платформы; ей только что оторвало переднюю ногу — на ее месте торчал кровавый обрубок.
Сикх помог мне вынести багаж. Я был благодарен ему за его присутствие, за его цельность. Мы успели обменяться адресами и договорились, где и когда встретимся снова. Теперь мы повторили свои обещания. Мы объедем Юг. В Индии еще есть чему порадоваться. Мы отправимся на охоту. Он мне покажет: это очень легко, и мне очень понравятся слоны. Потом сикх вернулся в свой кондиционированный вагон, исчез за двойным стеклом. Раздался свисток, поезд мощным рывком снялся с места и ушел. Но вокзальная сцена почти не изменилась: на перроне еще оставалось множество тел, ожидавших перевозки.
Мой поезд отправлялся через два часа; вагоны уже стояли у платформы. Я сдал билет в третий класс, поменяв его на первый, пробрался по тусклым платформам мимо лежащих человечьих и собачьих тел, мимо вагонов третьего класса, уже набитых битком и душных. Кондуктор открыл дверь в мое купе, и я забрался внутрь. Я запер дверь, задернул все шторы, пытаясь забаррикадироваться от воя собак, от непрошеных гостей, пытаясь отогнать от себя все эти глазеющие лица и скелетоподобные тела. Свет я не включал. Мне нужна была темнота.
* * *
Я этого не ожидал, но мы снова встретились, как и договаривались. Это произошло в городе, где единственным другим знакомым мне человеком был преуспевающий владелец кондитерской. Я уже научился остерегаться его гостеприимства. При каждой встрече непременно следовало отведать его отборных сладостей. Они были разъедающе-сладкими и отбивали аппетит на целый день. Гостеприимство сикха оказалось менее обременительным. Он старался взбодрить мой аппетит выпивкой, а потом уже угощал. Он уделял мне много времени. Я чувствовал, что он не просто оказывает мне гостеприимство: он предлагал свою дружбу, и меня очень смущало то, что я не могу ответить взаимностью. Но теперь я был гораздо спокойнее, чем тогда в поезде, и его настроения уже не всегда совпадали с моими.
— Совсем запустили этот военный квартал, — замечал он. — В прежние времена сюда ниггеров не пускали. А теперь тут черномазые повсюду шастают.
Он открыто выплескивал злость, и ее не умерял никакой юмор, никакая самоирония, которую я разглядел — или которая мне примерещилась — в его недавних вспышках в поезде.
— Ну и люди! Нужно везде кричать: «Бой!» Иначе они просто тебя не слышат.
Я уже заметил это. В гостинице я кричал: «Бой!» вместе со всеми, но мне никак не давался нужный тон. И гостиничные слуги, и постояльцы носили южно-индийские наряды, и я несколько раз окликал не тех людей. А потому в моих окликах всегда слышалось приглушенное сомнение и извинение.
Сикха все это ничуть не забавляло.
— И знаете, что они отвечают? Можно подумать, ты в какое-то кино с американскими черномазыми попал. Они отвечают: «Да, хозяин!» С ума сойти!
С такими своими настроениями, он теперь давил на меня. Его ярость походила на самоистязание; она выливалась в страстные монологи. Я совершенно неверно понял его вначале. И этим непониманием, по сути, добился его дружбы и доверия. Наше расставание было сентиментальным, и столь же сентиментальной стала повторная встреча. Он увязал со мной все свои планы. Он уже договорился о поездке на охоту. Теперь отступать было так же немыслимо, как двигаться вперед. Я давал ему выговориться — и ничего не предпринимал. А он не только выплескивал злость. Он выказывал мне все больше внимания. Как хозяин он был очень заботлив; я все больше ощущал, скольким обязан ему. Он был разочарован и ожесточен; как я понял, он был еще и одинок. Состояние Индии он переживал как личное оскорбление; я испытывал сходные чувства. Проходили дни, а я не делал попыток улизнуть. Он уделял мне все больше и больше времени, его горечь все больше и больше обволакивала меня, но я пассивно и тревожно ждал избавления.
Однажды мы поехали к руинам одного дворца XVIII века, которые расчистили и превратили в место для пикников. Здесь Индия представала утонченной и основательной; базары и железнодорожные станции словно отступили вдаль. Сикх хорошо знал эти руины. Проходя среди развалин, показывая их мне, он оставался безмятежным и даже слегка гордым. В окрестностях имелись и более древние храмы, но они интересовали его меньше, чем этот дворец, и, кажется, я понял, почему. Он ведь бывал в Европе, терпел насмешки — пускай даже только в воображении — из-за своего тюрбана, бороды и нестриженных волос. Он научился иначе смотреть на Индию и на самого себя. Он знал, что нужно Европе. Вот эти дворцовые руины вполне могли бы быть европейскими, и он с радостью показывал их мне. Мы прогуливались по садам, и он снова говорил о нашей предстоящей охоте: я непременно подивлюсь молчаливости слонов. Мы задержались у водоема, съели сандвичи и выпили кофе.
На обратном пути мы посетили один из храмов. Зайти туда предложил я. Запущенного вида жрец-нищий с голой спиной поднялся с чарпоя и вышел нам навстречу. По-английски он не говорил и приветствовал нас бессловесными жестами. Сикх издал характерный смешок и принял отстраненный вид. Жрец никак на это не отреагировал. Он пошел впереди и, приведя нас в низкий, темный храм, поднял иссохшую руку и стал показывать то и это, зарабатывая подачку. Резьба была еле видна в полумраке, и в глазах жреца она явно значила гораздо меньше, чем действующие святилища, освещаемые масляными светильниками, где стояли яркие идолы, выряженные в пестрые кукольные наряды, — идолы черные и белые: индийское древнее смешение арийских и дравидских богов.
— Вот с чего начались все беды, — заметил сикх.
Жрец, уставившись на богов и ожидая наших восклицаний, кивал.
— Вы не были в Гилгите? Советую побывать. Там все — чистые арийцы. Красивые люди. Запусти к ним парочку этих дравидов — и они в два счета испортят расу.
Кивая, жрец вывел нас на открытое место. Пока мы обувались, он стоял рядом. Я дал ему немного денег, и он молча вернулся в свою келью.
— До прихода в Индию, — грустно сказал сикх, когда машина тронулась, — мы были прекрасным народом.
Арья — хорошее санскритское слово. Знаете, что оно означает? «Благородный». Вам надо почитать древнеиндийские книги. Там все рассказано. В те времена считалось нечистым делом поцеловать очень черную женщину в губы. Думаете, это просто сикхская чепуха, выдумки? Вы сами почитайте. Весь этот арийско-дравидский вопрос — старая история. И все это снова заваривается. Читали в газетах, что эти черномазые требуют собственного государства? На хорошую порку они напрашиваются. И допросятся!
Земля, по которой мы ехали, была бедной и густонаселенной. Дорога была здесь самой чистой деталью пейзажа. По обеим сторонам от нее виднелись маленькие прямоугольные ямы, откуда местные крестьяне выкапывали глину для своих лачуг. Корни больших тенистых деревьев, высаженных вдоль дороги, были обнажены; то здесь, то там лежало поваленное дерево: пигмейские старания, гигантские разрушения. На дороге было мало машин, зато много людей, которые не обращали внимания ни на солнце, ни на пыль, ни на наши гудки. На женщинах были узнаваемые пурпурно-зелено-золотистые сари, на мужчинах — лохмотья.
— У них у всех есть право голоса.
Взглянув на сикха, я заметил, что он взбешен как никогда. Он словно ушел в себя, его губы молча шевелились. На каком языке он говорит? Может быть, он читает молитву или заклинание? Меня снова начала охватывать истерика, как тогда в поезде. Но теперь я ощущал, что на мне лежит двойная ответственность. Пищей для злости сикха служило все, что он видел, и мне очень хотелось, чтобы земля и люди поскорее переменились. Сикх продолжал шевелить губами. Тогда против его заклинаний я попробовал пустить в ход другие, свои. Я чувствовал приближение беды; я выбросил из головы доводы разума. Я старался усилием воли передать компенсирующую любовь каждому исхудалому человеческому существу, какое видел у дороги. Но получалось у меня плохо, я сам это чувствовал. Я уже заражался яростью и презрением от человека, сидевшего рядом со мной. Любовь незаметно превратилась в истерию на грани самоистязания: мне уже хотелось видеть все более ужасающий упадок, все новые лохмотья и грязь, еще более костлявых, высохших и безобразных, еще более изуродованных людей. Мне хотелось расширить границы собственного «я», увидеть предельную степень людского вырождения, увидеть все это тотчас же. Для меня это означало конец, личное поражение; уже испытывая все эти желания, я знал наперед, что никогда не смою пятно такого позорного наваждения.
На основании высокого белого кульверта статуей застыл человек. Вокруг его костлявых, тощих и хрупких, как обугленные палки, рук и ног колыхались лохмотья.
— Ха! Поглядите-ка на эту обезьяну. — Смешок, прорвавшийся сквозь голос сикха, мгновенно сменился мукой.
— Боже? И
это мы называем человеком? Даже скотина, если ей нужно выжить… даже скотина. — Он никак не мог подобрать слов. — Даже скотина. Человек? А чем — чем обладает
вот это? Думаете, у него хотя бы инстинкт имеется? Чтобы подсказать ему: пора поесть?
Он реагировал вместо меня, как и тогда в поезде. Но теперь-то я хорошо понимал собственную истерию. Слова эти были его — не мои. И они развеяли чары.
Крестьяне, деревья и деревни — всё исчезало в клубах пыли, которую поднимала наша машина.
Иногда кажется, что нашей глупости и нерешительности, как и нашей нечестности, нет предела. Наше знакомство должно было закончиться, когда закончилась эта поездка. Объяснение было бы болезненным. Но его можно было и избежать. Я бы мог перебраться в другую гостиницу; я мог бы просто тихо смыться. Именно это подсказывал мне инстинкт. Но в тот же вечер мы пили вместе. Крестьяне и пыль, черные и белые боги, арии и дравиды — все это было позабыто. Та истерика на дороге родилась из ощущения безымянной опасности, и, возможно, виной тому была жара или мое крайнее утомление. Тяжелое индийское пиво ударяло в голову, и мы снова говорили о Лондоне, о кофейнях и «забавном коротышке».
Сумерки превратились в ночь. Теперь нас было трое за столом, заставленным стаканами. К нам присоединился англичанин — торгаш средних лет, толстый и краснолицый. Произношение у него было северное. Уйдя в пьяное молчание, я отметил, что разговор перешел на сикхскую историю и воинскую славу сикхов. Вначале англичанин иронизировал, но потом его улыбка застыла. Я слушал. Сикх говорил об упадке, который переживали сикхи после владычества Ранджита Сингха, о беде, которая пришла к ним с Разделом. Но говорил он и о мести сикхов в 1947 году, о сикхском насилии. Отчасти, догадывался я, рассказы об этих жестокостях адресовались мне: мы затронули эту тему еще во время поездки, возвращаясь в город. Его доводы были слишком просчитанными; они оставили меня равнодушным.
Ужинать — нам захотелось ужинать; и вот мы уже ехали в ресторан (без англичанина).
В ресторане было очень светло.
— Они на меня глазеют!
В ресторане было светло и шумно — множество людей за множеством столов.
— Они на меня глазеют.
Мы оказались в заполненном людьми углу.
Я уселся.
Шлеп!
— Эти чертовы дравиды глазеют на меня.
Мужчина за соседним столиком оказался на полу. Он лежал на спине, а голова его оказалась на сиденье пустого стула. Его глаза были полны ужаса, а руки сцеплены в жесте приветствия и мольбы.
— Сардарджи!
[77] — воскликнул он, все еще лежа на полу.
— Глазеешь тут на меня. Дрянь южно-индийская!
— Сардарджи! Мой друг сказал: «Гляди, сардарджи». И я оглянулся посмотреть. Я не южный индиец. Я пенджабец. Как и вы.
— Дрянь.
Я всегда боялся, что произойдет нечто подобное. Именно это уловило мое чутье, как только я увидел его тогда в поезде: некоторые люди излучают угрозу насилия, и они опасны для тех, кто боится насилия. Мы познакомились — и неизбежно произошла переоценка. Однако за всей ошибочностью и неловкостью наших отношений всегда скрывалась моя изначальная тревога. И этот момент, когда меня охватил страх и отвращение к себе, стал ее логичным продолжением. В то же время, этого момента я давно уже ждал. Я покинул ресторан и попросил рикшу отвезти меня в гостиницу. Весь город, все его улицы, где сейчас воцарилась тишина, были с самого начала окрашены для меня общением с сикхом; я оценивал его — будь то с презрением или вымученной любовью — в соответствии с понятиями его специфического расизма. И теперь мысль об этом вызывала во мне такую же тошноту, как и насилие, свидетелем которого я только что стал.
Я велел рикше развернуться и поехать обратно к ресторану. Сикха уже след простыл. Зато тот пенджабец — с бешеными от унижения и злости глазами — сидел возле кассового прилавка в группе людей, по-видимому, знавших его.
— Я убью твоего приятеля, — прокричал он мне. — Я завтра же убью этого сикха.
— Никого вы не убьете.
— Я убью его. И тебя тоже убью.
Я вернулся в гостиницу. Зазвонил телефон.
— Привет, паршивец.
— Привет.
— Значит, ты меня бросил, когда я попал в небольшую передрягу. И ты еще называешь себя другом! Знаешь, что я о тебе думаю? Ты — грязная южно-индийская свинья. Не засыпай. Я сейчас поднимусь и вдарю тебе как следует.
Он, наверное, находился неподалеку, потому что появился уже через несколько минут: дважды постучал в дверь, преувеличенно поклонился и театральной походкой вошел в комнату. Мы оба уже заметно протрезвели, но наш разговор пьяно и фальшиво качался туда-сюда — от примирения до взаимных обвинений. В любой момент мы могли или снова сделаться друзьями, или решить больше не видеться; снова и снова, когда мы уже кренились в сторону одной из этих возможностей, один из нас делал исправительный нажим в обратном направлении… Мы все еще испытывали интерес друг к другу. Мы пили кофе; наш разговор продолжал качаться туда-сюда еще более фальшиво; и в конце концов даже остатки интереса утонили в словах.
— Мы же собирались поехать на охоту, — сказал сикх напоследок, уходя. — А я с тобой связывал такие планы.
Это была по-голливудски хорошая прощальная фраза. Возможно, он ее заранее продумал. Трудно сказать. В Индии английский язык способен вводить в заблуждение. Меня одолевала усталость: несмотря на кофе и лицемерные разговоры, разрыв оказался бурным. Он принес облегчение и сожаление. Мне выказали столько доброжелательности, столько великодушия, — а я так неверно все истолковал!
Утром мой ужас не знал границ. Я видел фотографии пенджабских погромов 1947 года, фотографии большой калькуттской резни; я слышал про поезда — эти индийские поезда! — перевозившие трупы через границу; я видел погребальные насыпи вблизи пенджабских дорог.
[78] Но никогда раньше я не думал об Индии как о стране насилия.
А теперь это насилие я чуял в воздухе; казалось, город запятнан угрозой насилия и самоистязания вроде того, что я видел. Мне захотелось тотчас же уехать отсюда. Но билеты на автобусы и поезда были забронированы на много дней вперед.
Я отправился к кондитеру. Тот был мил и радушен. Он усадил меня за стол; один из его официантов принес мне тарелку с самыми сладкими из его сладостей; и господин, и слуга наблюдали, как я ем. О, эти индийские сладости! «Они едят их вместо мяса»: вдруг всплыла и осталась со мной киплинговская фраза, которую я, может быть, по памяти искажаю; и это
мясо показалось мне словом грубым, пугающим. За все милое, слабое и охочее до сладкого в этом городе я был благодарен — и за все это боялся.
На следующий вечер кондитер познакомил меня со своим родственником, который гостил у него. Этот родственник встрепенулся, услышав мое имя. Неужели это правда? Он как раз читал одну из моих книг; он-то думал, что автор находится за тысячи миль отсюда; и уж никак не думал, что встретит меня поедающим сладости на базаре захолустного индийского городка. Но он полагал, что я значительно старше. А я —
баччха, мальчишка! Что ж, теперь он со мной познакомился, и ему бы хотелось как-то выразить свою признательность. Не сообщу ли я ему, где я остановился?
В ту же ночь, когда я открыл дверь в свой гостиничный номер, оттуда вырвался едкий белый дым. Пожара не было. Это был дым от благовоний. Чтобы войти, мне пришлось закрыть лицо носовым платком. Я раскрыл двери и окна, включил потолочный вентилятор и снова выбежал в коридор со слезящимися глазами. Туман от благовонных воскурений рассеялся лишь через несколько минут. Повсюду, точно тлеющие головни, догорали толстые связки ароматических палочек; на полу, будто птичий помет, лежали кучки пепла. Моя постель оказалась усыпана цветами, а на подушке лежала гирлянда.
10. Чрезвычайное положение
Китайцы совершают массированные атаки в Нефе и Ладакхе. Казалось, газетные заголовки ликуют. В Мадрасе, где я находился, гостиничные официанты читали друг другу новости в коридорах и на лестничных площадках; на Маунт-роуд безработные мальчишки и мужчины, обычно стоявшие возле ресторана «Куолити» и подзывали такси и скутеры для отобедавших посетителей, теперь столпились вокруг человека, который что-то зачитывал им из тамильской газеты. На тротуаре женщины раздавали работягам готовую еду ценой в несколько анн с головы; в боковых улочках, среди автобусов и автомобилей, носильщики с голыми спинами тянули и толкали свои повозки с тяжелыми колесами: шагая между оглоблями, носильщики пытались скрыть свое напряжение за нарочито легкой поступью. Такое окружение делало газетные заголовки смехотворными. Индия не была готова к современной войне. «Она, ровней которой была лишь Священная Римская империя, она, быть может, встанет в один ряд с Гватемалой и Бельгией!» Так насмехался сорок лет назад Форстеров Филдинг; и спустя пятнадцать лет после провозглашения независимости Индия во многих отношениях оставалась страной колониальной. Казалось, она по-прежнему рождала в основном политиков и речи. Ее «промышленниками» являлись главным образом торговцы, импортеры простых машин, изготовители товаров по лицензии. Ее администрация по-прежнему никуда не годилась. Она собирала налоги, поддерживала порядок; и вот сейчас на страсть взбудораженного народа она могла откликнуться только словами. Чрезвычайное положение свелось к поиску прецедентов, оглашению соответствующего ДОРА, дополненного инструкциями по применению газовых масок, зажигательных бомб и ручных насосов. Чрезвычайное положение стало временем тревожных ожиданий и запретов; появилась цензура, которая лишь подстегивала слухи и панику; газеты запестрели лозунгами. Чрезвычайное положение вылилось в слова — английские слова. ЭТО ТОТАЛЬНАЯ ВОЙНА, заявляла на первой полосе бомбейская еженедельная газета. «Как я понимаю, что такое тотальная война? — говорил соискатель, претендовавший на место в НАС, отвечая на вопрос экзаменационной комиссии. — Это война, в которой участвует весь мир». Новости становились все хуже. Появились слухи, что в Ладакх отправили гуркхов
[79], вооруженных только ножами, а люди, переброшенные из Ассамской равнины в горы НЕФА, были одеты только в нательные фуфайки и теннисные туфли. Вся неудержимая свирепость, на какую была способна страна, собралась в один ком; возникало ощущение, что близится избавление и революция. Могло случиться все, что угодно; если бы все зависело от одного лишь усилия воли, то китайцев можно было бы отбросить обратно в Лхасу за неделю. Но от политиков исходили только речи, а от администратора — только соответствующие директивы. Знаменитая Четвертая дивизия была разбита в пух и прах; индийскую армию, особый предмет гордости Индии, постигло страшное унижение. Теперь все отчетливо ощущали, что независимая Индия есть порождение слов («Почему нам не пришлось сражаться за свою свободу?») и что теперь она захлебывается в словах. Магия вождя не возымела действия, и вскоре страсти улеглись, уступив место фатализму.
Китайское вторжение длилось уже целую неделю. В доме моего друга собрались на ужин кинопродюсер, сценарист, журналист и врач. Прежде чем пройти в столовую, мы посидели на веранде, и, прислушиваясь к общей беседе, я понимал, что не сумею убедительно воссоздать ее. Временами она казалась мне вольнодумной и ироничной, затем — полной отчаяния, потом — гротескной. Настроения собеседников оставались приглушенными. Китайцы остановятся у Брахмапутры, говорил продюсер: они просто хотят закрепить свою оккупацию Тибета. Он говорил спокойно; никто не оспаривал его предположения, что Индия может лишь сохранять пассивность. Затем разговор соскользнул к добродушному спору о карме и о ценности человеческого существования, и — прежде чем я успел понять, как это произошло, — мы снова вернулись к обсуждению ситуации на границе. Высмеивалась неподготовленность страны. Никто никого не винил, не предлагал собственных планов: все только обрисовывали ситуацию. И куда все это заведет? «Многие не знают, — сказал врач, — что очень опасно делать прививку от холеры, когда эпидемия уже началась». Медицинская аналогия ошеломляла: страна оказалась неподготовленной, а значит глупо, даже опасно, заниматься подготовкой сейчас. С этим никто не спорил; кинопродюсер снова выразил уверенность в том, что китайцы остановятся у Брахмапутры. Упомянули Ганди; но как получилось, что вслед за этим врач заявил, что верит в оккультизм, и почему он обронил высказывание — почти приглашая к спору, — что «великие целители всегда пускали в ход свое могущество, чтобы спастись»? Некоторое время разговор вертелся вокруг чудес. Я услышал, что тибетцы страдают теперь из-за того, что забыли мантры — заклинания, которые помогли бы им отразить нападение врагов. Я всмотрелся в лица собеседников. Мне показалось, что они серьезны. Но не ошибся ли я? Может быть, их разговор являлся чем-то вроде средневекового интеллектуального упражнения, предобеденного развлечения южно-индийских брахманов? Нас позвали за стол, и наконец все пришли к согласию. Собеседники сошлись на том, что индийцы тоже забыли мантры; они оказались бессильны против врагов, и с этим ничего не поделаешь. Так ситуация на границе оказалась утоплена в разговорах. Мы спокойно отправились в столовую, и за столом речь шла о других вещах.
* * *
Индийская жизнь, индийская смерть продолжалась. Молодой выпускник университета, получающий 200 рупий в месяц, ищет невесту-телугу, из брахманов, велланаду, готра, не-каусига, не старше 22 лет.
На травяном ограждении вокруг гостиницы, рядом с открытой мусорной кучей, где ежедневно рылись в выброшенных банановых листьях-тарелках и гостиничных объедках женщины и буйволы, умирал маленький коричневый щенок. Он ползал по крошечному участку, как будто прикованный к месту, и чах день ото дня. Однажды утром мне показалось, что он уже издох. Но вот приблизилась ворона; хвост у щенка поднялся и снова упал.
Изящная красавица, очаровательная танцовщица классического танца Бхарат-Натьям, блестящая выпускница университета из аристократической семьи, с широким кругозором, приятным характером, привлекательная, стройная, высокая, с современными взглядами, 21 года, хочет выйти замуж за владельца мельницы, бизнесмена-магната, преуспевающего землевладельца, врача, инженера или высокопоставленного руководителя. Каста, вероисповедание и национальность значения не имеют.
Новости из Дели не менялись. Но близился праздник Дипавали
[80], и нищие толпами стекались на Маунт-роуд. Вначале этот мальчик не казался похожим на нищего. Он был красивым и смуглым; на нем были красные шорты и белая накидка, переброшенная через плечо. Он заметил меня, когда я выходил из здания почты; и вдруг, будто вспомнив об обязанностях, он улыбнулся и приподнял белую накидку, чтобы продемонстрировать чудовищно изуродованную руку. Эта культя вовсе не напоминала руку — она напоминала женскую грудь, которая заканчивалась не соском, а ногтем на игрушечном пальце.
* * *
На лекции «Наш вождь Анни Безант» в Трипликанском Теософском обществе присутствовало восемь слушателей — не считая секретаря и сторожа с пучком на голове. Лекцию читала канадка средних лет. Она была родом из Ванкувера. Это вовсе не так странно, как может показаться, заметила она: по словам Анни Безант, в далекие-далекие времена Ванкувер являлся центром оккультизма. Духовные способности Анни Безант, несомненно, объяснялись ее ирландским происхождением, и многое в ее характере можно объяснялось ее воплощениями в предыдущих жизнях. Прежде всего, Анни Безант была великим вождем; и долг каждого теософа — быть вождем, продолжать дело Анни Безант и распространять ее книги. Сейчас Теософское общество переживает не лучшие времена, встречаясь с известным равнодушием (секретарь уже говорил об этом), и многие люди наверняка задаются вопросом: если Анни Безант снова среди нас, то почему же она не в Теософском обществе? Но ведь этот вопрос лишен логики. У Анни Безант нет никаких причин быть в Обществе. Ее работа для Общества уже совершена в предыдущей жизни; а сейчас она почти наверняка — под именем, которое нам неизвестно, — делает столь же важную работу в какой-то другой области. Двое из слушателей дремали.
* * *
За высокими, чистыми стенами ашрама Ауробиндо в Пондишери, в полутора сотнях километров к югу, все хранили безупречное спокойствие. В 1950 году, незадолго до смерти, Ауробиндо предупреждал мистера Неру об экспансионистских замыслах «желтой расы»; он предсказал захват Тибета Китаем и видел в этом первый шаг на пути к завоеванию Индии. Вот они, эти строки черным по белому, в одной из многочисленных книжек, издаваемых ашрамом, и должно быть, их часто показывали в последние дни: секретарь легко раскрывал книжку на нужной странице.
Приподнятый, усыпанный цветами мемориал-
самадхи Учителя, ныне служащий местом для коллективных медитаций, находился в прохладном, вымощенном каменными плитами дворе ашрама. Мать была еще жива, хотя несколько удалилась от дел. Она совершала
даршан — появлялась на людях, позволяя лицезреть себя, — лишь в пору важных годовщин: в день рождения Ауробиндо, в день собственного приезда в Индию, и так далее. Об Ауробиндо я знал мало. Учился он почти исключительно в Англии; вернувшись в Индию, сделался революционером; спасаясь от ареста, бежал в Пондишери, на французскую территорию, и там, забросив политику, сделался боготворимым отшельником и основал свой ашрам, который с тех пор разрастался. Но о Матери я не знал вовсе ничего, кроме того, что она урожденная француженка, последовательница Ауробиндо, и что занимает в ашраме особенное положение. За три с половиной рупии я купил на книжном лотке ашрама книжку —
«Письма Шри Ауробиндо о Матери».
Вопрос. Правильно ли я думаю, что она как Личность воплощает все Божественные Силы и все больше и больше переводит Милость в материальную плоскость? И что ее воплощение — это возможность перемен и трансформации для всей материи?
Ответ: Да. Ее воплощение — это возможность для земного сознания принимать в себя Сверхумственное и сначала претерпевать трансформацию, необходимую для осуществления этого. Затем будет происходить дальнейшая трансформация посредством Сверхумственного, которое, однако, не будет переворачивать сознание целиком: сначала появится новый род людей, который будет представлять Сверх-Разум, как человек сейчас представляет разум.
Продавались здесь и репродукции фотографии Матери, сделанной Анри Картье-Брессоном. С них смотрела пожилая француженка с угловатым лицом и крупными, слегка выпирающими зубами. Она улыбалась; щеки ее были полными и ясно очерченными. Вышитый платок покрывал ее голову и доходил почти до затемненных глаз, в которых не было и следа той веселости, которую выражала нижняя половина лица. Платок был завязан или заколот на затылке, а концы его ниспадали по обеим сторонам шеи.
Вопрос: Pourquoi la Mère s’habille-t-elle avec des vêtements riches et beaux?
Ответ: Avez-vous donc pour conception que le Divin doit être représenté sur terre par la pauvreté et la laideur? [81]
И Ауробиндо, и Мать обладали Светом. У Ауробиндо он был бледно-голубым; от его тела исходило свечение в течение нескольких дней после смерти. У Матери Свет был белый, иногда золотой.
Когда мы говорим о Свете Матери или моем Свете в особенном смысле, мы говорим об особом оккультном действии — мы говорим о свете, нисходящем от Верховного Разума. В этом действии Мать обретает Белый Свет, который очищает, просветляет, притягивает всю сущность и могущество Истины и способствует трансформации…
Мать, разумеется, не стремится к тому, чтобы люди видели этот Свет: они сами по себе, один за другим, наверное, 20 или 30 человек во всем ашраме, научились видеть его. Разумеется, это один из признаков того, что Высшая Сила (неважно, называем ли мы ее сверхумственной) начинает влиять на Материю.
Мать была ответственна и за организацию ашрама; раздражение, изредка прорывавшееся наружу в ответах Ауробиндо на вопросы обитателей ашрама, содержит намеки на сложности, возникавшие поначалу.
При организации работы поначалу многое делалось впустую по вине рабочих и садхаков, которые следовали собственным пристрастиям, не уважая волю Матери; потом, при реорганизации, это удалось исправить.
Ошибочно думать, будто неулыбчивость Матери означает или неудовольствие, или неодобрение каких-то поступков сад-хака. Часто это означает лишь ее глубокую погруженность в себя или сосредоточенность на своих мыслях. В данном случае Мать задавала вопрос вашей душе.
В ту пору Мать не знала о том, что вы разговаривали с Т. Поэтому ваша догадка о том, что тот разговор мог стать причиной ее недовольства (мнимого), совершенно беспочвенна. Якобы загадочная улыбка Матери вам просто примерещилась: Мать говорит, что в ее улыбке заключалась величайшая доброта.
Это не потому, что вы делаете не так много ошибок во французском, что Мать их не исправляет, а потому, что я не позволяю ей взваливать на себя много работы (насколько это в моих силах). Ей и так уже не хватает времени на ночной отдых, и большую часть ночи она работает над книгами, статьями и письмами, которые приходят к ней целыми кипами. И все равно она не успевает все закончить к утру. Если она станет поправлять ошибки во всех письмах людей, которые только начали писать по-французски, как и в остальных, то это прибавит ей еще час или два работы: она будет завершать работу только к девяти утра и ложиться в 10.30. Вот почему я стараюсь препятствовать этому.
Любые дурные мысли о Матери или швыряние в нее нечистот могут повредить ее телу, поскольку она включила садхаков в поле своего сознания; и она не может направить все это обратно, чтобы не повредить им.
Хотя Мать и удалилась от дел, ее рука все еще чувствовалась в управлении ашрамом. На доске объявлений висели сообщения о вспышке холеры в Мадрасе (обитателей ашрама предостерегали от контактов с людьми из этого города) и призывы воздержаться от болтовни у ворот ашрама; объявления были подписаны буквой «М», уверенно выведенной в виде прихотливого зигзага. А ашрам являлся только частью Общества Ауробиндо. Пондишери уже растворился среди остальной южной Индии; похоже, даже французский язык вышел из обращения. Но многочисленные здания Общества, поддерживавшиеся в хорошем состоянии, сообщали этому месту атмосферу маленького французского городка, перенесенного на тропическое побережье. Стены обращали незрячие, закрытые ставнями окна к солнцу, мощно сиявшему над бесновавшимся прибоем; и стены зданий, принадлежавших Обществу, были выкрашены в цвета Общества. Казалось, только Общество и процветает в Пондишери. Оно владело поместьями за пределами города; у него имелись мастерские, библиотека, собственная типография. Это была самодостаточная организация, успешно управлявшаяся своими членами. Их численность возрастала только за счет вербовки — и в самой Индии, и за границей, потому что Мать, как мне сказали, была решительно против трех вещей: политики, табака и секса. Дети, приезжавшие в ашрам вместе с родителями, подрастая, обучались разным ремеслам; вожаки носили особую форму одежды, и мне показалось, что в их очень коротких шортах просматривается французское влияние. Работа была так же важна, как и медитация; физического труда тоже не следовало чуждаться. (Позже, в Мадрасе, один англичанин рассказал мне, что, увидев однажды в Пондишери группу странно одетых пожилых европейцев на роликовых коньках, он отправился за ними следом и оказался у ворот ашрама. Но, возможно, это была просто выдумка. Я видел в ашраме только одного европейца. Он был босой и очень розовый; ходил в дхоти и индийском пиджаке; длинные седые волосы и борода придавали ему сходство с покойным Учителем.) Набирая новых членов из-за границы, Общество пополнялось свежей кровью; извлекая пользу из их высокоразвитых способностей, оно процветало.
Нынешний генеральный секретарь, например, был бомбейским предпринимателем до того, как удалился в ашрам и принял имя Наваджата — «Новорожденный». Внешне он и сейчас походил на предпринимателя. В руках у него был портфель, он явно куда-то торопился. Однако сказал, что никогда раньше не был так счастлив.
— Мне пора, — сказал он. — Мне нужно пойти повидаться с Матерью.
— Скажите мне: Мать говорила что-нибудь о китайском вторжении?
— 1962 — плохой год, — торопливо заговорил он. — 1963 год тоже будет плохим. Дела начнут поправляться в 1964 году, а в 1967 году Индия преодолеет все трудности. А теперь мне пора.
* * *
Я видел этого молодого человека уже несколько недель кряду. Я принимал его за бизнесмена-стажера французского или итальянского происхождения. Он был высокий и худой, носил темные очки, портфель, ходил размашистой, вертлявой походкой. Он всегда выглядел уверенным и целеустремленным, но меня удивляло: отчего у него столько свободного времени? Я видел его на автобусных остановках в самые неожиданные часы. В дневное время я видел его в музеях. По вечерам я видел его на танцевальных представлениях. Мы часто проходили рядом по улице. А потом — часть загадки разрешилась, когда однажды утром, к взаимному изумлению, мы увидели друг друга в коридоре верхнего этажа гостиницы: я обнаружил, что он живет в номере по соседству с моим.
Он удивлял и смущал меня. Но, сам того не зная, я доставлял ему огорчение. Мадрасцы обычно не приглашают к себе домой; какое бы высокое положение они ни занимали, они наносят визиты сами. И я каждый день часами просиживал у себя в номере, принимая гостей, а «бои» постоянно приносили кофе для моих новых посетителей. Наверное, именно эти компанейские звуки болтовни и звяканья кофейных ложечек выводили моего соседа из себя. Однажды утром мы одновременно вышли из своих комнат. Не глядя друг на друга, мы запирали двери. Потом мы обернулись. Поглядели друг другу в глаза. И вдруг на меня обрушился стремительный поток американской речи — поток, не остановившийся даже для встречного приветствия.
— Как поживаете? Вы давно тут? Я в ужасном состоянии. Я здесь уже полгода и за это время потерял семь килограммов. Я ощутил зов Востока — ха-ха! — и приехал в Индию, чтобы изучать древнеиндийскую философию и культуру. Я схожу с ума. Как вам эта гостиница? По-моему,
жуть.
— Он сгорбил плечи. — Эта еда! — Двигая челюстями, он ударил себя ладонью по темным очкам. — Я от нее
слепну. Все эти люди! Они
чокнутые. Они никого не принимают. Помогите мне. У вас в номере вечно толкутся разные люди. Вы знаете здесь разных англичан. Расскажите им обо мне. Познакомьте меня с ними. Может, они меня примут? Вы должны мне помочь.
Я обещал, что постараюсь.
Первый человек, с кем я заговорил об этом, сказал:
— Ну, не знаю. Опыт подсказывает мне, что лучше держаться подальше от таких людей, которые вдруг ударяются в духовность — например, откликаются на зов Востока.
Больше я ни с кем не пытался говорить на эту тему. И теперь я боялся встречаться с тем молодым американцем. Но больше я его не видел. Восстановилось железнодорожное сообщение между Мадрасом и Калькуттой, которое надолго прервалось из-за наводнений и переброски войск.
* * *
На некоторых вагонах желтой краской было выведено:
Женщины. На других — их было гораздо больше — мелом было написано:
Военные. Это смотрелось очень неправдоподобно: целые поезда, набитые солдатами, ехавшие через все горести Индии на север, к бедствию на границе. Эти солдаты в оливково-зеленой форме, такие миловидные и воспитанные, и их офицеры с усами и тросточками совершенно преображали вокзальные перроны, у которых мы останавливались: они сообщали этим платформам драматизм и порядок. А для них как утешительна, наверное, была эта знакомая, готовая вот-вот пропасть из виду, убогая обстановка! Пухлый маленький майор, ехавший в моем купе (воду он вез в бутылке из-под шампанского), держался очень спокойно после расставания с женой и дочерью на Мадрасском центральном вокзале: там все трое просто тихо сидели рядышком. Теперь, по мере путешествия, его лицо прояснялось; он начал задавать мне типичные индийские вопросы: откуда я, чем я занимаюсь? Солдаты тоже повеселели. Как-то раз поезд остановился рядом с полем сахарного тростника. Один солдат выскочил и принялся срезать ножом стебли. Выпрыгнули еще несколько солдат и тоже стали срезать тростник. Появился сердитый крестьянин. Ему сунули денег, и гнев сменился улыбками и маханием на прощанье, когда наш поезд снова тронулся.
Близился вечер, и рядом с нами мчалась тень от поезда. Закат, сумерки, ночь; одна тускло освещенная станция за другой. Это было обычное путешествие по индийской железной дороге, но все, что прежде казалось бессмысленным, теперь, когда над этим нависла угроза, казалось достойным заботы и любви; и пока в мягком солнечном свете зимнего утра мы подъезжали к зеленой Бенгалии, которую мне давно хотелось увидеть, мое отношение к Индии и ее народу смягчилось. Оказывается, я многое принимал как должное. Там, среди пассажиров-бенгальцев, вошедших в поезд, был один человек — в длинном шерстяном шарфе и в коричневом твидовом пиджаке, надетом поверх бенгальского дхоти. Под стать небрежной элегантности этого наряда было его лицо с тонкими чертами и расслабленная поза. При всем этом убожестве и человеческом разложении, при всех взрывах зверской жестокости, Индия порождала множество красивых и изящных людей, которые вели себя изысканно-учтиво. Порождая жизнь в избытке, она отрицала ценность жизни; и вместе с тем, она награждала очень многих неповторимой человеческой личностью. Нигде больше люди не казались такими сильными, обкатанными и индивидуалистичными; нигде больше они не предлагали себя с такой полнотой и уверенностью. Узнавать индийцев значило радоваться людям как людям; каждая встреча становилась событием. Я не хотел, чтобы Индия пошла на дно; одна мысль об этом причиняла боль.
Вот в каком настроении я гулял по Калькутте — «кошмарному опыту» мистера Неру, по «самому жалкому городу мира», согласно одному американскому журналу, по «чумному чудовищу», как его назвал другой американский писатель, по последнему в мире оплоту азиатской холеры, согласно Всемирной организации здравоохранения. В этом городе, строившемся когда-то для двух миллионов жителей, теперь шесть миллионов жили на тротуарах и в тру-щоба
х-басти.
«Чуха», — ласковым голосом проговорил официант в ресторане на станции Хоура и показал пальцем. «Глядите, крыса». И розовая, безволосая тварь, на которую почти не обратили внимания ассамский солдат и его жена (оба продолжали со смаком поедать рис с рыбой в соусе карри), лениво прошлась по кафельному полу и забралась на трубу. Это было обещанием ужаса. Но ничто из того, что я читал или слышал, не подготовило меня к красно-кирпичному городу, раскинувшемуся по другую сторону моста Хоура: если не обращать внимания на ларьки, на рикш и на толпы спешащих людей в белых одеждах, то с первого взгляда он казался двойником Бирмингема. А потом, в центре, уже в сумерках, он походил на Лондон: мглистый, в кляксах деревьев, Майдан напоминал Гайд-Парк; Чоунрингхи казался помесью Оксфорд-стрит, Парк-лейн и Бейсуотер-роуд — со смазанными из-за тумана неоновыми огнями, зазывавшими в бары, кофейни и в воздушные путешествия; а неподалеку — шире и грязнее Темзы — текла Хугли. С высокой, освещенной прожекторами трибуны посреди Майдана генерал Кариаппа, бывший главнокомандующий — с прямой спиной, в темном костюме, — обращался к малочисленной праздной толпе с речью на хиндустани (с сандхерстским
[82] выговором) о нападении китайцев. А повсюду вокруг тащились со скоростью меньше 20 километров в час остроносые, выкрашенные шаровой краской калькуттские трамваи, плотно набитые у входов и выходов людьми в белом. Здесь — неожиданно, впервые в Индии — ты оказывался в большом городе, в узнаваемой метрополии с именами улиц — Элгин, Линдсей, Алленби, — которые не имели ни малейшего отношения к людям, заполонявшим эти улицы; эта несообразность лишь усугублялась по мере того, как туман сгущался в смог и, выезжая в пригороды, ты замечал среди пальм дымящиеся фабричные трубы.
Это был город, который — если верить базарным слухам — Чжоу Эньлай
[83] обещал преподнести китайскому народу как рождественский подарок. Говорили, что индийские марварские купцы уже узнают о возможности развития торговли при китайском правлении; та же молва уверяла, что на Юге мадрасцы, несмотря на их возражения против хинди, уже учили китайский. Боевой дух был низок; администрация Ассама потерпела крах, и тут рассказывали о побегах и панике среди чиновников. Но город нагонял тоску не только поэтому. Калькутта была мертва — и китайцы тут совершенно не при чем. Раздел лишил ее половины пригородов и обременил несметным количеством угнетенных беженцев. Даже сама Природа взбунтовалась: река Хугли постепенно заиливалась. Но смерть Калькутты
затрагивала самую ее душу. Помимо всего этого скудного блеска, мерзости и перенаселенности, грязных денег и опустошения, здесь присутствовала всеобщая индийская трагедия и ужасный британский провал. Ведь именно здесь англо-индийский союз некогда обещал принести плоды. Здесь начиналось индийское возрождение: многие индийские реформаторы были бенгальцами. Но здесь же этот союз и закончился взаимным разочарованием и разрывом. Перекрестного оплодотворения не произошло, и индийская энергия прокисла. Некогда Бенгалия, полная идей и идеализма, возглавляла Индию; теперь же, всего сорок лет спустя, слово «Калькутта» приводило в ужас даже индийцев, потому что вызывало в воображении толпы, холеру и коррупцию. Здешние эстетические порывы еще не угасли (каждый бенгальский сувенир, каждое изделие жестоко эксплуатируемых ремесленников-беженцев по-прежнему отличала особая чуткость к красоте), но они лишь жалостно подчеркивали общий фон упадка и разложения. В Калькутте не осталось больше лидеров, и кроме кинорежиссера Рэя и фотографа Джаны
[84], здесь не было известных людей. Калькутта отошла от индийского эксперимента, как отходила от него — область за областью, личность за личностью — вся Индия. Британцы, построившие Калькутту, всегда были отдалены от своего детища; и они-то как раз выжили. Их фирмы по-прежнему процветали на Чоурингхи; а для сидящих теперь в кондиционированных офисах индийцев — вот он продукт индийского возрождения — Независимость означала лишь одно: возможность отдалиться, на манер британцев, от Индии. Что же тогда осталось от Индии? Что возбуждало такой интерес, такую тревогу? Может быть, осталось одно только слово, одна идея?
* * *
Из окна поезда Дургапур, новый стальной город, казался расплывшимся пятном из множества огоньков. Я вышел в коридор и смотрел на это пятно, пока оно не исчезло. Такая маленькая надежда — и легко было представить себе, что эти огоньки погасли. В ту ночь пала Бомдила. Теперь путь в Ассам был открыт; мистер Неру утешал жителей штата словами, которые уже походили на беспомощное соболезнование. В Бенаресе с поезда сошли тибетские беженцы. Их широкие, румяные лица растерянно улыбались; никто не понимал их языка, и они нерешительно стояли рядом со своими сундуками — длинноволосые, немного нелепые в своих громоздких обмотках, от грязи приобретших цвет хаки, в башмаках и шляпах. Гостиница пустовала: все внутренние авиарейсы были отменены. Молодой управляющий в темном костюме и слуги в униформе молча и праздно стояли на веранде. Во мне шевельнулось нечто вроде базарного духа, предприимчивости военного времени: я стоял на лестнице и торговался. Успех бросился мне в голову. «Это — включая утренний кофе», — сказал я. «Да, — уныло ответил управляющий, — включая кофе».
Здесь, в районе казарм, Бенарес выглядел покинутым, и нетрудно было представить себя непрошеным захватчиком. Но ничто в городе не намекало на трагедию. На гха-тах высокими кучами лежали бревна. Закутанные в яркие пелены тела покоились на устланных цветами носилках у кромки воды, буднично ожидая сожжения; а то здесь, то там над пламенем со странной небрежностью улыбались и болтали кучки родственников, не очень четко просматриваемые в отраженном блеске Ганга. Крутые гхаты, устроенные в виде площадок и ступенек, с названиями, надписанными крупными буквами, были заполнены народом, как пляж в пору отпусков. Благочестивые стояли в воде, отдыхали под пляжными зонтиками или сидели кучками, собравшись вокруг толкующего премудрости пандита; молодые люди занимались гимнастикой. Наверху, за высокой речной набережной, в кривых переулках, — погруженных в темноту между прочными каменными стенами и не лишенных обаяния, если не считать коровьего помета, — лоточники продавали бенаресские безделушки, шелковые и медные; а в храмах проводники-жрецы — молодые, вымытые и причесанные — жевали бетель и осыпали руганью тех, кто не подавал им милостыни.
Я отправился в непальский храм, «изуродованный», как сказано в
«Туристическом справочнике» Мюррея, «эротическими рельефами; они не бросаются в глаза, их можно вовсе не заметить, если не позволять служителю нарочно показывать их». Служителем был юноша с длинным хлыстом; я попросил его показать рельефы. «Вот мужчина и женщина, — начал он равнодушно. — Вот еще один мужчина. Это мистер Скорее, потому что он говорит: „Скорее! Скорее!“» Прибаутки для туристов: этот глянец мне не понравился. Радости эротического искусства хрупки; я пожалел, что не последовал совету Мюррея.
За обедом я попросил молодого управляющего включить радио, чтобы послушать новости. Как и можно было ожидать, дела были плохи. Управляющий, заложив руки за спину, глядел вниз: даже в горькие минуты он сохранял лицо. А потом меня насторожило упоминание «китайской пограничной охраны».
— Мы же слушаем Пекин, господин управляющий.
— Это радиостанция «Вся Индия». Я всегда ее слушаю.
— Только китайцы и радио Пакистана говорят о китайской пограничной охране.
— Но новости же по-английски. И акцент… Да и слышимость очень хорошая.
Действительно, слышно было хорошо, будто говорили близко; радиоголоса звучали все громче и четче. Мы пробовали настроиться на Нью-Дели, но услышали только скрипы, помехи и слабый, пропадающий голос.
А на следующий день все закончилось. Китайцы объявили прекращение огня и пообещали уйти. И, словно по мановению волшебной палочки, гостиница начала заполняться.
* * *
Военные действия закончились, но чрезвычайное положение сохранялось, и обязанность этого уполномоченного состояла в том, чтобы объезжать свой округ для поддержания боевого духа и сбора средств. Он уже завершил одну поездку, и ему преподнесли в подарок альбом с фотографии, на большинстве которых был заснят он сам — принимающим и принимаемым. Я сидел в глубине кузова его универсала и листал фотоальбом. Мы ехали по индийской дороге: тонкая полоска покрытого гравием шоссе тянулась между двумя земляными дорогами, истертыми в тонкую пыль колесами воловьих повозок. Это была индийская пыль: она обезображивала деревья, высаженные вдоль дороги, обесцвечивала поля на расстояние в сотню метров с обеих сторон. А вдоль этого маршрута, на остановках в пыли, нас ждали приемные комитеты с гирляндами, демонстрация физической ловкости и примитивные выставки грубых изделий местной мануфактуры.
Уполномоченного очень интересовали мыло и обувь, и в каждом месте, где мы останавливались, бородатые обувщики-мусульмане стояли возле своей обуви, а мыловары — возле своих тяжелых, неправильно сформованных кусков мыла. Однажды вечером за ужином уполномоченный, одетый в темный костюм, объяснил, отчего его так занимает мыло и обувь. Его голос понизился и сделался нежным. Его дочь, сказал он, учится в школе в Англии. Из телепередач или еще откуда-то ее соученики узнали, что в Индии нет городов, что там никто не носит обуви, не живет в домах и не моется. «Это правда, папочка?» — спросила расстроенная девочка. И вот теперь ремесленники округа делали мыло и обувь. Иногда во время приемов уполномоченный разрывал кольцо местных сановников, чтобы подойти к детишкам бедняков, стоявшим по другую сторону дороги. Иногда, пользуясь прерогативой уполномоченного, он брал куски мыла с выставочных лотков и раздавал их детям, а фотографы — готовя в уме очередной альбом — щелкали затворами.
Это была быстрая поездка. Меня поразило, что столь обширный, невзрачный и неуютный район оказался упорядоченным, и что за облаками пыли обнаруживались люди, которые, несмотря на слабый стимул и плохое сырье, все-таки занимались ремеслами. Мне хотелось задержаться подольше, ощутить надежду. Но времени не было. Выставок-представлений было слишком много. Я сидел в самом конце универсала и, всякий раз, как мы делали остановку, выходил последним; часто получалось так, что прежде чем я успевал осмотреть первый экспонат, уполномоченный и его чиновники уже снова сидели в машине и ждали меня: поскольку я выходил последним, залезать обратно мне нужно было первым.
На митингах мы проводили больше времени. Там под солнцем собирались худосочные мальчики в белых шортах и майках, готовые проделать гимнастические упражнения. Там были сооружены арки с надписью ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! на хинди. Там уполномоченного увешивали гирляндами. Индийский политик, когда на него вешают гирлянду, сразу же снимает ее и передает помощнику; такое принятие и мгновенный отказ от достоинства — это обычная индийская практика. Но уполномоченный не снимал с себя гирлянд. Мягкие цепи из головок бархатцев одна за другой ложились ему на шею, пока наконец бархатцы не дошли до ушей и со спины он не начал походить на идола, вооруженного нелепыми предметами: в одной руке — зажженная сигара, в другой — тропический шлем. Его помощник стоял неподалеку. Он держал сигарную коробку своего начальника и был выряжен вельможей при могольском дворе: так британцы поглумились над своими предшественниками.
В нарядной палатке сидели на циновках крестьяне. Для чиновников приготовили стулья и стол. Зачитывали имена, и крестьяне поднимались, подходили к уполномоченному, кланялись и жертвовали бумажные рупии в Фонд национальной обороны. (По мере того как в районе разбухал Фонд, народные сбережения, как сказал мне чиновник ИАС, таяли). Некоторые женщины со скромным видом жертвовали свои украшения. Иногда на названное имя никто не откликался, и тогда изо всех углов палатки слышались объяснения: умер (погиб от рук человека или от лап зверя), заболел, неожиданно уехал. На подносе вырастала шаткая горка из денег, и все небрежно перебирали их.
Потом уполномоченный произносил речь. Чрезвычайное положение еще не закончилось, вовсе не закончилось: китайцы по-прежнему остаются на священной земле Индии. Народ Индии слишком долго учили миру и ненасилию. Теперь настало время подняться против врага. Уполномоченный добивался своей цели, вначале взывая к патриотизму крестьян, а затем анализируя характер китайской угрозы. По любым индийским меркам, китайцы были нечистым народом. Они едят говядину: этот довод предназначался слушателям-индусам. Они едят свинину: это — для мусульман. Они едят собак: это — для всех. Они едят кошек, крыс, змей. Крестьяне сохраняли невозмутимость; они оживились лишь тогда, когда уполномоченный, разыгрывая последнюю карту, воззвал к индуистской богине разрушения.
При уполномоченном находился заводила-профессионал — высокий пожилой мужчина в старом двубортном сером костюме. На нем были очки и тропический шлем — в точности такой, как у уполномоченного. Этот человек непрерывно жевал бетель; у него был большой рот с вислыми, выпачканными красным соком губами. Его лицо было лишено всякого выражения; казалось, он все время что-то подсчитывает в уме. Поправив очки, он с секретарским видом подошел к микрофону и молча встал перед ним. Потом неожиданно разинул свой огромный красный рот, обнажив пустоты между зубами и кусочки изжеванного ореха бетеля, и закричал:
—
Кали Мата ки —
— Джай! — прокричали в ответ крестьяне; у них заблестели глаза, а с лиц не сходили улыбки. — Да здравствует Мать Кали!
— Что же это такое? — проговорил помощник уполномоченного. — Я ничего не расслышал. — Это была его коронная фраза: он говорил ее на каждой встрече. — Давайте попробуем снова, и на сей раз я хочу вас услышать.
Кали Мата ки —
—
Джай! Джай! Джай!
Один, два, три раза призывали они имена богинь, и воодушевление в народе нарастало. А потом помощник резко развернулся, возвратился на свое место, решительно уселся, хлопнув себя тропическим шлемом по коленям, уставился прямо перед собой и, принявшись жевать зубами и губами бетель, заново погрузился в умственные арифметические вычисления.
Если слушателей оказывалось слишком мало, уполномоченный выражал недовольство, отказываясь произносить речь или уезжать. Тогда чиновники и полицейские с виноватым видом суетились; они созывали крестьян с полей и из домов, строем выводили детей из школы. Зато на вечерние концерты всегда собиралось достаточно зрителей. Певцы, пользовавшиеся местной популярностью, жевали бетель и исполняли собственные песни о китайском вторжении перед микрофонами, обернутыми в тряпочки — для защиты от брызг слюны, окрашенной бетелем. Звучали скетчи о том, что необходимо спасать родину, выращивать больше еды, делать взносы в Фонд национальной обороны и сдавать кровь. Пару раз один тщеславный драматург представил местного героя, погибавшего в сражении с китайцами; и становилось ясно, что никто в деревне не имеет ни малейшего понятия о том, как выглядят китайцы.
Из вагона поезда, с пыльных автомобильных дорог Индия казалась страной, взывавшей только к жалости. Испытывать жалость было легко, и, пожалуй, индийцы были правы: сострадание вроде моего, на поддержание которого уходило столько усилий, отказывало многим в праве быть людьми. Это чувство разъединяло; оно-то и оборачивалось потом удивлением и волнением, которое настигало меня во время таких концертов — простейших доказательств человеческого духа. Гнев, сострадание и презрение оказывались разными гранями одной и той же эмоции; они не имели ценности, потому что не могли длиться долго. Успех мог начаться только с примирения.
Сейчас мы приехали в область, которая — хотя внешне ничем не отличалась от соседних районов, — славилась своими солдатами. Может быть, причиной тому было какое-то давнее смешение кровей, сохраненное в силу кастовых законов? Или упорное давление раджпутов? В Индии полно подобных загадок. Здесь собралась слишком многочисленная толпа, ей не хватало места в палатке. Некоторые пришли в форме и со знаками отличия. Заводила-профессионал вывел орденоносцев из толпы и усадил их особо — на скамье у края палатки. Но парочка этих ветеранов предпочла не сидеть, а медленно расхаживать взад-вперед по дороге, пока уполномоченный произносил речь. До сих пор уполномоченный выступал перед людьми, которые испытывали легкое раздражение и недовольство из-за того, что их оторвали от полевых работ или помешали бездельничать дома. Но здешняя толпа оказалась внимательной с самого начала. Старики-ветераны пристально глядели на уполномоченного, и отклик на каждое его заявление отражался на их лицах. Китайцы едят свинину. Брови хмурились. Китайцы едят собак. Брови собирались в еще более глубокие складки. Китайцы едят крыс. Глаза вылезали из орбит, головы вскидывались, будто от удара.
Не успел уполномоченный договорить, как из толпы выбежал какой-то мужчина и со слезами бросился к его ногам.
Толпа немного расслабилась, люди заулыбались.
— Встань, встань, — проговорил уполномоченный, — и объясни, в чем дело.
— Вы просите меня воевать, и я хочу воевать. Но как же я буду воевать, если мне нечего есть, если моей семье нечего есть? Как я могу воевать, если у меня отобрали землю?
В толпе послышались смешки.
— У тебя отобрали землю?
— При переселении.
Уполномоченный что-то сказал заводиле-профессионалу.
— Всю мою хорошую землю, — плакал тот человек, — отдали другим. А мне дали только негодную землю.
Кое-кто из ветеранов рассмеялся.
— Я разберусь в этом, — сказал уполномоченный.
Толпа расходилась. Плакавший мужчина исчез; смешки, сопровождавшие его бурную жалобу, утихли; и мы отправились пить чай, приготовленный для нас старостой, человеком очень немногословным.
В тот же вечер состоялся очередной концерт. Его организовал местный учитель. Он вышел на сцену под конец представления и сказал, что сочинил новое стихотворение, которое прочтет, если позволит господин уполномоченный. Уполномоченный вытащил сигару изо рта и кивнул. Учитель поклонился, а потом — прочувствованным тоном, со страдальческими жестами — принялся декламировать. Простые рифмы на хинди сыпались одна за другой, будто заново изобретенные; учитель читал все яростнее и яростнее, приближаясь к кульминации — которая оказалась мольбой о наступлении на земле прочного царствия
…сатья ахимса.
Он снова поклонился, ожидая аплодисментов.
—
Сатья ахимса! — прокричал уполномоченный, руки которого, уже приготовившиеся захлопать, так и замерли в воздухе. — Ты с ума сошел? «Истина и ненасилие», нечего сказать! Так-то ты проповедуешь, когда китайцы собираются изнасиловать твою жену? Значит, сегодня я напрасно сотрясал воздух? Вот типичный образец путаницы в мозгах!
Поэт, замерший в поклоне, весь съежился. Занавес безо всяких церемоний свалился ему на голову.
Несчастный поэт! Он-то предвкушал прекрасное вечернее выступление. Он сочинил антикитайские стихи и песни о Родине; но когда дело дошло до его собственного стихотворения — того, что он хотел прочитать сам, — он потерял голову. Он годами декламировал под всеобщие аплодисменты стихи об истине и ненасилии. Привычка оказалась сильнее его самого — и это обернулось публичным позором.
* * *
Спустя несколько недель мистер Неру приехал в Лакхнау. Стоя на бетонированной площадке в аэропорту, он сорок шесть раз наклонил голову, чтобы получить гирлянды от сорока шести членов государственного кабинета. Во всяком случае, так мне рассказывал один служащий ИАС в Лакхнау, а он был немного раздражен. ИАС, действуя согласно инструкциям из Дели, взялась за гражданскую оборону в Лакхнау всерьез. Там устраивали и затемнения, и воздушную тревогу; там рыли окопы; им было что показать мистеру Неру. А мистер Неру только рассердился. Все это рытье окопов, заявил он, — пустая трата времени.
В некотором смысле, чрезвычайное положение осталось позади.
11. Деревня Дубов
Чрезвычайное положение осталось позади. Подошел к концу и мой год. Короткая зима быстро сходила на нет; уже не было так приятно сидеть под лучами солнца; было ясно, что пыль теперь не уляжется до прихода муссонов. Оставалась только одна поездка — а к ней я заранее охладел. Индия так и не околдовала меня. Она так и осталась страной из моего детства — территорией тьмы; подобно гималайским перевалам, она заново скрывалась от меня, стоило мне только отойти в сторону, и превращалась в мифическую землю; казалось, она существует в некоем вневременном пространстве, какое и представлялось мне в детстве, и в которое, как я понимал, — несмотря на то, что сейчас я ступал на настоящую индийскую землю, — мне не проникнуть никогда.
За год я так и не научился примирению. Я примирился только со своей обособленностью от Индии, примирился со своей участью колониального жителя — без прошлого, без предков. Одно лишь чувство долга гнало меня в этот городок на востоке Уттар-Прадеша, даже не украшенный руинами, знаменитый лишь связью с Буддой и отсталостью. И после нескольких дней, полных нерешительности, праздности и чтения, то же чувство долга заставило меня поехать по деревенской дороге, кишевшей равнодушными к колесному транспорту крестьянами, в деревню, откуда шестьдесят с лишним лет назад уехал, чтобы стать рабочим по найму, мой дед.
Когда едешь по некоторым областям западной и центральной Индии, даешься диву: где же многомиллионное население? Жилых построек здесь было мало, а коричневая земля выглядела бесплодной и заброшенной. Здесь тебя поджидало совсем другое чудо. Земля расстилалась ровной гладью. Высокое голубое небо было начисто лишено драматизма; под ним все казалось преуменьшенным. Куда ни посмотри, повсюду выглядывали деревушки — плоские, расплывчатые в пыли, смотревшиеся наростами на земле и едва возвышавшиеся над ней. Каждое облачко пыли вблизи оказывалось крестьянином; а цель моя все еще была далека.
На пересечении дорог мы посадили в машину человека, вызвавшегося стать нашим проводником, и свернули на набережную, представлявшую собой сплошную пыль. Вдоль нее росли высокие старые деревья. Наверняка мои дед проходил под ними в начале своего долгого путешествия. Я невольно ощутил отчуждение. Для нас эта земля перестала существовать. Сейчас она была такой будничной. По правде говоря, мне больше ничего не хотелось видеть. Я боялся того, что встречу впереди, к тому же, рядом были свидетели. «Не эта, не эта», — кричал наш проводник, взволнованный и моей миссией, и своим неожиданным катанием на джипе, и одна деревня за другой исчезали в пыли. Наконец он указал: вон там, справа, находится деревня Дубов.
Она была удалена от набережной. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Большая манговая роща придавала деревне пасторальный вид, а над темно-зеленой листвой торчали два ярко-белых шпиля. Я знал об этих шпилях и обрадовался, увидев их. Мой дед стремился восстановить положение семьи, которую оставил в Индии. Он выкупил их землю; он дал им денег на постройку храма. Храм так и не построили — только три святилища. Нищета, беспомощность, думали мы тогда на Тринидаде. Но теперь я глядел на эти шпили с дороги, и какую надежду они вселяли!
Мы вышли из джипа и зашагали по растрескавшийся земле. Высокие ветвящиеся манговые деревья отбрасывали тень на искусственный пруд, и почва под рощей пестрела солнечными бликами. Вышел какой-то мальчик. Его худое тело было обнаженным, если не считать дхоти и священной нити. Он поглядел на меня с подозрением — наша компания была многочисленной и выглядела устрашающе-официально, — но когда чиновник ИАС, сопровождавший нас, объяснил, кто я такой, мальчик вначале попытался обнять меня, а потом дотронуться до моих ног. Я высвободился, и он повел нас по деревне, одновременно рассказывая о сложном родстве, которое связывало его с мои дедом и со мной. Он знал про моего деда все. Для этой деревни то давнее событие еще сохраняло важность: мой дед уехал далеко за море и заработал
барра пайса, много денег.
Год назад меня бы ужаснуло то, что я здесь увидел. Но я уже успел многого насмотреться. Эта деревня выглядела чрезвычайно благополучной; она была даже живописна. Многие дома были сложены из кирпича, некоторые высоко поднимались над землей, у некоторых домов имелись резные деревянные ворота и черепичные кровли. Улицы были вымощены и чисто выметены; я заметил бетонную поилку для скотины. «Брахманская деревня, брахманская деревня», — шептал ИАСовец. Женщины, одетые в простые белые сари, не носили покрывал и выглядели привлекательно. Они открыто разглядывали нас, и в чертах их лиц я уловил сходство с женщинами из моей семьи. «Брахманские женщины, — прошептал ИАСовец. — Очень бесстрашные».
Это была деревня Дубов и Тивари — все они были брахманами, состоявшими в более или менее близком родстве между собой. Человек в набедренной повязке и священной нити совершал омовение: стоял и поливал себя водой из медного кувшина. Как изящна была его поза, каким соразмерным было его стройное тело! Как же сохранилась такая красота среди перенаселенности и запустения? Здесь жили брахманы; они арендовали землю за меньшую цену, чем те, кто мог бы платить меньше. Но, как было написано в
«Географическом справочнике», эта область «изобилует брахманами»; они составляют от 12 до 15 % индусского населения. Быть может, именно поэтому, хотя в деревне всех связывали родственные отношения, здесь явно не было никакой общественной жизни. Мы оставили кирпичные дома позади и, к моему разочарованию, остановились перед маленькой лачугой с соломенной кровлей. Здесь жил Рамачандра, нынешний глава той ветви Дубов, к которой принадлежал мой дед.
Его не оказалось дома. «О! — заохали мужчины и мальчики, которые собрались вокруг нас. — Зачем ему понадобилось куда-то идти именно сегодня?» Но святилища — они сами покажут мне святилища. Они покажут мне, как бережно заботятся о святилищах; они покажут мне имя моего деда, высеченное там на камнях. Они отперли решетчатые двери и показали мне идолов — свежевымытых, свежевыряженных, помазанных свежим сандаловым порошком; принесенные утром цветы еще не успели увянуть. Я мысленно перенесся на много лет назад, всякое ощущение расстояния и времени исчезло: передо мной были точные копии тех идолов, что стояли в молитвенной комнате в дедовом доме.
Послышался плач старухи.
— Какой сын? Какой?
Только несколько мгновений спустя до меня дошло, что старуха произносит английские слова.
— Джуссодра! — сказали мужчины и открыли перед ней дверь.
Она опустилась на корточки и, оставаясь в таком положении, начала приближаться ко мне, плача и скрипуче выкрикивая какие-то слова на английском и на хинди. Ее бледное лицо было растрескавшимся, как высыхающая грязь; серые глаза обволакивала муть.
— Джуссодра все расскажет вам про вашего деда, — сказали мужчины.
Джуссодра тоже была на Тринидаде; она знала моего деда. Нас обоих отвели от святилища к хижине. Меня усадили на одеяло, расстеленное на чарпое, и Джуссодра, сидя на корточках у моих ног, стала излагать родословие моего деда и со слезами пересказывать его приключения, а чиновник НАС переводил мне ее слова. Джуссодра прожила в этой деревне тридцать шесть лет, и за это время она успела отполировать свой рассказ, превратив его в настоящую индийскую
кхису — сказку. Наверняка этот рассказ был всем известен, но все хранили вид торжественного внимания.
Еще молодым человеком (рассказывала Джуссодра) мой дед покинул эту деревню и уехал учиться в Бенарес, как поступали брахманы с незапамятных времен. Но мой дед был беден, его семья бедствовала, и времена были тяжелые; кажется, даже голод свирепствовал. Однажды мой дед повстречал человека, который рассказал ему о далекой стране Тринидад. На Тринидаде жили индийцы — рабочие; там требовались пандиты и учителя. Заработки там высокие, земля дешевая, а доплыть туда можно задаром. Человек, который разговаривал с моим дедом, знал, о чем толкует. Он был
аркатиа — вербовщик; будь времена получше, его бы камнями прогнали вон из деревни, но теперь люди охотно прислушивались к подобным россказням. И вот мой дед подписал контракт на пять лет и отправился на Тринидад. Конечно, его не ждало учительское место; он стал работать на тростниковосахарном заводе. Ему дали комнату, его кормили; вдобавок он получал по 12 анн — 14 пенсов — в день. Это были хорошие деньги — даже сегодня неплохой заработок в этой части Индии: за общественные работы для безработных в районах бедствия правительство платит вдвое меньше. К тому же, мой дед прирабатывал и по вечерам — пандитом. Пандиты, прошедшие обучение в Бенаресе, были на Тринидаде в диковинку, и мой дед пользовался большим спросом. Даже саиб на заводе уважал его, и вот однажды саиб сказал: «Ты — пандит. Не можешь ли ты помочь мне? Я хочу сына». «Хорошо, — ответил мой дед. — Я сделаю так, что у вас появится сын». И когда жена саиба родила сына, саиб так обрадовался, что сказал моему деду: «Видишь эти тридцать
бигха земли? Весь тростник с этой земли — твой». Мой дед собрал этот тростник и продал его за две тысячи рупий, а потом занялся торговлей на эти деньги. Успех притягивал новый успех. Однажды к деду подошел один состоятельный человек, давно уже обосновавшийся на Тринидаде, и сказал: «Я уже давно к вам присматриваюсь. Я вижу, вы далеко пойдете. У меня есть дочь, и я хочу выдать ее за вас. Я дам за нее три акра земли». Моего деда это не заинтересовало. Тогда тот человек сказал: «Я дам вам вагонетку. А вы сможете отдавать эту вагонетку внаймы и немножко зарабатывать на этом». Так мой дед женился. Дела у него шли в гору. Он построил два дома. Вскоре он настолько разбогател, что вернулся сюда, в эту деревню, и выкупил двадцать пять акров земли, принадлежавших его семье. А потом он опять отправился на Тринидад. Но он был неугомонным человеком. Прошло время, и он решил снова наведаться в Индию. «Возвращайся скорее», — сказали ему родные. (Эти слова Джуссодра произнесла по-английски; «вагонетку» она тоже назвала по-английски.) Но мой дед так и не увидел больше Тринидада. В поезде, по дороге в Калькутту, он заболел — и написал своим родным: «Солнце заходит».
Окончив рассказ, Джуссодра продолжала плакать, и никто не шевелился.
— Что мне нужно сделать? — спросил я у чиновника ИАС. — Она очень стара. Если я предложу ей денег, она обидится?
— Напротив, — возразил тот. — Дайте ей немного денег и попросите устроить
каттху — чтение священных текстов.
Так я и сделал.
Потом принесли фотографии — такие же старые и забытые мною, как те идолы; и я снова ощутил, как сдвигаются все понятия времени и места, когда прикоснулся к ним и увидел — посреди бескрайней земли, к которой я сам не был ничем привязан, где мог с легкостью потеряться, — пурпурную печать тринидадского фотографа (с какой ясностью дом по его адресу встал перед глазами), сохранившую свою яркость на фоне выцветающих коричневых фигур, которые в моей пробужденной памяти, казалось, выцвели навсегда, принадлежа лишь воображению и уж никак не действительности вроде этой.
Я приехал сюда неохотно. Я не ожидал ничего хорошего, я испытывал страх. Вся скверна лежала на мне одном.
Кто-то еще хотел меня увидеть. Это была жена Рамачандры — она ждала меня в одной из внутренних комнат. Я вошел. Передо мной согнулась в поклоне закутанная в белое фигура; она ухватила меня за ноги, обутые в «вельдтшены», и заплакала. Она все продолжала плакать, не выпуская моих ног.
— Что мне теперь делать? — спросил я у чиновника НАС.
— Ничего. Скоро кто-нибудь войдет сюда и скажет ей, что не подобает так встречать родственника, что она должна предложить ему пищи. Таков обычай.
Так все и произошло.
Но — пища! Хотя все эти люди и ошеломили меня, я сохранял колониальное благоразумие. Недавно оно не позволило мне пересыпать все содержимое моего кармана в печальные, морщинистые руки Джуссодры. Теперь оно напоминало мне совет уполномоченного: «Если еда приготовлена на огне, можете рискнуть. Но к воде не прикасайтесь ни в коем случае». А уж он-то был уроженцем этой страны! Итак: не надо еды, сказал я. Я не очень здоров и сижу на диете.
— Тогда выпейте воды, — сказала жена Рамачандры. — Хотя бы воды.
Чиновник ИАС подсказал мне:
— Видите вон то поле? Там растет горох. Попросите сорвать для вас немного гороха.
И мы съели каждый по стручку. Я обещал приехать сюда еще раз; мальчики и мужчины проводили нас до джипа; и я поехал обратно по дороге, которая еще недавно вселяла в меня ужас.
* * *
В тот же вечер, вернувшись в город, в гостиницу, я писал письмо. Сегодняшний день принес мне такое невероятное приключение. Оно исказило мое ощущение времени, и я снова и снова с удивлением осознавал, что нахожусь в этом городе, в этой гостинице в этот час. Передо мной стояли те идолы, те фотографии, те обрывки тринидадского английского, уцелевшие в той индийской деревушке. Письмо не истощило моего парения. Сам процесс его написания выпустил на волю не отдельные воспоминания, а целое забытое настроение. Покончив с письмом, я уснул. Звучала песня, исполнявшаяся дуэтом; поначалу она казалась частью воспоминаний, частью того воскрешенного настроения. Но я слышал ее не во сне; это была явь. Музыка звучала на самом деле.
Tumhin ne mujhko prem sikhaya,
Soté hué hirdaya ko jagaya.
Tumhin ho roop singar balam.
«Ты придал моей любви смысл.
Ты пробудил мое спящее сердце.
Моя красота — это ты, возлюбленный мой,
Мои драгоценности — это ты».[Перевод на английский выполнен моим другом Али Хасаном из индийского отдела Би-Би-Си. (Прим. авт.)]
Было утро. Песня доносилась из магазина с другой стороны улицы. Это была песня конца тридцатых годов. Я не слышал ее уже много лет, и до этого мгновенья не вспоминал о ней. Я даже не понимал значения всех слов; но я их и раньше не понимал. Это был чистый порыв настроения — и в эти мгновенья между сном и пробуждением оно воскресило для меня утро в совсем другом мире, воссоздававшем здешний, который продолжал жить собственной жизнью. В тот же день, прохаживаясь по базару, я видел перед собой фисгармонии (одна из таких, сломанная и забытая, лежала в доме моей бабушки, как часть безвозвратного прошлого), барабаны, печатные станки для набивных узоров, медную утварь. Я вновь и вновь испытывал такое чувство, будто время улетучилось, это тревожное, но будоражащее чувство удивления перед собственным материальным «я».
В парикмахерской, куда я зашел побриться и где никак не мог допроситься горячей воды, моему парению пришел конец. Я опять превратился в брюзжащего путешественника. Солнце стояло высоко; оно выжгло последние следы слабой утренней прохлады.
Я возвратился в гостиницу и обнаружил у своей двери какого-то нищего.
—
Къя чахийе? — спросил я на своем плохом хинди. — Что вы хотите?
Он взглянул на меня. Голова у него была обрита, кроме пучка на макушке, лицо тощее, глаза горели. Мое нетерпение мгновенно переросло в тревогу. Монах, подумал я, монах: я как раз читал
«Братьев Карамазовых».
— Я — Рамачандра Дуб, — сказал он. — Я вас вчера не увидел.
Я представлял себе его менее заискивающим, менее чахлым. Попытка улыбнуться не добавила его лицу теплоты. В углах губ собралась слюна — белая и вязкая.
В гостинице жило несколько кадетов ИАС. Трое из них подошли, чтобы выступить переводчиками.
— Я искал вас целый день, — сказал Рамачандра.
— Скажите ему, что я благодарен ему, — ответил я. — Но в этом не было нужды. Я же сказал там, в деревне, что еще вернусь. А впрочем, спросите у него, как он меня разыскал. Я ведь не оставлял своего адреса.
Он прошел несколько километров пешком; потом доехал до города на поезде; потом он обратился в секретариат и стал расспрашивать про чиновника НАС, который сопровождал человека с Тринидада.
Пока кадеты переводили, Рамачандра улыбался. Теперь я увидел, что его лицо — лицо не монаха, а скорее человека, страдающего от крайнего истощения; его глаза горели от болезни; он был болезненно худ. Он держал большой белый мешок и теперь с усилием перевалил его на мой стол.
— Я принес вам рис, выращенный на земле вашего деда, — сказал Рамачандра. — А еще я принес вам
прасад — приношение из святилища, выстроенного вашим дедом.
— Что мне делать? — спросил я у кадетов. — Мне не нужно 14 килограммов риса.
— Он и не просит вас взять все. Возьмите несколько зерен. Но прасад возьмите весь.
Я взял несколько зернышек плохого риса, взял прасад — грязновато-серые шарики твердого сахара, — и положил их на стол.
— Я искал вас целый день, — сказал Рамачандра.
— Знаю.
— Я шел пешком, потом ехал на поезде, а потом бродил по городу и расспрашивал про вас.
— Благодарю вас за проявленную заботу.
— Я хочу встретиться с вами. Я хочу принять вас в своей бедной хижине и угостить вас.
— Я приеду в деревню через несколько дней.
— Я искал вас целый день.
— Знаю.
— Я хочу принять вас в своей бедной хижине. Я хочу поговорить с вами.
— Мы поговорим, когда я приеду в деревню.
— Я хочу увидеться с вами. Я хочу поговорить с вами. Я хочу сказать вам что-то важное.
— Мы поговорим, когда придет время.
— Хорошо. Сейчас я покину вас. Я искал вас весь день. Я хочу сказать вам что-то важное. Я хочу принять вас в своей бедной хижине.
— Я больше не могу все это слышать, — сказал я кадетам ИАС. — Попросите его уйти. Поблагодарите его и так далее, но попросите его уйти.
Один из кадетов передал то, что я сказал, добавив от себя много вежливых слов и выражений.
— Теперь мне пора уходить, — ответил Рамачандра. — Мне нужно добраться в деревню до темноты.
— Да-да, вам нужно вернуться домой до темноты.
— Но как я смогу поговорить с вами в деревне?
— Я привезу переводчика.
— Я хочу принять вас в своей бедной хижине. Я потратил целый день, чтобы разыскать вас. В деревне слишком много людей. Как я смогу поговорить с вами в деревне?
— А почему мы не можем поговорить в деревне? Неужели нам не удастся выставить его отсюда?
Кадеты начали подталкивать Рамачандру к двери.
— Я привез вам рис с поля вашего деда.
— Спасибо. Скоро уже стемнеет.
— Я хочу поговорить с вами, когда вы приедете.
— Мы поговорим.
Дверь закрылась. Кадеты ушли. Я улегся на кровать под вентилятором. Потом принял душ. Я вытирался, когда в запертое окно кто-то поскребся.
Это был Рамачандра — он стоял на веранде и пытался улыбаться. Я не стал звать никаких переводчиков. Мне не требовалось ничьей помощи, чтобы понять, что он говорит.
— Я не могу говорить в деревне. Там слишком много людей.
— Мы поговорим в деревне, — ответил я по-английски.
— А теперь возвращайтесь домой. Вы слишком много разъезжаете.
Знаками я убедил его отойти от моего окна. А потом быстро задернул занавески.
* * *
Прошло несколько дней, прежде чем я решился снова съездить в деревню. Поездка началась неудачно. Возникла какая-то заминка с транспортом, и мы смогли выехать только в середине дня. Продвигались мы медленно. В поселке у пересечения дорог был базарный день, и дорога была опасно запружена телегами, которые то ехали справа от шоссе, то без предупреждения перемещались на левую сторону, и их маневры были плохо видны из-за клубов пыли. Пыль была очень густой и непрерывно держалась в воздухе; она окутывала деревья, поля, деревни. Возникали дорожные заторы, телеги с грохотом сталкивались друг с другом, а возчики при этом вели себя так же равнодушно, как и волы.
На перекрестке царил сущий хаос. Я дышал пылью. Пыль забивалась в волосы, пыль забиралась под рубашку, тошнотворная пыль оседала на ногти. Мы остановились и стали ждать, когда дорога расчистится от повозок. А потом наш шофер куда-то пропал, забрав с собой ключ зажигания. Искать его было бесполезно: мы бы только понапрасну блуждали в пыли. Мы сидели в джипе и время от времени сигналили. Через полчаса шофер вернулся. Его ресницы, усы и напомаженные волосы осветлились от пыли, зато улыбка оказалась влажной и торжествующей: ему удалось купить овощей. Уже близился вечер, когда мы доехали до набережной; когда же мы добрались до деревни, то солнце уже садилось, преображая пыль в облака чистого золота, так что каждая человеческая фигура шагала внутри золотой ауры. Теперь эта земля не таила никаких страхов, никаких чудес. У меня было такое чувство, что я хорошо ее знаю. И все же некоторая тревога оставалась: в деревне жил Рамачандра.
Он ждал меня. Теперь на нем не оказалось мантии, в которой он явился в гостиницу. На нем было лишь дхоти да священная нить, и мне было невыносимо смотреть на его костлявое, хрупкое тело. Завидев меня, он сразу же принял экстатически-благоговейную позу: блестящая бритая голова запрокинута, глаза вытаращены, губы в чешуйках засохшей слюны плотно сжаты, обе руки-палки воздеты кверху. Вокруг нас уже собрались зрители — и он демонстрировал им, что я принадлежу ему. Лишь несколько секунд спустя он расслабился.
— Он говорит, что Господь послал вас ему, — сказал мой друг из ИАС.
— Посмотрим.
ИАСовец превратил мою реплику в официальное приветствие.
— Не желаете ли вы съесть что-нибудь в его бедной хижине?
— Нет.
— Выпейте хотя бы воды.
— Мне не хочется пить.
— Вы отвергаете его гостеприимство, потому что он — бедняк.
— Пускай думает так, если хочет.
— Хотя бы крошку еды.
— Скажите ему, что уже поздно. Скажите ему, что вам нужно расследовать ту растрату в Фонде национальной обороны, о которой вы мне рассказывали.
— Он говорит, что Господь послал вас ему сегодня.
— Если он будет продолжать в таком же духе, я долго не выдержу. Спросите его, зачем он хотел со мной встретиться.
— Он говорит, что не скажет вам, пока вы что-нибудь не съедите в его бедной хижине.
— Тогда скажите ему «До свиданья».
— Он предлагает вам удалиться в более укромное место.
И Рамачандра повел нас через свою лачугу в маленький мощенный плитами дворик, где его жена — та самая женщина, что плакала, схватившись за мои «вельдтшены», — сидела на корточках в углу с нарядно покрытой головой и делала вид, будто начищает медную утварь.
Рамачандра принялся вышагивать туда-сюда. Потом снова спросил: не желаю ли я поесть?
ИАСовец перевел ему мое молчание.
Поистине удивительно, сказал Рамачандра, что я приехал в деревню именно в это время. Так вышло, что сам он как раз попал в затруднительное положение. Он собирался затеять небольшую тяжбу, но та тяжба, которая только что закончилась, обошлась ему в двести рупий, и вот теперь ему не хватает денег.
— Но это же решает все трудности. Пускай забудет о новой тяжбе.
— Как же ему забыть о ней? Эта новая тяжба касается вас.
— Меня?
— Речь идет о земле вашего деда — о той самой земле, где вырос рис, который он вам привозил. Вот почему Господь прислал вас сюда. Участок вашего деда занимает всего девятнадцать акров, и часть этой земли будет потеряна, если он не сможет начать сейчас новую тяжбу. А если это случится, то кто будет ухаживать за святилищами вашего деда?
Я посоветовал Рамачандре забыть о тяжбе и о святилищах и сосредоточиться на девятнадцати акрах. Это ведь большой участок — на девятнадцать акров больше, чем у меня, — к тому же он может получить изрядную помощь от государства. Он знает, знает, ответил он снисходительно. Но его тело — он повернулся ко мне длинной костлявой спиной, и в этом движении я уловил гордость, — измождено; он предается религиозному аскетизму; он по четыре часа в день ухаживает за святилищами. К тому же он хочет затеять эту тяжбу. Да и много ли соберешь с девятнадцати акров?
Наш разговор пошел по кругу. От ИАСовца толку было мало: при переводе он смягчал все мои резкости. Открытый отказ не приносил мне избавления: он только давал Рамачандре повод начинать все сначала. Избавление мог дать только уход. И наконец, без лишних обиняков, я ушел, и в рощу за мной последовало множество деревенских мальчишек и мужчин.
Рамачандра тоже увязался за мной — улыбаясь, прощаясь, демонстрируя до последнего мига, что я принадлежу ему. Один из деревенских — по-видимому, его соперник, — видом покрепче, красивее и величавее, — вручил мне письмо и удалился; чернила на конверте еще не просохли. К джипу, заталкивая рубашку в штаны, подбежал какой-то мальчишка и попросил подвезти его в город. Пока Рамачандра излагал мне свои намерения относительно тяжбы, пока тот, другой, писал письмо, этот мальчишка успел быстро вымыться, одеться и приготовить узелок; одежда на нем была чистая, волосы еще блестели от влаги. Мой визит привел брахманов в бешеную активность. Они возомнили невесть что; я был ошеломлен; мне хотелось поскорее выбраться отсюда.
— Возьмем его? — спросил ИАСовец, кивая в сторону
мальчишки.
— Нет. Пускай бездельник пройдется пешком.
Мы уехали. Я не стал махать на прощанье. Фары джипа пробили двумя отдельными лучами медленно оседавшую пыль ушедшего дня, которая, снова поднявшись в воздух от движения нашего автомобиля, встала заслоном от разбросанных огоньков удалявшейся деревни.
Так обернулось пустотой и раздражением, а закончилось бегством это добровольное проявление жестокости и самобичевания.
Бегство
Упаковать чемоданы после путешествия длиною в год, до ужина; поужинать; приехать в контору авиакомпании в десять часов, увидеть, что в декоративном фонтане нет воды, а крыловидный прилавок пуст, бирюзовый кафельный резервуар фонтана пуст, мокр и замусорен, лампы горят тускло, всюду беспорядочно разбросаны глянцевые журналы, а в углу возле весов с несчастным видом сидят со своими узлами пенджабские эмигранты; приехать в аэропорт, чтобы сесть на самолет, вылетающий в полночь; а потом ждать до трех часов утра, периодически подвергая себя кошмару индийской общественной уборной, — значит изведать тревогу, злость и наползающее оцепенение. Наступает такой миг, когда ночь уже вычеркивается — и ты ждешь утра. Минуты растягиваются; прошедшая ночь отступает в такую даль, как будто и не была всего лишь прошедшей ночью. Ясность сознания обостряется, но и сужается. Действия, совершавшиеся несколько минут назад, кажутся туманными и ни с чем не связанными, а когда вспоминаешь о них, то чувствуешь легкое удивление. Так Индия потускнела для меня уже в аэропорту; так в эти выморочные часы вся ее действительность испарилась, и отныне уже не только пространство и время отделяли меня от нее.
В самолете мне на колени упала газета. Над сиденьем кресла впереди меня показались длинные светлые волосы и пара голубых глаз, а по моей пояснице забарабанили крошечные ножки.
— Дети! — вскричал американец, сидевший рядом со мной, пробудившийся от пожилого, перехваченного ремнем безопасности сна. — Куда они везут всех этих детей? Почему все эти дети
путешествуют? Почему мне так чертовски везет, что всякий раз, засыпая в самолете, я просыпаюсь и вижу детей? Хотите, расскажу вам, какую забавную вещь сказал мой приятель ребенку в самолете? Он сказал: «Сынок, почему бы тебе не выйти на улицу и там не поиграть?» Девочка, почему бы тебе не взять свою чудесную газету и не пойти поиграть на улицу, а? — Глаза и волосы исчезли за темно-синей спинкой кресла. — Этот ребенок сзади меня, наверное, покалечится. Байстрючонок совсем почки мне отбил. Сэр! Мадам! Может быть, вы
присмотрите за своим чадом?
Оно… оно досаждает моей
жене.
Она — жена — безмятежно лежала в кресле рядом с ним, ее юбка задралась над пожилым коленом в обвисшем чулке. Она спала и улыбалась во сне.
Ко мне же сон не шел. Я только надолго впадал в оцепенение, которое усугублял шум турбин. Я часто ходил в уборную, чтобы обтереться самолетным одеколоном. Пенджабцы, сидевшие в хвосте, тоже не спали; от них исходил едкий запах: одного или двух уже вытошнило на синий ковер. Лампочки горели тусклым светом. Ночь оказалась долгой. Мы летели против вращения земли, и утро все время отступало. Но свет все же показался; а когда на рассвете мы прилетели в Бейрут, я как будто перенесся после волшебного странствия — со всеми сопутствующими мучениями, — в новенький, сверкающий мир. Недавно здесь прошел дождь; бетонированная площадка аэродрома была влажной и холодной. А дальше раскинулся город — город, наверняка заполненный такими же цельными людьми, как вот эти, одетые в комбинезоны служащих аэропорта, которые катили трапы и подъезжали на электромобилях к самолету, чтобы выгружать багаж. Это были простые труженики, работяги, но в их походке чувствовалась дерзость, они сознавали крепость и ловкость своих крупных тел. Индия сделалась частью ушедшей ночи: мертвый мир, долгое странствие.
Рим, аэропорт, все еще утро. «Боинги» и «Каравеллы», стоящие тут и там, будто игрушечные. А внутри здания аэропорта расхаживала взад-вперед по вестибюлю девушка в форме. На ней была шапочка вроде жокейской — новый для меня фасон; сапоги тоже показались мне новыми. Эта девушка ярко накрасилась: она явно требовала к себе внимания. Как же мне объяснить, как назвать разумным — хотя бы самому себе, — мое отвращение, мое отторжение как от чего-то выморочного и неправильного — от этого нового мира, в который я столь стремительно перенесся? Ведь
эта жизнь подтверждала, что та, другая, есть смерть; но та смерть делала все
это обманом.
Уже под вечер я прилетел в Мадрид, изящнейший город. Здесь мне предстояло провести два или три дня. В последний раз я был в этом городе еще студентом, десять лет назад. Здесь я мог бы вернуться к моей прежней жизни. Я — турист, я свободен, при деньгах. Но ведь только что я обрел огромный опыт; Индия закончилась только двадцать четыре часа назад. Это было путешествие, которого, возможно, не следовало совершать; оно раскололо мою жизнь надвое. «Напиши мне сразу же, как только окажешься в Европе, — просил меня один друг-индиец. — Мне интересны твои самые свежие впечатления». Теперь я уже не помню, что написал тогда. Письмо вышло бурным и бессвязным; но — как и все, что я писал об Индии, — оно не изгнало никаких бесов.
В течение моей последней недели в Дели я заходил в разные магазины тканей, и в Мадрид я прибыл с коричневым неперевязанным свертком, испещренным словами на хинди: там был отрез материи на пиджак — подарок архитектора, с которым я недавно познакомился. На третий или четвертый день нашего знакомства он выказал мне свою дружбу и приязнь, и я ответил тем же. Такой обычай — одна из приятных сторон Индии; она сочетается со всеми остальными сторонами. Архитектор довез меня до аэропорта и смирно сносил мои вспышки раздражения, когда я узнал о задержке рейса. Мы выпили кофе, а потом, перед тем как уйти, он вручил мне этот сверток. «Пообещайте, что закажете себе пиджак из этой ткани, как только окажетесь в Европе», — сказал архитектор.
Так я и сделал; и на все перемешавшиеся впечатления за целый год легло это свежее воспоминание о друге и его подарке — отрезе индийской ткани.
Несколько дней спустя, в Лондоне я будто впервые столкнулся с культурой, смысл которой — если судить по содержанию рекламы и содержимому магазинных витрин — сводился к созданию домашнего уюта, к обустройству отдельных теплых ячеек; я ходил по улицам, заполненным такими ячейками, мимо садов, обобранных суровой зимой; я тщетно пытался вызвать в себе позитивное отношение к этому городу, где я долго жил и работал; я оказывался наедине с собственной пустотой, с чувством физической потерянности; и вот там-то мне приснился сон:
Передо мной лежал прямоугольник жесткой новой ткани, и я точно знал, что, если только мне удастся выкроить из этой самой ткани прямоугольник поменьше, имеющий заданные размеры, то тогда ткань сама начнет распускаться, а потом это распускание перекинется с ткани на стол, со стола — на дом, с дома — на всю материю вообще,
пока весь этот морок не рассеется. Именно такие слова звучали в моей голове, пока я раскладывал ткань на столе и всматривался в нее, ища подсказок, которые, как я знал, существуют, и которые я больше всего на свете хотел обнаружить, одновременно понимая, что мне никогда это не удастся.
Наш мир — иллюзия, уверяют индусы. Мы говорим об отчаянии, но истинное отчаяние кроется слишком глубоко, чтобы его сформулировать. Лишь теперь, когда обретенный в Индии опыт яснее проступил на фоне моей собственной бесприютности, я понял, насколько близко подошел за этот последний год к полному индийскому отрицанию, до какой степени оно сделалось основой моих мыслей и чувств. И вот, едва я осознал это, очутившись в мире, где иллюзия может быть только отвлеченным понятием, а не тем, что ощущаешь до мозга костей, — это открытие уже ускользало от меня. Я ощутил это как частицу истины, которой мне никогда не выразить внятно и никогда больше не уловить.
Февраль 1962 — февраль 1964
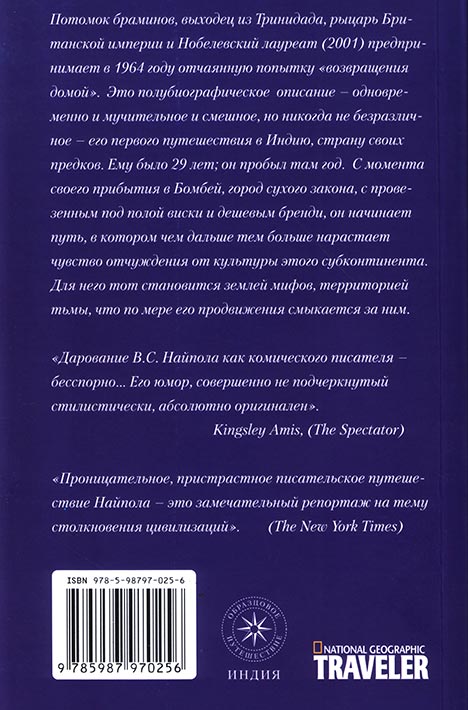
Примечания
1
Наргиз (1921–1981; настоящее имя — Фатима Рашид) — индийская актриса. (Здесь и далее, если не отмечено особо, примечания переводчика.)
(обратно)
2
Бомбейский отель «Тадж-Махал» был построен в 1903 году индийским промышленником Дж. Татой и при англичанах оставался единственной роскошной гостиницей, куда пускали индийцев.
(обратно)
3
Тринидад — остров вблизи северо-восточного побережья Венесуэлы, входящий в состав республики Тринидад и Тобаго. Бывшая испанская (с XVII века), а затем английская (с начала XIX века) колония. Независимый статус государство получило в 1962 году. Население острова многонационально, больше его половины составляют негры и мулаты. С середины XIX века по 1917 год на Тринидад было ввезено 145 тыс. рабочих из Индии, и большинство законтрактованных индийцев осталось на острове, получив вместо оплаты проезда на родину участки земли. Нравы Тринидада начала 1960-х гг. (и Карибского региона вообще) B. C. Найпол описывает в своем первом трэвелоге «Средний путь» (1962).
(обратно)
4
Чарпой — лежанка с деревянными ножками и плетеным веревочным днищем. Чарпои в Индии выносят из домов, чтобы спать в жаркие ночи под открытым небом; их до сих пор можно увидеть даже на улицах Дели.
(обратно)
5
Туласи (тулси) — базилик священный, растение, играющее важную роль в культе Вишну.
(обратно)
6
Династия Гуптов правила северной Индией с IV по VI в. н. э. Эпоха Гуптов славилась расцветом искусств.
(обратно)
7
Пандит — ученый человек, знающий традиционные индуистские своды текстов.
(обратно)
8
Порт-оф-Спейн — столица Тринидада.
(обратно)
9
Бенарес — европеизированное название города Варанаси (древнее название — Каши), стоящего на реке Ганг в штате Уттар-Прадеш; древний центр арийской философии и религии, центр индуистского культа Шивы. Варанаси — священнейший город Индии, место паломничества индуистов, джайнов, сикхов и буддистов. Теперь Варанаси — признанный центр научных исследований в области индуистской культуры и религии.
(обратно)
10
Дивали (Дипавали) — индуистский праздник, отмечающийся в новолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Главная особенность празднества — использование иллюминации и светильников, которые рядами выставляют на крышах и пускают по воде; светильники призваны отпугивать злых духов.
(обратно)
11
Тюрьма в пригороде Лондона.
(обратно)
12
Дхоти — набедренная повязка наподобие полотенца.
(обратно)
13
Независимость Индии была провозглашена Джавахарлалом Неру, 14 августа 1947 года.
(обратно)
14
Премчанд (1880–1936), настоящее имя — Дханпатрай Шривастав.
(обратно)
15
Пять башен, куда парсы помещают своих покойников на растерзание грифам.
(обратно)
16
Индийский город, столица штата Уттар-Прадеш.; славится своими духами.
(обратно)
17
Одежда из грубого домотканого хлопка.
(обратно)
18
Бхагаватгита, глава III, 31 (пер. Б. Л. Смирнова).
(обратно)
19
Имеется в виду монолог Улисса из «Троила и Крессиды» (I, III), где тот превозносит социальную иерархию — «основу и опору бытия», «закон соподчиненья» (в переводе Т. Гнедич). У Шекспира в оригинале — слово degree. Так же в оригинале озаглавлена настоящая глава книги.
(обратно)
20
Бхагаватгита, глава 1,41 (пер. Б. Л. Смирнова).
(обратно)
21
Миссис Хоксби — персонаж сборника рассказов Киплинга «Простые рассказы с гор» (1888).
(обратно)
22
Героиня комедии Уильяма Конгрива (1670–1729) «Так поступают в свете» (1700).
(обратно)
23
Кангра, Басоли — горные княжества, славившиеся своими школами живописи.
(обратно)
24
Джамини Рой (1887–1974) — индийский живописец, график, изучавший народное искусство Бенгалии.
(обратно)
25
Имеется в виду короткая война с Китаем в 1962 году, когда китайцы вторглись в северо-восточный индийский штат Ассам, но вскоре в одностороннем порядке отвели войска.
(обратно)
26
100 тысяч.
(обратно)
27
Шимла (Симла) — курортный город в штате Химачал-Прадеш, расположенный на большой высоте (более 2000 м) и потому служивший летней столицей Британской Индии.
(обратно)
28
Кристофер Марло, «Эдуард II», акт IV, сцена 6 (пер. А. Радловой).
(обратно)
29
Мандапа — помещение-павильон для пребывания паломников.
(обратно)
30
Раджгхат — место кремации Ганди.
(обратно)
31
DORA — английская аббревиатура от полного названия, Defence of the Realm Act. Этот закон ограничивал гражданские и личные свободы населения в интересах государственной безопасности.
(обратно)
32
Флоренс Найтингейл (1820–1910) — первая медсестра; во время Крымской войны по-новому организовала госпиталь для раненых, а в 1860 г. основала в Лондоне первую современную школу для медсестер.
(обратно)
33
Сильно исковерканный французский текст с орфографическими и грамматическими ошибками и несуществующими словами, который можно перевести приблизительно так: «Прибыв в Дели в конце восхитительного путешествия, я с огромным наслаждением вкусил чудесный покой в отеле „Бхагиратх“, в приятнейшей обстановке, позволившей мне восстановить силы после тягот пути. Особенно понравилась мне обходительность и гостеприимство гостиничного персонала. Единственное, о чем я сожалею, — это то, что мне не удалось оросить этот великолепный покой влагой пьянящих водоемов, вид которых доставил нам такую радость».
(обратно)
34
Хумаюн (годы правления 1530–1556) — второй император из династии великих моголов. Мавзолей ему воздвигла вдова Хамида, родившая ему сына — будущего великого императора Акбара.
(обратно)
35
Триумфальная арка высотой в 42 м, возведенная в память жертв Второй мировой войны.
(обратно)
36
Дворец вице-короля, позже — резиденция президента.
(обратно)
37
Туглакабад — огромная крепость XIV века, построенная правителями Делийского султаната Туглаками — династией монголотюркского происхождения; ее развалины находятся на южной окраине современного Дели.
(обратно)
38
Сэр Эдвин Лютьенс (1869–1944) — один из двух ведущих архитекторов, в 1931 году спроектировавших Нью-Дели как официальный столичный центр.
(обратно)
39
Gymkhana (англ. — инд.) — спортивный центр, спортзал.
(обратно)
40
Шринагар (Сринагар) — столица штата Кашмир, популярное место отдыха на озере Дал.
(обратно)
41
Злобный гном из немецких сказок.
(обратно)
42
Гхаты — ступенчатые спуски к воде священных рек и озер, где совершаются обряды поклонения и ритуальные омовения.
(обратно)
43
Гектор Хью Манро (1870–1916) — английский писатель; псевдоним Саки взял себе по имени персонажа «Рубайят» Омара Хайяма.
(обратно)
44
В действительности она была распущена в 1874 году.
(обратно)
45
См.: Шекспир, «Юлий Цезарь», акт I, сцена II, 191–192 с.
(обратно)
46
Пури — маленькая круглая лепешка, жаренная в масле, или кусок хлеба, вырезанный краями металлического стакана.
(обратно)
47
Ранджит Сингх (1780–1839) — создатель независимого сикхского государства в пору распада Могольской империи и угрозы английского вмешательства, в 1801 г. короновавшийся махараджей Пенджаба.
(обратно)
48
В Тибете.
(обратно)
49
Фуль — арабское блюдо из вареных бобов с кисловатым соусом с пряностями и зеленью; обычно служит начинкой для питы, наряду с фалафелями и овощами, и продается в Египте на улицах.
(обратно)
50
Мелкая монета, 1/16 рупии.
(обратно)
51
Роберт Клайв (1725–1774) — чиновник Ост-Индской компании; полковник, командовавший британскими войсками при захвате Калькутты для охраны торговых интересов компании в Бенгалии. В 1757 году он возглавил армию наемников-сипаев, и его победа над бенгальцами фактически положила начало британскому правлению в Индии.
(обратно)
52
Domesday (1086), кадастровая книга Вильгельма Завоевателя.
(обратно)
53
Ада Леверсон (1862–1933) — английская писательница, которой Оскар Уайльд дал прозвище «Сфинкс».
(обратно)
54
Уоррен Гастингс (1732–1818) — генерал-губернатор всех территорий Ост-Индской компании в Индии с 1774 по 1785 г. Укреплял позиции англичан в стране, вел войны с местными народами.
(обратно)
55
Уильям Хэззлит (1778–1830) — журналист, литературный критик. Томас Маколей (1800–1859) — эссеист, историк.
(обратно)
56
Чарльз Кингсли (1819–1875) — писатель, публицист, пастор и профессор. Джеймс Фроуд (1818–1894) — историк, профессор Оксфордского университета.
(обратно)
57
Вашингтон Ирвинг (1783–1859) — американский писатель, с 1815 года живший в Англии и писавший там новеллы и эссе из американской и европейской жизни.
(обратно)
58
«Зритель» (The Spectator) — журнал Джозефа Аддисона (1672–1719) и Ричарда Стила (1672–1729), издававшийся в 1711–1714 гг. от лица вымышленного клуба. Сэр Роджер де Коверли, провинциальный чудак-помещик, и Уилл Уимбл, сельский джентльмен, — персонажи этого журнала.
(обратно)
59
Еженедельный лондонский юмористический журнал, издающийся с 1841 года.
(обратно)
60
Мистер Бамбл и мистер Сквирз — диккенсовские персонажи (из «Оливера Твиста» и «Николаса Никльби»).
(обратно)
61
Старейшая престижная частная школа для мальчиков в г. Рагби (графство Уорикшир), основанная в XVI веке.
(обратно)
62
Священник Адамс и Том Джонс — персонажи романов Генри Филдинга (1707–1754).
(обратно)
63
Фатехпур-Сикри был построен в 1571–1586 годах Акбаром (1542–1605), сыном Хумаюна, самым могущественным императором из династии Великих Моголов.
(обратно)
64
Гопура(м) («врата коров») — надвратная башня в южноиндийских храмах; низ башни строился из камня, а сама башня, обычно кирпичная, украшалась алебастровой лепниной и крашеными изваяниями богов и героев.
(обратно)
65
Джаггернаут (от санскр. Джаганнатха, «Владыка мира») — грубый идол Кришны, который во время ежегодного праздника возят на огромной колеснице.
(обратно)
66
Бленхеймский дворец (Бленем) в Оксфордшире построен в 1705–1722 г. для герцога Мальборо в качестве награды от страны за победу над французами при Бленхейме в 1704 г. (в ходе Войны за испанское наследство). В этом барочном дворце родился Уинстон Черчилль.
(обратно)
67
Мавзолей Тадж-Махал построен Шахом Джаханом (внуком Акбара) в 1632–1654 гг. для своей жены Мумтаз-Махал, умершей в 1630 г.
(обратно)
68
Ашока (правил в 269–232 гг. до н. э.) — правитель из династии Маурьев. По его приказу по всей империи ставились колонны из полированного песчаника, увенчанные львиными изваяниями; на этих колоннах высекались его эдикты — обращений к народу, излагавшие взгляды Ашоки на управление страной и философские идеи, почерпнутые из буддизма.
(обратно)
69
Заминдар — наследственный крупный феодал-земледелец в средневековой и колониальной Индии.
(обратно)
70
В 1919 г. британские солдаты расстреляли безоружную толпу в Амритсаре (Пенджаб), собравшуюся на митинг на огороженной площади; было убито 400 человек и ранено больше тысячи.
(обратно)
71
Гренада — остров в Карибском море, в архипелаге Малые Антильские о-ва; с 1783 по 1967 — британская колония; с 1974 — независимое государство в составе Британского Содружества.
(обратно)
72
Прыгуны (фр.)
(обратно)
73
Рам Мохан Рой (1772–1833) — бенгальский интеллектуал и полиглот; пытался возродить индуизм, при этом очистив его от всяких «устаревших» предрассудков, вроде кастовой системы, самосожжения вдов, детских браков и т. д.
(обратно)
74
Я — британский гражданин (лат.) (по аналогии с выражением Civis Romanus — «гражданин Рима»).
(обратно)
75
Фридрих Макс Мюллер (1823–1900) — немецкий и английский филолог, индолог и мифолог, профессор Оксфордского университета, автор 51-томной работы «Священные книги Востока» (1879–1904).
(обратно)
76
Жгуче-острый соус, подающийся к основной еде (например, рису); обычно готовится из тертого кокоса, имбиря, красного перца и других пряностей.
(обратно)
77
Сардар — почтительное обращение к сикху, особенно незнакомому; — джи — суффикс, выражающий уважение.
(обратно)
78
Имеются в виду кровавые столкновения между индусами и мусульманами: в августе 1946 года в Калькутте (Бенгалия) погибло пять тысяч человек. В 1947 году в Восточном Пенджабе сикхи и мусульмане нападали на индусов, а в Западном мусульмане — на сикхов и индусов; после объявления раздела Пенджаба около 5 миллионов беженцев пересекли в обе стороны новую пакистанско-индийскую границу.
(обратно)
79
Гуркхи — непальские солдаты, служащие в индийской армии.
(обратно)
80
Дивали (Дипавали) — индуистский праздник, отмечающийся в новолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Главная особенность празднества — использование иллюминации и светильников, которые рядами выставляют на крышах и пускают по воде; светильники призваны отпугивать злых духов.
(обратно)
81
Почему Мать одевается в богатые и нарядные одежды? — Значит, вы полагаете, будто Божественное должно являться на земле лишь в бедном и безобразном обличье? (фр.)
(обратно)
82
Сандхерст — Военное училище сухопутных войск в одноименной деревне в Англии.
(обратно)
83
Китайский премьер-министр.
(обратно)
84
Сатьяджит Рэй (1921–1992) — режиссер, сценарист и композитор. Фотограф Сунил Джана известен своими жанровыми фотографиями, изображающими жизнь Индии.
(обратно)
Оглавление
Вступление путешественника:
Небольшая работа с документами
Часть первая
1. Место отдохновения для фантазии
2. Закон соподчиненья
3. Колониальный житель
4. Выдумщики
Часть вторая
5. Кукольный дом на озере Дал
6. Средневековый город
7. Паломничество
Часть третья
8. Фантазия и руины
9. Гирлянда на моей подушке
10. Чрезвычайное положение
11. Деревня Дубов
Бегство
*** Примечания ***